Фил Найт Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем
© Царев В. М., перевод, 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
В уме новичка таится множество возможностей, в уме знатока – всего лишь несколько.
Шунрью Сузуки, «Суть Дзен. Ум новичка»Рассвет
Я пробудился раньше других, еще до птиц и до восхода солнца. Выпил чашку кофе, с жадностью проглотил кусок тоста, натянул шорты с фуфайкой и зашнуровал свои зеленые кроссовки, после чего тихо выскользнул через заднюю дверь.
Разминая ноги, потягивая мышцы задней поверхности бедер и нижней части спины, буквально принуждая себя преодолевать боль, возникшую при первых же шагах, я со стоном побежал по холодной дороге, уходившей в туман.
Почему всегда бывает так трудно начинать?
Вокруг не было ни машин, ни людей, никаких признаков жизни. Я был совершенно один, будто весь мир существовал только для меня, хотя казалось, что деревья странным образом ощущают мое присутствие. Но, опять же, дело происходило в штате Орегон. Деревья здесь всегда, казалось, все знали. Деревья всегда вас прикрывали, подстраховывая.
Что за прекрасное место, чтобы родиться здесь? – думал я, оглядываясь вокруг. Спокойное, зеленое, безмятежное. Я с гордостью называл Орегон своим домом, гордился называть маленький Портленд местом своего рождения. Но ощущал я и боль сожаления. Хотя Орегон и был красив, он производил на некоторых впечатление места, где никогда не происходило ничего значительного и где вряд ли что-то значительное произойдет когда-либо. Если мы, орегонцы, и были знамениты благодаря чему-то, то только благодаря тому старому-престарому пути, проложенному нами, чтобы прийти сюда. С тех пор все остальное стало весьма заурядным.
Лучший учитель из всех, бывших у меня, один из лучших людей, которых я когда-либо знал, часто говорил об этом пути. Это наше право, данное нам генетически, бывало, с каким-то трубным рыком убеждал он. Наш характер, наша судьба, наша ДНК. «Трусы никогда ничего не начинали, – повторял он. – Слабые умирали в пути. Это значит, что остались только мы».
Мы! Мой учитель верил, что на этом пути был обнаружен некий редчайший штамм пионерского духа, некое незаурядное, выходящее за рамки обычного ощущение возможности, не оставлявшее места для пессимизма, – и наша, орегонцев, задача заключалась в том, чтобы сохранить этот штамм живым.
Я кивал ему в знак полного уважения. Я любил этого парня, но, уходя, иногда задумывался: бог ты мой! Это ж была просто проселочная дорога.
В то туманное утро, в то знаменательное утро в 1962 году я только что проложил свой собственный, мысленный путь – обратно домой спустя семь долгих лет. Странно было вновь оказаться дома, странно было вновь оказаться под дождем, лившим день за днем. Незнакомец все еще жил, как и прежде, вместе с моими родителями и сестрами-близняшками, и спал в моей детской постели. Глубокой ночью я, случалось, лежал на спине, уставившись взглядом в свои учебники для занятий в колледже, на кубки и наградные голубые ленты, полученные мною в школьные годы, и думал: я ли это? Все еще?
Я ускорил бег. От моего дыхания образовывались шаровидные морозные облачка, которые, закручиваясь, отлетали и поглощались туманом. Я в буквальном смысле смаковал это первое физическое пробуждение, этот чудесный момент перед тем, как сознание полностью прояснится, когда в твоих конечностях и суставах впервые начинает ослабевать напряжение, а материальное тело начинает как бы таять. Перетекать из твердого состояния в жидкое.
Быстрее, говорил я себе. Быстрее.
На бумаге, думал я, выходило, что я взрослый. Окончил хороший колледж – университет штата Орегон. Получил степень магистра в лучшей бизнес-школе – Стэнфорде. Выжил после службы в армии США в течение года – в Форт-Льюисе и Форт-Юстисе. В моем резюме сообщалось, что я хорошо обученный, опытный солдат, полностью сформировавшийся 24-летний мужчина… Так почему же, задавался я вопросом, почему же я все еще чувствую себя ребенком?
Хуже того, не ребенком, а тем же застенчивым, бледным, худым как щепка мальчишкой, каким я всегда был. Может, потому, что я все еще ничего не испытал в жизни. И меньше всего – ее многочисленных соблазнов и волнений. Я и сигареты еще не выкурил, и дури не попробовал. Не нарушил ни одного правила, не говоря уж о нарушении закона. 1960-е годы уже неслись во весь опор, годы бунтарства, а я оставался единственным человеком во всей Америке, который еще не взбунтовался. Я и представить себе не мог, что сорвусь с цепи, сделаю что-то неожиданное.
Я даже никогда не встречался с девчонкой.
Если я и имел склонность к размышлению обо всем том, чем я не был, то причина была простой – это было то, что я мог представить себе лучше всего. Оказалось, что мне труднее сказать, кем или чем именно я был или же мог бы стать. Как и все мои друзья, я хотел быть успешным. В отличие от моих друзей, я не знал, что это означало. Деньги? Возможно. Жену? Детей? Дом? Несомненно, но только если мне повезет. Это были те цели, к которым меня научили стремиться, и какая-то часть меня как личности действительно стремилась к ним – инстинктивно. Но в глубине души я искал нечто иное, нечто большее. Какое-то ноющее чувство подсказывало мне, что наше время коротко, оно короче, чем мы думаем, оно так же коротко, как утренняя пробежка, а я хотел, чтобы мое время было наполнено смыслом. Было целеустремленным. Творческим. Важным. И, превыше всего… иным.
Я хотел оставить свой след в мире.
Хотел победить.
Нет, не то. Я просто не хотел проиграть.
И затем это произошло. Когда мое молодое сердце с силой забилось, когда мои розовые легкие раскрылись, как крылья у птицы, когда деревья покрылись густой зеленой дымкой, я все это четко увидел перед собой, увидел, к чему я стремлюсь и чем именно должна стать моя жизнь. Игрой.
Да, думал я, вот оно. Именно это слово. Тайна счастья, как я всегда предполагал, суть красоты, или истины, или всего того, что нам вообще следует знать о том или другом, скрывалась где-то в том мгновении, когда мяч зависает в воздухе, когда оба боксера предчувствуют скорый удар гонга, когда бегуны приближаются к финишной черте, а толпа зрителей встает в едином порыве. Есть некая бьющая энергией через край, торжествующая ясность в этой пульсирующей полусекунде перед тем, как решится вопрос о победе и проигрыше. Я хотел, чтобы это, чем бы оно ни было, стало моей жизнью, моей каждодневной жизнью.
В разное время я фантазировал о том, как стану известным писателем, знаменитым журналистом, великим государственным деятелем. Но моей заветной мечтой всегда оставалось стать великим спортсменом. К сожалению, судьбой мне было предначертано стать хорошим, но не великим. В двадцать четыре года я наконец смирился с этим фактом. Я занимался бегом, будучи студентом Орегонского университета, смог добиться заметных успехов, и в течение трех лет из четырех, проведенных в его стенах, имел право ношения логотипа университета на спортивной форме как постоянный участник и призер соревнований. Но это было всё, что было, – конец. Теперь же, нарезая каждые шесть минут одну милю за другой, когда восходящее солнце уже опалило своими лучами хвою на нижних ветвях сосен, я спрашивал себя: а что, если бы нашелся способ, не будучи спортсменом, почувствовать то же, что чувствуют спортсмены? Все время играть вместо того, чтобы работать? Или же извлекать из работы столько удовольствия, что она, по существу, становилась бы игрой.
Мир был настолько переполнен войнами, болью и страданиями, а ежедневная рутина трудовых будней была настолько утомительна и зачастую несправедлива, что, возможно, как я думал, единственным ответом было бы найти какую-нибудь сногсшибательную, невероятную мечту, которая показалась бы стоящей, способной принести радость и хорошо вписаться в ваши жизненные планы, после чего преследовать ее, как спортсмен, без колебаний и сомнений, прямодушно, с целеустремленностью и преданностью. Нравится вам это или нет, но жизнь – игра. Кто бы ни опровергал эту истину, кто бы просто ни отказывался сам играть, остается брошенным на обочине, а я этого не хотел. Не хотел этого сильнее, чем чего бы то ни было.
Подобные размышления, как всегда, привели меня к моей Безумной идее. Может быть, размышлял я, может быть, мне стоит еще разок взглянуть на свою Безумную идею. Может, моя Безумная идея вдруг… сработает?
Может быть.
Нет, нет, думал я, все больше ускоряя свой бег, будто преследуя кого-то и одновременно убегая от преследователей. Это сработает. Богом клянусь, я заставлю ее сработать. И никаких «может быть».
Неожиданно для себя я стал улыбаться. Чуть ли не смеяться. Весь в поту, продолжая привычно, раскрепощенно и ловко, без особых усилий бежать, я видел впереди перед собой свою сверкающую в лучах Безумную идею, и она вовсе не казалась мне безумной. Она даже не была похожа на идею. Она выглядела как некое место. Как человек или некая жизненная сила, которая существовала задолго до меня, отдельно от меня, но так же и как часть меня самого. Ожидая меня и одновременно прячась от меня. Все это, возможно, звучит несколько высокопарно, отчасти безумно. Но именно такие чувства я тогда испытывал.
Или, быть может, не испытывал. Возможно, память моя раздувает этот момент внезапного вдохновения – «Эврики!» или же объединяет в одно множество таких моментов озарения. А может быть, если такой момент действительно имел место, это было не более чем эйфория бегуна. Не знаю. Не могу сказать. Довольно воспоминаний о тех днях, месяцах и годах, в которых они покоятся, будто рассортированные в картотеке. Они растаяли, как те шаровидные морозные облачка, вылетающие при дыхании. Лица, числа, решения, казавшиеся когда-то неотложными и безоговорочно неизменными, все они канули в вечность.
Все, что тем не менее остается, – это одна утешительная уверенность, одна стабилизирующая правда, которая никогда не покинет нас. В возрасте 24 лет у меня действительно была Безумная идея, и каким-то образом, несмотря на головокружение от экзистенциальной тоски, страхи по поводу будущего и сомнения в себе, испытываемые мною, как и всеми молодыми людьми старше 20, но еще не достигших 30 лет, я действительно пришел к выводу, что мир сотворили безумные идеи. История – это один длинный гимн безумным идеям. То, что я любил больше всего в жизни – книги, спорт, демократию, свободное предпринимательство, – начиналось с безумных идей.
Впрочем, мало найдется идей, настолько же безумных, как мое любимое занятие – бег. Оно тяжелое. Болезненное. Рискованное. Награды малочисленны и далеко не гарантированы. Когда ты бежишь по овальной беговой дорожке или по безлюдной дороге, у тебя нет никакого реального пункта назначения. По крайней мере, ни одного, который бы в полной мере оправдал твои усилия. Само действие превращается в назначение. Дело не только в том, что впереди нет финишной черты, а в том, что ты сам определяешь, где ей быть. Какое бы удовольствие или выгоду ты ни получал от бега, ты должен найти их внутри самого себя. Все дело в том, в какую рамку ты обрамляешь то, что делаешь, и как продаешь это самому себе.
В ВОЗРАСТЕ 24 ЛЕТ Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО МИР СОТВОРИЛИ БЕЗУМНЫЕ ИДЕИ.
Каждому бегуну это известно. Ты бежишь и бежишь, оставляя за собой милю за милей, и никогда не знаешь наверняка зачем. Ты говоришь себе, что своим бегом ты преследуешь некую цель, следуешь за каким-то порывом, но на самом деле ты бежишь потому, что альтернатива твоему бегу – остановка – до смерти пугает тебя.
Так что в то утро, в 1962 году, я сказал себе: пусть все назовут твою идею безумной… просто продолжай двигаться. Не останавливайся. Даже думать не смей об остановке до тех пор, пока не достигнешь цели, и особо не заморачивайся о том, где она. Что бы ни случилось, просто не останавливайся.
Это был скороспелый, пророческий, срочный совет, который мне удалось дать самому себе, неожиданный, как гром среди ясного неба, и каким-то образом я сподобился им воспользоваться. Полвека спустя я верю, что это – лучший совет, а возможно, и единственный, который каждый из нас должен когда-нибудь дать.
Часть первая
Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее.
Льюис Кэрролл.Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в ЗазеркальеБезумная идея
Когда я затронул эту тему с отцом – когда я собрался с духом, чтобы поговорить с ним о своей Безумной идее, я постарался, чтобы это произошло с наступлением вечера. Это было лучшее время для общения с папой. Он тогда расслаблялся, хорошо поужинав, располагался, вытянув ноги, в своем виниловом кресле в уголке, где он смотрел телевизор. До сих пор я могу, откинув голову и закрыв глаза, слышать смех аудитории в телестудии и резковатые звуки музыкальных заставок его любимых сериалов «Караван повозок» и «Сыромятная плеть».
Его постоянным любимцем был Ред Баттонс. Каждый эпизод начинался с песни Реда: «Хоу-хоу, хии-хии… странные творятся дела». Я поставил стул с прямой спинкой рядом с отцом, слабо улыбнулся ему и подождал, пока не наступила очередная рекламная пауза. Я много раз репетировал про себя, что и как сказать, особенно с чего начать. «Ну-у, пап, ты помнишь ту Безумную идею, которая пришла мне в голову в Стэнфорде?..»
Это случилось в одном из моих выпускных классов, на семинаре по предпринимательству. Я написал курсовую работу по специализации, посвятив ее обуви, и эта работа превратилась из заурядного задания во всепоглощающую навязчивую идею. Будучи спортсменом-бегуном, я кое-что знал о кроссовках. Как человек, увлеченный бизнесом, я знал, что японские фотоаппараты совершили внушительный прорыв на рынке фотокамер, на котором прежде доминировали немцы. Поэтому я доказывал в своей письменной работе, что японские кроссовки могут произвести аналогичный эффект. Эта идея заинтересовала меня, затем вдохновила и, наконец, покорила. Она казалась такой очевидной, такой простой, такой потенциально огромной.
Я потратил многие недели, чтобы подготовить курсовую. Я переселился в библиотеку, поглощая все, что я мог найти об импорте и экспорте и о том, как создать компанию. Наконец, как и требовалось, я выступил с официальной презентацией курсовой перед сокашниками, которые отреагировали с формальной скукой на лицах. Никто не задал ни единого вопроса. Мои страстность и энергия были встречены тяжкими вздохами и бессмысленными взглядами.
Профессор думал, что моя Безумная идея заслуживает внимания: поставил мне «отлично». Но это – всё. По крайней мере, предполагалось, что на этом все закончилось. Я же не переставал думать о своей курсовой. На протяжении всего оставшегося времени в Стэнфорде, во время каждой утренней пробежки и вплоть до того момента в телевизионном уголке нашего дома я размышлял о том, как поехать в Японию, найти там обувную компанию и закинуть японцам свою Безумную идею в надежде получить от них более восторженную реакцию, чем от сокашников, услышать, что они хотели бы вступить в партнерские отношения с застенчивым, худым как щепка мальчишкой из заспанного Орегона.
Я также обыгрывал в мыслях, как совершу экзотическое путешествие в Японию и обратно. Как я смогу оставить след в мире, думал я, если прежде не выберусь, чтобы посмотреть его? Перед большим забегом тебе всегда хочется пройти по беговой дорожке, чтобы опробовать ее. Путешествие вокруг света с рюкзаком за плечами, резонно заключал я, это может быть как раз то, что надо. В то время никто не говорил о bucket-списках (списках заветных желаний, реализовать которые человек намерен до конца жизни. – Прим. пер.), но, думаю, это понятие ближе всего к тому, что у меня было на уме. До того как умереть, одряхлеть или погрязнуть в каждодневных мелочах, я хотел посетить самые красивые и удивительные уголки планеты.
И самые святые. Я, разумеется, хотел попробовать иную пищу, услышать иную речь, окунуться в другую культуру, но то, чего я действительно жаждал, была связь с заглавной буквы «С». Я хотел испытать то, что китайцы называют Тао, греки – Логосом, индусы – Гьяной, буддисты – Дхармой. То, что христиане называют Святым Духом. Прежде чем пуститься в свое собственное, личное плавание по жизни, думал я, дайте мне прежде понять более великий путь, пройденный человечеством. Позвольте мне исследовать грандиозные храмы и церкви, святилища, святые реки и горные вершины. Позвольте мне ощутить присутствие… Бога?
Да, сказал я себе, да. Именно Бога – лучшего слова не подобрать.
Но прежде мне надо было получить одобрение у отца.
Более того, мне потребовались бы его деньги.
За год до этого я уже упоминал о своем намерении совершить большое путешествие, и, похоже, отец тогда был готов выслушать мою просьбу. Но наверняка он об этом забыл. И я, разумеется, нажимал на это, добавляя к первоначальному предложению свою Безумную идею, эту дерзкую поездку с отклонением от основного маршрута – чтобы посетить Японию? Чтобы организовать свою компанию? Бессмысленный разговор о бесполезной поездке.
Наверняка он посчитает, что я зашел слишком далеко, согласиться со мной означало бы сделать слишком большую уступку. И чертовски дорогостоящую. У меня были некоторые сбережения, сделанные за время службы в армии, включая зарплату за временную подработку в летнее время в течение нескольких последних лет. Сверх того я намеревался продать свою машину, темно-вишневый родстер «Эм-джи» 1960 года с гоночными шинами и двумя распредвалами (такой же автомобиль водил Элвис в фильме «Голубые Гавайи»). В общей сложности это тянуло на тысячу пятьсот долларов, и мне не хватало еще тысячи, как я заявил отцу. Он кивал, хмыкал, издавал неопределенное «М-м-м-м» и быстро переводил глаза от телеэкрана ко мне и обратно, пока я все это ему выкладывал.
Помнишь, как мы говорили, пап? Как я сказал, что хочу увидеть мир?
Гималаи? Пирамиды?
Мертвое море, пап? Мертвое море?
Ну, так вот, ха-ха, я также думаю сделать остановку в Японии, пап. Помнишь мою Безумную идею? Про японские кроссовки? Да? Это могло бы стать грандиозным делом, пап. Грандиозным.
Я сгущал и пересаливал, наседал, будто впаривал товар, перебарщивая, потому что всегда ненавидел торгашество и потому что шансы протолкнуть мой «товар» равнялись нулю. Отец только что раскошелился на сотни долларов, оплачивая мою учебу в Орегонском университете, и еще на многие тысячи – за Стэнфорд. Он был издателем газеты «Орегон джорнел», это была отличная работа, позволявшая оплачивать все основные удобства для жизни, включая наш просторный белый дом на улице Клейборн, в самом тихом пригороде Портленда – в Истморленде. Но богачом отец не был.
Кроме того, шел 1962 год. Земля тогда была больше. Хотя люди уже начинали кружить на орбите вокруг планеты в своих капсулах, 90 процентов американцев все еще ни разу не летали на самолете. Средний американец или американка ни разу в жизни не рискнули удалиться от входной двери своего дома дальше чем на сто миль, поэтому даже простое упоминание о кругосветном путешествии на самолете расстроило бы любого отца, особенно моего, чей предшественник на посту издателя газеты погиб в авиакатастрофе.
Даже отметая в сторону деньги, отмахиваясь от соображений безопасности, все равно вся эта затея выглядела такой нежизнеспособной. Мне было известно, что двадцать шесть компаний из двадцати семи прогорали, и моему отцу это было тоже хорошо известно, и идея взвалить на себя такой колоссальный риск противоречила всему, за что он выступал. Во многом мой отец был обычным сторонником епископальной системы церковного управления, верующим в Иисуса Христа. Но он также поклонялся еще одному тайному божеству – респектабельности. Дом в колониальном стиле, красивая жена, послушные дети – моему отцу нравилось все это иметь, но еще больше он дорожил тем, что его друзьям и соседям было известно, чем он располагает. Ему нравилось, когда им восхищались. Он любил (иносказательно выражаясь) ежедневно энергично плавать на спине в доминирующей среде. Поэтому в его понимании идея отправиться вокруг света забавы ради просто была лишена смысла. Так не делалось. Во всяком случае, не порядочными детьми порядочных отцов. Такое могли позволить себе дети других родителей. Такое вытворяли битники и хипстеры.
Возможно, основной причиной зацикленности моего отца на респектабельности была боязнь хаоса внутри него самого. Я ощущал это нутром, поскольку время от времени этот хаос прорывался у него наружу. Бывало, раздавался телефонный звонок в гостиной на первом этаже – без предупреждения, поздно ночью, и когда я поднимал трубку, то слышал все тот же рассудительный голос: «Приезжай, забери-ка своего старика».
Я надевал плащ – в такие ночи всегда казалось, что за окном моросит дождь, – и ехал в центр города, где находился отцовский клуб. Помню этот клуб так же отчетливо, как собственную спальню. Столетний, с дубовыми книжными полками от пола до потолка и креслами с подголовниками, он походил на гостиную английского загородного дома. Другими словами, был в высшей степени респектабелен.
Я всегда находил отца за одним и тем же столом, в одном и том же кресле, всегда бережно помогал ему подняться. «Ты в порядке, пап?» – «Конечно, в порядке». Я всегда выводил его на улицу, к машине, и всю дорогу домой мы делали вид, что ничего не случилось. Он сидел совершенно прямо, почти в царственной позе, и мы вели беседу о спорте, поскольку разговором о спорте я отвлекал себя, успокаивал во время стресса.
Отцу спорт тоже нравился. Спорт всегда респектабелен. По этим и дюжине других причин я ожидал, что отец отреагирует на мой зондаж у телевизора, наморщив лоб и быстрым уничижительным высказыванием: «Ха-ха, Безумная идея. Ни малейшего шанса, Бак». (Мое имя с рождения Филипп, но отец всегда звал меня Баком. Вообще-то он звал меня так еще до моего появления на свет. Мама рассказывала мне, что у него была привычка поглаживать ей живот и спрашивать: «Как там сегодня поживает маленький Бак?») Однако как только я замолчал, как только я перестал расписывать свой план, отец качнулся вперед в своем виниловом кресле и уставился на меня смешливым взглядом. Сказал, что всегда сожалел, что в молодости мало путешествовал. Сказал, что предполагаемое путешествие может добавить последний штрих к моему образованию. Сказал много другого, но все сказанное было больше сконцентрировано на поездке, нежели на Безумной идее, но я и не думал поправлять его. Не собирался я и жаловаться, поскольку в итоге он давал мне благословение. И деньги. «О’кей, – сказал он. – О’кей, Бак. О’кей».
Я поблагодарил отца и выбежал из уголка, где он смотрел телик, прежде чем у него появился бы шанс передумать. Лишь позже я с чувством вины осознал, что именно отсутствие у отца возможности путешествовать было скрытой, а возможно, и главной причиной того, что я хотел отправиться в поездку. Эта поездка, эта Безумная идея оказалась бы верным способом стать другим, чем он. Менее респектабельным.
А возможно, и не менее респектабельным. Может, просто менее одержимым респектабельностью.
Остальные члены семьи оказались не настолько благосклонны. Когда моя бабушка пронюхала о моем маршруте, один из пунктов назначения в особенности разволновал ее. «Япония! – вскричала она. – Зачем, Бак? Всего лишь несколько лет тому назад япошки намеревались перебить нас! Ты что, забыл? Перл-Харбор! Японцы пытались завоевать весь мир! Некоторым из них невдомек, что они проиграли! Они скрываются! Они могут захватить тебя в плен, Бак. Выколоть тебе глаза. Всем известно, что они это делают… Твои глаза!»
Я любил мать своей матери. Мы все звали ее мамаша Хэтфильд. И я понимал ее страх. До Японии было почти так же далеко, как до Розберга, фермерского поселка городского типа в штате Орегон, где она родилась и прожила всю свою жизнь. Много раз я проводил там лето у бабушки и деда Хэтфильдов. Чуть ли не каждую ночь мы усаживались на крыльце, слушая, как кваканье синеногих литорий (здоровенных лягушек-быков, издающих звуки, больше похожие на мычание, – откуда их английское название, – а не на кваканье. – Прим. пер.) соперничает со звуками, издаваемыми напольным радиоприемником. В начале 1940-х радио у всех было всегда настроено на трансляцию новостей о войне.
А новости эти всегда были плохими.
Японцы, как нам многократно сообщали, не проиграли ни одной войны за последние 2 тысячи 600 лет, и, похоже, ничто не указывало на то, что они проиграют нынешнюю. Битву за битвой мы терпели поражение за поражением, пока наконец в 1942 году Гэбриэл Хиттер, работавший в радиосети «Мьючуал бродкастинг», не начал свое ночное радиосообщение с пронзительного восклицания: «Всем добрый вечер – сегодня есть хорошие новости!» Американцы наконец-то одержали победу в решающей битве. Критики буквально на шампур насадили Хиттера за его бесстыжее подбадривание, напоминающее пританцовывание девушек из группы поддержки на стадионе, за отказ от любых претензий на журналистскую объективность, но ненависть публики к Японии была настолько сильна, что большинство радиослушателей приветствовали Хиттера как народного героя. После этого он неизменно начинал свои радиорепортажи с фразы: «Хорошие новости к сегодняшнему вечеру!»
Из моих самых ранних воспоминаний: мама и папа Хэтфильды сидят со мной на крыльце, папаша Хэтфильд снимает карманным ножиком кожуру с желтого яблока сорта Гравенштейн, отрезает и дает мне кусочек, сам съедает такой же, затем дает мне следующий, затем повторяет все снова и снова до тех пор, пока эта процедура разделки яблока вдруг резко не замедляется. В эфире Хиттер. Тсс! Тише! Я все еще вижу, как мы все сидим и жуем яблоки, глазея на ночное небо, будучи настолько поглощены мыслью о Японии, что чуть ли не ожидаем увидеть, как японские истребители «Зеро» проносятся на фоне созвездия Большого Пса. Неудивительно, что во время моего первого в жизни полета на самолете, когда мне было лет пять, я спросил: «Пап, нас япошки не собьют?»
Хотя слова мамаши Хэтфильд заставили волосы на моей голове зашевелиться от страха, я стал уговаривать ее не волноваться, говоря, что все у меня будет в порядке и что я даже привезу ей кимоно в подарок. Моим сестрам-близнецам, Джин и Джоан, бывшим на четыре года моложе меня, похоже, было абсолютно все равно, куда я отправлялся и что я делал.
А моя мама, как помню, ничего не сказала. Она вообще редко высказывалась. Но на этот раз в ее молчании чувствовалось нечто иное. Что-то похожее на одобрение. Даже на гордость.
Я затратил недели на чтение, планирование, подготовку к поездке. Совершал длинные пробежки, раздумывая на бегу над каждой деталью и одновременно соревнуясь с дикими гусями, пролетающими надо мной в плотном V-образном строю. Я где-то вычитал, что гуси, пристроившиеся в конце клина и использующие как подъемную силу завихрения восходящего воздушного потока, образуемые впереди летящими, – обратную тягу, затрачивают лишь 80 процентов энергии по сравнению с вожаком и летящими впереди птицами. Каждому бегуну это понятно. Бегущим впереди бегунам всегда приходится труднее, и они рискуют больше других.
Задолго до того, как я обратился к отцу, я решил, что было бы хорошо иметь компаньона в поездке, и таким компаньоном должен стать мой сокашник по Стэнфорду Картер. Хотя он и был звездой по кручению обруча в колледже имени Уильяма Джюэлла, Картер не стал типичным студентом-спортсменом, недалеким и помешанным на спорте. Он носил очки с толстыми стеклами и читал книги. Хорошие книги. С ним было легко говорить и легко молчать – в равной степени важные качества друга. Жизненно необходимые для компаньона при совместном путешествии.
Но Картер рассмеялся мне в лицо. Когда я положил перед ним список мест, которые хотел бы посетить, – Гавайи, Токио, Гонконг, Рангун, Калькутту, Бомбей, Сайгон, Катманду, Каир, Стамбул, Афины, Иорданию, Иерусалим, Найроби, Рим, Париж, Вену, Западный Берлин, Восточный Берлин, Мюнхен, Лондон, – он сложился пополам и захохотал. Я опустил глаза и стал извиняться, после чего Картер, продолжая смеяться, проговорил: «Что за клевая идея, Бак!» Я оторвал глаза от пола. Он надо мной не смеялся. Он смеялся от радости, с ликованием. Он был впечатлен. Нужно действительно иметь смелость, чтобы составить подобный маршрут, сказал он. Точнее, железные яйца. Он хотел войти в команду.
– НЕ ПОЗВОЛЯЙ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ НЕУДАЧАМ ПОКОЛЕБАТЬ ТЕБЯ. – ПОЧТИ ВСЕ НЕУДАЧИ В МИРЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ.
Спустя несколько дней он получил «добро» от своих родителей, а также кредит от отца. Картер никогда не суетился без толку. Увидел лазейку – жми вперед! – таков был Картер. Для себя я решил: мне многому можно было бы научиться у такого парня, путешествуя с ним вокруг света.
Каждый из нас упаковал по одному чемодану и одному рюкзаку. Только самое необходимое, как мы договорились друг с другом. Несколько пар джинсов, несколько футболок. Кроссовки, обувка для пустыни, солнцезащитные очки плюс пара летнего солдатского обмундирования – сантан (слово, обозначавшее в 1960-х легкую армейскую форму защитного цвета «хаки»).
Упаковал я и один хороший костюм. Зеленый, с двумя пуговицами, от Brooks Brothers. Просто на тот случай, если моя Безумная идея даст плоды.
7 сентября 1962 года погрузились мы с Картером в потрепанный старый «Шеви» и рванули на запредельной скорости по межштатной автостраде 15, через долину Вилламетт, прочь из лесистого юга штата Орегон, и впечатление было такое, будто мы продираемся сквозь корневища огромного дерева. Выскочили на заросшие соснами горные вершины Калифорнии, перебрались через зеленые перевалы высоко в горах, а затем помчались все ниже, ниже, до тех пор, пока уже далеко за полночь не въехали в Сан-Франциско. Несколько дней провели у друзей, спали у них на полу, а затем заскочили в Стэнфорд и взяли с собой некоторые вещи, находившиеся там у Картера на хранении. Наконец, заскочили в винный магазин и приобрели там два билета со скидкой на самолет авиакомпании «Стандарт Эйрлайнз» в Гонолулу. В одну сторону, за 80 долларов.
Казалось, прошло каких-то несколько минут, прежде чем мы с Картером ступили на песчаную полосу аэропорта Оаху. Мы выкатили свой багаж, взглянули на небо и подумали: нет, небо не такое, как дома.
Шеренга красивых девушек с нежными взглядами и оливковой кожей шагнула нам навстречу. Они были босыми, с гиперподвижными бедрами, на которых подергивались и шуршали их юбки из травы, – и все это у нас на глазах. Мы с Картером переглянулись, и наши губы расплылись в медленной улыбке.
Мы взяли такси до пляжа Вайкики и зарегистрировались в мотеле – через дорогу от моря. В одно мгновение мы побросали свой багаж и натянули плавки. И наперегонки к воде!
Как только мои ноги коснулись песка, я завопил, засмеялся и сбросил свои тапочки, после чего рванул бегом, что было сил, прямо в волны. Я не останавливался до тех пор, пока не оказался по шею в пене. Нырнул, достав до самого дна, а затем вынырнул, хватая ртом воздух и смеясь, и перевернулся на спину. Наконец, спотыкаясь, вышел на берег и шлепнулся на песок, улыбаясь птицам и облакам. Должно быть, я выглядел, как пациент, сбежавший из сумасшедшего дома. У Картера, сидевшего теперь рядом со мной, было такое же безумное выражение лица.
«Нам надо остаться здесь, – сказал я. – К чему спешить с отъездом?»
«А как же План? – спросил Картер. – Объехать вокруг света?»
«Планы меняются».
Картер усмехнулся: «Классная идея, Бак».
Поэтому мы нашли себе работу. Продавать энциклопедии вразнос, от двери до двери. Уж точно не гламурное занятие, но, черт подери, мы начинали работать не раньше семи часов вечера, что давало нам массу времени для серфинга. Неожиданно ничего важнее того, чтобы научиться серфингу, не осталось. Потребовалось всего несколько попыток, чтобы я уже мог стоять во весь рост на доске, а спустя несколько недель я уже смотрелся молодцом. Действительно был неплох.
Работая и зарабатывая, мы съехали со своего номера в мотеле и арендовали квартиру – меблированную студию с двумя кроватями: одной настоящей и одной псевдокроватью – типа гладильной доски, откидывающейся от стены. Картер, будучи выше и тяжелее, получил настоящую кровать, а я – гладильную доску. Мне было все равно. После того как я целый день занимался серфингом и продавал энциклопедии, а потом засиживался допоздна в местных барах, я был готов уснуть в яме из-под костра, вокруг которого шумит луау, – гавайская вечеринка с музыкой и танцами. Арендная плата составляла сто баксов в месяц, и мы вносили ее, разделив пополам между собой.
Жизнь была сладкой. Жизнь была раем. За исключением одной мелочи. Я не мог продавать энциклопедии.
Я не мог продавать энциклопедии, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Чем взрослее я становился, тем застенчивее я был, и один вид того, что мне крайне неудобно, часто заставлял незнакомых мне людей ощущать ту же неловкость. Таким образом, продажа чего бы то ни было бросала мне вызов, но продажа энциклопедий, которые на Гавайях были почти так же популярны, как комары и приезжие с материка, превращалась в тяжелое испытание. Как бы ловко и настойчиво ни произносил я ключевые фразы, на которые нас натаскивали во время краткой предварительной тренировки («Ребята, говорите людям, что вы не энциклопедии продаете, а Огромное Сокращенное Изложение Всех Человеческих Знаний… Ответы на Вопросы Жизни!»), реакцию я получал всегда одну и ту же.
Сматывай удочки, малыш.
Если моя застенчивость стала причиной тому, что у меня не получалось продавать энциклопедии, то моя природа вынуждала меня презирать это занятие. Я не был настолько крепок, чтобы справляться с такими дозами отторжения. Я замечал это в себе еще со школы, потом на первом курсе, когда меня вывели из бейсбольной команды. Незначительная неудача, по большому счету, но она поколебала меня. Так ко мне пришло первое настоящее осознание того, что далеко не каждому в этом мире мы будем нравиться и не каждый примет нас, что нас часто отбрасывают в сторону в тот самый момент, когда нам больше всего нужно, чтобы нас позвали к себе.
Никогда не забуду тот день. Я вернулся домой шатаясь, таща за собой биту, после чего засел в своей комнате, как в норе, убивался с горя и хандрил до тех пор, пока мама не подошла к краю моей кровати и не сказала: «Хватит».
Она настоятельно советовала мне попробовать заняться чем-то другим. «Чем же?» – простонал я в подушку.
«Как насчет того, чтобы заняться бегом?» – спросила она.
«Бегом?» – переспросил я.
«Ты можешь быстро бегать, Бак».
«Думаешь, могу?» – вновь переспросил я, приподнявшись.
Так что я выбрал беговую дорожку и обнаружил, что могу бегать. И никто этого не мог у меня отнять.
Теперь же я отказался от продажи энциклопедий, а заодно и ото всех прежних отторжений и неприятий, связанных с этим занятием, и принялся за чтение объявлений о найме на работу. Мгновенно обратил внимание на небольшое объявление, обведенное толстой жирной рамкой. Требуются: продавцы ценных бумаг. Я, разумеется, подумал, что мне больше повезет с продажей ценных бумаг. В конце концов, у меня была степень МВА, а перед тем, как покинуть дом, я прошел довольно успешное интервью в фирме «Дин Уиттер».
Я провел некоторые исследования и обнаружил, что у этой работы есть две особенности. Во-первых, она имела отношение к компании Investors Overseas Services, возглавляемой Бернардом Корнфельдом, одним из известнейших финансистов 1960-х годов. Во-вторых, представительство компании располагалось на верхнем этаже красивой высотки с окнами, выходящими на морской пляж, – 20-футовыми окнами с потрясающим видом на бирюзовое море. И то и другое импонировало мне, заставив меня приложить максимум усилий, чтобы выдержать интервью. Каким-то образом, после нескольких недель безуспешных попыток уговорить кого-нибудь приобрести энциклопедию, я уломал команду Корнфельда рискнуть и испытать меня в деле.
Необычайный успех Корнфельда и вдобавок захватывающий дух вид из окон способствовали тому, чтобы забыть и почти не вспоминать о том, что фирма была не более чем котельной. Корнфельд был известен своим пресловутым выяснением у сотрудников, искренне ли они хотят стать богатыми, и каждый день дюжина молодых волчар демонстрировала, что да, они искренне этого хотят.
Яростно, самозабвенно терзали они свои телефоны, занимались навязчивым «холодным обзвоном» перспективных клиентов, отчаянно выбивая договоренности о личных встречах «на человеческом уровне».
Я не был виртуозным говоруном, я вообще не умел вести разговор. Тем не менее я умел считать и знал продукт – фонды Дрейфуса. Более того, я знал, как говорить правду. Людям, похоже, это нравилось. Я смог быстро составить график нескольких предстоящих встреч и совершить несколько продаж. В течение недели я заработал на комиссионных достаточно, чтобы выплатить свою половину арендной платы за жилье на полгода вперед, причем у меня еще осталось вполне достаточно денег на воск для серфборда.
Бульшую часть своего дискреционного дохода я тратил на дайв-бары, облепившие побережье. Туристы предпочитали тусоваться на люксовых курортах, названия которых звучали как заклинания, – Моана, Халекулани, но мы с Картером отдавали предпочтение дайв-барам. Нам нравилось сидеть с нашими приятелями – бичниками и пляжными бездельниками, искателями приключений и бродягами, довольствуясь и упиваясь лишь одним своим преимуществом. Географией. Эти лопухи-неудачники, оставшиеся дома, бывало, говорили мы. Жалкие олухи, как лунатики бредут они по своей нудной жизни, сгрудившись в кучу, страдая от холода и дождя. Почему они не могут быть больше похожими на нас? Почему не могут поймать момент, наслаждаться каждым днем?
Наше ощущение того, что надо следовать призыву carpe diem (и жить, пока живется, пользуясь моментом. – Прим. пер.), усиливалось тем фактом, что мир подходит к концу. Ядерное противостояние с Советами нарастало в течение последних нескольких недель. Советы разместили три дюжины ракет на Кубе, Соединенные Штаты хотели, чтобы они их убрали оттуда, и каждая из сторон сделала свое окончательное предложение. Переговоры были закончены, и Третья мировая война могла начаться в любую минуту. Согласно газетам, ракеты начнут падать нам на голову уже в конце дня. Самое позднее – завтра. Мир превратился в Помпеи, и вулкан уже начал выплевывать пепел. Ну, что ж, каждый сидевший в дайв-барах согласился, что, когда придет конец человечеству, отсюда будет не хуже, чем из любого другого места, наблюдать за разрастающимися грибовидными облаками ядерного взрыва. Алоха, цивилизация.
А затем – сюрприз, мир спасен. Кризис прошел. Небо, казалось, вздохнуло с облегчением, а воздух стал неожиданно более бодрящим и неподвижным. Наступила идеальная гавайская осень. Время довольства и чего-то близкого к блаженству.
Вслед за этим последовало ощущение острого беспокойства. Однажды вечером я поставил свою бутылку пива на барную стойку и повернулся к Картеру. «Я думаю, может, нам пришло время сваливать из Шангри-Ла…» – проговорил я (Шангри-Ла – вымышленная страна из новеллы Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». – Прим. пер.).
Я не давил. Мне казалось, что этого не требовалось. Было ясно, что пришло время вернуться к нашему Плану. Но Картер нахмурился и почесал свой подбородок. «Ну, знаешь, Бак, я не знаю».
Он познакомился с девушкой. Красивой гавайской девушкой-подростком с длинными коричневыми ногами и иссиня-черными глазами, похожей на девушек, встречавших нас в аэропорту, такую, какую я сам мечтал найти для себя, но никогда не найду. Он хотел задержаться, и как я мог возразить?
Я ответил, что понимаю. Но почувствовал себя так, будто я потерпел кораблекрушение. Я вышел из бара и прошелся не спеша по пляжу. Игра закончена, сказал я себе.
Последнее, что я хотел бы сделать, было пойти упаковать вещи и вернуться в Орегон. Но в равной степени не мог я представить себе, как путешествую вокруг света в одиночку. Возвращайся домой, говорил мне слабый внутренний голос. Найди нормальную работу. Будь нормальным человеком.
Вслед за этим я услышал другой слабый голос, столь же выразительный: нет, не возвращайся домой. Иди дальше. Не останавливайся.
На следующий день в котельной я подал заявление об увольнении по истечении предстоящих двух недель. «Очень жаль, Бак, – сказал один из боссов. – Перед тобой, как специалистом, открывалось блестящее будущее». «Боже упаси», – пробормотал я.
В тот же день в турагентстве, располагавшемся поблизости, я приобрел авиабилет с открытой датой, действительный на целый год и дающий право лететь куда угодно любой авиакомпанией. Что-то вроде экономичного проездного железнодорожного билета Eurail, только для авиаполетов. В День благодарения 1962 года я забросил за плечи рюкзак и пожал Картеру руку. «Бак, – напутствовал меня он, – только нигде не бери деревянных пятицентовиков».
Командир экипажа обратился к пассажирам, выпалив что-то по-японски, как из скорострельной пушки, и я начал потеть. Выглянув из окна, я увидел на крыле самолета пылающий красный круг. Мамаша Хэтфильд была права, подумал я. Лишь недавно мы были в состоянии войны с этими людьми. Коррехидор, Батаанский марш смерти, Изнасилование Нанкина – и теперь я направляюсь к ним с некоей идеей о коммерческом предприятии?
Безумная идея? Может быть, я действительно сошел с ума.
Даже если это так, было уже слишком поздно искать профессиональной помощи. Самолет с металлическим клекотом пробежал по взлетной полосе и уже парил с ревом над гавайскими песчаными пляжами цвета кукурузного крахмала. Я смотрел сверху на массивные вулканы, становившиеся все меньше и меньше. Пути назад не было.
Поскольку это был День благодарения, в качестве еды в полете была предложена фаршированная индейка в клюквенном соусе. Поскольку мы направлялись в Японию, нам также принесли сырого тунца, суп мисо и горячий саке. Я съел все, одновременно читая книжки в мягких обложках, которыми я набил свой рюкзак. «Над пропастью во ржи» и «Голый обед». Я отождествлял себя с Холденом Колфилдом, подростком-интровертом, искавшим свое место в мире, но Берроуз оказался выше моего понимания. Старьевщик не продает свой товар потребителю, а продает потребителя своему товару.
Для меня это чересчур. Я отключился. Когда я проснулся, мы уже совершали крутой, быстрый спуск. Внизу под нами раскинулся поразительно яркий Токио. Квартал Гиндза, в частности, был похож на рождественскую елку.
По дороге в гостиницу, однако, я видел вокруг только темноту. Огромные участки города были будто погружены в густую черную жидкость. «Война, – пояснил таксист. – Во многих зданиях еще остались неразорвавшиеся бомбы».
Американские «Б-29». «Суперкрепости». За несколько летних ночей 1944 года эти бомбардировщики, накатываясь волнами, сбросили 750 000 фунтов бомб, большинство из которых было заполнено бензином и легковоспламеняющимся «желе». Один из старейших городов мира, Токио был построен в основном из дерева, поэтому зажигательные бомбы устроили огненный ураган. Заживо моментально сгорели почти 300 тысяч человек, в четыре раза больше, чем погибло в Хиросиме. Более миллиона получили чудовищные увечья. И почти 80 процентов зданий буквально испарились. В течение последовавших долгих мрачных пауз ни я, ни водитель больше не проронили ни звука. Сказать было нечего.
Наконец таксист притормозил около дома, чей адрес был написан в моей записной книжке. Убогое общежитие. Более чем убогое. Я забронировал комнату через «Американ экспресс», за глаза, допустив ошибку, как я теперь понял. Я пересек выщербленный тротуар и вошел в дом, готовый развалиться.
Старушка японка за стойкой поклонилась мне. Потом я осознал, что она не кланялась, а была сгорблена от старости, как дерево, побитое многими бурями. Она медленно провела меня в мою комнату, больше похожую на ящик. Циновка татами на полу, однобокий столик, и больше ничего. Мне было все равно. Я едва заметил, что татами был тоньше вафельки. Я поклонился старушке, пожелав ей спокойной ночи. Оясуми насай. Я свернулся калачиком на циновке и тут же вырубился.
Спустя несколько часов я проснулся от того, что комната была залита ярким светом. Я подполз к окну. По всей видимости, я оказался в каком-то промышленном районе на городской окраине. Заполненный портовыми доками и заводами, этот район, должно быть, оказался основной мишенью для бомбардировщиков «Б-29». Куда бы я ни взглянул, везде видел полное опустошение. Здания, покрытые трещинами или полностью разрушенные. Квартал за кварталом просто сровняло с землей. Они исчезли.
К счастью, у моего отца были знакомые в Токио, включая группу американцев, работавших в информационном агентстве «Юнайтед пресс интернэшнл». Я отправился к ним на такси, и ребята по-семейному приняли меня. Угостили кофе и сдобным кольцом с орехами, а когда я рассказал им, где провел ночь, расхохотались. Они же забронировали мне место в чистом, приличном отеле, а затем составили мне список нескольких пристойных мест, где можно питаться.
Что ты, ради всего святого, делаешь в Токио? Я объяснил, что совершаю кругосветку. А затем упомянул о своей Безумной идее. «Ух ты», – отреагировали они, немного выкатив на меня глаза, и назвали двух отставных военных, выпускавших ежемесячный журнал под названием «Импортер». «Переговори с парнями из «Импортера», – сказали они, – прежде чем сделаешь что-нибудь опрометчивое».
Я пообещал, что переговорю. Но прежде мне не терпелось посмотреть город.
С путеводителем и камерой «Минольта» в руках я разыскал несколько переживших войну достопримечательностей – старинные храмы и святилища. Я провел долгие часы, сидя на скамейках в садах, обнесенных заборами, и читая о господствующих в Японии религиях – буддизме и синтоизме. Я дивился концепциям кэнсё, или сатори, – просветление, которое наступает как вспышка, как ослепляющий взрыв. Вроде лампы на моей «Минольте». Мне это нравилось. Я хотел этого.
Но прежде мне понадобилось бы полностью изменить мой подход. У меня было линейное мышление, а, согласно дзен, линейное мышление – не что иное, как заблуждение, одно из многих, делающих нас несчастными. Реальность нелинейна, утверждает дзен. Нет будущего, нет прошлого. Всё – настоящее.
В каждой религии, кажется, самость – это препятствие, враг. А в учении дзен прямо говорится, что самость не существует. Самость – мираж, горячечная галлюцинация, и наша упрямая вера в ее реальность не только впустую расходует жизнь, но и укорачивает ее. Самость – это наглая ложь, которой мы ежедневно сами себя обманываем, а для счастья требуется, чтобы можно было видеть сквозь ложь, развенчивая ее. Для того чтобы изучать себя, говорил дзен-мастер XIII века Догэн, значит забыть себя. Голос внутри себя, голоса вне вас – все это одно и то же. Нет никаких разделительных линий.
Особенно в соперничестве. Победа, говорит дзен, приходит, когда мы забываем себя и противника, являющихся не чем иным, как двумя половинками одного целого. В книге «Дзен и искусство стрельбы из лука» все это изложено с кристальной четкостью. Совершенство в искусстве владения мечом достигается… когда сердце более не тревожится мыслью о «я» и «ты», о сопернике и его мече, о собственном мече и о том, как его использовать… Всё – пустота: ты сам, сверкающий меч и руки, управляющие им. Даже сама мысль о пустоте исчезает.
У меня все поплыло в голове, и я решил прерваться, чтобы посетить совершенно не схожую с искусством дзен достопримечательность, фактически самое антидзеновское место в Японии, особый анклав, где люди сосредоточены исключительно на самих себе и ни на чем другом, – Токийскую фондовую биржу. Располагающаяся в мраморном здании романского стиля с огромными греческими колоннами, биржа (Тошо, как ее называют японцы) выглядела с улицы как массивный и малопривлекательный банк в каком-нибудь городке штата Канзас. Внутри, однако, все походило на бедлам. Сотни мужчин махали руками, дергали друг друга за волосы и пронзительно кричали. Более порочная версия котельной Корнфельда.
Я не мог отвести глаза. Смотрел и смотрел, спрашивая себя, неужели все сводится к этому. В самом деле? Я ценил деньги, как любой другой, но я хотел, чтобы моя жизнь вместила в себя куда больше, стала бы глубже, шире, важнее.
После биржи мне потребовалось умиротворение. Я углубился в самое сердце города, где царила тишина, в парк императора XIX века Мэйдзи и его императрицы, туда, где само пространство, как полагают, обладает невероятной духовной силой. Я сидел, погрузившись в миросозерцание, благоговея, под покачивающимися ветвями деревьев гинкго, вблизи от красивейших врат Тории. Я вычитал в путеводителе, что врата Тории считаются порталом в святые места, и я буквально погружался в сакральность, в безмятежное спокойствие, пытаясь вобрать все это в себя.
На следующее утро я зашнуровал свои кроссовки и трусцой побежал на Цукидзи, крупнейший в мире рыбный рынок. Вновь я оказался на Тошо, только вместо акций там были креветки. Я наблюдал, как рыбаки, чей вид, похоже, не изменился с древних времен, раскладывали свой улов на деревянных тележках и торговались с оптовиками, лица которых были будто обшиты кожей. Тем же вечером я отправился в район озер, что в северных горах Хаконэ, в ту область, которая вдохновила множество великих дзен-поэтов. «Вы не можете идти по пути, пока сами не стали Путем», – говорил Будда, и я стоял в благоговении перед тропой, которая, извиваясь, бежала от гладких как стекло озер к окутанной облаками горе Фудзи, идеальному треугольнику, укрытому снегом, что показалось мне точной копией горного пика Худ у нас дома. Японцы верят, что при восхождении на Фудзи приобретается мистический опыт, что это не просто подъем, а ритуальный акт торжества, и меня переполнило желание тут же подняться на гору. Я хотел подняться в облака, однако решил подождать. Вернусь, когда у меня будет что отпраздновать.
Я вернулся в Токио и явился в редакцию «Импортера». Двое отставников – владельцев журнала, оба с толстыми шеями, мускулистые, страшно занятые, как мне показалось, готовы были по-армейски устроить мне разнос за вторжение и пустую трату их времени. Но спустя несколько минут их грубоватое обличье растаяло без следа, и они уже тепло и дружелюбно приветствовали меня, говоря, что им приятно встретить кого-то из родных краев. В основном наш разговор шел о спорте. Можете ли вы поверить, что «Янки» снова выиграли Кубок? А что вы скажете о Вилли Мейсе? Лучше его никого нет. Так точно, сэр, никого лучше.
Потом они рассказали мне свою историю. Они оказались первыми американцами из всех, кого я знал, кто любил Японию. Расквартированные здесь во время оккупации, они попали под чары культуры, кулинарии, женщин, и когда срок их службы подошел к концу, они просто не нашли в себе сил уехать. Поэтому они основали журнал, освещавший вопросы импортной торговли, когда никто и нигде не был заинтересован в том, чтобы импортировать что-то японское, и каким-то образом сумели остаться на плаву в течение последующих семнадцати лет.
Я поделился с ними своей Безумной идеей, и они выслушали ее с интересом, заварили кофе и пригласили меня присесть с ними. Намеревался ли я импортировать японскую обувь какой-то определенной модели? Я им ответил, что мне нравятся кроссовки «Тайгер», симпатичный бренд фирмы «Оницука» в Кобе, крупнейшем городе на юге Японии.
«Да-да, мы их видели», – сказали они.
Я сообщил, что думаю отправиться туда, чтобы встретиться с представителями «Оницуки» лицом к лицу.
«В таком случае, – сказали бывшие вояки, – тебе стоит узнать кое-что о том, как заниматься бизнесом с японцами.
Ключевой момент здесь, – сказали они, – не быть назойливым. Не наседай, как типичный американский придурок, типичный гайдзин – грубый, громогласный, агрессивный, не допускающий отказа на свой вопрос. Японцы плохо реагируют, когда им пытаются что-то навязать. Переговоры здесь, как правило, ведутся в мягкой, выразительной форме. Вспомни, сколько времени потребовалось американцам и русским, чтобы уговорить Хирохито сдаться. И даже когда он наконец сдался, когда его страна лежала в руинах, покрытых пеплом, что он сказал своему народу? Военная ситуация не сложилась в пользу Японии. Это культура уклончивости и опосредованности. Никто тебе здесь наотрез не откажет. Никто никогда не скажет прямо в лоб «нет». Но они и «да» не говорят. Они говорят так, будто кругами ходят, в их фразах не услышишь упоминания четкого предмета или объекта. Не отчаивайся, но и не задирайся. Ты можешь, покидая местный офис, подумать, что завалил сделку, когда на самом деле тот, с кем ты вел переговоры, готов на нее. Ты также можешь думать, уходя, что сделка заключена, тогда как на самом деле она была отвергнута. Никогда не знаешь».
Я нахмурился. Даже при самых благоприятных обстоятельствах я не был хорошим переговорщиком. Теперь же мне предстояло вести переговоры в каком-то балагане с кривыми зеркалами? Где нормальные правила не действуют?
После того как я провел час, выслушивая эти обескураживающие поучения, я пожал руки бывшим воякам и попрощался с ними. Неожиданно почувствовав, что больше ждать не могу, что я должен как можно быстрее начать действовать, пока их слова еще оставались свежи в моей памяти, я поспешил в гостиницу, упаковал все свои вещи в чемодан и рюкзак и позвонил в «Оницуку» с просьбой назначить мне встречу. В конце того же дня я сел в поезд, отправлявшийся в южном направлении.
Япония славится своим безупречным порядком и чрезвычайной чистотой. Японская литература, философия, одежда, домашняя жизнь – все это на удивление целомудренно и скромно. Все подчинено принципу минимализма. Ничего не ожидай, ничего не ищи, ничего не осмысливай – бессмертные японские поэты написали строки, которые, казалось, шлифовались и шлифовались до тех пор, пока не засверкали, как острие самурайского меча или камни в горном ручье. Стали безупречными.
Так почему же, с удивлением спрашивал я себя, этот идущий в Кобе поезд такой грязный? Полы в нем были завалены газетами и усеяны окурками. На сиденьях полно апельсиновой кожуры и выброшенных газет. Хуже того, все вагоны были битком набиты людьми, и едва можно было найти место, чтобы хотя бы стоять.
Я нашел болтавшийся у окна ремень-держак и, ухватившись, провисел на нем семь часов, пока поезд, раскачиваясь, медленно проползал мимо отдаленных деревушек и ферм размером не больше обычного заднего двора в Портленде. Поездка была долгой, но ни мои ноги, ни терпение сдаваться не думали. Я был слишком занят, вновь и вновь перебирая в памяти уроки, извлеченные из общения с бывшими вояками.
Прибыв на место, я снял небольшую комнату в дешевой рёкан. Встреча в «Оницуке» была назначена мне на раннее утро следующего дня, так что я сразу же улегся на татами, но был слишком взволнован, чтобы уснуть. Я проворочался на циновке большую часть ночи и на рассвете встал обессиленным, уставившись на свое тощее и тусклое отражение в зеркале. Побрившись, надел свой зеленый костюм от Брукс Бразерс и подбодрил сам себя напутственной речью.
Ты способен. Ты уверен. Ты можешь это сделать. Ты способен СДЕЛАТЬ это.
А затем пошел, но не туда.
Я явился и представился в выставочном зале «Оницуки», тогда как меня ждали на фабрике «Оницуки» – на другом конце города. Я кликнул такси и помчался туда как угорелый, опоздав на полчаса. Не показав вида, группа из четырех невозмутимых руководителей фирмы встретила меня в вестибюле. Они поклонились мне, я – им. Один из них шагнул вперед, сказал, что его зовут Кен Миядзаки и что он хотел бы провести меня для ознакомления по фабрике.
Это была первая обувная фабрика, увиденная мною. Все, что я там увидел, было мне интересным. Даже музыкально мелодичным. Каждый раз, когда заканчивалась формовка очередного ботинка, металлическая колодка падала на пол с серебристым звоном, издавая мелодичное КЛИНЬ-клонь. Через каждые несколько секунд – КЛИНЬ-клонь, КЛИНЬ-клонь, концерт сапожника. Руководителям фирмы, похоже, эти звуки тоже нравились. Они улыбались, глядя на меня, и с улыбкой переглядывались между собой.
Мы прошли через бухгалтерию. Все, кто был в комнате, мужчины и женщины, повскакивали со своих мест и стали в унисон кланяться, демонстрируя кей – жест почтения, в знак уважения американского магната. Я когда-то вычитал, что английское слово tycoon (магнат) образовано от японского тайкун, что означает «военачальник». Я не знал, как выказать свою признательность их кею. Кланяться или не кланяться – в Японии этот вопрос всегда возникает. Я изобразил слабую улыбку, сделал полупоклон и продолжил движение.
Руководители предприятия сообщили мне, что они выпускают пятнадцать тысяч пар обуви в месяц. «Впечатляет», – отвечал я, понятия не имея, много это или мало. Они привели меня в конференц-зал и указали на кресло, стоявшее во главе длинного овального стола. «Мистер Найт, – произнес кто-то, – прошу сюда».
Почетное место. Еще больше уважения. Они расположились вокруг стола, привели в порядок свои галстуки и уставились на меня. Настал момент истины.
Я репетировал эту сцену про себя столько раз – не меньше, чем я это делал перед каждым своим забегом, еще задолго до выстрела стартового пистолета. В человеке существует некое первобытное стремление сравнивать все – жизнь, бизнес, всевозможные приключения – с бегом наперегонки. Но такая метафора часто оказывается недостаточной. Она имеет свои границы, и вывести вас за свои пределы не в состоянии.
Будучи не в состоянии вспомнить, что я хотел сказать и даже почему я там оказался, я сделал несколько судорожных вздохов. Все зависело от того, смогу ли я оказаться на высоте положения. Все. Если не смогу, если упущу шанс, буду обречен провести остаток своих дней, продавая энциклопедии, облигации взаимных фондов или какой-нибудь другой мусор, не имеющий для меня совершенно никакого интереса. Я стану разочарованием для родителей, моей школы, родного города. Для самого себя.
Я взглянул на лица сидевших вокруг стола. Всякий раз, когда мысленно представлял себе эту сцену, я упускал один ключевой момент. Я не смог предвидеть, насколько ощутимой будет Вторая мировая война в этом зале. А война была прямо там, рядом с нами, между нами, добавляя подтекст к каждому произносимому нами слову. Всем добрый вечер – сегодня пришли хорошие новости!
И вместе с тем ее там не было. Благодаря их стойкости, стоическому признанию полного поражения и героическому возрождению нации японцы начисто выбросили войну из головы. Кроме того, эти руководители, сидевшие в конференц-зале, были такими же молодыми, как и я, и можно было видеть, что они чувствовали – война не имеет к ним никакого отношения.
С другой стороны, их отцы и дяди пытались убить моих близких.
С другой стороны, прошлое было прошлым.
С другой стороны, весь этот вопрос побед и поражений, нависающий тучами над таким огромным числом сделок и усложняющий их, становится еще более запутанным, когда потенциальные победители и проигравшие оказываются сегодня вовлеченными, пусть через посредников или по вине своих предков, в глобальное пожарище.
От всего этого внутреннего спора, этой мечущейся из стороны в сторону путаницы у меня в голове появился какой-то тихий гул, я ощутил неловкость, к которой я не был готов. Реалист, сидящий во мне, хотел признать это, а идеалист, сидящий там же, – отбросить это в сторону. Я кашлянул в кулак. «Господа», – начал я.
Г-н Миязаки прервал меня: «Мистер Найт, на какую компанию вы работаете?» – спросил он.
«Что же, да, хороший вопрос».
По моим венам будто прокачали адреналин, моя реакция была схожа с готовностью к бегству, я ощутил сильнейшее желание убежать и спрятаться, что заставило меня вспомнить о самом безопасном месте в мире. О родительском доме. Дом был построен несколько десятилетий тому назад людьми со средствами, людьми, у которых денег было куда больше, чем у моих родителей, а потому архитектор примкнул жилое помещение для челяди к задней части хозяйского дома, и эта пристройка стала моей спальней, которую я заполнил бейсбольными карточками, альбомами пластинок, плакатами, книгами – всеми свято неприкосновенными вещами. Я также украсил одну из стен своими blue ribbons – голубыми лентами, полученными мною в награду за выступления на беговой дорожке, – единственными вещами в моей жизни, которыми я беззастенчиво гордился. Итак? «Блю Риббон, – выпалил я. – Господа, я представляю компанию «Блю Риббон Спортс оф Портленд», штат Орегон».
Г-н Миязаки разулыбался. Другие руководители фирмы тоже. По комнате прокатился шепот. Блюриббон, блюриббон, блюриббон. Начальники сложили руки и вновь умолкли, по-прежнему сверля меня взглядами. «Итак, – опять заговорил я, – господа, американский рынок обуви огромен. И в значительной степени не освоен. Если «Оницука» сможет выйти на него, если «Оницука» сможет пробиться со своими кроссовками «Тайгер» в американские магазины, предложив цену, которая будет ниже цены на кроссовки «Адидас», которые теперь носят большинство американских спортсменов, это могло бы оказаться весьма прибыльным предприятием».
Я просто цитировал свою презентацию курсовой в Стэнфорде дословно, приводя доводы и статистику, на запоминание и изучение которых я затратил долгие недели, и это помогло создать иллюзию красноречия. Я мог видеть, что руководители компании были впечатлены. Но когда я подошел к концу изложения своей идеи, наступила щемящая тишина. Затем один из присутствующих прервал ее, вслед за ним – другой, и вот уже все они заговорили громкими, возбужденными голосами, перекрывая друг друга. Обращаясь не ко мне, а друг к другу.
Затем все резко встали и покинули зал.
Было ли это основанным на японском обычае способом отказаться от Безумной идеи? Встать всем вот так, в унисон, и выйти? Я что, так запросто растерял к себе все уважение – весь свой кей? Я что, сброшен со счетов? Что я должен сделать? Мне что, просто… уйти?
Через несколько минут они вернулись. Они несли эскизы, образцы, которые г-н Миязаки помог разложить передо мной. «Мистер Найт, – обратился он, – мы давно подумываем об американском рынке». – «Да?» – «Мы уже продаем наши борцовки в Соединенных Штатах. На… э-э… северо-востоке. Но мы уже долгое время обсуждаем вопрос о поставке обуви другого ассортимента в иные регионы в Америке».
Они продемонстрировали мне три различные модели кроссовок «Тайгер». Тренировочные (повседневные) кроссовки для бега, названные ими Limber Up («Разминайся!»). «Симпатичные», – сказал я. Шиповки для прыжков в высоту, названные ими Spring Up («Подскакивай!»). «Симпатичные», – сказал. И шиповки для метания диска, которые были названы ими Throw Up («Подбрасывай!»). Не смейся, приказал я себе. Не… смейся.
Они забросали меня вопросами о Соединенных Штатах, об американской культуре и потребительских тенденциях, о различных видах спортивной обуви, которая продавалась в американских магазинах спортивных товаров. Спрашивали меня, насколько велик, в моем представлении, американский рынок обуви, насколько большим он мог бы стать, и я ответил им, что в конечном счете он мог бы достигнуть одного миллиарда долларов. До сих пор не могу точно сказать, откуда взялась эта цифра. Они откинулись назад и переглянулись между собой в изумлении. Теперь же, к моему удивлению, они стали засыпать вопросами меня. «Заинтересуется ли «Блю Риббон» в том, чтобы… представить кроссовки «Тайгер»? В Соединенных Штатах?» – «Да, – отвечал я, – да, заинтересуется».
Я поднял образец кроссовки Limber Up. «Это хорошие кроссовки, – сказал я. – Такие я смогу продавать». Я попросил их немедленно отправить мне образцы. Я сообщил им свой адрес и обещал выслать им денежный перевод на пятьдесят долларов.
Они встали и низко поклонились. Я тоже низко им поклонился. Мы пожали руки. Я вновь поклонился. Они тоже вновь поклонились. Мы все улыбались. Войны никогда не было. Мы были партнерами. Братьями. Встреча, которая, как я полагал, займет пятнадцать минут, продолжалась два часа.
Из «Оницуки» я отправился прямо в ближайший офис «Америкен экспресс», откуда отправил письмо отцу: «Дорогой папа: срочно. Прошу сразу же отправь телеграфом пятьдесят долларов в адрес «Оницука корпорейшн», Кобе».
Хоу-хоу, хии-хии… странные творятся дела.
Вернувшись в гостиницу, я стал ходить кругами вокруг своей циновки татами, стараясь принять решение. Часть моего существа хотела рвануть назад в Орегон, ждать посылки с образцами, оседлать свое новое деловое предприятие. Кроме того, я с ума сходил от одиночества, отрезанный от всего и всех, кого я знал. Случайно увидев газету «Нью-Йорк таймс» или журнал «Тайм», я чувствовал, как к горлу подкатывал комок. Я был как потерпевший кораблекрушение, кем-то вроде современного Робинзона Крузо. Я хотел вновь оказаться дома. Сейчас же.
И все же. Я все еще сгорал от любопытства, чтобы изведать мир. Я все еще хотел видеть, исследовать.
Любопытство одержало верх.
Я отправился в Гонконг и прошелся по сумасшедшим, хаотичным улочкам, ужасаясь при виде безногих, безруких нищих, стариков, стоящих на коленях в грязи рядом с вопившими о милостыни сиротами. Старики были немыми, но дети с воплями повторяли мольбу: «Эй, богатый человек, эй, богатый человек, эй, богатый человек». Они рыдали и шлепали ладонями о землю. Даже после того, как я раздал им все деньги, которые были у меня в карманах, плач не переставал.
Я пришел на окраину города, забрался на вершину пика Виктория и вглядывался вдаль, туда, где лежал Китай. В колледже я читал сборник афоризмов Конфуция: «Тот, кто передвигает горы, сначала убирает маленькие камешки». И теперь я с особой силой ощутил, что у меня никогда не появится возможности сдвинуть эту конкретную гору. Никогда не смогу я приблизиться к этой отгороженной стеной мистической земле, и мысль эта заставила меня почувствовать себя неизъяснимо грустно. Это было чувство незавершенности.
Я поехал на Филиппины, где творились такие же безумие и хаос. И где бедность была в два раза страшнее. Я медленно, как в кошмарном сне, шел по Маниле, сквозь бесконечные толпы народа и не поддающиеся измерению заторы, продвигаясь к гостинице, в которой Макартур когда-то занимал пентхаус. Я восхищался всеми великими полководцами, от Александра Великого до Джорджа Паттона. Я ненавидел войну, но любил воинственный дух. Ненавидел меч, но любил самураев. И из всех великих ратных людей в истории я считал наиболее убедительным Макартура. Эти его солнцезащитные очки Ray-Bans, эта его курительная трубка из кочерыжки кукурузного початка – уверенности ему было не занимать. Блестящий тактик, мастер мотивации, да, кроме того, еще возглавил Олимпийский комитет США. Как мне не любить его?
Конечно, он был глубоко порочен. Но он знал об этом. «Вас помнят, – заявил он пророчески, – из-за правил, которые вы нарушаете».
Я хотел забронировать на ночь его бывший номер люкс. Но позволить себе такие расходы не мог.
Однажды придет день, поклялся я. Однажды я вернусь сюда.
Я отправился в Бангкок, где проплыл на длинной лодке с шестом через мутные болота до рынка под открытым небом, который показался мне тайской версией Иеронима Босха. Я ел птиц, фрукты и овощи, которых ранее никогда не видел и никогда больше не увижу. Мне пришлось уворачиваться от рикш, скутеров, мотоповозок, прозванных тук-тук, и слонов, пока я добирался до Ват Пхра Кео и одной из самых священных статуй в Азии – огромного шестисотлетнего Будды, вырезанного из одного куска нефрита. Стоя перед ним и вглядываясь в его безмятежно спокойное лицо, я спросил: «Почему я здесь? В чем моя цель?»
ВАС ПОМНЯТ ИЗ-ЗА ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ВЫ НАРУШАЕТЕ.
Я подождал.
Ничего.
Или же ответом мне было молчание.
Я поехал во Вьетнам, где улицы (Сайгона. – Прим. пер.) ощетинились штыками американских солдат и, казалось, гудели от страха. Каждый знал, что приближается война и что она будет уродливой до невозможности и совершенно другой. Это будет война по Льюису Кэрроллу, война, в ходе которой американский офицер объявит: «Мы должны были уничтожить деревню, чтобы спасти ее». За несколько дней до Рождества, в 1962 году, я отправился в Калькутту, где снял комнату размером с гроб. Ни кровати, ни стула – места для них не было. Лишь гамак, подвешенный над вспенившейся дырой, – очком. Не прошло и нескольких часов, как я заболел. Возможно, вирус, переносимый воздушным путем, или пищевое отравление. В течение полных суток я был уверен, что не перенесу этого. Я знал, что умру.
Но каким-то образом я собрался с силами, заставил себя вылезти из этого гамака и на следующий день уже спускался нетвердой походкой вместе с тысячами пилигримов и дюжинами священных обезьян по крутой лестнице храма Варанаси. Ступени вели прямо в горячие воды бурлящего Ганга. Когда я уже был по пояс в воде, я поднял глаза – мираж? Нет, посреди реки происходили похороны. На самом деле несколько похорон. Я видел, как скорбящие входили в реку и укладывали своих усопших близких на высокие деревянные похоронные дроги, а затем зажигали их. Меньше чем в двадцати шагах от этого действа другие люди спокойно купались. А другие утоляли жажду той же водой.
Упанишады говорят: «Веди меня от нереального к реальному», – так что я бежал от нереального. Я добрался до Катманду на самолете и прошел пешком прямо до чистой белой стены Гималаев. На спуске я задержался на переполненной базарной площади (чоук) и с жадностью проглотил там миску с буйволятиной, обжаренной только снаружи и красной от крови внутри. Чоук, как я заметил, был заполнен тибетцами в сапогах с голенищами из красной шерсти и верхом из зеленой замши с загнутыми вверх носками, почти как полозья саней. Неожиданно я стал замечать, какую обувь носят люди вокруг меня.
Я вернулся в Индию, канун Нового года провел, слоняясь по улицам Бомбея, петляя и пробираясь между волами и коровами с длинными рогами, чувствуя, что у меня начинается раскалывающая голову мигрень, – от шума, запахов, красок и яркого света. Далее я продолжил свой путь, переехав в Кению, где совершил длинную поездку на автобусе в самую гущу бушей. Гигантские страусы пытались обогнать автобус, а аисты (скорее всего, это были фламинго, а не аисты. – Прим. пер.) размером с питбулей плавали буквально за окном. Каждый раз, когда водитель останавливался где-то на полпути в никуда, чтобы подвезти нескольких воинов племени масаи, в автобус пытались заскочить один или два бабуина, и тогда водитель и воины с мечами, похожими на мачете, бросались на бабуинов и преследовали их. Перед тем как спрыгнуть с автобуса, бабуины оглядывались через плечо и бросали на меня взгляд уязвленной гордости. Прости, старик, мысленно отвечал я. Если б только это от меня зависело.
Далее был Каир, плато Гиза, я стоял рядом с кочевниками пустыни и их драпированными в шелк верблюдами у ног Большого Сфинкса, и все мы, щурясь, вглядывались в его вечно открытые глаза. Солнце било своими лучами мне по голове, то же солнце, что обрушивало свой жар на тысячи тех, кто построил эти пирамиды, и на миллионы посетителей, приходившим сюда потом. Ни об одном из них ничего не осталось в памяти, думал я. Все – суета, говорится в Библии. Существует только настоящее, говорит учение дзен. Все – пыль, говорит пустыня.
Я направился в Иерусалим, к священной горе, на которой Авраам приготовился принести в жертву сына, к скале, где Мухаммед начал свое восхождение на небеса. В Коране говорится, что скала хотела присоединиться к Мухаммеду и последовать за ним, но Мухаммед ступил на скалу и остановил ее. Отпечаток его стопы, как говорят, до сих пор виден на камне (изложение суры 17 из Корана дано автором неверно. – Прим. пер.). Был ли он босым или же обутым? В полдень я съел ужасный обед в темной таверне, в окружении чернорабочих, чьи лица были перепачканы сажей. Все выглядели до нельзя уставшими. Они медленно жевали, с отсутствующим взором, будто зомби. Почему мы должны так убиваться на работе? – спрашивал я себя. Посмотрите на лилии, как они растут… не трудятся, не прядут. И тем не менее живший в I веке н. э. раввин Элеазар бен-Азария говорил, что наша работа – самое святое, что есть в нас. Все гордятся своим ремеслом. Если Господь называет работу Своею, то человек тем более должен гордиться своим ремеслом.
Съездил я и в Стамбул, подсел на турецкий кофе, плутал по извилистым улочкам, выходившим на Босфор. Останавливался, чтобы запечатлеть сверкающие на солнце минареты, прошел по золотым лабиринтам дворца Топкапы, резиденции османских султанов, где теперь хранится меч Мухаммеда. «Не спи хотя бы ночь одну, – писал Руми, персидский поэт, живший в XIII веке. – Тобой желаемое страстно само к тебе придет».
«Тепло душевное согреет, и ты увидишь чудеса».
Дальше – Рим, несколько дней провел, прячась по маленьким трактирам, перемалывая горы макарон, заглядываясь на красивейших женщин и на самые красивые туфли из когда-либо виденных мною (римляне в эпоху цезарей верили, что, надевая вначале правый, а затем левый ботинок, это приносит процветание и удачу). Я внимательно осмотрел руины спальни Нерона, грандиозные развалины Колизея, необъятные залы и комнаты Ватикана. Избегая толпы, я всегда оказывался у входа на рассвете, намереваясь быть первым в очереди. Но очередей никогда не было. Город оторопел от небывалого похолодания. Все достопримечательности были полностью в моем распоряжении.
Даже Сикстинская капелла. Оказавшись под потолком с фресками Микеланджело, я смог сколько моей душе было угодно изумляться и удивляться. Я прочитал в своем путеводителе, что, создавая свой шедевр, Микеланджело находился в подавленном состоянии. У него болели спина и шея. Краска постоянно попадала ему в волосы и глаза.
Он дождаться не мог, когда закончит, говорил он друзьям. Если даже самому Микеланджело не нравилась его работа, думал я, на что же надеяться всем нам?
Я поехал во Флоренцию. Потратил несколько дней на поиски Данте, читая Данте, озлобленного, сосланного мизантропа. Мизантропия у него возникла до или после? Была ли она причиной или же результатом его озлобления и ссылки?
Я стоял перед Давидом, потрясенный выражением гнева в его глазах. У Голиафа не оставалось шанса.
Поездом добрался до Милана, интимно пообщался с Да Винчи, рассмотрел его красивые записные книжки и подивился его своеобразным навязчивым мыслям. Главная из них была о человеческой ноге. Шедевре инженерного искусства, как он сам ее называл. Произведении искусства.
Кем я был, чтобы спорить?
В последний мой вечер в Милане я слушал оперу в театре «Ла Скала». Предварительно я проветрил свой костюм от Брукс Бразерс и с гордостью носил его, оказавшись среди итальянцев, затянутых в смокинги, пошитые на заказ, и итальянок в платьях, усыпанных драгоценностями. Все мы с восхищением слушали «Турандот». В тот момент, когда Калаф затянул арию Nessun dorma: «Меркните, звезды! На рассвете я одержу победу, я одержу победу, я одержу победу!» – глаза мои наполнились слезами, и с падением занавеса я вскочил с места. Брависсимо!
Далее мой путь лежал в Венецию, где я провел несколько томных дней, ходил по следам Марко Поло и простоял, не знаю как долго, перед палаццо Роберта Браунинга. Если вы приобретете простую красоту и ничего больше, вы, пожалуй, будете обладать лучшим из того, что изобрел Бог.
Время мое истекало. Дом звал меня. Я поспешил в Париж, спустился глубоко под землю в Пантеон, слегка прикоснулся рукой к гробницам Руссо и Вольтера. Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям. Я снял номер в захудалой гостинице, посмотрел на потоки зимнего дождя, заливавшие переулок, который был виден из моего окна, помолился в Нотр-Дам и заблудился в Лувре. Купил несколько книг в магазине «Шекспир и Компания» и постоял в том месте, где спал Джойс и Ф. Скотт Фицджеральд. Потом медленно прошелся вдоль Сены, остановившись, чтобы выпить чашечку капучино в кафе, где Хемингуэй и Дос Пассос читали Новый Завет вслух друг другу. В последний день я прогулялся по Елисейским Полям, отслеживая путь освободителей и все время думая о Паттоне. Не говорите людям, как делать вещи. Скажите им, что делать, и они удивят вас своей изобретательностью.
Из всех великих генералов он больше других был одержим мыслями о солдатской обувке. Солдат в ботинках – только солдат. Но в сапогах он становится воином.
Я вылетел в Мюнхен, выпил кружку ледяного пива в Бюргербройкеллер, где Гитлер стрелял из пистолета в потолок и откуда начался путч. Я попытался посетить Дахау, но, когда обратился с вопросом, как туда проехать, люди отворачивались, делая вид, что не знают. Я отправился в Берлин и пришел на пограничный КПП Чекпойн Чарли. Русские часовые с плоскими лицами в тяжелых шинелях изучили мой паспорт, похлопали меня по спине и поинтересовались, что за дела у меня в коммунистическом Восточном Берлине. «Никакие», – ответил я. Я был в ужасе, ожидая, что они каким-то образом узнают, что я посещал занятия в Стэнфорде. Буквально перед тем, как я прибыл в Берлин, два студента из Стэнфорда попытались тайно переправить на «Фольксвагене» подростка на Запад. Их до сих пор держали в тюрьме.
Но часовые, пропуская меня, лишь помахали мне вслед. Немного пройдя, я остановился на углу Карл-Маркс-плац. Огляделся по сторонам. Ничего. Ни деревьев, ни магазинов, никакой жизни. Я вспомнил всю ту нищету, виденную мною в каждом уголке Азии. Но это была иная нищета, более умышленная, что ли, и более предотвратимая. Я увидел троих детей, играющих на улице. Я подошел и сфотографировал их. Двое девятилетних мальчишек и девочка. Девочка – в красной шерстяной шапочке, розовом пальтишке – взглянула мне прямо в глаза и улыбнулась. Смогу ли я когда-нибудь забыть ее? Или ее туфельки? Они были из картона.
Я отправился в Вену, на тот судьбоносный, пахнущий душистым кофе перекресток, где в один и тот же исторический момент жили Сталин и Троцкий, Тито и Гитлер, Юнг и Фрейд и где они слонялись по одним и тем же душным кафе, планируя, как спасти мир (или покончить с ним). Я ходил по той же булыжной мостовой, по которой ходил Моцарт, пересек его изящный Дунай по красивейшему из всех виденных мною каменному мосту, остановился перед уходящими в небо шпилями собора Святого Стефана, в котором Бетховен обнаружил, что он оглох. Он поднял глаза, увидел испуганных птиц, взлетевших с колокольни, и, к своему ужасу, не услышал колокольного звона.
И наконец, я полетел в Лондон. Я быстро пошел к Букингемскому дворцу, потом в Уголок ораторов в Гайд-парке, в универмаг «Хэрродс». Выделил себе немного времени, чтобы посетить палату общин. Закрыв глаза, я вызывал в воображении дух великого Черчилля. Вы спрашиваете, какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа – победа любой ценой, победа, несмотря на все ужасы; победа, независимо от того, насколько долог и тернист может оказаться к ней путь… без победы мы не выживем. Я отчаянно хотел запрыгнуть в автобус, идущий в Статфорд, чтобы увидеть дом Шекспира. (Женщины елизаветинских времен носили красную шелковую розу на носке каждой туфли.) Но у меня истекало время.
Последнюю ночь я провел, перебирая в памяти все, что произошло во время моего путешествия, и делая заметки в дневнике. Я спросил себя, что было самым ярким?
Греция, подумал я. Вне всяких вопросов. Греция.
С тех пор как я впервые покинул Орегон, я был взволнован больше всего двумя пунктами, обозначенными на моем маршруте. Я хотел довести до сознания японцев свою Безумную идею. И я хотел постоять перед Акрополем.
За несколько часов до посадки в самолет в аэропорту Хитроу я продолжал медитировать, переживая вновь тот момент, когда я, закинув голову, смотрел на те удивительные колонны, испытывая такой же бодрящий шок, который вы получаете от любой необычайной красоты, наряду с сильнейшим чувством – узнавания.
Было ли это лишь моим воображением? В конце концов, я стоял там, где зародилась западная цивилизация. Может, я просто хотел, чтобы увиденное мною показалось знакомым. Нет, не думаю. Мною овладела абсолютно ясная мысль. Я уже бывал здесь раньше.
Затем, спускаясь по выцветшим ступеням, возникла новая мысль: вот где все это началось.
Слева от меня был Парфенон, свидетелем строительства которого был Платон, наблюдавший за группами архитекторов и рабочих. Справа – храм Афины Ники. Согласно моему путеводителю, двадцать пять веков тому назад в нем находился красивый фриз с изображением богини Афины, которая, как считалось, приносит победу.
Это было одним из достоинств и чудесных даров, которыми была наделена Афина. Она также вознаграждала ведущих переговоры о сделках. В трилогии Эсхила «Орестея» она говорит: «Я чту… взор убежденья». Она была, в некотором смысле, покровительницей переговорщиков.
Не знаю, как долго я там простоял, впитывая энергию и силу этого эпохального места. Час? Три часа? Не знаю, сколько времени прошло после того дня, когда я обнаружил пьесу Аристофана, действие которой происходит в храме Ники Аптерос. Там есть сцена, когда воин передает в дар царю пару новых башмаков. Не помню, когда до меня дошло, что пьеса называлась «Всадники» (Knights – аналогия с фамилией Фила Найта – Phil Knight. – Прим. пер.). Но точно знаю, что когда я развернулся, чтобы уходить, то заметил мраморный фасад храма. Греческие мастера украсили его незабываемой резьбой, живописующей несколько сцен, включая наиболее известную рельефную плиту, изображающую богиню, по непонятной причине наклонившуюся, чтобы… поправить ремешок на своей сандалии.
24 февраля 1963 года мой двадцать пятый день рождения. Я вошел в дверь дома на улице Клейборн: волосы до плеч, борода в три дюйма длиной. Мать вскрикнула. Сестры заморгали, будто не узнавая меня, или же до них все еще не дошло, что я куда-то уезжал. Объятия, восклицания, взрывы смеха. Мать заставила меня присесть, налила мне чашку кофе. Она хотела все услышать. Но я был в изнеможении. Оставил чемодан и рюкзак в холле и направился к себе в комнату. Как сквозь туман, уставился на свои голубые ленты. Мистер Найт, как, говорите, называется ваша компания?
Я свернулся калачиком на кровати, и сон сошел на меня, как опускающийся занавес в «Ла Скала».
Час спустя меня разбудил мамин крик: «Ужинать!»
Отец вернулся с работы. Он обнял меня, как только я вошел в столовую. Он тоже хотел услышать все в подробностях. А я хотел ему все рассказать. Но прежде я хотел узнать одну вещь.
«Пап, – спросил я, – кроссовки прислали?»
Будьте тиграми!
Отец пригласил на кофе с пирожными и на просмотр «слайдов Бака» всех соседей. В полной покорности стоял я около проектора, погруженный в темноту, апатично нажимая на переключатель для перехода к следующему слайду и давая описание пирамид, храма Ники, но сам я в комнате отсутствовал. Я был у пирамид, в храме Ники. Я думал о заказанных кроссовках.
Прошло четыре месяца после той большой встречи в компании «Оницука», после того, как завязал связь с ее руководителями и убедил их своими аргументами или же я думал, что убедил, – а кроссовки так и не прислали. Я настрочил письмо: «Уважаемые господа, касательно нашей встречи осенью прошлого года, была ли у вас возможность отправить мне образцы?..»
Затем я решил несколько дней отдохнуть, выспаться, постирать белье, встретиться со старыми друзьями.
Я получил быстрый ответ от «Оницуки». «Кроссовки высылаются, – говорилось в нем. – Прибудут буквально через несколько дней».
Я показал письмо отцу. Он поморщился. Буквально через несколько дней?
«Бак, – сказал он, посмеиваясь, – тех пятидесяти баксов уже давно нет».
Мой новый внешний вид – волосы, как у потерпевшего кораблекрушение и осевшего на необитаемом острове, борода, как у пещерного человека, – все это было слишком для мамы и сестер. Я ловил на себе их удивленные и хмурые взгляды. Я почти слышал, что они думают обо мне: бродяга. Поэтому я побрился. Стоя потом у небольшого зеркала на комоде в той части дома, которая когда-то отводилась для прислуги, я сказал, обращаясь сам к себе: «Официальное заявление. Ты вернулся».
И все же пока это было не так. Я ощущал в себе нечто такое, что уже никогда не вернется. Мама заметила это раньше других. Однажды за ужином она посмотрела на меня долгим, испытующим взглядом. «Похоже, ты стал более… искушенным».
«Искушенным», – повторил я про себя. Боже правый!
До тех пор, пока не прибыли мои кроссовки, – да и прибудут ли они или нет, – мне надо было бы найти, как и чем зарабатывать деньги. До моей поездки я выдержал интервью в брокерском доме «Дин Виттер». Может, вновь сходить туда. Я переговорил об этом с отцом, в его телеуголке. Он потянулся в своем виниловом кресле и предложил мне вначале побеседовать с его старинным приятелем Доном Фрисби, главным исполнительным директором и председателем правления «Пасифик Пауэр энд Лайт».
Я знал мистера Фрисби. Я проходил летнюю стажировку у него. Мне он нравился, и мне нравилось, что он выпускник Гарвардской школы бизнеса. Когда речь заходила о школах, я становился немного снобом. Я поражался также тому, как ему так быстро удалось дорасти до исполнительного директора компании, зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Помню, что встретил он меня в тот весенний день 1963 года тепло, обхватив обеими руками мою ладонь при рукопожатии, и провел в свой кабинет, предложив кресло напротив письменного стола. Сам он уселся на свой огромный кожаный трон с высокой спинкой и, приподняв брови, спросил: «Итак… что у тебя на уме?»
«Если честно, мистер Фрисби, я не знаю, что делать… относительно… касательно… работы… или моей карьеры…»
И, совсем обмякнув, добавил: «Моей жизни».
Сказал, что подумываю пойти к брокерам «Дина Виттера». Или же, может быть, в электрическую компанию. Или еще, как вариант, пойти работать в какую-нибудь крупную корпорацию. Свет, вливавшийся через окно кабинета, вспыхнул, отразившись от пенсне мистера Фрисби, и ослепил меня. Как солнечные лучи, отразившиеся от вод Ганга. «Фил, – произнес он, – это все плохие идеи».
«Сэр?»
«Думаю, ничего из этого тебе делать не стоит».
Я выдал что-то нечленораздельное.
«Каждый человек, буквально каждый меняет место работы по крайней мере три раза. Поэтому, если ты сейчас пойдешь работать в инвестиционную компанию, ты в конце концов уволишься, и затем на новом месте тебе придется все начинать сызнова. Если же пойдешь трудиться на какую-нибудь крупную компанию, сынок, в сухом остатке получишь то же самое. Нет, то, что тебе нужно, пока ты молод, – это получить квалификацию СРА (сертифицированного аудитора). Это наряду с полученной тобой степенью МВА (магистра делового администрирования) заложит твердую основу для твоих доходов. Вот тогда, когда ты решишь поменять место работы, – а это случится, поверь мне, – ты по крайней мере сможешь удержать свою зарплату на прежнем уровне. Ты не скатишься вниз».
Звучало это практично. Я, конечно, не хотел скатываться вниз. Однако специализации в области бухгалтерского учета у меня не было. Мне требовалось добрать еще девять «кредитных часов», чтобы быть допущенным к экзамену. Поэтому я быстро записался в три класса по бухучету в Портлендском госуниверситете. «Еще одна школа?» – проворчал отец.
Что еще хуже – школа, которую мне предстояло посещать, была не Стэнфорд и не Орегонский госуниверситет. Это был ничтожный Портлендский государственный.
Я не был единственным снобом в семье, кто воротил нос от непрестижных учебных заведений.
Добрав свои девять «кредитных часов», я стал работать в бухгалтерской конторе «Либранд, Росс Бразерс энд Монтгомери». Это была одна из Большой восьмерки национальных фирм, но контора ее Портлендского филиала была маленькой. Штат служащих состоял из одного партнера и трех младших бухгалтеров. Меня это устраивает, – подумал я. Небольшая фирма с немногочисленным персоналом означала, что она будет тесно сплоченной, с благоприятной атмосферой для обучения.
Так оно и началось. Моим первым поручением была компания, расположенная в городе Бивертон, – «Резерс Файн Фудс», и, выполняя работу в одиночку, я продуктивно проводил время с генеральным директором компании Алом Резером, который был всего на три года старше меня. Я получил от него несколько важных уроков и с удовольствием засиживался над его книгами. Но я был слишком перегружен работой, чтобы в полной мере насладиться этим занятием. Бедой маленького филиала крупной бухгалтерской фирмы является объем работы, который необходимо осилить. Каждый раз, когда накатывала какая-нибудь дополнительная нагрузка, рядом не оказывалось никого, кто мог бы взять ее на себя. В пиковый период – с ноября по апрель – мы оказывались загруженными по самые уши, работая с журналами учета и регистрации по двенадцать часов в день, шесть дней в неделю, после чего на учебу времени почти не оставалось.
Кроме того, за нами наблюдали. Пристально. Наши минуты на работе высчитывались вплоть до секунды. Когда в ноябре убили президента Кеннеди, я попросил день отгула. Хотел посидеть перед телевизором, скорбя вместе со всей страной. Мой босс, однако, покачал головой. Сначала поработай, потом будешь скорбеть. Посмотрите на лилии, как они растут… не трудятся, не прядут.
У меня было два утешения. Первым были деньги. Я получал пятьсот долларов в месяц, что позволило мне купить новую машину. Я не мог раскошелиться еще на один «Эм-джи родстер», поэтому приобрел «Плимут Валиант». Надежный, но с налетом некоего бодрящего шика. Ну и цвет еще тот. Продавец назвал его цветом зеленой морской пены. Друзья переиначили его в цвет зеленой рвоты.
На самом деле цвет кузова походил на цвет только что отпечатанных банкнот. Вторым моим утешением был ланч. В полдень я регулярно выходил на улицу, шел по направлению к местному туристическому агентству и замирал, как Уолтер Митти напротив плакатов, вывешенных в окне. Швейцария. Таити, Москва. Бали. Я хватал проспект и листал его, сидя на скамейке в парке и пережевывая сэндвич с арахисовым маслом и конфитюром. Я спрашивал голубей: можете ли вы поверить, что лишь год назад я серфинговал на пляже Вайкики? Ел тушеную буйволятину после утренней прогулки в Гималаях?
Неужели лучшие моменты в моей жизни остались позади?
Неужели моя поездка вокруг света была… моей высшей точкой?
Голуби реагировали еще меньше, чем статуя Ват Пхра Кео.
Вот как я провел 1963 год. Опрашивая голубей. Полируя свой «Плимут Валиант».
Кропая письма.
Дорогой Картер, удалось ли тебе все же покинуть Шангри-Ла? Я теперь бухгалтер и подумываю о том, чтобы вышибить себе мозги.
Японцы бросают вызов
Извещение пришло прямо под Рождество, поэтому в первую же неделю нового, 1964 года мне пришлось проехать до складского помещения на берегу. Точно не помню, как это было. Знаю, что было раннее утро. Вспоминаю, что добрался туда еще до того, как сотрудники открыли двери. Я вручил им извещение, они отошли в глубину хранилища и вернулись с большой коробкой, покрытой японскими иероглифами.
Я помчался домой, скатился в подвал и вскрыл коробку. Двенадцать пар кроссовок, сливочно-белые, с голубыми полосками по бокам. Боже, они были прекрасны. Более чем. Ничего прекраснее не видел я ни во Флоренции, ни в Париже. Я хотел бы поставить их на мраморный пьедестал или же поместить в золотые рамки. Я подносил их к свету, нежно гладил их, как священные предметы, так, как писатель стал бы прикасаться к новой пачке записных книжек или как игрок в бейсбол стал бы поглаживать набор бит. Затем я отправил две пары кроссовок своему прежнему тренеру по бегу в Орегонском университете Биллу Бауэрману.
Я сделал это, не задумываясь, поскольку именно Бауэрман был первым, кто научил меня думать, действительно думать о том, во что обуваются люди. Бауэрман был гениальным тренером, мастерским мотиватором, прирожденным вожаком молодых людей, и он считал, что критически важным для становления спортсмена является некая определенная часть его экипировки. Обувь. Он был буквально поглощен мыслями о том, какую обувь носят люди.
В течение четырех лет, пока я занимался бегом в Орегонском университете, Бауэрман постоянно лазил в наши шкафчики в раздевалке и таскал оттуда нашу обувь.
Целыми днями потом он разрывал ее на части, сшивал ее заново, а затем возвращал ее нам с некоторыми небольшими изменениями, в результате которых мы либо начинали бегать как олени, либо наши ноги начинали кровоточить. Он был полон решимости найти новые способы, как усилить супинатор, демпфировать подошву, создать больше пространства для переднего отдела стопы. У него всегда был при себе новый дизайн, новые эскизы того, как сделать наши кроссовки изящнее, мягче, легче. В особенности – легче. Уменьшение веса пары кроссовок на одну унцию сокращает нагрузку в пересчете на вес до 55 фунтов на милю. И он не шутил. Его математические расчеты были абсолютно верны. Приняв длину шага среднего человека за шесть футов, разделим милю (5280 футов) на эту цифру и получим 880 шагов. Сбросим по унции с каждого шага – получим в точности 55 фунтов. Легкость, как был убежден Бауэр, непосредственно транслируется в меньшую нагрузку, что означает больше энергии и в свою очередь дает бо́льшую скорость. А скорость означает победу. Бауэрман не любил проигрывать (это от него ко мне передалось). Поэтому легкость оставалась его постоянной целью.
Целью – это мягко сказано. В поисках легкости он стремился использовать все, что угодно. Материалы животного, растительного, минерального происхождения. Подходил любой минерал, который мог бы повысить существующее в настоящее время качество стандартной обувной кожи. Иногда это означало использование кожи кенгуру. В другой раз – кожи трески. Вы еще не жили, если не пробовали соревноваться с самыми быстрыми бегунами в мире, обутыми в кроссовки из кожи.
Нас было в команде четверо или пятеро – подопытных морских свинок Бауэрмана, на которых он проводил свои ортопедические испытания, но я был его любимцем. Что-то в моих ногах говорило ему. Что-то открывалось ему в моей походке. Кроме того, с моей кандидатурой допускался широкий предел погрешности. Я не был лучшим в команде, поэтому он мог позволить себе ошибаться, ставя опыты на мне. С более талантливыми членами нашей команды он не смел идти на лишний риск.
Будучи первокурсником, второкурсником, третьекурсником, я счет потерял тому, сколько раз я бегал в марафонках или шиповках, модифицированных Бауэрманом. К четвертому курсу он изготавливал все мои кроссовки с нуля.
Естественно, я полагал, что эти новые, смешные, маленькие кроссовки «Тайгер», которым потребовалось больше года, чтобы попасть ко мне из Японии, заинтригуют моего старого тренера. Конечно, они не были так же легки, как его трековая обувь из тресковой кожи. Но у них был потенциал: японцы обещали усовершенствовать их. Что еще лучше – они были недорогими. Я знал, что это обстоятельство окажется притягательным для Бауэрмана, учитывая его врожденную бережливость.
Даже сам бренд кроссовок, как я неожиданно осознал, сможет поразить Бауэрмана. Обычно он называл своих бегунов «орегонскими парнями», но время от времени обращался к нам с призывом быть «тиграми». И сейчас вижу, как он расхаживает по раздевалке, напутствуя нас перед забегом: «Будьте там ТИГРАМИ!» (если кто тиграми себя не проявлял, таких он часто называл «гамбургерами»). Порой, когда мы жаловались на скудный рацион перед соревнованиями, он рычал в ответ: «Тигр охотится лучше, когда голоден».
Если повезет, думал я, тренер закажет несколько пар беговых «Тайгеров» для своих тигров.
Впрочем, разместит он заказ или нет, достаточно будет произвести на Бауэрмана впечатление. Одно это будет означать успех для моей неокрепшей компании.
Возможно, что все, чем я занимался в те дни, было мотивировано каким-то глубоким и страстным желанием произвести впечатление на Бауэрмана, сделать ему приятное. Помимо отца, не было другого человека, от которого я жаждал бы одобрения с большей силой, и помимо отца, не было никого, кто давал бы одобрение реже, чем он. Бережливость пронизывала все существо тренера. Он взвешивал и берег слова похвалы так, как взвешивают и берегут необработанные алмазы.
После того как вы выиграли забег, если вам повезло, то Бауэрман мог бы сказать: «Хороший был забег» (на самом деле именно это сказал он одному из своих бегунов на милю после того, как тот стал одним из первых, кто в Соединенных Штатах преодолел мифический рубеж и преодолел дистанцию быстрее, чем за четыре минуты). Но чаще Бауэрман вообще ничего не говорил. Бывало, встанет перед тобой в своем твидовом блейзере и крысиной вязаной жилетке, в ковбойском галстуке, развевающемся на ветру, и видавшей виды бейсболке, надвинутой на лоб, и лишь кивнет разок. А может, будет стоять, уставившись на тебя. Ох уж эти глаза, голубые, как лед, от которых ничего не ускользало и в которых ничего нельзя было прочитать. Все обсуждали обалденно привлекательный внешний вид Бауэрмана, его короткую ретрострижку под ежик, то, как он держал спину, будто аршин проглотил, его подбородок, будто вырубленный топором, но что всегда поражало меня – это пристальный взгляд его ясных глаз фиолетово-голубого цвета.
Он поразил меня в первый же день. Я любил Бауэрмана с того самого момента, когда я пришел в Орегонский университет в августе 1955 года. И боялся его. И ни одно из этих изначальных чувств никогда не покидало меня, они навсегда остались и продолжали ощущаться в наших отношениях. Я никогда не переставал любить этого человека и так и не нашел способа, чтобы избавиться от старого страха. Иногда страх был меньше, иногда больше, иногда он пронзал меня до пят, до моих кроссовок, которые он, возможно, латал своими руками. Любовь и страх – те же бинарные эмоции управляли динамикой моих отношений с отцом. Иногда я задавался вопросом, случайно ли такое совпадение, что Бауэрман и мой отец – оба загадочные, с одинаково развитыми лидерскими качествами, оба непроницаемые – были названы одним именем – Биллом.
И все же эти два человека были влекомы различными демонами. Мой отец, сын мясника, всю жизнь стремился к респектабельности, а Бауэрман, чей отец был губернатором штата Орегон, плевать хотел на нее. Он был также внуком легендарных пионеров, мужчин и женщин, прошедших всю Орегонскую тропу от начала до конца (путь переселенцев на Дикий Запад длиной в три тысячи километров. – Прим. пер.). Когда они закончили свой переход, то основали небольшое поселение в Восточном Орегоне, назвав его Фоссил (по-русски – «Окаменелость». – Прим. пер.). Детство Бауэрман провел в этом городке и, не устояв перед навязчивым стремлением, вновь туда вернулся. Часть его сознания всегда оставалась в Фоссиле, что было забавно, потому что в Бауэрмане чувствовалось нечто окаменелое, как ископаемое. Жесткое, коричневатое, древнее. Он был носителем доисторического штамма мужественности, сплав твердого характера и целостности личности и твердого как камень упрямства, что в Америке времен президентства Линдона Джонсона было редкостью. Сегодня все это вымерло.
Он был также героем войны. Разумеется. Будучи майором 10-й горной дивизии, дислоцированной высоко в Итальянских Альпах, Бауэрман стрелял в солдат, а те много стреляли в ответ (его аура была настолько пугающей, что я не помню, чтобы кто-нибудь хоть раз осмелился спросить его, случалось ли ему убивать). На тот случай, если у кого-то появится соблазн затронуть тему о войне и 10-й горной дивизии, а также о той центральной роли, которую и то и другое сыграло в его психике, Бауэрман всегда носил при себе потертый кожаный портфель с выгравированной золотом римской цифрой «Х».
Самый знаменитый тренер по бегу в Америке, Бауэрман никогда не считал себя тренером по бегу. Он терпеть не мог, когда его называли тренером. С учетом его биографии, склада характера он, естественно, считал, что беговая дорожка – это средство для достижения цели. Сам себя он называл «профессором конкурентоспособного реагирования», а его работа, как он ее сам видел и часто давал ей определение, заключалась в том, чтобы подготовить вас к предстоящим сражениям и соревнованиям, ожидающим вас далеко за пределами штата Орегон.
Несмотря на такую высокую миссию, а возможно, как раз поэтому, условия, созданные при Орегонском университете, были спартанскими. Насквозь сырые деревянные стены, личные шкафы, которые десятилетиями не красили. Дверцы у них отсутствовали, ваши вещи отделялись от вещей соседа фанерными стенками. Вещи мы вешали на гвозди. Ржавые. Иногда бегали без носков. Нам и в голову не приходило жаловаться. Мы видели в своем тренере генерала, которому готовы были быстро и слепо подчиняться. В моем представлении он был Паттоном с секундомером.
Я имею в виду, когда он еще не стал богом.
Как и все древние боги, Бауэрман жил на горной вершине. Там, в вышине, раскинулось его величественное ранчо, намного выше того места, где был университетский городок. И когда он отдыхал от дел на своем частном Олимпе, он мог быть таким же мстительным, как боги. Одна история, рассказанная мне моим товарищем по команде, убедительно подтвердила этот факт.
По всей видимости, жил там водитель грузовика, который часто осмеливался нарушать покой на горе Бауэрмана. Он слишком на большой скорости делал повороты и часто сбивал уличный почтовый ящик Бауэрмана. Бауэрман ругал водителя, угрожал расквасить ему нос и тому подобное, но тому хоть бы что. Продолжал водить так, как ему нравилось, и так продолжалось день за днем. Тогда Бауэрман заложил в почтовый ящик взрывчатку. В следующий раз, когда водила сбил его, – шарахнуло. После того как дым рассеялся, владелец грузовика увидел, что машину разорвало на куски, а покрышки превратились в лоскуты. Больше он ни разу не задевал почтовый ящик Бауэрмана.
Такой вот человек – не хотелось бы оказаться его противником. Особенно если вы были неуклюжим бегуном на средние дистанции из пригорода Портленда. Я всегда ходил на цыпочках вокруг Бауэрмана. И даже в этом случае он часто терял со мной терпение, хотя я помню лишь один случай, когда он действительно обозлился.
Я был второкурсником, изможденным своим учебным расписанием. Все утро проводил в классе, весь день – на практических занятиях, а ночью корпел над домашними заданиями. Однажды, опасаясь, что заболеваю гриппом, я остановился по дороге на учебу в офисе Бауэрмана, чтобы сказать, что я не смогу прийти днем на тренировку. «Угу-гу, – произнес он. – А кто тренер в этой команде?»
«Вы».
«Ну, тогда, как тренер этой команды, говорю тебе, чтобы ты сваливал оттуда, черт побери. И кстати… у тебя сегодня намечен контрольный забег на время».
Я готов был расплакаться. Но я собрался, сконцентрировал все эмоции на забеге и показал лучшее время за год. Покидая беговую дорожку, я сердито взглянул на Бауэрмана. Ну что, рад теперь, с… ты сын? Он встретил мой взгляд, проверил секундомер, вновь посмотрел на меня и кивнул. Он проверил меня. Он сломал меня, а потом заново собрал, прямо как пару кроссовок. И я выдержал. Потом я стал по-настоящему одним из его орегонских парней. С тех пор я стал тигром.
ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАКОВА НАША ЦЕЛЬ? ПОБЕДА – ПОБЕДА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, ПОБЕДА, НЕ СМОТРЯ НА ВСЕ УЖАСЫ… БЕЗ ПОБЕДЫ МЫ НЕ ВЫЖИВЕМ.
Ответ от Бауэрмана я услышал тотчас. Он написал, что приезжает в Портленд на следующей неделе на орегонские соревнования по легкой атлетике в закрытом помещении. Он пригласил меня на обед в гостинице «Метрополитен», где разместится команда.
25 января 1964 года. Я ужасно нервничал, когда официантка проводила нас к столу. Помню, Бауэрман заказал гамбургер, а я хрипло выдавил: «И мне тоже».
Несколько минут мы потратили на то, чтобы рассказать, что произошло за последнее время. Я сообщил Бауэрману о своей поездке вокруг света. Кобе, Иордания, храм Ники. Бауэрману было особенно интересно услышать о том, как я провел время в Италии, которую он, несмотря на то, что он там был на волосок от смерти, вспоминал с теплым чувством.
Наконец он перешел к делу. «Эти японские кроссовки, – сказал он, – они довольно хороши. Как насчет того, чтобы ввести меня в сделку?» Я взглянул на него. Ввести? В сделку? Мне потребовалось некоторое время, чтобы переварить и понять, о чем он говорил. Он не только хотел купить дюжину кроссовок «Тайгер» для своей команды, он хотел стать моим партнером? Даже если бы ветер донес до меня глас Божий и Господь воспросил, может ли Он стать моим партнером, я бы так сильно не удивился. Я запнулся, а потом, заикаясь, ответил, что согласен.
Я протянул руку. А затем убрал ее. «Какое партнерство имеете вы в виду?» – спросил я.
Я дерзко осмелился вести переговоры с Богом. Я поразился собственной выдержке. Бауэрман тоже. Он выглядел смущенным. «Пятьдесят на пятьдесят», – предложил он.
«Ну, тогда вам придется внести половину требуемых денег».
«Разумеется».
«Я полагаю, первый заказ будет на тысячу долларов. Ваша половина – пятьсот».
«Я готов на это».
Когда официантка принесла нам чек за два гамбургера, мы оплатили его также пополам. Пятьдесят на пятьдесят.
Помню, что произошло это на следующий день, а может, спустя несколько дней или недель, хотя то, что указано в документах, противоречит моей памяти. Письма, дневники, ежедневники с записью намечаемых деловых встреч – все это убедительно свидетельствует о том, что такая встреча состоялась значительно позже. Но я помню то, что помню, и должна быть причина тому, почему я помню об этом именно так. И сейчас вижу, как покидая ресторан, Бауэрман надевает свою бейсболку, как подтягивает свой ковбойский галстук, и слышу, как он обращается ко мне: «Я хочу, чтобы ты встретился с моим юристом, Джоном Джакуа. Он поможет нам изложить все на бумаге».
Как бы там ни было – днями позже, неделями позже или годами, – встреча прошла таким вот образом.
Я подъехал к каменной крепости Бауэрмана и в который раз восхитился окружающей обстановкой. Уединенной. Мало кто смог пойти на то, чтобы поселиться там. Надо было проехать по Кобург-роуд до Маккензи-драйв, затем найти съезд на грунтовку, извилистую проселочную дорогу, которая через пару миль углублялась в лес. В конце концов вы попадали на широкую поляну с розанами, отдельно стоящими деревьями и симпатичным усадебным домом, небольшим, с каменным фасадом. Бауэрман построил его своими голыми руками. Ставя свой «Валиант» на парковочное место, я задавался вопросом, каким образом, ради всего святого, удалось ему выдюжить такой непосильный труд в одиночку. Тот, кто передвигает горы, сначала убирает маленькие камешки.
Дом опоясывала широкая деревянная веранда, на которой расположились несколько шезлонгов, – все это также было сделано им. С веранды открывался захватывающий вид на реку Маккензи, и меня не пришлось бы долго убеждать, чтобы я поверил, будто и реку одел в берега тот же Бауэрман.
Теперь я увидел Бауэрмана, вышедшего на крыльцо. Прищурившись, он спустился по ступенькам и направился к моей машине. Не помню, о каких пустяках мы говорили, пока он усаживался на сиденье. Я ударил по газам, и мы направились к дому его юриста.
Помимо того что Джакуа был юристом и лучшим другом Бауэрмана, он еще был и его соседом. Он владел земельным участком в полторы тысячи акров у подножья горы Бауэрмана, лучшими пойменными землями на берегах Маккензи. Ведя машину, я задавался вопросом и не мог себе представить, как можно ждать чего-то хорошего от предстоящего знакомства. С Бауэрманом я хорошо ладил, это точно, и мы заключили сделку друг с другом, но юристы всегда все портили. Юристы специализируются на том, чтобы все портить, заваривая кашу. А юристы из числа лучших друзей?..
Бауэрман тем временем не делал ничего, чтобы успокоить меня. Он сидел вытянувшись, будто аршин проглотил, и любовался видами из окна.
Продолжая ехать в этой обстановке оглушающего молчания, я не сводил глаз с дороги, размышляя об эксцентричной личности Бауэрмана, которая оставляла отпечаток на всем, чем он занимался. Он всегда шел против ветра. Всегда. Например, он был первым университетским тренером в Америке, сделавшим упор на отдыхе, придавая такое большое значение восстановлению сил, как и самой работе. Но когда он тебя понуждал что-то делать, то, парень, передышки от него не жди. Стратегия Бауэрмана относительно бега на милю была простой. Набрать быстрый темп на первых двух кругах, третий круг пробежать что есть сил, а затем утроить скорость на четвертом. В его стратегии было что-то от идеологии дзен, потому что стратегия эта была невыполнимой. И тем не менее она срабатывала. Бауэрман, как тренер, воспитал больше бегунов, сумевших пробежать милю быстрее, чем за четыре минуты, чем кто-то еще. Когда-либо. Я, однако, не стал одним из таких бегунов и в тот день спрашивал себя, не случится ли и на этот раз так, что я вновь не дотяну на этом решающем последнем круге.
Мы застали Джакуа ожидающим нас на крыльце дома. Я и раньше виделся с ним раза два на состязаниях по легкой атлетике, но мне никогда не удавалось хорошенько разглядеть его. Хотя он и носил очки, и приближался к среднему возрасту, его вид не вязался с моим представлением о юристе. Он выглядел слишком крепким, слишком хорошо скроенным. Позднее я узнал, что, учась в средней школе, он был звездой-тейлбеком (игроком, замыкавшим линию нападения, в американском футболе. – Прим. пер.) и одним из лучших бегунов на стометровке в колледже Помона. В нем по-прежнему были заметны признаки спортивной силы, и она сразу проявилась в его рукопожатии.
«Бакару, – обратился он ко мне, хватая за рукав и увлекая в гостиную, – утром я собирался надеть твои кроссовки, но вляпался ими в коровью лепешку!»
День был типичным для января в Орегоне. Помимо того что хлестал дождь, буквально все было пронизано промозглой сыростью. Мы расположились в креслах вокруг камина Джакуа, самого большого из всех виденных мною, настолько большого, что в нем можно было бы зажарить лося. Ревущие языки пламени охватывали несколько поленьев, каждый размером с пожарный гидрант. Из боковой двери показалась жена Джакуа, неся поднос с кружками горячего шоколада. Она спросила меня, не хочу ли я взбитых сливок или зефира. Спасибо, мэм, ни того, ни другого. Мой голос прозвучал на две октавы выше обычного. Она склонила голову набок и с жалостью посмотрела на меня. Парень, они собираются с тебя живого кожу содрать.
Джакуа сделал глоток, вытер сливки с губ и приступил. Недолго говорил об орегонском стадионе, где проходили забеги, и о Бауэрмане. На нем были грязные синие джинсы и мятая фланелевая рубашка, и я не мог не подумать, как сильно он отличается от моего представления о том, каким должен быть юрист.
Далее Джакуа признался, что никогда не видел Бауэрмана настолько поглощенным идеей. Мне понравилось такое заявление. «Но, – добавил он, – пятьдесят на пятьдесят не совсем то, что хотелось бы тренеру. Он не желает быть за все ответственным и не хочет, чтобы однажды пришлось бодаться с тобой. Никогда. Как насчет того, чтобы поделить доли пятьдесят один на сорок девять? И передать тебе оперативный контроль?»
Всей своей манерой поведения он хотел показать, что желает помочь, сделать так, чтобы ситуация принесла победу каждому. Я доверял ему.
«Меня это устраивает, – сказал я. – Это… всё?»
Он кивнул. «Договорились?» – спросил он. «Договорились», – ответил я. Мы все пожали друг другу руки, подписали бумаги, и с этого момента я был официально в партнерстве, имеющем обязательную юридическую силу, со Всемогущим Бауэрманом. Миссис Джакуа спросила, не хотел бы я еще горячего шоколада. Да, мэм, пожалуйста. И не осталось ли у вас зефира?
Позже в тот же день я написал письмо в «Оницуку», спрашивая, мог бы я стать эксклюзивным дистрибьютором кроссовок «Тайгер» в западных штатах США, после чего запросил выслать мне триста пар кроссовок как можно скорее. При стоимости 3,33 доллара за пару заказ вылился приблизительно в 1000 долларов. Даже с взносом Бауэрмана требуемая сумма была больше, чем то, чем я располагал. И вновь я решил пообщаться с отцом, но на этот раз он заартачился. Он был не против помочь мне стартовать, но не хотел, чтобы я обращался к нему за помощью из года в год. Кроме того, он полагал, что моя обувная затея – журавль в небе. Не для того он посылал меня учиться в Орегонский университет и Стэнфорд, чтобы я потом стал бродячим торговцем ботинок. Валять дурака, – вот как он назвал это. «Бак, – обратился он ко мне, – как долго ты еще намерен валять дурака с этими кроссовками?»
Я пожал плечами: «Не знаю, пап».
Он посмотрел на мать. Как обычно, она ничего не произнесла. Она просто слегка улыбнулась своей красивой улыбкой. Было ясно, что свою застенчивость я унаследовал от нее. Я также часто хотел, чтобы и внешность моя была похожа на мамину.
В первый раз, когда отец положил глаз на маму, ему показалось, что она манекен. Он проходил мимо единственного универмага в Розберге и тут заметил ее, стоящую в витрине и демонстрирующую вечернее платье. Осознав, что она была из плоти и крови, он немедленно отправился домой и упросил сестру выяснить, как зовут эту сногсшибательную девушку в витрине. Сестра выяснила. Это Лота Хэтфильд, сообщила она.
Спустя восемь месяцев отец сделал ее Лотой Найт.
В то время отец готовился стать признанным юристом, чтобы покончить со страшной бедностью, которой характеризовалось его детство. Ему было двадцать восемь. Мама, которой едва исполнился двадцать один год, выросла еще в более бедной семье (ее отец был железнодорожным проводником). Бедность была одной из черт, общих для обоих.
Во многом они были классическим случаем, когда противоположности сходятся. Моя мама, высокая, ошеломляюще красивая, любительница бывать на открытом воздухе, всегда была в поиске таких мест, где она могла бы вернуть себе часть утраченного внутреннего спокойствия. Отец же маленький, заурядной внешности, носивший толстые очки без оправы, чтобы исправить зрение, острота которого выражалась дробью Снеллина 20/450 (по российской системе – близорукость минус 5. – Прим. пер.), и ежедневно отдававший все свои силы на изнурительную борьбу по преодолению своего прошлого, чтобы стать респектабельным в основном благодаря учебе и тяжкому труду. Заняв среди выпускников юридической школы второе место, он неустанно выражал сожаление в связи с тем, что в его выписке из зачетно-экзаменационной ведомости была проставлена единственная оценка «С» (соответствует нашей тройке. – Прим. пер.). (Он полагал, что профессор таким образом наказал его за политические убеждения.)
Когда их диаметрально противоположные натуры порождали проблемы, мои родители занимали единственную спасительную позицию, приверженцами которой они были в одинаковой степени, – заключалась она в вере, что семья всегда стоит на первом месте. Когда такой консенсус не срабатывал, наступали тяжелые дни. И ночи. Отец начинал пить. Мать обращалась в камень.
Ее наружность, однако, могла быть обманчивой. Что было опасно. Люди выносили суждение по ее молчанию, что она кроткая, и часто ей удавалось разительным образом напоминать им, что кроткой она не была. Например, было время, когда отец отказался сократить потребление соли, несмотря на предупреждение врачей, вызванное повышением его кровяного давления. Мама просто заполнила все солонки в доме порошковым молоком. Еще был случай, когда мы с сестрами устроили перебранку, с криками требуя обеда, несмотря на ее призывы успокоиться. Мама неожиданно издала дикий вопль и запустила бутербродом с яйцом и салатом в стену, после чего вышла из дома, пересекла лужайку и исчезла. Никогда не забуду, как яичные ошметки с салатом медленно соскальзывали со стены, в то время как мелькавший вдали мамин сарафан будто растворился между деревьями.
Возможно, ничто не раскрывало истинную натуру моей матери лучше, чем частые учения, которые она устраивала для меня. Девочкой она оказалась свидетельницей того, как в той округе, где она жила, однажды дотла сгорел дом; один из жильцов не смог выбраться и погиб. Поэтому она часто привязывала к каркасу моей кровати веревку и заставляла меня спускаться по ней со второго этажа. И засекала время. Что могли подумать соседи? А о чем должен был думать я? Возможно, об этом: жизнь – опасная штука. И об этом: мы всегда должны быть готовы.
Ну, и об этом тоже: мама любит меня.
Когда мне было двенадцать, Лес Стирс переехал в дом напротив нашего, через улицу, по соседству с домом, где жил мой лучший друг Джэки Эмори. Однажды мистер Стирс устроил на заднем дворе Джэки площадку для прыжков в высоту, и мы с Джэки соревновались, не уступая друг другу. Каждый из нас достиг предела в четыре фута и шесть дюймов (~ 1 м 37 см. – Прим. пер.). «Возможно, один из вас однажды побьет мировой рекорд», – говорил нам мистер Стирс. (Позже я узнал, что мировой рекорд в то время – шесть футов и 11 дюймов (2 м 11 см. – Прим. пер.) – принадлежал мистеру Стирсу.)
Будто из ниоткуда появилась мама (на ней были садовые слаксы и летняя блузка). Охо-хо, подумал я, мы в беде. Она окинула взглядом всю сцену, посмотрела на меня с Джэки. Потом на мистера Стирса. «Поднимите планку повыше», – попросила она.
Она скинула туфли, провела носком черту по земле, рванула вперед и с легкостью преодолела 5 футов (152, 4 см. – Прим. пер.). Не знаю, любил ли я ее больше, чем в тот момент. Тогда я подумал: она крутая. Вскоре после этого я пришел к выводу, что она еще и скрытая почитательница спортивного бега.
Это произошло, когда я учился на втором курсе. У меня появился болезненный нарост на подошве ноги. Ортопед порекомендовал хирургическое вмешательство, что означало, что я потеряю целый сезон занятий и соревнований по бегу. У мамы было два слова, которыми она ответила врачу: «Не приемлемо». Она промаршировала до аптеки и купила там флакон с лекарством для удаления наростов и каждый день после этого смазывала мне ногу. Затем, через каждые две недели, она брала разделочный нож и срезала им часть нароста, уменьшая его, пока он совсем не пропал. Той весной я показал в беге лучшие результаты в моей жизни.
Так что я не слишком удивился очередному демаршу мамы, когда отец обвинил меня в дуракавалянии. Как бы вскользь она открыла свой кошелек и достала семь долларов. «Я хотела бы приобрести пару кроссовок Limber Up, пожалуйста», – сказала она достаточно громко, чтобы отец услышал.
Было ли это способом, которым мама пыталась уколоть отца? Или демонстрацией лояльности к ее единственному сыну? Или же подтверждением ее любви к легкой атлетике? Не знаю. Да и неважно. Во мне всегда возникало такое трогательное чувство, когда я видел, как она стоит у плиты, у раковины на кухне, во время готовки или мытья посуды в японских кроссовках для бега шестого размера (соответствует размеру 35 в России. – Прим. пер.).
Возможно, не желая осложнений в отношениях с мамой, отец одолжил мне тысячу баксов. На этот раз кроссовки прибыли сразу же.
Апрель 1964 года. Я арендовал грузовичок, приехал на нем на склад, и таможенный чиновник передал мне десять огромных картонных коробок. Я снова, не мешкая, поехал домой, спустил коробки в подвал и раскрыл их там. В каждой было по 30 пар кроссовок «Тайгер», и каждая пара завернута в целлофан (обувные коробки стоили слишком дорого). В считаные минуты подвал был заполнен кроссовками. Я любовался ими, играл с ними, катался на них, после чего убрал их с дороги, аккуратно расставив вокруг печи и под столом для пинг-понга, как можно дальше от стиральной машины и сушилки, чтобы не мешать маме, если ей надо будет заняться стиркой. И наконец, сам примерил пару кроссовок. Я сделал несколько кругов по подвальному помещению. Я прыгал от радости.
Через несколько дней пришло письмо от г-на Миязаки. Да, отвечал он, вы можете быть дистрибьютором продукции «Оницуки» на Западе. Это было все, что мне было надо. К ужасу отца и подпольной радости мамы, я бросил работу в бухгалтерской фирме и в той весной больше ничем не занимался, а лишь продавал кроссовки из багажника своего «Валианта».
Моя стратегия продаж была простой и, как я думал, почти гениальной. После того как мне дали от ворот поворот в двух магазинах спортивных товаров («Малыш, миру не нужна еще одна пара трековых кроссовок!»), я объехал весь северо-запад Тихоокеанского побережья, побывав на различных легкоатлетических соревнованиях. Между забегами я разговаривал с тренерами, бегунами, болельщиками, показывая им свой товар. Реакция всегда была одна и та же. Я не поспевал записывать заказы.
Возвращаясь в Портленд, я ломал голову над загадкой моего внезапного успеха в продажах. Я был не способен продавать энциклопедии и презирал это занятие настолько, что готов был ногой их расшвырять. С продажей акций взаимных фондов дело у меня обстояло немного лучше, но внутри я чувствовал себя одеревенелым. Так почему тогда продажа обуви стала иной? Потому что, осознал я, это была не продажа. Я верил в занятие бегом. Я верил, что, если люди будут выходить из дома и пробегать каждый день по несколько миль, мир станет лучше, и я верил, что в моих кроссовках бегать лучше. Люди, чувствуя мою веру, хотели приобрести ее часть для себя. Вера, решил я. Вера непреодолима.
Иногда люди так сильно желали заполучить мои кроссовки, что писали мне или звонили, говоря, что узнали о новых моделях «Тайгер» и что им просто необходимо приобрести пару, так что, пожалуйста, не могли бы вы выслать их наложенным платежом? Так, без каких-либо усилий с моей стороны, родился мой бизнес, основанный на почтовых заказах.
Иногда же люди просто приходили в дом моих родителей. Почти каждую ночь раздавался звонок в дверь, и отец, ворча, вставал со своего винилового кресла, выключал телевизор и шел узнавать, кого там принесло. А там, на пороге, мог стоять худющий мальчишка, у которого странным образом были развиты мускулистые ноги. У него были бегающие глаза, и весь он дергался, как наркоман, ищущий дозу. «Бак дома?» – спрашивал малец. Отец обычно кричал мне через кухню, чтобы я услышал, сидя в своей комнате. Я выходил, приглашал парня в дом, предлагал сесть на диван, после чего вставал на колени и снимал мерку с его ноги. Отец, засунув руки глубоко в карманы, не веря своим глазам, наблюдал за всей операцией.
Большинство тех, кто приходил к нам домой, находили меня по сарафанному радио. Друзья друзей. Но были и такие, кто находил меня благодаря моей первой попытке заняться рекламой – листовки, которые я сам разработал и отпечатал в местной типографии. Сверху крупным шрифтом было сказано: «Лучшие новости о беговой обуви! Япония бросает вызов европейскому доминированию в производстве обуви для соревнований по бегу!» Далее в рекламке говорилось: «Низкие затраты на оплату труда в Японии позволяют новой замечательной компании предложить вам эти кроссовки по невероятно низкой цене – 6,95 долларов». Внизу проспекта указывался мой адрес и номер телефона. Я облепил листовками весь Портленд.
4 июля 1964 года я распродал свою первую партию. Я написал японцам и заказал еще девятьсот пар. Эта партия обошлась бы, грубо ориентировочно, в три тысячи долларов, что начисто съело бы всю мелкую наличность у отца, а также его терпение. Отцовский банк, сказал он, с этого дня закрыт. Впрочем, он дал мне гарантийное письмо, которое я отнес в Первый Национальный банк штата Орегон. На основании репутации моего отца, и ни на чем более, банк согласился выдать мне кредит. Хваленая репутация отца наконец-то стала приносить дивиденды, по крайней мере мне.
У меня был маститый партнер, я был законно представлен в банке, и у меня была продукция, которая сама себя продавала. Я был на коне.
На самом деле обувь продавалась настолько хорошо, что я решил нанять еще одного торговца.
Проблема была в том, как выбраться в Калифорнию. Лететь самолетом я себе позволить не мог по деньгам. А ехать туда на машине у меня не было времени. Поэтому каждый второй уик-энд я набивал свой вещмешок кроссовками «Тайгер», надевал свою идеально отутюженную военную форму и направлялся на местную авиабазу. Увидев меня в униформе, военные полицейские взмахом руки показывали мне на транспортник ВВС, отправлявшийся в очередной рейс в Сан-Франциско или Лос-Анджелес, не задавая лишних вопросов. Отправляясь в Лос-Анджелес, я экономил еще больше, толкая товар на пару с Чаком Кейлом, своим другом по Стэнфорду. Хорошим другом. Когда я делал презентацию своего реферата о беговой обуви по курсу предпринимательства, Кейл пришел, чтобы оказать мне моральную поддержку.
В один из таких субботних дней в Лос-Анджелесе я пришел на соревнования, организованные в Оксидентал-колледж. Как всегда, я стоял на краю травяного поля, позволяя своим кроссовкам самим творить чудо. Проходивший мимо парень неожиданно притормозил и протянул руку. В глазах искорки, красивое лицо. На самом деле очень красивое, хотя и с грустным выражением. Несмотря на напускное спокойствие, было что-то печальное, чуть ли не трагическое в его глазах. А также что-то смутно знакомое. «Фил», – обратился он ко мне. «Да?» – спросил я в ответ. «Джефф Джонсон», – представился он.
Ну, конечно! Джонсон. Я знал его по Стэнфорду. Он был бегуном, показывал довольно приличные результаты на дистанции в одну милю, и мы соревновались друг с другом на нескольких открытых университетских соревнованиях. А иногда он принимал участие в пробежках со мной и Кейлом, а затем шел с нами перекусить. «Хэйя, Джефф, – ответил я, – чем сейчас занят?» – «В аспирантуре, – ответил он, – антропологию штудирую». В планах было стать социальным работником. «Да ты что!» – удивился я, округляя глаза. Джонсон совсем не походил на социального работника. Я не мог представить, как он консультирует наркоманов и размещает детей-сирот по приютам. Не походил он и на антрополога. Представить не мог, как болтает с каннибалами в Новой Гвинее или же ковыряется с кисточкой в местах древних поселений индейцев анасази, просеивая козий навоз в поисках черепков.
Но это, по его словам, были его мытарствами лишь в дневное время. По выходным он, следуя зову сердца, занимался продажей обуви. «Не может быть!» – вскричал я.
«Адидас», – сказал он. «Да пошел он, этот «Адидас», – сказал я, – ты должен работать на меня, помогать мне продавать эти новые японские кроссовки».
Я дал ему подержать в руках гладкие марафонки «Тайгер», рассказал ему о своей поездке в Японию, о встрече в компании «Оницука». Он согнул марафонку, внимательно осмотрел подошву. «Довольно клевая», сказал он. Он был заинтригован, но – нет. «Я собираюсь жениться, – сообщил он. – Не уверен, что смогу сейчас взять на себя новое предприятие».
Близко к сердцу его отказ я не принял. За многие месяцы я впервые услышал слово «нет».
Жизнь была прекрасна. Жизнь была грандиозна. Я даже завел своего рода подругу, хотя на нее у меня не оставалось много времени. Я был счастлив, счастлив по-настоящему, возможно, как никогда в жизни, но счастье может быть опасным. Оно притупляет чувства. Таким образом, я не был готов к получению того ужасного письма.
Оно было от тренера по борьбе в средней школе – в каком-то богом забытом городке на востоке страны, небольшом городке на Лонг-Айленде под названием не то Массапекуа, не то Манхассет. Я дважды прочитал его, прежде чем понял, о чем оно. Тренер утверждал, что он только что вернулся из Японии, где провел встречу с руководителями компании «Оницука», которые благословили его стать эксклюзивным американским дистрибьютором. Поскольку он прознал, что я продаю обувь с маркой «Тайгер», то считает, что я занимаюсь браконьерством, и требует – приказывает мне! – прекратить это.
Чувствуя, как колотится мое сердце, я позвонил своему кузену, Дугу Хаузеру. Он закончил Стэнфордскую юридическую школу и теперь работал в солидной фирме в городе. Я попросил его разобраться с этим мистером из Манхассета, выяснить все, что можно, а затем написать этому типу письмо, чтобы отцепился. «Сказав что, если конкретно?» – спросил кузен Хаузер. «Что в случае любой попытки вмешательства в дела «Блю Риббон» будут незамедлительно приняты ответные юридические меры», – ответил я.
Моему «бизнесу» было два месяца от роду, и я уже был втянут в юридическую битву? Так мне и надо за смелость назвать себя счастливым.
Вслед за этим я сел и накатал отчаянное письмо в «Оницуку».
Уважаемые господа, я был весьма огорчен, получив сегодня утром письмо от человека, проживающего в Манхассете, штат Нью-Йорк, который утверждает.
Я ждал ответа.
Ждал.
Потом написал вновь.
Нани мо.
Ничего.
Кузен Хаузер раскопал, что мистер из Манхассет был чем-то вроде знаменитости. До того как стать школьным тренером по борьбе, он был натурщиком – одним из тех моделей, которые воплощали образ настоящего Человека Мальборо. Прекрасно, подумал я. Как раз то, что мне надо. Состязание с каким-то мифическим американским ковбоем в том, кто дальше струю пошлет.
Я впал в глубокую депрессию. Я стал таким брюзгой, таким никудышным человеком, чтобы водить со мною знакомство, что меня и подруга оставила. Каждый вечер я сидел с семьей за ужином, ковыряясь вилкой в тушеном мясе с овощами, приготовленными мамой. Затем усаживался с отцом в телевизионном уголке, хмуро уставившись в экран. «Бак, – сказал отец, – ты похож на человека, которого огрели дубиной по затылку. Давай завязывай».
Но я не мог. Вновь и вновь я возвращался в мыслях к моей встрече в компании «Оницука». Управляющие компанией продемонстрировали такое кей, такое уважение ко мне. Они кланялись мне, а я им. Я был с ними откровенен, честен – ну, по большей части. Конечно, «технически» я не был владельцем «бизнеса» под названием «Блю Риббон», но это уже казуистика. Теперь он у меня был, и этот бизнес в одиночку вывел бренд «Тайгер» на Западное побережье США. Он мог бы продавать кроссовки «Тайгер» в десять раз быстрее, если бы «Оницука» дала мне малейший шанс. Вместо этого компания собиралась отсечь меня? Выбросить в пользу этого гребаного «ковбоя Мальборо»?
Приди туда, где ощутим тот вкус.
Ближе к концу лета я все еще не получил ответа от «Оницуки» и уже готов был отказаться от идеи продавать обувь. Но в День труда, однако, я изменил свои намерения. Я не мог сдаться. Пока еще не мог. А в таком случае это значило, что я лечу обратно в Японию. Мне надо было заставить «Оницуку» раскрыть карты и разобраться с ситуацией.
Я обсудил эту идею с отцом. Ему по-прежнему не нравилось мое дуракаваляние с продажей обуви. Но еще больше ему было не по нутру, когда кто-то плохо обращался с его сыном. Он нахмурил брови. «Возможно, тебе стоит поехать», – сказал он.
Переговорил я об этом и с мамой. «Никаких «возможно» здесь быть не может», – отрезала она.
И именно она подвезла меня до аэропорта.
Пятьдесят лет спустя я все еще вижу, как мы направляемся туда в машине. Помню каждую мелочь. Был солнечный, безоблачный день, влажности не ощущалось, температура чуть выше восьмидесяти (по Фаренгейту. По Цельсию – около 28 градусов. – Прим. пер.). Оба сидим, молча наблюдая за игрой солнечных лучей на ветровом стекле. Наше молчание было таким же, каким оно было много раз, когда она отвозила меня на соревнования. Я был слишком занят, пытаясь справиться с нервами, чтобы вести разговор, а она понимала это лучше кого бы то ни было. Она уважала те границы, которые мы очерчивали вокруг себя в кризисные моменты.
Подъезжая к аэропорту, она нарушила молчание. «Просто будь самим собой», – сказала она.
Я выглянул в окно. Быть самим собой. На самом деле? Это что, лучший вариант для меня?
Изучать себя – значит забыть себя.
Я оглядел себя. Одет я был уж точно не так, как если бы я был самим собой. На мне был новый костюм, приличного случаю темно-серого цвета, в руке – небольшой чемодан. В боковом кармане – новая книжка: «Как делать бизнес с японцами». Богу известно, как и где я услышал о ней. Поморщившись, вспоминаю еще одну, последнюю деталь своего гардероба: на мне был черный котелок. Я купил его специально для этой поездки, полагая, что в нем я буду выглядеть старше. На самом деле в нем я казался безумцем. Совсем рехнувшимся. Будто сбежавшим из психушки викторианских времен, прямо типаж с картины Рене Магритта.
СОРЕВНОВАНИЯ – ЭТО ИСКУССТВО ЗАБЫВАТЬ О СОМНЕНИЯХ, БОЛИ, ПРОШЛОМ И ПРЕДЕЛАХ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
Я провел бо́льшую часть полета, запоминая, как делать бизнес с японцами. Когда мои глаза устали, я закрыл книгу и уставился в окно. Я пытался поговорить сам с собой, потренировать себя. Я говорил себе, что мне необходимо отмести в сторону чувства обиды, выбросить из головы все мысли о несправедливости, которые лишь вызовут у меня эмоциональный всплеск и помешают ясно думать. Эмоциональность была бы фатальной. Мне надо было оставаться хладнокровным.
Я вспоминал о своей карьере бегуна во время учебы в Орегонском университете. Я бегал вместе с одними и соперничал с другими спортсменами, которые были намного лучше меня, быстрее, физически более одаренными. Многие потом стали олимпийцами. И тем не менее я приучил себя забывать об этом невеселом факте. Люди рефлекторно полагают, что соревнование – всегда хорошая вещь, что на соревнованиях всегда выявляется то лучшее, что есть в людях, но это справедливо в отношении лишь тех, кто способен забыть о соревновании. Искусство соревнования, как я усвоил на беговой дорожке, – это искусство забывать, и теперь я напомнил себе об этом выводе. Ты должен забыть о пределах своих возможностей. Ты должен забыть свои сомнения, свою боль, свое прошлое. Ты должен забыть тот внутренний голос, который вопит, умоляет: «Больше ни шагу!» А когда невозможно об этом забыть, ты должен с этим как-то договориться. Я оживил в памяти все забеги, во время которых мое сознание хотело одно, а тело – другое, вспомнил, как, наматывая круги, я говорил своему телу: «Да, ты затрагиваешь некоторые важные моменты, но все же давай продолжим бег…»
Несмотря на весь мой опыт ведения переговоров со своим внутренним голосом, у меня никогда не получалось делать это естественно, и теперь я опасался, что растерял навык, поскольку давно не упражнялся. Во время захода самолета на посадку в аэропорту Ханеда я сказал себе, что мне придется либо немедленно реанимировать свой прежний навык, либо потерпеть поражение.
Я не мог вынести мысли о проигрыше.
В Японии готовились к проведению Олимпийских игр 1964 года, поэтому я смог найти совершенно новую гостиницу в Кобе с разумными ценами – «Ньюпорт». Она находилась в центре города, ее особой достопримечательностью был вращающийся ресторан наверху. Точно таким же, что находится на верхушке башни «Космическая игла» в Сиэтле, – на меня вид японской башни подействовал успокаивающе, как легкая ностальгия. Перед тем как распаковать вещи, я позвонил в «Оницуку» и оставил сообщение. Я здесь и прошу меня принять.
После чего я уселся на край кровати и уставился на телефон. Наконец он зазвонил. Секретарша чопорно звучащим голосом сообщила мне, что мое контактное лицо в «Оницуке», г-н Миязаки, больше в компании не работает. Плохой признак. Заменивший его на посту г-н Моримото не хочет, чтобы я приходил в штаб-квартиру компании. Очень плохой знак. Вместо этого, продолжила она, г-н Моримото встретился бы со мной за чашкой чая во вращающемся ресторане моей гостиницы. Завтра утром.
Спать я лег рано, но спал, то и дело просыпаясь. Снились погони на автомобилях, тюрьма, дуэли – такие же кошмары, которые всегда терзали меня накануне больших соревнований, свидания или экзамена. Я встал на рассвете, съел завтрак из сырого яйца, разбитого поверх горячего риса, и приготовленной на гриле рыбы, запив все это зеленым чаем. Затем, освежая в памяти заученные отрывки из книги «Как делать бизнес с японцами», я побрил свои бледные скулы. Раз или два раза при этом порезался и с трудом остановил кровь. Ну и видок, должно быть, у меня был. Наконец, я надел костюм и побрел к лифту. Нажимая кнопку на верхний этаж, я заметил, что моя рука белее кости.
Моримото пришел вовремя. Возраст у него был почти такой же, как у меня, но выглядел он как более зрелый и более уверенный в себе человек. Одет он был в помятую спортивную куртку, да и лицо у него было какое-то помятое. Мы присели за столик у окна. Немедленно, еще до того, как к нам подошел официант, чтобы принять заказ, я пустился в бой, высказав все, о чем я поклялся не говорить. Я сказал Моримото, насколько я был огорчен посягательством этого «ковбоя Мальборо» на мою территорию. Я сказал, что у меня сложилось впечатление, что я установил личную связь с руководителями компании, с которыми встречался за год до этого, и это впечатление было усилено письмом от г-на Миязаки, подтвердившим, что тринадцать западных штатов были исключительно моей территорией. Поэтому я в затруднении, как объяснить такое отношение ко мне. Я взывал к чувству справедливости Моримото, к его чувству чести. Он выглядел смущенным, поэтому я перевел дыхание и сделал паузу. Затем перешел от личного к профессиональному. Я перечислил свои внушительные продажи. Я упомянул имя своего партнера, легендарного тренера, чья репутация известна даже на другой стороне Тихого океана. Я также подчеркнул все то, что я мог бы сделать для «Оницуки» в будущем, если мне дадут шанс.
Моримото отпил глоток чая. Когда стало ясно, что я выговорился, он поставил чашку и выглянул в окно. Мы медленно совершали круг над Кобе. «Я свяжусь с вами».
Еще одна бессонная ночь. Я просыпался несколько раз, подходил к окну, наблюдал за судами, подпрыгивавшими на темно-фиолетовых волнах залива, на берегу которого стоял Кобе. Красивое место, думал я. Очень жаль, что вся эта красота обходит меня стороной. Мир теряет красоту, когда ты проигрываешь, а я был близок к проигрышу. Крупному.
Я знал, что утром Моримото скажет мне, что ему жаль, ничего личного, просто бизнес, но они остаются с «ковбоем Мальборо».
В 9.00 утра зазвонил телефон у изголовья кровати. Моримото. «Г-н Оницука… лично… желает встретиться с вами», – произнес он.
Я надел костюм, взял такси до штаб-квартиры «Оницуки». В конференц-зале, знакомом конференц-зале, Моримото указал мне на кресло в середине стола. На этот раз в середине, не во главе стола. Больше никакого кей. Сам он сел напротив меня и вперил в меня свой взор, пока зал медленно заполнялся руководителями фирмы. Когда все собрались, Моримото кивнул мне. «Хай», – сказал он.
Я начал говорить, по существу, повторяя то, что я уже говорил ему накануне утром. Когда мой голос повысился до крещендо, когда я уже готовился закончить свое обращение, все головы повернулись в сторону входа, и я остановился на полуслове. Температура в помещении упала градусов на десять. Прибыл основатель компании – г-н Оницука.
Одетый в темно-синий итальянский костюм, с копной черных волос, густых, как ковер из грубого ворса, он объял ужасом каждого, кто находился в конференц-зале. Тем не менее он, казалось, не обратил на это никакого внимания. При всей своей власти, при всем своем богатстве его движения были учтивыми. Он вышел вперед, прихрамывая, шаркая ногами, не подавая никакого вида, что он был боссов всех боссов, сёгун обуви. Медленным шагом он обошел вокруг стола, на мгновение встречаясь взглядом с каждым директором компании. В конце концов он подошел ко мне. Мы раскланялись, пожали руки, после чего он занял свое место во главе стола, и Моримото попытался суммировать причину, почему я оказался здесь. Г-н Оницука поднял руку и оборвал его.
Без предисловий он пустился в длинный, страстный монолог. Когда-то, сказал он, у него было видение. Удивительная картина будущего. «Все жители планеты постоянно носят спортивную обувь, – сказал он. – Я знаю, этот день придет». Он сделал паузу, оглядывая сидящих за столом и переводя взгляд с одного человека на другого, чтобы убедиться, знают ли они об этом. Наконец его взгляд остановился на мне. Он улыбнулся. Я улыбнулся. Он дважды моргнул. «Ты напоминаешь мне меня самого, когда я был молод», – сказал он мягко. Он вглядывался в мои глаза. Секунду. Две. Потом повернулся и посмотрел на Моримото. «Это насчет тех тринадцати западных штатов?» – спросил он. «Да», – ответил Моримото. «Хм», – сказал Оницука. Он сузил глаза, посмотрел в пол. Казалось, он медитировал. Затем взглянул на меня. «Да, – сказал он, – хорошо. Западные штаты твои».
«Ковбой Мальборо», сказал он, может и далее продавать борцовки по всей стране, но свою торговлю кроссовками для бега он ограничит Восточным побережьем. Г-н Оницука лично напишет «ковбою Мальборо» и проинформирует его о своем решении.
Он встал. Встал и я. Встали все. Мы все поклонились. Он покинул конференц-зал.
Все, кто остался в нем, выдохнули. «Итак… решено», – произнес Моримото. «На один год, – добавил он. – Потом к этому вопросу вернемся».
Я поблагодарил г-на Моримото и заверил его, что компания «Оницука» не пожалеет, что она поверила в меня. Я обошел вокруг стола, пожимая каждому руку и кланяясь, а когда подошел к Моримото, то пожал ему руку с особой силой. Затем я вышел вслед за секретаршей в соседнюю комнату, где подписал несколько контрактов и разместил огромный заказ на кроссовки общей стоимостью тридцать пять тысяч долларов.
Я пробежал весь путь до своей гостиницы, причем с полпути – вприпрыжку, а потом и вовсе высоко подпрыгивая, как танцор. Я задержался у перил и оглядел залив. Теперь его красота уже не была для меня чем-то сторонним, чужим. Я любовался лодками, скользящими под парусами, гонимыми бодрящими порывами ветра, и решил, что найму одну такую для себя. Прокачусь по Внутреннему морю. Час спустя я стоял на носу лодки, ветер трепал мои волосы, я шел под парусом прямо на закат и был очень доволен собой.
На следующий день я сел в поезд, идущий в Токио. Наконец-то настало время подняться за облака.
Во всех путеводителях говорилось, что подниматься на гору Фудзи надо ночью. Кульминация правильного восхождения, говорилось в них, в том, чтобы увидеть восход солнца с вершины горы. Поэтому я прибыл к подножию горы точно, когда смеркалось. Днем было душно, но воздух становился прохладнее, и я сразу же пересмотрел свое прежнее решение о том, чтобы оставаться в бермудах, футболке и кроссовках «Тайгер». Я увидел человека, спускавшегося с горы в прорезиненном плаще. Я остановил его и предложил три доллара за его плащ. Он взглянул на меня, посмотрел на плащ и кивнул.
Мне удавалось вести успешные переговоры по всей Японии!
С наступлением ночи появлялись и начинали подъем в гору сотни местных жителей и туристов, образующих как бы восходящие людские потоки. У всех, как я заметил, были длинные бамбуковые посохи, на которых были закреплены и позванивали бубенчики. Я выбрал из толпы пожилую пару англичан и спросил их про посохи.
«Они отгоняют злых духов», – ответила женщина.
«А на горе есть злые духи?», – спросил я.
«Предположительно».
Я купил посох. Затем я заметил людей, столпившихся вокруг придорожного торговца. Люди покупали соломенные сандалии. Англичанка объяснила, что Фудзияма – активный вулкан, и его пепел и сажа гарантированно испортят ботинки. Поэтому те, кто поднимался в гору, надевали соломенные сандалии, так сказать, одноразового пользования.
Я купил сандалии.
Облегчив карман, но наконец-то должным образом экипированный, я пустился в путь. Существовало множество маршрутов, по которым можно было спуститься с горы Фудзи, но, согласно моему путеводителю, был лишь один путь наверх. Еще один жизненный урок, подумал я. В указателях, расставленных вдоль тропы наверх, на разных языках сообщалось, что до вершины нас ждут девять станций, на каждой из которых будут предложены еда и места для отдыха. Спустя два часа тем не менее я прошел мимо третьей станции уже несколько раз. Что, японцы считают по-другому? Встревоженный этой неожиданностью, я стал гадать, а что, если тринадцать западных штатов на самом деле означают три?
На седьмой станции я остановился и купил японское пиво и чашку лапши. Во время своего ужина я разговорился с еще одной парой. Это были американцы, моложе меня – студенты, предположил я. Одет он был стильно, но как-то нелепо. В слаксы для гольфа, тенниску, подпоясан тканевым ремнем – он отражал всю палитру пасхального яйца. Она выглядела чистым битником. Рваные джинсы, линялая футболка, дикая копна темных волос. Ее широко расставленные глаза были коричнево-черные. Как маленькие чашечки кофе эспрессо.
Оба вспотели от подъема. Они заметили, что я не взмок. Я пожал плечами и сказал, что занимался бегом в Орегонском университете. «Бегал на дистанцию в полмили». Парень нахмурился. Его подруга выдохнула: «Вау!» Мы прикончили свое пиво и вместе возобновили подъем.
Ее звали Сарой. Она была из штата Мэриленд. Край лошадей, сказала она. Богатый край, подумал я. С малых лет она ездила верхом, занималась конным спортом и проводила большую часть времени в седле и на конкурных полях. Она рассказывала о своих любимцах пони и лошадях, будто они были ее ближайшими друзьями.
Я спросил о ее семье. «У папы компания, выпускающая шоколадные батончики», – сказала она. Она назвала компанию, и я рассмеялся. Мне приходилось съедать массу батончиков ее семейного производства, иногда прямо перед забегом. Компанию основал ее дед, сообщила она, но тут же поспешила добавить, что у нее нет никакого интереса к деньгам.
Я заметил, что ее бойфренд вновь насупился.
Она изучала философию в женском колледже Коннектикута. «Не ахти какое заведение», – сказала извиняющимся тоном. Она хотела поступить в школу бизнеса Роберта Смита, в которой на четвертом курсе училась ее сестра, но не смогла. «Чувствуется, что ты еще переживаешь из-за отказа в приеме», – сказал я.
«Еще как», – ответила она.
«Всегда нелегко, когда получаешь отказ», – сказал я.
«Это уж точно».
Ее голос звучал как-то по-особенному. Некоторые слова она произносила странно, и я не мог понять, был ли это мэрилендский акцент или же дефект речи.
Что бы это ни было, оно меня восхищало.
Она поинтересовалась, что привело меня в Японию. Я объяснил, что прилетел спасать свою обувную компанию. «Свою компанию?» – переспросила она. «И ты… спас ее?» – опять спросила она. «Да, спас», – отвечал я. «У нас дома все ребята идут в школу бизнеса, – сказала она, – а потом планируют стать банкирами». Она закатила глаза, добавив: «Каждый делает одно и то же – такая тоска».
«Скука меня пугает», – сказал я.
«Ну да, потому что ты бунтарь».
Я перестал подниматься в гору, воткнув свой посох в землю. «Я – бунтарь?» Мое лицо бросило в жар.
По мере приближения к вершине тропа становилась все уже. Я заметил, что она напомнила мне тропу, по которой я шел в Гималаях. Сара и ее бойфренд уставились на меня. В Гималаях? Теперь она действительно была впечатлена. Когда вершина горы стала медленно принимать свои очертания перед нашим взором, подъем стал предательски коварным. Она схватила мою руку. «У японцев есть поговорка, – прокричал ее бойфренд, оглядываясь через плечо, чтобы мы оба услышали: – Каждый умный человек однажды должен подняться на Фудзи-сан, но лишь глупец делает это дважды».
Никто не рассмеялся. Хотя я вообще-то хотел – над его разноцветной, как пасхальное яйцо, одеждой.
На самой вершине мы подошли к огромным деревянным вратам тории. Мы уселись около них стали ждать. Воздух был странным. Не совсем темным и не совсем прозрачным. Затем над горизонтом, будто выползая, стало подниматься солнце. Я рассказал Саре и ее бойфренду, что японцы устанавливают врата Тории на сакральных границах, как порталы, связывающие земной мир и мир за его пределами. «Где бы вы ни переходили от мирского к сакральному, – сказал я, – вы везде найдете врата Тории». Саре это понравилось. Я сказал ей: мастера дзен верят, что горы «плывут», но мы не всегда можем ощутить их движение из-за ограниченности наших чувств, и на самом деле в тот момент мы ощутили, будто Фудзи плывет и будто нас самих через весь мир несет волна.
В отличие от восхождения, спуск не потребовал каких-то усилий или времени. У подножья я поклонился и распрощался с Сарой и «Пасхальным яйцом». «Ёросику нэ». Приятно было познакомиться. «Куда ты направляешься?» – спросила Сара. «Думаю остановиться на ночь в «Хаконэ Инн». «Ну, – сказала она, – я иду с тобой».
Я аж отступил. Взглянул на бойфренда. Он нахмурился. Я осознал наконец-то, что никакой он не бойфренд. С Пасхой тебя!
Мы провели два дня в гостинице, смеясь, болтая, влюбляясь. Начиная влюбляться. Если б только это не кончалось, говорили мы, но, разумеется, оно должно было закончиться. Мне надо было возвращаться в Токио, чтобы успеть на самолет, улетавший домой, а Сара была полна решимости двигаться дальше, чтобы увидеть всю Японию до конца. Планов, чтобы вновь увидеться друг с другом, мы не делали. Она была как свободный дух и в планы не верила. «До свидания», – сказала она. «Хадзимэмаситэ», – сказал я. Счастлив был увидеть тебя.
За несколько часов до посадки в самолет я остановился у офиса «Америкен экспресс». Я знал, что она тоже заглянет сюда в какой-то момент, чтобы получить денежный перевод от тех, кто заправлял компанией по выпуску батончиков. Я оставил для нее записку: «Тебе придется пролететь над Портлендом, возвращаясь на Восточное побережье… Почему бы не сделать остановку и не зайти в гости?»
В первый же вечер дома, за ужином, я поведал домашним хорошую новость. Я встретил девушку. Затем я поделился с ними другой хорошей новостью. Я спас свою компанию. Я обернулся и пристально посмотрел на своих сестер-близняшек. Они проводили по полдня, сидя у телефона, готовые броситься к нему при первом же звонке. «Ее зовут Сара, – сказал я. – Так что, если она позвонит, пожалуйста… будьте деликатными».
Несколько недель спустя я пришел домой, набегавшись по делам, и, войдя, увидел ее сидящей в гостиной с моей мамой и сестрами. «Сюрприз», – сказала она. Она получила мою записку и решила принять мое предложение. Она позвонила из аэропорта, моя сестра Джоан взяла трубку и показала, для чего существуют сестры. Она быстро сгоняла в аэропорт и привезла Сару.
Я рассмеялся. Мы неловко обнялись на глазах у наблюдавших за нами мамы и сестер. «Давай прогуляемся», – предложил я. Я принес ей куртку из той части дома, которая была раньше для прислуги, и мы прошли под моросившим дождем в соседний парк. Она увидела гору Худ, возвышавшуюся вдали, и согласилась, что она удивительно похожа на Фуджи, что вызвало у нас прилив воспоминаний.
Я спросил у нее, где она остановилась. «Дурачок», – ответила она. Она во второй раз пригласила себя в мое личное пространство.
Две недели она жила в гостевой комнате на половине моих родителей просто как член семьи, которым, как начинал думать я сам, она однажды может стать. Не веря собственным глазам, я наблюдал, как она очаровывала семейство Найтов. Моих сестер, всегда занимавших оборонительную позицию, мою стеснительную мать, моего отца-самодержца. Им всем было далеко до нее. Особенно моему отцу. Когда она пожала ему руку, то растопила что-то бывшее у него внутри как глыба льда. Возможно, это было присуще тем, кто производил шоколадные батончики, и их друзьям-магнатам – она обладала такой самоуверенностью, с которой сталкиваешься всего раз или два за всю свою жизнь.
Вне сомнений, она была единственным человеком из всех, кого я знал, который мог, как бы между прочим, упомянуть в одном и тот же разговоре Бейб Палей и Германа Гессе. Она собиралась написать о нем книгу в один прекрасный день. «Это как Гессе говорит, – однажды вечером за ужином промурлыкала она, – счастье – это как, а не что». Семейство Найтов жевало тушеное мясо и отхлебывало молоко. «Очень интересно», – сказал мой отец.
Я сводил Сару во всемирную штаб-квартиру компании «Блю Риббон», в подвальное помещение, и ознакомил ее с тем, как она функционирует. Подарил ей пару кроссовок Limber Up. Она надевала их, когда мы выезжали на морской берег. Мы ходили в пеший поход, поднимаясь на гору Хамбуг, ловили крабов вдоль иссеченной расщелинами береговой линии и собирали чернику в лесу. Стоя под восьмидесятифутовой елью, мы сливались в черничном поцелуе. Когда ей пришло время возвращаться в Мэриленд, я почувствовал себя опустошенным. Я писал ей через день. Мои первые любовные письма. Дорогая Сара, я вспоминаю, как я сидел с тобой у врат Тории… Она всегда немедленно отвечала. Всегда выражала свою неумирающую любовь.
В то Рождество, в 1964 году, она вернулась. На этот раз в аэропорту ее встречал я. По дороге к нам домой она рассказала мне, что перед тем, как сесть в самолет, у нее был страшный скандал. Родители запретили ей возвращаться. Они не одобряли ее выбор – меня. «Мой отец вопил», – сказала она.
«О чем он вопил?» – спросил я.
Подражая отцовскому голосу, она произнесла: «Не можешь ты встретить на горе Фудзи парня, из которого получится что-то путное». Я поморщился. Я знал, что в мой огород полетят два камня, но не думал, что одним из них будет восхождение на гору Фудзи. А что плохого в том, чтобы забраться на Фудзи? «Как тебе удалось уйти?» – спросил я.
«Брат помог мне выскользнуть из дома рано утром и отвез в аэропорт». Я ломал голову, думая, действительно ли она любит меня или же я для нее был лишь шансом для того, чтобы бунтовать.
Все дни, пока я работал, занимаясь товаром «Блю Риббон», Сара проводила время с моей мамой. Вечером мы отправлялись в центр города поужинать и выпить. В выходные катались на лыжах с горы Худ. Когда Саре пришло время возвращаться домой, я вновь ощутил себя опустошенным.
Дорогая Сара, я скучаю по тебе. Я люблю тебя.
Она сразу же отвечала мне письмом. Она тоже скучала. Тоже любила меня. Затем, с началом зимних дождей, в ее письмах ощутилось некоторое похолодание. Они стали менее экспансивными. Или же мне так казалось. Возможно, это просто в моем воображении, говорил я себе. Но мне надо было знать точно. Я позвонил ей.
Нет, это не было моим воображением. Она сказала, что она много думала и что она не уверена, что мы подходим друг другу. Она не была уверена, что я для нее достаточно утонченный. «Утонченный» – именно это слово она употребила. До того как я смог возразить, до того как я мог бы вступить в переговоры, она повесила трубку.
Я взял лист бумаги и напечатал ей длинное письмо, умоляя передумать.
Она сразу же ответила. Никакой сделки.
Из компании «Оницука» прибыла новая партия обуви. Я едва мог заставить себя реагировать. Целые недели я провел будто в тумане. Я прятался в подвале. Прятался в той половине дома, где раньше обитали слуги. Валялся на кровати и глазел на свои голубые ленты.
Хотя я и не говорил им, в семье знали. О подробностях они не спрашивали. Они в них не нуждались или не хотели их.
За исключением моей сестры Джин. Когда однажды я куда-то уехал, она прошла в ту часть дома, где была моя комната, залезла в мой стол и нашла там письма Сары. Потом, когда я вернулся домой и спустился в подвал, Джин пришла и нашла меня там. Она присела на пол рядом со мной и сказала, что прочитала письма, все, тщательно, вплоть до последнего – с отказом. Я отвернулся. «Тебе будет лучше без нее», – сказала Джин.
Мои глаза наполнились слезами. Я кивнул в знак благодарности. Не зная, что сказать, я спросил Джин, не хочет ли она поработать на «Блю Риббон» неполный рабочий день. Я сильно отставал, и помощь мне не помешала бы. «Поскольку ты так интересуешься письмами, – сказал я хрипло, – может, тебе придется по вкусу секретарская работа. За полтора доллара в час?»
Она засмеялась.
Таким образом, моя сестра стала первым работником по найму в истории компании «Блю Риббон».
Блю Риббон
Я получил письмо от того парня – Джеффа Джонсона – в начале года. После нашей случайной встречи в Оксидентал-колледже я выслал ему пару кроссовок «Тайгер» – в качестве подарка, и теперь он сообщал, что примерил их и совершил в них пробежку. Сказал, что они ему понравились. Очень. Другим они тоже понравились. Люди останавливали его, указывали ему пальцем на ноги и интересовались, где бы они могли приобрести такие же изящные кроссовки.
Джонсон сообщал также, что после нашей встречи он таки женился, и у него уже вскоре появится ребенок, поэтому он ищет возможности, чтобы подзаработать дополнительно, помимо той хрени в качестве соцработника, и полагает, что «Тайгерами», похоже, выгоднее заниматься, чем «Адидасами». Я ответил ему, предложив должность «коммивояжера, работающего за комиссионное вознаграждение». Имея в виду, что я буду платить ему по 1 доллару 75 центов с каждой проданной пары гладкой обуви и по два доллара за каждую проданную пару шиповок. Я только еще начинал сколачивать команду торговых представителей, занятых неполный рабочий день, и это было стандартной ставкой, которую я предлагал всем. Он тут же прислал новое письмо, принимая предложение.
Но после этого письма от него не прекратились. Напротив, их количество и объем возрастали. Первоначально они занимали две страницы. Затем четыре. Позже – восемь. На первых порах они приходили с перерывом в несколько дней. Затем стали поступать быстрее, чаще, вываливаясь из щели для почты, как водопад, и на каждом конверте стоял один и тот же обратный адрес: п/я 492, Сил Бич, Калифорния 90740, пока я не задался вопросом: «Боже правый, что же я наделал, наняв такого парня?»
Конечно, мне нравилась его энергия. И было трудно найти какой-то изъян в его энтузиазме. Но я начал волноваться, не слишком ли много у него того и другого. С получением двадцатого или двадцать пятого письма я уже начал с тревогой думать, не слетел ли парень с катушек. Я спрашивал себя, почему он так наседал, напрягаясь, как запыхавшийся бегун. Я задавался вопросом, истощится ли у него когда-либо запас вещей, о которых он так срочно хочет мне сообщить или же узнать от меня. Я гадал, закончится ли у него когда-нибудь запас почтовых марок.
Все выглядело так, будто каждый раз, когда какая-то мысль возникала у Джонсона в сознании, он ее записывал и засовывал в конверт. Он писал мне, чтобы сообщить, сколько «Тайгеров» он продал на прошлой неделе. Писал, сообщая, сколько кроссовок он продал в тот день. Писал, чтобы поделиться со мной, кто носит «Тайгеры», на каких школьных соревнованиях и какие места они заняли. Писал, чтобы сообщить, что он хочет расширить территорию своих продаж за пределы Калифорнии, охватив Аризону и, возможно, Мехико. Писал, предлагая открыть наш магазин для торговли в розницу в Лос-Анджелесе. Писал, чтобы сообщить мне, что он намерен поместить объявления в спортивных журналах и спрашивал, что я думаю по этому поводу. Писал, информируя меня о том, что он поместил рекламу в спортивных журналах, и что результат был хороший. Писал, спрашивая, почему я не ответил на его предыдущие письма. Писал, прося от меня слов одобрения. Писал, сетуя, что я не ответил на его предыдущую просьбу об одобрении его действий.
Я всегда считал себя добросовестным корреспондентом (я посылал бесчисленное количество писем и открыток домой, находясь в кругосветном путешествии. И я аккуратно отвечал Саре на ее письма). Я всегда намеревался отвечать и на письма Джонсона. Но когда я садился, чтобы ему отписать, на столе уже лежало новое письмо, ждущее моего ответа. Что-то таящееся в огромности его переписки останавливало меня. Что-то в его потребности обмениваться письмами заставляло меня притормозить с поощрением его энтузиазма. Много ночей провел я, сидя за черной пишущей машинкой Royal в своей подвальной мастерской, заправляя листок бумаги в барабан каретки и печатая: «Дорогой Джефф». После чего у меня возникал пробел в голове. Я не знал, с чего начать, на какое из пятидесяти писем, полученных от него, отвечать в первую очередь, поэтому я вставал, приступал к другим занятиям, а на следующий день приходило новое письмо от Джонсона. Или два. Вскоре их становилось уже три – три безответных письма, заставляющих меня страдать от непосильного эпистолярного творческого тупика.
Я попросил Джин заняться папкой с бумагами Джонсона. Хорошо, сказала она. Спустя месяц она с раздражением сунула мне эту папку. «Ты мне платишь недостаточно», – сказала она.
В какой-то момент я перестал читать письма от Джонсона полностью, от корки до корки. Но из беглого их просмотра я узнал, что он продает «Тайгерсы» в свободное от работы время и по выходным, что он решил продолжить свою основную работу в качестве соцработника округа Лос-Анджелес. Я все еще не мог постигнуть этого. Джонсон просто не выглядел в моих глазах как человек, живущий ради того, чтобы оказывать помощь другим. Напротив, он всегда казался неким мизантропом, чуравшимся людей. Это было одно из качеств, которые нравились мне в нем.
В апреле 1965 года он написал мне, что оставил свою основную работу. Сказал, что всегда ненавидел ее, но последней каплей стала одна отчаявшаяся женщина, жившая в долине Сан-Фернандо. Ему было поручено съездить и проверить, все ли у нее в порядке, поскольку она угрожала убить себя, но он прежде позвонил ей, чтобы узнать, «действительно ли она собирается покончить с собой в тот день». Если это так, то он не хотел бы тратить впустую время и бензин на дорогу в Сан-Фернандо. Женщина и начальство Джонсона критически отнеслись к его подходу к делу. Они посчитали это признаком того, что Джонсону было наплевать. Сам Джонсон считал, что так оно и есть. Ему было наплевать, и в тот момент, написал он мне, он понял себя и свое предназначение. Социальная работа была не для него. Он появился на свет не для того, чтобы улаживать проблемы других людей. Он предпочел сосредоточиться на их ногах.
В глубине души Джонсон верил, что бегуны – избранники Божии, что спортивный бег, если он выполняется правильно, с правильным настроем и в должной форме, – это мистическое упражнение, значимое не меньше, чем медитация или молитва, а потому он полагал, что призван помогать бегунам достигать своей нирваны. Бо́льшую часть своей жизни я сам провел рядом с бегунами, но подобного освежающе-бодрящего романтизма я еще никогда не встречал. Даже сам Бауэрман – Яхве беговых видов легкой атлетики и тот не был настолько набожно настроен в отношении этого вида спорта, насколько трепетен был в своих чувствах занятый неполный рабочий день служащий номер два компании «Блю Риббон».
На самом деле в 1965 году бег даже не считался спортом. Он не был популярен, не был он и непопулярным – просто был. На пробежки на три мили смотрели как на выходки чудаков, занимавшихся бегом, предположительно для того, чтобы сжечь маниакальную энергию. О таких вещах, как бег ради удовольствия, бег как разновидность физических упражнений, бег для того, чтобы вырабатывать гормоны радости, бег ради того, чтобы жить лучше и дольше, никто не слышал.
Люди часто из кожи вон лезли, чтобы поиздеваться над бегунами. Водители притормаживали и сигналили. «Найди себе лошадь!» – кричали они вслед бегущему, выливая ему на голову банку пива или газировки. Джонсон много раз оказывался весь в пепси, мокрым до нитки. Он хотел изменить все это. Хотел помочь всем угнетенным бегунам мира, хотел предать их гласности, хотел, чтобы общество приняло их в свои объятия. Так что, возможно, он все-таки был социальным работником. Он просто хотел общаться исключительно с бегающими людьми.
И самое главное – Джонсон хотел, занимаясь этим делом, зарабатывать на жизнь, что в 1965-м было почти невозможно. Во мне, в «Блю Риббон», как ему показалось, он нашел способ.
Я сделал все возможное, чтобы отвадить Джонсона от подобных мыслей. На каждом шагу я пытался приглушить его энтузиазм в отношении меня лично и моей компании. Помимо того что я не отвечал на его письма, я никогда не звонил, никогда не ездил к нему и ни разу не пригласил его в Орегон. Я также ни разу не упустил возможности, чтобы сказать ему правду-матку. В одном из моих редких ответных писем я без обиняков заявил: «Несмотря на то что рост продаж был хорошим, я задолжал «Первому национальному банку Орегона» 11 тысяч долларов… Движение денежной наличности отрицательное».
Он немедленно написал ответ, спрашивая, мог бы он перейти на полную ставку. «Я хотел бы попробовать прожить на доход от продаж «Тайгеров», а возможность заниматься еще чем-то – бегом, учебой, не говоря уже о том, чтобы быть хозяином самому себе, осталась бы при мне».
Я покачал головой. Я сообщил ему, что «Блю Риббон» тонет как «Титаник», а он просит предоставить ему каюту в первом классе. Ну да ладно, думал я, если мы действительно пойдем ко дну, на людях и горе вполгоря.
Так что в конце лета 1965 года я написал, что принимаю предложение Джонсона стать первым сотрудником «Блю Риббон», нанятым на полную ставку. Мы провели переговоры по почте относительно его зарплаты. Как социальный работник он получал 460 долларов в месяц, но он сказал, что проживет и на 400. Я согласился. С неохотой. Сумма казалась запредельной, но Джонсон так разбрасывался, был таким ветреным, а «Блю Риббон» выглядела такой слабой, что, так или иначе, я предполагал, что это решение носит временный характер.
Как всегда, сидящий во мне бухгалтер усматривал риск, а предприниматель видел возможность. Так что я пошел на компромисс и продолжил движение вперед.
А потом я вообще перестал думать о Джонсоне. Передо мной стояли проблемы покруче. Мой банкир был расстроен из-за меня. После поступления на счет восьми тысяч долларов от реализации в первый год я прогнозировал на второй год сумму в шестнадцать тысяч, и, по мнению моего банкира, в этом просматривалась очень тревожная тенденция. «Стопроцентный рост объема продаж вызывает тревогу?» – спросил я.
«Ваши темпы роста слишком высокие для объема ваших собственных средств, – сказал он. – Как может такая маленькая компания расти так быстро? Если маленькая компания быстро растет, она наращивает собственный капитал».
«Везде тот же принцип, независимо от размера, – добавил он. – Забалансовый рост опасен».
«Жизнь – это рост, – ответил я. – Бизнес – это рост. Вы либо растете, либо умираете».
«Мы на это не так смотрим».
«Вы бы еще бегуну во время спортивного состязания сказали, что он бежит слишком быстро».
«Это разные вещи, как небо и земля. Как яблоки и апельсины».
Твоя голова забита яблоками и апельсинами, хотел я сказать.
Для меня это было как учебник. Рост продаж, плюс рентабельность, плюс неограниченный потенциал роста в сумме давали качественную компанию. В те времена, однако, коммерческие банки отличались от инвестиционных. Их близорукий акцент делался на кассовых остатках. Они хотели, чтобы вы никогда-никогда не превышали остаток денежных средств.
Снова и снова я аккуратно пытаюсь объяснить своему банкиру, что такое обувной бизнес. Если я перестану расти, говорил я, то не смогу убедить «Оницуку» в том, что я лучший распространитель их обуви на Западе США. Если я не смогу убедить «Оницуку», что я лучший, они найдут какого-нибудь другого «ковбоя Мальборо», чтобы он занял мое место. И это еще даже не принимая во внимание битвы с крупнейшим монстром на рынке – компанией «Адидас».
Мой банкир был непреклонен. В отличие от богини Афины, мои глаза, горящие убеждением, восхищения у него не вызывали. «Мистер Найт, – повторял он снова и снова, – вам надо притормозить. У вас нет достаточного собственного капитала для подобного роста».
Капитал. Я начинал ненавидеть это слово. Мой банкир употреблял его снова и снова, до тех пор, пока оно не превратилось в навязчивую мелодию, которую я не мог выбросить из головы. Капитал – слышал я, когда утром чистил зубы. Капитал – слышал я, взбивая подушку перед сном. Капитал – я дошел до того, что отказывался даже произносить это слово вслух, потому что это оно не было настоящим, это был бюрократический жаргон, эвфимизм для наличности, живых денег, которых у меня не было. Преднамеренно. Каждый свободный доллар я немедленно запихивал в бизнес. Что, это было так безрассудно?
Для меня не имело никакого смысла иметь наличные средства, сидя рядом с ними и ничего не делая. Конечно, это было бы осторожное, консервативное, благоразумное решение, но все обочины вдоль дороги завалены осторожными, консервативными, благоразумными предпринимателями. Я хотел, чтобы моя нога выжимала газ до отказа.
Так или иначе, встреча за встречей я держал язык за зубами. Все, что говорил мой банкир, я в конце концов принимал. После чего я поступал так, как хотел. Я разместил очередной заказ на продукцию «Оницуки», удвоив его стоимость по сравнению с предыдущим, и, моргая широко раскрытыми глазами самой невинности, явился в банк, чтобы просить аккредитив для оплаты сделки. Банкир всегда был в шоке. Вы хотите СКОЛЬКО? Я тоже всегда делал вид, что в шоке оттого, что он был шокирован. Я полагал, что вы увидите разумность…
Я льстил, пресмыкался, уговаривал, и в конце концов он давал «добро» на кредит.
После распродажи партии кроссовок и погасив кредит в полном объеме, я повторял все сначала. Направлял мегазаказ в «Оницуку», удваивая объем предыдущего, затем шел в банк, надев мой лучший костюм, с ангельским выражением на лице.
Моего банкира звали Гарри Уайт. За пятьдесят, добродушный, с голосом, скрежетавшим как горсть гравия, брошенная в блендер, он выглядел так, будто не хотел быть банкиром, и в особенности он не хотел быть моим банкиром.
Он унаследовал меня по умолчанию. Моим первым банкиром был Кен Карри, но, когда мой отец отказался быть моим гарантом, Карри сразу же позвонил ему: «Между нами, Билл, если компания твоего малыша накроется – ты все равно поддержишь его, не так ли?»
«Черта с два, не поддержу», – отрезал отец.
Поэтому Карри решил, что ему ни к чему участвовать в этой междоусобной войне между отцом и сыном, и передал меня Уайту.
Уайт был вице-президентом «Первого национального», но этот титул был обманчив. Полномочий у Уайта было немного. Боссы всегда стояли у него над душой, сомневались в том, что он делал, а самым главным боссом из боссов был некто по имени Боб Уоллес. Именно Уоллес осложнял жизнь Уайта, а тем самым и мою. Это Уоллес превратил в фетиш понятие собственного капитала и с презрением отзывался о росте.
Крепко сбитый, с бандитским лицом и легкой щетиной, как у Никсона, Уоллес был на десять лет старше меня, но почему-то думал о себе, как о банковском вундеркинде. Он был также твердо настроен на то, чтобы стать следующим президентом банка, и видел во всех проблемных кредитных рисках главное препятствие, лежащее между ним и своей целью. Он не любил давать кредиты кому бы то ни было, для чего бы то ни было, но с моим балансом, вечно висящим около нуля, он считал меня бомбой замедленного действия. Только один вялый сезон, один спад в продажах, и я вылечу из бизнеса, фойе банка Уоллеса будет завалено моей нераспроданной обувью, и Святой Грааль президентства выскользнет из его рук. Как Сара на вершине Фудзиямы, Уоллес видел во мне бунтаря, но не рассматривал это как комплимент. В конце концов, если задуматься, она тоже не считала это комплиментом.
Уоллес, разумеется, не всегда говорил это мне непосредственно. Часто мне передавал его слова посредник – Уайт. Уайт верил в меня и в «Блю Риббон», но он все время повторял мне, грустно качая головой, что это Уоллес принимает решения, Уоллес подписывает чеки и что Уоллес далеко не болельщик Фила Найта. Мне казалось, что Уайт использовал слово «болельщик» весьма уместно, выразительно и многообещающе. Он был высоким, стройным, бывшим спортсменом, который любил поговорить о спорте. Неудивительно, что мы сходились во мнении. Уоллес, с другой стороны, выглядел так, будто его нога никогда не ступала на футбольное поле. Впрочем, может, и ступала, но только в том случае, если надо было взыскать спортивное имущество.
Каким бы сладким было удовлетворение сказать Уоллесу, куда бы он мог засунуть свой собственный капитал, а затем, развернувшись, рвануть прочь и перенести свой бизнес куда-нибудь в другое место. Но в 1965 году другого места не было. «Первый Национальный банк» был единственным шансом, и Уоллес знал это. Орегон в то время был меньше, и в штате было лишь два банка, «Первый Национальный» и «Банк США». Во втором меня уже развернули. Если меня вышвырнут и из первого, со мной будет покончено. (Сегодня вы можете жить в одном штате, но пользоваться услугами банка в другом, и никаких проблем, но в те времена банковские правила были намного жестче.)
Кроме того, тогда не было такого понятия, как венчурный капитал. У честолюбивого молодого предпринимателя не велик был выбор, куда обратиться, а вход туда, куда можно было прийти, охранялся привратниками, которые очень неохотно шли на риск и обладали нулевым воображением. Другими словами, банкирами. Уоллес был правилом, а не исключением.
Дело осложнялось еще больше тем, что «Оницука» всегда опаздывала с отправкой моего заказа, что означало сокращение времени, чтобы продать обувь, а это, в свою очередь, ограничивало время, в течение которого я мог бы заработать достаточно денег, чтобы покрыть свой кредит. Когда я пожаловался, ответа из «Оницуки» не пришло. Когда же они все-таки ответили, они не смогли войти в мое затруднительное положение. Вновь и вновь посылал я отчаянные телексы, запрашивая информацию о том, куда запропастилась последняя партия моей обуви, и в ответ я обычно получал телекс с раздражающе тупым содержанием. Еще немного, всего несколько дней. Это было похоже на то, когда вы набираете номер 911, а на другом конце слышите, как кто-то зевает.
Учитывая все эти проблемы, учитывая туманное будущее «Блю Риббон», я решил, что мне лучше было бы найти реальную работу, что-то надежное, куда можно будет приземлиться, когда все рухнет. В тот самый момент, когда Джонсон посвятил себя без остатка компании «Блю Риббон», я решил попробовать себя в других ипостасях.
К этому времени я сдал все четыре части экзамена на сертификат СРА. Поэтому я отправил результаты своих испытаний и резюме в адрес нескольких местных фирм, прошел собеседование в трех или четырех и был принят на работу в компанию «Прайс Уотерхаус». Нравится или нет, я стал официально и окончательно счетоводом с визитной карточкой. В моей налоговой декларации за тот год моя профессия была обозначена не как индивидуальная трудовая деятельность, не как владелец бизнеса или предприниматель. Меня идентифицировали как Филиппа Х. Найта, бухгалтера.
По большей части возражений я не испытывал. Для начала положил внушительную часть своей зарплаты на банковский счет «Блю Риббон», пополнив свой драгоценный капитал и тем самым увеличив остаток наличных средств компании. Кроме того, не в пример компании «Либранд», портлендское отделение «Прайс Уотерхаус» было компанией среднего размера. В ее персонале насчитывалось порядка тридцати бухгалтеров по сравнению с четырьмя в «Либранд», что меня больше устраивало.
Сама работа тоже устраивала меня. «Прайс Уотерхаус» похвалялась большим разнообразием клиентуры, сочетанием интересных стартапов и солидных компаний, и все занимающиеся продажей всего мыслимого и немыслимого: пиломатериалов, воды, электроэнергии, продуктов питания. Проводя аудит этих компаний, копаясь в их кишках, раздербанивая их на части, а потом вновь соединяя в одно целое, я также учился на том, как они выживали или погибали. Как они продавали свой товар или нет. Как они попадали в беду и как выкарабкивались из нее. Я вел аккуратную запись того, что давало компаниям возможность работать, а что приводило их к провалу.
Снова и снова я получал подтверждение тому, что отсутствие капитала приводит к разорению.
Как правило, бухгалтеры работали командами, и группа А возглавлялась Делбертом Дж. Хэйесом, лучшим бухгалтером отделения и самой яркой личностью. Ростом в шесть футов и два дюйма и весом в триста фунтов, которые удалось набить почти целиком в вызывающе дешевый костюм из полиэстера, как колбасу в оболочку, Хэйес обладал огромным талантом, большим умом, непомерной страстью – и таким же аппетитом. Ничто не приносило ему большего удовольствия, чем одновременное поглощение гигантского сэндвича из целой булки и бутылки водки во время изучения распечатки таблиц о финансовом положении компаний. В равной степени велико было его пристрастие к курению. Будь то в дождь или солнцепек, он испытывал потребность в том, чтобы дым прокачивался у него в легких и клубами выходил из ноздрей. Он мог высмолить за день по крайней мере две пачки сигарет.
Мне встречались другие бухгалтеры, знавшие, как считать, бывшие мастерами своего дела, но Хэйес был прирожденным спецом по бухучету. В колонке из, казалось бы, непривлекательных четверок, девяток и двоек он мог разглядеть изначальные крупицы зарождающейся Красоты. Он смотрел на цифры, как поэт на облака, как геолог смотрит на минералы. Он мог слагать из них рапсодии и извлекать сермяжную правду.
И делать жуткие предсказания. Хэйес мог использовать цифры, чтобы предсказывать будущее.
День за днем наблюдал я за тем, как Хэйес делал то, что я никогда бы не думал, что такое возможно: он превратил бухгалтерское дело в искусство. Что означало, что он, я и все мы – художники. Это была прекрасная мысль, облагораживающая мысль, которая никогда бы не пришла мне в голову.
В уме я всегда признавал, что цифры красивы. На определенном уровне я понимал, что они несут в себе секретный код, что за каждой колонкой цифр таятся эфирные платонические формы. Этому меня в какой-то мере научили на занятиях по бухгалтерскому делу. Научил меня этому и спорт. Беговая дорожка приучает вас с ожесточением уважать цифры, потому что вы являетесь тем, что о вас говорят цифры, ни больше, ни меньше. Если я показал в забеге плохое время, на то могли быть причины – травма, усталость, разбитое сердце, – никому до этого не было дела. В конце концов, все, что люди будут помнить, – это мои показатели. Я жил в этой реальности, но художник Хэйес заставил меня это прочувствовать.
Увы, я стал опасаться, что Хэйес был своего рода трагическим художником, вредящим самому себе, вроде Ван Гога. Он каждый день, приходя на работу, подрывал впечатление о себе, плохо одеваясь, по-стариковски горбясь и неуклюже шаркая, позволяя себе дурные выходки. У него еще был целый букет фобий – боязнь высоты, змей, жуков, замкнутого пространства, – что могло отпугивать от него боссов и коллег.
Но сильнее всего проявлялась его диетофобия. «Прайс Уотерхаус» без колебаний сделал бы Хэйеса партнером, несмотря на все множество его пороков, но компания не могла игнорировать его вес. Она не смогла бы вынесли партнера, весившего триста фунтов. Более чем вероятно, что именно по этой злосчастной причине Хэйес стал есть еще больше. Но, какова ни была причина, он ел действительно много.
К 1965 году он и пил столько же, сколько ел, а это о многом говорит. И при этом отказывался пить в одиночку. Наступало время уходить с работы, и он начинал настаивать, чтобы все его младшие бухгалтера присоединились к нему.
Говорил он так же, как и пил, не останавливаясь, и некоторые из бухгалтеров звали его дядюшкой Римусом. Я этого никогда не делал. И никогда картинно не закатывал глаза, слушая байки Хэйеса. В каждой его истории таилась драгоценная жемчужина мудрого суждения о бизнесе – о том, что позволяло компании работать, что на самом деле таили в себе и о чем говорили их бухгалтерские книги. Поэтому частенько по вечерам я добровольно, даже с большой охотой заходил в какой-нибудь портлендский кабак и опрокидывал стаканчик за стаканчиком, не отставая от Хэйеса. На утро я просыпался, чувствуя себя хуже, чем когда-то в гамаке в Калькутте. И я собирал в кулак всю свою силу воли, чтобы днем быть хоть немного полезным компании «Прайс Уотерхаус».
Ко всему прочему, когда я переставал быть рядовым пехотинцем в армии Хэйеса, я по-прежнему продолжал оставаться резервистом (в рамках семилетнего обязательства). Каждый вечер по вторникам, с семи до десяти часов, я должен был щелкать в своей голове переключателем и становиться старшим лейтенантом Найтом. Мое подразделение состояло из докеров, и нас часто размещали в складском районе, на расстоянии нескольких футбольных полей от того места, где я получал партии обуви, поставляемой компанией «Оницука». Я с подчиненными большей частью занимался погрузкой и разгрузкой судов, ремонтировал джипы и грузовики. Много вечеров уходило у нас на физическую подготовку. Отжимания, подтягивания, приседания. Помню, как однажды вечером я вывел свое подразделение на четырехмильный бросок. Мне самому надо было как следует пропотеть, чтобы выгнать из себя остатки выпивки после загулов с Хэйесом, поэтому я задал убийственный темп, постепенно увеличивая его и размалывая себя и своих солдат в пыль. Позже я услышал, как один задыхавшийся от одышки солдат говорил другому: «Я слышал, как буквально рядом со мной бежал лейтенант Найт. С ритма не сбивался, и я не слышал, чтобы он хотя бы раз глубоко вздохнул!»
Возможно, это был мой единственный триумф за весь 1965 год.
Несколько вечеров по вторникам отводились на занятия в учебном помещении. Инструкторы знакомили нас с военной стратегией, и мне это показалось увлекательным. Они часто начинали занятия с анализа какой-нибудь стародавней, знаменитой битвы, как бы препарируя ее содержание. Но неизменно сползали с темы и переходили на войну во Вьетнаме. Конфликт разгорался. Соединенные Штаты неумолимо втягивались в него, словно их туда затягивал гигантский магнит. Один из инструкторов сказал, чтобы мы привели свою личную жизнь в порядок и поцеловали на прощание своих жен и подруг. Вскоре нам предстояло оказаться «в дерьме – и очень скоро».
Я начинал ненавидеть эту войну. Не только потому, что, как я чувствовал, она была неправильной. Я также чувствовал, что она была глупой, расточительной. Я ненавидел глупость. Я ненавидел пустые траты. Кроме того, эта война, больше, чем другие войны, руководствовалась теми же принципами, что и мой банк. Борись не для того, чтобы побеждать, а чтобы избежать поражения. Безошибочно проигрышная стратегия.
Солдаты из моего подразделения думали так же. Стоит ли тогда удивляться, что сразу после команды «Разойдись!» мы бегом бросались к ближайшему бару? В перерывах между таким прохождением службы в резерве и посиделками с Хэйесом я начал сомневаться, дотянет ли моя печенка до нового, 1966 года.
Время от времени Хэйес отправлялся в поездку, посещал клиентов по всему Орегону, и я часто присоединялся к нему, образуя с ним пару странствующих лекарей. Из всех молодых бухгалтеров я, возможно, был его любимцем, но особенно во время его странствий.
Хэйеса я любил, очень, но спаниковал, когда обнаружил, что в дороге он действительно расслаблялся на всю катушку. И, как всегда, ожидал, что его когорта будет делать вслед за ним все, что делал он. Всегда было недостаточно просто пить с Хэйесом. Он требовал, чтобы вы не отставали от него ни на каплю. Он вел счет рюмкам так же аккуратно, как рассчитывал кредит и дебит. Часто он говаривал, что верит в командную работу, а если вы оказывались в его команде, то, Бог свидетель, вам лучше допить свою проклятую рюмку.
Спустя полвека у меня живот крутить начинает, когда я вспоминаю, как мы с Хэйесом объезжали пригороды Олбани, штат Орегон, выполняя работу для компании «Ва Чанг Экзотик Металз». Каждый вечер, перемолов кучу цифири, мы закатывались в какой-нибудь кабачок на окраине города и засиживались там до закрытия. Я также вспоминаю, смутно, как в тумане, дни, проведенные в Уолла-Уолла, штат Вашингтон, выполняя работу для компании «Бёрдс Ай», заканчивая каждый вечер в Городском клубе «стаканчиками на ночь». В Уолла-Уолла действовал сухой закон, но питейные заведения обошли закон, переименовав себя в «клубы». Плата за членство в городском клубе составляла один доллар, Хэйес был в нем членом с отличной репутацией – до тех пор, пока я не набедокурил, в результате чего нас обоих вышвырнули. Не помню, что я там выкинул, но уверен, что это было что-то ужасное. В равной степени уверен, что я ничего не мог с собой поделать. К тому моменту содержание джина в моей крови было пятьдесят процентов.
Смутно припоминаю, как уделал рвотой всю машину Хэйеса. Так же смутно помню, как он очень ласково и терпеливо просит меня вычистить салон. То, что я помню отчетливо, это, как лицо Хэйеса покраснело в праведном гневе от моего имени, хотя я был явно неправ, и он вышел из членов Городского клуба. Такая лояльность, такая безосновательная и неоправданная верность – наверное, именно в тот момент я влюбился в Хэйеса. Я уважал этого человека, когда он видел в цифрах нечто более глубокое, но я полюбил его, когда он увидел нечто особенное во мне.
Во время одной из таких поездок, во время одного из ночных разговоров за стойкой, я рассказал Хэйесу про «Блю Риббон». Он разглядел в этом нечто многообещающее. Он также разглядел обреченность. Цифры, сказал он, не лгут. Начинать новую компанию, добавил он, в этой экономике? Да еще обувную компанию? При нулевом остатке денежных средств? Он ссутулился и потряс своей большой курчавой головой. С другой стороны, продолжил он, у меня было нечто в мою пользу. Бауэрман. Партнер – легенда – это был такой актив, который было невозможно выразить в цифрах.
Кроме того, мой актив рос в цене. Бауэрман ездил в Японию на Олимпиаду 1964 года, чтобы поддержать команду США по легкой атлетике, которую он тренировал (двое из его бегунов, Билл Деллинджер и Гарри Джером, стали медалистами). А после Олимпийских игр Бауэрман сменил шляпы и стал послом, представляющим интересы «Блю Риббон». Он и миссис Бауэрман – с Рождественского накопительного счета которой Бауэрман взял и передал мне для закрепления нашего партнерства пятьсот долларов, – нанесли визит в штаб-квартиру «Оницуки» и всех там очаровали.
Им устроили королевский прием, провели, как самых высоких гостей, по всей фабрике, и Моримото даже представил их г-ну Оницуке. Между обоими старыми львами, разумеется, установилась тесная связь. Оба, в конце концов, были «отлиты из одной колодки» и сформировались во время одной и той же войны. Оба по-прежнему относились к повседневной жизни как к сражению. Г-н Оницука, однако, демонстрировал особое упорство побежденных, что произвело впечатление на Бауэрмана. Г-н Оницука рассказал Бауэрману о создании своей обувной компании, когда вся Япония лежала в руинах, когда все крупные города еще продолжали дымиться от пожарищ, вызванных американскими бомбардировками. Он сделал свои первые колодки для линии по производству баскетбольных кроссовок, выливая расплавленный воск буддийских свечей на собственные ноги. Несмотря на то что эти баскетбольные кроссовки не нашли спроса, г-н Оницука не сдавался. Он просто переключился на выпуск кроссовок для бега, а остальное уже история обуви. Бауэрман рассказал мне, что все японские бегуны на Олимпиаде 1964 года были обуты в «Тайгеры».
Г-н Оницука также рассказал Бауэрману, что вдохновение создать уникальную подошву для кроссовок «Тайгер» пришло к нему, когда он ел суши. Глядя на деревянное блюдо, на нижнюю часть ноги осьминога, он подумал, что нечто подобное этим плоским присоскам, возможно, подойдет для подошвы беговой обуви. Бауэрман взял это на заметку. Вдохновение, как он узнал, может быть навеяно самыми будничными вещами. Даже тем, что вы употребляете в пищу. Или же тем, что разбросано по дому.
Вернувшись в Орегон, Бауэрман с радостью вступил в переписку со своим новым другом г-ном Оницукой и со всей командой, которая заведовала производством на фабрике «Оницуки». Он забрасывал их охапками идей и модификаций их продукции. Хотя в душе все люди одинаковы, Бауэрман пришел к выводу, что ноги не у всех одинаковы. У американцев тела отличаются от японских – они тяжелее, а размер их ступни – длиннее, поэтому американцам нужна другая обувь. Проведя вскрытие десятка пар кроссовок «Тайгер», Бауэрман понял, как их можно было бы смоделировать таким образом, чтобы удовлетворить требованиям американских клиентов. Преследуя эту цель, он плодил массу заметок, эскизов, дизайнов и всю эту массу обрушивал на японцев.
К сожалению, он обнаружил, так же как и я когда-то, что, как бы хорошо вы ни ладили с кем-то лично в команде «Оницука», все менялось, когда вы возвращались к себе, по другую сторону Тихого океана. Большинство писем Бауэрмана оставались без ответа. Когда же ответ приходил, он звучал загадочно или же слишком кратко, не принимая всерьез то, что предлагалось. Иногда мне было больно от мысли, что японцы относились к Бауэрману так, как я – к Джонсону.
Но Бауэрман не был мною. Отказ он близко к сердцу не принимал. Как и Джонсон, когда его письма оставались без ответа, Бауэрман просто писал еще. С еще большим числом подчеркнутых слов и восклицательных знаков.
Не прекращал он и своих экспериментов. Он продолжал разрывать «Тайгеры» на куски, продолжал использовать молодых ребят, входивших в его команды по бегу, как подопытных мышей. Во время осеннего легкоатлетического сезона 1965 года каждый забег приносил Бауэрману по два результата. Показатель того, как пробежали спортсмены, и показатель того, как проявили себя трэковые кроссовки. Бауэрман следил за тем, как выдержали забег взъемы (арки), как подошвы хватали гаревую дорожку, как носок сжимал пальцы и насколько гибкой была стелька, после чего отправлял авиапочтой свои заметки и выводы в Японию.
В конце концов он осуществил прорыв. «Оницука» выпустила прототипы, которые соответствовали видению Бауэрмана того, каким должен быть американский образец обуви. С мягкой внутренней подошвой, с большей поддержкой арки, со вставкой в заднике для защиты ахиллова сухожилия – они отправили прототип Бауэрману, и он пришел в дикий восторг. Он запросил больше прототипов. Затем раздал эти экспериментальные кроссовки своим бегунам, которые использовали их для того, чтобы сокрушить соперников.
Небольшой успех всегда ударял Бауэрману в голову, причем наилучшим образом. Приблизительно в это же время он тестировал спортивные элексиры, магические зелья и порошки, чтобы дать своим бегунам больше энергии и выносливости. Когда я был в составе его команды, он говорил о важности замены соли и электролитов в организме спортсмена. Он заставлял меня и других глотать, давясь, изобретенную им микстуру, какую-то вязко-липкую гадость, состоящую из пюре бананов, лимонада, чая, меда и некоторых неназванных ингредиентов. Теперь же, колдуя над обувью, он одновременно маялся дурью с рецептом своего спортивного напитка, делая его вкус еще ужаснее, но повышая его КПД. Пройдут годы, прежде чем я догадаюсь, что Бауэрман пытался изобрести «Гаторейд».
В свое «свободное время» он любил поразмяться, занимаясь гаревым покрытием дорожек на стадионе имени Билла Хэйварда. Это спортивное сооружение было освящено традициями с глубокими корнями, однако Бауэрман не был сторонником того, чтобы позволять традициям тормозить его. Всякий раз, когда шел дождь, а в Юджине дождь лил всегда, беговые дорожки, покрытые шлаком, превращались в венецианские каналы. Бауэрман подумал, что было бы легче сушить, подметать и чистить, если бы дорожки были покрыты чем-то с резинистой консистенцией. Он также подумал, что при контакте с эластичным покрытием ноги у бегуна будут испытывать меньше дискомфорта. Поэтому он приобрел бетономешалку, заполнил ее измельченными обрезками старых автомобильных шин и различных химических веществ, часами подбирая нужные консистенцию и текстуру. Не раз он доводил себя до того, что серьезно заболевал, надышавшись паров этого ведьминого зелья. Мигрени, заметная хромота, потеря зрения – это было лишь несколько из его долговременных издержек, та цена, которую он заплатил за свое стремление добиваться совершенства во всем.
ЛЮДИ ОШИБАЮТСЯ, СЧИТАЯ СПОРТСМЕНАМИ ВЕЛИКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ. СПОРТСМЕНОМ ЯВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЙ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТЕЛО, ТО ВЫ – СПОРТСМЕН.
И вновь потребовались годы, прежде чем я осознал, чего добивался Бауэрман. Он пытался изобрести полиуретан.
Как-то я поинтересовался у него, как он умудряется уложиться со всем этим в двадцать четыре часа. С тренерской работой, экспериментаторством, содержанием семьи. Он ухмыльнулся, как бы говоря: «В этом нет ничего такого». А затем вполголоса добавил, что в довершение ко всему он еще пишет книгу.
«Книгу?» – переспросил я.
«О беге трусцой», – хрипло ответил он.
Бауэрман вечно досадовал, что люди ошибаются, думая, что спортсменами являются только элитные олимпийцы. Но спортсменом является каждый, говорил он. Если у вас есть тело, то вы – спортсмен. На этот раз он был настроен на то, чтобы довести эту мысль до более широкой аудитории. До читающей публики. «Звучит интересно», – сказал я, но подумал, что мой старик тренер ударился не в ту степь.
Кто в здравом уме станет читать книгу о беге трусцой?
Ковбой Мальборо
Когда стал подходить к концу срок моего контракта с «Оницукой», я начал ежедневно проверять почту, надеясь получить письмо, в котором они сообщали бы, что хотят продлить договор. Или не хотят. Было бы облегчением услышать о любом решении. Разумеется, ждал я письма и от Сары с сообщением, что она передумала. И, как всегда, я был готов получить письмо из моего банка с уведомлением, что мой бизнес более его не удовлетворяет.
Однако ежедневно приходили письма только от Джонсона. Как и Бауэрман, парень не спал. Вообще. Никакого другого объяснения непрестанному потоку его корреспонденции я найти не мог. Смысла в ней, по большей части, не было. Наряду с кучей ненужной мне информации типичное письмо от Джонсона содержало в себе несколько длинных вводных отступлений и какое-то подобие бессвязной шутки.
В нем также мог оказаться в качестве иллюстрации его рисунок.
В нем можно было обнаружить тексты песен.
Иногда – стихотворение.
Отпечатанные на ручной пишущей машинке, которая с силой пробивала тонкую папиросную бумагу, делая ее похожей на шершавую поверхность страниц, испещренных азбукой Брайля, многие письма Джонсона содержали что-то вроде рассказа. Возможно, «притча» будет более подходящим словом. О том, как Джонсон продал человеку пару «Тайгеров», но, расставшись с ним и пройдя какое-то время дальше по дороге, подумал, что этому клиенту можно было бы продать на энное количество пар больше, и поэтому у Джонсона созрел план… О том, как Джонсон преследовал и изводил своим приставанием главного тренера такой-то средней школы, пытаясь продать тому шесть пар, но в конце концов впарил ему чертову дюжину… что явно доказывает, что…
Часто Джонсон в мельчайших деталях описывал последнее рекламное объявление, которое он разместил или только планировал разместить на последних страницах журнала для стайеров «Лонг Дистанс Лог» или же журнала о новостях легкой атлетики «Трэк энд Филд Ньюс». Или же давал описание фотографии кроссовки «Тайгер», которую он включил в рекламное объявление. Он соорудил импровизированную фотостудию у себя в доме, и кроссовки у него обольстительно позировали, лежа на диване на фоне черного свитера. Неважно, что это немного смахивало на порнографию, – я просто смысла не видел в том, чтобы размещать рекламу в журналах, читаемых исключительно бегающими ботанами. Я не видел смысла в рекламе – точка. Но Джонсон, по всей видимости, получал от этого удовольствие, и он клялся, что размещенная реклама срабатывает, так что Бог с ним, да и был слишком далеко я от него, чтобы остановить его.
Типичное письмо от Джонсона неизменно заканчивалось плачем, саркастическим или демонстративно откровенным, по поводу того, что я не смог ответить на его предыдущее письмо. А также на то, что предшествовало ему, и. т. д. Затем следовал постскриптум, после которого еще один, а иногда он выстраивал из постскриптумов целую пагоду. И наконец, мольба-ожидание от меня слов ободрения, которых я никогда не посылал. Не было у меня времени на ободряющие слова. Да и не мой это был стиль.
Оглядываюсь назад и задаюсь вопросом, был ли я тогда по-настоящему самим собой или же я подражал Бауэрману, или отцу, или же обоим. Не перенимал ли я их манеру поведения «немногословного человека»? Может, я просто копировал всех, кем я восхищался? В то время я читал все, что попадало мне в руки, о генералах, самураях, сёгунах наряду с биографиями трех моих главных героев – Черчилля, Кеннеди и Толстого. Любви к насилию у меня не было, но меня пленяло умение предводительствовать или же отсутствие такого умения при исключительных обстоятельствах. Война создает наиболее экстремальные условия. Но в бизнесе есть схожие с войной параллели. Кто-то когда-то сказал, что бизнес – это война без пуль, и я был склонен согласиться с таким суждением.
Я не был настолько уникальным. На протяжении всей истории люди смотрели на воина как на образец хемингуэевских кардинальных добродетелей – благоволение в сжатом виде. (Сам Хемингуэй написал «Праздник, который всегда с тобой», любуясь на памятник маршалу Нею, любимому военачальнику в армии Наполеона.) Одним из уроков, которые я извлек из всего своего домашнего чтения о героях, было то, что они были немногословны. Никто из них не был пустобрехом. Никто из них не занимался мелочной опекой подчиненных. Не говорите людям, как делать вещи. Скажите им, что делать, и они удивят вас своей изобретательностью. Поэтому я не отвечал на письма Джонсона и не опекал его. Сказав, что он должен делать, я надеялся, что он удивит меня.
Может быть, молчанием.
К чести Джонсона, несмотря на то, что он страстно желал взаимного общения, отсутствие такого общения не обескураживало парня. Напротив, стимулировало его. Он был мелочно-дотошным, признавая, что я таким не был, и хотя он любил жаловаться (мне, моей сестре, нашим общим друзьям), он видел, что мой стиль руководства предоставляет ему свободу. Чувствуя, что его никто не неволит и он может поступать по собственному разумению, он реагировал с безграничной креативностью и энергией. Работал по семь дней в неделю, продавая и продвигая товар «Блю Риббон», а когда не продавал, то с таким же усердием, как бобр строит плотину, занимался сбором и формированием клиентской базы данных.
На каждого нового клиента заводилась отдельная учетная карточка, и в каждой учетной карточке содержалась персональная информация клиента, размер его обуви и указывались его личные предпочтения. Такая база данных позволяла Джонсону в любое время поддерживать связь со всей его клиентурой и создавать у каждого клиента впечатление, что он на особом счету. Он посылал им поздравительные открытки с Рождеством. Посылал им поздравления после того, как они принимали участие в крупных соревнованиях или марафонах. Когда бы я ни получал письмо от Джонсона, я знал, что оно лишь одно из нескольких дюжин, которые он бросил в тот день в почтовый ящик. У него были многие сотни корреспондентов из числа клиентов, отражавших весь спектр населения, от школьных звезд, отличившихся в беге на стадионе, до восьмидесятилетних энтузиастов бега трусцой по выходным. У многих, кто вытаскивал из своего почтового ящика очередное письмо от Джонсона, возможно, возникал такой же вопрос, как и у меня: «Откуда у этого малого берется время?»
В отличие от меня, однако, большинство клиентов попадали в зависимость от писем Джонсона. Большинство отвечали на них. Они рассказывали ему о своей жизни, своих проблемах, травмах, и Джонсон расточал утешение, сочувствие и советы. Особенно в случае травм. В 1960-е годы мало кто понимал хотя бы что-то в травмах, которые случались у бегунов, или вообще в спортивных травмах, поэтому письма Джонсона часто изобиловали информацией, которую невозможно было получить еще где-либо. Какое-то время, но недолго, я беспокоился по поводу вопросов об ответственности. Я также напрягался из-за того, что, не ровен час, и я получу письмо, извещающее меня о том, что Джонсон арендовал автобус и, сев за руль, везет всех к врачу.
Некоторые клиенты с готовностью вызывались поделиться своим мнением о «Тайгерах», поэтому Джонсон стал компоновать воедино обратную связь с клиентурой, для того чтобы, используя ее, создавать новые эскизы дизайна. Один человек, например, выражал сожаление в связи с тем, что у беговых кроссовок «Тайгер» подошва недостаточно амортизирует. Он хотел бы принять участие в Бостонском марафоне, но не думает, что «Тайгеры» смогут выдержать дистанцию в двадцать шесть миль. Поэтому Джонсон нанял местного сапожника, чтобы тот осуществил операцию по трансплантации – вырезал резиновую подошву из тапочек для душа и закрепил ее на паре беговых кроссовок «Тайгер». Вуаля. Франкенштейновское чудище Джонсона – его модернизированные беговые кроссовки со вставкой промежуточной подошвы по всей ее длине получили амортизацию по технологии космического века. (Сегодня это стандартная технология для всех тренировочных беговых кроссовок.) Состряпанная Джонсоном подошва оказалась настолько динамичной, настолько мягкой, настолько инновационной, что его клиент установил в Бостоне личный рекорд. Джонсон передал мне отчет о результатах и настойчиво попросил меня переслать их производителям кроссовок «Тайгер». Бауэрман буквально за несколько недель до этого попросил меня сделать то же самое с его заметками. «Боже ж ты мой! – подумал я. – Давайте по очереди, свихнувшиеся гении, не все скопом».
Время от времени я делал для себя в уме пометку, чтобы предупредить Джонсона о растущем списке его друзей по переписке. Предусматривалось, что сфера деятельности компании «Блю Риббон» будет ограничена тринадцатью западными штатами, но ее первый штатный сотрудник номер один этим условием не руководствовался. Джонсон обзавелся клиентурой в тридцати семи штатах, включая все Восточное побережье, бывшее ядром страны Мальборо. «Ковбой Мальборо» своей территорией никак не занимался, поэтому операции Джонсона по вторжению казались безвредными. Но мы не хотели насторожить «ковбоя», ткнув его носом в происходящее.
И все же я так и не удосужился поделиться с Джонсоном своими опасениями. Я так ничего и не сказал ему.
В начале лета я решил, что подвальное помещение в родительском доме стало недостаточно большим для того, чтобы продолжать оставаться штаб-квартирой компании «Блю Риббон». А людская была слишком тесной для меня. Я снял двухкомнатную квартиру в центре города, в новой щегольской высотке. Арендная плата составила двести долларов, немного дороговато, но что поделаешь. Я также арендовал несколько предметов первой необходимости – стол, стулья, двуспальную кровать, диван оливкового цвета – и попытался стильно расставить их. Получилось не так, чтобы очень, но мне было все равно, поскольку моей настоящей мебелью были кроссовки. Моя первая холостяцкая берлога была до потолка заполнена упаковками с кроссовками.
Какое-то время я следовал идее не сообщать Джонсону своего нового адреса. Однако сообщил.
Конечно же, мой почтовый ящик стал заполняться письмами. С обратным адресом: п/я 492, Сил Бич, Калифорния 90740. Ни на одно из них я не ответил.
Затем Джонсон написал мне два письма, которые я не мог проигнорировать. В первом он сообщил, что тоже переезжает. Что он разводится с женой. И что планирует остаться в Сил Бич, но хочет снять холостяцкую квартиру.
Несколько дней спустя он написал, что попал в автомобильную аварию.
Случилось это рано утром, где-то к северу от Сан-Бернардино. Он направлялся к месту шоссейного забега, в котором, разумеется, намеревался сам участвовать, а также продавать «Тайгеры». Он заснул за рулем и, как сам описал произошедшее, проснулся в тот момент, когда он сам и его «Фольксваген-жук» 1956 года выпуска летели в перевернутом состоянии в воздухе. Он ударился в разделительное ограждение, его завертело, после чего выбросило из машины перед тем, как она, сделав сальто, полетела вниз на набережную. Когда тело Джонсона наконец перестало кувыркаться, он почувствовал, что лежит на спине, глядя в небо, его ключица и нога раздроблены, а череп пробит.
Череп, как он выразился, на самом деле дал течь.
Хуже того, оказавшись недавно в разводе, у него не было никого, кто бы мог ухаживать за ним во время выздоровления.
Бедняга, покалеченный и брошенный, как бездомный пес, был в одном шаге от того, чтобы стать героем песни в стиле кантри-вестерн.
Но, несмотря на все недавние превратности, Джонсон оставался в хорошем настроении. Он заверял меня в целой серии бодрых писем, что ему удается выполнять все свои обязательства. Он ковылял по своей новой квартире, выполняя заказы, отправляя посылки с кроссовками, без задержки отвечая на все письма клиентов. Один из его друзей приносил ему всю почту, сообщал он, так что волноваться не стоит – почтовый ящик номер 492 по-прежнему задействован на все сто. Завершая свое послание, он добавил, что с учетом предстоящих выплат алиментов, оказания помощи в содержании ребенка, оплаты огромного количества медицинских счетов ему необходимо иметь представление о том, каковы долгосрочные перспективы компании «Блю Риббон». Каким я вижу ее будущее?
Я почти не врал. Возможно, из жалости, возможно, в силу того, что представлял Джонсона одиноким, покинутым, все его тело в гипсе, храбро цеплявшимся за жизнь и боровшимся за то, чтобы сохранить компанию на плаву, я ответил в приподнятом духе. «Блю Риббон», – написал я, – с годами, возможно, превратится в масштабную компанию по реализации спортивных товаров. Возможно, у нас появятся филиалы на Западном побережье. А в один прекрасный день, быть может, и в Японии. Звучит надуманно, – заканчивая свой прогноз, обращался я к Джонсону, – но, похоже, стоит попробовать».
Последняя строчка письма была полностью правдива. Попробовать стоило. Если «Блю Риббон» обанкротится, я останусь без гроша и буду раздавлен. Но какие-то ценные соображения у меня должны остаться, и накопленную житейскую мудрость я смогу использовать в новом бизнесе. Мудрость кажется неосязаемым активом, но все же активом, который оправдывает риск. Начинание собственного бизнеса – это единственное, что заставляет смотреть на все остальные жизненные риски: женитьбу, Вегас, борьбу с аллигатором, как на нечто несомненно возможное и удачное. Но я надеялся, что когда я проиграю, – если проиграю, – то проиграю быстро, чтобы у меня осталось достаточно времени, достаточно лет на реализацию опыта, добытого ценой неимоверных усилий. У меня не очень получалось с постановкой задач, но эта сверкала в моем мозгу ежедневно до тех пор, пока не превратилась в постоянно звучащую внутреннюю мантру: проигрывай быстро.
В конце письма я сказал Джонсону, что, если бы он смог продать к концу июня 1966 года 3250 пар кроссовок «Тайгер», – что, согласно моим подсчетам, было совершенно нереально сделать, – я бы уполномочил его открыть точку розничной торговли, напоминанием о которой он проел мне все нутро. Я даже добавил постскриптум внизу страницы, который, я был уверен, он проглотит как подаренную конфетку. Я напомнил ему, что он продает так много кроссовок и так быстро, что он, возможно, вскоре поставит вопрос о бухгалтере. Надо еще рассмотреть вопросы, связанные с уплатой подоходного налога, добавил я.
Он моментально ответил, с сарказмом благодаря за совет, касающийся налога. Не будет он подавать никакой налоговой декларации, «потому что валовой доход составлял 1209 долларов, в то время как расходы равнялись 1245 долларам». У него нога сломана, сердце разбито, он также сообщил мне, что он также полный банкрот. И подписал: «Прошу подбодрить».
Я не стал.
Каким-то образом Джонсон достиг магической цифры. К концу июня он продал 3250 пар «Тайгеров». И он исцелился. Таким образом, теперь он ожидал от меня выполнения моей части уговора. Перед Днем труда он арендовал небольшое помещение под розничную торговлю на бульваре Пико, строение 3107, в Санта-Монике и открыл наш самый первый магазин.
Вслед за этим он принялся превращать магазин в Мекку, в святая святых занимающихся бегом. Он приобрел самые удобные кресла из всех, какие мог найти и позволить себе по цене (на дворовых распродажах), и устроил для покупателей красивое место, в котором они могли бы потолкаться и поболтать. Он соорудил полки и заполнил их книгами, которые должен прочитать каждый бегун, причем многие из этих книг были первыми изданиями из его собственной библиотеки. Он увешал стены фотографиями бегунов, обутых в кроссовки «Тайгер», и создал запас футболок, на которых по центру на груди, методом шелкографии, было нанесено слово Tiger. Эти футболки он раздавал своим лучшим клиентам. Он также прикрепил кроссовки к черной лакированной стене и сделал подсветку встроенным направленным светом – очень хипово. Очень модно. Во всем мире еще никогда не было такого святилища для любителей бега, такого места, где им не только продавали обувь, но и прославляли их самих и их кроссовки. Джонсон, стремившийся стал культовым лидером бегунов, наконец-то создал свой храм. Службы в нем совершались с понедельника по субботу, с девяти утра до шести вечера.
Когда он впервые написал мне о магазине, я вспомнил храмы и святыни, виденные мною в Азии, и мне не терпелось увидеть, насколько магазин Джонсона походит на них. Но времени просто не хватало. Разрываясь между работой в «Прайс Уотерхаус», пирушками под градусом с Хэйесом, бдениями по ночам и по выходным, когда приходилось заниматься тысячью мелочей, связанных с «Блю Риббон», и четырнадцатью часами военной подготовки как резервист ежемесячно, я чувствовал, что нахожусь при последнем издыхании.
Затем пришло роковое письмо от Джонсона, и у меня не было другого выхода, как только запрыгнуть в самолет.
Клиенты, ставшие друзьями Джонсона по переписке, теперь стали исчисляться сотнями, и один из них, ученик средней школы с Лонг-Айленда, тоже написал Джонсону, случайно раскрыв тревожную новость. Мальчонка сообщал, что его тренер по бегу недавно вел разговор о приобретении кроссовок «Тайгер» из нового источника… у некоего тренера по борьбе то ли из Вэлли-Стрим, то ли из Массапекуа, то ли из Манхассета.
«Ковбой Мальборо» вернулся. Он даже разместил с прицелом на всю страну рекламу в номере журнала «Трэк энд Филд». В то время как Джонсон был занят, браконьерствуя на территории «ковбоя Мальборо», сам «ковбой» занимался браконьерством там, где браконьерствовали мы сами. Джонсон проделал всю эту замечательную подготовительную работу, создал внушительную клиентскую базу, распространил благодаря своему упорству и сырому сарафанному маркетингу информацию о «Тайгерах», а теперь некий «ковбой Мальборо» собирается коршуном налететь на готовенькое и нажиться?
Не уверен, что знаю, почему я запрыгнул в самолет, вылетающий ближайшим рейсом в Лос-Анджелес. Я мог бы позвонить. Возможно, мне, как и клиентам Джонсона, нужно было ощутить чувство общности, даже если речь шла об общности всего двух лиц.
Первое, чем мы занялись, была длительная, изматывающая пробежка по пляжу. Потом мы купили пиццу и принесли ее в квартиру, которая походила на стандартную берлогу разведенного парня, только с более явными признаками. Маленькая, погруженная в темноту, по-спартански неуютная – она напомнила мне некоторые лишенные всяческих излишеств общежития, в которых я останавливался во время своего путешествия вокруг света.
Разумеется, в ней можно было заметить несколько характерных штрихов, явно присущих Джонсону. Например, обувь повсюду. Я думал, что моя квартира была заполнена обувью, но Джонсон фактически жил внутри беговой кроссовки. Кругом и везде, втиснутые в каждый угол и в каждую щель, занимавшие всю свободную поверхность, на вас смотрели кроссовки и только кроссовки, и их количество, казалось, прибывало, причем по большей части они пребывали в несколько раздербаненном состоянии.
Немного укромных уголков, не заваленных кроссовками, были забиты книгами; еще больше книг было на самодельных стеллажах – необструганных досках, уложенных на шлакоблоках. А бульварщину Джонсон не читал. Его книжное собрание состояло в основном из толстых томов по философии, религии, социологии, антропологии, а также классики западной литературы. Я-то думал, что люблю читать; Джонсон был на уровень выше.
Что поразило меня больше всего – это жуткий фиолетовый свет, заливавший все помещение. Его источником был аквариум с соленой водой на семьдесят пять галлонов воды. Расчистив для меня место на диване, Джонсон похлопал ладонью по аквариуму и пояснил. Большинство недавно разведенных парней любит шататься по барам для одиночек, но Джонсон проводил вечера, рыская под пирсом Сил Бич в поисках редких рыб. Ловил он их при помощи приспособления под названием «засасывающее ружье», которым он помахал перед моим носом. Оно смахивало на прототип первого в мире пылесоса. Я спросил, как оно работает. Просто опускаешь сопло на мелководье, ответил он, и засасываешь рыбку в пластиковую трубку, а затем в небольшую камеру. Потом выстреливаешь улов в ведерко и тащишь домой.
Он сумел собрать много самых разнообразных экзотических существ – морских коньков, окуньков-синеглазок «опаловый глаз», – которых он демонстрировал мне с гордостью. Он указал мне на жемчужину своей коллекции – малыша-осьминога, которому он присвоил кличку «Растяжка». «Раз уж заговорили о нем, – добавил Джонсон, – пришло время кормежки».
Он полез в бумажный пакет и вытащил из него живого краба. «Ну, давай, Растяжка», – обратился Джонсон к осьминогу, вертя краба над аквариумом. Осьминожка не дернулась. Джонсон опустил краба, дергающего ножками, на усыпанное песком дно аквариума. По-прежнему никакой реакции от Растяжки. «Он что, умер?» – спросил я. «Смотри», – отвечал Джонсон.
Краб тем временем пританцовывал вправо и влево, паникуя в поисках укрытия. Укрытия, однако, не было. И Растяжка об этом знала. Спустя несколько минут что-то как бы нерешительно выдвинулось из-под брюха Растяжки. То ли антенна, то ли щупальце. Это нечто развернулось в сторону краба и слегка похлопало его по панцирю. «Эй, видал? Растяжка только что впрыснула яд в краба», – пояснил Джонсон с широкой улыбкой, как гордый отец. Мы наблюдали, как краб замедлял свой танец, а потом вообще перестал двигаться. Наблюдали, как Растяжка нежно обхватила краба своей антенной-щупальцем и затащила его в свое логово – ямку, которую она вырыла в песке под большим камнем.
Это было патологически болезненное кукольное представление, мрачная пьеса для театра кабуки, актерами в которой выступили безмозглая жертва и микро-Кракен – было ли это знаком, метафорой для дилеммы, стоящей перед нами? Одно живое существо, пожираемое другим? Это была природа с ее суровыми законами морских глубин, а я не мог отделаться от мысли, не было ли увиденное нами предвозвестником истории о «Блю Риббон» и «ковбое Мальборо».
Остаток вечера мы провели, сидя за кухонным столом Джонсона, раздумывая над письмом его осведомителя из Лонг-Айленда. Он прочитал его вслух, затем я прочитал его про себя, после чего мы обсудили, что же делать.
«Направь стопы свои в Японию», – сказал Джонсон.
«Что?»
«Ты должен поехать туда, – сказал он. – Расскажи им о проделанной нами работе. Требуй свои права. Покончи с этим «ковбоем Мальборо» раз и навсегда. Как только он начнет продавать свои кроссовки, как только он по-настоящему развернется, его будет не остановить. Либо мы проведем прямо сейчас разграничительную линию на песке, либо все будет кончено».
«Я только что вернулся из Японии, – сказал я, – и у меня нет денег на новую поездку. Я влил все свои средства в «Блю Риббон», и у меня не было никакой возможности просить Уоллеса о новом кредите». От этой мысли меня стало подташнивать. Кроме того, у меня не было времени. В «Прайс Уотерхаусе» предоставлялся двухнедельный отпуск раз в год, если вам не требовалось двух недель на военную переподготовку в качестве резервиста, как в моем случае. В этом случае вам предоставлялась одна дополнительная неделя… которую я уже использовал.
Помимо всего прочего, я сообщил Джонсону: «Это бесполезно. Начало отношений «ковбоя Мальборо» с «Оницукой» предшествовали моим».
Не теряя присутствия духа, Джонсон вытащил свою пишущую машинку, ту самую, с помощью которой он пытал меня, и начал печатать проекты заметок, идей, перечней, как базовый материал для будущего манифеста, который мне надо будет передать руководству компании «Оницука». В то время как Растяжка доедала краба, мы жевали пиццу и поглощали пиво, планируя свои действия вплоть до глубокой ночи.
Вернувшись в Орегон на следующий день, я прямиком направился к офис-менеджеру в компании «Прайс Уотерхаус».
«Мне нужно две недели отпуска, – сказал я, – прямо сейчас».
Он поднял глаза от бумаг на своем столе и уставился на меня, и в течение одной адски затянувшейся секунды я подумал, что меня сейчас уволят. Вместо этого он откашлялся и пробормотал нечто… странное. Я не смог разобрать каждое слово, но, похоже, он подумал… судя по моей напористости, расплывчатости моих объяснений… что от меня кто-то забеременел.
Я сделал шаг назад и начал протестовать, но осекся. Пусть он думает что хочет. Лишь бы дал мне требуемое время. Запустив руку в свои редеющие волосы, он наконец вздохнул и сказал: «Ступай. Удачи тебе. Надеюсь, все устроится».
Я включил стоимость авиабилета в сумму платежей с моей кредитной карты. Погашение рассрочки в течение двенадцати месяцев. И в отличие от моей предыдущей поездки в Японию, на этот раз перед вылетом я направил телеграмму. Я сообщил руководителям «Оницуки», что еду к ним и что хочу встретиться с ними. Они телеграфировали ответ: приезжайте.
Но далее в их телеграмме сообщалось, что с Моримото у меня встречи не будет. Он то ли уволен, то ли умер. Теперь у них новый менеджер, говорилось в телеграмме. Зовут его Китами.
Кисикан. По-японски – дежавю. Я опять садился в самолет, вылетающий в Японию. Я вновь сидел с книгой «Как делать бизнес с японцами», подчеркивая и запоминая важные места. Я вновь садился в поезд до Кобе, регистрировался в гостинице «Ньюпорт», мерил шагами свой номер из угла в угол.
В назначенный час я взял такси и поехал в «Оницуку». Я ожидал, что мы направимся в старый конференц-зал, но нет, со времени моего последнего визита они кое-что переделали и обновили. Новый конференц-зал, сказали они. Изящнее, больше, с кожаными креслами вместо прежних, обтянутых тканью, и со значительно бо́льшим по размерам столом. Более впечатляющий, но менее знакомый. Я почувствовал себя дезориентированным, устрашенным. Это было так, будто во время вашей подготовки к выступлению на соревнованиях на стадионе Орегонского университета вам на последней минуте объявили бы, что они перенесены на стадион «Мемориал Колизеум» в Лос-Анджелесе.
В конференц-зал вошел человек и протянул руку. Китами. Его черные ботинки были до блеска начищены, а волосы в равной степени блестели от лака. Черные как смоль, зачесанные прямо назад, ни единой выбившейся пряди. Огромный контраст с Моримото, который всегда выглядел так, будто одевался с завязанными глазами. Я был сбит с толку внешним лоском Китами, но неожиданно он тепло улыбнулся заученной улыбкой и учтиво пригласил меня сесть, расслабиться, рассказать, что меня привело сюда, и в этот момент я отчетливо почувствовал, что, несмотря на его стильный внешний облик, он не был полностью уверен в себе. В конце концов, он был на совершенно новой для себя работе. Он еще не приобрел большого капитала. Это слово молниеносно пронеслось у меня в голове.
Мне также пришло в голову, что я представлял большую ценность для Китами. Я не был большим клиентом, но и маленьким тоже не был. География – это все. Я продавал кроссовки в Америке, на рынке, который был жизненно важным для будущего «Оницуки». Возможно, просто возможно, что Китами пока еще не хотел меня терять. Возможно, он хотел придержать меня до тех пор, пока они не переключились полностью на «ковбоя Мальборо». Я был активом, я делал честь их репутации – на данный момент, что значило, что у меня на руках, возможно, карты получше, чем я думал.
Китами больше говорил по-английски, чем его предшественники, но с более сильным акцентом. Моему слуху потребовалось несколько минут, чтобы к нему приспособиться, пока мы болтали о моем полете, погоде, продажах. Все это время другие директора предприятия продолжали заполнять конференц-зал, присоединяясь к нам за столом. Наконец, Китами откинулся в кресле. «Хай…» – Он подождал. «Г-н Оницука?» – спросил я.
«Г-н Оницука сегодня не сможет присоединиться к нам», – ответил Китами.
Проклятие. Я надеялся на расположение г-на Оницуки ко мне, не говоря уже о его связи с Бауэрманом. Но нет. В одиночестве, без союзников рядом, оказавшись, как в ловушке, в незнакомом конференц-зале, я бросился в бой.
Я сказал Китами и другим директорам, что к данному моменту «Блю Риббон» проделала замечательную работу. Мы реализовали все партии заказанной обуви, создав внушительную клиентскую базу, и ожидаем, что такой солидный рост будет продолжен. В 1966 году было реализовано продукции на сорок четыре тысячи долларов, а по прогнозам на 1967 год реализация может достигнуть восьмидесяти четырех тысяч долларов. Я дал описание нашего нового магазина в Санта-Монике и изложил планы по открытию других торговых точек – нацеливаясь на большое будущее. Затем я поднажал на газ. «Мы бы очень хотели стать эксклюзивным американским дистрибьютором легкоатлетической обуви «Тайгер», – сказал я. – И я полагаю, это будет весьма выгодно для «Тайгера», если мы станем им».
Я даже не упомянул «ковбоя Мальборо».
Я посмотрел на сидевших вокруг стола. Мрачные физиономии. Но ни одного мрачнее Китами. Он заявил буквально в нескольких скупых словах, что это невозможно. Компания «Оницука» хотела бы иметь в лице своего американского дистрибьютора кого-нибудь покрупнее, с более прочной и признанной репутацией, компанию, которая могла бы справиться с нагрузкой. Компанию с филиалами на Восточном побережье.
«Но… но, – пролепетал я, – у «Блю Риббон» есть филиалы на Восточном побережье».
Китами качнулся на кресле: «Да?»
«Да, – сказал я, – мы закрепились на Восточном побережье, Западном побережье и вскоре, возможно, будем иметь филиалы на Среднем Западе. Мы в состоянии быть дистрибьютором на национальном уровне, нет вопросов». Я посмотрел на лица сидящих за столом. Мрачные лица становились менее мрачными.
«Ну, – сказал Китами, – это меняет дело». Он заверил меня, что они внимательно рассмотрят мое предложение. Итак. Хай. Заседание завершилось.
Я вернулся пешком в гостиницу и провел вторую ночь, шагая из угла в угол. Утром я первым делом получил вызов вновь прийти в «Оницуку», где Китами вручил мне эксклюзивные права дистрибьютора в Соединенных Штатах.
Он дал мне контракт на три года. Я старался выглядеть безразличным, подписывая бумаги и размещая заказ на дополнительные пять тысяч пар обуви стоимостью в двадцать тысяч долларов, которых у меня не было. Китами сказал, что вышлет их в мой филиал на Восточном побережье, филиал, которого у меня тоже не было.
Я обещал телеграфировать ему точный адрес.
Во время полета домой я смотрел через окно на облака над Тихим океаном и возвращался в мыслях к тому моменту, когда я сидел на вершине Фудзиямы. Интересно, как бы отнеслась ко мне Сара теперь, после такого поворота. Интересно также, что почувствует «ковбой Мальборо», когда услышит от «Оницуки», что он лузер.
Я засунул подальше свою книжку «Как делать бизнес с японцами». Моя ручная кладь была забита сувенирами. Кимоно маме и сестрам, а также матушке Хэтфильд, небольшой самурайский меч, чтобы повесить его над моим письменным столом. И предмет моей особой гордости – маленький японский телевизор. Трофеи войны, подумал я с улыбкой. Но когда я пролетал где-то над Тихим океаном, вся тяжесть моей «победы» навалилась на меня. Я представил себе выражение лица Уоллеса, когда попрошу его выдать кредит на этот гигантский новый заказ. Если он скажет «нет», когда он скажет «нет», что тогда?
С другой стороны, если он скажет «да», каким образом собираюсь я открыть филиал на Восточном побережье? И как я собираюсь сделать это до того, как прибудет партия обуви? И кого собираюсь я назначить, чтобы руководить филиалом?
Я смотрел на изогнутый дугой пылающий горизонт. Был только один человек на всей планете, в достаточной степени лишенный корней, в достаточной степени энергичный, в достаточной степени обуреваемый энтузиазмом и в достаточной степени сумасшедший, чтобы переехать на Восточное побережье немедленно, без проволочек, и прибыть туда раньше, чем контейнер с кроссовками.
Я спрашивал себя, понравится ли Растяжке Атлантический океан.
Незастекленные окна
Справился я с задачей неважно. То есть совсем плохо.
Предчувствуя, какой может быть его реакция, и страшась ее, я отложил на потом ознакомление Джонсона со всей историей. Я начеркал ему краткую записку, сообщая, что встреча в «Оницуке» прошла успешно и что я обеспечил себе права дистрибьютора на всей территории страны. Но далее рассказывать не стал. Думаю, что где-то в глубине моего сознания еще оставалась надежда, что, может быть, мне удастся нанять кого-то другого, чтобы отправиться на восток. Или же сверлила мысль, что Джонсон разрушит весь план.
И на самом деле я действительно нанял другого человека. Разумеется, бывшего бегуна на длинные дистанции. Но он передумал и отказался буквально через несколько дней после того, как согласился поехать. Поэтому я, полный разочарования, сбитый с толку, погруженный в вихрь тревог и проволочек, обратился к намного более простой задаче – найти кого-нибудь для замены Джонсона в магазине в Санта-Монике. Я обратился к Джону Борку, тренеру по бегу в средней школе Лос-Анджелеса, другу моего друга. Он ухватился за этот шанс. Трудно было ожидать от него более горячего желания. Откуда я мог знать, что он проявит такое нетерпение начать. На следующее утро он заявился в магазин Джонсона и объявил, что он – новый босс.
«Новый – кто?» – переспросил Джонсон.
«Меня наняли, чтобы я принял у вас дела перед тем, как вы отправитесь на восток», – отвечал Борк.
«Когда я отправлюсь – куда?» – вновь переспросил Джонсон, потянувшись за телефоном.
С этим разговором я тоже не смог справиться как надо. Я сказал Джонсону, что, ха-ха, послушай, дружище, я как раз собирался позвонить тебе. Я сказал, что сожалею, что он узнал эту новость таким вот образом, и как мне неловко. Объяснил, что был вынужден солгать «Оницуке», утверждая, что у нас якобы уже есть филиал на Восточном побережье. Таким образом, мы чертовски влипли. Новая партия обуви вскоре будет отгружена на пароход, и гигантский груз на всех парах направится в Нью-Йорк, и никто, кроме Джонсона, не сможет разрулить проблему с получением товара и открытием филиала. Судьба «Блю Риббон» покоилась на его плечах.
Джонсон был ошеломлен. Затем пришел в ярость. Затем испугался. Все в течение одной минуты. Поэтому я сел в самолет и полетел, чтобы встретиться с ним в его магазине.
Он сказал мне, что не хочет жить на Восточном побережье. Он любил Калифорнию. Он прожил в Калифорнии всю жизнь. Он мог заниматься бегом в Калифорнии круглый год, а бег для Джонсона, как я знал, был всем. Как он сможет заниматься на востоке бегом зимой на жестоком морозе? И дальше в таком же духе.
Его манера резко изменилась. Мы стояли посреди его магазина, его святилища кроссовок, когда он едва слышно пробормотал, что для «Блю Риббон», в которую он основательно вложился – материально, эмоционально, духовно, – настал решающий момент: пан или пропал. Он признал, что больше никого не было, кто бы смог основать филиал на Восточном побережье. Он пустился в долгий, бессвязный, наполовину внутренний монолог, доказывая, что магазин в Санта-Монике практически работает как автомат, поэтому он мог бы подготовить себе замену за один день, и что он уже смог однажды открыть магазин в отдаленной местности, так что он смог бы сделать это опять быстро, а мы должны были действовать быстро, учитывая, что партия кроссовок уже плывет морем, а вскоре посыпятся осенние заказы для школьников и студентов, возвращающихся к учебе, но затем он отвел глаза, вопрошая не то у стен, не то у выставленных кроссовок, не то у Великого духа, почему бы ему просто не заткнуться и не сделать этого, сделать все, что бы я ни попросил, и быть благодарным, стоя на коленях, за предоставление этой чертовой возможности, когда все вокруг видят, что он – Джонсон замолчал, подыскивая точные слова, – «бездарный придурок».
Я мог бы сказать что-нибудь вроде: о нет, это не так. Не суди себя так строго. Мог бы. Но не сказал. Я рта не раскрыл и ждал.
И ждал.
«О’кей, – сказал он наконец, – я поеду».
«Отлично. Просто здорово. Потрясно. Спасибо».
«Но куда?»
«Что куда?»
«Куда ты хочешь, чтобы я поехал?»
«Ах да. Ну, куда угодно на Восточном побережье, где есть порт. Только не вздумай отправиться в Портленд, штат Мэн».
«Почему?»
«Компания, базирующаяся в двух разных Портлендах? Да такое вывернет японцам мозги набекрень».
Мы еще какое-то время пообсуждали это и наконец решили, что Нью-Йорк и Бостон, по логике, лучшие места. Особенно Бостон. «Отсюда к нам поступает большинство заказов», – сказал один из нас. «О’кей, – сказал Джонсон. – Бостон, жди, я иду».
Затем я передал ему кучу туристических брошюр о Бостоне, недвусмысленно обыгрывая тему осеннего листопада. Чуток жестко сработал, но я был в отчаянном положении. Он спросил меня, как это я догадался захватить с собой все эти брошюры, и я ответил, что знал, что он примет правильное решение.
Он рассмеялся. Умение прощать, которое Джонсон продемонстрировал мне, добродушие, проявленное им, наполнили меня чувством благодарности и обновленной любви к этому человеку. И, возможно, более глубоким чувством лояльности. Я пожалел о своем прежнем отношении к нему. Обо всех тех письмах, оставшихся без ответа. Бывают одни командные игроки, думал я, и другие командные игроки, но есть еще и такие, как Джонсон.
А вслед за этим он пригрозил уволиться.
Разумеется, сделал это в письме. «Думаю, я был причастен к тому успеху, который мы до сих пор имеем, – написал он. – А также к тому успеху, которого мы сможем добиться по крайней мере в ближайшие два года».
Поэтому он предъявил мне ультиматум, состоявший из двух частей:
1. Сделать его полноправным партнером «Блю Риббон».
2. Поднять ему зарплату до шестисот долларов в месяц плюс треть всех доходов после реализации первых шести тысяч пар кроссовок.
В противном случае, сказал он, прощай.
Я позвонил Бауэрману и сообщил ему, что штатный сотрудник номер один поднял бунт. Бауэрман спокойно все выслушал, рассмотрел все под разным углом, взвесил все «за» и «против» а затем вынес свой вердикт: «Гони его в шею».
Я сказал, что не уверен, что «гнать в шею» – лучшая стратегия. Может, есть какая-то золотая середина, чтобы без крайностей успокоить Джонсона, дав ему долю в компании. Но когда мы стали это обсуждать более подробно, арифметика не вытанцовывалась. Ни Бауэрман, ни я не хотели отдавать какую-либо часть своей доли, поэтому ультиматум Джонсона даже в случае, если бы я захотел принять его, оказался обреченным на поражение.
Я вылетел в Пало-Альто, где был Джонсон, навещавший своих родителей, и я попросил его посовещаться накоротке. Джонсон сказал, что хотел бы, чтобы в нашем разговоре принял участие его отец, Оуэн. Встреча состоялась в офисе Оуэна, и я был с порога ошеломлен сходством между отцом и сыном. Они выглядели одинаково, говорили одинаково, и даже многие их манеры были похожи. Сходство, однако, на этом заканчивалось. С самого начала Оуэн был громогласен, агрессивен, и я мог видеть, что подстрекателем бунта был именно он.
По профессии Оуэн был торговцем. Он продавал звукозаписывающее оборудование, к примеру диктофоны, и он был чертовски хорош в этом. Для него, как для большинства торговцев, жизнь представлялась одним долгим переговорным процессом. Который он смаковал. Другими словами, он был моей полной противоположностью. Ну, погнали, подумал я. Еще одна перестрелка с виртуозом-переговорщиком. Когда же это закончится?
Перед тем как перейти к сути вопроса, Оуэн вначале захотел рассказать мне историю. Торгаши всегда это делают. «Поскольку я был бухгалтером, – сказал он, – я вспомнил о бухгалтере, которого недавно встретил и у которого в качестве клиента была танцовщица, выступавшая полуголой». Рассказ, насколько помню, вращался вокруг того, освобождаются ли от уплаты налога силиконовые импланты танцовщицы. Дойдя до кульминационной фразы, я рассмеялся из вежливости, а затем вцепился в подлокотники кресла, ожидая, когда Оуэн перестанет смеяться и сделает первый шаг.
Начал он с перечисления всего того, что его сын сделал для «Блю Риббон». Он настаивал, что его сын – главная причина того, что «Блю Риббон» все еще существует. Я кивал, позволяя ему выговориться и подавляя желание вступить в зрительный контакт с Джонсоном, сидевшим в стороне на диване. Я гадал, отрепетировали ли они все это заранее так, как мы с Джонсоном репетировали мою роль перед тем, как я совершил свою последнюю поездку в Японию. Когда Оуэн закончил, когда он сказал, что, принимая во внимание факты, его сын, очевидно, должен стать полноправным партнером в компании «Блю Риббон», я откашлялся и признал, что Джонсон был как динамо-машина, что его работа была жизненно важной и неоценимой. Но затем я нанес удар: «Правда заключается в том, что наш объем продаж – сорок тысяч долларов, но еще больше мы должны, поэтому здесь просто нечего делить, парни. Мы деремся за кусочки пирога, которого нет».
Более того, я сказал Оуэну, что Бауэрман не желает продавать и капли из своей доли в «Блю Риббон», и поэтому я не могу продавать часть своей. Если я продам, то лишусь контрольного пакета компании, которую создал. А это не представляется возможным.
Я внес свое контрпредложение. Я бы повысил оклад Джонсона на пятьдесят долларов.
Оуэн уставился на меня. Это был злобный, жесткий взгляд, отточенный в ходе многих напряженных переговоров. Многим диктофонам после такого взгляда пришлось убраться, закрыв за собой дверь. Он ждал, что я согнусь, подниму планку своего предложения, но впервые в жизни у меня в руках оказались рычаги, поскольку у меня ничего не осталось, чтобы дать. «Либо бери, либо вали» – это как каре в покере. Тяжело побить.
Наконец, Оуэн повернулся к сыну. Думаю, мы оба с самого начала знали, что окончательное решение будет за Джонсоном, и я видел по его лицу, как в его душе борются два противоположных желания. Он не хотел соглашаться на мое предложение. Но и не хотел бросать работу. Он любил «Блю Риббон». «Блю Риббон» была ему нужна. Он видел в «Блю Риббон» единственное место в мире, в которое он вписывался, альтернативу корпоративным плывунам, засосавшим большинство наших одноклассников и друзей, большинство нашего поколения. Он миллион раз жаловался на отсутствие общения, взаимосвязи между нами, однако на самом деле мой стиль управления, основанный на невмешательстве, стимулировал его, развязывал ему руки. Вряд ли он нашел бы такую автономию где-либо еще. Несколько секунд спустя он протянул руку. «Договорились», – сказал он. «Договорились», – сказал я, пожимая ее.
Мы скрепили наше новое соглашение шестимильной пробежкой. Насколько я помню, победил я.
С Джонсоном на Восточном побережье и Борком, принимающим дела в его магазине, я чувствовал, что у меня полно сотрудников. Но после этого поступил звонок от Бауэрмана, который просил добавить в штат еще одного. Одного из его бывших парней-бегунов – Джефа Холлистера.
Я пригласил его с собой перекусить гамбургером, и все пошло как по маслу, но он заключил сделку, даже глазом не моргнув, когда я полез в карман и обнаружил, что у меня нечем заплатить за обед. Так что я нанял его для того, чтобы разъезжать по штату и продавать «Тайгеры», сделав его таким образом штатным сотрудником номер три.
Вскоре Бауэрман вновь позвонил. Он хотел, чтобы я нанял еще одного человека. Учетверение моего штата в течение нескольких месяцев? Уж не принимает ли меня мой старый тренер за «Дженерал Моторс»? Возможно, я и стал бы упираться, но тогда Бауэрман назвал мне имя кандидата на новое место.
Боб Вуделл.
Разумеется, это имя было мне знакомо. Каждый в штате Орегон знал его. Вуделл заметно выделялся в команде Бауэрмана 1965 года. Не совсем звезда, но достойный и вдохновляющий соперник. В то время как Орегон во второй раз отстаивал свое право на проведение чемпионата США по легкой атлетике за последние три года, Вуделл появился ниоткуда и победил в прыжках в длину хваленую команду Калифорнийского университета (Лос-Анджелес). Я был на этих соревнованиях, видел, как он это сделал, и ушел, оставшись под большим впечатлением.
На следующий день после этого прошло сообщение по телевидению. Несчастный случай во время празднования Дня матери в штате Орегон. Вуделл с двадцатью своими друзьями из студенческого братства спускали паром на воду Миллрейс, речного потока, протекавшего через университетский кампус. Они попытались перевернуть его, и кто-то оступился. Затем кто-то не смог удержать, а еще кто-то вообще отпустил груз. Кто-то закричал, и все бросились врассыпную. Плот рухнул, придавив Вуделла и раздробив ему первый поясничный позвонок.
Похоже, было мало надежды на то, что он вновь сможет ходить.
Бауэрман организовал на стадионе имени Хейварда благотворительное мероприятие под названием «Соревнования на закате дня» (a twilight meet), чтобы собрать средства, необходимые для лечения Вуделла. Теперь же он поставил перед собой задачу найти какое-нибудь дело для Вуделла. В настоящее время, сказал он, бедняга сидит в родительском доме в инвалидной коляске, уставившись в стену. Вуделл навел предварительные справки о возможности стать помощником тренера, чтобы работать у Бауэрмана, но Бауэрман сказал мне: «Я просто не думаю, что из этого что-то получится, Бак. Может, он сможет сделать что-то для «Блю Риббон».
Я повесил трубку и набрал номер Вуделла. Я едва не сказал, как я сожалею в связи с его несчастным случаем, но спохватился. Я не был уверен, что это было бы правильным началом разговора. Мысленно я перебрал еще с полдюжины вариантов, что сказать, но ни один не годился. Никогда еще я не испытывал подобной нехватки слов, да и полжизни я прожил будто лишенный дара речи. Что говорят звезде беговой дорожки, спортсмену, который неожиданно теряет способность ходить? Я решил говорить строго о бизнесе. Я объяснил, что Бауэрман рекомендовал Вуделля, и сказал, что у меня может быть работа для него в моей новой обувной компании. Я предложил встретиться и отобедать вместе. Разумеется, сказал он.
Мы встретились на следующий день в закусочной, в центре Бивертона, пригороде на севере Портленда. Вуделл сам был за рулем, он уже освоил специальный автомобиль, «Меркурий Кугар» с ручным управлением. На самом деле он приехал рано. Я опоздал на четверть часа.
Если б не инвалидная коляска, то не знаю, узнал бы я Вуделля, когда вошел в зал. Я лишь однажды видел его в лицо и несколько раз по телевидению, но после всех его многочисленных испытаний и хирургических операций он невероятно похудел. Он потерял в весе шестьдесят фунтов, и его от природы резкие черты лица теперь были очерчены еще тоньше. Волосы его, однако, были по-прежнему черными как смоль и, как и прежде, на удивление туго завитыми в кудри.
Он был похож на бюст Гермеса или на его изображение на фризе, виденном мною где-то в греческой глубинке. Глаза у него тоже были черные, и от них исходил свет непоколебимости и проницательности, а возможно, и печали. Мало чем отличаясь от глаз Джонсона. Чем бы это ни было, это завораживало и покоряло. Я пожалел, что опоздал.
Предполагалось, что обед пройдет как собеседование по приему на работу, но мы оба понимали, что это интервью – чистая формальность. Орегонцы заботятся о своих. К счастью, отбросив в сторону вопрос о лояльности, мы нашли общий язык. Мы вызывали смех друг у друга в основном в адрес Бауэрмана. Мы вспоминали множество способов, которыми он пытал бегунов якобы для того, чтобы привить им стойкость, к примеру, накаляя в сауне ключ на печи-нагревателе, а затем прижимая его к голым участкам их тела. Мы с ним оба пали жертвами такого испытания. Вскоре я понял, что дал бы работу Вуделлю даже в том случае, если бы мы не были знакомы. С удовольствием. Он относился к моему типу людей. Я не был уверен, что «Блю Риббон» что-то стоящее или же станет когда-либо чем-то стоящим, но чем бы она ни была или будет, я надеялся, что она сможет позаимствовать кое-что от духа этого человека.
Я предложил ему должность ответственного за открытие нашего второго магазина розничной торговли – в Юджине, недалеко от университетского кампуса, за ежемесячную зарплату в четыреста долларов. Слава богу, он не стал торговаться. Если бы он попросил четыре тысячи в месяц, думаю, я бы нашел способ удовлетворить его.
«Договорились?» – спросил я. «Договорились», – сказал он. Он протянул руку, чтобы пожать мою. У него по-прежнему была сильная хватка спортсмена.
Официантка принесла счет, и я с апломбом сказал Вуделлю, что за обед расплачусь я. Я достал бумажник и обнаружил, что он пуст. Я спросил штатного работника «Блю Риббон» номер четыре, не сможет ли он дать мне взаймы. Только до получки.
Когда он не посылал мне новых сотрудников, Бауэрман направлял мне результаты своих последних экспериментов. В 1966 году он заметил, что внешняя часть подошвы кроссовки Spring Up таяла как масло, тогда как средняя вставка подошвы оставалась нетронутой. Поэтому он хотел бы, чтобы «Оницука» взяла среднюю вставку подошвы у модели Spring Up и соединила ее с внешней частью подошвы кроссовки Limber Up, добившись, таким образом, конечной цели – тренировочных кроссовок для длительного бега. Теперь, в 1967 году, «Оницука» прислала нам прототип, и он был удивительным. С роскошной амортизацией и стильными очертаниями он выглядел пришельцем из будущего.
Компания «Оницука» запрашивала, как, по нашему мнению, стоит назвать новые кроссовки. Бауэрману понравилось название «Ацтек» – в честь Олимпийских игр 1968 года, проведение которых должно было состояться в Мехико. Мне название тоже понравилось. Отлично, сказали в «Оницуке». Так родились кроссовки «Ацтек».
И после этого «Адидас» пригрозил подать в суд. У «Адидас» уже были новые кроссовки под названием «Ацтека голд», трековые шиповки, с которыми эта компания планировала выйти на рынок к открытию Олимпиады. О них еще никто не слышал, но этот факт не остановил «Адидас» в том, чтобы поднять шумиху.
В раздражении отправился я в горы к Бауэрману, чтобы у него дома все это обсудить. Мы уселись на широком крыльце с видом на реку. В тот день она сверкала, как серебряный шнурок. Он снял свою бейсболку, потом надел ее вновь, потер лицо ладонью. «Как звали того парня, который дух вышиб из ацтеков?» – спросил он. «Кортесом», – ответил я. Он ухмыльнулся: «О’кей. Давай назовем наши «Кортесом».
Во мне нарастало нездоровое чувство презрения к «Адидас». А может, оно было, наоборот, здоровым. Эта единственная немецкая компания доминировала на обувном рынке пару десятилетий, и у нее выработалось высокомерное чувство безраздельного преобладания над другими. Вполне возможно, что эти люди вовсе не были высокомерны и что мне просто нужно было видеть в них монстра для того, чтобы мотивировать самого себя. В любом случае я презирал их. Мне надоело, ежедневно примеряясь, видеть, что они ушли далеко вперед и намного опережают меня. Я не мог вынести мысли о том, что мне суждено навечно плестись в хвосте.
Ситуация напомнила мне о Джиме Грелле. Грелль (чье имя писалось как Grelle, но произносилось как Грелла, а иногда как Горилла) был самым быстрым бегуном во время нашей учебы в средней школе, а я – вторым, что означало, что в течение четырех лет подряд я видел перед собой его спину. Затем мы с Греллем поступили в Орегонский университет, где его тирания надо мной продолжилась. Ко времени окончания университета я жил надеждой, что уже никогда не увижу перед собой его спину. Годы спустя, когда Грелль выиграл забег на 1500 метров в Москве на стадионе имени Ленина, я носил военную форму и сидел на диване в комнате отдыха в Форт-Льюисе. Я тогда прокачал, как насосом, сжатым кулаком перед экраном телевизора – Yes! – ощутив гордость за своего земляка-орегонца, но я продолжал испытывать некоторую неприязнь к нему, вспоминая, сколько раз он побеждал меня. Теперь я стал видеть в «Адидас» второго Грелля. Меня предельно выводила из себя эта бесконечная гонка за ним и юридическое отслеживание им наших действий. Это также пробуждало во мне драйв. Сильнейший.
И вновь, как и прежде, в то время, как я предпринимал свои донкихотские попытки обогнать превосходящего соперника, рядом со мной в качестве тренера оказался Бауэрман. Вновь он делал все возможное, чтобы создать мне условия для победы. Я часто пытался оживить в памяти, что он говорил перед нашими забегами для поднятия духа, особенно тогда, когда предстояло выступать против наших кровных конкурентов из Орегонского университета. Я по нескольку раз прокручивал про себя эпохальные обращения Бауэрмана к нам, вновь слышал, как он говорил нам, что Орегонский университет никакой не конкурент. Победить университет Южной Калифорнии и Калифорнийский университет было важно, убеждал он, но победа над Орегонским университетом была (он выдерживал паузу) совсем другим делом. Спустя почти шестьдесят лет я ощущаю озноб по всему телу, вспоминая его слова, его тон. Никто не мог так заставить кипеть вашу кровь, как Бауэрман, хотя он никогда не повышал голоса. Он знал, как говорить подсознательным курсивом, хитро ставить восклицательные знаки в нужных местах, будто прикладывая раскаленные ключи к голому телу.
Для того чтобы получить дополнительное вдохновение, я иногда возвращался в своих воспоминаниях к тому первому дню, когда я увидел Бауэрмана, обходившего раздевалку и раздававшего новые кроссовки. Когда он подошел ко мне, я даже не был уверен, что попал в команду. Я был первокурсником, не успевшим себя проявить, все еще в состоянии роста. Но он с размаху придавил мне грудь парой новых шиповок. «Найт», – произнес он. И всё. Только мою фамилию. Ни полслога больше. Я посмотрел на кроссы. Они были зеленого цвета с желтыми полосками – это были цвета университета штата Орегон, – ничего более захватывающего я еще не видел. Я лелеял их, отнес их в свою комнату и осторожно водрузил на верхнюю полку книжного шкафа. Помню, как наставлял на них свою настольную лампу на «гусиной шее».
Разумеется, шиповки были фирмы «Адидас».
К концу 1967 года Бауэрман уже воодушевлял многих помимо меня. Та книга, о которой он говорил, та глупая книга о джоггинге была напечатана и поступила на прилавки магазинов. Тонкая книжка в сотню страниц, «Джоггинг», стала проповедью благой вести о физических упражнениях для всей нации, которая ранее редко слышала подобные нравоучения, нации, которая коллективно валялась на диване, и каким-то образом из этой книги возгорелось пламя. Она разошлась тиражом в миллион экземпляров, инициировала движение. Изменила смысл самого слова «бег». Вскоре благодаря Бауэрману и его книге бег больше не воспринимался как занятие для чудаков. Он уже более не был увлечением секты. Он стал почти… крутым пристрастием.
Я радовался за него, но и за «Блю Риббон» заодно. Его бестселлер наверняка вызовет широкую гласность и приведет к росту продаж. Затем я сел и прочитал книгу. У меня внутри что-то оборвалось. Обсуждая требуемую экипировку, Бауэрман давал некоторые советы в рамках здравого смысла, после чего следовали некоторые вызывающие смущение рекомендации. Затронув проблему боли в мышцах передней области голени после чрезмерной физической нагрузки (т. н. расколотую голень), он написал, что правильный выбор обуви важен, но для бега подойдет почти любая. «Возможно, то, в чем вы работаете в саду или в чем вам приходится хлопотать по хозяйству, прекрасно подойдет и для бега трусцой».
Это еще что?
Что касается тренировочной экипировки, то Бауэрман сказал своим читателям, что надлежащая одежда «может придать духу», но добавил, что люди не должны зацикливаться на брендах.
Возможно, он посчитал, что такие суждения справедливы для любителя заниматься – время от времени – бегом трусцой в отличие от тренированного спортсмена, но, ради всего святого, разве следовало ему обо всем этом говорить печатным словом? В то время, когда мы ведем борьбу за создание собственного бренда? А если конкретнее, то как это все согласуется с его истинным мнением о «Блю Риббон» и обо мне? Подойдет любая обувь? Если это так, то зачем, черт побери, мы суетимся, продавая «Тайгеры»? Что мы дергаемся, как идиоты?
Я лез из кожи, чтобы догнать «Адидас», но в некотором смысле я все еще едва поспевал за Бауэрманом в надежде получить от него одобрение, и, как всегда, в конце 1967 года казалось маловероятным, что я когда-либо догоню того или другого.
Во многом благодаря «Кортесу», придуманному Бауэрманом, мы с блеском завершили год, добившись ожидаемых показателей дохода: восьмидесяти четырех тысяч долларов.
Я чуть ли не с нетерпением ждал своего очередного захода в «Первый национальный банк». Наконец-то Уоллес отступил и приоткрыл пошире свой кошелек. Возможно, даже признал значение роста.
Между тем «Блю Риббон» переросла размеры моей квартиры. Может, было бы правильнее сказать, что она захватила ее. Мое жилье теперь полностью походило на холостяцкую берлогу Джонсона. Все, чего ей теперь для этого не хватало, – это фиолетовой подсветки и маленького осьминога. Далее я уже не мог откладывать, мне требовалась надлежащая офисная площадь, поэтому я арендовал большое помещение в восточной части города.
Это было не ахти что. Простое старое рабочее помещение с высоким потолком и высокими окнами, из которых несколько было либо разбито, либо их заклинило, и они не закрывались, что означало, что внутри была постоянная бодрящая температура – 50 градусов по Фаренгейту (10 градусов по Цельсию. – Прим. пер.). Буквально рядом располагалась шумная таверна, «Розовое ведерко», и каждый день в 4 часа дня, без промедления, там врубался музыкальный автомат. Стены были настолько тонкими, что слышно было падение первой пластинки на вращающий диск, а затем и каждую тяжело ударяющую по ушам музыкальную ноту.
Можно было слышать чуть ли не то, как люди, прикуривая, чиркали спичками и как, чокаясь, звенели бокалами. На здоровье. Салюд. Вздрогнули!
Но арендная плата была дешевой. Пятьдесят долларов в месяц.
Когда я взял с собой Вуделля, чтобы показать ему помещение, он допустил, что у него был определенный шарм. Оно должно было понравиться Вуделлю, потому что я переводил его из магазина в Юджине в этот офис. Он проявил недюжинное мастерство в магазине, организаторское чутье наряду с безграничной энергией, но я мог бы с большей пользой использовать его там, что я буду называть «домашним офисом». И кто бы сомневался, в День Первый он прибыл с решением, касающимся окон, которые заклинило. Он привез с собой один из своих старых дротиков, чтобы с его помощью зацепить оконные защелки и дернуть за них так, чтобы окна захлопнулись.
Мы не смогли позволить себе застеклить разбитые окна, поэтому в действительно холодные дни мы просто работали в свитерах.
Тем временем я воздвиг фанерную стену, разделив арендованную площадь пополам и создав, таким образом, складское помещение в задней части и торгово-офисное помещение ближе ко входу. Мастер из меня был никудышный, а пол был кривым, поэтому стена получилась далеко не прямой и не ровной. С расстояния в десять футов она казалась волнистой. Мы с Вуделлем решили, что это выглядит обалденно.
В комиссионном магазине офисных товаров мы купили три потрепанных стола: один для меня, один для Вуделля и один для «третьего лица, достаточно глупого, чтобы работать на нас». Я также соорудил пробковую панель на стену, к которой прикрепил различные модели кроссовок «Тайгер», заимствовав некоторые из идей декора у Джонсона, виденные мною в Санта-Монике. В дальнем углу я устроил небольшую примерочную для клиентов.
Однажды без пяти минут шесть вечера к нам заглянул парнишка школьного возраста. «Мне нужны кроссовки», – сказал он робко. Мы устали, но нам нужна была продажа каждой пары. Мы поговорили с малышом о его подъеме стопы, его походке, его жизни и предложили померить несколько пар. Ему потребовалось время, чтобы зашнуровать их, походить по помещению, и каждый раз он объявлял очередную пару «не совсем подходящей». В семь часов вечера он заявил, что ему надо пойти домой и «подумать». Он ушел, а мы с Вуделлем остались сидеть среди гор пустых коробок и разбросанных кроссовок. Я взглянул на него. Он – на меня. Это так мы собираемся создать обувную фирму?
МЫ НЕ СМОГЛИ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЗАСТЕКЛИТЬ РАЗБИТЫЕ ОКНА, ПОЭТОМУ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЛОДНЫЕ ДНИ МЫ ПРОСТО РАБОТАЛИ В СВИТЕРАХ.
В то время как я постепенно перевозил товар из своей прежней квартиры в мой новый офис, мне в голову то и дело возвращалась мысль о том, что, возможно, имеет смысл вообще отказаться от этой квартиры и переехать в офис, поскольку в принципе я и так уже жил там. Когда меня не было в «Прайс Уотерхаусе», где я зарабатывал на арендную плату, я проводил время в «Блю Риббон» и наоборот. Я мог бы принимать душ в тренажерном зале.
Но я сказал себе, что жить в собственном офисе, – это поступок сумасшедшего. А затем я получил письмо от Джонсона, в котором он писал, что поселился в своем новом офисе.
Он остановил свой выбор на Уэлсли, фешенебельном пригороде Бостона, чтобы разместить там наш филиал на Восточном побережье. Разумеется, он приложил к письму нарисованную от руки карту и эскиз, а еще добавил больше информации, чем мне было необходимо, по истории и топографии, а также погодных условиях в Уэлсли. А еще он рассказал мне, как случилось, что он выбрал такое место.
Первоначально он подумывал о Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Прибыв туда, он провел встречу с учеником средней школы, который предупредил его о тайных махинациях «ковбоя Мальборо». Парень провез Джонсона по всему району, и Джонсон увидел достаточно для того, чтобы прийти к заключению, что Лонг-Айленд ему не подходит. Он распрощался со школьником, направился по магистрали I-95 на север, и когда добрался до Уэлсли, то городок сразу расположил его к себе. Он увидел бегающих по причудливым загородным дорогам жителей, многие из которых были женщинами, а многие из них, в свою очередь, выглядели точными копиями актрисы Эли Макгроу. Эли Макгроу была любимым женским типом Джонсона. Он помнил, что Эли Макгроу посещала колледж Уэлсли.
Затем он узнал или же вспомнил, что маршрут Бостонского марафона пролегал как раз через этот городок. Все, выбор был сделан.
Он порылся в своей картотеке и нашел адрес местного клиента, еще одного чемпиона по бегу среди школьников. Он подъехал к дому этой спортивной звезды, постучал в дверь, не потрудившись заранее предупредить о визите. Подростка дома не было, однако его родители с большой готовностью пригласили Джонсона войти и подождать. Когда мальчишка пришел домой, он увидел продавца его кроссовок сидящим за обеденным столом и утолявшим голод вместе со всей семьей. На следующий день, после того как они совершили совместную пробежку, Джонсон получил от парня список имен – местных тренеров, потенциальных клиентов, вероятных контактов, а также список ближайших районов, которые могут ему понравиться. В течение нескольких дней он нашел и арендовал небольшой дом, стоявший за похоронным бюро. Оформив дом под вывеской «Блю Риббон», он одновременно превратил его в свое жилище. Он хотел, чтобы я покрыл половину из двухсот долларов арендной платы за него.
Как постскриптум, он добавил, что я еще должен приобрести для него мебель.
Я ничего не ответил.
Моя Пенелопа
Я отдавал компании «Прайс Уотерхаус» шесть дней в неделю, проводя все ранние утренние часы и поздние вечера, а также все выходные и отпуска в «Блю Риббон». Никаких друзей, никаких спортивных занятий, никакой общественной жизни – и чувство полного удовлетворения. Жизнь моя была лишена равновесия, это точно, но для меня это было неважно. На самом деле я хотел еще большего дисбаланса. Или иного дисбаланса.
Я хотел бы посвятить каждую минуту каждого дня компании «Блю Риббон». Я никогда не был человеком, выполнявшим одновременно множество задач, и я не видел причин для того, чтобы начинать такое сейчас. Я хотел присутствовать при деле, всегда и постоянно. Я хотел постоянно сосредотачивать свое внимание на одной задаче, которая действительно была важной. Если моя жизнь должна была означать только работу и никакой игры, я хотел, чтобы моя работа стала игрой. Я хотел уйти из «Прайс Уотерхаус». Не потому, что я ненавидел их; просто это было не по мне.
Я хотел того, чего хочет каждый. Быть самим собой, все время без исключения. Но это было невозможно. Содержать себя за счет «Блю Риббон» я бы просто не смог. Несмотря на то что компания в пятый год своего существования была на пути к удвоению объема продаж, она все еще была не в состоянии обосновать заработную плату своего соучредителя. Так что я решил пойти на компромисс: найти другую работу, которая позволила бы мне оплачивать счета, но отнимала бы у меня меньше времени, оставляя мне больше простора для моей страсти.
Единственной работой, которая, как я полагал, отвечала этому критерию, было преподавание. Я подал заявку в Портлендский государственный университет и получил место преподавателя-ассистента с окладом в семьсот долларов в месяц.
Я должен был бы радоваться, что ушел из «Прайс Уотерхаус», но я там многому научился, и мне было грустно покидать Хэйеса. Больше никаких коктейлей после работы, сказал я ему. Никаких больше Уолла-Уолла. «Я собираюсь сконцентрироваться на своем обувном предприятии», – сказал я. Хэйес нахмурился, пробурчал что-то – то ли о том, что будет скучать без меня, то ли восхищаясь мною.
Я спросил его, что он собирается делать. Он ответил, что думает переждать в «Прайс Уотерхаус». Сбросить фунтов пятьдесят, стать партнером – таков был его план. Я пожелал ему удачи.
В рамках официального оформления моего ухода я должен был пойти и переговорить с боссом, старшим партнером с диккенсовскими именем и фамилией Кёрли Леклерк. Он был вежливым, беспристрастным, уравновешенным, исполняющим одноактную драму, которую он играл сотни раз, – интервью с сотрудником перед его увольнением. Он спросил, чем я собираюсь заняться вместо того, чтобы работать в одной из лучших в мире бухгалтерских фирм. Я ответил, что начал собственный бизнес и что я надеюсь, что он пойдет, а пока собираюсь преподавать бухгалтерское дело. Он уставился на меня. Я отошел от принятого сценария. И далеко. «На какой рожон ты такое устроил?»
И наконец, действительно трудное интервью на предмет ухода с работы. Я сообщил отцу. Он тоже уставился на меня. Мало того, что я все еще продолжаю свою дурацкую беготню с кроссовками, сказал он, но теперь еще… это. Преподавательская работа не была респектабельной. Преподавание в Портлендском государственном университете вообще не заслуживало никакого уважения. «Что мне теперь говорить своим друзьям?» – спросил он.
В университете мне поручили четыре бухгалтерских класса, включая базовый курс бухучета 101. Я потратил несколько часов на подготовку, повторяя основные концепции, а с приходом осени сбалансированность моей жизни сместилась именно так, как я планировал. Я все еще не располагал всем тем временем, которое я хотел бы иметь или которое было мне нужно для «Блю Риббон», но еще стало больше. Я продвигался по пути, который я ощущал как свой путь, и хотя я не был уверен, куда он меня приведет, я был готов к тому, чтобы выяснить это.
Поэтому в тот первый день семестра, в начале сентября 1967 года, надежда меня буквально переполняла. Мои студенты, однако, этого не ощущали. Они медленно вваливались в класс, и каждый из них излучал лишь скуку и враждебность. Предстоящий час им предстояло провести как в заточении в этой душной клетке, где их будут насильно пичкать самыми зачерствелыми концепциями из когда-либо созданных человеком, и винить в этом надо было меня, что делало меня предметом их неприятия. Они смотрели на меня неодобрительно. А некоторые – насупившись.
Я разделял их чувства. Но не собирался позволить им сбить меня с панталыку. Стоя на кафедре в своем черном костюме и узком сером галстуке, я сохранял спокойствие – по большей части. Я всегда был несколько беспокойным, несколько раздражительным, а в те дни у меня еще случались непроизвольные нервные подергивания – например, надев на запястье резинки, я поигрывал ими, оттягивая и щелкая по руке. Возможно, я слишком быстро и слишком сильно стал щелкать резинками, поскольку увидел, как студенты разом ввалились в аудиторию, будто заключенные, закованные одной цепью.
Внезапно в классную комнату впорхнула и уселась в первом ряду изумительная девушка. У нее были длинные золотистые волосы, спадавшие на плечи, и в тон им большие, как обручи, золотые серьги, тоже касавшиеся ее плеч. Я посмотрел на нее, она – на меня. Ярко-голубые глаза оттенялись эффектной черной подводкой.
Я подумал о Клеопатре. О Джули Кристи. Я подумал: бог ты мой! Младшая сестра Джули Кристи только что записалась в мой класс по бухучету.
Я гадал, сколько ей может быть лет. Ей еще не может быть двадцати, терялся я в догадках, оттягивая и щелкая своими резинками на запястье, щелкая, щелкая и не отводя взгляда, а затем делая вид, что не смотрю. От нее трудно было отвести взгляд. И трудно было решить. Такая молодая и вместе с тем такая искушенная. Эти серьги – они были на все сто хиповыми, однако ее подводка глаз была само изящество – trus chic. Кем она была, эта девушка? И как я собираюсь сконцентрироваться на преподавании, когда она восседает у меня на первом ряду?
Я занялся перекличкой. Я до сих пор помню фамилии.
«Мистер Трухильо?»
«Здесь».
«Мистер Петерсон?»
«Мистер Джеймсон?»
«Здесь».
«Мисс Паркс?»
«Здесь», – нежным голосом произнесла младшая сестра Джули Кристи.
Я поднял глаза и не сдержал полуулыбку. Она ответила полуулыбкой. Я проставил галочку дрожащим карандашом против ее полного имени: Пенелопа Паркс. Пенелопа, как та верная жена Одиссея, путешественника по миру.
Все присутствуют и учтены.
Я решил прибегнуть к сократовскому методу. Думаю, я имитировал преподавателей Орегонского университета и Стэнфорда, чьи занятия нравились мне больше всего. И я все еще находился под впечатлением всего греческого, оставаясь очарованным, как в тот день, проведенный в Акрополе. Но, возможно, задавая вопросы, а не читая лекцию, я также пытался отвлечь их внимание от себя и принудить студентов к участию. В особенности некоторых симпатичных студентов.
«О’кей, класс, – сказал я, – вы покупаете три практически одинаковых устройства, соответственно уплатив один, два и три доллара. Затем вы продаете один за пять долларов. Какова себестоимость этого проданного устройства? И какова валовая прибыль от этой продажи?»
Поднялось несколько рук. Увы, руки мисс Паркс среди них не оказалось. Она сидела, потупившись. Видимо, застенчивее, чем сам преподаватель. Я был вынужден дать слово мистеру Трухильо, а затем мистеру Петерсону.
«О’кей, – сказал я, – теперь следующее: мистер Трухильо произвел учет своего товара по методу FIFO и получил валовую прибыль в размере четырех долларов. А мистер Петерсон применил метод LIFO и получил прибыль в два доллара. Итак. у кого бизнес лучше?»
Последовала энергичная дискуссия, охватившая почти всех, кроме мисс Паркс. Я смотрел на нее. И смотрел. Она ничего не говорила. Она не поднимала глаз. Возможно, она не была стеснительной, подумал я. Может, она просто не была очень смышленой. Какая досада, если ей придется бросить класс. Или же мне придется исключить ее за неуспеваемость.
С самого начала я вбивал в своих студентов основной принцип любого бухгалтерского учета: суммарные активы равны сумме обязательств и собственного капитала. Это основополагающее уравнение, сказал я, должно всегда-всегда быть сбалансированным. Бухгалтерский учет – это решение проблем, сказал я, а большинство проблем сводится к определенному дисбалансу в этом уравнении. Поэтому решить – это значит сбалансировать. Говоря это, я чувствовал, что немного лицемерю, поскольку моя компания имела плохо согласованное отношение обязательств к собственному капиталу: 90 к 10. Я не раз морщился при мысли, что бы сказал Уоллес, если бы он присутствовал на моих занятиях и слышал меня.
Студенты, по-видимому, были не способнее меня, пытаясь сбалансировать это уравнение. Выполненные ими домашние задания были ужасны. То есть за исключением мисс Паркс! Она успешно справилась с первым заданием. С последующими заданиями она тоже управилась, зарекомендовав себя лучшей по успеваемости в классе. И она не просто давала правильный ответ на каждый вопрос. Ее почерк был изысканным. Как японская каллиграфия. Девушка с такой внешностью – и семи пядей во лбу?
В середине учебного года она продолжала получать высшие оценки в классе. Не знаю, кто был счастливее, мисс Паркс или мистер Найт.
Почти сразу после того, как раздал проверенные контрольные работы, она задержалась у моего стола, спросив, может ли она переговорить со мной. Разумеется, сказал я, потянувшись к своим резинкам, надетым на запястье, и несколько раз яростно щелкнув ими. Она спросила, не мог ли я рассмотреть возможность стать ее консультантом. Я был ошарашен. «О, – сказал я. – О! Сочту за честь».
А затем я выпалил: «А вы… не хотели бы… поступить на работу?»
«Не хотела бы что?»
«У меня тут есть небольшая обувная компания… э-э… на стороне. И ей необходима помощь бухгалтера».
Она стояла, прижимая свои учебники к груди. Потом взяла их поудобнее и захлопала ресницами. «О, – сказала она. – О, что ж, о’кей. Звучит… забавно».
Я предложил платить ей по два доллара в час. Она кивнула. По рукам.
Через несколько дней она пришла к нам в офис. Мы с Вуделлем предоставили в ее распоряжение третий стол. Она присела, положила ладошки на поверхность стола, оглядела комнату. «Что вы хотите, чтобы я делала?» – спросила она.
Вуделл вручил ей список рабочих занятий, включая печатание на машинке, ведение бухгалтерии, планирование, складирование, систематизацию и учет счетов-фактур, сказал ей выбирать ежедневно одно или два и приступать к работе.
Но она выбирать не стала. Она делала буквально все. Быстро и с легкостью. Неделя не прошла, а ни я, ни Вуделл не могли понять, как мы вообще раньше обходились без нее.
Ценным, как мы обнаружили, было не только качество работы, выполняемой мисс Паркс. Ценным был жизнерадостный дух, который она привносила во все, что она делала. С первого же дня вникла во все. Она разобралась в том, что мы пытались сделать, что мы пытались здесь соорудить. Она считала, что «Блю Риббон» уникальна, что из нее может получиться нечто особенное, и она стремилась сделать все, что могла, чтобы содействовать этому. Что на деле оказалось весьма весомым вкладом.
У нее было замечательное умение ладить с людьми. Особенно с торговыми представителями, которых мы продолжали нанимать. Как только они появлялись у нас на пороге офиса, она быстро составляла о них свое мнение и либо очаровывала их, либо ставила их на место, в зависимости от того, что требовалось. Будучи от природы застенчивой, она могла стать иронично-насмешливой, смешной, и торговые представители – конечно, те, которые ей понравились, – часто уходили, смеясь, оглядываясь через плечо и гадая, что же с ними только что произошло.
Наиболее очевидным было влияние мисс Паркс на Вуделля. В то время он переживал тяжелые моменты. Его тело боролось с инвалидной коляской, сопротивляясь своему пожизненному заключению. Он страдал от пролежней и прочих недугов, связанных с неподвижным сидением, и часто он неделями не появлялся на работе из-за болезни. А когда он бывал в офисе, то сидел рядом с мисс Паркс, она вернула ему румянец на щеки. Она оказывала лечебный эффект на него, а меня завораживало видеть все это.
Почти ежедневно я сам себя удивлял, с готовностью предлагая сбегать через улицу и принести обед для мисс Паркс и Вуделля. Вообще-то такое занятие было как раз тем, что мы могли бы поручить мисс Паркс, но раз за разом я добровольно вызывался сделать это вместо нее. Было ли это рыцарством? Происками нечистой силы? Что со мной происходило? Я не узнавал себя.
И все же некоторые вещи никогда не меняются. Моя голова была настолько забита дебитом и кредитом, кроссовками, кроссовками, кроссовками, что я редко исполнял заказы на обед правильно. Мисс Паркс никогда не жаловалась. Вуделл тоже. Неизменно вручал я каждому из них по пакету из коричневой бумаги, и они обменивались при этом понимающими взглядами. «Не могу дождаться, чтобы увидеть, что там у меня на обед», – бывало, бормотал Вуделл. Мисс Паркс прикладывала ладонь к губам, пряча улыбку.
Думаю, мисс Паркс заметила, что я заворожен ею. Между нами промелькнуло несколько долгих взглядов, несколько многозначительных неловких пауз. Помню один взрыв нервного смеха и наступившую после этого необыкновенную тишину. Помню, как однажды мы встретились взглядами, и из-за ее остановившегося на мне взора я потом не смог всю ночь заснуть.
Затем это случилось. В один из холодных ноябрьских дней, в конце месяца, когда мисс Паркс не было в офисе, я направлялся из нашего офиса в складское помещение и, проходя мимо ее стола, заметил, что один из ящиков выдвинут. Я остановился, чтобы закрыть его, и увидел внутри… пачку чеков? Все ее чеки на получение зарплаты – необналиченные.
Для нее это не было работой за деньги. Это было чем-то другим. Так, может, причиной… был я? Может такое быть?
Возможно.
(Позже я узнал, что Вуделл так же поступал со своими чеками.)
В тот День благодарения на Портленд обрушилось рекордное похолодание. Легкий бриз, пробивавшийся сквозь щели в оконных рамах офиса, теперь превратился в ледяной арктический ветер. Его порывы иногда были настолько сильными, что бумагу сдувало со столов, а шнурки на выставленных образцах начинали трепетать. Находиться в офисе было невыносимо, но мы не могли позволить себе отремонтировать окна и не могли закрыть контору. Поэтому я с Вуделлем перебрался к себе в квартиру, а мисс Паркс регулярно присоединялась к нам в дневное время.
Однажды, после того как Вуделл отправился домой, мы с мисс Паркс, оставшись вдвоем, почти слова не проронили. По окончании работы я проводил ее до лифта. Нажал на кнопку вызова «вниз». Оба напряженно улыбались. Я еще раз нажал на кнопку. Мы оба уставились на огоньки, мелькавшие над дверями лифта. Я откашлялся. «Мисс Паркс, – проговорил я. – Вы не против… э-э… может… чтобы нам встретиться вечером в пятницу?»
Ох уж эти глаза Клеопатры. Они увеличились вдвое. «Со мной?»
«Я больше никого рядом с нами не вижу», – сказал я.
Пинь. Пришел лифт, и его двери раскрылись.
«О, – сказала она, опустив глаза и разглядывая свои туфли, – ну, хорошо. О’кей». Она быстро впорхнула в лифт и, пока двери закрывались, так и не оторвала своего взгляда от своих туфель.
Я повел ее в Орегонский зоопарк. Не знаю почему. Думаю, мне казалось, что, прогуливаясь вокруг и любуясь на животных, мы сможем не спеша, не форсируя, лучше узнать друг друга. Кроме того, бирманские питоны, нигерийские козы, африканские крокодилы могли бы сослужить мне хорошую службу, дав возможность произвести на нее впечатление своими рассказами о моих путешествиях. Меня тянуло похвастаться тем, что я видел пирамиды, храм богини Ники. Я также рассказал ей о том, как заболел в Калькутте. Никому раньше я не расписывал в подробностях тот пережитый ужас. Не знаю, почему я заговорил об этом с мисс Паркс, помимо того, что в Калькутте я пережил один из самых сильных приступов одиночества в своей жизни, а с ней в тот момент я чувствовал себя как раз наоборот, далеко не одиноким.
Я признался ей, что положение «Блю Риббон» было шатким. Все дело могло лопнуть в любой день, но я все равно не мог представить себе, что стану заниматься чем-то другим. Моя маленькая обувная компания, сказал я, была живым, дышащим организмом, который я сотворил из ничего. Я вдохнул в нее жизнь, ухаживал за ней во время болезни, несколько раз возвращая ее к жизни, поднимая со смертного одра, а теперь я хотел – мне было необходимо – увидеть, что она твердо стоит на ногах и вступает в большой мир. «Есть ли в этом смысл?» – спросил я.
«Мм-мм», – сказала она.
Мы прогуливались мимо клеток со львами и тиграми. Я сказал ей, что категорически не хочу работать на чужого дядю. Я хотел построить что-то, что будет моим, что-то, на что я смог бы указать, сказав: я это сделал. Только так в моем представлении жизнь становилась осмысленной. И значимой.
Она кивнула. Как и с основными принципами бухгалтерского учета, она ухватила все интуитивно, и сразу же.
Я спросил ее, встречается ли она с кем-то. Она призналась, что встречается. Но парень, ну, сказала она, он просто мальчишка. Все ребята, с которыми она ходила на свидания, сказала она, были просто мальчишками. Болтали о спорте и машинах (я оказался достаточно сообразителен, чтобы не признаться, что люблю и то, и другое). «Но вы, – сказала она, – вы повидали мир. А теперь рискуете всем, чтобы создать компанию…»
Голос ее умолк. Я распрямил плечи. Мы попрощались со львами и тиграми.
Во время нашего второго свидания мы сходили в «Джейд Вест», китайский ресторан через дорогу от нашего офиса. За говядиной по-монгольски и цыпленком с чесноком она рассказала мне свою историю. Она все еще живет в родительском доме и очень любит свою семью, но есть проблемы. Ее отец служил адвокатом в Адмиралтействе, что, на мой взгляд, было неплохой работой. Судя по ее рассказу, ее дом, несомненно, был больше и лучше дома, в котором вырос я. Но пятеро детей, как она намекнула, это создавало чрезмерную нагрузку. Деньги были постоянной проблемой. Определенное нормирование превратилось в семье в стандартный порядок жизнеобеспечения. Всего всегда не хватало; постоянно ощущался дефицит основных предметов обихода, таких, например, как туалетная бумага. На доме лежала печать незащищенности. Незащищенность ей не нравилась. Она предпочитала безопасность. Она вновь повторила это слово. Безопасность.
Вот почему ее внимание привлек бухгалтерский учет. Он казался ей основательным, надежным, тем главным направлением профессиональной деятельности, на которое она всегда могла положиться.
Я спросил ее, как случилось, что она выбрала Портлендский университет. Она ответила, что начинала учиться в Орегонском. «О!» – удивленно выдохнул я, будто она призналась в том, что отсидела в тюрьме.
Она засмеялась. «Если это послужит утешением, то скажу, что ненавидела его». В частности, она не могла подчиниться требованию учебного заведения, согласно которому каждый студент обязан пройти хотя бы один курс по ораторскому мастерству. Она была слишком застенчива для такого.
«Я понимаю, мисс Паркс».
«Зовите меня Пенни».
После обеда я подвез ее домой и встретился с ее родителями. «Мам, пап, это мистер Найт».
«Рад с вами познакомиться», – сказал я, пожимая им руки. Мы все уставились друг на друга. А потом на стены. Потом на пол. Хорошие погоды стоят, не правда ли?
«Ну, – сказал я, постучав пальцем по циферблату своих ручных часов и щелкнув своими резинками, – уже поздно, так что я лучше пойду».
Ее мать взглянула на настенные часы. «Еще только девять часов, – сказала она. – Ничего себе свиданьице».
Сразу же после нашего второго свидания Пенни улетела с родителями встречать Рождество на Гавайях. Она прислала мне открытку, и я принял это за хороший знак. Когда она вернулась, в первый же день, когда она пришла в офис, я вновь пригласил ее пообедать вместе. Было это в начале января 1968 года, в жутко холодный вечер. Вновь мы отправились в «Джейд Вест», но на этот раз я встретился с ней прямо в ресторане, и я здорово опоздал, приехав с экзаменационного совета «Бойскаутов Америки», на котором лучшим ребятам присуждали высшее звание «скаута-орла», услышав о котором она фыркнула: «Скаут – орел? Это вы-то?»
Я воспринял это как еще один хороший знак. Она чувствовала себя вполне раскрепощенно, чтобы подтрунивать надо мной.
В какой-то момент во время нашего третьего свидания я заметил, что мы оба стали держаться намного непринужденнее. Ощущение было прекрасное. Легкость в общении сохранялась, а в течение следующих нескольких недель наша раскованность стала еще глубже. Между нами возникло взаимопонимание, некое ощущение друг друга, нам удавалось общаться, не прибегая к словам. Как могут делать только два застенчивых человека. Когда она чувствовала смущение или неловкость, я ощущал это, я либо давал ей время, чтобы она справилась с этим сама, либо пытался расшевелить ее, в зависимости от ситуации. Когда же я сам начинал тупить, погружался в какой-либо внутренний спор сам с собой по поводу бизнеса, она знала, стоит ли ей слегка похлопать меня по плечу или же терпеливо выждать, пока я не приду в себя.
По закону Пенни еще не достигла возраста, когда ей разрешалось бы пить алкогольные напитки, но мы часто одалживали водительские права одной из моих сестер и отправлялись выпить по коктейлю в ресторан «Трейдер Вик» в центре города. Алкоголь и время творили чудеса. К февралю, ближе к моему тридцатилетию, она проводила каждую свою свободную минуту в «Блю Риббон», а все вечера – у меня на квартире. В какой-то момент она перестала обращаться ко мне как к мистеру Найту.
Случилось неизбежное – я привез ее домой на встречу с моими родителями. Мы все восседали за обеденным столом, ели приготовленной мамой тушеное мясо, запивая его холодным молоком, и делали вид, что не испытываем неловкость. Пенни была второй девушкой, которую я привел домой, и хотя она не обладала дикой харизмой Сары, то, что она имела, было лучше. Ее обаяние было естественным, неотрепетированным, и, хотя семейству Найтов, похоже, это понравилось, все же оно оставалось семейством Найтов. Мать ничего не сказала; сестры безуспешно старались стать связующим мостом с отцом и матерью; а отец задал серию зондирующих, тщательно продуманных вопросов о семье и воспитании Пенни, в результате чего он стал похож на нечто среднее между кредитным офицером банка и детективом уголовного сыска. Потом Пенни сказала мне, что атмосфера у нас дома была полной противоположностью тому, к чему она привыкла у себя, где за обедом каждый имел право высказываться, каждый мог смеяться и перекрикивать друг друга, в то время как собаки лаяли, а в углу орал телевизор. Я заверил ее, что никто не заметил, что она чувствовала себя не в своей тарелке.
После этого она привела меня к себе домой, и я убедился в правоте всего, о чем она рассказывала мне. Ее дом был полной противоположностью. Несмотря на то что он был грандиознее «усадьбы» Найтов, в нем царил бардак. Ковры были загажены всевозможными животными – немецкой овчаркой, обезьяной, кошкой, несколькими белыми крысами и гусем с дурным характером. И этот хаос был правилом. Помимо клана Парксов и их заполненного живностью ковчега, дом был притоном для всех детей, бродяжничавших в округе.
Я старался изо всех сил, чтобы казаться обаятельным, но, похоже, никак не мог установить с кем-либо двухстороннюю связь, ни с людьми, ни с животными. Медленно, старательно прокладывал я подходные пути к матери Пенни – Дот. Она напомнила мне тетушку Мейм – недотепистую, сумасбродную, вечно молодую. Во многом она осталась нестареющим девочкой-подростком, не воспринимавшей своей роли главы рода. Меня поразило, что она больше походила на сестру Пенни, нежели на ее мать, и действительно, вскоре после обеда, когда мы с Пенни пригласили ее составить нам компанию и пропустить стаканчик, Дот ухватилась за такую возможность.
Мы посетили несколько питейных заведений и закруглили свой обход, заглянув в бар в восточной части Портленда, работавший после полуночи. Пенни после двух коктейлей перешла на содовую, но не Дот. Та продолжала и продолжала принимать на грудь, и вскоре она уже срывалась с места, чтобы пуститься в пляс со всякими типами странного вида. Матросами и еще хуже. В какой-то момент она ткнула большим пальцем в сторону Пенни и сказала мне: «Давай избавимся от этой зануды! Она же балласт!» Пенни закрыла глаза руками. Я рассмеялся и расслабился. Я прошел тест у Дот.
Печать одобрения, полученная мною от Дот, обещала превратиться в актив несколько месяцев спустя, когда я захотел увезти Пенни с собой на целый уик-энд. Хотя Пенни проводила вечера в моей квартире, мы все еще были стеснены в некотором смысле соображениями уместности. До тех пор, пока она жила под их крышей, Пенни чувствовала себя обязанной подчиняться родителям, следовать их правилам и ритуалам. Поэтому я был обязан получить согласие ее матери перед тем, как отправиться в такую большую поездку.
Надев костюм с галстуком, я явился к ним в дом. Я обласкал их питомцев, потрепал рукой гуся и попросил Дот переговорить со мной. Мы уселись с ней за кухонным столом, каждый с чашкой кофе, и я сказал, что я очень дорожу Пенни. Дот улыбнулась. Я сказал, что уверен в том, что и Пенни очень дорожит мною. Дот улыбнулась, но менее уверенно. Я сказал, что хотел бы свозить Пенни на выходные в Сакраменто. На национальный чемпионат по легкой атлетике.
Дот сделала глоток кофе и собрала губы в трубочку. «Хм… нет, – сказала она. – Нет, нет, Бак, не думаю. Не думаю, что мы так сделаем».
«О, – сказал я. – Мне жаль слышать это».
Я пошел и, найдя Пенни в одной из дальних комнат дома, сказал ей, что ее мать отказала. Пенни прижала свои ладони к щекам. Я попросил ее не волноваться, сказал, что поеду домой, соберусь с мыслями и попробую что-нибудь придумать.
На следующий день я вернулся к ним и вновь попросил Дот уделить мне минутку времени. Вновь мы присели за чашкой кофе на кухне. «Дот, – сказал я, – возможно, вчера у меня не очень хорошо получилось объяснить вам, насколько серьезно я отношусь к вашей дочери. Видите ли, Дот, я люблю Пенни. А Пенни любит меня. И если все и дальше пойдет в том же духе, то, полагаю, мы сможет строить нашу дальнейшую жизнь вместе. Поэтому я очень надеюсь, что вы пересмотрите свое вчерашнее решение».
Дот перемешала сахар в кофе, постучала пальцами по столу. У нее на лице появилось странное выражение, выражение страха и неудовлетворенности из-за невозможности как-то повлиять на ситуацию. У нее было мало опыта в том, как вести переговоры, и она не знала, что основное правило переговорщика – знать, чего ты хочешь, с чем тебе надо уйти после переговоров, сохранив целостность. Поэтому она смутилась и мгновенно спасовала. «О’кей, – сказала она. – О’кей».
Мы с Пенни полетели в Сакраменто. В дороге мы оба были в приподнятом настроении, вдали от родителей и комендантского часа, хотя я подозревал, что радость Пенни продиктована в большей степени возможностью использовать подаренный ей с окончанием школы комплект чемоданов розового цвета.
Какой бы ни была причина, ничто не могло испортить ее хорошего настроения. В те выходные стояла испепеляющая жара, температура держалась выше 100 градусов по Фаренгейту (больше 38 градусов по Цельсию. – Прим. пер.), но Пенни ни разу не пожаловалась, даже на металлические сиденья на трибунах, превратившиеся в противни. Ей не становилось скучно, когда я объяснял нюансы бега, говорил о чувстве одиночества и о мастерстве бегуна. Она была заинтересована. Она схватывала все буквально на лету, как и все остальное.
Я привел ее на покрытое травой поле стадиона, познакомил с теми бегунами, которых знал, и с Бауэрманом, который с большой учтивостью отвесил ей комплименты, сказав, как она красива, и на полном серьезе поинтересовавшись, что она делает с таким никчемучкой, как я. Мы стояли вместе с моим бывшим тренером и следили за последними забегами дня.
В ту ночь мы остановились в отеле на окраине города. В номере люкс, окрашенном и оформленном в тревожных коричневых тонах. Мы оба сошлись во мнении, что цвет напоминал подгоревший тост. Воскресное утро мы провели в бассейне, прячась от солнца, укрывшись в тени трамплина. В какой-то момент я затронул вопрос о нашем будущем. На следующий день я отправлялся в длительную и жизненно важную поездку в Японию для того, чтобы, как я надеялся, сцементировать свои отношения с «Оницукой». Вернувшись в конце лета, мы не сможем продолжать бегать на свиданки, сказал я ей. В Портлендском университете косо смотрели на подобные отношения между преподавателями и студентами. Нам надо было бы что-то предпринять, чтобы формализовать их, сделать их безупречными. Имея в виду брак. «Ты смогла бы одна организовать все для свадьбы, пока я буду в отъезде?» – спросил я. «Да», – ответила она.
Вопрос почти не вызвал обсуждений, беспокойства или эмоций. Никаких переговоров. Все выглядело так, будто все предрешено. Мы пришли в свой номер цвета подгоревшего тоста и позвонили домой. После первого же гудка трубку подняла Дот. Я выложил ей новость, и после долгой, удушающей паузы она сказала: «Сукин ты сын». И бросила трубку.
Спустя несколько мгновений она перезвонила. Сказала, что реагировала импульсивно, потому что планировала весело провести лето с Пенни и поэтому расстроилась. Теперь же, сказала она, будет почти так же весело провести все лето, планируя свадьбу Пенни.
Вслед за этим мы позвонили моим родителям. Похоже, они были довольны, но моя сестра Джин только что вышла замуж, и свадебные заботы их немного умотали.
Мы повесили трубку, взглянули друг на друга, на коричневые обои, коричневый ковер на полу и оба вздохнули. Такова жизнь.
Я продолжал твердить про себя, повторяя снова и снова: я обручен, я обручен. Но это как-то не западало глубоко, возможно, потому, что мы находились в отеле, в раскаленном пекле пригорода Сакраменто. Позже, когда мы вернулись домой и пошли в «Зейлс» выбирать обручальные кольца с изумрудом, появилось ощущение того, что это реально. Камень и оправа обошлись в пятьсот долларов – это было очень реальным. Но я ни разу не почувствовал нервозности, ни разу не спросил себя с типичным мужским отчаянием: «Боже мой, что я наделал?» Месяцы, полные свиданий и возможностей, чтобы ближе узнать Пенни, были самыми счастливыми в моей жизни, а теперь у меня открывалась перспектива увековечить это счастье. Именно так я смотрел на происходящее. Базовая позиция, как бухучет по форме 101. Суммарные активы равны сумме обязательств и собственного капитала.
Реальность происходящего обрушилась на меня во всей своей масштабности и объеме лишь после того, как я пустился в путь, после того как поцеловал свою невесту, пообещав написать ей сразу же после прибытия в Японию. У меня появилась не просто невеста, а любимая женщина, близкая подруга. У меня появился партнер. В прошлом, думал я, моим партнером был Бауэрман, а в некотором смысле и Джонсон. Но то, что возникло с появлением Пенни, оказалось уникальным, беспрецедентным. Возник союз, изменивший жизнь. Это обстоятельство по-прежнему не вызывало во мне нервозности; оно лишь заставило меня глубже чувствовать, мысленно окружать заботой и вниманием того, кого любишь. Я никогда не прощался с настоящим партнером, и на этот раз я ощутил огромную разницу. Только представь себе, думал я. Единственный и простейший способ узнать, как вы относитесь к человеку, – это попрощаться с ним.
На этот раз мой контакт в «Оницуке» остался прежним. Китами все еще работал в компании. Его не заменили. И не перевели на другую должность. Напротив, его положение в компании упрочилось, если судить по его поведению. Он казался более раскованным, более уверенным в себе.
Он приветствовал меня как члена одной семьи, сказал, что обрадован показателями работы «Блю Риббон» и доволен нашим филиалом на Восточном побережье, процветавшим под руководством Джонсона. «Теперь давайте поразмыслим, как нам завоевать американский рынок», – сказал он.
«Мне по душе такой настрой», – сказал я.
В своем портфеле я привез новые дизайны спортивной обуви, разработанные Бауэрманом и Джонсоном, включая один, над которым они потрудились вдвоем, модель, названную нами «Бостон». У нее была инновационная промежуточная амортизационная вставка подошвы по всей ее длине. Китами закрепил дизайны на стене и стал внимательно изучать их. Он взялся рукой за подбородок. Сказал, что они ему нравятся. «Очень, очень каласо», – сказал он, похлопывая меня по спине.
В течение следующих нескольких недель мы встречались много раз, и каждый раз я ощущал излучаемую Китами почти братскую ауру. Как-то раз он упомянул, что его экспортный отдел через несколько дней будет проводить свой традиционный ежегодный пикник. «Ты ходить!» – сказал он. «Я?» – переспросил я. «Да, да, – повторил он, – ты почетный член экспортного отдела».
Пикник был организован на Авадзи, крошечном островке в акватории Кобе. Чтобы добраться до него, мы взяли катер, а когда прибыли, то увидели длинные столы, расставленные вдоль берега, и на каждом были плоские блюда с морепродуктами и миски с лапшой и рисом. Рядом со столами находились емкости, заполненные охлажденными бутылками с прохладительными напитками и пивом. Все были в купальниках, солнцезащитных очках и все смеялись. Люди, которых я знал лишь по сдержанно-замкнутой, корпоративной обстановке, царившей в компании в рабочие дни, вели себя бесхитростно и беззаботно.
В конце дня состоялись соревнования. Занятия по сплочению коллектива вроде бега в мешках из-под картошки и забеги вдоль кромки моря, по мокрому песку. Я похвастался своей скоростью, и все поклонились мне, когда я первым пересек финишную черту. Все сошлись во мнении, что тощий гайдзин был очень быстр.
Я учил язык, медленно. Выучил, как будет по-японски «обувь» – гуцу. Узнал, что «доход» по-японски звучит как сайню. Узнал, как спросить, который час, как пройти куда-то, а также выучил фразу, которой часто пользовался: «Ватакуси домо но кайса най цюйте но джо хоу дэс» – некоторая информация о моей компании. К концу пикника я уселся на песок и постарался взглядом пересечь Тихий океан. Я жил двумя разными жизнями, обе из которых были замечательны и обе сливались в одну. Дома я был частью команды – со мной были Вуделл и Джонсон, а теперь и Пенни. Здесь же, в Японии, я был частью команды вместе с Китами и всеми хорошими людьми, работавшими в «Оницуке». По природе я был одиночкой, но с детства отличался в командных видах спорта. Моя психика приходила в совершенную гармонию, когда мне удавалось добиться сочетания времени, когда надо побыть наедине с собой, и времени, затраченного на работу в команде. То есть того, что было у меня сейчас.
Кроме того, я занимался бизнесом в стране, которую полюбил. Первоначальные страхи прошли. Я познал застенчивость японского народа, простоту его культуры, изделий, искусства. Мне нравилось, что они пытались добавить красоты каждой частице жизни, от чайной церемонии до унитаза. Мне нравилось, что по радио каждый день сообщалось, какие конкретно вишни на каком углу улицы зацвели и насколько пышно.
Мои мечтательные раздумья были прерваны, когда некто по имени Фудзимото присел рядом со мной. Где-то за пятьдесят, с поникшими плечами, у него был мрачноватый вид, выдававший нечто большее, нежели просто меланхолию среднего возраста. Похожий на японского Чарли Брауна. И все же я заметил, что он прилагает все усилия к тому, чтобы произвести на меня бодрое впечатление. Он с усилием изобразил на лице широкую улыбку и сказал мне, что любит Америку и что ему очень хотелось бы жить там. Я же ответил ему, что только что думал о том, как сильно я люблю Японию. «Может, нам стоит поменяться местами?» – спросил я. Он печально улыбнулся: «В любое время».
Я похвалил его английский язык. Он сказал, что научился ему от американских солдат. «Забавно, – сказал я, – но свои первые познания в японской культуре я получил от двух бывших американских солдат».
Первыми словами, которым научили его американские джи-ай, были: «Поцелуй меня в зад!» Мы от души посмеялись по этому поводу.
Я спросил его, где он живет, и улыбка сошла с его лица. «Несколько месяцев тому назад, – сказал он, – я потерял свой дом. Тайфун «Билли». Ураган полностью опустошил японские острова Хонсю и Кюсю, смел с лица земли две тысячи домов.
Одним из них, – поделился Фуджмото, – был мой дом». «Мне очень жаль», – сказал я. Он кивнул, посмотрел на воду и сказал, что начал все сызнова. Как поступают японцы. Единственной вещью, которую он, к сожалению, не смог заменить, оказался его велосипед. В 1960-е годы велосипеды в Японии были непомерно дорогими.
Тут к нам присоединился Китами. Я заметил, что Фуджимото сразу встал и пошел прочь.
Я заметил, обращаясь к Китами, что Фуджимото научился английскому от американских солдат, и Китами с гордостью сказал, что он выучил свой английский абсолютно самостоятельно, прослушивая звукозаписи. Я поздравил его и сказал, что надеюсь однажды так же свободно общаться на японском, как он на английском. Затем я сообщил ему, что собираюсь вскоре жениться. Рассказал ему немного о Пенни, а он поздравил меня и пожелал удачи. «Когда свадьба?» – спросил он. «В сентябре», – ответил я. «О, – воскликнул он, – я буду в Америке через месяц после этого, когда с г-ном Оицукой буду на Олимпийских играх в Мехико. Возможно, мы посетим Лос-Анджелес».
Он пригласил меня прилететь и отобедать с ними. Я сказал, что буду очень рад.
На следующий день я вернулся в Соединенные Штаты и почти первым делом, сразу после приземления, положил пятьдесят долларов в конверт и отправил их авиапочтой на адрес Фуджимото. На вложенной визитной карточке я написал: «На новый велосипед, друг мой».
Несколько недель спустя я получил от Фуджимото ответ. Мои пятьдесят долларов были вложены в записку с объяснением, что он запросил у руководства, может ли он оставить у себя присланные деньги, и начальство сказало «нет».
В виде постскриптума было приписано: «Если вы направите их на мой домашний адрес, я смогу оставить их у себя». Так я и поступил. И таким образом завязалось еще одно судьбоносное партнерство.
13 сентября 1968 года мы с Пенни обменялись клятвами на глазах у двухсот свидетелей в епископальной церкви Святого Марка в центре Портленда, у того же алтаря, перед которым были обвенчаны родители Пенни. Исполнился год, почти день в день, с того момента, как мисс Паркс впервые вошла в мою аудиторию. И вновь она оказалась на первом ряду – своего рода первом ряду, только на этот раз я стоял рядом с ней. И теперь она была миссис Найт.
Перед нами стоял ее дядя, служитель епископальной церкви из Пасадены, который отправлял службу. Пенни так сильно дрожала, что не могла поднять голову, чтобы заглянуть ему или мне в глаза. Я не дрожал, потому что смухлевал. В нагрудном кармане у меня было две бутылочки виски, полученные на борту самолета и припрятанные мною после недавней поездки в Японию. Одну я опорожнил буквально перед началом таинства бракосочетания, а вторую – сразу после его окончания.
Моим шафером был кузен Хаузер. Мой юрист, мой напарник. Другими шаферами стали оба брата Пенни, приятель из школы бизнеса и Кейл, сказавший мне за несколько секунд до начала церемонии: «Второй раз вижу тебя таким нервным». Мы засмеялись, а я в миллионный раз вспомнил тот день в Стэнфорде, когда я выступил со своей презентацией перед классом по курсу предпринимательства. Сегодня, подумал я, все похоже. Вновь я заверяю полный зал людей в том, что нечто возможно, что нечто может оказаться успешным. Когда, на самом деле я действительно не знаю. Я говорю, основываясь на теории, вере и собственном бахвальстве, как любой другой жених. Или невеста. И все будет зависеть от меня и от Пенни, сможем ли мы доказать истинность того, в чем поклялись в тот день.
Прием был организован в Садовом клубе Портленда, где дамы местного общества собирались в летние вечера, чтобы выпить дайкири и посплетничать. Вечер был теплым. Небо угрожало дождем, но оно так и не прохудилось. Я танцевал с Пенни. Танцевал с Дот. Танцевал со своей мамой. Перед тем как наступила полночь, мы с Пенни со всеми попрощались, запрыгнули в нашу совсем новую машину: пижонский «Кугар» черного цвета. Я помчал нас к берегу, где мы запланировали провести выходные в пляжном домике родителей Пенни, находившемся в двух часах езды от города.
Дот названивала каждые полчаса.
Вербовка шпиона
Неожиданно в нашем офисе началось циклическое чередование приливов и отливов совершенно нового состава действующих персонажей. Рост продаж позволял мне нанимать все больше торговых представителей. Большинство из них были бывшими бегунами и такими эксцентриками, какими могут быть лишь бывшие бегуны. Но когда дело доходило до продаж, все они концентрировались исключительно на бизнесе. Поскольку они вдохновились тем, что мы пытались сделать, и поскольку работали они исключительно на комиссии (по два доллара за пару обуви), они как угорелые носились повсюду, не пропуская ни одного школьного или институтского соревнования по легкой атлетике в радиусе тысячи километров, и их чрезвычайные усилия еще больше увеличивали наши показатели по реализации.
Мы достигли отметки в 150 тысяч долларов в продажах за 1968 год, и в 1969-м мы были на пути к тому, чтобы поднять планку почти до 300 тысяч. Хотя Уоллес все еще дышал мне в затылок, изводя меня призывами замедлить темпы и стеная об отсутствии у меня собственного капитала, я решил, что «Блю Риббон» достаточно хорошо справляется со своей задачей, чтобы оправдать зарплату своего основателя. Прямо накануне моего тридцать первого дня рождения я сделал смелый шаг. Я бросил работу в Портлендском университете и перешел на полный рабочий день в своей компании, выплачивая себе довольно щедрые восемнадцать тысяч долларов в год.
Помимо всего, сказал я себе, лучшая причина для того, чтобы покинуть Портлендский университет, заключалась в том, что я уже получил от этого учебного заведения гораздо больше – Пенни, – чем когда-либо надеялся получить. Я приобрел еще кое-что; просто я не знал об этом тогда. И даже не мечтал, насколько ценным это окажется.
Шла последняя неделя моего пребывания в университетском кампусе. Я шел коридорами и заметил группу молодых женщин, стоявших вокруг мольберта. Одна из них наносила мазки на большое полотно, и когда я проходил мимо, то услышал, как она сокрушалась по поводу того, что не может позволить себе поступить в класс по живописи маслом. Я остановился, будучи восхищен ее полотном. «А моя компания может себе позволить использовать художника», – сказал я.
«Что?» – переспросила она.
«Моей компании нужен человек, чтобы заниматься рекламой. Хотите заработать немного дополнительно?»
Я по-прежнему не видел, как можно получить наибольшую отдачу при наименьших затратах от рекламы, но я уже начал склоняться к выводу о том, что далее я не могу игнорировать ее. Финансово-страховая компания «Стандарт Иншуранс» незадолго до этого поместила рекламу на всю страницу в «Уолл-стрит джорнел», расхваливая в ней «Блю Риббон» как одну из динамичных молодых компаний из числа своих клиентов. В рекламе была помещена фотография Бауэрмана со мной… на которой мы смотрим на кроссовку. Не взглядом новаторов в области создания обуви, а так, будто никогда до этого не видели кроссовок. Мы выглядели на фото как идиоты. Полный конфуз.
На некоторых наших рекламных объявлениях моделью выступал не кто иной, как Джонсон. Вот Джонсон, облаченный в голубой спортивный костюм. Вот Джонсон, размахивающий дротиком. Когда дело доходило до рекламы, наш подход оказывался примитивным и небрежным. Мы занимались ею походя, учась на лету, и это вылезало из всех щелей. В одном рекламном объявлении, кажется, продвигавшем марафонки «Тайгер», мы назвали новый материал swooshfiber (дословно: волокно, пролетающее со свистом. – Прим. пер.). Никто из нас по сей день не помнит, кому в голову пришло такое название или что оно означает. Но звучало хорошо.
Люди постоянно твердили мне, что реклама важна, что за рекламной деятельностью будущее. Я всегда закатывал глаза. Но если неприглядные фотографии и искусственно придуманные слова, а также Джонсон в соблазнительных позах на диване попадали в наши рекламные объявления, мне пора было начать уделять этому больше внимания. «Я буду платить вам по два доллара в час», – сказал я этой оголодавшей художнице в коридоре Портлендского университета. «Чтобы я делала что?» – спросила она. «Чтобы вы занялись дизайном печатной рекламы, – сказал я, – рисовали надписи, логотипы, возможно, некоторые графики и диаграммы для презентаций».
Звучало не так, чтобы очень. Но бедный ребенок был в отчаянии.
Она написала свое имя и фамилию на листке бумаги. Кэролин Дэвидсон. И свой номер. Я засунул листок в карман и напрочь о нем забыл.
Прием на работу торговых представителей и художников-графиков свидетельствовал о большом оптимизме. А я не считал себя оптимистом по своей природе. Но и в пессимисты себя не записывал. Обычно я пытался балансировать между тем и другим, не отдавая предпочтения ни пессимизму, ни оптимизму. Но с приближением 1969 года я поймал себя на том, что сижу, уставившись взглядом в пространство и думая, что будущее может быть светлым. Хорошенько выспавшись и плотно позавтракав, я смог назвать массу причин для надежды. Помимо наших внушительных и растущих показателей по реализации, «Оницука» вскоре предложит несколько впечатляющих новых моделей, включая «Обори», характерной чертой которой будет легчайшее как пух нейлоновое верхнее покрытие. А также «Марафон», тоже из нейлона, с такими же элегантными формами, как у «Фольксвагена» «Карманн Гиа». Эти кроссовки будут сами себя продавать, говорил я много раз Вуделлю, закрепляя их на демонстрационном стенде.
В дополнение ко всему Бауэрман вернулся из Мехико, где он выполнял обязанности помощника тренера олимпийской команды США, что значило, что он сыграл ключевую роль в завоевании Соединенными Штатами больше медалей, чем когда-либо и чем любая другая команда, откуда бы она ни была. Мой партнер был более чем знаменит – он был легендарен.
Я позвонил Бауэрману, с нетерпением ожидая услышать, что он думает об Олимпиаде и особенно о том событии, благодаря которому о ней будут всегда помнить, – о протесте Джона Карлоса и Томми Смита. Стоя на подиуме во время исполнения гимна «Знамя, усыпанное звездами», оба спортсмена склонили головы и подняли сжатые кулаки в черных перчатках – шокирующий жест, призванный обратить внимание на расизм, нищету и нарушения прав человека. Их до сих пор осуждают за это. Но Бауэрман, как я ожидал, высказался в их поддержку. Бауэрман поддерживал всех бегунов.
Карлос и Смит были босыми во время протеста; они демонстративно сняли свои кроссовки «Пума» и остались в черных носках. Я сказал Бауэрману, что не мог решить, хорошо это было для «Пумы» или плохо. Действительно ли любая паблисити хороша? Схожа ли паблисити с рекламой? Не химера ли она? Бауэрман усмехнулся и сказал, что не уверен.
Он рассказал мне о скандальном поведении компаний «Пума» и «Адидас» во время Олимпийских игр. Две крупнейшие в мире компании по производству спортивной обуви, возглавляемые двумя братьями-немцами, испытывавшими взаимное презрение, преследовали друг друга по всей Олимпийской деревне как кистонские копы, всеми правдами и неправдами переманивая на свою сторону спортсменов, не стесняясь в средствах. Направо и налево ими раздавались огромные суммы наличных денег, часто засунутые в кроссовки или вложенные в коричневые манильские конверты. Одного торгового представителя «Пумы» даже засадили в тюрьму (ходили слухи, что его подставил кто-то из «Адидаса»). Этот бедолага был женат на девушке-спринтере, и Бауэрман шутил, говоря, что он женился лишь для того, чтобы получить ее согласие рекламировать шиповки.
Что еще хуже – дело не ограничилось только подкупом. «Пума» ввезла в столицу Мексики целые фургоны контрабандной обуви, тогда как «Адидас» ловко уклонилась от уплаты жестких мексиканских импортных тарифов. До меня дошли слухи, согласно которым эта компания смогла добиться этого, выпустив номинальное количество кроссовок со штампом местного производителя – обувной фабрики в Гвадалахаре.
Мы с Бауэрманом не чувствовали себя морально оскорбленными; мы просто ощутили себя за бортом. У «Блю Риббон» не было денег на подкуп в целях продвижения своего товара, а поэтому она не смогла никак заявить о своем присутствии на Олимпийских играх. У нас был один жалкий стенд в Олимпийской деревне, и на нем работал только один человек – Борк. Не знаю, сидел ли там Борк, читая комиксы, или же просто был не в состоянии конкурировать с массированным присутствием «Адидаса» и «Пумы», но в любом случае он со своим стендом закончил там свою деятельность с нулевой отчетностью, не произведя никакого эффекта. У стенда не задержался ни один человек.
Вообще-то один человек притормозил. Билл Туми, блестящий американский десятиборец, попросил несколько пар кроссовок «Тайгер», чтобы показать миру, что его купить нельзя. Однако у Борка не оказалось его размера. Как и кроссовок, подходящих для его спортивных дисциплин.
Бауэрман сообщил, что многие атлеты тренировались в «Тайгерах». Но фактически никто не был замечен в них во время состязаний. Одной из причин оставалось качество; пока «Тайгеры» немного уступали в нем. Но главной причиной, однако, были деньги. У нас не было ни гроша на спонсорские контракты для рекламного продвижения своего товара.
«Мы не банкроты, – сказал я Бауэрману, – у нас просто нет денег».
Он хмыкнул. «В любом случае, – сказал он, – было бы здорово, если б мы смогли платить спортсменам, а? На законных основаниях?»
В конце разговора Бауэрман сообщил, что на Олимпиаде он столкнулся с Китами. Мнение о нем у Бауэрмана сложилось невысокое. «Ни черта не смыслит в кроссовках, – проворчал он. – И уж слишком он прилизанный. Слишком самовлюбленный».
Меня стали беспокоить такие же подозрения. В его последних нескольких телеграммах и письмах я уловил нечто, что давало повод заподозрить, что он не тот человек, каким кажется, и что он далеко не такой поклонник «Блю Риббон», каким он рисовался во время моего последнего посещения Японии. Я нутром предчувствовал беду. Возможно, он готовился взвинтить наши цены. Я упомянул об этом Бауэрману и сообщил, что предпринимаю шаги, чтобы защитить нас. Перед тем как повесить трубку, я похвастался, что, несмотря на нехватку наличных или престижа, чтобы платить спортсменам за рекламу, у меня хватило средств, чтобы подкупить кое-кого в «Оницуке». У меня есть внутренний информатор, сказал я, человек, ставший моими глазами и ушами и следящий за Китами.
Я направил служебную записку с изложением всего, что мы обсудили с Бауэрманом, в адрес всех сотрудников «Блю Риббон» (к тому времени у нас их было уже около сорока). Хотя я и влюбился в японскую культуру и хранил свой сувенирный самурайский меч над письменным столом, я все же предупредил их, что японская практика деловых отношений сложна и запутанна. В Японии невозможно предсказать, что может предпринять ваш конкурент или партнер. Я отказался от попыток разгадать эту шараду. Вместо этого, написал я, я предпринял важные шаги, в результате которых, полагаю, мы будем в курсе происходящего. Я нанял шпиона. Он штатный сотрудник экспортного отдела «Оницуки». Не вдаваясь в долгое обсуждение того, почему я так поступил, лишь скажу вам, что я верю, что он заслуживает доверия.
«Вербовка шпиона может показаться вам чем-то неэтичным, но система шпионажа укоренилась и целиком принимается в японских деловых кругах. У них даже существуют школы промышленного шпионажа, аналогично тому, как у нас есть школы, где готовят машинисток-стенографисток».
В толк не возьму, что заставило меня так экстравагантно, так смело использовать это слово «шпион», разве что тот факт, что в то время персонаж Джеймса Бонда был страшно популярен. Не могу также понять, почему я, раскрыв так много, не выдал имени шпиона. А им был Фуджимото, которому я помог заменить пропавший велосипед.
Думаю, я где-то понимал, что рассылка такой служебной записки – ошибка, дикая глупость. И что я всю жизнь буду жалеть о ней. Думаю, я знал. Но часто мои действия оказывались такими же обескураживающими, как и японская практика деловых отношений.
Оба, и Китами, и г-н Оницука, присутствовали на Олимпийских играх в Мехико, после чего оба полетели в Лос-Анджелес. Я вылетел из Орегона, чтобы встретиться с ними на обеде в японском ресторане в Санта-Монике. Разумеется, я опоздал, и к тому времени, как я прибыл, они основательно накачались саке. Как школьники на каникулах. У каждого на голове было сувенирное сомбреро, и каждый вопил от радости.
Я пытался изо всех сил изобразить такое же праздничное настроение. Я не отставал от них, опрокидывая рюмку за рюмкой, помог им прикончить несколько блюд с суши и, в общем, побратался с каждым из них. Идя спать в своем гостиничном номере, я думал, надеялся, что у меня была просто паранойя в отношении Китами.
На следующее утро мы все вместе полетели в Портленд, для того чтобы они могли встретиться со всей командой «Блю Риббон». Я понимал, что в своих письмах в «Оницуку», не говоря уже о своих беседах с ее руководителями, я, возможно, переборщил с грандиозностью нашей «глобальной штаб-квартиры». И точно, я увидел, как Китами спал с лица, когда он вошел в наше помещение. Я также увидел, как г-н Оницука в смущении оглядывается по сторонам. Я поспешил извиниться. «Вам это может показаться небольшим офисом, – сказал я с натянутым смешком, – но из этой комнатушки мы управляем бизнесом внушительных размеров!»
Они смотрели на разбитые окна, на дротик, удерживающий оконную раму вместо полагающейся ручки, на разделительную стенку из фанеры, которая пошла волнами. Они смотрели на Вуделля в его инвалидном кресле. Они ощутили вибрацию стен от беснующегося музыкального автомата в соседней пивнушке «Розовое ведерко». В сомнении взглянули они друг на друга. Про себя я подумал: «Ну, собачье ты отродье, все кончено».
Чувствуя мое смущение, г-н Оницука ободряюще положил свою руку мне на плечо. «Все это… весьма мило», – сказал он.
На дальней стене Вуделл повесил большую красивую карту Соединенных Штатов и воткнул красные булавки везде, где мы продали пару кроссовок «Тайгер» за последние пять лет. Карта была усеяна красными булавками. На какой-то один душеспасительный момент она отвлекла внимание гостей от нашего офисного помещения. Затем Китами указал на восточную часть штата Монтана. «Нет булавок, – сказал он. – Очевидно, продавец здесь не делать работа».
Дни пролетали со свистом. Я пытался создать компанию и укрепить брак. Мы с Пенни учились жить вместе, учились объединить наши индивидуальности и идиосинкразии в единое целое, хотя мы оба были согласны, что на нее приходилась вся индивидуальность, а я был носителем своеобразности. Поэтому большему научиться предстояло ей.
К примеру, она усваивала, что я ежедневно трачу значительную часть времени, погрузившись в собственные мысли, вычищая в них червоточины, пытаясь решить какую-нибудь задачу или придумать некий план. Я часто не слышал, что она говорит, и даже если слышал, то спустя несколько минут уже не помнил.
Она усваивала, что я был рассеянным, что я мог поехать в бакалейную лавку и вернуться домой с пустыми руками, не купив того единственного, о чем она просила, поскольку всю дорогу туда и обратно я ломал голову над последним банковским кризисом или же над недавней задержкой поставки товара «Оницукой».
Она усваивала, что я все разбрасывал и терял, особенно важные вещи, такие, как бумажник или ключи. Мало того, что я не мог делать разные вещи одновременно, я еще упорствовал в том, чтобы добиться этого. Часто я просматривал финансовые разделы газет, обедая и сидя за рулем. Мой новый черный «Кугар» долго новым не оставался. Как мистер Магу из Орегона, я вечно врубался в деревья, столбы и бамперы чужих машин.
Она усваивала, что я не приучен к домашней жизни. Я оставлял крышку унитаза поднятой, оставлял одежду там, где сбрасывал ее с себя, оставлял еду на кухне, забывая донести ее до стола. Я был фактически беспомощным. Не умел готовить, заниматься уборкой и делать даже простейшие вещи для себя самого, поскольку я был напрочь испорчен мамой и сестрами. Проведя все те годы в комнате, предназначенной для прислуги, я, по сути, жил со слугами.
Она усваивала, что я не любил проигрывать – во всем, что проигрыш для меня был особой формой агонии. Я часто легкомысленно обвинял в этом Бауэрмана, но причина коренилась в прошлом. Я рассказал ей об игре в пинг-понг с отцом, когда я был мальчишкой, и о той боли, которую я испытывал, будучи не в состоянии победить его хоть раз. Я рассказал ей о том, что отец иногда смеялся, побеждая, что приводило меня в ярость. Не раз я бросал ракетку и убегал, плача. Своим поведением я не гордился, но это вошло в мои плоть и кровь. Это объясняло, почему я такой, какой есть. Этого она не могла понять до тех пор, пока мы не пошли сыграть в боулинг. Пенни была очень хорошим боулером – она занималась боулингом в Орегонском университете, – поэтому я воспринял это как вызов и был готов принять его во всеоружии. Я был твердо настроен на выигрыш, и поэтому все, кроме броска, сбивающего разом все десять кеглей, приводило меня в мрачное настроение.
Кроме всего прочего, она усваивала, что замужество с человеком, у которого есть обувная компания на начальном этапе своего развития, означает жизнь на скудном бюджете. И все же она справлялась. Я мог выделить ей всего двадцать пять долларов на бакалейные товары, и тем не менее ей удавалось приготовить вкуснейшую еду. Я дал ей кредитку с лимитом в две тысячи долларов, чтобы на эти деньги обставить всю нашу квартиру, и она смогла приобрести обеденный уголок, два кресла, телевизор «Зенит» и большой диван с мягкими подлокотниками – идеальное место для того, чтобы на нем вздремнуть. Она также купила мне коричневое кресло-релакс, которое она задвинула в угол гостиной. Теперь я каждый вечер мог, развалившись под сорок пять градусов, прокручивать в голове все, что хочу. Кресло это было удобнее и безопаснее, чем мой «Кугар».
У меня вошло в привычку каждый вечер звонить отцу, сидя в своем кресле-релаксе. Он также всегда отдыхал в своем кресле, и мы вдвоем, каждый удобно развалившись, вырабатывали тактику, как устранить очередную угрозу, нависшую над «Блю Риббон». Он, по всей видимости, более не считал мой бизнес пустой тратой времени. Хотя он и не говорил об этом прямо, он, похоже, на самом деле воспринимал стоящие передо мной проблемы как «интересные» и «сложные», что, по сути, означало одно и то же.
Весной 1969 года Пенни стала жаловаться на плохое самочувствие по утрам. После еды чувствовался дискомфорт. К середине дня она часто начинала передвигаться по офису немного шатающейся походкой. Она направилась к врачу – тому же врачу, который принимал роды у ее матери, – и обнаружила, что беременна.
Мы были вне себя от радости. Но школа жизни нарисовала нам для усвоения новую кривую жизненного графика.
Наша уютная квартира теперь оказалась совершенно неподходящей. Нам надо было бы, разумеется, приобрести дом. Но могли ли мы позволить его себе? Я лишь недавно стал выплачивать себе заработную плату. И в каком районе города должны мы его приобрести? А где расположены лучшие школы? И каким образом намеревался я изучить цены на недвижимость и выяснить все про школы да еще сделать уйму других дел, связанных с покупкой дома, управляя недавно созданной компанией? Разве это возможно – управлять стартап-компанией, одновременно создавая собственную семью? Стоит ли мне вернуться к бухгалтерскому учету или преподаванию или же найти что-либо более стабильное?
Откинувшись в своем удобном кресле, уставившись в потолок, я каждый вечер пытался привести себя в спокойное состояние. Я говорил себе: жизнь – это рост. Ты либо растешь, либо умираешь.
Мы нашли дом в Бивертоне. Небольшой, площадью всего 1600 квадратных футов (149 кв. м. – Прим. пер.), но у него был свой участок земли размером с акр (0,4 га. – Прим. пер.) и небольшой загон для лошадей, а также бассейн. Перед домом росла огромная сосна, а за домом – японский бамбук. Мне дом понравился. Более того, я его узнал. Когда я был ребенком, мои сестры спрашивали меня несколько раз, как выглядит дом моей мечты, и однажды они дали мне угольный карандаш с блокнотом и заставили меня нарисовать его. После того как я с Пенни въехал в новый дом, мои сестры раскопали старый рисунок. Он в точности походил на наш дом в Бивертоне.
Стоил он тридцать четыре тысячи долларов, и я испытал гордость, что у меня в сбережениях есть 20 процентов от этой суммы. Но, с другой стороны, я намеревался использовать эти сбережения для покрытия многих своих кредитов, взятых в «Первом национальном банке». Поэтому я отправился переговорить с Гарри Уайтом. «Мне нужны мои сбережения для первоначального взноса за дом, – сказал я, – но я отдаю дом в залог».
«О’кей, – сказал он. – В этом случае нам нет необходимости консультироваться с Уоллесом».
Той ночью я сказал Пенни, что, если «Блю Риббон» загнется, мы потеряем дом. Она положила руку себе на живот и села. Это был как раз тот случай отсутствия безопасности, которого она всегда клялась избегать. «О’кей, – продолжала она повторять, – о’кеееей».
Когда столько было поставлено на карту, она считала, что просто вынуждена продолжать работу в «Блю Риббон» во время своей беременности. Она пожертвует всем ради спасения «Блю Риббон», даже своей глубоко спрятанной мечтой закончить колледж. Когда же она физически отсутствовала в офисе, она продолжала заниматься оформлением заказов по почте непосредственно из нашего нового дома. Только за один 1969 год, несмотря на утреннюю слабость, опухшие колени, прибавление в весе и постоянную усталость, Пенни выполнила полторы тысячи заказов. Некоторые из заказов были не более чем грубой обводкой стопы, присланные из отдаленных мест, но для Пенни это было неважно. Она должным образом подгоняла обводку к кроссовкам соответствующего размера и заполняла бланк заказа. Продажа каждой пары обуви была на счету.
Одновременно с тем, как с ростом моей семьи прежнее наше жилье оказалось недостаточным по размеру, то же самое произошло и с моим бизнесом. Одна комната за стенкой пивнушки «Розовое ведерко» далее не могла вместить всех нас. Кроме того, мы с Вуделлем устали кричать, чтобы услышать друг друга, перекрикивая рев музыкального автомата. Поэтому каждый вечер после работы мы отправлялись перекусить чизбургером, а затем колесили в поисках офисного помещения.
С точки зрения логистики это выглядело кошмаром. Вести машину приходилось Вуделлю, потому что его инвалидная коляска не помещалась в моем «Кугаре», и я постоянно испытывал чувство вины и неловкости из-за того, что меня везет шофер с таким количеством физических ограничений. Я также с ума сходил от переживаний, потому что во многие офисы, где мы были, можно было попасть, поднявшись на целый пролет по лестнице. Или на несколько лестничных пролетов. Это означало, что мне пришлось бы поднимать и спускать по ним Вуделля на инвалидном кресле.
Такие моменты служили мне болезненным напоминанием той реальности, в которой жил Вуделл. В течение обычного рабочего дня Вуделл был настолько позитивен, настолько энергичен, что об этом легко забывалось. Но, выкатывая его наружу, маневрируя с креслом, поднимая и опуская по лестнице, я неоднократно поражался, насколько уязвимым и беспомощным он был. Я едва слышно молился: Боже, не дай мне уронить его. Боже, не дай мне уронить его. Услышав меня, Вуделл напрягался, и его напряжение заставляло меня еще больше нервничать. «Расслабься, – говорил я. – Я еще не потерял пациента – ха-ха!»
Что бы ни происходило, он никогда не терял самообладания. Даже в самом уязвимом положении, балансируя на грани срыва по моей вине где-нибудь на вершине темного лестничного пролета, он никогда не расставался со своей базовой философией: «Не смей жалеть меня. Я здесь, чтоб убить тебя».
(Однажды, когда я впервые направил его на отраслевую выставку, авиакомпания потеряла его инвалидную коляску. А когда они нашли ее, то оказалось, что ее рама была согнута, превратившись в крендель. Нет проблем. В своем изуродованном кресле Вуделл посетил выставку, отметил галочкой каждый пункт в своем списке обязательных дел и вернулся домой с широченной улыбкой на лице, означавшей, что миссия выполнена.)
В конце каждого такого вечернего поиска нового офисного помещения мы с Вуделлем всегда смеялись до колик в животе над нашим очередным фиаско. Большинство вечеров мы заканчивали в какой-нибудь забегаловке, чувствуя себя легкомысленно и вне себя от восторга. Перед самым расставанием мы часто устраивали игры. Я приносил секундомер, и мы смотрели, как быстро сможет Вуделл сложить свою инвалидную коляску и забраться с ней в свою машину. Как бывший спортсмен-бегун, он любил состязаться с секундомером, пытаясь побить свой личный рекорд (он равнялся сорока четырем секундам). Мы оба дорожили такими вечерами, тем легкомыслием, тем чувством общей миссии, и мы взаимно относили их к настоящему золотому фонду воспоминаний о нашей молодости.
БРАК С ЧЕЛОВЕКОМ, У КОТОРОГО ЕСТЬ ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ, ОЗНАЧАЕТ ЖИЗНЬ НА СКУДНОМ БЮДЖЕТЕ.
Мы с Вуделлем были очень разными, и все же наша дружба основывалась на одинаковом подходе к работе. Каждый из нас находил удовольствие, всякий раз, когда это было возможно, в том, чтобы сосредоточить внимание на какой-нибудь небольшой задаче. Одна задача, говорили мы, очищает сознание. И каждый из нас был уверен, что эта небольшая задача, связанная с поиском более вместительного офиса, означала, что мы преуспевали. Мы продвигались вперед с этой штукой под названием «Блю Риббон», что говорило о глубоком желании в душе каждого из нас победить. Или, по крайней мере, не проиграть.
Хотя ни один из нас не отличался разговорчивостью, мы выявили в себе способность поговорить по душам. В те вечера мы говорили обо всем, раскрываясь друг перед другом с необычайной откровенностью. Вуделл рассказал мне в подробностях о своей травме. Если я когда-либо впадал в соблазн судить о себе слишком серьезно, история Вуделля всегда напоминала мне о том, что все может быть куда хуже. И то, как он справлялся с собой, для меня было постоянным, ободряющим уроком того, что такое настоящее достоинство, в чем главный смысл и как сохранить хорошее расположение духа.
Его травма не была типичной, сказал он. И она не означала конец всему. Он все еще чувствовал, все еще надеялся, что женится, заведет семью. Он также надеялся излечиться. Он принимал новый экспериментальный препарат, который дал обнадеживающие результаты при лечении людей, страдающих параличом нижних конечностей. Проблема была в том, что у препарата был чесночный запах. Иногда во время наших вечерних поисков офисного помещения от Вуделля так несло чесноком, будто из пиццерии «Старая школа», и я сказал ему об этом.
Я спросил Вуделля, был ли он – я заколебался, опасаясь, что не имею права спрашивать об этом, – счастлив. Он на какое-то время задумался. Да, сказал он. Он счастлив. Он любил свою работу. Он любил «Блю Риббон», хотя иногда испытывал неловкость из-за скрытой иронии. Человек, который не может ходить, продает вразнос кроссовки.
Не зная, что сказать на это, я промолчал.
Часто мы с Пенни приглашали Вуделля в наш новый дом на обед. Он был как член семьи, мы любили его, но мы также понимали, что заполняем пустоту в его жизни, компенсировали его потребность в кампании и домашнем уюте. Поэтому Пенни всегда хотела приготовить что-нибудь особенное к приходу Вуделля, и самым особенным блюдом, которое она могла придумать, была корнуэльская курочка плюс десерт, состоявший из бренди с ледяным молоком – она вычитала рецепт в журнале, – который погружал всех нас в одурманенное состояние.
Хотя куры и бренди делали серьезную прореху в ее двадцатипятидолларовом бюджете, Пенни просто не могла экономить, когда речь заходила о Вуделле. Если я сообщал ей о том, что на обед придет Вуделл, она рефлекторно выдавала: «Пойду за каплунами и бренди!» В этом было нечто большее, нежели стремление проявить гостеприимство. Она подкармливала его. Вынашивала как ребенка. Вуделл, я думаю, пробуждал в ней материнский инстинкт.
Я изо всех сил стараюсь все вспомнить. Закрываю глаза и переношусь в прошлое, но сколько ценнейших моментов, характеризовавших те вечера, бесследно и навсегда забыты. Бесчисленные разговоры, приступы смеха, когда перехватывало дыхание. Заявления, откровения, доверительные сообщения. Все они будто впитались в диванные подушки ушедшего времени. Помню только, что мы полночи просиживали, составляя каталог прошлого и намечая будущее. Помню, как мы по очереди говорили, какой была наша маленькая компания и какой она может стать, а какой она никогда не должна быть. Как бы я хотел, чтобы хотя бы в один из тех вечеров у меня под рукой оказался магнитофон. Или же дневник, как тогда, во время моей кругосветной поездки.
И все же я могу по крайней мере всегда вызывать в памяти образ Вуделля, сидящего в нашем кухонном уголке во главе стола, аккуратно одетого в синие джинсы, свитер с V-образным вырезом – его своеобразный отличительный маркер, натянутый поверх белой футболки. И всегда у него на ногах была надета пара кроссовок «Тайгер» с девственно чистыми, нестертыми резиновыми подошвами.
К тому времени он отрастил длинную бороду и густые усы, и я завидовал как бороде, так и усам. Черт возьми, шли шестидесятые, и я мог бы щеголять роскошной бородой. Однако мне постоянно приходилось наведываться в банк и просить денег. Не мог я выглядеть как бродяга, представ перед Уоллесом. Чисто выбритое лицо было одной из моих немногих уступок этому Человеку.
Мы с Вуделлем в конце концов нашли перспективное помещение под офис, в Тигарде, в южном пригороде Большого Портленда. Оно не было отдельно стоящим офисным зданием – такого мы себе позволить не могли, – а лишь частью помещения на первом этаже. Все остальное было занято страховой компанией Горация Манна. Притягательное, почти роскошное, это офисное помещение выглядело огромным шагом вперед, и все же я колебался. В тесном соседстве с дешевым баром таилась некая курьезная логика. Но страховая компания? С холлами, устеленными коврами, кулерами для воды и сотрудниками в строгих английских костюмах? Атмосфера была настолько консервативной, настолько корпоративной… То, что нас окружало, как я полагал, имело много общего с нашим духом, а наш дух – важнейший элемент нашего успеха, и я был озабочен тем, как может измениться наш дух, если мы вдруг разместимся в одном здании с кучкой «организационных людей» (существ антропологического типа, появившихся, согласно систематике американского социолога У. Уайта-младшего, в условиях господства крупных организаций. – Прим. пер.) и человекообразных роботов-автоматонов.
Я вернулся к своему креслу-релаксу, мысленно все взвесил и решил, что корпоративная атмосфера, возможно, будет асимметричной, будет идти вразрез с нашими основными убеждениями, но она также может оказаться как раз тем, что требуется для поддержания наших отношений с банком. Возможно, когда Уоллес увидит наше скучное, стерильное новое офисное помещение, он станет относиться к нам с уважением.
Кроме того, офис находился в Тигарде (название города произносится по-английски как Тайгерд. – Прим. пер.). Продавать «Тайгеры» в Тигарде – возможно, это было предначертано судьбой.
Затем я подумал о Вуделле. Он сказал, что счастлив, работая в «Блю Риббон», но в его словах прозвучала ирония. Возможно, тут скрывалось нечто большее, чем ирония, – в том, что его направляют в средние школы и колледжи продавать «Тайгеры» из багажника машины. Возможно, для него это было пыткой. И возможно, такое использование его талантов было недостаточным, дурным. То, что подходило Вуделлю лучше всего, – это приведение хаоса в порядок, решение проблем. По одной небольшой за раз.
После того как мы вместе съездили на подписание договора об аренде офиса в Тигарде, я спросил его, не хотел бы он поменять род занятий, став управляющим операциями «Блю Риббон». Больше никаких поездок с реализацией с колес. Никаких больше школ. Вместо этого ему предлагается взять на себя ответственность за все то, на что у меня нет ни времени, ни терпения. К примеру, на разговоры с Борком в Лос-Анджелесе. Или на ведение переписки с Джонсоном в Уэлсли. Или на открытие нового офиса в Майами. Или на прием в штат сотрудника для координации работы всех новых торговых представителей и на организацию их отчетности. Или на утверждение сметы расходов. Лучше всего то, что Вуделлю пришлось бы наблюдать за сотрудником, который следил за движением денежных средств на банковских счетах компании. Теперь, если он не будет окешевать свои собственные чеки на зарплату, ему придется объяснять своему боссу неоприходованные излишки – самому.
Просияв, Вуделл сказал, что ему очень нравится, как звучит мое предложение. Он протянул руку. Договорились, сказал он.
У него по-прежнему было рукопожатие спортсмена.
В сентябре 1969 года Пенни пошла к врачу. На медосмотр. Врач сказал, что все выглядит отлично, но что малыш не торопится. Возможно, придется подождать еще неделю, добавил он.
Остаток дня Пенни провела в «Блю Риббон», обслуживая клиентов. Домой мы отправились вместе, рано поужинали и рано легли спать. Около 4 часов утра она толкнула меня. «Я неважно себя чувствую», – сказала она. Я позвонил врачу и попросил его встретить нас в больнице «Эмануэль».
В течение нескольких недель до Дня труда я в практических целях совершил несколько поездок в эту больницу, и хорошо сделал, потому что теперь, когда «пришел час», я превратился в такого чурбана, что Портленд показался мне чем-то вроде Бангкока. Все вокруг выглядело странно, незнакомо. Я медленно вел машину, чтобы быть уверенным в каждом повороте. «Не так медленно, – ругал я сам себя, – или тебе придется самому принимать роды».
Улицы были пустынны, все светофоры были зелеными. Шел мягкий дождь. Единственными звуками в машине было тяжелое дыхание Пенни да попискивание дворников, гулявших по лобовому стеклу. Когда я подкатил ко входу в отделение неотложной помощи и когда помогал Пенни войти в больницу, она продолжала повторять: «Возможно, мы слишком паникуем, не думаю, что уже пора». И все же она дышала так, как, бывало, дышал я сам, заканчивая последний круг на стадионе.
Помню, медсестра приняла от меня Пенни, помогла ей усесться в кресло-коляску и покатила с ней по коридору. Я шел следом, пытаясь помочь. При мне был комплект всего необходимого для беременной, который я сам упаковал, и в нем был также секундомер, такой же, как тот, с помощью которого я замерял время сборки Вуделлем своей коляски. Теперь же я стал вслух замерять время между схватками. «Пять… четыре… три…» Она прекратила тяжело дышать и повернула голову ко мне. Сквозь сжатые зубы она произнесла: «Прекрати… это… делать».
Далее медсестра помогла Пенни встать с кресла, лечь на больничную каталку на колесах и увезла ее. Спотыкаясь, я вернулся в помещение, которое в больницах называется «стойлом», где будущим отцам отведено место для того, чтобы сидеть в ожидании, глазея в пространство перед собой. Я собирался было пройти в родильное отделение, чтобы быть там, около Пенни, но мой отец предупредил меня, чтобы я этого не делал. Он сказал, что я в свое время появился на свет ярко-синим, что перепугало его до смерти, и поэтому он решил предостеречь меня: «В решающий момент будь где-нибудь в другом месте».
Я сидел на жестком пластмассовом стуле, с закрытыми глазами, мысленно занимаясь своими обувными делами. Спустя час я открыл глаза и увидел перед собой нашего врача. На его лбу блестели капельки пота. Он что-то говорил. Точнее, двигались его губы. Но я ничего не слышал. Жизнь – это джой? Вот ваша той? Звать вас не Рой? (Филу казалось, что он слышит созвучные, но разные по смыслу слова: джой – радость, той – игрушка, Рой – мужское имя. – Прим. пер.)
Он опять это произнес: «У вас мальчик» (бой. – Прим. пер.).
«М-м-мальчик? Точно?»
«Ваша жена превосходно справилась, – продолжал он, – ни разу не пожаловалась и тужилась в нужное время – много занятий она посетила по методике д-ра Ламаза?»
«Леманса?» – переспросил я.
«Простите?»
«Что?»
Он провел меня по длинному коридору и ввел в небольшую палату. Там, за занавеской, лежала моя жена, измученная, сияющая, с ярко-красным лицом. Руками она обвивала стеганое белое одеяло, разрисованное голубыми детскими колясками. Я откинул уголок одеяла и увидел головку размером со спелый грейпфрут в белой вязаной шапочке. Мой мальчик. Он был похож на путешественника. Кем он, разумеется, и был. Он только что начал свое путешествие по миру.
Я наклонился и поцеловал Пенни в щеку. Отвел в сторону ее влажные волосы. «Ты – чемпион», – прошептал я. Она прищурилась, в ее глазах промелькнуло сомнение. Она подумала, что я обращаюсь к малышу.
Она передала мне сына. Я покачал его на руках. Он был таким живым, но настолько хрупким, настолько беспомощным. Ощущение было удивительное, оно отличалось от всех других ощущений, но одновременно оно было знакомым. Пожалуйста, не дай мне уронить его.
В «Блю Риббон» я тратил так много времени, говоря о контроле за качеством, о мастерстве, о доставке, но это, я понял, это было настоящее, самое главное. «Мы это сделали», – сказал я Пенни. Мы. Сделали. Это.
Она кивнула и откинулась на подушку. Я передал младенца медсестре и сказал Пенни, чтобы она поспала. Я вылетел из больницы и рванул к машине. Я ощутил внезапное и непреодолимое желание увидеться с отцом, жажду свидания с ним. Я поехал к нему в издательство газеты, спарковался за несколько кварталов от него. Мне надо было пройтись пешком. Дождь перестал. Воздух был прохладным и влажным. Я заглянул в табачный ларек. Представил, как я вручаю отцу большую, толстую сигару «робусто», приветствуя его: «Привет, дедуля!»
Выходя из табачной лавки и держа под мышкой деревянную коробку с сигарами, я столкнулся с Китом Форманом, бывшим бегуном Орегонского университета. «Кит!» – вскричал я. «Привет, Бак», – ответил он. Я схватил его за грудки и заорал: «Это мальчик!» Он подался прочь в полном смущении. Подумал, что я пьян. Времени объяснять не было. Я заспешил дальше.
Форман был членом знаменитой орегонской команды, установившей мировой рекорд в эстафете на четыре мили. Как бегун и как бухгалтер я всегда помнил их потрясающий результат: 16 минут и 08,9 секунды. Звезда в команде Бауэрмана на национальном чемпионате 1962 года, Форман стал также пятым американцем, пробежавшим милю меньше чем за четыре минуты. Подумать только, говорил я себе на ходу, всего каких-то несколько часов тому назад я был уверен, что именно такие достижения делают из человека чемпиона.
Осень. Ноябрьские небеса, будто укрытые шерстяным одеялом, низко нависли над землей. Я носил толстые свитера, сиживал у камина и занимался чем-то вроде самоинвентаризации. Я был полон признательности. Пенни и мой первенец, которого мы назвали Мэтью, были здоровы. Борк, Вуделл и Джонсон были счастливы. Продажи продолжали расти.
Затем пришла почта. Письмо от Борка. После возвращения из Мехико он подхватил своего рода заболевание – поток сознания, напоминающий словесный понос, – «месть Монтесумы» (диарею, от которой часто страдают в основном американские туристы в Мексике. – Прим. пер.). В своем письме он сообщал, что у него проблемы со мной. Ему не нравится мой стиль руководства, не нравится мое видение компании, не нравится, сколько я плачу ему. Он не понимает, почему мне требуется несколько недель, чтобы ответить на его письма, и почему иногда я вообще не отвечаю. У него есть идеи, касающиеся дизайна кроссовок, и ему не нравится, почему эти идеи игнорируются. Исписав таким образом несколько страниц, он потребовал немедленных изменений плюс надбавку к оплате своего труда.
Второй бунт на моем корабле. Этот, однако, оказался сложнее, чем мятеж Джонсона. Я потратил несколько часов, чтобы составить ответ. Я согласился поднять размер его зарплаты – немного, а затем стал давить на авторитет. Напомнил Борку, что в любой компании может быть только один босс, и, к сожалению для него, боссом «Блю Риббон» был Бак Найт. Сказал ему, что, если он недоволен мною или моим стилем руководства, он должен знать, что есть два реальных варианта на выбор – уволиться самому либо быть уволенным.
Как и в случае с моей памятной запиской о «шпионе», я испытал мгновенное чувство авторского раскаяния. В тот самый момент, когда я бросил письмо в почтовый ящик, я понял, что Борк был ценным членом нашей команды, что я не хотел его терять, что я не мог себе позволить потерять его. Я отправил нашего нового управляющего операциями, Вуделля, в Лос-Анджелес, залатать прореху.
Вуделл пригласил Борка на обед и попробовал объяснить ему, что я не высыпаюсь, что у меня ребенок родился и все в таком же духе. Кроме того, Вуделл сообщил ему, что я нахожусь в ужасном стрессовом состоянии после визита Китами и г-на Оницука. Вуделл шутил над моим уникальным стилем руководства, говоря, что все вокруг жалуются на него, все рвут на себе волосы из-за того, что я игнорирую их служебные записки и письма.
В целом Вуделл провел с Борком несколько дней, приглаживая его взъерошенные перья, одновременно изучая состояние дел. Он обнаружил, что Борк тоже был на нервах. Хотя розничный магазин процветал, служебное помещение, примыкавшее к нему и ставшее нашим национальным складом, было в ужаснейшем состоянии. Кругом коробки, счета-фактуры и горы бумаг до потолка. Борк не поспевал за всем.
Когда Вуделл вернулся, он нарисовал мне картину. «Думаю, Борк вернулся в лоно, – сказал он, – но мы должны освободить его от склада. Нам следует перенести все складское хозяйство сюда». Кроме того, добавил он, нам надо нанять мать Вуделля, чтобы она стала управлять складскими операциями. Она много лет работала на складе компании «Янтцен», легендарного орегонского производителя и поставщика одежды для спорта и активного отдыха, поэтому в данном случае речь идет не о кумовстве, сказал он. Мама Вуделл идеально подходила для этой работы.
Не уверен, что я придавал этому какое-то значение. Если Вуделля устраивало это, оно устраивало и меня. К тому же я смотрел на это так: чем больше Вуделлей, тем лучше.
Лето ликвидности
Мне вновь надо было лететь в Японию, и на этот раз – за две недели до Рождества. Не хотел я оставлять Пенни с Мэтью, особенно в преддверии праздников, но избежать этого было нельзя. Мне надо было подписать новое соглашение с «Оницукой». Или не подписать. Китами держал меня в подвешенном состоянии. Он не делился со мной своими соображениями относительно продления нашего договора вплоть до моего приезда.
И вновь я оказался за столом в конференц-зале, в окружении директоров «Оницуки». На этот раз г-н Оницука не стал демонстрировать свою фирменную привычку являться с опозданием, не стал он и демонстративно покидать совещание. С самого начала он присутствовал на нем, заняв место председательствующего.
Открыл он совещание заявлением, что намеревается продлить договор с «Блю Риббон» еще на три года. Я улыбнулся впервые за несколько недель. Затем я решил воспользоваться моментом. Попросил продления на более длительный срок. Да, до 1973 года, казалось, еще далеко, несколько световых лет, но он наступит, и мы моргнуть не успеем. Мне требовалось больше времени и безопасности. И моим банкирам тоже.
«Пять лет?» – спросил я.
Г-н Оницука улыбнулся: «Три».
Затем он выступил со странной речью. Несмотря на несколько лет вялых продаж по всему миру, сказал он, а также на ряд стратегических просчетов, прогноз дальнейшего развития «Оницуки» остается радужным. Благодаря сокращению затрат и реорганизации его компания смогла восстановить свое конкурентное преимущество. Объем продаж в предстоящем финансовом году, как ожидается, достигнет 22 миллионов долларов, значительная часть этой суммы поступит из Соединенных Штатов. Последний обзор показал, что 70 процентов всех американских бегунов пользуются кроссовками «Тайгер».
Я знал об этом. Я хотел сказать, что, возможно, немного подсобил в этом. Вот почему я и хотел получить контракт на более длительный срок.
Но г-н Оницука сказал, что одной из главных причин таких серьезных показателей был… Китами. Он посмотрел на сидящих за столом и одарил отеческой улыбкой Китами. Поэтому, сказал далее г-н Оницука, Китами получает повышение. Отныне он становится управляющим операциями. Теперь он будет для «Оницуки» Вуделлем, впрочем, я помню, как подумал, что не променял бы одного Вуделля на тысячу таких, как Китами.
Поклоном головы я поздравил г-на Оницука с большой удачей его компании. Я повернулся и склонил голову, поздравляя Китами с повышением по службе. Но когда я поднял голову и встретился с ним глазами, я увидел в его взгляде что-то холодное. Что-то такое, что оставалось во мне в течение нескольких дней.
Мы составили соглашение. В нем было четыре или пять параграфов, какая-то неосновательная бумажка. В голову пришла мысль, что договор должен быть более основательным и что было бы хорошо, чтобы юрист изучил его. Но на это не оставалось времени. Мы все подписали его, а затем перешли к другим темам.
Мне полегчало на душе, когда я получил новый контракт, но в Орегон я вернулся с беспокойным чувством, встревоженным больше, чем когда-либо за последние восемь лет. Разумеется, в моем портфеле лежала гарантия, что «Оницука» будет поставлять мне обувь на протяжении последующих трех лет, но почему они отказывались от продления на больший срок? Если говорить более конкретно, это продление было обманчивым. «Оницука» гарантировала поставки, но их поставки хронически задерживались, грозя опасностью нарушить график работы. И их отношение к подобному положению было пренебрежительным и буквально сводило меня с ума. Еще несколько дней. С Уоллесом, который постоянно вел себя как ростовщик, как кредитная акула, нежели как банкир, несколько дней могли означать катастрофу.
А когда груз от «Оницуки» в конце концов прибывал? В нем часто оказывалось неверное количество обуви. Часто – не те размеры.
Иногда не те модели. В результате такого рода путаницы наш склад забивался продукцией, а наши торговые представители теряли терпение. Перед моим отъездом из Японии г-н Оницука и Китами заверили меня, что они строят новые современные фабрики. Проблемы с отгрузкой вскоре уйдут в прошлое, говорили они. Я был настроен скептически, но я мало что мог сделать. Я был полностью в их власти.
Джонсон между тем совсем терял рассудок. Его письма, когда-то полные тоскливого бормотания, превращались в пронзительный крик, граничащий с истерией. Основной проблемой, писал он, стала модель Бауэрмана «Кортес». Она слишком популярна. Мы зацепили людей на нее, превратили их в законченных фанатов кроссовок «Кортес», а теперь не можем удовлетворить спрос, что вызывает гнев и неприязнь по всей цепочке поставок сверху донизу.
«Боже мой, мы на самом деле «обуваем» наших клиентов, – писал Джонсон. – Счастье – это пароход, полностью набитый кроссовками «Кортес»; реальность – пароход, набитый до отказа кроссовками «Бостон» размером от 6 до 6S с верхним покрытием из металлических мочалок для мытья посуды и язычками из старых лезвий».
Он преувеличивал, но не сильно. Такое происходило всю дорогу. Я обеспечивал заем у Уоллеса, затем оказывался в подвешенном состоянии, ожидая, когда «Оницука» пришлет кроссовки, а когда судно, наконец, пришвартовывалось в порту, в нем не оказывалось ни единой пары «Кортес». Шесть недель спустя мы получали слишком много «Кортесов», но тогда уже было слишком поздно.
Почему? Мы все сходились во мнении, что дело было не только в обветшалых фабриках «Оницуки», и, конечно, Вуделл, в конце концов, вычислил, что «Оницука» прежде всего удовлетворяла спрос местных клиентов, а уж только потом беспокоилась об экспорте за рубеж. Жутко несправедливо, но, опять же, что я мог поделать? У меня не было никаких рычагов.
Даже в том случае, если бы с введением «Оницукой» в строй новых фабрик закончились все проблемы с поставками и если бы отгрузка каждой партии происходила точно по графику с точным соблюдением количества заказанных размеров 10s, а не 5s, у меня все равно оставались бы проблемы с Уоллесом. Под более крупные заказы требовались бы более внушительные кредиты, а более крупные кредиты труднее погасить, и в 1970 году Уоллес повторял мне, что он более не заинтересован в продолжении этой игры.
Припоминаю, как в один прекрасный день я сидел в офисе Уоллеса. Он с Уайтом подверг меня приличной обработке. Уоллес, похоже, получал от этого удовольствие, хотя Уайт взглядами как бы говорил мне: «Извини, приятель, но это моя работа». Как всегда, я вежливо проглатывал все поношения и обвинения, сыпавшиеся в мой адрес, играя роль кроткого владельца малого бизнеса, мешкающего с раскаянием, с нехваткой средств на выплату кредитов. Я знал свою роль от корки до корки, но помню, как почувствовал, что в любой момент из меня может вырваться душераздирающий крик. Вот, создал я эту динамическую компанию из ничего, и по всем меркам это была зверь-компания – продажи удваивались ежегодно как часы, – и такой благодарности я удосужился? Пара банкиров обходится со мной как с голодранцем?
Пытаясь остудить атмосферу, Уайт произнес несколько ничего не значащих фраз в поддержку «Блю Риббон». Я видел, что его слова не возымели на Уоллеса никакого действия. Я набрал воздуха в легкие, начал говорить, затем осекся. Я не доверял своему голосу. Я лишь выпрямился, сидя на стуле, и обнял себя руками. Это было мое новое непроизвольное движение на нервной почве, новая привычка. Резинки на руке более не справлялись с напряжением. Каждый раз, оказываясь в стрессовом состоянии, каждый раз испытывая желание кого-то придушить, я крепко-накрепко обхватывал свое тело руками. В тот день моя привычка проявилась особенно наглядно. Должно быть, я выглядел так, будто практиковался в выполнении некой экзотической позы йоги, которой научился в Таиланде.
Речь шла о чем-то более существенном, нежели о старых философских разногласиях по поводу роста. «Показатели «Блю Риббон» приближались к шестистам тысячам долларов в продажах, и в тот день я отправился просить кредит в размере 1,2 миллиона долларов – цифра, имевшая символическое значение для Уоллеса. Впервые я преодолевал планку в миллион долларов. В его представлении это было схоже с рекордным показателем в беге на милю быстрее, чем за четыре минуты. Очень немногие могли преодолеть такой барьер. Ему все это надоело, сказал он, устал он и от меня. В энный раз он объяснил, что жил на остатках денежных средств, и в энный раз я исключительно вежливо предположил, что если мои продажи и доходы продолжают расти и увеличиваться, то Уоллес должен быть счастлив иметь мою компанию в числе своих клиентов.
Уоллес постучал своей авторучкой по столу. Размер моего кредита достиг максимума, сказал он. Официально, безвозвратно, безотлагательно. Он больше не будет давать «добро» ни на один цент, пока я не положу наличность на свой счет и не оставлю ее там.
Между тем, продолжал он, в дальнейшем он будет назначать мне для соблюдения строгие квоты на объемы продаж. Нарушите срок действия квоты, сказал он, хотя бы на сутки, и… тогда… Он не закончил фразу. Голос его затих, и мне было предоставлено право заполнить воцарившуюся тишину наихудшим сценарием. Я повернулся к Уайту, который лишь взглядом изобразил вопрос: «Ну, что я могу поделать, приятель?»
Через несколько дней Вуделл показал мне телекс от «Оницуки». Большая весенняя партия была готова к отправке, и они хотели получить двадцать тысяч долларов. Отлично, сказали мы. Хоть раз они отправляют обувь вовремя.
Лишь одна закавыка. У нас не было двадцати тысяч долларов. И было ясно, что я не мог обратиться к Уоллесу. Я не мог попросить Уоллеса даже пятерку разменять.
Поэтому я отправил телекс в «Оницуку» и любезно попросил задержать отправку кроссовок до тех пор, пока мы не получим дополнительного дохода от продаж. «Прошу вас не думать, что у нас финансовые проблемы», – написал я. Само по себе это не было ложью. Как я говорил Бауэрману, мы не были банкротами, у нас просто не было наличности. Много активов, но без наличных денег. Нам просто требовалось больше времени. Теперь настал мой черед просить: еще немного, всего несколько дней.
Ожидая ответа от «Оницуки», я понимал, что существовал лишь один способ раз и навсегда решить эту проблему, связанную с движением денежной наличности. Небольшое публичное размещение акций. Если бы нам удалось продать 30 процентов «Блю Риббон» по два доллара за акцию, мы смогли бы в одночасье собрать триста тысяч долларов.
Выбор времени для такого публичного размещения казался идеальным. В 1970 году появились первые фирмы венчурного капитала. Вся концепция венчурного капитала изобреталась прямо на наших глазах, хотя представление о том, что могло считаться стоящей инвестицией для венчурных капиталистов, было весьма растяжимым. Большинство новых венчурных компаний обосновалось в Северной Калифорнии, поэтому их в основном привлекали высокотехнологичные компании и компании по производству электроники. Силиконовая долина, почти эксклюзивно. Поскольку у большинства этих компаний были футуристически звучащие названия, я создал в интересах «Блю Риббон» холдинговую компанию в целях привлечения инвесторов, влюбленных в высокие технологии: «Спортс-Тек Инк».
Мы с Вуделлем разослали листовки с рекламой публичного размещения наших акций, после чего сели в ожидании оживленной реакции.
Тишина.
Прошел месяц.
Глухое молчание.
Никто не звонил. Ни одна душа.
Вообще-то почти ни одна душа. Мы все-таки умудрились продать триста акций по доллару штука. Вуделлю и его матери.
В конце концов мы отозвали предложение. Это было унизительно. Вслед за этим я много раз горячо спорил сам с собой. Я обвинял неустойчивую экономику. Я обвинял войну во Вьетнаме. Но в первую очередь я винил себя. Я переоценил «Блю Риббон». Я переоценил работу всей своей жизни. Много раз, сидя за первой утренней чашкой кофе или ночью, пытаясь заснуть, говорил я себе: может, я дурак? Может, вся эта затея с кроссовками – мартышкин труд? Возможно, думал я.
Возможно.
Я наскреб двадцать тысяч долларов с нашей дебиторской задолженности, погасил кредит и получил заказанные кроссовки от «Оницуки». Еще один вздох облегчения. Вслед за которым ощутил комок в груди. Что мне делать в следующий раз? А дальше?
Мне нужны были наличные. То лето выдалось необычно теплым. Дни, расслабляющие, вызывающие томление, залитые золотистыми лучами солнечного света, чистое голубое небо, этот мир – настоящий рай. Все это, казалось, издевается надо мной и моим настроением. Если 1967 год был Летом Любви, то 1970 год был Летом Ликвидности, а у меня ее не было. Бо́льшую часть времени я ежедневно проводил, думая о платежеспособности, говоря о платежеспособности, глядя на небеса и моля Бога о ликвидности. Все царство за ликвидность. Это слово звучало еще противнее, чем «собственные средства».
В конце концов я сделал то, что не хотел делать, что поклялся никогда не делать. Я попытался занять у любого, до кого я мог докричаться. До друзей, членов семьи, случайных знакомых. Я даже пошел с протянутой рукой к бывшим товарищам по команде, к ребятам, с которыми бок о бок потел, тренировался и участвовал в забегах. Включая моего бывшего архисоперника Джима Греля.
Я слышал, что Грель унаследовал целое состояние от бабушки. Помимо всего прочего, он участвовал во всевозможных прибыльных коммерческих предприятиях. Он работал торговым агентом для двух сетей продовольственных магазинов, одновременно занимаясь на стороне продажей шапочек и мантий для выпускников, и оба занятия, если верить молве, приносили доход. Кроме того, кто-то рассказывал, что он владел большим участком земли в районе Лейк Арроухед и жил там в хаотично построенном доме. Парень был рожден, чтобы побеждать (он даже бегал на соревнованиях, за год до того, как стать лучшим в мире).
В то лето в Портленде проходил шоссейный забег для всех желающих, и мы с Пенни пригласили после него группу участников к себе домой на коктейль. Я постарался пригласить в числе других и Греля, а затем дождался удобного момента. Когда все удобно расположились, после пары пива для поднятия настроения я попросил Греля переговорить с глазу на глаз. Я провел его к себе в кабинет и изложил суть кратко и понятно. Новая компания, проблемы с движением денежной наличности, значительный потенциал роста и все такое прочее. Он был снисходителен, вежлив и приятно улыбался: «Мне это просто неинтересно, Бак».
Не зная, куда еще обратиться, не имея каких-либо других вариантов, я сидел в один из таких дней за своим письменным столом, уставившись в окно. Постучал Вуделл. Он въехал на своем кресле-коляске в комнату и закрыл за собой дверь. Сказал, что он с родителями хочет одолжить мне пять тысяч долларов и что в качестве моего ответа они не потерпят отказа. Они также и слышать не хотят о начислении процента на эту сумму. Более того, они даже не хотят как-то формализовать передачу денег взаймы, оформляя какие-то бумаги. Сам он собирается вылететь в Лос-Анджелес, чтобы увидеться с Борком, а в то время, пока он будет в отъезде, я должен, сказал он, поехать к нему домой и получить чек от его родителей.
Несколько дней спустя я сделал нечто такое, что было за пределами воображения, нечто такое, что, как я думал, никогда не смогу сделать. Я поехал домой к Вуделлям и попросил у них чек.
Я знал, что семейство Вуделлей зажиточным не было. Я знал, что, оплачивая медицинские счета сына, они влачили куда более жалкое существование, чем я. Эти пять тысяч долларов были их сбережениями на жизнь. Я знал об этом. Но я был не прав. У его родителей было немного больше накоплений, и они спросили, понадобятся ли они мне тоже. И я сказал «да». И они отдали мне свои последние три тысячи долларов, опустошив свою копилку до дна.
Как же я хотел положить этот чек в ящик своего стола и не обналичивать его. Но я не мог так поступить. И не стану этого делать. Направляясь к выходу, я остановился. Я спросил их: «Почему вы это делаете?»
«Потому что, – отвечала мать Вуделля, – если вы не доверяете компании, на которую работает ваш сын, то кому тогда вы доверяете?»
Пенни продолжала изыскивать креативные способы растянуть свое двадцатипятидолларовое пособие на продукты питания, что означало пятьдесят видов бефстроганова, что, в свою очередь, вело к тому, что мой собственный вес непомерно увеличивался. К середине 1970 года я весил около 190 фунтов (более 86 кг. – Прим. пер.) – мой рекордный вес. Однажды утром, одеваясь на работу, я примерил один из моих костюмов, который всегда выглядел на мне более мешковато, чем другие, и оказалось, что мешковатость пропала. Стоя перед зеркалом, я сказал своему отражению: «Охо-хо».
Но дело было не только в бефстроганове. Как-то произошло, что я распрощался с привычкой заниматься бегом. «Блю Риббон», женитьба, отцовство – постоянно не хватало времени. Кроме того, я чувствовал, что исчерпал свой спортивный энтузиазм. Хотя я и любил бегать для Бауэрмана, я также и ненавидел это. Такое случается с самыми разными университетскими спортсменами. Годы тренировок и состязаний на высоком уровне берут свое. Вам требуется отдых. Но теперь отдых закончился. Мне надо было вернуться к спорту. Я не хотел быть толстым, дряблым, малоподвижным хозяином компании по производству кроссовок.
И если в плотно обтягивающих фигуру костюмах и в маячившем призраке лицемерия я не находил достаточного стимула, то вскоре появилась еще одна мотивация.
Вскоре после забега, в котором участвовали все кто пожелает, и после того, как Грель отказался ссудить меня деньгами, мы с ним отправились на частные соревнования. На протяжении всех четырех миль я видел с грустью оборачивающегося на меня Греля, в то время как мне едва удавалось не отставать, пыхтя и задыхаясь. Одно дело – отказать мне в деньгах, другое – выказывать жалость. Он знал, что я был смущен, поэтому бросил мне вызов. «Этой осенью, – сказал он, – давай пробежим вместе милю. Дам тебе фору – целую минуту. Если победишь – заплачу по доллару за каждую секунду разницы в наших показателях».
В то лето я тренировался изо всех сил. Вошло в привычку каждый вечер после работы пробегать по шесть миль. Вскоре я вновь был в форме, а вес уменьшился до 160 фунтов (72,6 кг. – Прим. пер.). И когда настало время забега – на секундомере был Вуделл, – я получил от Греля тридцать шесть долларов (на следующей неделе моя победа показалась мне еще слаще, поскольку стало известно, что Грель принял участие в соревнованиях для всех желающих и пробежал ту же дистанцию за 4 минуты и 7 секунд). Когда в тот день я возвращался в машине домой, я ощущал невероятную гордость. Продолжай в том же духе, говорил я себе. Не останавливайся.
Где-то ближе к середине года – 15 июня 1970 года – я вытащил из почтового ящика свой «Спортс иллюстрейтед» и получил шок. На обложке было фото Человека штата Орегон. И не просто какого-то Человека штата Орегон, а возможно, величайшего человека всех времен, более великого, чем Грель. Звали его Стив Префонтейн, и на фотографии он взбегал по склону Олимпа, иными словами, горы Бауэрмана.
В статье Пре (как далее сокращенно называет его фамилию Фил Найт. – Прим. пер.) характеризовался как удивительный феномен, рождающийся раз в поколение. Он уже произвел фурор, учась в средней школе, установив национальный рекорд в беге на две мили (8 мин. 41 сек.), а теперь первокурсником в Орегонском университете, пробежав две мили, он победил Герри Линдгрена, которого ранее считали непобедимым. Он опередил его на 27 секунд. Пре показал результат 8 минут 40 секунд, третье лучшее время в тот год в США. Он также пробежал три мили за 13 минут и 12,8 секунды, что в 1970 году было лучшим результатом во всем мире.
Бауэрман сообщил корреспонденту «Спортс иллюстрейтед», что Пре был самым быстрым бегуном на средние дистанции из всех ныне живущих. Никогда еще мне не доводилось слышать столько необузданного энтузиазма от своего флегматичного тренера. В последующие дни в других статьях, которые я вырезал из прессы, Бауэрман звучал еще экспансивнее, называя Пре «лучшим бегуном, которого я когда-либо тренировал». Помощник Бауэрмана, Билл Деллинджер, сказал, что секретным оружием Пре была его уверенность, которая была настолько же необычна, как и вместимость его легких. «Обычно, – сказал Деллинджер, – у наших ребят уходит до двенадцати лет на то, чтобы обрести в себе уверенность, а тут появляется парень, у которого правильное отношение проявляется естественным образом».
Да, подумал я. Уверенность. Вот что требуется человеку больше, чем собственный капитал, больше, чем ликвидность.
Жаль, что у меня ее не хватало. Жаль, что я не мог занять ее у кого-нибудь. Но уверенность – это наличность. Вам надо ее иметь в каком-то количестве, чтобы приобрести больше. И люди не были склонны делиться ею с вами.
Еще одно откровение прозвучало в то лето на страницах другого журнала. Листая «Форчун», я наткнулся на рассказ о своем бывшем боссе на Гавайях. За годы, прошедшие с тех пор, когда я работал на Берни Корнфелда и его компанию «Инвесторс Оверсиз Сервисиз», он стал еще богаче. Он распрощался с паевыми фондами Дрейфуса и занялся продажей акций через свои собственные фонды взаимных инвестиций, продолжая зарабатывать на золотых приисках, недвижимости и на многом другом. Он построил империю, и, как все империи, в конце концов она стала разваливаться. Я был настолько поражен этой новостью, что ошеломленно перевернул страницу и наткнулся на другую статью – довольно сухой анализ недавно возникшей японской экономической мощи. Через двадцать пять лет после Хиросимы, говорилось в статье, Япония возродилась. Третья крупнейшая экономика в мире предпринимала агрессивные шаги, с тем чтобы стать еще мощнее, консолидировать свое положение и расширить свое влияние. Помимо того, что она обгоняла в мышлении и работоспособности другие страны, Япония приняла на вооружение безжалостную торговую политику. Затем в статье было дано краткое описание основного механизма, с помощью которого проводится такая торговая политика, – японские гиперагрессивные сого сёся.
Универсальные торговые компании.
Трудно точно сказать, чем были эти первые японские торговые компании. Иногда они были импортерами, обшаривающими земной шар и приобретающими сырье для компаний, не имевших для этого собственных средств. В иное время они становились экспортерами, представляя те же компании за рубежом. Иногда они становились частными банками, обеспечивающими всевозможные компании кредитами на льготных условиях. А иногда преображались в длань японского правительства.
Всю эту информацию я подшил в папку. На несколько дней. Когда в очередной раз я пошел в «Первый национальный», когда в очередной раз Уоллес заставил меня чувствовать себя никудышкой, выходя из банка, я увидел вывеску «Банк оф Токио». Разумеется, я видел эту вывеску и раньше, сотни раз, но теперь она звучала по-другому. Огромные фрагменты головоломки встали на свои места. Чувствуя легкое головокружение, я сразу перешел дорогу, вошел в «Банк оф Токио» и представился женщине за стойкой. Сказал, что являюсь владельцем обувной компании, которая импортирует кроссовки из Японии, и что я хотел бы переговорить с кем-нибудь о заключении сделки. Будто хозяйка борделя, женщина мгновенно и незаметно провела меня в дальнюю комнату. И оставила меня в ней.
Спустя две минуты в комнату вошел человек. Он тихо сел у стола. И стал ждать. Ждал и я. Он продолжал ждать. Наконец, я заговорил. «У меня компания», – сказал я. «Да?» – переспросил он. «Обувная компания», – пояснил я. «Да?» – спросил он. Я раскрыл портфель. «Вот моя финансовая отчетность. Я в ужасном затруднении. Мне нужен кредит. Я только что прочитал статью в журнале «Форчун» про японские торговые компании, и в этой статье было сказано, что у таких компаний условия выдачи кредита менее жесткие – ну, так вам известны какие-нибудь подобные компании, которым вы могли бы меня представить?»
Человек улыбнулся. Он тоже читал эту статью. Сказал, что так случилось, что японская шестая по величине торговая компания занимает офис как раз над нашими головами, на верхнем этаже этого здания. У всех крупных японских торговых компаний есть офисы в Портленде, сказал он, но эта – «Ниссо Иваи» – единственная в Портленде, у которой есть свой собственный отдел, занимающийся вопросами, связанными с товарооборотом. «Это компания с капиталом в 100 миллиардов долларов», – сказал банкир, округлив глаза. «О Боже», – произнес я. «Прошу вас, подождите», – сказал он. И покинул комнату.
Через несколько минут он вернулся с представителем «Ниссо Иваи». Звали его Кэм Мураками. Мы пожали друг другу руки и обсудили, чисто гипотетически, возможность кредитования компанией «Ниссо Иваи» моих будущих импортных закупок. Я был заинтригован. Он был тоже порядочно заинтригован. Он с ходу предложил мне сделку и протянул руку, но я не мог ее пожать. Прежде мне надо было прояснить все с «Оницукой».
В тот же день я направил телеграмму Китами, спрашивая, не будет ли он возражать, если я одновременно вступлю в деловые отношения с «Ниссо». Прошли дни. Недели. Имея дело с «Оницукой», молчание что-то значило. Отсутствие новостей было плохой новостью, отсутствие новостей было хорошей новостью, но отсутствие новостей всегда было какой-то новостью.
Ожидая ответа, я получил тревожный звонок. Дистрибьютор обуви на Восточном побережье сообщал, что «Оницука» вышла на него с предложением стать их новым дистрибьютором в США. Я попросил его все повторить, но медленнее. Он повторил. Он сказал, что не собирался рассердить меня. Но он не пытался вывести меня из трудного положения или же уладить дело. Он просто хотел знать статус моего соглашения с «Оницукой».
Я начал дрожать. Сердце мое колотилось. Спустя несколько месяцев после подписания нового контракта «Оницука» затеяла заговор, чтобы разорвать его? Были ли они напуганы тем, что я затянул с получением весенней партии? Или Китами просто решил, что ему нет дела до меня?
Единственной надеждой для меня была мысль, что, может, этот дистрибьютор на Восточном побережье лжет. Или ошибся. Может, он неправильно понял «Оницуку». Может, это языковая проблема.
Я написал Фуджимото. Сказал, что надеюсь, он продолжает получать удовольствие от езды на велосипеде, который он купил на мои деньги (тонкий намек). Я попросил его разузнать все, что он сможет.
Он тут же написал ответ. Дистрибьютор говорил правду. «Оницука» рассматривает возможность полного разрыва с «Блю Риббон», и Китами вступил в контакт с несколькими дистрибьюторами в Соединенных Штатах. Никакого твердого плана разорвать контракт нет, добавил Фуджимото, но ведется проверка кандидатов и охота на них.
Я попытался сосредоточиться на хорошем. Твердого плана нет. Это означало, что надежда еще оставалась. Я еще мог восстановить веру «Оницуки» в меня, изменить намерения Китами. Я просто должен буду напомнить Китами, что представляет собой «Блю Риббон» и кем являюсь я сам. Что означало его приглашение в Соединенные Штаты для дружеского визита.
Кроссовки, которые изменят мир
«Угадай, кто придет на обед», – сказал Вуделл.
Он вкатил на своем кресле ко мне в офис и передал телекс. Китами принял приглашение. Он приезжает в Портленд на несколько дней. Затем он намерен совершить большое турне по Соединенным Штатам по причинам, раскрыть которые он уклонился. «Едет встречаться с другими потенциальными дистрибьюторами», – сказал я Вуделлю. Тот кивнул.
На дворе был март 1971 года. Мы поклялись все сделать для того, чтобы Китами провел у нас лучшее время своей жизни, чтобы, вернувшись, он проникся любовью к Америке, Орегону, «Блю Риббон» – и ко мне. Когда мы этого добьемся, он не сможет вести бизнес с кем-либо еще. Поэтому мы решили, что визит Китами должен завершиться на высокой ноте, с гала-ужином в доме нашего призового актива – Бауэрмана.
Организуя нашу боевую операцию, направленную на то, чтобы очаровать Китами, я, естественно, призвал в наши ряды и Пенни. Мы вместе встретили рейс Китами, вместе вывезли его на орегонское морское побережье, разместили его в коттедже ее родителей, где мы в свое время провели нашу свадебную ночь.
У Китами был сопровождающий, типа носильщика его чемоданов, личного помощника и секретаря, которого звали Хираку Ивано. Он еще был ребенком, наивным, невинным, возрастом едва за двадцать, и Пенни пришлось кормить его с руки, прежде чем мы пустились в путь по шоссе Сансет (Sunset Highway – западная часть шоссе 26 в Орегоне. – Прим. пер.).
Мы из кожи лезли, чтобы создать для наших гостей идиллическую обстановку выходных на тихоокеанском северо-западе. Мы сидели с ними на крыльце, дыша морским воздухом. Мы долго прогуливались с ними на берегу. Кормили их первосортным лососем и наполняли бокал за бокалом доброго французского вина. Мы пытались сосредоточить основную часть нашего внимания на Китами, мы с Пенни обнаружили, что легче общаться с Ивано, который был начитан и казался бесхитростным. Китами же казался человеком, у которого лукавства было через край.
Солнечным ранним утром в понедельник я повез Китами обратно в Портленд, на встречу в «Первом национальном банке». Так же как я был полон решимости очаровать Китами во время его поездки, я думал, что он поможет мне очаровать Уоллеса, что он сможет поручиться за «Блю Риббон» и сделает так, что кредиты будет легче получать.
Уайт встретил нас в вестибюле и провел в конференц-зал. Я огляделся. «А где Уоллес?» – спросил я. «А-а, – отвечал Уайт, – он не сможет присоединиться к нам сегодня».
Что? Да в этом заключался весь смысл нашего посещения банка. Я хотел, чтобы Уоллес услышал от Китами звенящую, как медь, похвалу мне и моей компании. Ну, хорошо, подумал я, хороший коп просто должен будет передать эту похвалу плохому копу.
Я произнес несколько вступительных слов, выразил уверенность, что визит Китами укрепит веру «Первого национального» в «Блю Риббон», а затем передал слово Китами, который насупился и сделал то, что гарантированно осложнит мне жизнь. «Почему вы не даете больше денег моему другу?» – спросил он. «Что-о-о?» – переспросил Уайт. «Почему вы отказываетесь кредитовать «Блю Риббон»?» – повысил голос Китами, ударяя кулаком по столу. «Ну, знаете…» – начал было Уайт. Китами его прервал: «Что это за банк такой? Я не понимаю! Может, «Блю Риббон» лучше обойдется без вас?»
Уайт побелел. Я попытался вмешаться. Попытался перефразировать то, что говорил Китами, пытался взвалить всю вину на языковый барьер, но встреча была закончена. Уайт пулей вылетел из комнаты, а я в изумлении уставился на Китами, у которого на лице было написано: «Здорово я все провернул».
Я отвез Китами в Тигард, чтобы показать ему наши новые офисы и представить нашу команду. Я с трудом перебарывал себя, чтобы сохранить самообладание, оставаясь приятным и блокируя все мысли о том, что произошло. Я боялся, что в любую секунду его потеряю. Но когда я усадил Китами в кресло напротив своего стола, потерял самообладание не я, а Китами. «Продажи «Блю Риббон» разочаровывают! – сказал он. – Вы должны были бы показывать куда лучшие результаты».
Полностью обескураженный, я заметил, что объемы наших продаж ежегодно удваивались. «Недостаточно хорошо», – отрезал он. «Некоторые говорят, что они должны увеличиваться в три раза», – добавил он. «Кто эти некоторые?» – спросил я. «Неважно», – ответил он.
Он достал папку из портфеля, раскрыл ее, прочитал что-то в ней и вновь закрыл ее. Повторил, что ему не нравятся наши показатели, сказал, что, по его убеждению, мы мало делаем. Он вновь открыл папку, потом опять закрыл и засунул ее обратно в портфель. Я попытался защитить себя, но он с отвращением махнул рукой. Довольно долгое время мы продолжали спорить, в рамках приличия, но с нервным напряжением.
Спустя час или около того он встал и поинтересовался, где у нас туалет. «В конце коридора», – ответил я.
Как только он скрылся из виду, я вскочил из-за стола. Открыл его портфель, порылся в нем и вытащил папку, похожую на ту, в которую он заглядывал, сверяясь с цифрами. Я тут же запихнул ее под подложку на своем столе, а сам запрыгнул на свое прежнее место и уперся в стол локтями.
Ожидая возвращения Китами, я поймал себя на странной мысли. Я припомнил то время, когда я добровольно вызывался помогать воспитывать и тренировать бойскаутов, когда я занимал место в составе комиссий по присуждению высшего звания «скаута-орла» лучшим ребятам, раздавая значки отличия за проявленную честность и порядочность. Два или три раза в год, по выходным, я проводил аттестацию розовощеких ребят, спрашивая их, насколько они были порядочными и честными, а теперь я ворую документы из чужого портфеля? Я ступил на темный путь. И никто не знает, куда он меня приведет. Но куда бы он ни привел, одного немедленного последствия моих действий мне не избежать. Я должен сам себя дисквалифицировать, отстранив от участия в следующей аттестационной комиссии.
Как же я хотел ознакомиться с содержимым той папки, сделать фотокопии каждого клочка бумаги, лежащего в ней, и пройтись по всем вместе с Вуделлем. Но Китами вскоре вернулся. Я позволил ему вновь начать распекать меня за вялые показатели, дал ему выговориться, а когда он закончил, я вкратце изложил свою позицию. Я спокойно заявил, что «Блю Риббон» могла бы увеличить объемы продаж, если б мы могли заказать больше обуви, а мы могли бы заказать больше кроссовок, если бы мы располагали бо́льшими средствами, а наш банк мог бы выдать нам более внушительные кредиты, если бы мы могли предоставить бо́льшие гарантии их возврата, имея в виду контракт с «Оницука» на более длительный срок. Он вновь махнул рукой. «Оправдания», – резюмировал он.
Я коснулся идеи финансирования наших заказов с помощью какой-нибудь японской торговой компании типа «Иваи», которую я упомянул несколько месяцев тому назад в своей телеграмме. «Ба-а, – сказал он, – торговые компании. Сначала они высылают деньги, а потом направляют своих людей. Для захвата! Вначале проникают в вашу компанию, а затем поглощают ее».
В переводе это означало следующее: сама «Оницука» производила всего лишь четверть своих кроссовок, остальные три четверти выпускались другими компаниями на субконтрактах. Китами опасался, что, если «Ниссо» обнаружит созданную «Оницукой» сеть компаний, она тут же обойдет ее, превратится в производителя и вытеснит «Оницуку» из бизнеса.
Китами поднялся. Ему надо возвращаться в гостиницу, сказал он, чтобы отдохнуть. Я сказал, что найду кого-нибудь, чтобы подвезти его, а попозже встречусь с ним в баре гостиницы, чтобы потом предложить ему выпить по коктейлю.
Как только он ушел, я разыскал Вуделля и рассказал ему, что произошло. Я показал ему папку. «Я выкрал это из его портфеля», – сказал я. «Что ты сделал?» – переспросил Вуделл. Он был потрясен, но ему стало так же любопытно, как и мне, что же было в этой папке. Мы раскрыли ее и разложили ее содержимое по столу, обнаружив, что среди прочего там был список восемнадцати дистрибьюторов спортивной обуви, работавших по всей территории Соединенных Штатов, а также расписание встреч Китами с половиной из них.
Так вот оно что. Черным по белому. «Некоторые говорят…» «Некоторыми», кто проклинал «Блю Риббон», настраивал Китами против нас, были наши конкуренты. И он собирался проводить с ними встречи. Убей одного «ковбоя Мальборо», и на его месте вырастут двадцать новых.
Разумеется, я был взбешен. Но в основном почувствовал боль. На протяжении семи лет мы посвятили себя кроссовкам «Тайгер». Мы познакомили с ними всю Америку, мы изобрели новую линейку этой обуви. Бауэрман и Джонсон показали «Оницуке», как делать кроссовки лучшего качества, и их дизайны стали теперь базовыми, бьющими рекорды продаж, меняющими лицо целой отрасли, – и вот как нам отплатили за все это? «А теперь, – сказал я Вуделлю, – я должен поехать на встречу с этим Иудой и пригласить его на коктейль».
Для начала я решил сделать пробежку на шесть миль. Не знаю, когда я переносил бег тяжелее или когда мое сознание ощущало меньшую связь с телом. Каждый свой шаг я сопровождал о́ром, крича на деревья, на паутину, свисавшую с ветвей. Это помогло. К тому моменту, когда я принял душ, оделся и ехал на встречу с Китами в гостинице, я был чуть ли не в безмятежном состоянии. А может, я был просто в шоке. Совершенно не помню, что мне говорил Китами в течение того часа, что мы провели вместе, не помню и своих слов. Но то, что было потом, помню. На следующее утро, когда Китами явился ко мне в офис, мы с Вуделлем разыграли нечто похожее на мошенничество. Когда кто-то затащил Китами в комнату отдыха, чтобы выпить чашку кофе, Вуделл заблокировал вход в мой кабинет своим креслом-коляской, а я успел вложить украденную папку обратно в портфель.
В последний день пребывания Китами у нас, за несколько часов до прощального обеда, я по-быстрому съездил в Юджин, чтобы посовещаться с Бауэрманом и его юристом Джакуа. Пенни осталась, чтобы позже подвезти Китами, а я подумал: может ли произойти еще что-то хуже того, что уже произошло?
Кстати, о Пенни: она подъехала к дому Бауэрмана с растрепанными волосами и в платье, испачканном смазкой. В тот момент, когда она с трудом вылезала из машины, у меня мелькнула мысль, не напал ли на нее Китами, но она отвела меня в сторону и рассказала, что в дороге у них спустило колесо. «Этот сукин сын, – прошептала она, – остался сидеть в машине – посреди шоссе, – и мне пришлось одной заняться починкой!»
Я ввел ее в дом. Нам надо было выпить чего-нибудь покрепче.
Это, однако, оказалось непростой задачей. Миссис Бауэрман, набожная последовательница «Христианской науки» (протестантской секты. – Прим. пер.), обычно не держала алкоголя в доме. В этот особый вечер она сделала исключение, однако заранее убедительно меня попросила, чтобы все вели себя прилично и чтобы никто не перебрал лишнего. Так что, несмотря на то, что нам с женой требовалось по стаканчику чего-нибудь покрепче, пришлось выпить лишь по стопочке.
Миссис Бауэрман собрала нас всех в гостиной. «В честь наших уважаемых гостей, – объявила она, – сегодня вечером мы угощаем всех… коктейлем майтай!»
Раздались аплодисменты.
У нас с Китами была по крайней мере одна общая черта. Мы оба любили майтай. Очень. Что-то в этом коктейле напоминало каждому из нас Гавайи, то замечательное место на полпути между Западным побережьем США и Японией, где вы могли расслабиться перед тем, как погрузиться в длинные рабочие недели. И все же в тот вечер мы с ним притормозили, выпив только по одному бокалу. Памятуя о миссис Бауэрман, так же поступили все остальные. Все, кроме Бауэрмана. Сильно пьющим он никогда не был, и совершенно очевидно, он ранее никогда не пробовал майтай, и мы все в ужасе и тревоге наблюдали за действием напитка. И даже больше того. Что-то в этом пикантном сочетании ликера кюрасо, с соком лайма, ананаса и ромом сильно ударило Бауэрмана по мозгам. После двух порций майтай он превратился в другого человека.
Пытаясь соорудить себе третью майтай, он проревел: «У нас кончился лед!» Все промолчали. Поэтому он сам себе ответил: «Нет проблем». Он прошагал в гараж, где стоял огромный морозильник для мяса, и выгреб оттуда мешок с замороженной черникой. Он разорвал мешок, засыпав черникой все вокруг, после чего бросил увесистую горсть замороженных ягод себе в бокал. «Так будет вкуснее», – объявил он, возвращаясь в гостиную. После этого он обошел комнату, плюхая горстями замороженную чернику в бокалы всех присутствующих.
Усевшись, он начал рассказывать анекдот крайне сомнительного вкуса. Между тем рассказчик достиг такого крещендо, которое, со страхом подумал я, мы не сможем забыть долгие годы. Впрочем, если бы мы могли понять это крещендо. Речь Бауэрмана, обычно такая четкая, такая точная в определениях, становилась похожей на невразумительное бормотание алкаша.
Миссис Бауэрман не моргая уставилась на меня. Но что я мог сделать? Я пожал плечами и подумал: «Ты вышла за него замуж». И тут же в моей голове пронеслось: «О, ну-ка погоди, ведь я тоже. В каком-то смысле».
Когда Бауэрманы были на Олимпийских играх 1964 года в Японии, миссис Бауэрман влюбилась в груши наси, напоминающие маленькие зеленые яблочки, только слаще. В Соединенных Штатах они не растут, поэтому она контрабандой привезла немного семян в своей сумочке и высадила их в своем саду. Раз в несколько лет, рассказала она Китами, когда груши наси цветут, они освежают в ее памяти любовь ко всему японскому. Китами, похоже, был очарован ее рассказом. «Ох! – раздраженно воскликнул Бауэрман. – Японблочки!»
Я закрыл глаза рукой.
Наконец, настал момент, когда я подумал, что вечеринка выйдет из-под контроля, когда я стал гадать, не потребуется ли нам на самом деле вызывать полицию. Я оглядел гостиную и заметил Джакуа, сидящего около своей жены и поедающего глазами Китами. Я знал, что во время войны Джакуа был летчиком-истребителем и что его ведомого, одного из ближайших друзей, сбил японский «Зеро». Джакуа с женой назвали своего первенца именем погибшего друга, и я внезапно пожалел, что рассказал Джакуа о предательской папке Китами. Я почувствовал, как что-то закипает внутри Джакуа, поднимается к горлу, и понял, что юрист, лучший друг и сосед Бауэрмана может реально встать, пересечь гостиную и вмазать Китами в челюсть.
Единственный человек, который, похоже, прекрасно, безо всяких осложнений, проводил вечер, был Китами. Сердитый Китами, метавший громы и молнии в банке, исчез. Исчез Китами, ругавший меня в офисе. Болтающий, смеющийся, хлопающий себя по коленке, он выглядел таким очаровашкой, что я задался вопросом, а как бы все повернулось, если бы я угостил его майтай перед тем, как везти в «Первый национальный».
Был поздний вечер, когда он заметил что-то в противоположном углу гостиной гитару. Она принадлежала одному из трех сыновей Бауэрмана. Китами подошел к ней, взял в руки и стал перебирать струны. Затем провел по ним ладонью. Он поднялся с ней по нескольким ступенькам, ведущим из гостиной, расположенной на более низком уровне, в столовую, и, расположившись на самой верхней ступеньке, стал играть. И петь.
Все головы повернулись в его сторону, разговоры утихли. Это было что-то похожее на народную песню в стиле кантри и вестерн, но Китами исполнял ее как традиционную японскую народную песню. Его голос звучал как голос Бака Оуэнса под аккомпанемент японской арфы кото. Затем, без всякого сэгуэ, он переключился на O Sole Mio. Помню, как я задавался вопросом, действительно ли он поет O Sole Mio?
Он запел ее громче. O sole mio, sta ‘nfronte a te! O sole, o sole mio, sta ‘nfronte a te!
Японский бизнесмен, играющий на западной гитаре, поющий итальянскую балладу голосом ирландского тенора. Это было сюрреалистично, запредельно сюрреалистично, и конца этому не было. Никогда не знал, что существует так много версий O Sole Mio. Никогда не думал, что полная комната энергичных, непоседливых орегонцев способна так тихо, неподвижно и долго сидеть. Когда он отставил гитару в сторону, все мы попытались не встречаться друг с другом глазами, устроив ему овацию. Я продолжал аплодировать ему, и в этом был смысл. Для Китами этот визит в США – посещение банка, встречи со мной, ужин с Бауэрманами – не имел отношения к «Блю Риббон». И к «Оницуке» тоже не имел. Как и все остальное, это касалось одного Китами.
Китами выехал из Портленда на следующий день со своей не такой уж секретной миссией – турне по Америке под названием «Дать от ворот поворот компании «Блю Риббон». Я вновь поинтересовался у него, куда именно он направляется, и он опять не ответил. «Йой таби дэ аримас йо ни», – сказал я. Безопасного путешествия.
Незадолго перед этим я направил заявку Хэйесу, моему бывшему боссу в «Прайс Уотерхаус», оказать «Блю Риббон» некоторые консультационные услуги, и теперь я советовался с ним, пытаясь определиться, каким должен быть мой следующий ход до возвращения Китами. Мы пришли к заключению, что лучше всего сохранить мир, постараться убедить Китами не покидать нас, не бросать нас. Как ни зол и задет я ни был, мне следовало признать, что без «Оницуки» «Блю Риббон» пропадет. Мне надо было, сказал Хэйес, оставаться рядом со злом, которое я знал, и заставить его оставаться со злом, которое знал он.
В конце той же недели, когда зло вернулось, я пригласил его еще раз посетить Тигард перед отлетом на родину. Вновь я попытался быть выше всего этого. Я привел его в конференц-зал и, расположившись с Вуделлем с одной стороны стола и посадив Китами с его помощником Ивано на другой, изобразил большую улыбку на лице и сказал, что, надеюсь, он получил удовольствие от посещения нашей страны. Однако он вновь сказал, что разочарован показателями работы «Блю Риббон». Но на этот раз, тем не менее, сказал он, у него имеется решение.
«Выкладывайте», – сказал я.
«Продайте нам свою компанию».
Он произнес это очень мягким голосом. Мне пришла в голову мысль, что самые жесткие вещи, о которых приходится слышать на протяжении нашей жизни, произносятся мягким голосом. «Прошу прощения?» – переспросил я.
«Оницука компани лимитед» купит контрольный пакет акций «Блю Риббон», пятьдесят один процент. Это лучшее предложение для вашей компании. И для вас. Было бы разумно принять его».
Поглощение. Враждебное долбаное поглощение. Я посмотрел на потолок. «Ты, должно быть, шутишь», – подумал я. Из всех высокомерных, коварных, неблагодарных, запугивающих тварей… – «А если мы не продадим?»
«У нас не будет выбора, как только назначить вышестоящих дистрибьюторов». «Вышестоящих. Ага. Ясно. И как насчет нашего письменного соглашения?»
Он пожал плечами: «С соглашениями покончено».
Я не мог позволить своему разуму прибегнуть к тем действиям, к которым он стремился. Не мог я сказать Китами того, что я о нем думаю или куда ему засунуть его предложение, потому что Хэйес был прав: мне этот человек все еще был нужен. У меня не было поддержки, не было плана «Б», не было стратегии выхода. Если я собирался спасти «Блю Риббон», я должен был делать это медленно, согласно собственному графику, с тем чтобы не нервировать клиентов и розничных торговцев. Мне требовалось время, а потому мне нужно было, чтобы «Оницука» продолжала направлять мне партии обуви как можно дольше.
«Ну, – сказал я, стараясь контролировать свой голос, – у меня, разумеется, есть партнер. Тренер Бауэрман. Мне придется обсудить с ним ваше предложение». Я был уверен, что Китами видит насквозь эту любительскую уловку. Но он поднялся, подтянул брюки и улыбнулся: «Переговорите с доктором Бауэрманом. И потом свяжитесь со мной».
Я хотел ударить его. Вместо этого я пожал ему руку. Он с Ивано вышел. В неожиданно опустевшем без Китано конференц-зале мы с Вуделлем уставились на фактуру поверхности стола, ощутив, как мертвая тишина обволакивает нас.
Я выслал свой бюджет и прогноз на предстоящий год в адрес «Первого национального» вместе со своим стандартным запросом о кредите. Я хотел отправить и записку с извинениями, прося прощения за дебош, устроенный Китами, но я знал, что Уайт забьет на это. Кроме того, я знал, что Уоллеса в банке не было. Спустя несколько дней после того, как Уайт получил мой бюджет и прогноз, он предложил мне приехать, он был готов все обговорить.
Я и двух секунд не просидел на жестком пластмассовом стуле напротив его стола, как он выложил новость: «Фил, я боюсь, «Первый национальный» далее не сможет вести бизнес с «Блю Риббон». Больше мы не будем выдавать аккредитивов по вашему поручению. Мы оплатим – тем, что еще осталось на вашем счету, – ваши последние остающиеся партии обуви по мере их поступления, но, когда будет произведен последний расчет, наши отношения прекратятся».
Я мог заметить по восковой бледности лица Уайта, что он перенес потрясение. Он не имел никакого отношения ко всему этому. Это указание пришло сверху. Не было смысла о чем-то спорить. Я развел руками: «Что же мне делать, Гарри?» – «Найдите другой банк». «А если я не смогу? Я потеряю бизнес, так?»
Он взглянул на бумаги, сложил их вместе, скрепил скрепкой. Затем сказал, что вопрос о «Блю Риббон» внес глубокий раскол между офицерами банка. Одни были за нас, другие – против. В конце концов решающим голосом оказался голос именно Уоллеса. «Мне дурно от этого, – сказал Уоллес. – Настолько дурно, что беру отгул по состоянию здоровья».
КИТАМИ ПРЕДЛОЖИЛ КУПИТЬ НАШУ КОМПАНИЮ. Я ХОТЕЛ ЕГО УДАРИТЬ. ВМЕСТО ЭТОГО Я ПОЖАЛ ЕМУ РУКУ.
У меня такой возможности не было. Пошатываясь, я еле вышел из «Первого национального» и сразу поехал в U.S. Bank. Я умолял их принять меня в число своих клиентов.
«Извините», – сказали они. У них не было никакого желания приобретать бэушные проблемы «Первого национального».
Прошло три недели. Компания, моя компания, рожденная из ничего и теперь завершающая 1971 год с объемом продаж в 1,3 миллиона долларов, оказалась в положении больной, которую в реанимационном отделении подключили к аппарату жизнеобеспечения. Я переговорил с Хэйесом. Переговорил с отцом. Переговорил с каждым бухгалтером, которого знал, и один из них заметил, что у Банка Калифорнии есть регистрация, позволяющая ему действовать в трех западных штатах, включая штат Орегон. Кроме того, у этого банка имелось отделение в Портленде. Я поспешил туда, и действительно, они радушно приняли меня и предоставили убежище от шторма. И небольшую кредитную линию.
И все же это было лишь краткосрочное решение. В конце концов, они были банком, а банки, по определению, не расположены к риску. Несмотря на объемы моих продаж, Банк Калифорнии вскоре с ужасом увидит мои нулевые остатки денежных средств на счету. Мне надо было начать готовиться к этому черному дню.
В мыслях я постоянно возвращался к той японской торговой компании. «Ниссо». Глубоко ночью меня терзала мысль: «У них объем продаж достигает 100 миллиардов долларов… и при этом они отчаянно стремятся помочь мне. Почему?»
Для начала «Ниссо» проворачивала огромные объемы при низкой марже чистой прибыли, и поэтому ей нравились перспективные компании с большим потенциалом роста. Это о нас. Греби лопатами. В глазах Уоллеса и «Первого национального» мы были миной замедленного действия, для «Ниссо» – потенциальной золотой жилой.
Так что я опять туда пошел. Встретился с присланным из Японии руководителем нового отдела по товарам общего назначения Томом Сумераги. Выпускник Токийского университета, японского Гарварда, Сумераги был поразительно похож на великого киноактера Тосиро Мифунэ, который прославился исполнением роли Миямото Мусаси, эпического самурая-дуэлянта и автора неподвластного времени руководства по военному ремеслу и воспитанию силы духа. «Книга пяти колец». Сумераги был почти как две капли воды похож на актера, когда держал во рту сигарету «Лаки страйк». А курил он их много. И в два раза больше, когда пил. Однако в отличие от Хэйеса, который пил, потому что ему нравилось, как выпивка действовала на него, Сумераги пил, потому что ему было одиноко в Америке. Почти каждый вечер после работы он направлялся в «Синий дом», японский бар-ресторан, и болтал там на своем родном языке с мама-сан, что делало его еще более одиноким.
Он сообщил мне, что «Ниссо» желает стать лицом, обладающим правом удержания активов второй очереди после кредитовавшего меня банка. Это, несомненно, утихомирило бы моих банкиров. Он также предложил следующую информацию: «Ниссо» недавно направляла свою делегацию в Кобе, чтобы изучить вопрос финансирования, связанного с поставками нам обуви, а также убедить «Оницуку» согласиться на проведение подобной сделки. Но «Оницука» вышвырнула делегацию «Ниссо» взашей. Компания с активами в 25 миллионов долларов вышвыривает за дверь представителей компании с активами в 100 миллиардов? «Ниссо» была смущена и рассержена. «Мы можем представить вас многим производителям качественной спортивной обуви в Японии», – сказал Сумераги с улыбкой.
Я задумался. Я все еще лелеял надежду, что «Оницука» образумится. И меня тревожил пункт в нашем письменном соглашении, запрещавший мне импортировать легкоатлетическую обувь других брендов. «Возможно, попозже», – сказал я. Сумераги кивнул: «Всему свое время».
Испытывая головокружение от всей этой драмы, я дико уставал, возвращаясь каждый вечер домой. Но во мне всегда пробуждалось второе дыхание после шестимильной пробежки, за которой следовал горячий душ и быстрый ужин, в одиночестве (Пенни с Мэтью ели в районе четырех часов). Я всегда пытался найти время, чтобы рассказать Мэтью что-нибудь на ночь, что-то познавательное. Я придумал персонаж по имени Мэт Хистори, который выглядел и поступал в точности, как мой сын Мэтью Найт, и я помещал его в центр каждой своей байки. Мэт Хистори зимовал в Валли-Фордж вместе с Джорджем Вашингтоном. Мэт Хистори был в Массачусетсе с Джоном Адамсом. Мэт Хистори был свидетелем того, как Пол Ревир скакал темной ночью на чужой лошади, чтобы предупредить Джона Хэнкока о приближении британского войска. По пятам Поля Ревира следовал молодой всадник, не по годам развитой ребенок из пригорода Портленда, штат Орегон…
Мэтью всегда смеялся, довольный, что он оказался участником таких приключений. Он садился в кровати, распрямив спину. И умолял рассказывать еще и еще.
Когда Мэтью засыпал, мы с Пенни обсуждали то, что принес нам день. Она часто интересовалась, что нам придется делать, если все рухнет. Я говорил, что «всегда могу вернуться к бухгалтерскому делу». Слова мои не звучали искренне, поскольку я сам не был искренен. В отличие от Мэтью, я не был доволен тем, что оказался участником своих приключений.
В конце концов Пенни отводила взгляд, включала телевизор, вновь принималась за свое вязание или чтение, а я удалялся к своему креслу, в котором приступал к самокатехизации.
Что тебе известно?
Известно, что «Оницуке» нельзя доверять.
Что еще тебе известно?
Что мои отношения с Китами спасти нельзя.
Что тебе готовит будущее?
Так или иначе, «Блю Риббон» и «Оницука» идут к разрыву связей. Мне просто необходимо как можно дольше сохранить их, пока я изыскиваю другие источники поставок для того, чтобы подготовить почву для расторжения договора.
Каким должен быть Первый шаг?
Мне надо отпугнуть всех других дистрибьюторов, которых «Оницука» подобрал мне на замену. Выбить их из седла, разослав письма с угрозой подать на них в суд в том случае, если они нарушат мои права, вытекающие из контракта.
Каким должен быть Второй шаг?
Найти себе замену вместо «Оницуки».
Неожиданно вспомнилась фабрика в Гвадалахаре, о которой я слышал, та самая, на которой «Адидас» разместил свой заказ на кроссовки во время Олимпийских игр 1968 года вроде бы для того, чтобы обойти мексиканские таможенные тарифы. Кроссовки были хорошими, насколько я помню. Поэтому я договорился о встрече с менеджерами фабрики.
Несмотря на то что находилась она в центральной части Мексики, фабрика называлась «Канадой». Я сразу же спросил менеджеров почему. Они выбрали такое название, сказали они, потому что оно звучало экзотически. Я рассмеялся. Канада? Экзотически? Больше комически, чем экзотически, не говоря уже о путанице. Фабрика к югу от границы США с названием страны к северу от американской границы.
Ну, ладно. Мне было все равно. Проинспектировав предприятие, прошерстив выпускаемую ими линейку обуви, осмотрев цех, в котором шла раскройка кожи, я был впечатлен. Фабрика была большой, чистой, и она толково управлялась. Плюс к этому она была одобрена «Адидасом» как производитель. Я сообщил им, что хотел бы разместить заказ. На три тысячи кожаных футбольных бутс, которые я планировал продавать как бутсы для американского футбола. Владельцы фабрики поинтересовались названием моего бренда. Я ответил, что сообщу им его позже.
Они вручили мне контракт. Я взглянул на пунктирную линию над моей фамилией. Взяв ручку, я подождал, прежде чем расписаться. Вопрос теперь официально был передо мной на столе. Являлось ли это нарушением моей сделки с «Оницукой»?
Технически нет. В моем контракте говорилось, что я мог импортировать легкоатлетические кроссовки, произведенные только «Оницукой» но в нем ничего не говорилось об импорте футбольных бутс, выпущенных кем-либо еще. Поэтому я знал, что этот контракт с «Канадой» не нарушит букву соглашения с «Оницукой». А его дух?
Полгода тому назад я ни за что бы не пошел на такое. Теперь все изменилось. «Оницука» уже нарушила дух нашей сделки и подорвала мой дух, поэтому я снял колпачок со своей авторучки и подписал контракт. Провались оно все пропадом! Я подписал этот контракт с «Канадой». После чего отправился попробовать мексиканскую кухню.
Ну а теперь об этом логотипе. Для моих новых бутс для американского футбола, предназначавшихся для игры в соккер, требовалось нечто, что отличало бы их от полосок на логотипах «Адидас» и «Оницуки». Я вспомнил о той молодой художнице, которую я повстречал в Портлендском государственном университете. Как ее звали? Ах да, Кэролин Дэвидсон. Несколько раз она уже приходила в наш офис, работая над макетами рекламных брошюр и проспектов на глянцевой бумаге. Когда я вернулся в Орегон, то вновь пригласил ее в офис и сказал, что нам требуется логотип. «Какого типа?» – спросила она. «Я не знаю», – сказал я. «Отличная подсказка того, что от меня требуется», – прокомментировала она. «Что-то, вызывающее чувство движения», – сказал я. «Движения», – повторила она в сомнении.
Она выглядела неуверенной. Разумеется, потому что я нес чушь. Во мне не было уверенности в том, чего я точно хочу. Художником я не был. В полной беспомощности я показал ей бутсу для соккера-американского футбола: вот для этого. Нам нужно что-нибудь для этого.
Она сказала, что попробует. «Движение, – бормотала она, покидая мой офис. – Движение».
Две недели спустя она вернулась с папкой набросков. Все они были вариациями на одну тему, и тема эта походила на… жирные молнии? Пухлые «галочки» на полях? Загогулины, страдающие ожирением? Ее наброски действительно вызывали некое ощущение движения, но одновременно и болезненную тошноту от этого движения. Ни один из рисунков не вызвал во мне положительного отклика. Я отобрал несколько, в которых был какой-то проблеск надежды, и попросил ее еще поработать над ними.
Через несколько дней, а может, счет шел на недели, Кэролин вернулась и разложила на столе конференц-зала вторую партию набросков. Она также повесила несколько рисунков на стене. Она сделала несколько дюжин новых вариаций на первоначальную тему, но обошлась с ней с большей свободой. Они были лучше. Ближе.
Я с Вуделлем и еще несколько человек внимательно рассмотрели их. Помню, присутствовал среди нас и Джонсон, хотя затрудняюсь сказать, почему он приехал тогда из Уэлсли. Постепенно мы продвигались к консенсусу. Нам понравился… этот… чуть больше, чем остальные.
Он выглядит, как крыло, сказал один из нас.
Похож на свист рассекаемого воздуха, сказал другой.
Похож на завихрение, которое остается после промчавшегося бегуна.
Мы все согласились, что рисунок выглядит как нечто новое, свежее и, в каком-то смысле, древнее.
Нечто вне времени.
За многие часы ее труда мы передали Кэролин слова нашей глубокой благодарности и чек на тридцать пять долларов, после чего отпустили ее на все четыре стороны.
После того как она ушла, мы продолжали сидеть и смотреть на этот логотип, который мы вроде бы отобрали и в отношении которого мы вроде бы пришли к общему согласию по умолчанию. «Что-то притягивает в нем внимание», – сказал Джонсон. Вуделл согласился. Я нахмурился, почесывая подбородок. «Вам, ребята, он нравится больше, чем мне, – сказал я, – но времени у нас не остается. Придется остановиться на нем». «Тебе он не нравится?» – спросил Вуделл. Я вздохнул: «Любви к нему не испытываю. Возможно, со временем она пробудится». Мы отправили логотип на фабрику «Канада».
Теперь нам надо было подобрать название, которое подходило бы к этому логотипу, любви к которому я не чувствовал.
В течение нескольких дней мы перебирали несколько десятков идей, до тех пор, пока не остановились на двух лучших.
«Фалькон» («Сокол». – Прим. пер.).
И «Шестое измерение».
Я был неравнодушен к последнему, поскольку я был тем, кто его предложил. Вуделл и все остальные сказали мне, что оно ужасно до безобразия. Оно не было броским, сказали они, и было бессмысленным.
Мы провели опрос среди всех наших сотрудников. Включая секретарей, бухгалтеров, торговых представителей, конторских служащих отдела розничной торговли, делопроизводителей, работников склада – мы потребовали, чтобы каждый принял участие, сделал хотя бы одно предложение. «Форд» только что заплатил консалтинговой фирме экстра-класса два миллиона долларов, – сообщил я, – за то, что она придумала ему название для новой модели – «Маверик» («Скиталец». – Прим. пер.). У нас нет двух миллионов долларов, но у нас есть пятьдесят смышленых сотрудников, и мы можем придумать что-нибудь получше, чем… «Маверик».
Кроме того, в отличие от «Форда» у нас был установлен крайний срок. «Канада» запускала в производство заказанную обувь в ту пятницу.
Час за часом продолжались споры и крики, обсуждение преимуществ того или иного названия. Кому-то понравилось предложение Борка – «Бенгал». Еще кто-то заявил, что единственным подходящим названием может быть только «Кондор». Я фыркал и ворчал. «Названия животных, – сказал я. – Названия животных! Мы перебрали названия чуть ли не всех диких животных, живущих в лесу. Неужели наш логотип должен носить название животного?»
Вновь и вновь я лоббировал за «Шестое измерение». Вновь и вновь я слышал от своих сотрудников, что это название никуда не годно.
Кто-то, я забыл кто, четко подытожил ситуацию: «Все эти названия… дерьмо». Я думал, что это мог сказать Джонсон, но документы свидетельствуют, что к тому моменту он уже ушел, уехав к себе в Уэлсли.
Однажды поздно вечером мы страшно устали, терпение наше было на пределе. Если бы я услышал хотя бы еще одно название животного, я бы выпрыгнул из окна. Завтра будет день опять, сказали мы, вываливаясь из офиса и направляясь к своим машинам.
Я приехал домой и уселся в своем кресле. В уме я снова и снова проигрывал эти названия. Фалькон? Бенгал? Шестое измерение? Еще что-то? Ну, что-нибудь?
Настал день, когда надо было принять решение. «Канада» уже запустила в производство бутсы, и образцы были готовы к отправке в Японию, но перед тем, как что-то отправлять, нам надо было выбрать название. Кроме того, мы запланировали разместить рекламные объявления в журналах, синхронизируя их появление с началом отгрузки партий обуви, и нам надо было сообщить художникам-графикам, какое название дать в рекламе. И наконец, нам надо было подать документы в Ведомство по патентам и товарным знакам США.
Вуделл вкатился на своем кресле ко мне в офис. «Время вышло», – сказал он.
Я потер глаза: «Я знаю».
«Что будет?»
«Я не знаю».
Голова у меня раскалывалась. К этому моменту все названия будто спрессовались в один кипящий шар. Фальконбенгалдайменшнсикс.
«Есть еще одно… предложение», – сказал Вуделл.
«От кого?»
«Джонсон первым делом позвонил сегодня утром, – сказал он. – По всей видимости, новее название приснилось ему прошлой ночью».
Я выкатил глаза: «Приснилось во сне?»
«Он говорит серьезно», – отвечал Вуделл.
«Он всегда серьезен».
«Он говорит, что посреди ночи вскочил с постели и увидел название прямо перед собой», – сказал Вуделл.
«И какое же?» – спросил я, обхватывая себя руками.
«Найк».
«Как?»
«Найк».
«Скажи по буквам».
«Н-А-Й-К», – произнес Вуделл.
Я записал название на желтом блокноте линованной бумаги.
Греческая богиня победы. Акрополь. Парфенон. Храм. Я перенесся в мыслях в прошлое. На какое-то мгновение. Мимолетно.
«Наше время кончилось, – сказал я. – Найк. – Фалькон. Или «Шестое измерение».
«Все терпеть не могут «Шестое измерение».
«Все, кроме меня».
Он нахмурился: «Выбор за тобой».
Он оставил меня. Я рисовал каракули в блокноте. Составил список названий, повычеркивал их все. Тик-так, тик-так. Надо отправлять телекс на фабрику – немедленно.
Терпеть не мог принимать решения в спешке, и, похоже, именно этим я занимался все эти дни. Я посмотрел в потолок. Дал себе еще пару минут, чтобы обдумать различные варианты, затем прошел по коридору к телексу. Сел у аппарата и дал себе еще три минуты.
С неохотой отпечатал сообщение. Название нового бренда…
Много всего пронеслось у меня в голове – сознательно и бессознательно. Во-первых, Джонсон обратил внимание на то, что, похоже, у всех знаковых брендов – «Клорокс», «Клинекс», «Ксерокс» – названия короткие. Два слога или того меньше. И всегда в названии присутствует сильный звук, буква типа «К» или «Экс», которая проникает в сознание. Все это имело смысл. И все это описание подходило к названию «Найк».
Кроме того, мне нравилось, что Ника была богиней победы. Что может быть, думал я, важнее победы?
Наверное, где-то в глубине сознания я, должно быть, слышал слова Черчилля. Вы спрашиваете, какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа. Возможно, я вспомнил медаль Победы, которую вручали всем ветеранам Второй мировой войны – бронзовый медальон с Афиной-Никой на лицевой стороне, ломающей меч пополам. Возможно. Иногда я верю, что действительно вспоминал ее. Но, в конце концов, не могу сказать, что действительно привело меня к окончательному решению. Везение? Инстинкт? Некий внутренний дух? Да.
«Что ты решил?» – спросил меня Вуделл в конце дня. «Найк», – промямлил я. «Хм», – сказал он. «Да, я знаю», – сказал я. «Может, оно еще понравится нам», – сказал я.
Может быть.
Мои новые взаимоотношения с «Ниссо» были многообещающими, но они были совершенно новыми, и кто осмелился бы предсказать, во что они могут вылиться? Однажды я уже чувствовал, что отношения с «Оницукой» были многообещающими, и взгляните, куда они привели. «Ниссо» вливала в меня наличность, но я не мог позволить, чтобы это убаюкало меня. Я должен был изыскать максимально возможное число источников денег.
Это вернуло меня к идее публичного размещения ценных бумаг. Думаю, я не смог бы пережить разочарование второго неудачного предложения. Поэтому я с Хэйесом разработал способ, с помощью которого можно обеспечить успешное проведение операции. Мы решили, что наше первое предложение не было достаточно агрессивным. Мы не сумели подать товар лицом. На этот раз мы наняли энергичного продавца.
Кроме того, на этот раз мы решили продавать не акции, а конвертируемые долговые обязательства.
Если бизнес действительно война без пуль, то долговые обязательства – это облигации военного займа. Люди ссужают вас деньгами, а вы в обмен предоставляете им квазиакции… с прицелом на будущее развитие вашей компании. Акции являются квазикапиталом, потому что получателей долговых обязательств активно побуждают и стимулируют держать свои акции в течение пяти лет. После этого они могут либо конвертировать их в обычные акции, либо получить свои деньги обратно с процентами.
Опираясь на свой новый план, а также на помощь нашего энтузиаста-продавца, мы объявили в июне 1971 года, что «Блю Риббон» предложит двести тысяч долговых акций по доллару за штуку, и на этот раз акции были быстро распроданы. Одним из первых покупателей стал мой друг Кейл, который не колеблясь выписал чек на десять тысяч долларов – щедрая сумма.
«Бак, – сказал он, – я был рядом в начале, буду рядом до конца».
«Канада» подвела. Ее кожаные футбольные бутсы были красивыми, но в холодную погоду их подошва трескалась. Ирония погоняет иронию – обувь, сделанная на фабрике, названной «Канадой», не выдерживала холода. Но опять, возможно, в этом была наша вина. Мы придумали использовать бутсы для соккера в качестве спортивной обуви для американского футбола. Возможно, мы напросились на неприятность.
Квотербек из «Нотр-Дам» в том сезоне носил пару наших кроссовок, и было в кайф смотреть, как он несется по священному для всех любителей спорта футбольному полю в Саут-Бенде в паре «найков». До тех пор, пока эти «найки» не рассыпались в прах (как и сами «сражающиеся ирландцы» «Нотр-Дама» в тот год). Поэтому задачей номер один было найти фабрику, которая могла бы выпускать более крепкую и стойкую к неблагоприятным погодным условиям обувь.
В «Ниссо» сказали, что они могут помочь. Они были бы только рады помочь. Они насыщали свой отдел, ведавший вопросами товарооборота, всевозможными сведениями, и Сумераги располагал бездной информации о фабриках по всему миру. Кроме того, незадолго до этого он нанял консультанта, настоящего чародея обувных дел, ученика и последователя Йонаса Сентера.
О Сентере я никогда не слышал, но Сумераги уверил меня в том, что этот человек – гений, с головы до пят настоящий пес с обувкой в зубах. Эту фразу мне доводилось слышать несколько раз. Псами с обувкой в зубах звали тех, кто посвящал себя всего без остатка производству, продаже, покупке или дизайну обуви. Навечно прикипевшие к этому делу охотно использовали эту фразу, характеризуя других мужчин и женщин, обреченных пожизненно корпеть в обувной отрасли. Ни о чем другом говорить или думать они не могли. Это была всепоглощающая мания, узнаваемое психологическое расстройство – с таким забвением отдаваться стелькам и подошвам, следкам и рантам, заклепкам и союзкам. Но я понимал. Средний человек делает семь тысяч пятьсот шагов в день, 274 миллиона шагов в течение долгой жизни, что сопоставимо с шестью кругосветными путешествиями пешком, – псы с обувкой в зубах, как мне казалось, хотели бы стать частью такого путешествия. Обувь для них была тем, что связывало их с человечеством. Разве существует иной способ для поддержания такой связи, думали эти псы, не расстающиеся с обувкой, способ, который был бы лучше, чем постоянная работа над улучшением той связующей прокладки, что отделяет каждого человека от земной поверхности и одновременно приближает его к ней?
Я чувствовал необычную симпатию к таким печальным судьбам. Задавался вопросом, сколько таких людей, возможно, встречалось на моем пути во время моих поездок.
Обувной рынок в то время был наводнен подделками под «Адидас», и спровоцировал эту волну подделок именно Сентер. Он, по всей видимости, был королем подделок. Он также знал все, что следовало знать о легальной торговле обувью в Азии, – о фабриках, импорте, экспорте. Он помог создать обувное производство для крупнейшей японской многопрофильной торговой компании «Мицубиси». «Ниссо» не могла нанять самого Сентера по разным причинам, поэтому она остановила свой выбор на протеже Сентера – человеке по имени Соул.
«Серьезно? – переспросил я. – Парень, занимающийся обувью, носит фамилию Соул?» (В переводе – подошва. – Прим. пер.)
Перед тем как встречаться с Соулом, перед тем как продолжать дальше сотрудничество с «Ниссо», я задумался, не рискую ли я попасть в новую ловушку. Если я буду поддерживать партнерские отношения с «Ниссо», то вскоре буду завязан с ними на огромные суммы. Если же они еще станут источником, из которого мы будем получать всю нашу обувь, я окажусь в еще более уязвимом положении перед ними, чем я был ранее перед «Оницукой». А если они окажутся такими же агрессивными, как «Оницука», тогда вообще туши свет.
По предложению Бауэрмана я переговорил на эту тему с Джакуа, и для него она оказалась головоломкой. Ничего себе переплет, сказал он. Он не знал, что посоветовать. Но знал кое-кого, кто мог. Его шурин, Чак Робинсон, был генеральным директором и председателем совета директоров компании «Маркона Майнинг», имевшей совместные предприятия по всему миру. Каждая из крупнейших восьми японских торговых компаний была партнером, по крайней мере, одного из горнодобывающих предприятий, поэтому Чак, возможно, был ведущим экспертом на Западе по ведению бизнеса с этими ребятами.
Я немного схимичил, но добился встречи с Чаком в его офисе в Сан-Франциско и испытал дикое состояние подавленности, едва войдя в него. Я был поражен размерами его офиса, по площади превосходившего мой дом. И видом из его окон, выходящих на залив Сан-Франциско с огромными танкерами, медленно двигавшимися по морской глади, прибывающими или же отправляющимися в крупнейшие порты мира. Вдоль стен были выставлены масштабные модели танкерного флота «Марконы», перевозившего уголь и другие полезные ископаемые во все уголки земного шара. Командовать таким редутом мог только тот, кто обладал огромной властью и умом.
Запинаясь, я изложил, с чем пришел, но Чак тем не менее смог быстро ухватить смысл. Он свел мою сложную ситуацию к убедительному резюме. «Если японская торговая компания с первого же дня поймет правила игры, – сказал он, – они станут вашими лучшими партнерами из всех, какие у вас были».
Успокоившись, осмелев, я вернулся к Сумераги и изложил ему правила: «Никакого акционерного капитала в моей компании. Никогда».
Он ушел и проконсультировался с несколькими сотрудниками в своем офисе. Вернувшись, он сказал: «Нет проблем. Но вот наши условия сделки. Мы снимаем четыре процента с высшей цены как наценку на продукт. И процентные ставки сверх того».
Я кивнул.
Через несколько дней Сумераги направил Соула на встречу со мной. Учитывая репутацию человека, я ожидал увидеть перед собой некую богоподобную фигуру с пятнадцатью руками, каждая из которых должна была взмахивать волшебной палочкой, сделанной из распорки для обуви. Но Соул оказался обычным, заурядным бизнесменом средних лет с нью-йоркским акцентом и в костюме из акульей кожи. Не моего типа парень, ну, и я не был парнем его типа. И тем не менее нам без труда удалось найти общий язык. Кроссовки, спорт – плюс непреходящее отвращение к Китами. Когда я лишь упомянул его имя, Соул фыркнул: «Да он козел».
«Мы по-настоящему подружимся», – подумал я.
Соул обещал мне помочь осилить Китами, высвободиться от него. «Я могу решить все ваши проблемы, – сказал он. – Я знаю фабрики». «Фабрики, которые смогут выпускать «найки»?» – спросил я, передавая ему образец моих новых футбольных кроссовок. «По памяти могу сразу назвать пять таких!» – выпалил он.
Он был непреклонен. Похоже, у него было два состояния ума – непреклонность и пренебрежение. Я понимал, что он выставляет меня на торги, что он хочет мой бизнес, но я был готов к продаже, и даже более чем готов к тому, чтобы продажа состоялась.
Пять фабрик, которые упомянул Соул, находились в Японии. Поэтому мы с Сумераги решили поехать туда в сентябре 1971-го и осмотреться на месте. Соул согласился быть нашим проводником.
За неделю до нашего отъезда позвонил Сумераги. «Мистер Соул перенес сердечный приступ», – сообщил он. «О нет», – сказал я. «Как полагают, он поправится, – сказал Сумераги, – но совершать поездки пока невозможно. Его место займет его сын, очень способный человек».
Голос Сумераги звучал так, будто он больше пытался убедить не меня, а самого себя.
В Японию я полетел один и встретился с Сумераги и Соулом-младшим в офисе «Ниссо» в Токио. Я буквально опешил, когда ко мне навстречу с протянутой рукой вышел Соул-младший. Я предполагал, что он будет молодым, но передо мной стоял подросток. У меня было предчувствие, что он будет одет, как и его отец, в костюм из акульей кожи, и так оно и оказалось. Но костюм ему был велик – на три размера больше, чем надо. Может, он действительно был отцовским?
И как очень многие подростки, он начинал каждое предложение с «я». Я думаю то. Я думаю это. Я, я, я.
Я бросил взгляд на Сумераги. По его лицу было видно, что он серьезно обеспокоен.
Первая из тех фабрик, которые мы хотели осмотреть, находилась на окраине Хиросимы. Втроем мы отправились туда на поезде, прибыв в полдень. Прохладным, пасмурным днем. Встреча была назначена на утро следующего дня, поэтому я подумал, что будет важно использовать свободное время, чтобы посетить музей. И я хотел пойти туда один. Я сказал Сумераги и Соулу-младшему, что встречу их на следующее утро в вестибюле гостиницы.
Переходя из одного музейного зала в другой… я был не в состоянии все это осознать. Не был в состоянии пропустить все это через себя. Манекены, одетые в опаленную огнем одежду. Кучки оплавленных, облученных ювелирных изделий? Кухонной посуды? Я не мог разобрать. Фотографии, которые перенесли меня куда-то далеко за пределы эмоций. В ужасе стоял я перед расплавленным детским трехколесным велосипедом. Я стоял с открытым ртом перед почерневшим скелетом здания, в котором люди любили, работали, смеялись… до тех пор, пока… Я пытался почувствовать и услышать момент взрыва.
У меня защемило сердце, когда, повернув за угол, я наткнулся на сгоревший ботинок, лежащий под стеклом витрины, и на след его владельца, все еще видимый на земле.
На следующее утро, когда все эти ужасные образы еще были свежи в памяти, я был мрачен, глубоко подавлен, пока мы с Сумераги и Соулом-младшим ехали в машине, направляясь за город, и я чуть было не испугался, услышав возгласы приветствия заводских руководителей. Они были рады видеть нас, были рады показать нам свое хозяйство и свою продукцию. Кроме того, они довольно прямолинейно заявили, что очень хотят заключить сделку. Они давно надеялись на то, чтобы пробиться на рынок США.
Я показал им кроссовки «Кортес», поинтересовался, сколько им потребуется времени для того, чтобы выпустить достаточно большую партию такой обуви. «Шесть месяцев», – сказали они. Соул-младший выступил вперед. «Сделаете это за три», – рявкнул он.
Я ахнул. За исключением Китами, я всегда находил японцев неизменно вежливыми, даже в разгар споров или интенсивных переговоров, и я всегда стремился отвечать взаимностью. Но соблюдение вежливости в Хиросиме, как ни в каком другом месте, как я полагал, было гораздо важнее. Здесь, как нигде больше на всем земном шаре, люди должны быть любезными и добрыми друг с другом. Соул-младший был каким угодно, но только не таким. Он был уродливейшим из американцев.
Дальше было еще хуже. По мере того как мы продолжали свою поездку по Японии, он вел себя со всеми, с кем мы встречались, резко, хамски, напыщенно, самодовольно, покровительственно. Он смущал меня, смущал всех американцев. Мы с Сумераги время от времени обменивались страдальческими взглядами. Нам отчаянно хотелось отругать Соула-младшего, избавиться от него, но нам нужны были контакты его отца. Нам нужно было, чтобы это ужасное отродье показывало нам, где расположены фабрики.
В Куруме, недалеко от Бэппу, на южных островах, мы посетили фабрику, которая была частью огромного промышленного комплекса, находившегося в ведении компании по производству шин «Бриджстоун». Фабрика называлась «Ниппон Раббер». Это была крупнейшая обувная фабрика из всех, виденных мною, нечто вроде обувной страны Оз, способной выполнить любой заказ, независимо от его объема или сложности. Сразу после завтрака мы сидели с руководством фабрики в их конференц-зале, и на этот раз, когда Соул-младший попытался заговорить, я ему этого не позволил. Каждый раз, когда он открывал свой рот, я начинал говорить, обрывая его.
Я рассказал фабричному руководству, какие кроссовки нам требуются, показал им образец «Кортеса». Они серьезно закивали. Я не был уверен, что они поняли.
После обеда мы вернулись в конференц-зал, и прямо передо мной на столе я увидел совершенно новый «Кортес» с боковым логотипом «Найк» и всем остальным, только что испеченный, прямо из фабричного цеха. Магия.
Я потратил остаток дня, подробно рассказывая о кроссовках, которые я хотел выпускать. Теннисные, баскетбольные, с высоким верхом, с низким верхом плюс несколько дополнительных моделей кроссовок для бега. Руководители фабрики настаивали, что у них не будет проблем с выпуском всех этих моделей.
Отлично, сказал я, но перед тем, как разместить заказ, мне надо будет взглянуть на образцы. Менеджеры заверили меня, что они смогут моментально сделать и в течение нескольких дней отправить их в штаб-квартиру «Ниссо» в Токио. Мы поклонились друг другу. Я вернулся в Токио и стал ждать.
День за днем бодрящей осенней погоды. Я ходил по городу, пил «Саппоро» и саке, ел якитори и мечтал о кроссовках. Я посетил сад Мэйдзи, сидел под реликтовым гинкго рядом с вратами Тории. Порталом в святая святых.
В воскресенье я получил извещение в гостинице. Образцы обуви прибыли. Я поспешил в офис «Ниссо», но он был закрыт. Однако они настолько мне доверяли, что выдали пропуск, так что я смог войти и расположиться в большой комнате среди многих рядов пустых рабочих столов, чтобы как следует рассмотреть присланные образцы. Я держал их поближе к свету, поворачивал их так и сяк. Я проводил пальцами по подошвам, по изображению нашего логотипа в виде «галочки» или крыла, или как там еще будут называть эту изогнутую линию. Совершенства не было. Логотип на одном из образцов не был расположен строго по прямой, простилка на другом была слишком тонкой. У третьего подъем должен был быть больше.
Я сделал заметки для руководства фабрики. Но если отодвинуть в сторону незначительные дефекты, образцы были очень хорошие. В конце концов, единственное, что оставалось сделать, – это придумать названия для различных моделей. Я запаниковал. Я слишком плохо справился, придумывая название для моего нового бренда – «Шестое измерение»? В «Блю Риббон» все до сих пор подтрунивают надо мной. Я выбрал название «Найк» только потому, что у меня не оставалось времени, и потому, что я доверял природе Джонсона, схожей с гениальностью саванта. Теперь же я был один, в пустом офисном здании в центре Токио, и мог полагаться только на свои способности. Я взял в руку образец теннисной кроссовки. Я решил назвать его… «Уимблдон».
Ну, это было легко.
Я взял другую теннисную кроссовку. И решил назвать эту модель… «Форест-Хилл». В конце концов, это место, где проводился первый Открытый чемпионат США по теннису.
Я взял образец баскетбольных кроссовок. И назвал его «Блэйзер» – в честь баскетбольной команды моего родного города, входящей в Национальную баскетбольную ассоциацию. Я взял в руки другой образец баскетбольных кроссовок и назвал его «Брюин», потому что лучшей университетской баскетбольной командой всех времен была команда «Брюинз» под руководством Джона Вудена.
Не слишком креативно, но…
А теперь – к кроссовкам для бега. Разумеется, «Кортес». И «Марафон». И «Обори». И «Бостон», и «Финленд». Я ощущал это. Я был в ударе. Я начал пританцовывать по комнате. Я услышал таинственную музыку. Я поднял перед собой кроссовку для бега. И назвал ее Wet-Flyte. Бум, сказал я.
По сей день не знаю, откуда взялось это название. У меня ушло полчаса на то, чтобы присвоить им всем имена. Я почувствовал себя Кольриджом, сочинившим поэму «Кубла-хан», находясь в опиумном дурмане. После этого я отправил придуманные названия по почте в адрес фабрики.
Было темно, когда я вышел из офисного здания на запруженную людьми токийскую улицу. Меня охватило чувство, которое ранее я никогда не испытывал. Я ощутил себя истощенным, но гордым. Я чувствовал себя выжатым, но радостно возбужденным. Я ощущал все, что когда-либо надеялся ощутить после рабочего дня. Я ощущал себя художником, творцом. Я оглянулся, чтобы в последний раз посмотреть на штаб-квартиру «Ниссо». И прошептал: «Мы сделали это».
Шла третья неделя моего пребывания в Японии – получилось дольше, чем я ожидал, что выдвигало две проблемы. Мир был огромен, но мир обуви был небольшим, и если «Оницука» пронюхает, что я находился в их «краях» и не заглянул к ним, они поймут, что я что-то затеваю. Им будет не трудно выяснить или догадаться, что я подбираю им замену. Поэтому мне надо было поехать в Кобе, чтобы появиться в офисе «Оницуки». Однако продление моей поездки, оторванность от дома еще на неделю – это было неприемлемо. Мы с Пенни никогда не расставались на такое длительное время.
Я позвонил ей и попросил прилететь, чтобы присоединиться ко мне на последнем этапе моего японского турне. Пенни ухватилась за этот шанс. Она никогда не была в Азии, и для нее это было последней возможностью, перед тем как рухнет наш бизнес и мы окажемся без денег. Возможно, также это будет ее последней возможностью воспользоваться своими розовыми чемоданами. А Дот была готова побыть сиделкой с ребенком.
Полет, однако, был долгим, а Пенни не любила летать. Когда я приехал встречать ее в токийском аэропорту, я знал, что мне предстоит получить на руки хрупкое создание. Но я забыл, насколько устрашающим может быть аэропорт Ханэда. Это была сплошная масса тел и багажа. Я двинуться не мог, не мог отыскать Пенни. Неожиданно она появилась перед раздвижными стеклянными дверьми таможенного контроля. Она пыталась протолкнуться через толпу, выбраться из давки. Вокруг было слишком много народа – и вооруженной полиции – по обе стороны от нее. Она оказалась в ловушке.
Двери раздвинулись, и толпа ринулась прочь. Пенни упала мне в руки. Никогда не видел ее настолько измученной, даже после того, как она родила Мэтью. Я спросил, уж не было ли прокола шины у самолетного шасси и не пришлось ли ей менять колесо. Шутка? Китами? Помнишь? Она не рассмеялась. Сказала, что самолет попал в зону турбулентности за два часа до посадки в Токио, и полет превратился в катание на американских горках.
На ней был ее лучший костюм зеленовато-желтого цвета, но сильно измятый и испачканный, и на ее лице был тот же зеленовато-желтый оттенок. Ей нужен был горячий душ, длительный отдых и свежая одежда. Я сообщил ей, что у нас есть номер люкс в великолепной гостинице «Империал», построенной по проекту Фрэнка Ллойда Райта.
Спустя полчаса, когда мы подъехали к гостинице, она сказала, что ей нужно воспользоваться дамской комнатой, пока я буду регистрироваться. Я поспешил к стойке регистрации, получил ключи от номера и присел в ожидании на один из диванов в вестибюле отеля.
Прошло десять минут.
Пятнадцать.
Я подошел к двери дамской комнаты и постучал: «Пенни?»
«Я замерзла», – проговорила она.
«Что?»
«Я здесь на полу… и мне холодно».
Я открыл дверь и нашел ее, лежащую на боку на холодной кафельной плитке пола, другие женщины толпились вокруг, переступая через нее. У нее был приступ паники. И сильные судороги в ногах. Долгий полет, хаос в аэропорту, долгие месяцы стрессового состояния из-за Китами – все это было слишком много для нее. Я спокойно заговорил с ней, обещая, что все будет хорошо, и постепенно она расслабилась. Я помог ей подняться, проводил наверх и попросил, чтобы прислали массажистку.
Пока она лежала на кровати с холодным компрессом на лбу, я переживал за нее, но одновременно испытывал некоторое чувство благодарности. На протяжении нескольких недель, месяцев я был на грани паники. Вид Пенни в подобном состоянии подействовал на меня как прилив адреналина. Одному из нас надо оставаться собранным, не разваливаться, ради Мэтью. На этот раз настал мой черед.
На следующее утро я позвонил в «Оницуку» и сообщил им, что мы с женой находимся в Японии. Приезжайте, сказали они. Через час мы были в поезде, направлявшемся в Кобе.
Встречать нас вышли все, включая Китами, Фуджимото и г-на Оницуку. Что привело вас в Японию? Я отвечал, что мы на отдыхе. Спонтанное решение. «Очень хорошо, очень хорошо», – сказал г-н Оницука. Он очень суетился вокруг Пенни, и нас усадили за наспех организованную чайную церемонию. На какой-то момент, в разгар светской болтовни, в атмосфере смеха и шуток, можно было забыть, что мы были на пороге войны.
Г-н Оницука даже предложил машину с водителем, чтобы показать нам Кобе. Я принял предложение. Затем Китами пригласил нас на ужин в тот же вечер. И вновь я с неохотой сказал «да».
Фуджимото тоже пришел, что усугубило и без того сложную ситуацию. Я огляделся: за столом сидели моя жена, мой враг, мой шпион. Ничего себе жизнь. Хотя тональность разговора за столом была дружелюбной, сердечной, я чувствовал скрытый подтекст в каждой реплике. Это было похоже на плохой контакт в электропроводке, который гудел и искрил где-то в стороне. Я все ждал, когда Китами перейдет к главному, прижмет меня с ответом на его предложение о покупке «Блю Риббон». Странным образом он этого не коснулся.
Около девяти часов вечера он объявил, что ему надо возвращаться домой. Фуджимото сказал, что останется, чтобы пропустить с нами по стаканчику на ночь. Как только Китами уехал, Фуджимото рассказал нам все, что знал о плане по разрыву отношений с «Блю Риббон». Его информация не намного превышала то, что я почерпнул из папки, которую носил у себя в портфеле Китами. И все же было приятно сидеть вместе с союзником, поэтому мы осушили несколько рюмок, вдоволь посмеялись, пока Фуджимото не взглянул на часы и не вскричал: «Быть не может! Уже двенадцатый час. Поезда перестают ходить!»
«Да не проблема, – сказал я. – Оставайтесь с нами».
«У нас в номере большой татами, – сказала Пенни, – и вы можете спать на нем».
Фуджимото принял приглашение со многими поклонами. И еще раз поблагодарил меня за велосипед. Час спустя мы уже были в небольшой комнате, делая вид, что нет ничего необычного в том, что мы втроем укладываемся спать в одном помещении.
На рассвете я услышал, как Фуджимото встал, покашлял, потянулся. Пошел в ванную комнату, открыл кран с водой, почистил зубы. Затем надел свою одежду, в которой был накануне, и выскользнул из нашего номера. Я вновь заснул, но вскоре в ванную комнату направилась Пенни, и когда она вернулась в постель, она… смеялась? Я повернулся к ней. Нет же, она плакала. Она выглядела так, будто вновь оказалась на грани нового приступа паники.
«Он пользовался…» – сквозь всхлипывания сказала она. «Чем?» – спросил я. Она зарылась головой в подушки. «Он пользовался… моей зубной щеткой».
Как только я вернулся в Орегон, я пригласил Бауэрмана к нам в Портленд, чтобы встретиться со мной и Вуделлем, поговорить о состоянии дел.
Все казалось таким же, как и во время прежних встреч. В какой-то момент в ходе разговора мы с Вуделлем заметили, что внешняя подошва тренировочной обуви не изменилась за последние пятьдесят лет. Протектор по-прежнему имел вид просто волн или канавок поперек стопы. Модели «Кортес» и «Бостон» стали прорывом в амортизации и использовании нейлона, революционными новинками в конструкции верхней части кроссовок, но в том, что касается внешней части подошвы, со времен, предшествующих Великой депрессии, здесь не было ни единой инновации. Бауэрман кивнул. Он сделал для себя пометку. И весь его вид не говорил о том, что он так уж заинтересовался.
Насколько я помню, как только мы обсудили все, что стояло на повестке для относительно нового бизнеса, Бауэрман сообщил нам, что один богатый выпускник Орегонского университета недавно пожертвовал миллион долларов на строительство нового трека – лучшего в мире.
Говоря все громче, Бауэрман начал давать описание поверхности беговых дорожек, созданной им с помощью этого непредвиденного вливания средств. Это был полиуретан, такая же губчатая поверхность, которая будет создана для Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, во время которых Бауэрман готовился стать главным тренером команды бегунов.
Он был доволен. Но, добавил, далеко не удовлетворен полностью. Его бегуны все еще не могли полностью воспользоваться преимуществами новой поверхности дорожек. Их кроссовки все еще не были способны должным образом хвататься за нее.
Во время двухчасовой езды за рулем обратно в Юджин Бауэрман перебирал в уме все, сказанное мною и Вуделлем, ломал голову над своей проблемой с новым треком, и эти две проблемы подогревались на медленном огне и растворялись в его мыслях.
В следующее воскресенье, сидя за завтраком со своей женой, Бауэрман скользнул взглядом на ее вафельницу. Он обратил внимание на ее рифленую поверхность. Она совпала с определенным рисунком подошвы, который формировался в его сознании, с рисунком, который он уже почти видел или уже искал на протяжении многих месяцев, если не лет. Он спросил миссис Бауэрман, не мог ли он взять у нее взаймы эту вафельницу.
У него был чан с уретаном в гараже, оставшийся после того, как были залиты беговые дорожки трека. Он принес вафельницу в гараж, залил ее уретаном, разогрел – и моментально испортил ее. Уретан плотно загерметизировал ее, потому что Бауэрман не добавил химический антиадгезив. В антиадгезивах он не соображал.
Другой бы тут же все бросил. Но в мозгах Бауэрмана антиадгезива тоже не было. Он купил новую вафельницу, но на этот раз заполнил ее гипсом, и, когда гипс затвердел, челюсти вафельницы разжались без проблем. Бауэрман прихватил получившийся слепок в Орегонскую резиновую компанию и заплатил там за то, чтобы они залили в него жидкую резину.
Новая неудача. Резиновый слепок оказался слишком жестким, слишком хрупким. Он тут же сломался. Но Бауэрман чувствовал, что приближается к решению.
Он совсем отказался от вафельницы. Вместо этого он взял лист нержавейки, проделал в нем дырки, сделав некое подобие вафельной поверхности, и вновь принес свое изделие на резиновую фабрику. Слепок, сделанный из этого листа нержавеющей стали, был податливым, поддающимся обработке, и теперь у Бауэрмана было две пластины, каждая размером с подошву, покрытые твердыми резиновыми шишками. Он принес эти пластины домой и пришил их к подошвам пары кроссовок для бега. Он дал ее одному из своих бегунов. Бегун надел эти кроссовки и помчался, как кролик.
Бауэрман позвонил мне и рассказал о своем эксперименте. Он хотел, чтобы я отправил образец его кроссовок с вафельными подошвами на одну из моих новых фабрик. Разумеется, сказал я. Я немедленно их отправлю в «Ниппон Раббер».
Я вглядываюсь в прошедшие десятилетия и вижу его, корпящего в своей мастерской, вижу миссис Бауэрман, помогающую ему, и у меня мурашки бегут по телу. Он был Эдисоном в Менло-Парке, Да Винчи во Флоренции, Тесла в Ворденклифе. Божественно вдохновленным. Интересно, знал ли он, догадывался ли, что он – Дедал кроссовок, что он делал историю, перестраивал отрасль, изменял то, как спортсмены будут бегать, останавливаться, прыгать на протяжении многих поколений. Я задумываюсь над тем, мог ли он представлять в тот момент, что он сделал. И что последует вслед за этим. Я знаю лишь то, что я тогда представить этого не мог.
Nike?
Все зависело от Чикаго. Каждая наша мысль, каждый наш разговор в начале 1972 года начинались и заканчивались Чикаго, потому что Чикаго был местом проведения выставки Национальной ассоциации производителей спортивных товаров. Мероприятия в Чикаго ежегодно были важными. Выставка спортивных товаров давала возможность торговым представителям со всей страны впервые взглянуть на новые спортивные товары, выпускаемые различными компаниями, и проголосовать за или против, выражая свою оценку размерами своих заказов. Но выставка 1972 года должна была стать куда более важной. Она должна была стать нашим Супербоулом, нашими Олимпийскими играми и нашей бар-мицвой, потому что именно здесь мы решили показать миру «Найк». Если торговым представителям понравится наша новая модель, мы продержимся, дожив до следующего года. Если нет, то нас не будет среди участников выставки 1973 года.
Оницука тем временем тоже приглядывался к Чикаго. За несколько дней до открытия выставки, ни слова не сказав мне, он раструбил в японской прессе о своем «приобретении» «Блю Риббон». Резонанс от этого объявления прокатилися повсюду, и особенно он потряс «Ниссо». Сумераги написал мне, задав, по сути, единственный вопрос: «Какого?..»
В своем взволнованном ответе на двух страницах я сказал ему, что никакого отношения к сделанному Оницукой объявлению я не имею. Я доказывал, что «Оницука» пытается принудить нас к продаже, и заверял, что они – наше прошлое и что наше будущее – «Ниссо», как и «Найк». Заканчивая письмо, я признался, что мы с Сумераги ничего об этом еще не сообщали «Оницуке», поэтому обо всем – молчок. «Прошу вас держать эту информацию, в силу очевидных причин, в строгой тайне. Для того чтобы сохранить существующую дистрибьюторскую сеть для будущих продаж продукции «Найк», нам важно продлить получение поставок от «Оницуки» еще на один или два месяца; если эти поставки прекратятся, это нанесет нам большой вред».
Я чувствовал себя как женатый человек, попавший в безвкусный любовный треугольник. Я заверял свою любовницу, «Ниссо», в том, что мой развод с «Оницукой» был лишь вопросом времени. В то же время я изо всех сил старался вселить в «Оницуку» веру в то, что я остаюсь любящим и преданным мужем. «Мне не нравится такой способ ведения бизнеса, – писал я Сумераги, – но я думаю, нас к этому принудила компания, вынашивающая наихудшие намерения». Вскоре мы будем вместе, дорогая. Просто потерпи.
Буквально перед тем, как все мы отправились в Чикаго, от Китами пришла телеграмма. Он придумал название для «нашей» новой компании. Обувная компания «Тайгер». Он хотел, чтобы я торжественно объявил о ней в Чикаго. Я направил ответную телеграмму, сказав, что название красиво, лирично, чистая поэзия, но что, увы, слишком поздно для того, чтобы делать на выставке презентацию чего-либо нового. Все баннеры, постеры и вся рекламная литература уже напечатаны.
В первый день выставки я вошел в главный павильон и нашел там Джонсона и Вуделля, уже хлопотавшими над установкой нашего стенда. Они выставили ровными рядами новые модели кроссовок «Тайгер», а теперь были заняты устройством пирамид из оранжевых обувных коробок с новинками – моделями «Найк». В те годы обувные коробки были либо белыми, либо синими – и только, но я хотел, чтобы у нас что-то выделялось, чтобы что-то сразу бросалось в глаза на полках магазинов спортивных товаров. Поэтому я попросил «Ниппон Раббер» упаковать кроссовки в коробки ярко-оранжевого неонового цвета, полагая, что это – самый смелый цвет радуги. Джонсону и Вуделлю понравился оранжевый цвет, понравилось и отпечатанное на боковой стороне коробок белыми строчными литерами название «Найк». Но когда они раскрыли коробки и осмотрели сами кроссовки, оба были поражены.
Качество этих кроссовок из первой партии, выпущенной компанией «Ниппон Раббер», не дотягивало до качества «Тайгеров» или образцов, которые мы видели раньше. Кожа была блестящей, но не в хорошем смысле. Кроссовки Wet-Flyte в буквальном смысле оказались «сырыми» (Wet – мокрый, сырой; Flyte – стилизованное написание слова flight (сравните с написанием lyte – вместо light); словосочетание Wet-Flyte допустимо перевести как «полет на всех парусах» – по аналогии с wet sail. Паруса, как известно, при быстром движении судна намокают от рассекаемых на ветру волн – отсюда дословный перевод выражения: нестись на мокрых парусах. Автор обыгрывает слово «мокрые», называя присланную обувь «мокрой», т. е. «сырой», недоработанной, некачественной. – Прим. пер.), будто покрытыми непросохшей дешевой краской или лаком. Верх кроссовок был покрыт полиуретаном, но, по всей видимости, «Ниппон» оказалась не более опытной, чем Бауэрман, работавший с этим коварным, химически нестойким веществом. Логотип сбоку, изображавший выдумку Кэролин – летящее крыло, которое мы прозвали «свуш», выглядел кривым.
Я сел, обхватив голову руками. И смотрел на наши оранжевые пирамиды. В моей памяти возникли пирамиды Гизы. Прошло всего десять лет с тех пор, как я был там, преодолевая пески верхом на верблюде, как Лоуренс Аравийский, будучи настолько свободным, насколько может быть свободным человек. Теперь же я сидел в Чикаго, обремененный долгами глава балансирующей на грани краха обувной компании, и выставлял на всеобщее обозрение новый бренд – образец никудышного мастерства с кривыми свушами. Все суета сует.
Я окинул взглядом выставочный павильон, я видел вокруг тысячи торговых представителей, роящихся вокруг стендов, других стендов. Слышал, как они ахают и охают, разглядывая другую спортивную обувь, впервые выставленную на обозрение. Я ощущал себя парнишкой, пришедшим на детскую научно-техническую выставку, который недостаточно усердно поработал над своим проектом, который вообще не начинал над ним работать до вчерашнего дня. Другие ребята представили свои макеты действующих вулканов, машин, способных метать громы и молнии, а я принес вращающуюся модель Солнечной системы, соорудив ее из маминых вешалок с налипшими на них нафталиновыми шариками.
Будь все проклято – не время устраивать презентацию ущербной обуви. Что еще хуже, нам надо было впаривать эту неполноценную обувь тем, кто не был людьми нашего типа. Они были торговцами. Они говорили, как торгаши, ходили, как торгаши, и одеты были, как торгаши – в плотно обтягивающих рубашках из полиэстера и в широких брюках Sansabelt (не требующих ношения ремня, с вшитой в пояс широкой эластичной лентой. – Прим. пер.). Они были экстравертами, мы – интровертами. Они не понимали нас, мы – их, и все же наше будущее зависело от них. И теперь нам предстояло каким-то образом убедить их в том, что эта новинка «Найк» стоила затраченного ими времени и доверия – и денег.
Я был на грани потери всего, прямо на грани. А затем я увидел, что Джонсон с Вуделлем уже были в состоянии полной потери, и я понял, что не могу себе позволить такого. Как Пенни, они встряхнули меня своим приступом панического настроения. «Послушайте, – сказал я им, – ребята, это худшее из того, какими могут быть кроссовки. Хуже быть не может. Но они станут лучше. Поэтому, если нам удастся распродать эти… мы сможем выкарабкаться».
Каждый из них покорно покачал головой. Какой у нас был выбор? Вы выглянули из нашего стенда и увидели их, толпу торговцев, приближавшихся к нам, как зомби. Они взяли в руки «найки», поднесли их к свету. Потрогали «свуш». Один спросил другого: «Что это за хрень?» – «Хрень его знает», – ответил другой.
Они стали забрасывать нас вопросами: Эй, что ЭТО?
Это «Найк».
И что это за хрень – «Найк»?
Это греческая богиня Победы.
Греческая что?
Богиня Побе…
А что ЭТО?
Это «свуш».
Что это за хрень такая – «свуш»?
Ответ сам вырвался у меня: это тот звук, который вы слышите, когда мимо вас кто-то проносится.
Им это понравилось. О, им это здорово понравилось.
Они дали нам закрепиться в бизнесе. Они разместили у нас свои заказы. К концу дня наши результаты превзошли самые смелые ожидания. Мы оказались одними из тех, кто имел оглушительный успех на выставке. По крайней мере, я видел происходившее именно в таком свете.
Джонсон, как всегда, не был счастлив. Вечный перфекционист. Ненормальность всей сложившейся ситуации, сказал он, ошарашила его. Это в точности была его фраза: «Ненормальность всей сложившейся ситуации». Я умолял, чтобы он послал свои ненормальность и ошарашенность куда-нибудь подальше, оставив в качестве вывода только: «достаточно хорошо». Но он просто не мог сделать этого. Он подошел к одному из крупнейших покупателей, схватил его за пуговицу и потребовал сказать, что происходит. «Что вы имеете в виду?» – спросил заказчик. «Я имею в виду то, – сказал Джонсон, – что мы объявляемся здесь с этой новинкой «Найком», кроссовки еще не прошли испытаний, и, честно говоря, не настолько они и хороши, а вы, ребята, раскупаете их. Что за дела?»
– ЭЙ, ЧТО ЭТО?
– ЭТО «НАЙК».
– И ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ – «НАЙК»?
Заказчик рассмеялся. «Мы годами ведем бизнес с «Блю Риббон», с вами, парни, – сказал он, – и мы знаем, что вы, ребята, говорите правду. Все другие вешают лапшу на уши, а вы, парни, режете правду-матку. Поэтому, если вы говорите, что эта новинка, этот «Найк» стоит того, чтобы попробовать, мы вам верим».
Джонсон вернулся на стенд, почесывая голову. «По правде говоря, – проговорил он, – кто мог знать?»
Вуделл рассмеялся. Джонсон рассмеялся. Я тоже, пытаясь не думать о массе полуправд и вранья, связанных с «Оницукой».
Добрые вести распространяются быстро. Дурные – быстрее, чем бегают Грель и Префонтейн. Они переносятся ракетой. Пару недель после Чикаго в мой офис вошел Китами. Без предварительного уведомления. Без предупреждения. И сразу к главному. «Что это за… штука, – потребовал он разъяснения, – эта… НИ-кей?»
На моем лице ничего не отразилось. «Найк? О, это так, ничего особенного. Это наше побочное дело, созданное нами, чтобы подстраховаться от возможных неприятностей, на тот случай, если «Оницука» поступит так, как она угрожает сделать, и выдернет ковер у нас из-под ног».
Мой ответ разоружил его. Как и должен был. Я репетировал его в течение нескольких недель. Он звучал настолько разумно и логично, что Китами не знал, как ответить. Он приехал, чтобы напроситься на драку, а я парировал его бычий наскок изматывающим обманным маневром.
Он потребовал от меня назвать, кто выпускает новые кроссовки. Я сказал, что их делают на разных фабриках в Японии. Он настоял на том, чтобы я сообщил, сколько кроссовок «Найк» мы заказали. Несколько тысяч, отвечал я.
Он издал один звук: «О-о». Я не был уверен в том, что он означал. Я не стал упоминать, что два члена энергичного баскетбольного клуба из моего родного города «Портленд Трэйл Блэйзерс» совсем недавно были обуты в «Найк» во время разгромного матча с «Нью-Йорк Никс», когда наша команда победила со счетом 133:86. Также недавно в газете «Орегониан» было опубликовано фото Джеффа Петри, мчащегося мимо игрока нью-йоркской команды (по имени Фил Джексон), при этом на кроссовках Петри был явственно виден символ «свуш» (и мы только что заключили рекламную сделку с парой других игроков команды «Блэйзерс» и собирались передать и им тоже наши кроссовки). Хорошо, что «Орегониан» не имела широкого распространения в Кобе.
Китами поинтересовался, поступила ли новинка «Найк» в магазины. Разумеется нет, солгал я. Или приврал. Он спросил, когда я собираюсь подписать его документы и продать ему свою компанию. Я отвечал, что мой партнер еще не принял решения.
Встреча завершилась. Теребя пуговицы своего пиджака, он сказал, что у него еще есть дела в Калифорнии. Но он еще вернется. Он вышел из моего офиса, а я немедленно взялся за телефонную трубку. Я набрал номер нашего розничного магазина в Лос-Анджелесе. Подошел Борк.
«Джон, наш старый друг Китами направляется в твой город! Уверен, он не пройдет мимо твоего магазина! Прошу, спрячь «найки»!»
«Чего?»
«Ему известно про «Найк», но я сказал ему, что эта модель в магазины не поступала!»
«Не понимаю, – отвечал Борк, – чего ты от меня хочешь».
Голос у него был испуганный. И раздраженный. Он сказал, что не хочет делать ничего бесчестного. «Я лишь прошу тебя припрятать несколько пар кроссовок!», – вскричал я, а затем швырнул трубку.
И, конечно же, Китами нарисовался там в тот же день. Он предстал перед Борком, забросал его вопросами, тряс его, как полицейский трясет ненадежного свидетеля. Борк прикинулся «дурачком» – или сказал мне потом, что прикинулся.
Китами попросил воспользоваться ванной комнатой. Уловка, конечно. Он знал, что ванная комната находится где-то в глубине дома, и ему нужен был предлог, чтобы порыться там. Борк уловки не учуял или же ему было наплевать. Спустя несколько мгновений Китами оказался в кладовке, где горела одна голая лампочка, освещая сотни оранжевых обувных коробок. «Найк», «Найк» кругом повсюду… «и ни капли, чтоб жажду утолить». (Фил Найт приводит строфу из «Сказания о старом мореходе» Сэмюэла Колриджа: «Вода, вода, кругом вода / И штиль, и нету сил нам плыть / Пришла незваная беда / И нечем жажду утолить». – Прим. пер.)
Борк позвонил мне после того, как Китами уехал. «Игра проиграна», – сказал он. «Что случилось?» – спросил я. «Китами пробился в кладовую – все кончено, Фил».
Я повесил трубку и, обессиленный, опустился на кресло. «Ну, – громко сказал я, ни к кому не обращаясь, – полагаю, пришло время выяснить, сможем ли мы выжить без «Тайгера». Мы выяснили еще кое-что.
Вскоре после этого Борк уволился. Вообще-то я точно не помню, уволился он сам или же Вуделл уволил его. В любом случае вскоре мы услышали, что у Борка появилась новая работа. На Китами.
Я проводил день за днем, глядя в пространство, глядя из окон, ожидая, когда Китами разыграет свою следующую карту. Я также тратил много времени, смотря телевизор. Вся страна, как и весь мир, была взбудоражена возобновлением отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Президент Никсон посетил Пекин, обмениваясь рукопожатиями с Мао Цзэдуном, – событие, почти равное по значению с высадкой на Луне. Никогда не думал, что увижу такое в моей жизни – президент США в Запретном городе, прикасается к Великой Китайской стене. Я вспоминал о времени, проведенном мною в Гонконге. Там я оказался так близко к Китаю и тем не менее так далеко. Я полагал, что у меня больше никогда не появится такого шанса. Но теперь, думал я, в один прекрасный день? Может быть?
Может быть. Наконец Китами сделал ход. Он вернулся в Орегон и попросил о встрече, на которой он хотел бы видеть Бауэрмана. В качестве места встречи я предложил офис Джакуа в Юджине.
Когда настало время встречи и мы все направлялись в конференц-зал, Джакуа взял меня под руку и прошептал: «Что бы он ни говорил, ничего не отвечай». Я кивнул.
С одной стороны стола расположились Джакуа, Бауэрман и я. На другой уселись Китами и его юрист, местный парень, который всем своим видом показывал, что не хотел бы быть там. Плюс Ивано. Он вернулся, и мне показалось, что по его лицу скользнула полуулыбка, прежде чем он вспомнил, что на этот раз это не было светским визитом.
Конференц-зал у Джакуа был больше, чем наша комната для переговоров в Тигарде, но в тот день он показался мне кукольным домиком. Китами был инициатором встречи, поэтому он ее начал. И он не стал ходить вокруг да около дерева бонсай. Он вручил Джакуа письмо. С немедленным вступлением в силу наш контракт с «Оницукой» объявлялся недействительным. Он взглянул на меня, затем на Джакуа. «Оцень-оцень созалею», – сказал он.
Кроме того, обильно посыпая солью рану, он выставил нам счет на 17 000 долларов, которые, согласно его утверждению, мы оказались должны за поставленную обувь. Точнее, он потребовал 16 637,13 доллара.
Джакуа отбросил письмо в сторону и сказал, что, если Китами осмеливается придерживаться такого безрассудного курса, если он настаивает на том, чтобы вывести нас из сделки, мы подадим иск в суд. «Вы привели к этому», – сказал Китами. «Блю Риббон» нарушила контракт с «Оницукой», начав выпуск кроссовок «Найк», – сказал он, – и я не понимаю, почему вы разрушили такие выгодные отношения, почему запустили в производство этот, этот, этот – «Найк». Это было больше, чем я мог стерпеть. «Я скажу вам почему…» – ляпнул я. Джакуа повернулся ко мне и крикнул: «Заткнись, Бак!»
Затем Джакуа сказал Китами, что он надеется, что кое-что можно еще уладить. Судебный иск будет весьма губителен для обеих компаний. Мир – это процветание. Но Китами не был расположен к миру. Он встал, сделал знак своему юристу и Ивано, чтобы они следовали за ним. Когда он подошел к двери, то остановился. Выражение его лица изменилось. Он собирался сказать что-то примиряющее. Он собирался протянуть оливковую ветвь. Я почувствовал, что мое отношение к нему смягчается. «Оницука», – сказал он, – хотела бы и в дальнейшем использовать г-на Бауэрмана… в качестве консультанта».
Я потянул себя за ухо. Я наверняка ослышался. Бауэрман покачал головой и повернулся к Джакуа, который ответил, что впредь Бауэрман будет рассматривать Китами как конкурента, а иначе – как заклятого врага и ни при каких обстоятельствах никогда не станет ему помогать.
Китами кивнул. Он спросил, не будет ли кто так любезен, чтобы подбросить его с Ивано до аэропорта.
Я позвонил и сказал Джонсону, чтобы он садился на самолет. «Какой самолет?» – спросил он. «На ближайший, что вылетает», – отвечал я.
Он прибыл на следующее утро. Мы совершили с ним пробежку, во время которой никто из нас не проронил ни слова. Затем мы проехали в офис, где собрали всех в зале для переговоров. Пришло около тридцати человек. Я ожидал, что буду нервничать. Они ожидали, что я буду нервничать. В любой другой день, в любых иных обстоятельствах я нервничал бы. Однако по какой-то причине я странным образом ощутил умиротворение.
Я изложил ситуацию, с которой мы столкнулись: «Мы, ребята, подошли к развилке дорог. Вчера наш основной поставщик, «Оницука», отказался сотрудничать с нами». Я выждал, пока сказанное не дойдет до сознания каждого. И увидел, как у каждого отвисла челюсть.
«Мы пригрозили им, что подадим в суд иск за причиненный ущерб, – продолжил я, – и, разумеется, они пригрозили подать в суд на нас в свою очередь. За нарушение контракта. Если они подадут иск первыми, в Японии, у нас не будет выбора, как только подать на них в суд здесь, в Америке, и сделать это быстро. Мы не сможем выиграть тяжбу в Японии, поэтому нам надо обскакать их, получить быстрое решение суда здесь и принудить их к тому, чтобы они отозвали свой иск.
Между тем до тех пор пока все это не разрешится, мы можем полагаться только на самих себя. Мы легли в дрейф. У нас есть эта новая линия кроссовок – «Найк», которая, похоже, понравилась торговым представителям в Чикаго. Но, если честно, это все, что у нас есть. И, как вам известно, у нас большие проблемы с качеством. Это не то, что мы надеялись получить. Связь с «Ниппон Раббер» устойчивая, а представители «Ниссо» появляются на фабрике по крайней мере раз в неделю, пытаясь все отладить, но нам неизвестно, сколько у них уйдет на это времени. Но было бы лучше, если б они поспешили, потому что времени у нас нет, а теперь, неожиданно для нас, нас лишили и права на ошибку».
Я взглянул на сидящих за столом. Все как бы обвисли, подались вперед. Я посмотрел на Джонсона. Он впился глазами в лежащие перед ним бумаги, и я увидел, как на его красивом лице отразилось нечто, чего ранее я никогда не замечал. Готовность сдаться. Как и все остальные, бывшие в комнате, он сдавался. Экономика страны была в обвале, темпы экономического роста замедлялись. Очереди на АЗС, политический тупик, растущая безработица, Никсон, который вел себя, как Никсон – Вьетнам. Казалось, наступил конец света. Каждый из присутствующих уже ломал голову над тем, как они будут справляться с выплатой арендной платы, платить по счетам за электроэнергию. А теперь еще и это.
Я откашлялся. «Итак… другими словами, – сказал я, еще раз кашлянув и отбросив в сторону свой желтый блокнот, – хочу сказать, что мы указали им как раз на то место, где они и должны быть».
Джонсон вскинул глаза. Все сидевшие за столом сделали то же самое. Они распрямили спины.
«Настал момент, – сказал я, – настал момент, которого мы ждали. Наш момент. Не будет больше торговли чужими брендами. Не будет больше работы на чужого дядю. «Оницука» придерживала нас многие годы. Их задержки с поставками, их путаница с нашими заказами, их нежелание прислушаться и реализовать наши дизайнерские идеи – кому из нас не надоело сталкиваться со всем этим? Пора взглянуть в лицо фактам: если нам суждено добиться успеха или потерпеть неудачу, мы должны прийти к этому на наших условиях, с нашими собственными идеями – и нашим собственным брендом. В прошлом году объем наших продаж достиг двух миллионов долларов… и ни цента из них не имело никакого отношения к «Оницуке». Этот показатель явился показателем наших находчивости и упорного труда. Давайте не будем смотреть на то, что произошло, как на кризис. Давайте взглянем на это, как на свое освобождение. На наш День независимости».
«Да, нам придется нелегко. Не стану лгать вам. Ребята, мы идем на войну. Но мы знаем местность. Знаем, как теперь обойти Японию. И это – одна из причин, почему в моем сердце я чувствую уверенность в том, что мы победим в этой войне. И если мы победим, когда мы победим, я предвижу великие свершения, которые ожидают нас после победы. Ребята, мы еще живы. Мы еще остаемся. Живыми».
Перестав говорить, я заметил волну облегчения, пробежавшую вокруг стола, как прохладный ветерок. Каждый ощутил ее. Она была такой же реальной, как тот сквозняк, гулявший по нашему прежнему офису, примыкавшему к пивнушке «Розовое ведерко». Последовали кивки головами, перешептывания, нервные смешки. Следующий час мы провели, устроив мозговой штурм по вопросу о том, как действовать дальше, как заключать договоры аренды с фабриками, как заставить их конкурировать друг с другом, чтобы добиться наилучшего качества и наиболее выгодных цен. И как устранить все недостатки, выявленные в нашей новинке – кроссовках «Найк». Кто выскажется?
Мы прервали обсуждение в бодром, возбужденном, приподнятом настроении. Джонсон предложил угостить меня чашкой кофе. «Это был твой звездный час», – сказал он.
«Ах, – сказал я, – спасибо». Но напомнил, что я сказал лишь правду. Так же, как он сделал это в Чикаго. Говорил правду, повторил я. Кто бы мог подумать?
Джонсон на некоторое время вернулся обратно в Уэлсли, а мы сконцентрировали свое внимание на отборочном турнире в олимпийскую команду США по легкой атлетике, который в 1972 году впервые проводился в наших пенатах, – в Юджине. Нам нужно было проявить себя на этом отборочном турнире, поэтому мы направили передовой отряд, с тем чтобы вручить нашу обувь любому участнику, пожелавшему ее взять, и устроили свой плацдарм в нашем магазине, который теперь находился в умелых руках Холлистера. Как только турнир начался, мы слетелись в Юджин и запустили трафаретный станок для шелкографии в рабочем помещении нашего магазина. Мы сотнями, как блины, выпекали футболки с логотипом «Найка», а Пенни раздавала их, как конфеты к Хэллоуину.
Учитывая все эти усилия, как мы не могли прорваться? И действительно, толкатель ядра из университета Южной Калифорнии Дэйв Дэвис зашел в магазин в первый же день, чтобы пожаловаться на то, что он не получал бесплатных спортивных товаров ни от «Адидаса», ни от «Пумы», поэтому он с удовольствием возьмет наши кроссовки и будет их носить. После этого он занял четвертое место. Ура! Мало того: он не просто носил наши кроссовки, он кружился в полуприсяде в одной из футболок Пенни, причем на спине у него трафаретом была нанесена его фамилия. (Проблема заключалась в том, что Дэйв не был идеальной моделью. Он был несколько пузатым. И размеры наших футболок оказались недостаточно большими. Что подчеркивало изъян его фигуры. Мы взяли это на заметку. Надо либо договариваться о рекламе с менее крупными спортсменами, либо выпускать футболки большего размера.)
Нам также удалось договориться с парой полуфиналистов, чтобы они надели наши шиповки, включая одного из наших сотрудников, Джима Гормана, который участвовал в забеге на 1500 метров. Я сказал Горману, что его корпоративная лояльность переходит черту допустимого. Наши шиповки не были настолько хороши. Но он настаивал, что он с нами «во всем и до конца». Кроме того, среди участников марафона бегуны, носившие кроссовки «Найк», завершили дистанцию четвертым, пятым, шестым и седьмым. Никто из них в олимпийскую сборную не попал, но все же получилось нехило.
Главное событие отборочного турнира, разумеется, было запланировано на последний день соревнований – дуэль между Префонтейном и великим олимпийцем Джорджем Янгом. К тому времени Префонтейн был повсеместно известен как Пре, и он был кем-то больше, чем просто феноменом; он был настоящей суперзвездой. Он был величайшим явлением в мире американской легкой атлетики после Джесси Оуэнса. Спортивные обозреватели часто сравнивали его с Джеймсом Дином и Миком Джаггером, а журнал «Раннерз уорлд» написал, что правильнее всего было бы сравнить его с Мухаммедом Али. У него была такая же щегольская, полная бравады и храбрости, непредсказуемая, оригинальная манера перевоплощения.
На мой взгляд, однако, все эти и другие сравнения не достигают цели. Пре отличался от любого спортсмена, которого когда-либо видели у нас в стране, хотя трудно сказать точно почему. Я потратил много времени на то, чтобы изучить его, восхищаясь и чувствуя себя озадаченным, не в состоянии разгадать, в чем тайна его привлекательности. Много раз я спрашивал себя, что же такое таится в Пре, что вызывает у многих людей, в том числе и у меня, интуитивную притягательность. Мне так и не удалось найти полностью удовлетворяющий меня ответ.
Это было что-то большее, чем талант, – были и другие талантливые бегуны. И это было что-то большее, чем его щегольство и бравада, – было много бегунов, отличавшихся и тем, и другим.
Некоторые говорили, что все дело в его внешности. Пре выглядел таким подвижным, таким изменчивым, таким поэтичным со своей летящей копной волос. И у него была широчайшая грудь немыслимого объема, и все это держалось на стройных ногах, сплошь из мышц, которые без устали молотили по беговой дорожке.
Кроме того, большинство бегунов были интровертами, но Пре был явным, жизнерадостным экстравертом. Бег для него никогда не был просто бегом. Он всегда устраивал из своего бега шоу, всегда осознавал, что он в центре внимания.
Иногда мне казалось, что секрет притягательности Пре кроется в его страстности. Его совершенно не волновало, умрет ли он, пересекая финишную черту, главное – быть на ней первым. Что бы ни говорил ему Бауэрман, что бы ни подсказывало ему его собственное тело, Пре отказывался замедлять бег, снижать нагрузку. Он толкал себя к грани и за ее пределы. Часто это оказывалось контрпродуктивной стратегией, а иногда полной глупостью, подчас самоубийственной. Но это всегда возбуждало толпу. Независимо от вида спорта – на самом деле, независимо от любой сферы человеческой деятельности – сердца людей будет завоевывать приложение всех усилий без остатка.
Разумеется, все орегонцы любили Пре, потому что он был «нашим». Он родился в нашей среде, вырос среди наших влажных лесов, и мы приветствовали его, поскольку он был наш детеныш. Мы видели, как он, восемнадцатилетним юнцом, побил национальный рекорд в беге на две мили, и мы были рядом с ним, следуя шаг за шагом за его победами на чемпионатах Национальной ассоциации студенческого спорта. Каждый орегонец чувствовал, что он эмоционально вложился в его карьеру.
И в «Блю Риббон», разумеется, мы готовились вложить свои деньги туда, на чем были сосредоточены наши эмоции. Мы понимали, что Пре не может поменять кроссовки перед самым началом отборочных соревнований. Он привык к своим «Адидасам». Но со временем, мы были уверены, он станет спортсменом под знаком «Найка» и, возможно, хрестоматийным образцом спортсмена с логотипом «Найк».
Проходя с такими мыслями по Агат-стрит, направляясь в сторону стадиона «Хейворд Филд», я не удивился, когда услышал, как его сотрясают оглушающие возгласы – римский Колизей не мог быть громче, когда арену заполняли гладиаторы и выпущенные из клеток львы. Мы нашли свои места как раз к тому моменту, когда Пре делал разминку. Каждое его движение вызывало новый взрыв восхищения. Каждый раз, когда он делал пробежку вдоль той или другой стороны овального поля, болельщики вскакивали со своих мест и приходили в неистовство. Половина зрителей была одета в футболки с надписью на груди: «ЛЕГЕНДА».
Неожиданно мы услышали, как по трибунам пронеслось неодобрительное гудение. Низкими, гортанными бу-у-у болельщики встретили Герри Линдгрена, возможно, лучшего в мире – на то время – бегуна на длинные дистанции, у которого на футболке красовалась надпись: «ОСТАНОВИМ ПРЕ». Линдгрен победил Пре, когда учился на четвертом курсе, а Пре – на первом, и он хотел напомнить об этом всем, особенно Пре. Но когда Пре увидел Линдгрена, увидел его футболку, он лишь покачал головой. И усмехнулся. Никакого давления. Только дополнительный стимул.
Бегуны заняли стартовые позиции. Наступила неземная тишина. Затем – выстрел. Стартовый пистолет прозвучал как наполеоновская пушка.
Пре с ходу повел бег. Янг пристроился сразу за ним. Мгновенно они вырвались далеко вперед, и забег превратился в состязание двух спортсменов (Линдгрен остался далеко позади, став фактором, не влияющим на исход забега). Стратегия каждого была ясной. Янг намеревался бежать за Пре до последнего круга, а затем применить свой превосходный спринт, чтобы обогнать Пре и выиграть забег. Пре между тем намеревался с самого начала задать такой темп бега, чтобы к последнему кругу Янг не чуял бы под собой ног.
Все одиннадцать кругов оба бежали на полшага друг от друга. Под рев и крики бушующей толпы оба бегуна достигли последнего круга. Ощущение было такое, будто мы смотрим матч по боксу. Будто мы присутствуем на рыцарском турнире. Будто смотрим корриду, и наступает решающий момент истины – ощущение смерти висит в воздухе. Пре отрывается на ярд вперед, затем на два, затем на пять ярдов. Мы видим искаженное мукой лицо Янга и понимаем, что он не может, не сможет догнать Пре. И я говорю сам себе: не забудь этого. Не забудь. Говорю себе, что многому можно научиться от такой демонстрации страсти, неважно, в забеге на милю или управляя компанией.
Как только они пересекли финишную ленточку, мы все взглянули на секундомеры и увидели, что оба бегуна побили американский рекорд. Пре превысил это время на какие-то доли секунды. Но он еще не закончил выступление. Он заметил в толпе кого-то, размахивающего футболкой со словами «ОСТАНОВИМ ПРЕ», направился к нему и, выхватив ее, стал сам размахивать ею, как добытым у врага скальпом. То, что последовало вслед за этим, было самой грандиозной овацией, которую мне когда-либо доводилось услышать, а я всю свою жизнь провел на стадионах.
Ничего похожего на тот забег я в жизни своей не видел. Но я оказался не просто свидетелем. Я принял в нем участие. Несколько дней спустя я все еще ощущал боль в своих мышцах бедра и голени. И я решил – вот что значит спорт, вот на что он способен. Как и книги, спорт дает людям ощущение, будто они живут жизнью других, дает им возможность принять участие в завоевании побед другими. И в поражениях. Когда спорт достигает своих вершин, дух болельщика сливается с духом спортсмена, и в этом слиянии, в этом духовном перемещении проявляется то единство, о котором говорят мистики.
Возвращаясь пешком по Агат-стрит, я знал, что забег, который я видел, стал частью меня самого и навсегда ею останется, и я поклялся, что он будет также частью «Блю Риббон». В наших предстоящих сражениях с «Оницукой», с кем бы то ни было, мы будем такими, как Пре. Мы будем состязаться так, будто от этого зависят наши жизни. Потому что они на самом деле зависели от этого.
Вслед за этим с глазами больше, чем чайные блюдца, мы ожидали приближение Олимпийских игр. Не только наш человек – Бауэрман должен был участвовать в них в качестве главного тренера американской команды по легкой атлетике, но и наш земляк Пре должен был стать там звездой. После его достижения в отборочном турнире? Кто бы сомневался в этом?
Конечно, только не Пре. «Разумеется, давление там будет большое, – сказал он корреспонденту «Спортс иллюстрейтед», – и многим из нас предстоит лицом к лицу встретиться с более опытными соперниками, и, возможно, у нас нет никаких прав на победу. Но все, что я знаю, – это, если я поеду на Олимпиаду и буду там из кожи вон лезть, пока в глазах не потемнеет, а кто-то все же станет там меня побеждать, и если я смогу нагнуть этого парня и добиться того же результата, что и он, а затем еще и превысить его, то почему тогда считать, что он в тот день был лучше меня».
Перед самым отъездом Пре и Бауэрмана в Германию я подал заявку на патент на кроссовки Бауэрмана с «вафельной» подошвой. В заявке № 284736 давалось описание «улучшенной подошвы с выступами многоугольной формы… квадратного, прямоугольного или треугольного сечения… (и) множеством плоских ребер, образующих цепляющие кромки, позволяющие значительно улучшить сцепление».
Момент, вызывающий чувство гордости у обоих из нас.
Золотой момент моей жизни.
Продажи кроссовок «Найк» были стабильными, мой сын был здоров, я был в состоянии вовремя выплачивать ипотечный кредит. С учетом всех обстоятельств я был в чертовски хорошем настроении в тот август.
А потом все началось. На второй неделе Олимпийских игр отряд из восьми боевиков в масках перебрался через дальнюю стену, окружавшую Олимпийскую деревню, и захватил одиннадцать израильских спортсменов. В нашем офисе в Тигарде мы установили телевизор, и никто даже не притронулся к работе. Мы только смотрели и смотрели, день за днем, передачи, почти не разговаривая между собой и часто прижимая ладони к губам. Когда наступила страшная развязка, когда сообщили, что все спортсмены погибли, а их тела остались лежать на залитой кровью взлетной полосе аэропорта, все это вызвало воспоминания об убийстве братьев Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, расстреле студентов в Кентском университете (4 мая 1970 г. в городе Кент, штат Огайо, Национальная гвардия расстреляла мирную антивоенную демонстрацию студентов против вторжения США в Камбоджу. – Прим. пер.) и десятков тысяч ребят во Вьетнаме. Наш век оказался трудным, усеянным смертями, и по крайней мере раз в сутки мы были вынуждены спрашивать себя: в чем смысл?
Когда Бауэрман вернулся, я сразу же поехал в Юджин, чтобы повидаться с ним. Он выглядел так, будто лет десять глаз не сомкнул. Он рассказал, что сам он и Пре оказались на волосок от гибели. В течение первых минут, когда террористы захватывали здание, многие израильские спортсмены смогли бежать, выскальзывая из боковых выходов, выпрыгивая из окон. Один из них добежал до соседнего здания, в котором жили Бауэрман и Пре. Бауэрман услышал стук в дверь, открыл ее и увидел перед собой этого парня, скорохода, занимающегося спортивной ходьбой. Он дрожал от страха и невнятно бормотал о вооруженных людях в масках. Бауэрман затащил бедолагу в комнату и позвонил американскому консулу. «Пришлите морпехов!» – заорал он в телефон.
Их прислали. Морские пехотинцы быстро обезопасили здание, в котором проживали Бауэрман и сборная США.
За эту «чрезмерную реакцию» чиновниками Олимпиады Бауэрману был объявлен выговор. Они заявили, что он превысил свои полномочия. В разгар кризиса они нашли время, чтобы вызвать Бауэрмана в штаб-квартиру на ковер. Слава богу, Джесси Оуэнс, герой других Олимпийских игр, проходивших в Германии (в 1936 году. – Прим. пер.), человек, «победивший» Гитлера, пошел вместе с Бауэрманом в штаб-квартиру МОК и выразил свою поддержку действиям Бауэрмана. Это вынудило бюрократов отступить.
Я долго сидел с Бауэрманом и смотрел на реку. Мы почти ни о чем не говорили. Затем своим скрипучим голосом Бауэрман сказал мне, что эта Олимпиада 1972 года – худшая полоса в его жизни. Ничего подобного прежде я от него никогда не слышал, и никогда прежде я не видел его таким. Разбитым.
Я поверить в это не мог.
Трусы никогда ничего не начинали. Слабые умирали в пути. Это значит, что остались только мы. (Фил Найт приводит в сокращении популярный лозунг, автором которого был американский поэт Хоакин Миллер (1837–1913). Миллер воспевал вольную жизнь Дикого Запада, эпигонски подражая Байрону. Впрочем, найдется с десяток других источников, претендующих на авторство этого выражения: «Трусы никогда не начинали. Слабые умирали в пути. Только смелые достигали цели. И это – мы». – Прим. пер.)
Вскоре после нашей встречи Бауэрман объявил, что оставляет тренерскую работу.
Мрачное время. Небеса стали сумрачнее и низко нависли над землей. Осени не было. Однажды мы проснулись и оказались в зимнем плену. За одну ночь деревья сбросили свое убранство и стояли голыми. Дождь лил, не переставая.
И наконец долгожданная благая весть. Мы узнали, что всего в нескольких часах езды на север, в Сиэтле, на Рейнирском международном турнире классического тенниса горячий румынский теннисист побеждал всех соперников на своем пути, причем делал это в новой паре кроссовок «Найк» Match Points. Румыном был Илие Настасе, прозванный Насти (такое прозвище величайшему теннисисту было дано его недругами, завистниками и соперниками и одаривало спортсмена целым букетом отвратительных качеств: скверный, гадкий, грязный, злобный, опасный. – Прим. пер.), и каждый раз, когда он наносил свой запатентованный удар над головой, каждый раз, когда он поднимался на цыпочки, чтобы сделать подачу, которую невозможно было отбить, весь мир видел нашу эмблему «свуш».
Мы уже хорошо понимали, что рекламные контракты со спортсменами имеют важное значение. Если мы собирались конкурировать с «Адидасом», не говоря уже о «Пуме», «Гола», «Диадоре», «Хед», «Вильсоне», «Сполдинге», «Карху», «Итоник», «Нью Бэланс» и всеми другими брендами, появлявшимися как грибы после дождя в 1970-е годы, – нам нужны будут ведущие атлеты, которые будут носить и нахваливать наш бренд. Но у нас по-прежнему не было денег, чтобы платить ведущим атлетам (денег у нас было даже меньше, чем когда-либо). Не имели мы малейшего представления и о том, как найти к ним подход, убедить их в том, что наши кроссовки хорошие, и что вскоре они станут еще лучше, и что нас следует поддержать рекламой, согласившись подписать контракт со скидкой. Вот перед нами был ведущий атлет, уже обутый в кроссовки «Найк» и побеждающий в них. Насколько будет трудным делом оформить с ним спонсорский контракт?
Я нашел телефонный номер агента Настасе. Позвонил и предложил сделку. Сказал, что заплачу 5000 долларов – я чуть не подавился, продолжив, – если его парень будет носить наши кроссовки. Он назвал встречную сумму – 15 000 долларов. Как же я ненавидел переговоры.
Мы сошлись на 10 000 долларов. Я чувствовал себя так, будто меня ограбили.
В те выходные, сказал агент, Настасе играл в турнире в Омахе. Он предложил мне вылететь туда с контрактом.
Я встретился с «Насти» и его женой, Доминик, ошеломляюще выглядевшей женщиной, в пятницу вечером в стейк-хаусе, в центре Омахи. После того как я получил его подпись под контрактом, после того как я упрятал документы в свой портфель, мы заказали ужин, чтобы отметить сделку. Бутылку вина, еще одну. В какой-то момент, по какой-то причине я стал говорить с ним с румынским акцентом, и по какой-то причине «Насти» стал звать меня «Насти», и по совершенно неизвестной для меня причине его супруга – супермодель начала строить всем вокруг, включая меня, шаловливые глазки, и к концу вечера, когда я, спотыкаясь, добрался до своего номера, я чувствовал себя теннисным чемпионом, магнатом и творцом королей. Я лежал в постели и смотрел на контракт. «Десять тысяч долларов», – произнес я вслух. Десять. Тысяч. Долларов.
Это было целое состояние. Но у «Найка» теперь был свой рекламный агент – спортивная знаменитость первой величины. Я прикрыл глаза, чтобы комната перестала вращаться вокруг меня. Затем я вновь открыл их, потому что не хотел, чтобы комната перестала вращаться. На-ка, Китами, проглоти это, сказал я, обращаясь к потолку и ко всем жителям Омахи. Ну-ка, получи!
В те далекие времена историческое футбольное соперничество между командой «Дакс» моего родного Орегонского университета и внушавшей ужас командой «Биверс» Орегонского государственного носило в лучшем случае однобокий характер. Мои «Дакс» обычно проигрывали. И обычно проигрывали с огромным счетом. И часто крупно проигрывали на линии схватки. К примеру, в 1957 году, когда обе команды дрались за корону Конференции, орегонец Джим Шэнли выходил на победный тачдаун, когда он вдруг потерял мяч, который покинул поле в очковой зоне орегонской команды на одноярдовой отметке. Орегон проиграл 10:7.
В 1972 году мои «Дакс» проиграли команде «Биверс» восемь раз подряд, погружая меня восемь раз в подавленное состояние. Но теперь, в этот год, когда все идет шиворот навыворот, мои «Дакс» будут обуты в «Найк». Холлистер убедил главного тренера команды Орегонского университета Дика Энрайта надеть наши новые кроссовки с вафельной подошвой перед Большой игрой – настоящей Гражданской войной.
Местом поединка был выбран Корваллис. Моросящий дождь зарядил с утра, а к началу игры пошел стеной. Мы с Пенни стояли на трибунах, дрожа от холода в насквозь промокших пончо, стараясь разглядеть за струями дождя летящий от начального кик-оффа мяч. После первой схватки вокруг мяча дородный орегонец – квотербек, снайпер по имени Дэн Фоутс передал мяч Донни Рейнольдсу, который сделал «вынос» сразу… к зачетной зоне. «Дакс» – 7, «Найк» – 7, «Биверс» – 0.
Фоутс, завершая блестящую университетскую карьеру, в тот вечер сводил всех с ума. Он сделал пас на 300 ярдов, включая шестидесятиярдовый убойный тачдауд, когда продвинутый с его помощью мяч приземлился как перышко в руках его ресивера. Вскоре начался разгром противника. При последнем розыгрыше мои «Дакс» вели, опережая «грызунов с торчащими зубами» (кличка, данная команде «Биверс» – «Бобры». – Прим. пер.), со счетом 30:3. Я всегда называл нашу университетскую команду моими «Дакс» («Утками». – Прим. пер.), но теперь-то они действительно были моими. Они были в моих кроссовках. Каждый шаг, который они делали, каждый проход с мячом был частично моим. Одно дело, когда ты наблюдаешь за спортивным соревнованием и представляешь себя на месте игроков, в их шкуре, в их бутсах, в их кроссовках. Так поступает каждый болельщик. Другое дело, когда спортсмены в буквальном смысле выступают в кроссовках, сделанных тобой.
Я смеялся, пока мы шли к машине. Я смеялся, как маньяк. Всю дорогу до Портленда я смеялся без остановки. Вот как, повторял я Пенни снова и снова, и должен завершиться 1972 год. Победой. Любая победа имела бы целительный эффект, но такая, о Бог ты мой, – такая…
Проблемы, проблемы, проблемы…
Как и его тренер, Пре после Олимпиады 1972 года был просто сам не свой. Его преследовали и выводили из себя мысли о террористических нападениях. И о своем выступлении на соревнованиях. Он чувствовал, что всех подвел. Он пришел четвертым.
Не стыдно быть четвертым среди лучших в мире на своей дистанции, сказали мы ему. Но Пре знал, что он способен на большее. И он знал также, что мог бы показать более высокий результат, если бы не был таким упрямым. Он не проявил ни терпения, ни расчетливости. Он мог бы зацепиться за тем, кто бежал первым, пристроиться у него в кильватере и вырвать серебро. Но такая тактика пошла бы в разрез с заповедями религии Пре. Поэтому он, как всегда, бежал изо всех сил, ничего не оставляя про запас, и на последних ста ярдах он выдохся. Что еще хуже – тот, кого он считал своим архисоперником, Лассе Вирен из Финляндии, вновь завоевал золото.
Мы пытались поднять Пре настроение. Мы убеждали его в том, что Орегон по-прежнему любит его. Городские власти в Юджине даже собирались назвать в его честь улицу. «Класс, – сказал Пре, – и как они собираются ее назвать – Четвертой стрит?» Он закрылся в своем металлическом трейлере на берегу Уилламетт и несколько недель не выходил из него.
Со временем, вдоволь нашагавшись из угла в угол, наигравшись со своим щенком – немецкой овчаркой Лобо и проглотив немереное количество холодного пива, Пре вышел на свет. Однажды я услышал, что он опять появился в окрестностях города, пробегая на рассвете свои ежедневные десять миль вместе с Лобо, трусящим за ним следом.
На это ушло целых полгода, но огонь в груди Пре вновь разгорелся. В своих финальных забегах, выступая за Орегон, он блистал. Он в четвертый раз выиграл забег на три мили на ежегодных соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта, показав впечатляющий результат – 13 минут 05,3 секунды. Он также слетал в Скандинавию и вышел победителем в забеге на 5000 метров, установив рекорд США – 13 минут 22,4 секунды. Что еще лучше – он добился этих результатов в кроссовках «Найк». Бауэрман наконец-то убедил его надеть нашу обувь. (Уже несколько месяцев находясь на пенсии, Бауэрман по-прежнему тренировал Пре, все еще совершенствовал окончательные дизайны вафельной подошвы, которая вскоре должна была поступить в продажу для всех желающих. Никогда еще не был он настолько занятым.) И наши кроссовки наконец-то оказались достойными Пре. Бегун и наша обувь слились в идеальном симбиозе. Он генерировал тысячи долларов, рекламируя наш бренд, превращая его в символ бунтарства и иконоборчества, – а мы способствовали его выздоровлению.
Пре начал осторожно заговаривать с Бауэрманом об Олимпийских играх в Монреале в 1976 году. Он сказал Бауэрману и нескольким из своих близких друзей, что он хотел бы искупить свою вину. Он был полон решимости завоевать ту золотую медаль, которая ускользнула от него в Мюнхене.
Однако на его пути оказалось несколько пугающих камней преткновения. Жизнью Пре, как и моей и жизнью каждого, управляли цифры, и Пре вытащил в призывной лотерее страшный номер. Не приходилось сомневаться, что сразу после окончания университета его призовут в армию. Спустя год он будет сидеть в каких-нибудь зловонных джунглях под огнем крупнокалиберных пулеметов. И его ноги, его божественные ноги могут быть оторваны с мясом.
А тут еще Бауэрман. Стычки Пре с тренером шли постоянно – два упрямца с различными представлениями о методах тренировки и стилях бега. Бауэрман учитывал долгосрочную перспективу: бегун на длинные дистанции достигает пика в своей подготовке ближе к тридцати годам. Поэтому он хотел, чтобы Пре дал себе передышку, сохранил себя для определенных отборочных соревнований. Бауэрман постоянно умолял его сохранить какие-то силы. Но Пре, разумеется, противился этому. «Я выкладываюсь полностью всегда», – говорил он. В их отношениях, как в зеркале, я видел свои отношения с банками. Пре не видел смысла в том, чтобы медленно бегать – когда-либо. Беги быстро или умри. Я не мог винить его. Я был на его стороне. Даже тогда, когда я оказывался противником нашего тренера.
Кроме всего прочего, Пре был разорен. Невежды и олигархи, заправлявшие в то время американской любительской легкой атлетикой, постановили, что олимпийские спортсмены не могут получать деньги по спонсорским контрактам или деньги от государства, что доводило наших лучших бегунов, пловцов, боксеров до нищенского состояния. Для того чтобы выжить, Пре приходилось иногда подрабатывать барменом в Юджине, а иногда он участвовал в соревнованиях в Европе, незаконно получая наличные вознаграждения от промоутеров состязаний. Такие дополнительные соревнования, разумеется, стали нагнетать проблемы. Его тело, в частности его спину, ломило.
Мы в «Блю Риббон» переживали из-за Пре. Мы часто, в формальной и неформальной обстановке, говорили о нем у нас у офисе. В конце концов у нас созрел план. Для того чтобы уберечь его от травм, избавить от позорного хождения по кругу с чашей для подаяния, мы наняли его на работу. В 1973 году мы придумали для него «работу», назначили скромную зарплату в размере пяти тысяч долларов в год и предоставили ему возможность пользоваться квартирой, владельцем которой был Кейл. Квартира находилась в кондоминиуме на пляжном берегу в Лос-Анджелесе. Мы также выдали ему визитные карточки, на которых была указана его должность: национальный директор по связям с общественностью. Люди частенько щурились, спрашивая, что это значит. Я тут же щурился в ответ. «Это значит, что он умеет быстро бегать», – говорил я.
Это также означало, что у нас был второй спортсмен – знаменитость, продвигающая нашу продукцию.
Первое, что сделал Пре, ухватив за крыло свою неожиданную удачу, – это пошел и купил себе светло-коричневую спортивную «Эм-джи». Он гонял на ней повсюду – быстро. Машина выглядела как моя старая «Эм-джи». Помню, как совершенно по-новому я себя почувствовал, каким безмерно гордым я стал: это мы купили. Помню, как я думал: Пре стал живым, дышащим олицетворением того, что мы пытались создать. Когда бы люди не видели Пре, мчащимся сломя голову, будь то на треке или в его «Эм-джи», я хотел, чтобы они видели «Найк». А когда они покупали «Найк», я хотел, чтобы они видели Пре.
Я испытывал такие сильные чувства, связанные с Пре, хотя я провел с ним всего несколько бесед. Да и вряд ли можно было бы назвать их беседами. Когда бы я не видел его на беговой дорожке или в офисе «Блю Риббон», я немел. Я пытался обмануть себя; не раз я убеждал себя в том, что Пре просто парнишка из Кус-Бей, невысокий, лохматый студентишка, помешанный на спорте, с усами, как у порнозвезды. Но я прекрасно понимал, что к чему. И нескольких минут в его присутствии хватит, чтобы доказать это. Да и выдержать я не мог больше, чем несколько минут.
Самым знаменитым орегонцем в мире в то время был Кен Кизи, чей роман – блокбастер «Пролетая над гнездом кукушки» – вышел в свет в 1962 году, как раз в то время, когда я отправился в свое путешествие вокруг света. Я знал Кизи по Орегонскому университету. Он занимался борьбой, а я спортивным бегом, и по дождливым дням мы тренировались в одном и том же помещении. Когда его первый роман вышел из печати, я был поражен, насколько он был хорош, особенно после того, как пьесы, которые он сочинял в школе, были полным отстоем. И внезапно он превратился в литературного льва, любимца Нью-Йорка, и тем не менее в его присутствии я никогда не ощущал такого благоговения перед ним как перед знаменитостью, какое я испытывал, оказываясь рядом с Пре. В 1973 году я пришел к заключению, что Пре был таким же художником до мозга костей, как и Кизи, и даже больше. Сам Пре подтверждал это. «Соревнование в беге – это произведение искусства, – говорил он репортеру, – на которое могут смотреть люди и при этом испытывать на себе его воздействие, причем самое различное, как различны их способности к пониманию увиденного».
Каждый раз, когда Пре появлялся у нас в офисе, я замечал, что не один я оказывался на грани обморока. Немели все. Мужчины, женщины, неважно кто, все превращались в Бака Найта. Даже Пенни Найт. Если я был первым, кто приучил ее думать о легкой атлетике, то Пре был тем, кто сделал из нее настоящую фанатку.
Холлистер был исключением из этого правила. Он и Пре общались друг с другом без всякого напряжения. Вели себя как братья. Ни разу я не заметил, чтобы поведение Холлистера в присутствии Пре хотя бы в чем-то отличалось от его поведения, скажем, в моем присутствии. Поэтому нам показалось разумным предложить Холлистеру, заклинателю Пре, привести к нам Пре, чтобы помочь нам лучше узнать его, и наоборот. Мы организовали обед в зале для конференций.
Когда наступил день нашей встречи, мы совершили не очень умный поступок, что было типичным для меня и Вуделля, – мы избрали именно этот момент для того, чтобы сообщить Холлистеру о том, что мы решили подкорректировать его обязанности. Действительно, мы сообщили ему об этом, когда он едва успел сесть в свое кресло в конференц-зале. В результате предложенного изменения изменилась бы форма его оплаты. Не ее размер, а форма. Не успели мы полностью объяснить наши намерения, как он сорвал с себя салфетку и стремительно выбежал из зала. Теперь у нас не осталось никого, кто мог бы растопить лед и помог нам начать общаться с Пре. Мы все молча уставились на лежащие перед нами сэндвичи. Первым заговорил Пре: «Джеф вернется?» – «Не думаю», – ответил я. Последовала долгая пауза. «В таком случае, – произнес Пре, – можно мне съесть его сэндвич?»
Мы все рассмеялись, а Пре неожиданно предстал перед нами простым смертным, а обед в конечном счете оказался бесценным.
Вскоре после этого нам удалось успокоить Холлистера, и мы вновь скорректировали его обязанности. «С этого момента, – сказали мы, – ты будешь постоянным связным с Пре. Ты отвечаешь за работу с Пре, за его передвижения, за его встречи с болельщиками». Более того, мы предложили Холлистеру взять парня с собой в поездку по стране. Посетить с ним все легкоатлетические соревнования, ярмарки в различных штатах, средние школы и университеты, какие только удастся. Езжайте куда угодно или никуда не уезжайте. Делайте, что угодно, или ничего не делайте.
Иногда Пре будет выезжать, как передвижной медпункт по оказанию помощи бегунам, отвечая на вопросы, связанные с проведением тренировок и лечением травм. Иногда он будет просто раздавать автографы и позировать для снимков. Что бы он ни делал, куда бы Холлистер ни возил его, везде вокруг их ярко-голубого автобуса марки «Фольксваген» собирались толпы почитателей.
Несмотря на то что название должности Пре было намеренно расплывчатым, его роль была реальной, и в равной степени была подлинной его вера в «Найк». Везде, куда бы он ни пошел, он носил фирменные футболки «Найк», и он позволял Бауэрману использовать свои ноги в качестве колодки во всех его экспериментах с обувью. Пре проповедовал «Найк» как Евангелие и приводил тысячи новообращенных в нашу палатку «духовного возрождения». Он призывал каждого примерить этот балдежный новый бренд – даже своих спортивных соперников. Часто он посылал пару беговых кроссовок или шиповок очередному приятелю-бегуну с запиской: «Примерь эти. Ты их полюбишь».
Среди тех, кто был наиболее вдохновлен нашим Пре, был Джонсон. Продолжая работу по расширению наших операций на Восточном побережье, Джонсон провел большую часть 1972 года, трудясь, как раб на галерах, над тем, что он окрестил шиповками «Пре Монреаль». (Игра слов: Пре означает сокращенную фамилию Префонтейна и одновременно предлог «пред», поэтому наименование модели можно перевести как «шиповки, выпущенные к Олимпиаде в Монреале» и как «монреальская Олимпиада с участием Префонтейна». – Прим. пер.) Эти шиповки по его замыслу должны были стать данью уважения нашему Пре, предстоящим Олимпийским играм и двухсотлетию образования США. С синим защитным покрытием носка, внешними боковыми сторонами из красного нейлона и белым логотипом «свуш» на них эти шиповки стали нашей самой сногсшибательной обувью, а также нашими лучшими темповиками. Мы знали, что мы либо останемся жить, либо погибнем, в зависимости от качества, и до сих пор качество наших шиповок оставалось неоднородным. Джонсон собирался исправить это, внедрив свой дизайн.
Но я решил, что он сделает это в Орегоне, а не в Бостоне.
Я много раздумывал о Джонсоне, месяцами. Он превращался в по-настоящему великолепного дизайнера, и нам надо было в полной мере воспользоваться его талантом. Работа на Восточном побережье шла гладко, но для Джонсона это было сопряжено с повышенной административной нагрузкой. Всю эту работу надо было реорганизовать, рационализировать, а это было бы не лучшим способом использования времени или креативности Джонсона. Это была работа, специально предназначенная для такого человека, как… Вуделл.
Вечер за вечером, делая свои шестимильные пробежки, я пытался мысленно справиться со сложившейся ситуацией. У меня было двое парней не на своих местах, и ни одному из них не понравится решение, которое явно напрашивалось. Каждому из них нравилось то место, где они жили. И каждый раздражал другого, хотя оба отрицали это. Когда я продвинул Вуделля на место менеджера по управлению операциями, я также передал ему по наследству Джонсона. Я поручил ему наблюдение и контроль за работой Джонсона, поручил ему отвечать на письма Джонсона, и Вуделл совершил ошибку, тщательно читая их и пытаясь поддерживать переписку. В результате у обоих выработалась сухая, глубоко саркастическая манера делового общения.
Например. Однажды Вуделл вкатил на своем кресле ко мне в кабинет и сказал: «Это удручает. Джефф постоянно жалуется на инвентаризацию, возмещение расходов, плохую связь. Он говорит, что у него от работы задница отваливается, а мы тем временем прохлаждаемся. К голосу разума он не прислушивается, не принимает во внимание тот факт, что наши продажи ежегодно удваиваются».
Вуделл сказал мне, что он хотел бы применить к Джонсону иной подход. «Непременно, – сказал я. – Приступай».
Поэтому он написал Джонсону длинное письмо, «признавая», что мы все в сговоре против него, пытаясь сделать его жизнь несчастной. В частности, он написал: «Уверен, что ты понимаешь, что мы не так упорно работаем, как ты там; тратя лишь три часа на дела за рабочий день, трудно сделать все, что надо. И все же я нахожу время, чтобы загнать тебя во всевозможные неловкие ситуации с клиентами и деловым сообществом. Каждый раз, когда ты отчаянно нуждаешься в деньгах, чтобы оплатить счета, я высылаю тебе лишь малую толику того, что тебе требуется, и тебе приходится иметь дело со сборщиками налогов и судебными исками. Я воспринимаю обвинение в разрушении твоей карьеры как личный комплимент».
И далее в таком же духе.
Джонсон ответил: «Наконец-то хоть кто-то там понимает меня».
То, что я готовился предложить, похоже, помочь не могло.
Вначале я попробовал сделать заход на Джонсона. Тщательно выбирал момент – нашу поездку в Японию, чтобы посетить «Ниппон Раббер» и обсудить модель «Пре Монреаль». За ужином я все ему выложил. Мы – участники свирепой битвы, осады. День за днем мы делаем все возможное, чтобы накормить свои войска и удерживать противника на расстоянии. Во имя победы, ради того, чтобы выжить, необходимо пожертвовать всем и все подчинить этой цели. «Поэтому в этот критический момент развития «Блю Риббон», выхода на рынок «Найка»… я сожалею, но, как бы это сказать… вам обоим, оболтусы, придется поменяться городами».
Он застонал. Разумеется. Это вновь была Санта-Моника. Однако медленно, агонизируя, он пришел в себя. Как и Вуделл.
Где-то ближе к концу 1972 года оба обменялись ключами от своих домов, а в начале 1973-го поменялись местами. Вот вам и командная игра! Это было огромной жертвой с их стороны, я был им глубоко благодарен. Но, оставаясь верен своему образу и традиции «Блю Риббон», благодарности я не выразил. Я не произнес ни слова благодарности или похвалы. Более того, в нескольких служебных записках я обмолвился о перестановке как об «операции «Рокировка манекенов».
Поздней осенью 1973 года я провел вторую встречу с нашими недавними инвесторами, облигационерами. Во время нашей первой встречи они полюбили меня. А как иначе? Продажи бурно росли, знаменитые атлеты рекламировали нашу обувь. Разумеется, мы потеряли «Оницуку» и впереди у нас маячила судебная тяжба, но курс у нас был верный.
На этот раз, однако, я был обязан проинформировать инвесторов, что спустя год после запуска в производство «Найка» впервые в истории «Блю Риббон»… мы потеряли деньги.
Встреча состоялась в гостинице «Вэлли Ривер Инн» в Юджине. Присутствовали тридцать мужчин и женщин, которые набились в конференц-зал, в котором во главе длинного стола сидел я. На мне был темный костюм, и я пытался напустить на себя уверенный вид, выкладывая плохие новости. Я выступил перед ними с такой же речью, с которой я обращался к сотрудникам «Блю Риббон» год назад.
Мы указали им как раз на то место, где они и должны быть. Но эта группа не покупалась на проповеди о бодрости духа. Среди них были вдовы и вдовцы, отставники и пенсионеры. Кроме того, год назад я был в окружении Джакуа и Бауэрмана; на этот раз они оба были заняты.
Я оказался один.
Спустя полчаса моего доклада перед тридцатью испуганными лицами, сверлившими меня взглядами, я предложил сделать перерыв на обед. В прошлом году перед обедом я раздавал копии финансового отчета «Блю Риббон». В этом году я решил повременить и вручить отчет после обеда. Это не помогло. Даже на полный желудок с шоколадным печеньем цифры выглядели плохо. Несмотря на объем продаж в размере 3,2 миллиона долларов, наш чистый убыток составил 57 000 долларов.
Разбившись на несколько кластеров, инвесторы стали совещаться между собой, пока я пытался обращаться ко всем присутствующим. Они указывали на эту тревожную цифру – 57 000 долларов, повторяя ее снова и снова. В какой-то момент я упомянул имя Энн Керис, молодой бегуньи, чье фото только что появилось на обложке «Спортс иллюстрейтед». Она была одета в кроссовки «Найк». Мы прорываемся, люди! Никому не было до этого дела. Их волновал лишь сухой остаток. Причем даже не вообще наш сухой остаток, а их собственный.
Я подошел к концу своей презентации. Спросил, есть ли у кого вопросы. Вверх взметнулись тридцать рук. «Я очень разочарован услышанным», – сказал один пожилой человек, поднимаясь с кресла. «Есть ли еще вопросы?» Вверх поднялись двадцать девять рук. Еще один человек выкрикнул: «Я расстроен».
Я сказал, что сочувствую. Мое сочувствие лишь подогрело их раздражение. И они имели на это полное право. Они отнеслись к Бауэрману и ко мне с доверием, и мы их подвели. Мы никогда не могли предвидеть предательства со стороны «Тайгера», но этим людям было больно, я видел по их лицам, и я должен был взять ответственность на себя. Исправить положение. Я решил, что было бы справедливо предложить им концессию.
Их облигации имели конверсионный коэффициент, который ежегодно увеличивался. В течение первого года коэффициент конвертации равнялся 1 доллару за акцию, на второй год – 1 доллару 50 центам и так далее. В свете прозвучавших плохих новостей я сообщил им, что сохраню конверсионное соотношение неизменным в течение полных пяти лет, в течение которых они будут оставаться владельцами своих облигаций.
Их это умиротворило, слегка. Но покидал я Юджин в тот день, зная, что их мнение обо мне и о «Найке» никудышное. Уезжая, я также думал, что никогда-никогда не сделаю свою компанию акционерной. Если тридцать человек смогли вызвать такую изжогу, то я представить себе не мог, как быть подотчетным тысячам акционеров.
Нам было лучше получать финансирование через «Ниссо» и наш банк.
То есть если было что финансировать. Как мы и боялись, «Оницука» подал против нас иск в Японии. Теперь нам надо было быстро подать иск против них в Соединенных Штатах за нарушение условий контракта и незаконное использование торговой марки.
Я передал ведение дела в руки своего кузена Хаузера. Особой дилеммы в этом не было. Разумеется, здесь сыграл фактор доверия. Кровного родства и тому подобное. Хотя он был всего на два года старше меня, кузен Хаузер казался гораздо более зрелым. Он держал себя с поразительной уверенностью. В особенности перед судьей и присяжными. Его отец был торговцем, причем хорошим, и кузен Хаузер научился у него, как подать своего клиента наилучшим образом.
Вдобавок он еще был цепким конкурентом. Когда мы были детьми, кузен Хаузер, бывало, играл со мной в бадминтон на участке за его домом – это были безжалостные, марафонские партии. Однажды летом мы провели ровно 116 встреч. Почему 116? Потому что кузен Хаузер разгромил меня 115 раз подряд. Я отказался уходить, пока не одержу победу. И он без труда понял мою позицию.
Однако главная причина, почему я остановил свой выбор на кузене Хаузере, заключалась в отсутствии у меня средств. У меня не было денег на оплату юридических услуг, и кузен Хаузер убедил свою фирму в том, чтобы заняться моим делом «по результату», с условной оплатой.
Почти весь 1973 год пришлось провести в конторе кузена Хаузера, читая документы, роясь в служебных записках, чувствуя, как тебя передергивает от собственных слов и действий. На мою служебную записку о найме шпиона, предупредил кузен Хаузер, суд наверняка взглянет косо. А то, как я «позаимствовал» папку с бумагами из портфеля Китами? Сможет ли судья охарактеризовать это иначе, чем кражей? Вспомнился генерал Макартур. Вас запоминают по тем правилам, которые вы нарушили.
Я подумывал о том, чтобы спрятать эти болезненные факты от суда. В конечном счете, однако, оставалось лишь одно. Играть в открытую. Это было умно, правильно. Я просто надеялся, что суд увидит в хищении папки у Китами нечто вроде самозащиты.
Когда я не был с кузеном Хаузером, изучая документы дела, я сам становился предметом изучения. Другими словами, давал свидетельские показания под присягой. Несмотря на мое убеждение в том, что бизнес – это война без пуль, я никогда не мог себе представить в полном объеме ярость схватки в зале до тех пор, пока не оказался за столом в окружении пяти юристов. Они испробовали все средства для того, чтобы принудить меня признать, что я нарушил условия контракта с «Оницукой». Они прибегали к каверзным вопросам, враждебным вопросам, чокнутым вопросам, провокационным вопросам. Когда вопросы не срабатывали, они передергивали мои ответы. Дача свидетельских показаний всегда требует напряжения, но для стеснительного человека она становится тяжким испытанием. После травли, попыток поймать меня на крючок, после унижения и издевательства, к концу моих показаний под присягой от меня осталась одна внешняя оболочка без внутреннего содержания. Мое состояние усугублялось догадкой, что я не слишком хорошо справился со своей задачей, – и эту догадку нехотя подтвердил кузен Хаузер.
Ближе к завершению тех трудных дней мою жизнь спасали ежевечерние шестимильные пробежки. А душевное равновесие мне помогло сохранить то короткое время, которое мне удавалось выкроить для общения с Пенни и Мэтью. Я всегда пытался найти время и силы для того, чтобы рассказать Мэтью свою сказку на ночь. Представь себе, как Томас Джефферсон трудился над составлением Декларации независимости, когда Мэт Хистори принес ему новое гусиное перо, и слова, казалось, потекли волшебным потоком…
Мэтью почти всегда смеялся над моими рассказами перед сном. У него был тягучий смех, который мне нравилось слышать, потому что в другое время он был унылым, хмурым. Давал основания для беспокойства. Говорить он стал поздно, а к этому времени в нем стал проявляться бунтарский характер. В этом я винил себя. Если бы я больше времени проводил дома, говорил я себе, он не был бы таким непослушным.
Бауэрман проводил довольно много времени с Мэтью, и он просил меня не волноваться. «Мне нравится его дух», говорил он. – Миру нужно больше бунтарей».
Той весной нам с Пенни прибавилось беспокойства о том, как наш маленький бунтарь отнесется к появлению родного братика. Пенни вновь забеременела. Втайне от нее я больше гадал над тем, как нам удастся выдюжить. К концу 1973 года, думал я, вполне вероятно, у нас будет двое детей и не будет работы.
Выключив лампу у постели Мэтью, я обычно шел в гостиную, чтобы посидеть с Пенни. Мы обсуждали предстоящий день. Надвигающийся день суда. В детстве Пенни запомнилось несколько судов с участием ее отца, в результате чего в ней стало проявляться заядлое пристрастие к драмам, которые разыгрывались в зале судебных заседаний. Она не пропускала ни одного телесериала по судебной тематике. Адвокат Перри Мейсон был ее любимым персонажем, и я иногда называл ее Деллой Стрит, по имени его неустрашимой секретарши. Я подтрунивал над ее увлечением, но оно же подпитывало меня.
Заключительным актом каждого вечера был мой телефонный звонок отцу. На этот раз приходило время уже мне самому слушать сказку на ночь. К этому времени он уже оставил работу в газетном издательстве и, будучи на пенсии, располагал огромным запасом времени для того, чтобы проштудировать старые судебные разбирательства и прецеденты, чтобы выудить доводы, которые могут оказаться полезными для кузена Хаузера. Его участие плюс его представление о честной игре плюс его твердая как скала вера в правоту дела «Блю Риббон» – все это оказывало на меня благотворное влияние.
Разговор был всегда одним и тем же. Отец спрашивал, как Мэтью и Пенни, затем я спрашивал его о маме, после чего он сообщал мне, что он нарыл в юридических справочниках, а я делал аккуратные записи в своем желтом блокноте с линованной бумагой. Перед тем как попрощаться, он всегда повторял, что ему нравятся наши шансы. Мы победим, Бак. Это магическое местоимение – «мы». Он всегда использовал его, и это всегда улучшало мое самочувствие. Возможно, мы никогда не были ближе, возможно, потому, что наши отношения вернулись к своей первоначальной сущности. Он был моим отцом, я был его сыном, и я боролся за свою жизнь.
Оглядываясь назад, я замечаю, что тогда происходило еще что-то. Мой судебный процесс давал моему отцу более здоровый выход из его внутреннего хаоса. Мои судебные неприятности, мои ночные телефонные звонки заставляли его оставаться в состоянии повышенной готовности и быть дома. Он все реже засиживался допоздна в клубном баре.
«Я собираюсь включить еще кое-кого в нашу команду, – сказал мне кузен Хаузер однажды, – молодого юриста. Роба Штрассера. Он тебе понравится».
Он только что окончил школу права Беркли Калифорнийского университета, сообщил кузен Хаузер, и он ни черта не знает. И все же. У кузена Хаузера было чутье на парня. Он полагал, что парень таит в себе огромный потенциал. Плюс ко всему Штрассер был личностью, которая наверняка должна была вписаться в нашу компанию. «Как только Штрассер прочитал краткую справку о нашей компании, – сказал мне кузен Хаузер, – он охарактеризовал наш случай как священный Крестовый поход».
Ну, мне понравилось, как это звучит. Поэтому в следующий раз, когда я посетил фирму кузена Хаузера, я прошел по коридору и просунул голову в кабинет этого парня Штрассера. Его не было на месте. В кабинете было так темно, хоть выколи глаза. Шторы задвинуты, свет выключен. Я повернулся. Чтобы уйти. Затем я услышал… Привет? Я обернулся. Где-то в глубине, в самой темноте, за огромным столом из орехового дерева задвигалась какая-то масса. Эта масса росла, и впечатление было такое, будто гора поднимается из темных морских вод.
Она бесшумно придвинулась ко мне. Теперь я различил грубые контуры человека. Ростом в шесть футов и три дюйма (190,5 см. – Прим. пер.), весом в 280 фунтов (127 кг. – Прим. пер.), с мощными плечами. И с руками, каждая размером с полено для камина. Это было нечто, частью походившее на снежного человека, частью на маппета Снаффи, но, что удивительно, с легкой походкой. Он просеменил ко мне и протянул ко мне одно из своих поленьев. Я протянул свою руку, и мы поздоровались.
Теперь я смог различить его лицо – красное, как кирпич, украшенное рыжеватой бородкой, отдающей в белизну, и покрытое капельками пота (поэтому и сидел в темноте. Ему нужны были слабо освещенные, прохладные помещения. Он также терпеть не мог носить костюмы). Все в этом человеке отличалось от меня, от любого, кого я знал, и тем не менее я ощутил странное, внезапное чувство родства.
Он сказал, что он будет очень рад заняться моим делом. Для него это большая честь. Он был уверен, что «Блю Риббон» стала жертвой чудовищной несправедливости. Чувство родства переросло в любовь. «Да, – сказал я, – да, мы стали жертвой».
Несколько дней спустя Штрассер выехал в Тигард для участия в совещании. Пенни находилась в офисе компании, и когда Штрассер заметил, как она проходила по коридору, он выпучил глаза. И стал подергивать себя за бороду.
«Бог ты мой! – вскричал он. – Уж не Пенни ли Паркс это была?!»
«Теперь она Пенни Найт», – сказал я.
«Она ходила на свиданку с моим лучшим другом!»
«Мир тесен».
«Он еще меньше, когда ты моей комплекции».
В течение последующих дней и недель мы со Штрассером обнаруживали все больше примеров того, как пересекались наши жизни и наши души. Он был коренным орегонцем и гордился этим, причем делал это типичным, агрессивным образом. Он вырос с предубеждением относительно Сиэтла, Сан-Франциско и всех других близлежащих мест, которые в представлении чужаков были лучше нас. Его комплекс географической неполноценности усугублялся его нескладными габаритами и непритязательностью. Он постоянно боялся, что не найдет своего места в мире, что он обречен оставаться маргиналом. Я понял это. Этот недостаток он компенсировал подчас, становясь громогласным и сквернословя, но в основном он держал язык за зубами и намеренно затушевывал свой интеллект, чтобы не восстанавливать против себя людей. Это я тоже понял.
Однако такой интеллект, как у Штрассера, долгое время скрывать невозможно. Он был одним из величайших мыслителей, которых я когда-либо встречал. Дискутант, переговорщик, собеседник, исследователь – его ум был в постоянном поиске, в стремлении понять. И победить. Он смотрел на жизнь как на борьбу и находил подтверждение такому взгляду в книгах. Как и я, у него было пристрастие читать о войне.
И так же, как и я, он жил и умирал вместе с местными командами. Особенно с «Дакс». Мы до колик смеялись над тем фактом, что в тот год тренером орегонской баскетбольной команды был Дик Хартер, тогда как футбольным тренером был Дик Энрайт. Популярная речевка на играх Орегонского государственного университета звучала так: «Потеряли своего дурака Энрайта, замените его своим дураком Хартером!» (Непереводимая игра слов – Дик на сленге имеет несколько значений, самое безобидное из них – «дурак». Энрайт созвучно выражению – «действовать правильно», фамилия Хартер созвучна прилагательному в сравнительной степени – сильнее, тверже, т. е. если кто-то делает что-то не так, замените на того, у кого это получится лучше, хотя оба «дураки». – Прим. пер.) После того как мы перестали смеяться, Штрассер начал опять. Я был поражен тональностью его смеха. На очень высокой ноте, хихикающего, с присвистом – было поразительно слышать подобные звуки, издаваемые человеком таких размеров.
Больше всего мы сблизились по отцовской линии. Штрассер был сыном успешного бизнесмена, и он тоже боялся, что, повзрослев, не оправдает отцовских ожиданий. Его отец, однако, был твердым орешком. Штрассер рассказывал мне много историй. Одна из них сохранилась в моей памяти. Когда Штрасеру было семнадцать лет, его родители уехали на выходные, и он, воспользовавшись моментом, устроил вечеринку. Она закончилась форменным погромом. Соседи вызвали полицию, и в тот момент, когда прибыла патрульная машина, вернулись и родители Штрассера. Их поездка завершилась раньше, чем ожидалось. Штрассер рассказал мне, что его отец огляделся вокруг – в доме царил разгром, а на его сыне были наручники – и хладнокровно велел копам: «Уведите его».
Я спросил Штрассера, во сколько он оценивает наши шансы против «Оницуки». Он сказал, что мы выиграем дело. Он выдал это прямо, без колебаний, будто я спросил его о том, что у него было на завтрак. Он сказал это так, как спортивный болельщик рассуждает о том, что будет «на следующий год», с непреклонной верой. Он сказал это так же, как мой отец убеждал меня каждый вечер, и тогда я решил, что Штрассер – один из избранных, один из нашего братства. Как Джонсон, Вуделл и Хэйес. Как Бауэрман, Холлистер и Пре. Он был неотъемлемой частью «Блю Риббон».
Когда меня не одолевали мысли о судебном процессе, меня полностью поглощали вопросы продаж. Каждый день я получал телексы с наших складов с «подсчетом пар» – с указанием точного количества пар обуви, отправленных в тот день всем клиентам, – в школы, розничным торговцам, тренерам, индивидуальным клиентам-заказчикам. Согласно общим принципам бухгалтерского учета, отправленная со склада пара обуви считалась проданной парой, поэтому ежедневный учет этих пар определял мое настроение, мое пищеварение, мое кровяное давление, поскольку он же в значительной степени определял судьбу «Блю Риббон». Если у нас не будет «успешной продажи нашей обуви на рынке», если мы не будем продавать всю партию обуви, полученную в соответствии с нашим последним заказом, и не будем превращать наш товар в наличность, мы окажемся в большой беде. Ежедневный подсчет пар обуви, таким образом, говорил мне, продвигаемся ли мы к тому, чтобы распродать всю имеющуюся у нас в наличии обувь.
«Итак, – говорил я обычно по утрам Вуделлю, – в Массачусетсе хорошо, в Юджине все выглядит хорошо, а что случилось в Мемфисе?»
«Снежный буран», – бывало, отвечал он. Или: «Грузовик сломался».
Он обладал замечательным талантом умышленно преуменьшать масштабы плохого и недооценивать то, что случалось хорошего, просто потому, что все в какой-то момент происходит и потом проходит. Например, после «операции по обмену рабочими местами» Вуделл занял офис, который вряд ли можно было назвать люксовым. Он располагался на верхнем этаже старой обувной фабрики, прямо над головой находилась водонапорная башня, и за последние сто лет ее основательно залепило голубиным пометом. Плюс ко всему в помещении не хватало потолочных балок, и все здание сотрясалось каждый раз, когда из-под пресса для раскройки выходили очередные детали верха обуви. Другими словами, в течение дня на волосы, плечи, рабочий стол Вуделля шел постоянный дождь из голубиного помета. Но Вуделл просто отряхивался, небрежно смахивал ладонью то, что насыпалось ему на стол, и продолжал работать.
Он также пользовался канцелярскими принадлежностями, аккуратно прикрывая ими в течение всего рабочего дня свою чашку, с тем чтобы в его кофе попадали только сливки.
Я часто пробовал копировать монашескую дзен-безмятежность Вуделля. Однако в большинстве случаев это было выше меня. Я кипел от разочарования, зная, что показатели учета проданных пар могли быть намного выше, если бы не постоянные проблемы с поставками. Люди настоятельно требовали нашу обувь, но мы были просто не в состоянии отгружать заказы вовремя. Спрос рос, а мы меняли одни капризные задержки по вине «Оницуки» на новые. Фабрики-производители и «Ниссо» справлялись со своими задачами, теперь мы получали от них то, что мы заказывали, вовремя и не поврежденным, но бурно растущий рынок оказывал новое давление, в результате чего нам было все труднее правильно распределять то, что имелось в нашем распоряжении.
Спрос и предложение – всегда главная проблема для бизнеса. Это было справедливо еще с тех времен, когда финикийские торговцы спешили доставить в Рим пурпур для окраски тканей, из которых шили мантии для царственных особ и богачей; пурпура все время не хватало. Довольно трудно изобрести, наладить производство товара и найти для него рынок сбыта, но существует еще логистика, механика, гидравлика того, как доставить этот товар тем, кто его ждет и когда его ждет, – вот от чего умирают компании и как возникают язвы желудка.
КАЖДЫЙ ВЕЧЕР МОЮ ЖИЗНЬ СПАСАЛИ ШЕСТИМИЛЬНЫЕ ПРОБЕЖКИ.
В 1973 году проблемы спроса и предложения, стоявшие перед отраслью по выпуску спортивной обуви для бега, выглядели необычайно запутанными и, казалось, неразрешимыми. Неожиданно весь мир стал требовать кроссовки, а предложение было не просто несообразным, оно напоминало машину, которая, замедляя ход, начинает глохнуть. Ситуация с нехваткой кроссовок на рынке напоминала нехватку бензина в бензопроводе автомобиля – он чихал и глохнул.
У нас было много умных людей, занимающихся этой проблемой, но никто не знал, каким образом значительно увеличить предложение и при этом избежать риска обесценения запасов компании. Некоторое утешение мы находили в том, что у «Адидас» и «Пумы» были те же проблемы, но утешение это было не ахти какое. Наши проблемы могли подтолкнуть нас к банкротству. Мы увязли в кредитах под самую завязку и, как большинство людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, шли по самому краю пропасти. Когда поставка очередной партии обуви задерживалась, наш учет проданных пар резко сокращался, мы оказывались неспособны генерировать достаточный доход, чтобы погашать кредиты «Ниссо» и банка Калифорнии. Когда же мы не могли вовремя погашать кредиты «Ниссо» и банка Калифорнии, мы не могли заимствовать еще. Когда мы не могли заимствовать еще, мы опаздывали с размещением нашего нового заказа.
Так все и шло по кругу.
Затем случилось то, что меньше всего было нам нужно. Забастовка докеров. Наш представитель отправился в Бостонский порт, чтобы забрать партию обуви, и обнаружил, что она под замком. Он видел ее через закрытую ограду: массу ящиков, содержимого которых настойчиво требовал мир. И не было никакой возможности добраться до них.
Мы наскребли, что имели, и договорились с «Ниппон», что они вышлют новую партию – 110 000 пар чартерным грузовым рейсом «Боинга-707». Мы разделили с ними стоимость авиатоплива пополам. Предпочтительнее было все, что угодно, только не задержка со своевременным выходом продукции на рынок.
Объем наших продаж в 1973 году вырос на 50 процентов, достигнув 4,8 миллиона долларов, цифры, которая повергла меня в изумление, когда я впервые увидел ее на бумаге. Разве это было не вчера, когда мы наторговали лишь на 8000 долларов? И все же по этому случаю не было никаких торжеств. С нашими судебными проблемами и нашими бедами с поставками мы могли оказаться выброшенными из бизнеса в любую минуту. Поздними вечерами мы сидели с Пенни, и она, бывало, спрашивала в сотый раз, что мы будем делать, если «Блю Риббон» пойдет под откос. Каков наш план? И в сотый раз я заверял ее оптимистической тирадой, в которую сам верил не до конца.
Затем, в ту осень, у меня возникла идея. Почему не обратиться ко всем нашим крупнейшим розничным продавцам и не предложить им, что если они подпишутся под железными обязательствами, если они разместят у нас крупные и безвозвратные предварительные полугодовые заказы, то мы предоставим им внушительные скидки до 7 процентов? Таким образом мы получим больше времени для выполнения заказов, сократится количество отгружаемых партий, и у нас будет больше уверенности, а потому и больше шансов на сохранение остатков денежных средств в банке. Кроме того, мы могли бы использовать такие долгосрочные обязательства тяжеловесов типа «Нордстром», «Кинни», «Этлетс Фут», «Юнайтел спортинг гудс» и других для того, чтобы выжать больше кредитов из «Ниссо» и банка Калифорнии. Особенно из «Ниссо».
Торговцы розницей, разумеется, были настроены скептически. Но я просил. И когда это не сработало, я выдал смелые прогнозы. Я сказал им, что эта программа, которую мы окрестили как «Фьючерсы», была само будущее, наше и каждого человека, поэтому им стоило бы пройти на борт. И лучше раньше, чем позже.
Я был настойчив, потому что я был в отчаянии. Если б мы только могли сбросить ограничения с наших ежегодных пределов роста. Но продавцы розничных магазинов продолжали упираться. Вновь и вновь мы слышали: «Вы, новички из «Найка», ничего не понимаете в обувной индустрии. Эта новая идея никогда не сработает».
Моя позиция на переговорах неожиданно улучшилась, когда мы выложили несколько образцов сногсшибательных новых кроссовок, которые наверняка вызовут спрос. Модель «Брюин» уже была популярна, с ее подошвой и верхним покрытием, слитыми воедино, чтобы обеспечивать более стабильный бег. Теперь мы выступили с дебютом усовершенствованной версии с ярко-зеленым замшевым верхом (Пол Сайлас из «Бостон Селтикс» согласился надеть такую пару). Плюс к этому две новые пары из линейки «Кортес» – кожаные и нейлоновые, обе выглядевшие как модели, которые будут пользоваться самым большим спросом.
Наконец, несколько розничных торговцев подписались на наше предложение. Программа начала набирать обороты. Не прошло много времени, как отставшие и несогласные стали отчаянно бороться за право быть включенными в программу.
13 сентября 1973 года пятая годовщина моей свадьбы. Вновь Пенни разбудила меня посреди ночи, чтобы сказать, что она неважно себя чувствует. Но на этот раз, пока я вез ее в больницу, думал я не только о ребенке. О программе фьючерсов. О подсчете проданных пар обуви. О надвигающемся суде. Поэтому не стоит удивляться, что я потерял дорогу.
Я кружил, возвращаясь, пытаясь повторить свой путь. Мой лоб начал покрываться испариной, я проехал вдоль очередной улицы и, свернув, прямо перед собой увидел больницу. Слава Тебе, Господи.
И вновь Пенни увезли на каталке, и я вновь ждал и ждал, сидя в «отстойнике для мужиков». На этот раз я попытался работать с бумагами, и когда пришел врач, сказав мне, что у меня родился еще один сын, я подумал: два сына. Пара сыновей.
Окончательный подсчет пар. Я прошел в палату к Пенни и встретился со своим новорожденным сыном, которого мы назвали Трэвис. И затем я сделал ужасную вещь.
Улыбаясь, Пенни сказала, что врачи сообщили ей, что она может вернуться домой уже через два дня вместо трех, как это было после рождения Мэтью.
«Вау! – воскликнул я. Подожди, ведь страховая компания готова оплатить еще один день пребывания в больнице – так зачем спешить? Можешь расслабиться, передохнуть. Воспользуйся этим».
Она опустила голову, потом спросила, приподняв бровь: «Кто играет и где?»
«Орегон», – прошептал я, – на стадионе Аризонского университета».
Она вздохнула. «О’кей, – сказала она. – О’кей, Фил. Поезжай».
Единственный путь – двигаться наверх
Я сидел в зале федерального суда, расположенного в центральной части Портленда, за небольшим деревянным столом, вместе со Штрассером и кузеном Хаузером, уставившись в высокий потолок. Я пытался глубоко дышать. Пытался не смотреть налево от себя, на противоположный стол, на пять адвокатов с хищными глазами, представлявших «Оницуку», и четверых дистрибьюторов, каждый из которых мечтал разорить меня.
На дворе было 14 апреля 1974 года.
Мы предприняли последнюю попытку, чтобы избежать этого кошмара. За несколько минут до начала суда мы предложили уладить спор. Мы сказали «Оницуке»: заплатите нам восемьсот тысяч долларов в качестве возмещения за нанесенный ущерб, отзовите свой иск в Японии, мы отзовем свой, и мы все расходимся. Я не думал, что у нашего предложения были какие-то шансы на то, что оно будет принято, но кузен Хаузер полагал, что попробовать все равно стоило.
«Оницука» с ходу отклонило наше предложение. И не сделала никакого встречного предложения. Они жаждали крови.
Судебный пристав воскликнул: «Суд идет!» Судья влетел в зал судебных слушаний, ударил своим молотком, и сердце у меня ёкнуло. Вот оно, сказал я себе.
Главный адвокат на стороне «Оницуки» Уэйн Хильярд первым сделал начальное заявление. Это был человек, получавший удовольствие от своей работы и который знал, что он хорош в этом. «У этих господ… нечистые руки!» – вскрикнул он, указывая в сторону нашего стола. «Нечистые… руки», – повторил он. Это был стандартный юридический термин, однако Хильярд придал ему грязное, чуть ли не порнографическое звучание. Все, что говорил Хильярд, звучало для меня как нечто зловещее, потому что он был коротышкой с заостренным носом и был похож на Человека-Пингвина. (Суперзлодея, гангстера и вора из американских комиксов, телесериала и фильма о Бэтмене. – Прим. пер.) «Блю Риббон» «обманом завлекла» «Оницуку» в это партнерство, ревел он. Фил Найт приехал в 1962 году в Японию и прикинулся владельцем компании под названием «Блю Риббон», а затем прибег к уловкам, воровству, шпионажу, с тем чтобы подкрепить свой обман.
К тому времени как Хильярд закончил свое выступление, к тому времени как он вновь занял свое место рядом с четверкой своих коллег-юристов, я уже был готов принять решение в пользу «Оницуки». Я опустил глаза и спрашивал себя: как ты мог совершить все эти ужасные деяния в отношении этих бедных японских бизнесменов?
Поднялся кузен Хаузер. С первого взгляда стало ясно, что он был лишен того огня, которым отличался Хильярд. Это просто не было в его натуре. Кузен Хаузер был хорошо организованным, подготовленным, но не пламенным оратором. Сначала я был разочарован. Затем внимательнее пригляделся к нему и, слушая то, о чем он говорил, подумал о его жизни. Ребенком он страдал от серьезного дефекта речи. Каждый звук «р» и «л» был для него препятствием. Даже в подростковом возрасте его произношение напоминало речь мультипликационного персонажа. Теперь же, несмотря на то что незначительные следы прежнего изъяна еще давали себя знать, он в значительной степени справился со своим недостатком, и, слушая в тот день его обращение к переполненному залу суда, я был полон восхищения и сыновней преданности. Какой же путь он прошел. И какой путь прошли мы. Я гордился им, гордился и он, будучи на нашей стороне.
Более того, он взялся за наше дело с оплатой ведения судебного арбитражного дела по результату, с условной оплатой, потому что он считал, что дело затянется на несколько месяцев. В течение последующих двух лет он не увидел ни гроша. А его собственные расходы были астрономическими. Лишь мой счет за ксерокопирование был на десятки тысяч долларов. Время от времени кузен Хаузер упоминал, что его партнеры оказывают на него сильное давление с тем, чтобы он послал нас ко всем чертям. В какой-то момент он даже попросил Джакуа взять наше дело на себя (спасибо, не надо, ответил Джакуа). Пылкий или нет, кузен Хаузер был настоящим героем. Он закончил свою речь, занял место за нашим столом и посмотрел на меня и Штрассера. Я похлопал его по спине. Игра началась.
Являясь истцами, мы первыми выступали в судебных прениях, и первым свидетелем, которого мы вызвали, был основатель и президент «Блю Риббон» Филипп Х. Найт. Направляясь к месту дачи показаний, я чувствовал себя так, будто вызвали какого-то другого Филиппа Найта, будто какой-то другой Филипп Найт поднимает свою руку и клянется говорить правду по делу, отмеченному такой массой коварства и злопамятства. Я будто парил над собственным телом, с высоты наблюдая за сценой, которая разворачивалась подо мной.
Я сказал сам себе, усаживаясь поглубже на скрипящем деревянном стуле для свидетелей и поправляя галстук: это будет твоим важнейшим отчетом, который тебе когда-либо придется давать о самом себе. Не спались.
После чего я спалился. Я выступил так же плохо, как давал свои свидетельские показания. Даже еще хуже.
Кузен Хаузер пытался помочь мне, подсказать, что говорить. В его словах, обращенных ко мне, звучали нотки ободрения, каждый свой вопрос он сопровождал дружеской улыбкой, но мысли мои растекались в разных направлениях. Я не мог собраться. Накануне я не спал, утром ничего не ел, я держался на адреналине, но адреналин не давал мне дополнительной энергии или ясности мышления. Он лишь затуманивал мое сознание. Я поймал себя на том, что меня посещают странные мысли-галлюцинации и что они даже развлекают меня. Например, мысль о том, как сильно кузен Хаузер походит на меня. Он был почти моего возраста, почти такого же роста, и многие его черты были такими же, как у меня. До сих пор не замечал этого семейного сходства. Какой кафкианский поворот, думал я, устраивать допрос самому себе.
К тому времени как он закончил задавать свои вопросы, я немного пришел в себя. Адреналин исчез, и я стал вести себя более осмысленно. Но теперь настал черед противной стороне взяться за меня.
Хильярд вгрызался в меня своим буром все глубже и глубже. Он был неумолим, и я вскоре дрогнул. Я мычал, бормотал, с трудом и невпопад подбирая слова. Да я и сам чувствовал, что мои ответы звучат уклончиво и лживо. Когда я рассказывал, как рылся в портфеле Китами, когда я пытался объяснить, что мистер Фуджимото на самом деле не был корпоративным шпионом, я видел скептические лица и у присутствующих в зале, и у судьи. Даже я сам был настроен скептически. Несколько раз я вглядывался вдаль, щурился и задавался вопросом: неужели я действительно так поступил?
Я окинул взглядом судебный зал, ища помощи, и увидел только враждебные лица. Самым враждебным было лицо Борка. Он сидел сразу за столом адвокатов «Оницуки», и глаза его сверкали. Время от времени он наклонялся к адвокатам, что-то шептал, передавал им записки. Предатель, подумал я. Бенедикт Арнольд. Действуя, видимо, по подсказке Борка, Хильярд вновь подступил ко мне, сделав заход под новым углом, с новыми вопросами, и я потерял нить происходящего. Зачастую я понятия не имел, что говорю.
В какой-то момент судья отругал меня за то, что в моих словах нет смысла, за то, что я чрезмерно все усложняю. «Просто отвечайте на вопросы лаконично», – сказал он. «Насколько лаконично?» – спросил я. «Двадцать слов или меньше», – отвечал он. Следующий вопрос задавал Хильярд.
Я провел ладонью по лицу. «Я никак не смогу уложиться в двадцать слов или меньше, отвечая на этот вопрос», – сказал я.
Судья требовал, чтобы адвокаты с обеих сторон оставались во время опроса свидетелей за своими столами, и до сих пор я думаю, что десять шагов буферной зоны, возможно, спасли меня. Думаю, если бы Хильярд смог подобраться ко мне ближе, он бы расколол меня, довел бы меня до слез.
К концу двухдневного допроса, который он мне устроил, я пришел в оцепенение. Я достиг дна. Единственное, куда я мог оттуда двигаться, был путь наверх. Я видел, что Хильярд решил, что ему лучше отпустить меня до того, как я начну подниматься и верну себе прежнее положение. Покидая свидетельское место, я поставил себе двойку с минусом. Кузен Хаузер и Штрассер мою самооценку не оспорили.
Судьей в нашем разбирательстве был Его Честь судья Джеймс Бернс, печально известная личность в орегонской юриспруденции. У него было вытянутое мрачное лицо и бледно-серые глаза, которые выглядывали из-под нависших черных бровей. Над каждым его глазом было что-то вроде маленькой соломенной крыши. Может, потому, что в те дни у меня голова была забита мыслями о фабриках, но мне часто казалось, что судья Бернс выглядел так, будто его сделали на какой-то фабрике у черта на рогах, где выпускали судей, выносящих смертные приговоры через повешение. И мне кажется, что и он об этом знал. И гордился этим. Он называл себя со всей серьезностью Джеймсом Справедливым. Своим оперным басом он любил объявлять: «Вы находитесь в судебном зале Джеймса Справедливого!»
И Боже упаси, если б кто-либо, думая, что Джеймс Справедливый звучал мелодраматично, осмелился рассмеяться.
Портленд все еще был небольшим городком – крохотным по сути, – и до нас доходили слухи, что кто-то натолкнулся на Джеймса Справедливого в его мужском клубе. Судья сидел с бокалом мартини и стонал, говоря о нашем деле. «Ужасное дело, – говорил он бармену и всем, кто слушал его, – совершенно ужасное». Поэтому мы знали, что ему не хотелось заниматься им в суде, так же, как и нам, и часто он вымещал на нас свое неудовольствие, отчитывая нас за мелкие нарушения порядка и внешних приличий.
И все же, несмотря на мое ужасное выступление в роли свидетеля и истца, у кузена Хаузера, Штрассера и у меня самого было ощущение, что Джеймс Справедливый склоняется на нашу сторону. Было что-то в его манере поведения: он чуть менее людоедски относился к нам. Поэтому, действуя по наитию, кузен Хаузер объявил адвокатам противоположной стороны, что если они все еще рассматривают наше первоначальное предложение, то им лучше о нем забыть, – предложение снято.
В тот же день Джеймс Справедливый приостановил судебное разбирательство и предостерег обе стороны. Он был возмущен, сказал он, всем тем, что ему приходится читать о судебном процессе в местных газетах. И будь он проклят, если он согласится председательствовать над этим цирком в средствах массовой информации. Он приказал нам прекратить продолжение противоправных действий и впредь не допускать обсуждения хода судебного разбирательства вне стен суда.
Мы кивнули: «Да, Ваша Честь».
Джонсон сидел за нами, часто передавал записки кузену Хаузеру и всегда читал какой-нибудь роман во время бесед между судьей и адвокатами или во время перерывов. После того как судебные слушания ежедневно переносились на следующий день, он расслаблялся. Выходя на прогулку вокруг центра города, заглядывая в различные магазины спортивных товаров, проверяя, как идут наши продажи (он также этим занимался каждый раз, оказываясь в новом городе).
Ранее он сообщил нам, что кроссовки «Найк» распродаются в улет благодаря вафельным подошвам тренировочных кроссовок, придуманных Бауэрманом. Кроссовки только что появились на рынке и продаются везде, что означает, что мы опережаем «Оницуку» и даже «Пуму». «Найк» стал таким хитом, что мы впервые смогли себе представить, что однажды мы сможем приблизиться к объемам продаж «Адидаса».
Джонсон разговорился с менеджером одного из магазинов, которому было известно о судебном процессе. «Как там дела?» – спросил менеджер. «Все идет нормально, – отвечал Джонсон. – Настолько хорошо, что мы действительно отозвали наше предложение по мирному улаживанию спора».
Первое, что мы заметили на следующее утро, когда мы собрались в зале судебных заседаний, каждый потягивая кофе, было незнакомое лицо за столом защиты. Там сидели пятеро адвокатов… и один новый парень? Джонсон повернул голову, увидел его и побелел. «О… вот дерьмо», – выругался он. Неистовым шепотом он сообщил нам, что этот новичок был менеджером магазина… с которым он так неосторожно обсуждал ход судебного разбирательства.
Теперь уже побелели кузен Хаузер и Штрассер.
Мы втроем глядели друг на друга и на Джонсона, а затем в унисон повернули свои головы и взглянули на Джеймса Справедливого. Тот колотил своим молотком и был явно готов взорваться.
Он перестал стучать. Тишина заполнила зал суда. После этого он начал кричать. Он потратил двадцать минут, отрываясь на нас. Недавно, после того как он дал распоряжение о неразглашении, бушевал он, в один прекрасный день некто из команды «Блю Риббон» пришел в местный магазин и распустил язык. Мы смотрели прямо перед собой как нашкодившие дети, гадая, грозит ли нам аннуляция судебного процесса. Но когда судья свернул свою тираду, мне показалось, что я заметил какую-то маленькую искорку в его глазах. Может, подумал я, если на мгновение допустить, может, Джеймс Справедливый больше артист, чем людоед?
Джонсон искупил вину своими показаниями. Прекрасно выражающий свои мысли, поразительно дотошный в мельчайших деталях, он дал описание моделей «Кортес» и «Бостон» лучше, чем кто-либо во всем мире, лучше меня самого. Хильярд бесконечно пытался сломать его – и не мог. Какое же это было удовольствие наблюдать, как Хильярд разбивал свою голову о бетонную стену невозмутимости Джонсона. Даже растяжка на разминке меньше отличалась от упражнения краб, чем эти двое дуэлянтов.
Вслед за этим мы вызвали в качестве свидетеля Бауэрмана. Я возлагал большие надежды на своего старого тренера, но в тот день он просто не был похож на самого себя. Впервые в жизни видел я его взволнованным, даже несколько запуганным, и причина этому вскоре стала явной. Он не подготовился. Из-за презрения к «Оницуке», глубокого презрения ко всему этому грязному бизнесу он решил действовать по наитию. Я был опечален. Кузен Хаузер раздражен. Свидетельские показания Бауэрмана могли оказаться для нас перебором.
Ну, что ж, мы утешали себя осознанием того, что по крайней мере он не сделал ничего такого, что могло причинить нам вред.
Далее кузен Хаузер зачитал для занесения в протокол показание под присягой Ивано, молодого помощника, сопровождавшего Китами во время его двух поездок в Соединенные Штаты. К счастью, Ивано подтвердил мнение о себе как о простодушном и таким же чистым сердцем, каким он с самого начала показался мне и Пенни. Он рассказал правду и ничего, кроме правды, и эта правда напрочь опровергла позицию Китами. Ивано засвидетельствовал, что совершенно достоверно существовал жесткий план по разрыву нашего контракта, с тем чтобы отказаться от нас, заменить нас, и что Китами открыто и много раз обсуждал это.
Затем мы вызвали в качестве свидетеля известного ортопеда, эксперта по вопросам воздействия обуви для бега на ноги, суставы и позвоночник, и этот специалист объяснил, в чем разница между многими моделями и брендами на рынке, и дал описание того, чем отличались кроссовки «Кортес» и «Бостон» от всего того, что когда-либо выпускала «Оницука». По существу, сказал он, кроссовки «Кортес» впервые сняли нагрузку с ахиллова сухожилия. Революционное достижение, сказал он.
Переломный момент в ходе игры. Давая свои показания, он вывалил перед собой десятки пар обуви, разрывал их, расшвыривал их вокруг, что возбудило Джеймса Справедливого. Судя по всему, у судьи проявились симптомы ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства. – Прим. пер.). Ему нравилось, когда в зале суда все было аккуратно прибрано – всегда. Вновь и вновь он просил нашего ортопеда прекратить устраивать беспорядок, аккуратно расставлять обувь парами, и вновь и вновь наш ортопед игнорировал его просьбы. Я начал учащенно дышать, опасаясь, что Джеймс Справедливый обвинит нашего свидетеля-эксперта в неуважении к суду.
Последним мы вызвали Вуделля. Я смотрел, как он медленно продвигался в своем кресле на колесах к месту дачи свидетельских показаний. Впервые видел я его в пиджаке и галстуке. Недавно он встретил женщину и женился на ней, и теперь, когда он сказал мне, что счастлив, я ему поверил. На какой-то момент я почувствовал радость, увидев, насколько он изменился с тех пор, когда мы впервые встретились с ним в той бутербродной в Бивертоне. Затем я тут же ужасно себя почувствовал, поскольку я был причиной того, что ему пришлось пройти через всю эту грязь. Было видно, что, оказавшись на месте для дачи свидетельских показаний, он нервничал больше, чем я, и был напуган больше, чем Бауэрман. Джеймс Справедливый попросил его назвать свою фамилию по буквам, и Вуделл замолк, будто забыл ее. «Э-э… дубль в, два о, два д…». Неожиданно он захихикал. В его фамилии не было сдвоенной буквы «д». Но у некоторых дам двойные «д» бывают. (Размер DD – соответствует размеру груди 5 – в народе расшифровывается как Double Damn. – Прим. пер.) О Боже! Теперь он уже просто прыснул со смеху. Нервы, конечно. Но Джеймсу Справедливому показалось, что Вуделл издевается над следствием. Он напомнил Вуделлю, что тот находится в зале судебных заседаний Джеймса Справедливого. Что вызвало у Вуделля новый приступ смеха.
Я закрыл лицо руками.
Когда пришла очередь компании «Оницука» излагать свои возражения на иск, они вызвали в качестве своего первого свидетеля г-на Оницуку. Долго он не свидетельствовал. Он сказал, что ему ничего не известно ни о моем конфликте с Китами, ни о планах Китами всадить нам нож в спину. Китами проводил собеседования с другими дистрибьюторами? «Моя никогда не информировалась», – ответил г-н Оницука. «Китами планировал выбросить нас из контракта?» – «Моя не знает».
Следующим был Китами. Пока он шел к месту, с которого происходила дача показаний, адвокаты «Оницуки» повскакивали со своих мест и сказали судье, что им понадобится переводчик. Я приложил ладонь к уху – может, я ослышался? Китами прекрасно говорил по-английски. Я вспомнил, как он хвастал, что выучил английский язык, слушая пластинку. Я повернулся к кузену Хаузеру, поедая его глазами, но он лишь протянул руки ладонями вниз, давая мне понять – успокойся.
В течение двух дней Китами лгал со свидетельского места, лгал через переводчика, сквозь зубы. Он настаивал, что никогда не планировал разорвать наш контракт. Он решился на это лишь тогда, когда обнаружил, что мы сами нарушили его, выпуская кроссовки «Найк». Да, признал он, он был в контакте с другими дистрибьюторами до того, как мы выпустили первые «найки», но он лишь был занят исследованием рынка. Да, сказал он, шел разговор о том, чтобы «Оницука» купила «Блю Риббон», но это была идея, выдвинутая самим Филом Найтом.
После того как Хильярд и кузен Хаузер выступили со своими заключительными аргументами, я повернулся и поблагодарил большое число зрителей, пришедших на процесс. Затем кузен Хаузер, Штрассер и я отправились в соседний бар за углом, ослабили узелки наших галстуков и выпили несколько кружек ледяного пива. А потом добавили еще несколько. Мы обсудили несколько вариантов того, чем все это кончится, и несколько вариантов того, что мы могли бы предпринять. О, что бы мы могли сделать, повторяли мы.
А потом все мы вернулись к работе.
Прошло несколько недель. Раннее утро. Кузен Хаузер позвонил мне в офис. «Джеймс Справедливый собирается огласить свое решение в одиннадцать часов утра», – сказал он.
Я поспешил прийти в суд и встретился там с ним и со Штрассером за ставшим нам привычным столом. Как ни странно, зал заседаний был пуст. Никаких зрителей. Никого из команды ответчиков, за исключением Хильярда. Его сотоварищи-адвокаты не успели прибыть вовремя в такое короткое время.
Джеймс Справедливый проследовал из боковой двери на свое судейское место. Он порылся в бумагах и стал что-то говорить монотонным голосом, будто про себя. Он благоприятно отозвался об обеих сторонах. Я покачал головой. Как он мог благоприятно отзываться об «Оницуке»? Плохой признак. Плохой, плохой, плохой. Если б только Бауэрман был более подготовлен. Если б только я не раскис под давлением. Если б только ортопед выставлял принесенную им обувь аккуратно!
Судья взглянул на нас сверху вниз, его выступавшие над глазами брови стали еще более лохматыми и отвислыми, чем в начале судебных слушаний. Он не будет выносить решения в отношении контракта между «Оницукой» и «Блю Риббон», сказал он.
Я подался вперед.
Вместо этого он вынесет решение исключительно по вопросу о товарных знаках. Ему стало ясно, что рассматриваемое дело относится к разряду «он сказал то», а «он сказал это». «Нам здесь даны две противоречащие друг другу истории, – сказал он, – и мнение данного суда таково, что история, представленная «Блю Риббон», выглядит убедительнее».
«Блю Риббон» была более правдивой, – сказал он, – не только на протяжении всего спора, как явствует из документов, но и в нашем зале суда. Правдивость, – сказал он, – это в конечном счете все, на чем я основываюсь, давая оценку этому делу».
Он отметил свидетельские показания Ивано. Убедительно, сказал судья. Похоже, Китами солгал. Затем он отметил то, как Китами использовал переводчика: на протяжении всего времени, когда мистер Китами давал показания, он не единожды прерывал переводчика, чтобы поправить его. И каждый раз мистер Китами делал это на отличном английском.
Пауза. Джеймс Справедливый просматривал свои бумаги. «Поэтому, – объявил он, – мое решение, следовательно, таково, что «Блю Риббон» сохраняет все права на торговые марки «Бостон» и «Кортес». Далее, – продолжил он, – здесь явно был нанесен ущерб. Потеря бизнеса. Нецелевое использование товарного знака. Вопрос в том, как выразить этот ущерб в долларовом эквиваленте. В таких случаях обычно назначается специалист по оценке размеров причиненного ущерба. Это я и сделаю в ближайшие дни».
Он шарахнул молотком. Я повернулся к кузену Хаузеру и Штрассеру: «Мы что – выиграли? О Боже… мы выиграли».
Я пожал руки кузенам Хаузеру и Штрассеру, затем похлопал их по спине, затем обнял их обоих. Я позволил себе в качестве деликатеса взглянуть искоса на Хильярда. Но, к моему разочарованию, он не выказал никакой реакции. Он лишь уставился куда-то перед собой, оставаясь совершенно неподвижным. Этот процесс никогда не был его битвой. Он был просто наемником. Хладнокровно закрыл он свой портфель, защелкнул замки и, не взглянув в нашу сторону, встал и вышел из зала заседаний.
Мы отправились прямо в гриль-бар «Лондон» в гостинице «Бенсон», недалеко от здания суда. Каждый заказал себе по двойному виски, и мы провозгласили тост за Джеймса Справедливого. Затем выпили за Ивано. За нас самих. Потом я позвонил Пенни из телефона-автомата. «Мы выиграли! – заорал я, не обращая внимания на то, что меня могли услышать во всех номерах гостиницы. Можешь себе представить – мы выиграли!» Я позвонил отцу и прокричал ему то же самое.
Оба, и Пенни, и отец, переспросили, каков наш выигрыш. Я не смог им это объяснить. Мы все еще сами не знаем, ответил я. Один доллар? Миллион долларов? Это уже завтрашняя проблема. Сегодня же мы смаковали победу.
Оказавшись в баре, я с кузеном Хаузером и Штрассером пропустил еще по стаканчику крепкого. А затем я позвонил в офис, чтобы узнать последнюю сводку продаж.
Через неделю мы получили встречное предложение по мирному урегулированию спора: четыреста тысяч долларов. «Оницука» прекрасно понимала, что специалист, назначенный для оценки ущерба, может выдать любую сумму, поэтому они пытались действовать превентивно, сокращая свои потери. Но цифра в четыреста тысяч показалась мне заниженной. Мы торговались несколько дней. Хильярд не сдвинулся ни на йоту.
Все мы хотели покончить с этим раз и навсегда. Особенно начальство кузена Хаузера, которое теперь уполномочило его взять деньги, из которых он получил бы половину, – крупнейшее вознаграждение в истории его фирмы. Сладкое чувство удовлетворения.
Я спросил его, что он собирается делать с таким уловом. Не помню, что он мне ответил. С нашей долей «Блю Риббон» просто сможет выжать из банка Калифорнии больше кредитных заимствований. И больше обуви будет отгружаться на пароходы.
Официальное подписание было намечено провести в Сан-Франциско, в офисе фирмы «голубых фишек», одной из многих, которыми владела «Оницука». Офис располагался на верхнем этаже небоскреба в центре города, а наша шумная группа пребывала в тот день в приподнятом настроении. Нас было четверо – я, кузен Хаузер, Штрассер и Кейл, который заявил, что он хочет присутствовать на всех главных мероприятиях в истории «Блю Риббон». – Присутствовал при Создании, «сказал он, и теперь присутствую при Освобождении».
Возможно, мы со Штрассером прочитали слишком много книг о войне, но по дороге в Сан-Франциско мы вели разговор о самых знаменитых капитуляциях в мировой истории. Апоматтокс. Йорктаун. Реймс. Мы соглашались друг с другом – это всегда было драматично. Генералы противоборствующих сторон встречались в вагоне поезда, в заброшенном фермерском доме или на палубе авианосца. Одна сторона – в полном сокрушении, другая – суровая, но милостивая. Затем скрипели перья авторучек, подписывая «инструмент сдачи». Мы говорили о Макартуре, принявшем капитуляцию Японии на борту американского линкора «Миссури», о речи, с которой он тогда выступил и которая стала речью всей его жизни. Нас увлекала тематика, это точно, но наше чувство истории и боевой триумф усиливались датой. Было 4 июля.
Клерк ввел нас в конференц-зал, до отказа заполненный адвокатами. Наше настроение резко изменилось. Во всяком случае, у меня. В центре зала стоял Китами. Сюрприз.
Не знаю, почему я удивился, увидев его. Он должен был подписать бумаги, выдать чек. Он протянул руку. Еще больший сюрприз.
Я пожал ее.
Мы все заняли места вокруг стола. Перед каждым из нас лежала кипа документов, и в каждом документе были десятки пропусков для заполнения и подписания. Мы подписывали до тех пор, пока не ощутили покалывания в наших пальцах. Процедура заняла по крайней мере час. Атмосфера была напряженной, тишина глубокой, за исключением одного момента. Помню, Штрассер дернулся вперед, оглушительно чихнув. Как слон. Я также помню, что на нем был – надетый с явной неохотой – новый, с иголочки темно-синий костюм, сшитый его тещей, которая использовала весь остаток материала для того, чтобы приладить ему нагрудный карман. Штрассер, подтверждая свой статус крупнейшего в мире противника любителей тщательно и со вкусом одеваться, потянулся в свой карман, достал из него огромный кусок оставшегося от раскройки габардина и душевно высморкался.
В конце концов, служащий собрал все документы, и мы завинтили колпачки наших авторучек, а Хильярд поручил Китами передать чек. Китами поднял голову с ошеломленным взглядом: «У меня нет чека».
Что я прочитал на его лице в тот момент? Была ли это злоба? Было ли это поражение? Не знаю. Я отвернулся, посмотрел на лица сидевших за столом. Выражения их лиц читались легче. Юристы были в полном шоке. Человек приходит на конференцию по мирному улаживанию спора без чека в кармане?
Никто не проронил ни слова. Китами выглядел опозоренным; он знал, что совершил ошибку. «Я отправлю чек по почте, когда вернусь в Японию», – сказал он. Хильярд был груб. «Постарайтесь, чтобы он был отправлен как можно скорее», – сказал он своему клиенту.
Я взял свой портфель и вышел вслед за кузеном Хаузером и Штрассером из конференц-зала. За мной шли Китами и другие адвокаты. Мы все стояли в ожидании лифта. Когда двери раскрылись, мы все сгрудились в кабине, плечом к плечу, причем Штрассер занял половину всего пространства. Никто ничего не говорил до тех пор, пока мы не вышли на улицу. Никто даже не дышал. Это даже неловкостью не назовешь. Уверен, что Вашингтон после капитуляции Корнваллиса не скакал из Йорктауна на одной лошади.
Штрассер пришел в офис спустя несколько дней после вынесения приговора, чтобы подвести черту и попрощаться. Мы провели его в зал для переговоров, все окружили его и устроили оглушающую овацию. Глаза его блестели от слез, когда он поднял руку, принимая наши слова приветствия и благодарности.
«Речь!» – кто-то требовательно выкрикнул.
«Я нашел столько близких друзей среди вас, – сказал он срывающимся голосом. – Мне будет не хватать всех вас. Буду скучать по той работе, которую мы провели в рамках этого дела. По работе на правой стороне».
Аплодисменты.
«Буду скучать по тому, как защищал эту замечательную компанию». Вуделл, Хэйес и я посмотрели друг на друга. И один из нас произнес: «Так почему ты не перейдешь к нам работать?»
Штрассер покраснел и рассмеялся. Этот его смех – я вновь был поражен его нелепым фальцетом. Он замахал рукой – да ну вас, полагая, что мы шутим.
Мы не шутили. Немного позже я пригласил Штрассера пообедать в ресторане «Стокпот» в Бивертоне. Я привел с собой Хэйеса, который к этому времени работал на полной ставке на «Блю Риббон», и мы вместе с ним предприняли трудную попытку уговорить Штрассера. По сравнению со всеми предыдущими предложениями, которые я кому-либо делал в жизни, это, возможно, было подготовлено и отрепетировано самым тщательным образом, потому что мне нужен был Штрассер, и я знал, что я нарвусь на сопротивление. Перед ним лежал четкий и ясный путь на самый верх в фирме кузена Хаузера или в любой другой фирме по его выбору. Без особых усилий он мог стать партнером, обеспечить себе средства для жизни, привилегии, престиж. Все это из области известного, а мы предлагали ему Неизвестное. Поэтому я с Хэйесом потратил несколько дней на то, чтобы проиграть в ролях, отшлифовать свои аргументы и контраргументы, предугадывая возражения, которые могут прозвучать в устах Штрассера.
Я начал разговор, сказав Штрассеру, что на самом деле все уже давно предрешено. «Ты один из нас», – сказал я. Один из нас. Он знал, что означают эти слова. Мы были теми, кто просто не мог мириться с корпоративным нонсенсом. Мы были теми, кто хотел, чтобы наша работа стала игрой. Но игрой осмысленной. Мы пытались победить Голиафа, и хотя Штрассер был больше, чем пара Голиафов, в сердце он был чистым Давидом. Мы пытались создать бренд, сказал я, но и культуру тоже. Мы боролись с конформизмом, скукой и монотонностью. Мы пытались продать идею – дух, причем больше, чем сам продукт. Не знаю, понимал ли я когда-либо полностью, кем мы были и что мы делали до того, как я услышал сам себя в тот день, когда я убеждал Штрассера.
Он продолжал кивать. Есть он не переставал, но продолжал кивать. Он соглашался со мной. Он сказал, что сразу после нашей великой баталии с «Оницукой» он погрузился в будничную работу, занявшись несколькими страховыми случаями, и каждое утро он был готов перерезать себе вены канцелярской кнопкой. «Я скучаю по «Блю Риббон», – сказал он, – я скучаю по ясности. Я ежедневно скучаю по тому чувству близости победы. Поэтому я благодарю вас за ваше предложение».
И все же он не говорил «да». «В чем же дело?» – спросил я. «Мне надо… спросить… моего отца», – сказал он. Я взглянул на Хэйеса. Мы оба расхохотались. «Твоего отца!» – повторил Хэйес. Отца, который сказал копам утащить с собой Штрассера? Я покачал головой. Это был один из аргументов, к которому мы с Хэйесом не были готовы. Вечная цепь, приковавшая парня к старику.
«О’кей, – сказал я. – Переговори с отцом. И приходи рассказать нам».
Спустя несколько дней, получив благословение старика, Штрассер согласился стать первым в истории «Блю Риббон» юрисконсультом компании.
У нас оставалось около двух недель на отдых и наслаждение нашей победой в суде. Затем мы подняли глаза и увидели на горизонте новую надвигающуюся угрозу. Йену. Ее курс дико колебался, и если он продолжит такую флуктуацию, это будет означать для нас гибель.
До 1972 года курс йены был привязан к доллару, был постоянным, неизменным. Один доллар всегда стоил 360 йен и, соответственно, наоборот. Вы могли полагаться на этот курс в любой день так же, как полагались на восход солнца. Президент Никсон, однако, посчитал, что йена недооценена. Он опасался, что Америка «отправляет все свое золото в Японию», поэтому он отпустил йену на волю волн, сделал ее курс плавающим, и теперь курс японской валюты по отношению к доллару стал похож на погоду. Каждый день был другим. Как следствие, никто из тех, кто занимался бизнесом в Японии, совершенно не мог планировать завтрашний день. От главы компании «Сони» прозвучало известное сетование: «Это как в игре в гольф, когда ваш гандикап меняется перед каждой лункой». (Основатель корпорации «Сони» Акио Морита, как можно прочитать в его мемуарах, не сетовал, а обвинял США в нечестном ведении бизнеса, призывал Японию принять более независимую роль в бизнесе и иностранных делах. Система гандикапов в гольфе – это выполнение на практике принципа честности. Гандикап – это числовой показатель игровых способностей гольфиста. Рассчитывается на основе сыгранных гольфистом раундов при соблюдении определенных требований. Система гандикапов (игра с «форой») позволяет игрокам разного уровня соревноваться в равных условиях. – Прим. пер.)
В то же время японские затраты на рабочую силу росли. Наряду с «плавающей» йеной условия жизни стали предательскими для любой компании, основное производство которой находилось в Японии. Больше я не мог представить себе будущее, в котором бо́льшая часть нашей обуви выпускалась бы в этой стране. Нам нужны были новые фабрики, в новых странах – и срочно.
Тайвань для меня казался следующим логическим шагом. Тайваньское руководство, предчувствуя крах Японии, проводило быструю мобилизацию для заполнения предстоящего вакуума. Оно строило фабрики со сверхсветовой скоростью. И все же эти новые фабрики были не в состоянии справиться с объемами наших заказов. Кроме того, у них был плохо налажен контроль качества. До тех пор пока Тайвань не будет готов, нам надо было найти мост, по которому мы могли бы перебраться из одной страны в другую.
В качестве такого моста я рассмотрел вариант с Пуэрто-Рико. Некоторое количество обуви мы уже выпускали там. К сожалению, ее качество не было удовлетворительным. Кроме того, Джонсон был там в 1973 году, чтобы разведать фабрики, и по его докладу, они были не лучше тех ветхих корпусов, которые мы видели по всей Новой Англии. Поэтому мы обсудили своего рода гибридное решение: забирать сырье в Пуэрто-Рико и отправлять его в Новую Англию для изготовления колодок и низа обуви.
К концу 1974-го, этого до невозможности затянувшегося года, наш план был готов. И я был в полной готовности реализовать его. Я совершил поездки на Восточное побережье, чтобы заложить основу, подыскивая различные фабрики, которые мы могли бы арендовать. Ездил я туда дважды – вначале с Кейлом, затем с Джонсоном.
Во время моего первого визита служащий компании по прокату автомобилей отказался принять мою кредитную карту. А затем конфисковал ее. Когда же Кейл попытался сгладить ситуацию, предложив свою кредитную карту, служащий сказал, что он и ее не примет, потому что Кейл был со мной. Вина в соучастии.
О жизни за чужой счет. Я не мог найти в себе силы взглянуть Кейлу в глаза. Вот стоим мы с ним рядом, уже больше десяти лет, как закончили Стэнфорд, и в то время, как он уже был в высшей степени успешным бизнесменом, я по-прежнему с трудом удерживал голову над водой, чтобы не захлебнуться. Он знал, что я бьюсь изо всех сил, но теперь он узнал точно, насколько отчаянным было мое положение. Я испытал боль унижения. Он всегда был рядом в великие моменты, в моменты триумфа, но я испугался, что этот унизительный, по сути, мелкий случай даст мне убойную характеристику в его глазах.
Затем мы посетили фабрику, чей хозяин рассмеялся мне в лицо. Он сказал, что и не подумает иметь дело с какой-то залетной, не внушающей доверия компанией, о которой он никогда не слышал, тем более из Орегона.
Во время моей второй поездки я встретился в Бостоне с Джонсоном. Я забрал его в издательстве журнала «Футвер ньюс», где он занимался поиском потенциальных поставщиков, и мы вместе с ним проехали в Эксетер, штат Нью-Гемпшир, чтобы осмотреть старую фабрику с окнами, наглухо закрытыми ставнями. Построенная где-то во времена Американской революции, фабрика представляла собой руины. Когда-то в ее стенах размещалась местная «Бут энд Шу компани», теперь же в ней хозяйничали крысы. Когда мы взломали входные двери и смели паутину размером с рыболовную сеть, мимо наших ног бросилась врассыпную всевозможная живность, а мимо ушей пролетели тучи крылатых тварей. Что еще хуже, в полу зияли дыры, и один неверный шаг мог стать началом полета к ядру планеты.
Владелец провел нас на третий этаж, который был пригоден для использования. Он сказал, что может сдать его нам в аренду с возможностью приобрести весь корпус. Он также сказал, что нам потребуется помощь, чтобы фабрику как следует вычистить и оборудовать, поэтому он дал нам имя местного парня, который мог бы нам помочь. Звали его Биллом Джампьетро.
На следующий день мы встретились с Джампьетро в одной из таверн Эксетера. С первых же минут я понял, что это наш человек. Настоящий пес с обувкой в зубах. Было ему где-то около пятидесяти лет, но седины в его волосах не было. Такое впечатление, что они были покрыты черным лаком. У него был тягучий бостонский акцент, и, кроме того, обувь для него была единственной темой, которую он затрагивал в разговоре, его любимой женой и детьми. Он был американцем в первом поколении – его родители прибыли из Италии, где его отец (разумеется) был сапожником. У него было спокойное выражение лица и мозолистые руки мастера, и он с гордостью носил стандартную униформу: испачканные в краске штаны, заляпанную джинсовую рубашку с рукавами, закатанными до испачканных краской локтей. Он сказал, что ничем, кроме сапожного дела, в жизни никогда не занимался и никогда не хотел заниматься ничем другим. «Спросите любого, – сказал он, – они подтвердят». Все в Новой Англии звали его Джеппетто, добавил он, потому что все думали (и продолжают думать), что отец Пиноккио был сапожником (на самом деле он был плотником).
Каждый из нас заказал себе по бифштексу с пивом, а затем я вынул из своего портфеля пару кроссовок «Кортес». «Могли бы вы достать для фабрики в Эксетере такое оборудование, чтобы выпускать на нем таких голубчиков?» – спросил я. Он взял связанные между собой кроссовки в руки, внимательно осмотрел их, отделил их друг от друга, вытащил язычки. Он изучал их со всех сторон, как врач. «Никакой, на хрен, проблемы», – заключил он, бросая их на стол.
Во что это обойдется? Он прикинул цифры в уме. Аренда и ремонт фабрики, плюс рабочие, материалы, то да сё – по его меркам, порядка 250 тысяч долларов.
Давайте сделаем это, сказал я.
Позднее, когда мы с Джонсоном были на пробежке, он спросил меня, каким образом собираемся мы заплатить четверть миллиона долларов за фабрику, когда мы едва смогли заплатить за бифштекс Джампьетро. Я спокойно ответил ему – вообще-то, со спокойствием безумца, – что я все устрою так, что заплатит «Ниссо». «Да с какой стати станет «Ниссо» давать тебе деньги на фабрику?» – спросил он. «Очень просто, – отвечал я, – я не собираюсь говорить им про нее». Я перестал бежать, положил руки на колени и сказал Джонсону вдобавок, что он будет мне нужен, чтобы управлять этой фабрикой.
Он открыл рот, а затем закрыл его. Всего лишь год тому назад я попросил его пересечь всю страну, переселиться в Орегон. Теперь я захотел, чтобы он опять вернулся на восток? Для того, чтобы работать бок о бок с Джампьетро? И Вуделлем? С которым у него весьма… сложные… взаимоотношения?
«Самая сумасшедшая вещь, которую я когда-либо слышал, – сказал он. – Я уж не говорю о неудобстве, не беру в расчет весь маразм того, чтобы тащиться через всю страну обратно на Восточное побережье, да что я смыслю в управлении фабрикой? Это занятие определенно выше моего понимания».
Я рассмеялся. Я продолжал смеяться и не мог остановиться. «Выше твоего понимания? – переспросил я. – Выше твоего понимания! Да для нас всех все выше нашего понимания! Куда выше!»
Он застонал. Он издавал звуки, похожие на то, что мы слышим, когда пытаемся завести машину в холодное утро. Я ждал. Просто дай ему немного времени, говорил я себе.
Он отказывался, кипятился, торговался, впадал в депрессию и затем согласился. Пять Этапов эволюции Джеффа. Наконец, он издал протяжный стон и признал, что это большая работа и так же, как и я, он не смог бы доверить ее кому-то еще. Он сказал, что знает – когда дело касается «Блю Риббон», каждый из нас стремится сделать все, что необходимо, для победы, и если «все, что необходимо» выходит за рамки наших знаний и опыта, то что ж, как говорит Джампьетро, «никаких, на хрен, проблем». Он ничего не смыслил в управлении фабрикой, но стремился попробовать. Научиться.
Страх перед неудачей, думал я, никогда не станет причиной крушения нашей компании. Не потому, что никто из нас не думал, что мы прогорим; на самом деле мы ожидали в любой момент, что это случится. Но когда мы терпели провал, в нас оставалась вера, что это быстро пройдет, что мы научимся на наших просчетах и сможем лучше противостоять неудачам.
Джонсон, нахмурившись, кивнул. «О’кей, – сказал он. – Договорились».
Итак, приближаясь к завершению 1974 года, Джонсон твердо закрепился в Эксетере, и часто, поздно ночью, думая о том, как он там, я улыбался и говорил себе под нос: Бог тебе в помощь, старый приятель. Теперь ты – проблема Джампьетро.
Нашим контактом в банке Калифорнии был человек по имени Перри Холланд, который сильно походил на Гарри Уайта из «Первого национального». С приятными манерами, дружелюбный, лояльный, но совершенно беспомощный, поскольку он мог действовать в жестких рамках, ограничивающих размеры выдаваемых кредитов, которые всегда оказывались меньше того, что нам требовалось. И его боссы, как боссы Уайта, всегда принуждали нас притормозить.
Мы ответили им в 1974 году тем, что дали по газам. Мы стремились к нашей цели – довести объем продаж до 8 миллионов долларов, и ничто, ничто не могло помешать нам в достижении этого показателя. Вопреки требованиям банка, мы заключили договоры с большим числом магазинов и открыли несколько своих – и продолжали заключать спонсорские контракты по рекламе со знаменитыми спортсменами на суммы, которые мы были не в состоянии выплачивать.
В то же самое время Пре ставил все новые американские рекорды, будучи экипирован в наши «найки», а лучший в мире теннисист громил в них же своих противников. Звали его Джимми Коннорс, и его самым большим поклонником был Джефф Джонсон. Коннорс, сказал мне Джонсон, был теннисной копией бегуна Пре. Мятежной. Иконоборческой. Джонсон настоятельно советовал мне выйти на Коннорса и быстрее подписать с ним спонсорский контракт. Таким образом, летом 1974 года я позвонил агенту Коннорса и дал свое предложение. Мы подписали контракт с Настасе на десять тысяч долларов, сказал я, и мы хотели бы предложить его парню половину этой суммы. Агент ухватился за эту сделку.
Однако перед тем как Коннорс смог бы подписать бумаги, он вылетел в Англию на Уимблдон. Затем, вопреки всему, он выиграл Уимблдон. В наших кроссовках. Далее, он вернулся домой и потряс мир, выиграв Открытый чемпионат США по теннису. У меня голова пошла кругом. Я позвонил агенту и спросил, подписал ли Коннорс бумаги. Мы хотели бы начать рекламную кампанию с ним.
«Какие бумаги?» – спросил агент.
«Э-э, бумаги. Мы же сделку заключили, помните?»
«Ну, не помню я никакой сделки. У нас уже заключена одна сделка, которая в три раза лучше вашей, которую я не помню».
Испытав разочарование, мы все пришли к заключению. Что ж, хорошо. Помимо всего прочего, сказали мы все, у нас по-прежнему есть Пре. Пре будет нашим всегда.
Либо расти, либо умирать
Вначале заплати «Ниссо». Это была моя утренняя напоминаловка, моя молитва на ночь, мой приоритет номер один. И это была моя ежедневная инструкция человеку, который был как Сандэнс Кид для моего Буча Кассиди, – Хэйеса (в американском боевике 1969 года героизируется преступная группировка, которая действительно существовала в конце XIX – начале ХХ века на Диком Западе. Два бандита-грабителя, Буч Кэссиди и Сандэнс Кид, верховодят бандой, при этом Буч – мозговой центр, а Сандэнс – идеальный исполнитель и первоклассный стрелок. – Прим. пер.). Прежде чем возвращать задолженность банку, говорил я, прежде чем возвращать долги кому бы то ни было… заплатите «Ниссо».
Это была не столько стратегия, сколько необходимость. «Ниссо» была для меня как собственный капитал. Наша кредитная линия была открыта в банке на миллион долларов, но у нас был еще один миллион в кредитах от «Ниссо», которая с готовностью заняла второе место, став лицом, обладающим правом удержания активов второй очереди после кредитовавшего меня банка, что дало этому банку возможность почувствовать себя в большей безопасности. Все это, однако, развалится, если «Ниссо» выйдет из игры. Следовательно, мы должны делать все, чтобы «Ниссо» была счастлива. Всегда, всегда платите «Ниссо» в первую очередь.
Непросто это было, однако, платить «Ниссо» в первую очередь. Нелегко платить кому бы то ни было. Рост наших активов и имущества носил взрывной характер, и наши денежные резервы испытывали колоссальную нагрузку. Для любой растущей компании – это типичная проблема. Но наш рост был быстрее, чем рост типичной растущей компании, быстрее роста любой растущей компании из всех, мне известных. Наши проблемы были беспрецедентны. Или казались таковыми.
Разумеется, частично в этом была и моя вина. Я отказался даже рассматривать вариант с заказом меньшего объема товара. Либо расти, либо умирать – вот во что я верил вне зависимости от ситуации. Зачем сокращать ваш заказ с трех миллионов долларов до двух миллионов, если вы нутром чувствуете, что существует спрос на пять миллионов? Поэтому я постоянно подталкивал своих консервативных банкиров к черте, принуждая их «сыграть в труса»: я заказывал партию обуви, количество которой казалось им абсурдной, количество, для оплаты которого я должен был бы напрячь все свои силы. И я всегда едва успевал за них заплатить, в самую последнюю минуту, а уже затем оплачивал другие наши месячные счета, тоже в последнюю минуту, каждый раз платя ровно столько, сколько было достаточным, не более, чтобы не получить от банкиров пинка под зад. А затем в конце месяца я опустошал наши счета, чтобы рассчитаться с «Ниссо», и вновь начинал все с нуля.
Для большинства наблюдателей это показалось бы наглым, безрассудным и опасным способом ведения бизнеса, но я всегда верил, что спрос на нашу обувь всегда опережал объемы наших ежегодных продаж. Кроме того, восемь из каждых десяти заказов были чистым золотом, гарантированным благодаря нашей фьючерсной программе. Так что полный вперед.
Кто-то мог возразить, доказывая, что нам нечего опасаться «Ниссо». Компания была нашей союзницей, в конце концов. Мы делали им деньги, насколько они могли свихнуться? Кроме того, у меня сложились прочные личные отношения с Сумераги.
Но неожиданно, в 1975 году, Сумераги более не был у руля. Наш счет стал слишком большим для него; вопросы, связанные с нашей кредитной линией, более не решались только одним его звонком. Теперь нами занимался менеджер по кредитной политике на Западном побережье США Чио Сузуки, который базировался в Лос-Анджелесе, а еще непосредственнее – финансовый менеджер представительства в Портленде Тадаюки Ито.
Если Сумераги отличался в общении теплотой и доступностью, Ито отгораживался врожденной завесой отчужденности. Казалось, что свет отражается от него как-то иначе. Нет, скорее свет вообще не отражался от него. Он поглощал его, как черная дыра. Сумераги нравился всем в «Блю Риббон» – мы приглашали его на все офисные вечеринки. Думаю, мы никогда не приглашали на них Ито.
Мысленно я называл его Человеком-ледышкой.
Я по-прежнему испытывал трудности, встречаясь взглядом с кем-либо, однако Ито не позволял мне отводить взгляд от его глаз. Он смотрел мне в глаза, проникая в самую душу, и это было как гипноз. Особенно тогда, когда он чувствовал, что в чем-то одерживает верх. Что почти всегда и случалось. Раз или два я играл с ним в гольф, и я был поражен тем, как он даже после неудачного удара клюшкой повернулся и посмотрел прямо на меня, отходя от колышка для мяча. Хорошим гольфистом он не был, но был настолько самонадеянным, самоуверенным, что всегда оставлял впечатление, будто его мяч пролетел 350 ярдов и приземлился на пучок травы в самом центре основной зоны.
И вот об этом, в частности, я тоже помню. Его экипировка для гольфа, как и его деловой костюм, была тщательно подобрана. Моя, разумеется, была далека от этого. Во время одного из матчей погода была прохладной, и я надел мохнатый свитер из мохера. Когда я подошел к первому колышку, Ито негромко спросил меня, не собираюсь ли я потом покататься на лыжах. Я остановился, обернувшись. Он одарил меня полуулыбкой. Это был первый раз, когда, насколько я знаю, Человек-ледышка попробовал пошутить. И последний.
И вот такого человека мне надо было поддерживать в счастливом расположении духа. Непросто это будет сделать. Но я подумал: всегда делай все, что хорошо в его глазах, и кредитная линия будет увеличиваться, что позволит расширяться и «Блю Риббон». Будь у него в фаворе, и все будет хорошо. Иначе…
Моя одержимость по поводу того, чтобы создать условия, при которых «Ниссо» будет довольна, чтобы Ито оставался счастливым, наряду с моим отказом снизить темпы роста, создали бешеную атмосферу в офисе. Мы боролись за то, чтобы делать все платежи – в Банк Калифорнии, всем другим нашим кредиторам, но платеж, причитающийся «Ниссо» в конце каждого месяца, можно было сравнить с выходом камней из почек. Как только мы пытались совместными усилиями наскрести имеющуюся наличность, выписывая чеки под завязку, мы покрывались потом. Иногда платежи в адрес «Ниссо» были такими огромными, что в течение последующих суток или двух мы оказывались полностью на мели. Тогда всем остальным кредиторам приходилось ждать.
К несчастью для них, говорил я Хэйесу.
Знаю, знаю, говорил он. Оплатим «Ниссо» в первую очередь.
Хэйесу не нравилось такое положение вещей. Это плохо сказывалось на его нервной системе. «Ну и что ты собираешься делать, – спрашивал я его, – притормозить?» Вслед за чем всегда появлялась виноватая улыбка. Глупый вопрос.
Иногда, когда наши запасы наличности действительно вконец истощались, наш счет в банке оказывался не просто пустым – появлялось дебетовое сальдо. Тогда мне с Хэйесом приходилось идти в банк и разъяснять ситуацию Холланду. Мы показывали ему наши финансовые отчеты, указывали, что объемы наших продаж удваивались, что товар со складов буквально разлетается как горячие пирожки. «Ситуация» с нашим денежным потоком, говорили мы, носит лишь временный характер.
Разумеется, мы понимали, что жить на «флоуте» (жить на овердрафте, выписывая чеки на отсутствующие на счетах суммы. – Прим. пер.) не годится. Но мы всегда говорили себе: это временно. Кроме того, все так делали. Некоторые крупнейшие компании в Америке жили на «флоуте». Сами банки жили на «флоуте» (деньгах, образовавшихся в результате задержки с обработкой чеков, например в случае, когда один счет кредитуется до того, как счет банка, предоставляющего кредит, был дебетован. – Прим. пер.). Холланд это тоже подтверждал. «Конечно, ребята, я понимаю», – говорил он, кивая. До тех пор, пока мы были с ним откровенны, до тех пор, пока мы оставались для него прозрачными, он мог работать с нами.
А затем настал роковой черный день. В среду после полудня. Весной 1975 года. Я с Хэйесом обнаружил, что мы смотрим в бездну. Мы задолжали «Ниссо» миллион долларов, наш первый в жизни платеж в размере одного миллиона долларов, и большой привет! – нигде рядом с нами миллиона долларов не оказалось. До этой суммы нам не хватало около 75 тысяч долларов.
Помню, как мы сидели в офисе, наблюдая, как капли дождя сбегали наперегонки по оконному стеклу. Время от времени мы просматривали бухгалтерские книги, проклинали цифры, а затем вновь начинали следить за каплями дождя.
«Нам надо заплатить «Ниссо», – сказал я тихо.
«Да, да, да, – согласился Хэйес, – но как обеспечить чек на такую громадную сумму? Нам придется выжать все другие банковские счета до последней капли. Все. Насухо».
«Да».
У нас были магазины, которые торговали в розницу в Беркли, Лос-Анджелесе, Портленде, Новой Англии, и у каждого из них были свои банковские счета. Нам придется опустошить все из них, перебросить все деньги с них на счет нашей штаб-квартиры на день-два или три. А также все до последнего цента с фабрики Джонсона в Эксетере. Нам придется задержать дыхание, как делают, проходя мимо кладбища, до тех пор, пока мы сможем вновь пополнить эти счета. И все равно, возможно, нам не удастся собрать достаточно, чтобы выписать этот громадный чек для «Ниссо». Нам все равно потребуется немного везения, один или два платежа от любого из многих наших розничных продавцов, задолжавших нам.
«Круговое финансирование», – сказал Хэйес.
«Банковская магия», – сказал я.
«Сукин ты сын, – сказал Хэйес, – если ты взглянешь на наш денежный поток на ближайшие полгода, то увидишь, что мы в полном порядке. Это лишь этот единственный платеж «Ниссо», который все нам портит».
«Да, – сказал я, – если нам удастся провести этот платеж, мы будем в полном ажуре».
«Но это еще тот платеж».
«Наши чеки, выписываемые на «Ниссо», всегда имели покрытие в течение одного-двух дней. Но в этот раз это может занять у нас сколько? Три? Четыре дня?»
«Я не знаю, – ответил Хэйес. – Честно, я не знаю».
Я проследил взглядом, как две капельки наперегонки стекают по стеклу. Ноздря в ноздрю. Вас запоминают по тем правилам, которые вы нарушили. «Плевать на торпеды! – сказал я. – Заплатите «Ниссо». (Выражение «Плевать на торпеды!» взято из истории Гражданской войны в США. В то время, конечно, торпед в современном понимании не было, так назывались мины. Контр-адмирал Фэррагат, возглавляя атаку северян в 1864 году, в сражении за контроль над заливом Мобил, невзирая на опасность подрыва на минах, скомандовал: «Плевать на торпеды! Полный вперед!» Через два года стал командующим флотом США. – Прим. пер.)
ДЖИММИ КОННОРС ВЫИГРАЛ УИМБЛДОН. В НАШИХ КРОССОВКАХ.
Хэйес кивнул. Он встал. Мы взглянули друг на друга, задержав взгляд на какую-то секунду, которая показалась бесконечной. Он сказал, что сообщит Кэрол Филдс, нашему главному бухгалтеру, о том, что мы решили. Он распорядится, чтобы она начала перевод денег со всех счетов. А к пятнице он проследит, чтобы она выписала чек «Ниссо». Вот какие моменты бывают, думал я.
Два дня спустя Джонсон сидел в своем новом офисе на фабрике в Эесетере, работая с документами, когда у его двери собралась толпа разгневанных рабочих. Их чеки на зарплату в банке отказались обналичить, сказали они. Они требовали ответа.
У Джонсона, естественно, не было никаких ответов. Он умолял их подождать, говоря, что, должно быть, произошла какая-то ошибка. Он позвонил в Орегон, нашел Филдс и рассказал ей, что случилось. Он ожидал услышать от нее, что все это – большое недоразумение, бухгалтерская ошибка. Вместо этого она прошептала: «О-о-о, блин!» И бросила трубку, прервав разговор.
Офис Филдс отделяла от моего кабинета перегородка. Филдс обежала ее вокруг и подскочила к моему столу. «Вам лучше присесть», – выпалила она.
«Я уже сижу».
«Все это пахнет жареным», – сказала она.
«Что пахнет?»
«Чеки. Все чеки».
Я вызвал к себе Хэйеса. К тому времени он весил 330 фунтов (150 кг. – Прим. пер.), но казалось, вся его фигура стала сжиматься, как шагреневая кожа, по мере того как Филдс передавала детали своего телефонного разговора с Джонсоном. «Мы, наверное, действительно накосячили в этот раз», – сказал он. «Что нам делать?» – спросил я. «Я позвоню Холланду», – ответил Хэйес.
Спустя несколько минут Хэйес вернулся в мой кабинет, поднимая руки: «Холланд сказал, что все в порядке, не стоит беспокоиться, он сгладит все острые углы, переговорив со своими боссами».
Я вздохнул с облегчением. Беда предотвращена.
Между тем, однако, Джонсон не терял времени в ожидании того, что мы перезвоним. Он позвонил в местное отделение банка и выяснил, что его счет, по какой-то причине, опустошен до дна. Он вызвал к себе Джампьетро, который после этого съездил к старому другу, жившему на той же улице и владевшему местной компанией по производству коробок. Джампьетро попросил его взаймы пять тысяч долларов, наличными. Скандальная просьба. Но выживание компании этого человека по производству коробок зависело от «Блю Риббон». Если мы прогорим, картонажная компания, возможно, тоже лопнет. Так человек, выпускавший коробки, стал нашим «бэгменом» (в американском сленге – тот, кто распределяет своеобразный фонд взаимопомощи (общак, «котел») в среде преступного сообщества. – Прим. пер.), раскошелившимся на пятьдесят хрустящих стодолларовых купюр.
Джампьетро после этого поспешил обратно на фабрику и выдал каждому рабочему зарплату наличными, поступив как Джимми Стюарт в роли Джорджа Бейли (из фильма «Эта прекрасная жизнь». – Прим. пер.), который помог остаться на плаву фирме «Бейли Бразерс билдинг энд Лоун».
Хэйес ввалился в мой кабинет: «Холланд говорит, что нам надо ноги в руки и быстро в банк. Пулей!»
Все, что помню, это – через какое-то мгновение мы оказались в банке Калифорнии, сидя в комнате для переговоров. С одной стороны стола восседал Холланд с двумя безымянными субъектами в костюмах. Они выглядели как сотрудники из похоронного бюро. По другую сторону расположились Хэйес и я. Холланд с мрачным видом взял слово: «Господа…»
Плохо, подумал я. «Господа? – переспросил я. – Господа? Перри, это ж мы».
«Господа, мы решили, что нашему банку не стоит больше обслуживать ваш бизнес».
Мы с Хэйесом вылупили глаза.
«Означает ли это, что вы нас выбрасываете?» – спросил Хэйес.
«Да, это действительно так», – отвечал Холланд.
«Вы не можете этого сделать», – возразил Хэйес.
«Еще как можем, и мы это делаем, – сказал Холланд. – Мы замораживаем ваши фонды, и мы больше не будем оплачивать чеки, выписываемые на ваш депозит».
«Замораживаете наши!.. Я не могу этому поверить», – воскликнул Хэйес.
«Лучше поверьте», – сказал Холланд.
Я ничего не сказал. Я обхватил себя руками и задумался. Это нехорошо, это нехорошо, это нехорошо.
Не обращая внимания на весь этот позор, перебранку, каскад дурных последствий того, что Холланд вышвырнул нас, все, о чем я был в состоянии думать, была «Ниссо». Как там отреагируют. Как отреагирует Ито? Я представлял себе, как сообщаю Человеку-ледышке, что мы не можем вернуть ему его миллион долларов. Эта леденящая мысль сковывала меня до мозга костей.
Я не помню завершения нашей встречи. Не помню, как мы покинули здание банка, как выходили из него, переходили на противоположную сторону улицы, как потом вошли в лифт, как поднялись в нем на верхний этаж. Помню лишь, как меня трясло, жестоко трясло, когда я попросил о возможности переговорить с мистером Ито.
Следующее, что я помню, это то, как Ито и Сумераги ввели меня с Хэйесом в конференц-зал. Они видели, что ноги под нами подкашивались. Они усадили нас в кресла, и, пока я говорил, они смотрели перед собой в пол. Кей. Глубокое чувство кей. «Итак, – сказал я. – У меня плохие новости. Наш банк… вышвырнул нас».
Ито поднял глаза. «Почему?» – спросил он.
Взор его окаменел. Однако голос оставался на удивление мягким. Я вспомнил, как дул ветер на вершине Фудзиямы. Вспомнил нежное дуновение, от которого колыхались листья гинкго в саду Мэйдзи. Я сказал: «Мистер Ито, вам известно, как крупные торговые компании и банки живут на «флоуте»? О’кей, мы в «Блю Риббон» тоже пытались время от времени делать то же самое, в том числе пробовали сделать это и в прошлом месяце. И вся загвоздка в том, что мы опоздали со своим «флоутом» (сроком между предъявлением чека в банк и его оплатой, то есть фактическим списанием денег со счета. – Прим. пер.). А теперь Банк Калифорнии решил вытолкнуть нас на улицу».
Сумераги закурил «Лаки Страйк». Пустил клубок дыма. Потом другой.
Ито сделал то же самое. Одно облачко дыма. Затем другое. Но на выдохе. Похоже, дым изо рта у него не выходил. Казалось, он исходит откуда-то из самой глубины его тела, клубясь и вылетая из-под его манжет и воротника рубашки. Он взглянул мне в глаза. Просверлил меня взглядом. «Они не должны были так поступить», – сказал он.
Сердце мое замерло. Это было очень сочувственное заявление со стороны Ито. Я взглянул на Хэйеса. Потом опять на Ито. И допустил мысль, что, может, нам… удастся… все-таки выкарабкаться.
А потом я понял, что еще не сказал им худшее. «Как бы там ни было, – сказал я, – они все же выбросили нас, мистер Ито, они сделали это, и в сухом остатке – у меня нет банка. И, соответственно, нет денег. А мне нужно рассчитаться с рабочими по зарплате. И надо расплатиться с другими кредиторами. И если я окажусь не в состоянии выполнить свои обязательства, я потеряю свой бизнес. Сегодня же. В таком случае я не только не могу вернуть вам миллион долларов, который должен вам, сэр… но я вынужден просить вас дать мне взаймы еще один миллион долларов».
Ито и Сумераги скосили глаза друг на друга буквально на полсекунды, а затем вновь уставились на меня. Все в комнате замерло. Пылинки, молекулы воздуха замерли в пространстве. «Мистер Найт, – сказал Ито, – перед тем как давать вам еще хотя бы цент… мне необходимо взглянуть на ваши бухгалтерские книги».
Когда я вернулся домой из офиса «Ниссо», было 9 часов вечера. Пенни сообщила, что звонил Холланд.
«Холланд?» – переспросил я.
«Да, – подтвердила она. – Он распорядился, чтобы ты перезвонил ему, когда бы ты ни вернулся домой. Он оставил свой домашний номер».
Он ответил после первого же звонка. Его голос звучал… расслабленно. Раньше, днем, он держался жестко, выполняя приказы своих боссов, но теперь больше походил на человека. Грустного, нервного человека. «Фил, – сказал он, – я полагал, что должен тебе сказать… мы были вынуждены известить ФБР». Я крепче сжал трубку. «Повтори-ка, – прошептал я. – Повтори, что ты сказал, Перри».
«У нас не было выбора».
«О чем ты мне говоришь?»
«Дело в том, что… э-э… нам кажется, это похоже на мошенничество».
Я пошел на кухню и упал на стул. «Что случилось?» – спросила Пенни.
Я рассказал ей. Банкротство, скандал, разорение – мы попали в переплет.
«Неужели нет надежды?» – спросила она.
«Все в руках «Ниссо».
«Тома Сумераги?»
«И его боссов».
«Тогда нет проблем. Сумераги любит тебя».
Она встала. У нее была вера. Она была совершенно готова ко всему, что бы ни случилось. Она даже смогла заснуть. Но не я. Я всю ночь просидел, проигрывая сотню разных сценариев, бичуя себя за то, что пошел на такой риск.
Когда я в конце концов дополз до постели, мысли продолжали роиться у меня в голове. Лежа в темноте, я все думал и думал. Окажусь ли я в тюрьме?
Я? В тюрьме?
Я поднялся, налил себе стакан воды, проверил, как спят мальчишки. Оба растянулись на животиках, в полной отключке от мира. Что они будут делать? Что с ними будет? Потом пошел к себе в рабочий уголок и стал рыться в информации о законодательстве, касающемся освобождения домашнего имущества от взыскания по долгам. Я с облегчением узнал, что федералы не отберут у нас дом. Они могут взять все остальное, но не это маленькое убежище площадью в 1600 квадратных футов (около 150 квадратных метров. – Прим. пер.).
Я вздохнул, но чувство облегчения было недолгим. Я начал думать о своей жизни. Я прокручивал в памяти свои годы, подвергая сомнению каждое принятое когда-либо мною решение, которое привело к таким результатам. Все могло быть иначе.
Я попытался пройтись по своему стандартному катехизису. Что ты знаешь? Но я ничего не знал. Сидя в своем кресле, мне захотелось крикнуть: «Я ничего не знаю!»
У меня всегда имелся ответ, какой-то ответ, на любую проблему. Однако в тот раз, в ту ночь, ответов у меня не было. Я встал, нашел свой желтый блокнот, начал составлять списки. Но мысли мои блуждали; когда я посмотрел в блокнот, то увидел там только закорючки, каракули, похожие на молнии.
В зловещем сиянии луны все они выглядели как озлобленные, отказывающиеся повиноваться «свуши».
Не спи хотя бы ночь одну. Тобой желаемое страстно само к тебе придет.
Мне все же удалось забыться сном на час или два, а большую часть туманного субботнего утра я провел, сидя на телефоне, обращаясь к людям за советом. Все в один голос заявляли, что понедельник будет критическим днем. Возможно, самым критическим в моей жизни. Мне придется действовать стремительно и смело. Поэтому, для того чтобы подготовиться, я созвал совещание в воскресенье после полудня.
Мы все собрались в конференц-зале «Блю Риббон». Среди присутствовавших были Вуделл, которому, видимо, пришлось вылетать из Бостона первым рейсом, Хэйес, Штрассер и Кейл, прилетевший из Лос-Анджелеса. Кто-то принес пончики. Кто-то – пиццу. Еще кто-то позвонил Джонсону и включил громную связь. Вначале настроение в зале было мрачное, поскольку таким было и мое настроение. Но когда я почувствовал рядом с собой друзей, мою команду, мне стало лучше, и, поскольку полегчало мне, отлегло и у них.
Мы проговорили до самого вечера, и если мы и договорились до чего-то, так это до общего согласия в том, что легкого решения у нас не предвидится. Такого обычно не бывает, когда направляется уведомление в ФБР. Или когда вас второй раз за последние пять лет выбрасывают из вашего банка.
Ближе к концу совещания настроение вновь сменилось. Воздух в комнате стал спертым, тяжелым. Пицца была похожа на отраву. Сформировался консенсус. Разрешение кризиса, каким бы оно ни оказалось, находится в руках других людей.
И из всех этих «других» «Ниссо» оставалась нашей главной надеждой.
Мы обсудили нашу тактику на утро предстоящего понедельника. На то время, когда должны были прибыть представители «Ниссо». Ито и Сумераги собирались тщательно просмотреть наши бухгалтерские книги, и пока трудно было сказать, какое решение они вынесут о том, как мы распоряжались нашими финансовыми средствами. Одно было предопределено с большой долей уверенности: они сразу увидят, что мы использовали значительную часть их средств не для закупки обуви за рубежом, а для организации производства на секретной фабрике в Эксетере. В лучшем случае это приведет их в бешенство. В худшем – они свихнутся. Если они сочтут наш бухгалтерский мухлеж законченным предательством, они отвернутся от нас быстрее, чем банк, и в таком случае мы лишимся бизнеса. Просто, как дважды два.
Мы говорили о том, чтобы спрятать от них фабрику. Но все, кто сидел за столом, заявили, что в этом вопросе надо действовать в открытую. Как и на судебном процессе по иску к «Оницуке», полное раскрытие, полная прозрачность – единственно верный путь. Это имело смысл и стратегически, и морально.
На протяжении всего совещания телефоны звонили не переставая. Кредиторы со всей страны, от побережья до побережья, пытались выяснить, что происходит, почему наши чеки возвращались банками без оплаты и отлетали от них, как мячи во время Супербоула. Особенно два кредитора были в ярости. Одного звали Биллом Шески – глава компании «Бостонская обувь». Мы задолжали ему кругленькую сумму в полмиллиона долларов, и он хотел уведомить нас в том, что садится на самолет и летит в Орегон, чтобы вернуть деньги. Вторым был Билл Манович, руководитель компании «Мано Интернэшнл», торговой компании в Нью-Йорке. Ему мы задолжали сто тысяч долларов, и он тоже летел в Орегон, чтобы заставить нас раскрыть карты и забрать свои деньги.
После завершения совещания последним уходил я. Подъехав в одиночку к своему дому, я, шатаясь, вышел из машины. За всю свою жизнь я много раз заканчивал забеги с болью в ногах, с травмированными коленями, с нулевой энергией, но в ту ночь я совершенно не был уверен, хватит ли у меня сил доехать до дома.
Ито и Сумераги прибыли вовремя. В понедельник утром, ровно в 9.00, они подъехали к зданию. На каждом был темный костюм с темным галстуком, у каждого в руках был черный портфель. Я вспомнил все фильмы, виденные мною про самураев, все книги, прочитанные мною про ниндзя. Вот как все всегда выглядело перед ритуальным убийством плохого сёгуна.
Они прошли прямо через наш вестибюль, вошли в конференц-зал и заняли свои места. Без лишних слов мы выложили перед ними свои бухгалтерские книги. Сумераги прикурил, Ито снял колпачок со своей авторучки. Они приступили к изучению. Выстукивая пальцами по калькуляторам, занося записи в свои блокноты, выпивая бездонные чашки кофе и зеленого чая, они медленно, слой за слоем, снимали покров с наших операций и проникали в их сердцевину.
Каждые четверть часа я входил и выходил, спрашивая, не нужно ли им еще что-то. Они всегда отказывались.
Вскоре прибыл банковский аудитор, чтобы забрать все наши квитанции о получении денежных средств. По почте действительно пришел чек на пятьдесят тысяч долларов от «Юнайтед Спортинг Гудс». Мы показали его ему. Он как раз лежал на столе у Кэрол Филдс. Это был припозднившийся чек, который привел все костяшки домино в движение. Этот чек плюс обычные ежедневные приходные квитанции покрывали наш недостаток. Банковский аудитор позвонил в «Юнайтед Спортинг Гудс» в Лос-Анджелесе, чтобы деньги со счета были сняты немедленно и переведены на счет в банке Калифорнии. Банк в Лос-Анджелесе ответил отказом. На расчетном счету «Юнайтед Спортинг Гудс» было недостаточно средств.
«Юнайтед Спортинг Гудс» тоже заигралась с «флоутом» (т. е. подсела на «овердрафт». – Прим. пер.).
Уже ощущая начинавшуюся мучительную головную боль, я вернулся в конференц-зал. Я учуял это в воздухе. Мы подошли к роковому моменту. Склонившись над книгами бухучета, Ито вдруг осознал, что раскрылось перед его глазами. Он отпрянул, а затем вновь впился глазами в документы. Эксетер. Секретная фабрика. Затем я увидел, как в нем растет осознание того, что его провели, как сосунка, и что он за все это заплатил.
Он поднял глаза и посмотрел на меня, подавшись вперед, будто спрашивая: это правда?
Я кивнул.
И вслед за этим… он улыбнулся. Это была лишь полуулыбка, похожая на ту, что появилась у него на лице по поводу моего мохерового свитера, но ею все было сказано.
Я ответил ему своей слабой полуулыбкой, и этот мимолетный, бессловесный обмен мимикой решил бесчисленные судьбы и будущее огромного числа людей.
Далеко за полночь Ито и Сумераги все еще оставались там, все еще мудрили над калькуляторами и блокнотами. Когда же они, наконец, уехали, то, прощаясь, обещали вернуться рано утром. Я поехал домой и обнаружил, что Пенни ждала меня и не ложилась спать. Мы расположились на кухне, чтобы поговорить. Я ввел ее в курс последних событий. Мы пришли к выводу, что «Ниссо» закончила свою аудиторскую проверку; еще до обеда они выяснили все, что им надо было узнать. Далее последовало – и еще последует – лишь наказание. «Не позволяй им командовать тобой до такой степени!» – сказала Пенни.
«Ты шутишь? – переспросил я. – Да сейчас они могут командовать мною, как им вздумается. Они – моя единственная надежда».
«Ну, по крайней мере больше сюрпризов не предвидится», – сказала она.
«Да, – отвечал я. – больше уже выявлять нечего».
Ито и Сумераги вернулись на следующее утро в 9.00 и заняли свои места в конференц-зале. Я обошел офис и всем объявил: «Почти все закончилось. Просто подождите. Еще недолго. Больше им нечего искать».
Вскоре после своего прибытия Сумераги встал, потянулся и сделал вид, будто хочет выйти перекурить. Он сделал мне знак. Хочет что-то сказать? Мы прошли по коридору к моему кабинету. «Боюсь, этот аудит хуже, чем вы думаете», – сказал он. «Что… Почему?» – переспросил я. «Потому что, – сказал он, – я задерживал… Иногда я не сразу проводил счета-фактуры». «То есть как?» – спросил я.
Подлец Сумераги объяснил, что он переживал из-за нас и что он пытался помочь нам в решении наших проблем с кредитами, запихивая счета-фактуры подальше в ящик своего стола. Он придерживал их, не проводил их через свою бухгалтерию до тех пор, пока не был уверен, что у нас достаточно наличных средств на оплату, что, в свою очередь, отражалось в бухгалтерских книгах «Ниссо», будто наш размер кредитной задолженности был намного меньше, чем был на самом деле. Другими словами, все то время, когда мы настойчиво стремились вовремя платить «Ниссо», мы никогда вовремя это не делали, потому что Сумераги вовремя не выписывал счета-фактуры, думая, что так помогает нам. «Плохо», – сказал я, обращаясь к Сумераги. «Да, – сказал он, вновь закуривая «Лаки Страйк», – плохо, Бак. Оченно-оченно плёхо».
Я провел его обратно в конференц-зал, и мы вместе все рассказали Ито, который, разумеется, был потрясен. Вначале он заподозрил, что Сумераги действовал, исполняя нашу волю. Я не мог его винить в этом. Преступный сговор был бы самым логичным объяснением. На его месте я именно так и подумал бы. Но Сумераги, который выглядел так, будто был готов упасть ниц перед Ито, жизнью поклялся, что действовал независимо, занялся самоуправством.
«Почему ты пошел на это?» – допытывался Ито.
«Потому что я думаю, что «Блю Риббон» может стать очень успешной, – сказал Сумераги, – возможно, вырастет до 20 миллионов долларов. Я много раз пожимать руки с мистером Стивом Префонтейном. Я пожимать руки с мистером Биллом Бауэрманом. Я ходить много раз на игру «Трэйл Блэйзерс» вместе с мистером Филом Найтом. Я даже упаковывать заказы на складе. «Найк» – мой бизнес-ребенок. Всегда приятно видеть, как растет твой бизнес-ребенок».
«Итак, в таком случае, – сказал Ито, – ты скрывал счета-фактуры, потому что… тебе… нравятся эти люди?» Испытывая глубокий стыд, Сумераги опустил голову. «Хай, – сказал он. – Хай».
Я представить не мог, как поступит Ито. Но я не мог далее оставаться с ними, чтобы узнать это. Неожиданно у меня возникла другая проблема. Оба моих разгневанных кредитора только что приземлились в аэропорту. Шески из «Бостонской обуви» и Манович из «Мано Интернэшнл» уже были на нашей земле, в Портленде, и направлялись к нам.
Я быстро собрал всех в своем кабинете и дал им последние распоряжения. «Ребята, уровень тревоги – красный. Это здание, это сооружение площадью четыре тысячи пятьсот квадратных метров вот-вот до отказа заполнится людьми, которым мы должны деньги. Чем бы мы сегодня не были заняты, мы не можем позволить им столкнуться друг с другом. Плохо уже одно то, что мы им должны. Если их пути пересекутся в вестибюле, если один несчастный кредитор повстречается с другим несчастным кредитором и если у них появится возможность сравнить свои записи, они впадут в бредовое состояние. Они сколотят команду и сойдутся на том, что придумают какой-нибудь совместный график платежей! Что для нас будет означать Армагеддон».
Мы составили план. Мы назначили по человеку к каждому кредитору, чтобы постоянно не спускать с него глаз, сопровождая его даже в туалет. Затем мы назначили человека, чтобы координировать все действия, как авиадиспетчер, отвечающий за предотвращение столкновений самолетов, и гарантировать, что кредиторы со своими сопровождающими постоянно находятся далеко друг от друга. Я тем временем буду сновать из комнаты в комнату, извиняясь с коленопреклонением за временное отсутствие.
Иногда напряжение становилось невыносимым. Иногда все походило на плохой фильм с участием комиков-братьев Маркс. В конце концов каким-то образом это сработало. Ни один из кредиторов не встретился с другими. Оба – и Шески, и Манович – покинули в тот вечер наше здание, чувствуя себя увереннее и даже мурлыкая под нос что-то приятное про «Блю Риббон».
Команда «Ниссо» уехала пару часов после этого. К тому времени Ито признал, что Сумераги действовал в одностороннем порядке, пряча счета-фактуры по собственной инициативе, без моего ведома. И он простил мне мои грехи, включая мою секретную фабрику. «Существуют куда более худшие вещи, – сказал он, – чем амбиции».
Оставалась одна проблема. И это была проблема с большой буквы. Все остальное бледнело в сравнении с ней. ФБР.
На исходе следующего утра я с Хэйесом ехал в центр города. В машине мы почти не разговаривали и почти молча поднимались в лифте в представительство «Ниссо». Мы встретились с Ито в его приемной, и он ничего не сказал. Он поклонился. Мы поклонились. Затем мы втроем спустились в лифте на первый этаж и перешли улицу. Второй раз за неделю я увидел в Ито мифического самурая, умело владеющим послушным мечом, усыпанным драгоценными камнями. Но на этот раз он готовился защищать… меня.
Если б только мог рассчитывать на его защиту, когда меня посадят в тюрьму. Мы вошли в Банк Калифорнии плечом к плечу и обратились с просьбой переговорить с Холландом. Секретарь в приемной сказала, чтобы мы присели.
Прошло пять минут.
Десять.
Вышел Холланд. Он пожал руку Ито. Мне и Хэйесу он кивнул и провел всех в конференц-зал в конце коридора, тот же самый конференц-зал, в котором он несколько дней тому назад нанес решающий удар. Холланд сообщил, что к нам присоединятся мистер такой-то и мистер имярек. Мы все сидели в тишине и ждали, когда когорта Холланда освободится из того потайного места, где ее держали. Наконец они пришли и сели с обеих сторон от него. Никто не был уверен, кому начинать. Это была окончательная партия с высокими ставками. Только тузы или что-то еще лучше.
Ито потер подбородок и решил, что начинать встречу ему. И сразу же пошел в бой. Всеми – гребаными – силами. «Господа, – сказал он, хотя обращался только к Холланду, – насколько я понимаю, вы отказываетесь в дальнейшем обслуживать счет «Блю Риббон»?»
Холланд кивнул: «Да, это так, мистер Ито».
«В таком случае, – сказал Ито, – «Ниссо» хотела бы выплатить долг «Блю Риббон» – полностью».
Глаза у Холланда вылезли из орбит: «Полностью?..»
Ито хмыкнул. Я сердито посмотрел на Холланда. Я хотел сказать: это хмыканье по-японски означает – «Ты что, не расслышал?»
«Да, – сказал Ито. – Какая сумма?»
Холланд написал цифру на своем блокноте и пододвинул его к Ито, который быстро взглянул на то, что там было написано. «Да, – сказал Ито, – это то, что ваши люди уже сказали моим. А поэтому…» Он открыл свой портфель, вытащил из него конверт и толчком послал его через стол к Холланду: «Вот чек на всю сумму».
«Он будет сразу же депонирован завтра утром», – сказал тот.
«Он будет немедленно депонирован сегодня же», – сказал Ито.
Холланд, заикаясь, произнес: «О’кей, хорошо, сегодня».
Его когорта выглядела растерянно, в их глазах был ужас.
Ито развернулся в своем кресле, обвел их всех невидящим взглядом.
«Есть еще кое-что, – сказал он. – Как я понимаю, ваш банк ведет переговоры в Сан-Франциско о том, чтобы стать одним из банков «Ниссо»?»
«Это так», – отвечал Холланд.
«Ага. Должен вам сказать, что будет пустой тратой времени продолжать эти переговоры дальше».
«Вы уверены?» – спросил Холланд.
«Абсолютно».
Грядет Человек-ледышка.
Я скосил глаза на Хэйеса. Попробовал сдержать улыбку. Изо всех сил. Не смог.
Затем посмотрел вправо от себя, на Холланда. Все можно было прочитать в его немигающих глазах. Он понимал, что банковские офицеры переусердствовали. Я видел в тот момент, что никакого расследования ФБР не будет. Он и его банк хотели, чтобы это дело было закрыто, ушло в прошлое, чтобы с ним было покончено. Они подло обошлись с хорошим клиентом, и они не хотели бы отвечать за свои действия.
Мы уже никогда вновь не услышим ни о них, ни о нем. Я посмотрел на манекены, сидящие по обе стороны от Холланда. «Господа, – сказал я, вставая. – Господа». Иногда на языке бизнеса это слово означает: засуньте ваше ФБР себе знаете куда.
Когда все мы вышли из банка, я поклонился Ито. Я хотел поцеловать его, но я только поклонился. Хэйес тоже поклонился, хотя на мгновение мне показалось, что он нырнет носом вперед от стресса, пережитого в течение этих последних трех дней. «Спасибо, – сказал я Ито. – Вы никогда не пожалеете о том, что защитили нас сегодня».
Он поправил свой галстук. «Такая глупость», – сказал он.
Вначале я подумал, что он имеет в виду меня. Затем я понял, что он говорил о банке. «Не люблю глупость, – сказал он. – Люди придают слишком большое значение цифрам».
Часть вторая
Ни одной великой идеи не родилось в конференц-зале, – заверил он датчанина. – Но масса глупых идей там скончалась, – сказал Стар.
Ф. Скотт Фицджеральд, «Последний магнат»Пре
Никакой вечеринки в честь победы не было. Не было победного танца. Не было даже быстрой победной джиги в коридорах. Времени на это не было. У нас по-прежнему не было банка, а банк нужен любой компании.
Хэйес составил список банков в Орегоне с крупнейшими депозитами. Все они были намного меньше, чем «Первый национальный» или Банк Калифорнии, но… что поделаешь? Бедному да вору – всё в пору.
Первые шесть повесили трубки нам на нос. Седьмой, «Ферст стейт бэнк оф Орегон», этого делать не стал. Он находился в Милуоки, небольшом городке, в получасе езды от Бивертона. «Приезжайте», – сказал президент банка, когда я наконец дозвонился до него. Он пообещал мне кредит в миллион долларов, что почти равнялось объему резервов его банка.
Мы перевели наш счет в тот же день. В ту ночь я впервые за последние две недели приложил голову к подушке и смог заснуть.
На следующее утро я засиделся с Пенни за завтраком, обсуждая предстоящие выходные перед Днем поминовения (Никсон объявил в 1971 году День поминовения федеральным праздником. Поминают американцы в этот день не только погибших в войнах, но и всех близких – с заупокойными службами и посещением кладбищ. Отмечается в последний понедельник мая, поскольку в воскресенье, особенно среди верующих, на кладбище ходить не принято. В воскресенье ходят в храм. После Дня поминовения начинается период отпусков. – Прим. пер.). Я сказал ей, что не припомню, когда я жаждал отдыха сильнее. Мне нужна была передышка, нужно было отоспаться и вновь начать хорошо питаться. И еще мне надо было посмотреть, как бегает Пре. Она криво усмехнулась: «Всегда ты мешаешь бизнес с удовольствием».
Виноват.
В те выходные Пре был организатором соревнований в Юджине и пригласил для участия в них лучших бегунов мира, включая своего финского заклятого соперника Вирена. Хотя Вирен в последнюю минуту отказался, все равно собралась группа удивительных легкоатлетов, в том числе наш дерзкий марафонец Фрэнк Шортер, завоевавший золото на Играх 1972 года в Мюнхене, в городе, где он родился. Упорный, умный, ставший теперь адвокатом и поселившийся в Колорадо, Шортер стал завоевывать такую же известность, как и Пре, и они оба были добрыми друзьями. Втайне я подумывал заключить с Шортером спонсорский контракт.
В пятницу вечером мы с Пенни прибыли в Юджин и заняли свои места среди семи тысяч ревущих и беснующихся болельщиков Пре. Забег на 5000 метров был коварным, яростным, и Пре был не в лучшей своей форме, это видели все. Шортер вел забег, оставался последний круг. Но в самый последний момент, на последних двухстах ярдах, Пре сделал то, что делал всегда. Он напряг все свои жилы. Стадион имени Хэйварда вибрировал и ходил ходуном, когда он вырвался вперед и победил со временем 13 минут 23,8 секунды, что было на 1,6 секунды быстрее его лучшего показателя.
Самым известным высказыванием Пре было: «Кто-то сможет победить меня – но для этого им придется кровью изойти». Наблюдая за его бегом в тот последний уикэнд мая 1975 года, я как никогда, восхищался им и никогда не отождествлял себя с ним теснее. Кто-то, возможно, победит меня, говорил я себе, какой-нибудь банкир, кредитор или конкурент, возможно, остановит меня, но, Богом клянусь, им для этого придется кровью изойти.
После забегов в доме Холлистера состоялась заключительная вечеринка. Мы с Пенни хотели пойти на нее, но нам предстояла двухчасовая поездка обратно в Портленд. Дети, дети, оправдывались мы, прощаясь с Пре, Шортером и Холлистером.
На следующее утро, буквально перед рассветом, зазвонил телефон. Я нащупал его в темноте: «Слушаю?»
«Бак, ты?»
«Кто это?»
«Бак, это Эд Кэмпбелл… из Банка Калифорнии».
«Банк Кали?..»
Звонить мне посреди ночи? Наверное, мне кошмар снится. «Будь я проклят, мы с вашим банком больше не имеем дел – вы нас вышвырнули».
Он звонил не по деньгам. Он звонил, как он сказал, потому что он услышал, что погиб Пре.
«Погиб? Это невозможно. Мы только что видели его во время забега. Вчера вечером».
Погиб. Кэмпбелл продолжал повторять это слово, бил им меня как дубиной. Погиб, погиб, погиб. Какой-то несчастный случай, бормотал он.
«Бак, ты меня слушаешь? Бак?»
Я нащупал выключатель, чтобы зажечь свет. Набрал номер Холлистера. Его реакция была точно такой же, как у меня.
Нет, этого быть не может. «Пре только что был здесь, – сказал он. – Он ушел в прекрасном настроении. Я перезвоню».
Когда через несколько минут он перезвонил, голос его прерывался от рыданий.
Все, что кто-либо мог сказать, сводилось к тому, что Пре повез с вечеринки Шортера домой, а спустя несколько минут после того, как высадил его, поехал дальше и на шоссе потерял управление. Его красивая светло-коричневая «Эм-джи», купленная на первые деньги, заработанные им в «Блю Риббон», налетела на какой-то валун у дороги. Машину подбросило в воздух, а Пре выбросило из нее. Он упал на спину, и «Эм-джи» обрушилась ему на грудь.
На вечеринке он выпил кружку или две пива, но все, кто видел, как он выходил из дома, клялись, что он был трезв.
Ему было двадцать четыре года. Ровно столько же, сколько было мне, когда я вылетел с Картером на Гавайи. Другими словами, когда моя жизнь только начиналась. В возрасте двадцати четырех лет я еще не знал, кто я, а Пре не только знал, кем он был, весь мир это уже знал. Он скончался, когда не был побит ни один из его американских рекордов в беге на длинные дистанции – от 2000 до 10 000 метров, от двух до шести миль. Разумеется, удерживал он не только рекорды. Он удерживал, захватил наше воображение, приковал нас к себе и теперь уже никогда не отпустит.
В своем панегирике Бауэрман, разумеется, говорил о спортивных достижениях Пре, но настаивал, что жизнь Пре и его легенда были пронизаны более значительными и высокими устремлениями. Да, сказал Бауэрман, Пре был полон решимости стать лучшим бегуном в мире, но хотел добиться куда большего. Он хотел разорвать цепи, опутывавшие всех бегунов, – цепи, навязанные им мелкими бюрократами и скупердяями-счетоводами. Он хотел уничтожить дурацкие правила, сдерживающие спортсменов-любителей и обрекающие их на нищенское существование, не позволяющие им реализовать свои потенциальные возможности. Когда Бауэрман закончил свою речь, когда он сошел с возвышения, я подумал, что выглядел он постаревшим, почти дряблым. Наблюдая, как он неуверенными шагами возвращался на свое место, я не мог понять, как ему удалось найти в себе силы, чтобы высказать все это.
Я с Пенни не поехал вслед за кортежем на кладбище. Мы не могли. Мы были на грани нервного срыва. Не поговорили мы и с Бауэрманом, и я не помню, касался ли в дальнейшем в разговорах с ним смерти Пре. Для всех нас это было невыносимо.
Позже я узнал, что в том месте, где погиб Пре, что-то происходит. Оно превратилось в место поклонения. Люди посещали его ежедневно, приносили цветы, письма, записки, подарки – кроссовки «Найк». Кому-то надо собрать все это, думал я, сохранить где-нибудь в надежном месте. Я вспомнил многие святые места, которые посетил в 1962 году. Кому-то надо было опекать то место, на котором находился злополучный валун, и я решил, что этот кто-то должен быть нами. Денег на что-то такое у нас не было. Но мы переговорили с Джонсоном и Вуделлем и решили, что, пока мы продолжаем заниматься бизнесом, мы найдем для этого деньги.
Клуб «задолицых»
Теперь, когда миновал наш банковский кризис, когда я в достаточной степени был уверен, что не попаду в тюрьму, я мог вернуться к выяснению более глубоких вопросов: что мы тут собираемся создать? Какой компанией хотим мы стать?
Как у большинства компаний, у нас были примеры для подражания. «Сони», к примеру. «Сони» в те дни была, как «Эппл» сегодня. Доходная, инновационная, эффективная – и она хорошо относилась к своим рабочим. Когда ко мне приступали с расспросами, я часто говорил, что хотел бы быть как «Сони». Однако в глубине души все еще метил и надеялся стать чем-то более значительным и… неопределенным.
Я рылся в памяти и душе, и единственное, что мог отыскать, было это слово – «победа». Само по себе это не было чем-то особенным, но значило куда больше, чем возможная альтернатива. Что бы ни случилось, я просто не хотел проигрывать. Проигрыш означал смерть. «Блю Риббон» была моим третьим ребенком, моим бизнес-дитятей, как говорил Сумераги, и я просто не мог вынести даже самой мысли о его смерти. Она должна жить, говорил я себе. Просто должна. Это все, что я знаю.
Несколько раз в течение первых нескольких месяцев 1976 года мы собирались тесным кружком – я, Хэйес, Вуделл и Штрассер, и за бутербродами с газировкой мы обсуждали этот вопрос о конечных целях. Вопрос выигрыша и проигрыша. Деньги не были нашей целью – в этом мы были единодушны. Деньги не рассматривались нами как завершающая фаза нашей деятельности. Но какими бы ни были наша цель или завершение нашей работы, деньги оставались единственным средством для их достижения. И более значительные деньги, чем те, которые были у нас на тот момент.
«Ниссо» кредитовала нас на миллионы, и наши взаимоотношения выглядели устойчивыми, закаленными недавним кризисом. Лучшие партнеры из всех, которые когда-либо будут у тебя. Чак Робинсон был прав. Но для того, чтобы не отставать от спроса, продолжать свой рост, нам требовалось больше миллионов. Наш новый банк ссуживал нам деньги, что было хорошо, но, поскольку он был маленьким банком, мы уже достигли допустимого законом лимита – предельного объема его резервов. В какой-то момент, во время совместных совещаний в 1976 году с участием Вуделля, Штрассера и Хэйеса, мы начали говорить о наиболее логичном арифметическом решении, которое одновременно было наиболее трудным с моральной точки зрения.
Стать публичной акционерной компанией.
С одной стороны, разумеется, идея имела полный смысл. Решение стать публичной компанией сможет генерировать кучу денег в мгновение ока. Но это будет и исключительно рискованным решением, потому что превращение в акционерную компанию часто было чревато утратой контроля. Это будет означать работу на кого-то еще, неожиданную подотчетность акционерам, сотням, а возможно, и тысячам незнакомых людей, многие из которых будут крупными инвестиционными фирмами.
Объявление себя акционерной компанией превратит нас за одну ночь в то, что мы терпеть не могли, в то, от чего бежали, потратив на это свою жизнь. Для меня здесь таилось еще одно соображение семантического характера. Отличаясь застенчивостью, ревностно относясь к своей приватности, я находил само выражение «стать публичной» отталкивающим. Спасибо, не надо.
И все же во время моих вечерних пробежек я иногда задавался вопросом: разве твоя жизнь не была своего рода поиском связи? Бегая на соревнованиях под командой Бауэрмана, путешествуя с рюкзаком за спиной по миру, основывая компанию, женясь на Пенни, сбивая это братство вокруг «Блю Риббон», – разве все это, в той или иной степени, не было связано с «публичностью»?
В конце концов, однако, я решил, мы решили, что будет неправильным превращать нашу компанию в публичную акционерную. Это просто не для нас, сказал я, и мы все сказали. Не пройдет. Никогда.
Совещание было закрыто.
Поэтому мы пустились на поиски иных способов, чтобы найти деньги.
Один из способов сам нашел нас. «Ферст Стейт бэнк» попросил нас подать заявку на кредит в размере одного миллиона долларов под гарантию Управления по делам малого бизнеса США. Это была лазейка, возможность для небольшого банка осторожно увеличить свою кредитную линию, поскольку лимиты их гарантированных займов были больше, чем их лимиты прямых займов. Поэтому мы пошли на это главным образом для того, чтобы облегчить им жизнь.
Как это всегда бывает, процесс оказался сложнее, чем он первоначально показался. «Ферст Стейт бэнк» и Управление по делам малого бизнеса потребовали, чтобы Бауэрман и я, как мажоритарные акционеры, оба лично гарантировали заем. Мы делали это в «Первом национальном» и в Банке Калифорнии, поэтому я не видел в этом проблемы. Я уже был в долгу как в шелку, так что изменится, если я дам еще одну гарантию?
Бауэрман, однако, заартачился. Будучи на пенсии, живя на фиксированный доход, подавленный из-за травм последних нескольких лет и предельно ослабленный смертью Пре, он больше не хотел рисковать. Он боялся потерять свою гору.
Вместо того чтобы дать свою личную гарантию, он предложил отдать мне две трети своей доли в «Блю Риббон» со скидкой. Он выходил из игры.
Я этого не хотел. Дело не в том, что у меня не было денег на то, чтобы выкупить его долю, я не хотел лишиться краеугольного камня своей компании, якоря, на котором крепилась моя психика. Но Бауэрман был непреклонен, и лучше было с ним не спорить. Поэтому мы пошли вместе с ним к Джакуа, чтобы попросить его стать посредником в нашей сделке. Джакуа по-прежнему был лучшим другом Бауэрмана, но я тоже привык считать его близким другом. Я по-прежнему полностью доверял ему.
Давайте не будем полностью разрывать партнерство, сказал я ему. Несмотря на то что я с неохотой согласился приобрести долю Бауэрмана (небольшими платежами, растянутыми на пять лет), я упрашивал его сохранить какой-нибудь процент, оставаться вице-президентом и членом нашего небольшого правления директоров.
Договорились, сказал он. Все мы пожали друг другу руки.
Пока мы были заняты, суетясь вокруг долей и долларов, курс самого доллара истекал кровью. Его неожиданно закрутило в смертельную спираль в сравнении с иеной. В сочетании с ростом ставок заработной платы в Японии это стало самой непосредственной угрозой нашему существованию. Мы расширили и диверсифицировали источники продукции, мы добавили себе новые фабрики в Новой Англии и Пуэрто-Рико, но мы по-прежнему держали почти все наше производство в волатильной Японии, главным образом в «Ниппон Раббер». Замаячила реальная возможность неожиданной, парализующей нехватки поставляемой продукции. Особенно с учетом резкого роста спроса на тренировочные кроссовки с «вафельной» подошвой Бауэрмана.
Со своей уникальной внешней подошвой и мягчайшей амортизацией промежуточной вставки, а также ценой ниже рыночной (24 доллара 95 центов) «вафельные» тренировочные кроссовки продолжали захватывать воображение людей, как ни одна предыдущая модель. Дело было не только в том, что ноги в них чувствовали себя иначе, и не в том, что они иначе облегали ступню, – они выглядели иначе. Радикально отличались. Ярко-красный верх, полненький белый «свуш» – это было революцией в эстетике. Их внешний вид вовлекал сотни тысяч новых клиентов в круг поклонников «Найк», а качественные показатели этих кроссовок цементировали лояльность новой клиентуры. Их сцепление с поверхностью и амортизация были лучше, чем у любой другой спортивной обуви на рынке.
Наблюдая за тем, как эти кроссовки эволюционировали в 1976 году, перейдя из категории популярного второстепенного аксессуара в категорию культурного артефакта, у меня родилась мысль: люди могут начать носить это, идя на учебу.
На работу.
В продовольственный магазин.
Повседневно.
Это была действительно грандиозная идея. «Адидас» добился ограниченного успеха, переделывая спортивную обувь в повседневную, используя в качестве базовых моделей теннисные кроссовки Стэна Смита и кроссовки для бега «Кантри». Ни одна из них не могла сравниться ни по внешнему виду, ни по популярности с «вафельными» тренировочными кроссовками. Поэтому я распорядился, чтобы наши фабрики приступили к выпуску «вафельных» кроссовок голубого цвета, что будет лучше гармонировать с джинсами, и вот когда это действительно понеслось.
Мы не могли угнаться за спросом. Розничные продавцы и торговые представители на коленях умоляли, упрашивали прислать им все «вафельные» кроссовки, которые мы ожидали получить из-за океана. Резкий рост учета проданных пар менял лицо нашей компании, не говоря уже об отрасли в целом.
Мы видели статистические отчеты, которые переформатировали наши долгосрочные цели, поскольку давали нам то, чего нам всегда не хватало, – идентичность. «Найк» – больше, чем бренд, – становился теперь семейным, домашним термином, причем в такой степени, что нам было необходимо изменить и название своей фирмы. «Блю Риббон», решили мы, как название изжила себя. Нам надо было объединиться под названием «Найк, Инк.».
И для того чтобы это предприятие, получившее новое имя, оставалось живым, растущим и способным пережить падение доллара, мы должны были, как всегда, нарастить производство. Торговые представители были на коленях – но это неустойчивое явление. Нам надо будет найти больше производственных центров за пределами Японии. Наши фабрики, существующие в Америке и Пуэрто-Рико, помогут, но их вряд ли будет достаточно. Слишком старые, слишком малочисленные, слишком дорогие. Поэтому осенью 1976 года наконец пришло время повернуться лицом к Тайваню.
В качестве нашего головного дозорного в Тайване я выбрал Джима Гормана, ценного сотрудника, давно известного своей почти фанатичной преданностью «Найку». Выросший в детских домах и сменивший несколько из них, Горман, похоже, нашел в «Найке» семью, которой у него никогда не было, и поэтому он всегда был парнем что надо, всегда командным игроком. К примеру, это был именно Горман, кто выполнил малоприятную задачу отвезти Китами в аэропорт в 1972 году после окончательной разборки в конференц-зале Джакуа. И сделал он это безо всяких жалоб. Это был Горман, который принял на себя магазин в Юджине от Вуделля, что было труднейшим заданием. Это был Горман, который носил еще сырые, недоработанные прототипы шиповок «Найк» во время отборочных турниров перед Олимпийскими играми 1972 года. И в каждом случае Горман проделал замечательную работу и никогда не проявил недовольства. Он казался идеальным кандидатом для выполнения нашей новой «невозможной миссии» – на Тайване. Но прежде мы должны преподать ему ускоренный курс по Азии. Поэтому я запланировал поездку – только для нас двоих.
Во время полета за океан Горман проявил себя как заядлый студент, который впитывал знания как губка. Он выпытывал у меня все, что я накопил в качестве собственного опыта, мое мнение, что я сам читал, а затем записывал каждое мое слово. Я почувствовал, будто вновь оказался преподавателем в Портлендском государственном университете, и мне это понравилось. Я помнил, что лучший способ закрепить свои знания предмета – это поделиться ими, поэтому мы оба выиграли от того, что я вложил в голову Гормана о Японии, Корее, Китае и Тайване.
Обувщики, сказал я ему, покидают Японию в массовом порядке. И все они приземляются в двух местах. В Корее и на Тайване. Обе страны специализируются на дешевой обуви, но Корея остановила свой выбор на том, чтобы развивать производство на нескольких гигантских фабриках, тогда как Тайвань строит сотню небольших предприятий. Вот поэтому мы и выбрали Тайвань: спрос у нас слишком высокий, а наш объем заказов слишком недостаточный для крупных фабрик. И на маленьких фабриках у нас будет доминирующая позиция. Мы будем распоряжаться.
Более сложной задачей, разумеется, было довести уровень качества продукции, выпускаемой на выбранной нами фабрике до более высокого уровня.
Кроме того, сохранялась постоянная угроза политической нестабильности. Я сказал Горману, что совсем недавно умер президент Чан Кай-ши и после двадцати пяти лет пребывания у власти он оставил после себя угрожающий вакуум власти. Для верности вам всегда следует учитывать уходящую в седую древность напряженность в отношениях между Тайванем и Китаем.
Мы все говорили и говорили друг с другом, пересекая в полете просторы Тихого океана. Делая свои подробнейшие заметки, Горман также высказывал новые, свежие идеи, которые позволяли мне глубже понять происходящее и давали пищу для размышлений. Сойдя с самолета в Тайчжуне, на нашей первой остановке, я был в восторге. Этот парень был полон живого интереса, энергии и страстного желания начать работу. Я был горд быть его наставником.
Хороший выбор, сказал я себе.
Однако к тому времени, как мы добрались до гостиницы, энтузиазм Гормана подувял. Сам вид и запахи Тайчжуна делали его похожим на задворки галактики. Огромный мегаполис дымящих фабрик и тысячи людей на квадратный фут, это не было похоже ни на что виденное мною где-либо еще, а я проехал всю Азию, так что, неудивительно, что это так поразило беднягу Гормана. Я увидел в его глазах ту типичную реакцию, которая возникает у человека, впервые посетившего Азию, взгляд отчуждения и боли, когда бьет током при коротком замыкании. Его выражение в точности повторяло выражение на лице Пенни, когда она, прилетев, увидела меня в Японии.
«Успокойся, – сказал я ему. – Постарайся за один раз посещать одну фабрику в день. Следуй за своим наставником».
К концу следующей недели число фабрик, которые мы посетили и осмотрели, перевалило за два десятка. Большинство из них были в плачевном состоянии. Темные, грязные, рутинно исполняющие свои обязанности, с поникшими головами и отсутствующими взглядами пустых глаз. Однако за пределами Тайчжуна, в городке Доулю, мы нашли фабрику, подающую надежду. Она называлась «Фэн Тай» и управлялась молодым человеком, которого звали С. Х. Вонг. Была она маленькой, но чистенькой, от нее исходили позитивные флюиды, как и от самого Вонга, «пса с обувкой в зубах», который жил и дышал своей работой. Которая была для него и стол, и дом. Когда мы заметили маленькую комнатушку, примыкавшую к первому этажу фабрики и как бы выходившую за границы производственного помещения, я спросил, что там находится. «Мой дом, – ответил он. – Там я живу с женой и тремя детьми».
Мне это напомнило Джонсона. Я решил сделать «Фэн Тай» краеугольным камнем наших усилий на Тайване.
Когда мы не совершали поездок по фабрикам, меня с Горманом чествовали владельцы предприятий. Они буквально нафаршировали нас местными деликатесами, некоторые из которых вообще-то были приготовлены поварами, и напоили каким-то напитком под названием «маотай», который на самом деле был майтай (майтай – коктейль на основе рома, изобретенный в Окленде, Калифорния, в 1944 году; маотай известен со времен Цинской империи. – Прим. пер.), только с той разницей, что в него вместо рома была добавлена вакса для чистки обуви. Еще не перестроившись из-за смены часовых поясов, мы с Горманом потеряли свою устойчивость к алкоголю. После двух стаканчиков «маотай» мы с Горманом уже были под кайфом (китайская водка из сорго крепостью от 35 процентов до 53 процентов, изобретенная более 300 лет тому назад, обладает приятным ароматом, в КНР признана национальным и дипломатическим напитком, очень дорогим, им угощают только в особо торжественных случаях, на свадьбах и в праздники. Маотай не обжигает слизистую и горло, не ударяет в голову, не расстраивает желудок, и главное, он кристально чистый, с золотистым оттенком. Чем напоили Фила Найта на Тайване и почему напиток напоминал ему ваксу, остается загадкой, но это был явно не маотай. Перепутать маотай с коктейлем майтай можно только в написании, но не по вкусу. – Прим. пер.). Мы пытались притормозить, но наши хозяева продолжали поднимать тосты.
За «Найк»!
За Америку!
На прощальном обеде, завершавшем наш визит в Тайчжун, Горман, неоднократно извиняясь, выбегал из-за стола в туалет, чтобы освежить лицо холодной водой. Каждый раз, когда он покидал стол, я избавлялся от своей порции «маотай», выливая ее в его бокал с водой. Каждый раз, когда он возвращался из туалета, звучал новый тост, и Горман, полагая, что ему удастся благополучно пропустить очередное возлияние, поднимал свой бокал, якобы наполненный водой.
За наших американских друзей!
За наших тайваньских друзей!
После очередного глотка воды с повышенным содержанием алкоголя Горман бросил на меня панический взгляд. «Боюсь, я сейчас отключусь», – сказал он.
«Выпей еще водички», – сказал я.
«Странный вкус».
«Да не-ет!»
Несмотря на то что я слил свою выпивку в Гормана, я был будто в дурмане, когда добрался до своего номера. У меня возникли проблемы с тем, как забраться в постель. Точнее, проблема в том, как найти ее. Я уснул в тот момент, когда чистил зубы. Уполовинил процесс чистки. Некоторое время спустя я проснулся и попробовал найти свои запасные контактные линзы. Нашел. А затем уронил их на пол.
В дверь постучали. Горман. Он вошел и спросил меня что-то о маршруте наших поездок на следующий день. Увидев меня ползающим на четвереньках в луже того, что изверг мой желудок, в поиске контактных линз, он спросил: «Фил, ты в порядке?» – «Следуй за своим наставником», – пробормотал я.
В то утро мы вылетели в Тайбэй, столицу, и посетили там еще пару фабрик. Утром мы прогулялись по дороге Синьшэн-Саут с десятками расположенных вдоль нее святилищ и храмов, церквей и мечетей. Местные жители называли ее Дорогой в небо. Я сказал Горману, что Синьшэн в переводе означает «Новая жизнь». Когда мы вернулись к себе в гостиницу, ко мне поступил странный и неожиданный звонок. Джерри Шей «свидетельствовал свое почтение».
Я уже встречался с Шей. На одной из обувных фабрик, которые посетил годом ранее. Он работал на «Мицубиси» и на великого Йонаса Сентера. Он произвел на меня впечатление своей энергией и трудовой этикой. И молодостью. В отличие от всех других «псов с обувкой в зубах», с которыми мне доводилось встречаться, он был молод, где-то двадцать с небольшим, но выглядел намного моложе. Как ребенок-переросток. Он сказал, что узнал о том, что мы на Тайване. А затем, как оперативник из ЦРУ, добавил: «Я знаю, почему вы здесь…»
Он пригласил нас посетить его в его офисе – приглашение, которое, похоже, указывало на то, что теперь он работал не на «Мицубиси», а на себя.
Я записал адрес, где располагался офис Шей, и подхватил Гормана. Консьерж в нашей гостинице нарисовал нам схему, как проехать, но она оказалась бесполезной. Офис Шей находился в той части города, которая не была нанесена на карту. В худшей части. Мы с Горманом прошли через лабиринты переулков и закоулков без названий. «Ты таблички с названием улицы не видишь?» – «Да я саму улицу еле различаю».
Раз десять мы терялись, плутая. Наконец нашли. Массивное здание из старого красного кирпича. Внутри обнаружилась хлипкая лестница. Ее перила отвалились, как только мы прикоснулись к ним, поднимаясь на третий этаж по каменным ступеням с глубокими следами от тысяч ботинок, ступавших по ним.
«Войдите!» – крикнул Шей, как только мы постучали. Мы нашли его сидящим посреди комнаты, которая походила на гнездо гигантской крысы. Везде, куда бы мы ни посмотрели, была обувь, только обувь и груды разрозненных частей обуви – подошвы, шнурки, язычки. Шей вскочил на ноги, расчистил место для нас, чтобы мы могли сесть. Предложил нам чай. Затем, пока кипятилась вода, он приступил к обучению нас. Знаем ли мы, что в каждой стране мира существуют свои обычаи и суеверия относительно обуви? Он схватил ботинок с полки и поднес его к нашим лицам. Знаем ли мы, что в Китае, когда мужчина женится, новобрачные забрасывают пару красных туфель на крышу дома, чтобы в брачную ночь все прошло благополучно? Он покрутил туфлю в скудном дневном свете, едва пробивавшемся сквозь грязные оконные стекла. Он рассказал нам, на какой фабрике ее сделали, почему он считал, что она хорошо сделана, как можно было бы сделать ее еще лучше. Знаем ли мы, что во многих странах, когда кто-то отправляется в путешествие, добрым знаком считается бросить ему вслед ботинок? Он схватил другой ботинок и, держа его в руке, как Гамлет держал череп Йорика, определил его происхождение, сказал нам, почему он плохо сделан, почему он скоро развалится, а затем с презрением бросил его в угол. Отличие одних туфель от других, сказал он, в девяти случаях из десяти зависит от фабрики. Забудьте про дизайн, забудьте про цвет, забудьте про все остальное, что связано с обувью, главная причина – в фабрике.
Я внимательно слушал и делал пометки, как Горман тогда, в самолете, однако я все время думал: это представление. Он устроил спектакль, пытаясь убедить нас. Он не понимает, что мы в нем нуждаемся больше, чем он в нас.
Теперь же Шей подошел к главному. Он сказал, что за небольшую плату он с удовольствием свяжет нас с лучшими фабриками на Тайване.
Здесь таился большой потенциал. Мы могли бы использовать кого-то непосредственно там, где разворачивалась наша работа, для того, чтобы прокладывать путь, делать представления, помогать Горману акклиматизироваться. Азиатский Джампьетро. Мы поторговались о комиссии всего несколько минут, и это была торговля в дружеской атмосфере. После чего мы пожали друг другу руки.
«Договорились?» – «Договорились».
Мы вновь присели и составили соглашение о создании на Тайване дочерней компании. Как назвать ее? Я не хотел использовать слово «Найк». Если мы когда-нибудь захотим заниматься бизнесом в Китайской Народной Республике, мы не должны быть связаны с заклятым врагом КНР. В лучшем случае это была слабая надежда, несбыточная мечта. Но все же. Поэтому я остановился на «Афине». Греческой богине, несущей Нику. «Афина Корп.». Таким образом я сохранил не отмеченную на карте, непронумерованную Дорогу в небо. Или представление «пса с обувкой в зубах» о небе. Стране с двумя миллиардами ног.
Я отправил Гормана домой вперед себя. Перед тем как покинуть Азию, сказал я ему, мне надо будет сделать короткую остановку в Маниле. По личному поручению, неопределенно сказал я.
Я полетел в Манилу, чтобы посетить обувную фабрику, очень хорошую. Затем, завершая старый круговой маршрут, я провел ночь в гостиничном люксе Макартура.
Вас запоминают по тем правилам, которые вы нарушили.
Может быть.
А может – нет.
Шел год Двухсотлетия, странный момент в культурной истории Америки, 365-дневная «лоллапалуза» (американизм XIX века, многогранное фестивальное действо со смешением всех жанров и видов искусства, торжество с различными культурными, политическими и прочими мероприятиями, длящееся длительное время. – Прим. пер.), в ходе которой страна занималась самоанализом, штудировала уроки основ гражданского общества и ночи напролет устраивала фейерверки. С 1 января по 31 декабря того года вы не могли переключиться с одного телеканала на другой, чтобы не попасть на очередной художественный или документальный фильм о Джордже Вашингтоне или Бене Франклине, Лексингтоне или Конкорде. И неизменно, будучи вставленной в эти патриотические телепрограммы, звучала «Минута в память Двухсотлетия» – специальное информационное обращение (в рамках ежедневных мероприятий государственной пропаганды на американском телевидении в соответствии с т. н. Соглашением об общественных услугах. – Прим. пер.), во время которого Дик Ван Дайк, Люсиль Болл или Гейб Каплан напоминали вам о каком-нибудь эпизоде, имевшем место в тот день календаря в революционную эпоху. В какой-то вечер это могла быть Джессика Тэнди, рассказывающая о том, как срубили Дерево свободы. На следующий день это мог быть президент Джеральд Форд, призывающий всех американцев «сохранить живым дух 1776 года». Все это звучало несколько банально, немного сентиментально – и невероятно трогательно. Нараставшее в течение года чувство патриотизма выявило во мне и без того сильную любовь к стране. Заход в нью-йоркскую гавань парусных судов, чтение Билля о правах и Декларации независимости, пылкие дискуссии о свободе и справедливости – все это воскресило во мне чувство признательности за то, что я – американец. Что я свободен. И не в тюрьме.
На отборочном турнире перед началом Олимпийских игр 1976 года, вновь состоявшемся в Юджине, у «Найка» появился шанс, фантастический шанс устроить отличное шоу. С «Тайгером» у нас такого шанса никогда не было, поскольку его шиповки не дотягивали до высшей марки. Никогда не было у нас такого шанса и с первым поколением продукции «Найк». Теперь же наконец у нас был собственный товар, и он был действительно хорош: высококачественные марафонки и шиповки. От волнения мы не переставали болтать, покидая Портленд. Наконец-то, говорили мы, бегун, обутый в кроссовки «Найк», войдет в Олимпийскую команду.
Это должно было случиться.
Нам надо было, чтобы это случилось.
Мы с Пенни отправились в Юджин на машине, где встретились с Джонсоном, который фотографировал соревнования. Несмотря на возбуждение, связанное с отборочным турниром, больше всего мы говорили о Пре, пока располагались на своих местах на переполненных трибунах. Было ясно, что Пре был на уме у всех, кто пришел на стадион. Мы слышали его имя со всех сторон, его дух парил над нами, как низкие облака, проносившиеся над беговой дорожкой. И даже если вы на какой-то момент забывали о нем, вы тут же получали живое напоминание, едва взглянув на ноги спортсменов. Многие из бегунов были обуты в кроссовки «Пре Монреаль». (Еще большее число атлетов были в обуви, выпущенной в Эксетере, например в кроссовках «Триумф» и «Вэнкёр» (фр. Победитель. – Прим. пер.). Стадион Хейворда в тот день был похож на выставочный салон «Найка».) Было хорошо известно, что этот отборочный турнир должен был стать историческим возвращением Пре. После проигрыша в Мюнхене он, несомненно, поднялся бы опять на вершину славы, и это возвращение должно было бы состояться именно здесь и сейчас. Каждый забег наталкивал нас на одни и те же мысли, вызывал в памяти тот же образ: Пре, вырывающегося вперед из группы бегунов. Пре, разрывающего грудью финишную ленточку. Мы реально видели это. Мы видели его, упоенного победой.
Если б только, повторяли мы без остановки, прерывающимися голосами, если б только…
На закате солнце стало красным, белым, исчерна-синим. Но было еще достаточно светло, чтобы читать, когда бегуны выстроились на старте перед забегом на 10 000 метров. Мы с Пенни постарались в мыслях отрешиться от всего, встали, сложив руки, как в молитве. Разумеется, мы рассчитывали на Шортера. Он был чрезвычайно талантлив, и он был последним, кто видел Пре живым, и казалось логичным, что именно он понесет дальше факел, принятый у Пре. Наши кроссовки «Найк» были и на Крейге Верджине, блестящем молодом бегуне из Университета штата Иллинойс, а также на Гэрри Бьорклунде, привлекательном ветеране из Миннесоты, пытавшемся вернуться в строй после операции по удалению суставной мышцы в ступне.
Раздался выстрел, и бегуны пулей сорвались с места и побежали, сбившись в плотную группу. Мы с Пенни тоже плотно прижались друг к другу, слыша охи и ахи со всех сторон. Между спортсменами не было даже дюймового пробела, они так и пробежали половину дистанции, пока Шортер и Верджин не вырвались резко вперед. В толкотне Верджин случайно наступил на ногу Бьорклунду, и у того шиповка слетела с ноги. После этого незащищенная нога Бьорклунда, только недавно перенесшего хирургическую операцию, опускалась на твердую поверхность беговой дорожки, издавая при этом с каждым шагом громкий шлепок. И все же Бьорклунд не остановился. Не дрогнул. Он даже не замедлил бега. Он лишь продолжал бежать быстрее и быстрее, и эта яркая демонстрация мужества нашла отклик в толпе. Думаю, мы приветствовали так же громко, как приветствовали Пре на соревнованиях за год до этого.
Войдя в последний круг, Шортер и Верджин были впереди. Мы с Пенни то вскакивали, то садились. «Мы получим двоих, – говорили мы, – мы получим двух призеров!» После чего получили троих. Шортер и Верджин заняли первое и второе места, а Бьорклунд вырвался раньше Билла Роджерса у самой финишной черты, заняв третье место. С меня пот лил градом. Три олимпийца… в «Найках»!
На следующее утро, вместо того чтобы совершить круг почета по Хейварду, мы разбили бивак в магазине «Найка». Пока мы с Джонсоном занимались клиентами, Пенни управлялась со станком шелкографии, печатая футболки с эмблемой «Найка». Мастерство ее было выше всяких похвал; весь день в магазин заходили люди, чтобы сказать, что они кого-то видели на улице в футболке с логотипом «Найк» и что они хотят такую же для себя. Несмотря на нашу продолжающуюся меланхолию, связанную с судьбой Пре, мы позволили себе ощутить радость, потому что становилось ясно, что «Найк» не просто хорошо себя показал. Он доминировал на отборочных. Верджин победил в них в забеге на 5000 метров. Шортер был первым в «Найках» в марафоне. Постепенно в магазине, в городе мы стали слышать, как люди перешептываются: «Найк», «Найк», «Найк». Мы слышали название нашего бренда чаще, чем имя любого спортсмена. Кроме Пре.
В субботу днем, перед тем как войти на стадион Хэйварда, чтобы встретиться с Бауэрманом, я услышал, как кто-то позади меня произнес: «Черт побери, «Найк» действительно вышибает «Адидас» под зад ногой». Возможно, этот случай мог бы стать самым ярким моментом за все прошедшие выходные, за весь год, после чего я почти тут же обнаружил, что за мной по пятам следует торговый представитель «Пумы», затем тормозит, прислонившись к дереву, с выражением человека, близкого к самоубийству.
Бауэрман приехал на соревнования подчеркнуто, как зритель, что было странным для него и для нас. И все же на нем была стандартная экипировка: крысиный свитер, низко надвинутая на лоб бейсболка. В какой-то момент он официально запросил о встрече в небольшом офисе под восточным сектором трибун. Этот офис, строго говоря, офисом назвать было нельзя, выглядел он больше похожим на подсобку, где уборщики, следящие за состоянием зон и секторов легкоатлетического стадиона, хранили свои грабли и метлы, а также несколько шезлонгов. В ней едва хватило пространства, чтобы вместить тренера, Джонсона и меня, не говоря уже о других участниках встречи, приглашенных Бауэрманом: Холлистера и Денниса Викси, местного ортопеда, который работал вместе с Бауэрманом в качестве консультанта по вопросам обуви. Как только мы закрыли за собой дверь, я заметил, что Бауэрман не был похож на себя. На похоронах Пре он выглядел постаревшим. Теперь он выглядел потерянным. Спустя минуту после того, как мы обменялись дежурными фразами, он стал орать. Он жаловался, что больше не чувствует к себе «уважения» от «Найка». Мы создали для него домашнюю лабораторию, дали ему затяжную машину для обуви, но, по его словам, он постоянно просил и не получал сырья из Эксетера.
Джонсон в ужасе взглянул на него. «Какого сырья?» – спросил он.
«Я прошу верхнего покрытия для кроссовок, но мои просьбы игнорируются!» – отвечал Бауэрман.
Джонсон повернулся к Викси. «Я высылал вам верхнее покрытие! – сказал он. – Викси… разве ты не получил его?»
У Викси появилось озадаченное лицо: «Да, получил».
Бауэрман снял свою бейсболку, вновь надел, затем сбросил. «Ну да, – проворчал он, – но ты не выслал мне материал для подошв». Лицо у Джонсона покраснело: «Я и его посылал! Викси?»
«Да, – сказал Викси, – мы его получили».
После этого мы все повернулись в сторону Бауэрмана, который расхаживал, вернее, пытался расхаживать из угла в угол. Места для этого не было. В офисе было темно, но я все равно мог разглядеть, что лицо моего старого тренера краснеет. «Ну… все равно, мы не получили подошвы вовремя!» – прокричал он, и зубья у грабель задрожали. Дело было вовсе не в материале для верхнего покрытия и подошв. Дело было в отстранении от дел. И во времени. Как и в случае с Пре, время отказывалось прислушаться к Бауэрману. Время отказывалось замедлить свой бег. «Я больше не собираюсь мириться с этим дерьмом собачьим», – взорвался он и выбежал, оставив за собой открытую дверь, которая продолжала какое-то время ходить ходуном.
Я посмотрел на Джонсона, Викси, Холлистера. А они все смотрели на меня. Неважно, был ли Бауэрман прав или нет, нам надо было найти способ заставить его почувствовать себя нужным и полезным. Если Бауэрман не будет счастлив, не будет счастлив и «Найк».
Спустя несколько месяцев душный Монреаль стал ареной знаменательного дебюта «Найка», местом проведения нашего первого олимпийского бала перед выходом в свет. К открытию тех Олимпийских игр 1976 года в кроссовки «Найк» мы обули спортсменов, участвующих в нескольких важнейших соревнованиях. Но самые большие надежды мы возлагали на Шортера – в него же вкладывали и бо́льшую часть своих денег. Он был главным претендентом на завоевание золота, что означало, что «Найк» впервые опередит все другие бренды у олимпийской финишной черты. Это можно было сравнить с грандиозным обрядом посвящения для компании, выпускающей спортивную обувь. Вы не могли считаться законной, полноправной компанией, выпускающей спортивную обувь, до тех пор, пока олимпиец в вашей обуви не поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
В ту субботу, 31 июля 1976 года, я проснулся рано. Сразу же после утреннего кофе я занял свое место в любимом кресле. На подлокотнике у меня лежал бутерброд, а в холодильнике стояли бутылки с газированной водой. Я подумал, смотрит ли сейчас телевизор Китами. Смотрят ли мои бывшие банкиры. Смотрят ли мои родители и сестры. Смотрит ли ФБР.
Бегуны подошли к линии старта. Я присел, подавшись вперед, вместе с ними. Возможно, у меня в организме скопилось столько же адреналина, сколько в теле Шортера. Я ждал выстрела стартового пистолета и неизбежного крупного плана ног Шортера. Камера приблизила их изображение на экране. Я перестал дышать. Я сполз со своего кресла на пол и подполз к телевизору. «Нет, – сказал я. – Нет, – вскрикнул я в муках. – Нет. НЕТ!»
На нем были… «Тайгеры».
С ужасом наблюдал я за тем, как великая надежда «Найка» стартовала в кроссовках нашего врага.
Я встал, прошел обратно к креслу и стал смотреть, как разворачивался забег, говоря сам с собой, бормоча себе под нос. Постепенно в доме сгущалась тьма. Но такой тьмы мне было недостаточно. В какой-то момент я задвинул шторы, выключил лампы. Но не телевизор. Я продолжал смотреть, не отрываясь, – все долгие два часа и десять минут, до последнего, до горького конца.
До сих пор не могу сказать, что знаю наверняка, что произошло. Видимо, Шортер убедил себя в том, что его кроссовки «Найк» хлипкие и не выдержат испытания на протяжении всех 26 миль (неважно, что они прекрасно себя проявили на отборочном турнире перед Олимпиадой). Возможно, сказались нервы. А может, это было связано с суеверием. Он захотел надеть ту обувь, которую всегда надевал перед соревнованием. В этом смысле бегуны бывают странными. В любом случае в последний момент он поменял кроссовки и надел те, в которых завоевал золото в 1972 году.
А я переключился с содовой на водку. Сидя в темноте, сжимая бокал с коктейлем, я убеждал себя в том, что ничего страшного не произошло, не велика беда в рамках нашей грандиозной программы. Шортер даже не выиграл забега. Его удивил, завоевав золотую медаль, спортсмен из Восточной Германии. Разумеется, я лгал сам себе, беда была очень большой, и не из-за разочарования или упущенной маркетинговой возможности. Если картина того, как Шортер стартует не в моих, а в чужих кроссовках, могла так сильно повлиять на меня, значит, теперь допустимо заявить официально: «Найк» стал теперь не просто брендом обуви. Я теперь выпускал не просто «Найки» – это «Найк» создавал меня. Если я видел, что спортсмен выбирает другой бренд кроссовок, если я видел, что кто-то выбирает чужой бренд, это означало не просто отказ от моего бренда, и только, это было равнозначно отказу от меня. Я внушал себе быть благоразумным, – не могли же все в мире носить «Найк». И не стану утверждать, что я расстраивался каждый раз, когда видел, что кто-то идет по улице в кроссовках, сделанных не мною.
Но это шло на заметку.
И значения я этому не придавал.
Где-то ночью я позвонил Холлистеру. Он тоже чувствовал полное опустошение. Голос у него дрожал от гнева. Я был рад. Я хотел, чтобы те, кто работал на меня, чувствовали, как и я, ту же боль, как при ожоге, как при ударе под дых.
К счастью, число подобных неудач все время сокращалось. К концу финансового 1976 года мы удвоили объем наших продаж, доведя его до 14 миллионов долларов. Поразительный показатель, который был замечен финансовыми аналитиками и о котором написали в печати. И тем не менее наличности у нас по-прежнему было с гулькин нос. Я по-прежнему занимал, где только было возможным, каждый цент и тут же закапывал его в борозду, чтобы что-то выросло, с явного или молчаливого согласия тех, кому я доверял. Вуделля, Штрассера, Хэйеса.
В начале 1976 года мы вчетвером предварительно обсуждали вопрос о том, чтобы превратить свою компанию в акционерную, и отложили его на потом. Теперь же, в конце того же года, мы вновь вернулись к этому вопросу и отнеслись к нему более серьезно. Мы проанализировали риски, взвесили все «за» и «против». И вновь решили: нет.
Разумеется, разумеется, говорили мы, мы очень хотели бы обеспечить быстрое вливание капитала. О, каких дел мы понаделали бы с такими деньгами! Какие фабрики смогли бы взять в аренду! Какие таланты привлечь! Но превращение компании в публичную акционерную фирму изменило бы нашу культуру, опутало бы нас обязательствами, превратило бы нас в корпоративную, коллективную структуру. «Это не наша игра», – пришли мы к единодушному выводу.
Через несколько недель, вновь оказавшись в затруднительном положении из-за нехватки средств, с пустыми банковскими счетами, мы опять озвучили эту идею. И отвергли ее в который раз.
Желая разрешить проблему раз и навсегда, я внес эту тему в повестку дня нашего совещания, созываемого дважды в год. Это было выездное мероприятие, связанное с отдыхом, которое получило у нас название Встречи «задолицых». (Buttface – неприличное сленговое словосочетание, образованное от butt – задница и face – лицо. Обычно используется между близкими друзьями, а также в тех случаях, когда некто втайне кому-то симпатизирует и, называя его так, как бы флиртуя, скрывает искренность своих чувств. Кроме того, это слово – синоним другого, не очень лестно звучащего слова, которое, однако, тоже может выражать симпатию и привязанность – asshole – глупец. Фил Найт использует слово buttface для обозначения неформальной встречи близких друзей и коллег в непринужденной и откровенной обстановке, что можно было бы назвать посиделками лицом к лицу и невзирая на лица. – Прим. пер.) Мы полагаем, что это прозвище придумал Джонсон. Во время одной из наших самых первых совместных поездок на отдых он пробормотал: «Скольким многомиллионным компаниям могли бы вы крикнуть: «Эй, задолицые!», чтобы вся их команда управляющих обернулась на вас?» Его слова вызвали у нас смех. А затем это прозвище прижилось. Оно стало ключевым элементом нашего жаргона. Слово «задолицые» относилось и к нашим поездкам на отдых, и к самим участникам таких поездок, оно не только передавало неформальную атмосферу во время такого отдыха, когда ни одна идея не была настолько священной и неприкосновенной, что над ней нельзя было бы поиздеваться, и ни один человек не был настолько важен, что его нельзя было бы высмеять, оно воплощало в себе дух, миссию и этику нашей компании.
Первые выездные встречи «задолицых» проходили в различных курортных местах Орегона. Оттер Крест. Салишан. В конце концов мы остановили свое предпочтение на Санривер, идиллическом месте в солнечной центральной части штата Орегон. Как правило, Вуделл и Джонсон прилетали с Восточного побережья, а мы выезжали на Санривер в пятницу, в конце дня, на своих машинах. Мы заказывали на себя несколько домиков, оккупировали конференц-зал и проводили в нем два-три дня, до хрипоты крича друг на друга.
Я и сейчас вижу себя сидящим во главе стола, крича и парируя кричащих на меня, – со смехом, до тех пор, пока я не терял голос. Проблемы, стоящие перед нами, были серьезными, сложными, они казались непреодолимыми, что усиливалось тем, что нас разделяли три тысячи миль в то время, когда сообщение не было легким или быстрым делом. И все же мы постоянно смеялись. Иногда, после хохота, который вызывал приступы, сравнимые с действием слабительного, я оглядывал всех за столом и чувствовал, что меня обуревают эмоции.
Чувства товарищества, лояльности, благодарности. Даже любви. Точно, любви. Но я также помню, как я почувствовал настоящее потрясение при мысли, что этих людей, что были вокруг меня, собрал вместе я сам. И вот эти люди были отцами-основателями многомиллионной компании, продающей спортивную обувь? Парализованный парень, два мужика, страдающих от патологического ожирения, заядлый курильщик, не выпускающий сигарету изо рта? Силы придавала мысль о том, что в этой группе тем, с кем у меня было больше всего общего, был… Джонсон. И все же неоспоримым оставался факт. В то время как все другие смеялись, буянили, он был единственным, кто оставался вменяемым, тихо сидя за столом и читая книгу.
Самый громкий голос на каждой встрече «задолицых» всегда принадлежал Хэйесу.
И самый сумасшедший. Как и объем его талии, его личность постоянно расширялась, приобретая новые фобии и увлечения. Например, к тому времени у Хэйеса развилось любопытное пристрастие к тяжелой технике. Канавокопателям, бульдозерам, автогидроподъемникам, кранам – они очаровывали его. Они… заводили его, иначе не скажешь. Во время одной из первых наших встреч «задолицых» на отдыхе мы выходили из местного бара, как вдруг Хэйес углядел, что в поле за домом стоит бульдозер. К своему удивлению, он обнаружил оставленные в машине ключи, поэтому он забрался в кабину и сгреб всю землю вокруг поля и на автостоянке, остановившись только тогда, когда он чуть было не повредил несколько автомобилей. Чудом их не задел. Хэйес на бульдозере, думал я. Это должно было бы стать нашим логотипом, как и «свуш».
Я всегда говорил, что Вуделл старается, чтобы у него все работало как часы, чтобы «поезда ходили по расписанию», но рельсы на пути укладывал Хэйес. Именно Хэйес установил эзотерические системы учета, без которых вся работа в компании застопорилась бы. Когда мы впервые перешли от ручного к автоматизированному бухучету, Хэйес приобрел первые примитивные машины, и, постоянно ремонтируя, модифицируя их или же лупя по ним своими огромными мясистыми кулаками, он добивался от этого железа сверхъестественной точности. Когда мы впервые начали заниматься бизнесом за пределами Соединенных Штатов, иностранные валюты превратились для нас в дьявольски сложную проблему, и Хэйес создал гениальную систему хеджирования валютных рисков, в результате чего разница становилась более надежной, более предсказуемой.
Несмотря на все наши шалости, несмотря на наши чудачества, несмотря на наши физические недостатки, в 1976 году я пришел к выводу, что мы были сильной командой. (Годы спустя известный профессор Гарвардской школы бизнеса, изучавший компанию «Найк», пришел к такому же заключению. «Обычно, – сказал он, – если один менеджер в компании умеет думать тактически и стратегически, у такой компании хорошее будущее. Но, честное слово, как же вам повезло: более половины всех «задолицых» способны думать именно так!»)
Несомненно, в глазах любого стороннего наблюдателя мы выглядели как жалкая, пестрая команда, члены которой были безнадежно несогласованны между собой. Но на самом деле мы больше были похожи, нежели отличались друг от друга, и это давало возможность согласовывать наши цели и наши усилия. В основном мы были орегонцами, что тоже было важно. У нас было врожденное стремление доказать, на что мы способны, показать миру, что мы не провинциалы и не деревенщины. И почти каждый из нас был беспощадным ненавистником самого себя, что позволяло держать собственное эго под контролем. Среди нас не было и следа этой глупости, когда кто-то выставляет себя самым умным во всей округе. Хэйес, Штрассер, Вуделл, Джонсон, каждый из них мог бы оказаться самым умным в любом окружении, но ни один из них так не думал ни о себе, ни о том, кто был рядом с ним. На наших встречах били через край неуважение, пренебрежение и оскорбления.
О, да еще какие оскорбления. Мы обзывали друг друга ужасными именами. Мы обрушивали друг на друга словесные удары. Запуская новые идеи, сбивая идеи огнем критики, рассматривая угрозы, нависшие над компанией, последнее, что мы принимали во внимание, – это чьи-то чувства. Включая мои. Особенно мои. Мои «задолицые» сотоварищи постоянно обзывали меня Счетоводом Баки. Я никогда не требовал от них, чтобы они перестали. Я был не настолько глуп. Если проявишь слабинку, какую-нибудь чувствительность, ты погиб.
Я СМОТРЕЛ НА СВОЮ КОМАНДУ И ЧУВСТВОВАЛ ТОВАРИЩЕСТВО И БЛАГОДАРНОСТЬ. ДАЖЕ ЛЮБОВЬ.
Помню одну нашу встречу «задолицых», когда Штрассер решил, что мы недостаточно «агрессивны» в нашем подходе к бизнесу. «И слишком много «счетоводов» в этой компании, – добавил он. – Поэтому: прежде чем начать наше собрание, я хотел бы предложить кое-что на рассмотрение. Я подготовил встречный бюджет». Он помахал внушительной папкой с бумагами. «Вот здесь все сказано, что мы должны делать с нашими деньгами».
Разумеется, всем не терпелось взглянуть на его расчеты, но никто не хотел этого больше, чем Хэйес – наш главный над цифирью. Когда мы разобрались, что расчеты не сходятся, причем ни в одном столбце, мы завыли.
Штрассер принял это как личное оскорбление. «Я стараюсь добраться до сути, – сказал он. – Не до специфики, а до сути».
Вой становился громче. Тогда Штрассер подхватил свою папку и шарахнул ее о стену. «Мать вашу!» – проорал он. Папка раскрылась, бумаги из нее разлетелись по всей комнате, а смех стал оглушающим. Даже Штрассер не смог сдержаться. Пришлось и ему присоединиться к общему хору.
Совсем неудивительно поэтому, что прозвищем Штрассера было Грохочущий гром. Между тем Хэйеса прозвали Судным днем. Кличка Вуделля была Дедвейт. За Джонсоном закрепилось Делим на четыре, потому что он, как правило, все преувеличивал, и, следовательно, все, что он говорил, надо было делить на четыре. Никто не принимал эти прозвища как личное оскорбление. Единственное, что было действительно нетерпимо на междусобойчиках «задолицых», так это обидчивость.
И трезвость. В конце дня, когда у всех першило в горле от всех этих ругательств, смеха и решения проблем, когда наши блокноты для заметок были заполнены идеями, решениями, цитатами и бесконечными списками, мы переносили место нашего сражения в бар нашего курортного местечка и продолжали обсуждение за выпивкой. Непомерной.
Бар назывался «Гнездом совы». Люблю, закрыв глаза, представлять, как мы штурмуем вход в него, сметая на своем пути всех других завсегдатаев. Или же заводя среди них друзей. Мы заказываем выпивку на всех присутствующих, затем захватываем для себя угол и продолжаем грузить друг друга какой-нибудь проблемой, идеей или безрассудным планом. Скажем, проблемой была доставка средних вставок подошвы из пункта А в пункт Б. Мы начинали обмозговывать ее со всех сторон, одновременно крича и перекрикивая друг друга, – этакий многоголосный хорал из ругани и тыкания пальцами в собеседника, становившийся все громче, все смешнее и невообразимым образом яснее и понятнее благодаря возлияниям. Любому, кто был в «Гнезде совы», любому, кто принадлежал к корпоративному миру, такая форма поиска решений показалась бы неэффективной, неадекватной. Даже скандальной. Но до того, как бармен дал своим звоночком сигнал о закрытии заведения, мы уже прекрасно знали, почему эти средние вставки подошвы не попадают из пункта А в пункт Б, тот, кто нес за это ответственность, смирялся, брал вопрос себе на заметку, а все мы получали креативное решение.
Единственным, кто не присоединялся к нашим ночным пирушкам, был Джонсон. Он, как правило, отправлялся на пробежку, чтобы проветрить мозги, а затем уединялся в своей комнате и читал, лежа в постели. Думаю, его нога ни разу не переступила порог «Гнезда совы». Думаю также, что он даже не знал, где оно находится. И на утро мы всегда вводили его в курс того, что мы решили в его отсутствие.
В год Двухсотлетнего юбилея мы пытались решить ряд сложных проблем, из-за которых мы оказались в необычайном напряжении. Нам надо было найти более вместительное складское помещение на Восточном побережье. Нам надо было перевести наш дистрибьюторский центр из Холлистона, штат Массачусетс, в новое здание площадью сорок тысяч квадратных футов в Гринленде, штат Нью-Гэмпшир, что наверняка стало бы логистическим кошмаром. Нам надо было нанять рекламное агентство, чтобы справиться с растущим объемом печатной рекламы. Нам надо было либо наладить работу, либо закрыть свои отстающие фабрики. Нам надо было избавиться от сбоев в нашей фьючерсной программе. Нам надо было нанять кого-то на должность промоушен-директора. Нам надо было создать Про-Клуб, нечто вроде системы вознаграждения наших ведущих звезд НБА для того, чтобы укрепить их лояльность и удерживать их в рядах сторонников «Найка». Нам надо было утвердить новые фасоны и модели, такие, как «Арсенал» – шиповки для соккера и американского футбола с кожаным верхом и язычком из винила и пенопласта, а также «Страйкера» – многофункциональных шиповок, подходящих для соккера, бейсбола, американского футбола, софтбола и хоккея на траве. И нам надо было что-то решить по поводу нового логотипа. Помимо «свуша», у нас под ним шло наименование компании – «Найк», что вызывало проблемы, так как слишком многим казалось, будто там написано «Лайк» или «Майк». Но было слишком поздно менять название компании, поэтому хорошей идеей показалось предложение сделать так, чтобы буквы лучше читались. Денни Стрикленд, креативный директор нашего рекламного агентства, придумал вариант с прописными заглавными буквами – «НАЙК» и вставил его внутрь «свуша». Несколько дней мы потратили на то, чтобы рассмотреть и обсудить его.
Помимо всего прочего, нам надо было раз и навсегда решить этот злополучный вопрос о «превращении в публичную компанию». Во время самых первых посиделок «задолицых» начался формироваться консенсус. Если мы не сможем поддержать рост, мы не сможем выжить. И, несмотря на все наши страхи, несмотря на все риски и недостатки, переход в категорию публичных компаний был лучшим способом для поддержания роста.
И все же в пылу тех напряженных споров, в середине одного из самых трудных периодов за всю историю нашей компании эти неформальные совещания «задолицых» не приносили ничего, кроме радости. Ни одна минута из тех долгих часов, проведенных на Санривер, не воспринималась нами как работа. Это была диспозиция: мы против мира, и нам было чертовски жаль этот мир. Я имею в виду, когда этот мир вполне оправданно не доставал нас до кишок. Каждый из нас бывал неправильно понят, недооценен, проигнорирован. Гоним боссами, с удачей, отвернувшейся от него, отвергнут обществом, обманут судьбой, когда раздавались и внешний облик, и естественные грации – основы мирозданья. Каждого из нас сотворила неудача на раннем этапе. Каждый из нас отдался некоему поиску, подтверждению правильности и поиску смысла, и усилия эти не увенчались успехом.
Хэйес не смог стать партнером в банке, потому что был слишком толстым.
Джонсон не смог смириться с так называемым нормальным миром, живущим с 9 до 17.
Штрассер был страховым адвокатом, ненавидящим страхование – и адвокатов.
Вуделл растерял все свои юношеские мечты во время несчастного случая.
Меня выгнали из бейсбольной команды. И сердце мое было разбито.
Я видел прирожденного неудачника в каждом «задолицем», и наоборот, и я знал, что вместе мы могли выйти победителями. Я еще не знал в точности, что означает эта победа, кроме того, что она была антиподом проигрыша, но, казалось, мы приближались все ближе к решающему моменту, когда этот вопрос будет решен или же, по крайней мере, будет более четко определен. Возможно, превращение нашей компании в публичную и станет таким моментом.
Возможно, превращение в публичную компанию наконец-то гарантирует нам, что «Найк» будет жить. Если у меня и были сомнения по поводу управленческой команды «Блю Риббон» в 1976 году, они в основном касались меня самого. Правильно ли я поставил себя с «задолицыми», давая им так мало указаний? Когда они добивались чего-то хорошего, я просто пожимал плечами и выдавал свою высшую похвалу: неплохо. Когда они ошибались, я минуту-другую орал, а затем отбрасывал все в сторону. Никто из «задолицых» не чувствовал ни малейшей угрозы с моей стороны – хорошо ли это было? Не говорите людям, как делать вещи. Скажите им, что делать, и они удивят вас своей изобретательностью. Это был правильный путь для Паттона и его солдат. Но правильным ли был такой подход к сборищу «задолицых»? Я был обеспокоен. Возможно, мне следовало бы побольше власти прибрать к рукам. Возможно, нам следовало бы больше структурировать компанию.
Но потом я задумывался: что бы я ни делал, это должно сработать, поскольку бунтарства почти не наблюдается. Действительно, после Борка никто ни разу не устроил настоящей истерики по чему бы то ни было, даже по вопросу о том, сколько им платят, что неслыханно для любой компании, большой или маленькой. «Задолицым» было известно, что я и себе платил немного, и они верили, что я плачу им столько, сколько могу.
«Задолицым» явно нравилась та культура, которую я создал. Я доверял им целиком, не следил за ними, и такое отношение породило твердую обоюдную лояльность. Мой стиль руководства не сработал бы с людьми, которые привыкли, чтобы их направляли, подсказывали им каждый шаг, а эта группа находила его раскрепощающим, вливающим в них больше сил. Я позволял им быть самими собой, позволял им заниматься делом, позволял им совершать ошибки, то есть относился к ним так же, как мне нравилось, когда люди относились ко мне.
В конце уикэнда, проведенного с «задолицыми», погруженный в эти и прочие мысли, я в полном трансе возвращался за рулем в Портленд. Где-то с полпути я выходил из своего транса и начинал думать о Пенни и мальчишках. «Задолицые» были для меня как семья, но каждую минуту, которую я провел с ними, мне приходилось выкраивать за счет моей другой семьи, настоящей. Вина была физически ощутима. Часто я входил в дом, и Мэтью с Трэвисом встречали меня у порога. «Где ты был?» – бывало, спрашивали они. «Папочка был с друзьями», – отвечал я, подхватывая их на руки. Они смотрели на меня смущенными глазами. «Но мамочка сказала нам, что ты работал».
Где-то в это же время, когда «Найк» выпустил свою первую детскую обувь, «Валли Ваффл» и «Робби Роуд Рейсер», Мэтью объявил, что он никогда в жизни не будет носить «Найк». Это был его способ выразить свою досаду в связи с моими отлучками и прочими причинами для расстройства. Пенни пыталась растолковать ему, что папочка отсутствовал не по своей воле. Папочка пытался что-то создать. Папочка пытался сделать так, чтобы он с Трэвисом смог поступить в колледж, когда придет время.
Я даже не потрудился что-то объяснить. Я сказал себе, что было неважно, что я говорю. Мэтью никогда не понимал, а Трэвис понимал всегда – похоже, они родились с этими точками зрения по умолчанию. Мэтью, казалось, впитал в себя врожденную обиду на меня, тогда как Трэвис, казалось, с рождения был преданным сыном. Какую разницу вызовут еще несколько слов? Какую разницу вызовут еще несколько часов?
Мой стиль отцовства – мой стиль менеджмента. Я всегда задавался вопросом – хорош ли он или же только достаточно хорош?
Я неоднократно давал обет измениться. Неоднократно говорил себе: «Буду больше времени проводить с мальчишками». Неоднократно я выполнял обещание – на какое-то время. Но затем возвращался к своему прежнему образу жизни, к единственному способу, который знал. Не устранялся. Но и не держал руки на пульсе.
Возможно, это была единственная проблема, которую я не мог решить с помощью мозгового штурма со своими «задолицыми» собратьями. Куда сложнее, чем проблема, как доставить средние вставки подошвы из пункта А в пункт Б, выглядела задача с сыном А и сыном Б, как сделать их счастливыми, одновременно поддерживая на плаву сына В – «Найка».
Воздух в кроссовках
Звали его М. Фрэнк Руди, он был бывшим инженером аэрокосмической отрасли и настоящим оригиналом. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что перед вами профессор с приветом, хотя пройдут еще годы, прежде чем я узнаю в полной мере о степени его сумасшествия (он вел подробнейший дневник своих половых связей и дефекации). У него был деловой партнер, Боб Богерт, еще один мозголом, и у них была Безумная Идея, и оба собирались выложить ее нам – это все, что мне было известно на то утро в марте 1977 года, когда мы собрались вокруг стола для переговоров. Я даже не был уверен в том, каким образом эти парни вышли на нас или каким образом они устроили нашу встречу.
«О’кей, ребята, – сказал я, – что у вас?»
Помню, день был замечательный. Свет за окном был маслянисто-бледно-желтым, а небо голубым впервые за долгие месяцы, поэтому я был рассеян, по-весеннему меланхоличен в тот момент, когда Руди навалился грудью на стол и улыбнулся: «Мистер Найт, мы придумали, как закачать… воздух… в обувь для бега».
Я сдвинул брови и уронил карандаш. «Зачем?» – спросил я.
«Чтобы повысить амортизацию, – ответил он. – Чтобы повысить поддержку. Чтобы мчаться по жизни».
Я вытаращил глаза: «Вы шутите, да?»
Мне приходилось слышать много глупостей от массы разных людей в обувной отрасли, но это… О Боже!
Руди вручил мне пару подошв, которые выглядели так, будто их телепортировали из двадцать второго века. Большие, неуклюжие, это был чистый толстый пластик, внутри которого – пузырьки? Я перевернул их. «Пузырьки?» – спросил я.
Я положил подошвы и пригляделся к Руди, окинув его взглядом с головы до пят. Ростом шесть футов три дюйма (1 метр 90 см. – Прим. пер.), долговязый, с непослушной копной темных волос, в очках с толстенными стеклами, с кривым оскалом и явным, думал я, дефицитом витамина D. Мало бывает на солнце. Или же давно потерянный член семейки Адамс.
Он заметил, как я смерил его оценивающим взглядом, заметил мой скептицизм, и это совершенно его не потревожило. Он подошел к доске, взял кусочек мела и стал писать цифры, символы, уравнения. Он объяснил несколько подробнее, почему кроссовки «на воздушной подушке» выполнят свою задачу, почему они никогда не сплющатся, почему эта модель – Следующее Великое Изобретение. Когда он закончил, я продолжал смотреть на доску. Будучи квалифицированным бухгалтером, я большую часть своей жизни провел, глядя на доску, но каракули этого парня Руди были чем-то иным. Неподдающимся расшифровке.
Люди носят обувь с Ледникового периода, сказал я, и ее основной дизайн не так уж сильно изменился за последние сорок тысяч лет. Настоящего прорыва в этом не было с конца 1800-х гг., когда башмачники начали использовать разные колодки для правых и левых туфель, а резиновые компании стали выпускать подошвы. Поэтому трудно было поверить, что спустя столько времени, на этом позднем историческом этапе, может быть придумано нечто настолько новое, революционное. Обувка «на воздушной подушке» звучала для меня как реактивные ранцы или движущиеся тротуары. Как содержание комиксов.
Руди продолжал сохранять невозмутимость. Он продолжал свое, оставаясь непоколебимым, серьезным. Наконец, он подернул плечами и сказал, что понял. Он уже пытался сделать заход на «Адидас», и там тоже отнеслись к нему скептически. Абракадабра. Это все, что мне надо было услышать.
Я спросил, могу ли я вставить его «воздушные» подошвы в мои кроссовки, чтобы опробовать их. «В них нет модератора (материал для поддержки средней части стопы. – Прим. пер.), – сказал он, – они будут свободно болтаться на ноге».
«Для меня это неважно», – ответил я.
Я запихнул подошвы себе в кроссовки, после чего опять надел и зашнуровал их. Неплохо, сказал я, немного попрыгав на месте.
Я отправился на шестимильную пробежку. Я действительно чувствовал себя в них неустойчиво. Но они были чертовски хороши для бега.
Я прибежал обратно в офис. Еще весь в поту, я подбежал к Штрассеру и сказал ему: «Думаю, у нас здесь кое-что есть».
В тот вечер я со Штрассером отправился поужинать с Руди и Богертом. Руди дал более подробное научное объяснение своим «воздушным» подошвам, и в этот второй раз объяснение стало приобретать смысл. Я сказал ему, что у нас появилась возможность сделать бизнес. Затем я передал слово Штрассеру.
Я нанял Штрассера за его юридический склад ума, но к 1977 году я раскрыл его настоящий талант. Талант переговорщика. Вначале я несколько раз просил его подготовить контракт со спортивными агентами, самыми жесткими переговорщиками в мире, и ему удалось сделать больше, чем просто сохранить наши позиции. Я был поражен. Агенты тоже. Каждый раз Штрассер выходил с переговоров, добиваясь больше, чем мы когда-либо надеялись получить. Его никто не пугал, и никто не мог сравниться с ним в борьбе, если коса находила на камень. К 1977 году я уже отправлял его на все переговоры в полной уверенности в успехе, будто провожал на задание 82-ю воздушно-десантную дивизию.
Думаю, его секрет скрывался в том, что ему просто было все равно, что он говорит, как он говорит или как все идет. Он был честным до мозга костей, радикальным тактиком на любых переговорах. Вспоминаю один случай – труднейшие переговоры, которые вел Штрассер по Элвину Хейзу из команды всех звезд «Вашингтон Буллетс», с которым мы хотели вновь подписать спонсорский контракт. Агент Элвина сказал Штрассеру: «Вы должны отдать Элвину всю свою гребаную компанию!»
Штрассер зевнул: «Вы ее хотите? Забирайте ради бога. У нас в банке лежит десять тысяч. Наше окончательное предложение – берите или проваливайте».
Агент взял.
Теперь же, видя огромный потенциал в этих «воздушных» подошвах, Штрассер предложил Руди по десять центов с каждой проданной пары, а Руди потребовал двадцать, и через несколько недель они сторговались где-то посередине. Затем мы отправили Руди и его партнера обратно в Эксетер, который де-факто становился нашим департаментом исследований и разработок.
Когда Джонсон встретился с Руди, он, разумеется, в точности сделал то же, что и я. Он засунул «воздушные» подошвы в свои кроссовки и пробежал в них рысью шесть миль, после чего перезвонил мне. «Из этого может получиться большое дело», – сказал он. «Именно так и я подумал», – сказал я.
Но Джонсон был обеспокоен тем, что пузырьки будут вызывать трение. Его ноги нагрелись при беге, сообщил он. У него стал образовываться волдырь. Он предложил закачивать воздух и в промежуточную подошву, чтобы сделать бег более стабильным. «Ты мне об этом не говори, – сказал я. – Сообщи это своему соседу по кабинету, мистеру Руди».
Едва Штрассер успел успешно завершить переговоры с Руди, мы дали ему новое важное поручение. Подписать контракты с тренерами университетских баскетбольных команд. «Найк» уже держал отличную «конюшню» игроков НБА, и объемы продаж баскетбольной обуви резво росли, но у нас практически не было университетских команд. Даже Орегонского университета. Немыслимо.
Тренер Дик Хартер сообщил нам в 1975 году, что он оставил решение на усмотрение игроков, и команда проголосовала 6:6. Поэтому команда сохранила контракт с компанией «Конверс».
На следующий год команда проголосовала в пользу «Найка» – 9:3, но Хартер сказал, что разница в голосах все еще невелика, поэтому он остается с «Конверс».
Какого?..
Я поручил Холлистеру постоянно и настойчиво лоббировать баскетболистов на протяжении последующих двенадцати месяцев. Что он и сделал. И в 1977 году голосование прошло в пользу «Найка» со счетом 12:0.
На следующий день я встретился с Хартером в офисе Джакуа, и он сообщил мне, что все еще не готов подписать контракт.
«Почему?»
«А где мои две с половиной тысячи долларов?» – спросил он.
«Ага, – сказал я, – теперь я понимаю».
Я отправил чек Хартеру по почте. Наконец-то мои «Дакс» выйдут на площадку в «Найках».
Почти в тот же самый удивительный момент в нашей истории наш порог переступил второй странный изобретатель обуви. Его звали Сонни Ваккаро, и он был столь же уникален, как и Фрэнк Руди. Коротышка, с округлыми формами и бегающими глазками, он говорил плаксивым голосом с американизированным итальянским акцентом или итальянизированным американским акцентом – я так и не смог определиться. Он точно был «псом с обувкой в зубах», но псом прямо из «Крестного отца». Когда он впервые заявился в «Найк», он принес с собой несколько моделей обуви своего изобретения, вызвавших взрывы хохота у собравшихся в конференц-зале. Этот парень не был Руди. И все же в ходе нашего разговора он доказывал, что находится в приятельских отношениях со всеми тренерами университетских баскетбольных команд в стране. Каким-то образом несколько лет тому назад он придумал популярную среди средних школ (high school – в США так называют 9–12-е классы. – Прим. пер.) баскетбольную игру «всех звезд» – «Даппер Дэн Классик», она стала суперхитом, и благодаря ей он перезнакомился со всей тренерской знатью.
«О’кей, – сказал я ему, – вы приняты на работу. Мотайте со Штрассером отсюда и посмотрите, сможете ли вы взломать этот университетский баскетбольный рынок».
У всех знаменитых баскетбольных школ – Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Индианского университета, университета Северной Каролины и т. д. – имелись давно заключенные контракты с «Адидасом» или «Конверсом». Так кто остался не охваченным? И что мы могли предложить им? Мы не мешкая придумали Консультативный совет, очередную версию нашего Про-Клуба, нашу собственную наградную систему НБА, – но это было таким пустяком. Я совершенно был уверен в том, что Штрассер с Ваккаро потерпят фиаско. И я не думал, что увижу кого-либо из них раньше, чем по крайней мере через год.
Месяц спустя Штрассер стоял у меня в кабинете с сияющим лицом. И кричал. И загибал пальцы на руке: Эдди Саттон, Арканзас! Эйб Леммонс, Техас! Джерри Тарканян, Университет Невады в Лас-Вегасе! Фрэнк Макгуайр, Южная Каролина! (Я подпрыгнул со стула: Макгуайр был легендой: он одержал победу над командой Канзаса Уилта Чемберлена, выиграв для Северной Каролины национальный чемпионат.) Мы напали на золотую жилу, сказал Штрассер.
Плюс ко всему, будто в придачу, он упомянул двух молодых парней, за которыми уже велось пристальное наблюдение: Джима Валвано из Колледжа Иона и Джона Томпсона из Джорджтаунского университета (спустя год или два он проделал то же самое с тренерами университетских команд по американскому футболу, прибрав к рукам всех великих людей, включая Винса Дули и его команду – национальных чемпионов, «Бульдогов Университета Джорджии». Гершель Уолкер в «найках» – это да!).
Мы спешно выпустили пресс-релиз, объявив, что «Найком» заключены контракты с этими баскетбольными школами. К сожалению, в этот пресс-релиз вкралась досадная опечатка. Вместо «Иона» было напечатано «Айова». Лют Олсон, тренер в Айове, немедленно позвонил нам. Он был рассержен. Мы извинились и сказали, что все исправим на следующий день.
Он успокоился. «Но, секундочку, подождите, подождите, – проговорил он, – а что это все же такое – Консультативный совет?..»
Правило Хартера сработало в полную силу.
За другие спонсорские контракты пришлось побороться сильнее. Наши усилия, направленные на привлечение к рекламе теннисистов, начались так многообещающе, с Настасе, но затем мы налетели, как на «лежачего полицейского», с Коннорсом, а теперь вот и Настасе решил слить нас. «Адидас» предложила ему сто тысяч в год, включая кроссовки, полную экипировку и ракетки. У нас было право потягаться, но это было исключено. «С финансовой точки зрения это безответственно, – сказал я агенту Настасе и всем, кто мог слышать, – больше никто никогда не увидит подобного спонсорского контракта со спортсменом на такую огромную сумму!»
Итак, в 1977 году в теннисном спорте нас выбросило из седла. Мы быстро наняли местного профессионала в качестве консультанта, и в то же лето я отправился с ним на Уимблдон. В первый же день в Лондоне мы встретились с группой чиновников из американской теннисной сборной. «У нас есть несколько отличных молодых игроков, – сказали они. – Эллиот Телтшер, возможно, лучший из них. Готтфрид тоже выдающийся спортсмен. Что бы вы ни собирались делать, держитесь подальше от парнишки, играющего на 14-м корте».
«Отчего же?»
«Он безбашенный».
Я направился прямо на 14-й корт. И безумно, безнадежно влюбился в курчавого старшеклассника из Нью-Йорка по имени Джон Макинрой.
В то же время, когда мы подписывали контракты со спортсменами, тренерами и сумасшедшими профессорами, мы выходили на рынок с нашим новым детищем – кроссовками «ЛД 1000», отличительной чертой которых был сильно расширяющийся на конус задник. Задник действительно так сильно расширялся книзу, что под определенным углом походил на водную лыжу.
Согласно теории, расширяющийся задник должен был уменьшить крутящий момент ноги и уменьшить давление на колено, таким образом снижая риск заболевания тендинитом и другими недугами, которые сопутствуют бегу. Изобрел его Бауэрман в значительной степени с участием ортопеда Викси. Клиентам новшество пришлось по душе.
Первоначально. Затем появились проблемы. Если нога бегуна приземлялась неправильно, расширяющийся книзу задник мог вызвать пронацию, проблемы с коленом или что-нибудь того хуже. Мы объявили о том, что отзываем эту модель из продажи, и приготовились к негативной реакции покупателей… но ее не случилось. Напротив, мы не услышали в свой адрес ничего, кроме благодарности. Ни одна другая обувная компания не пыталась экспериментировать с новыми моделями, поэтому наши усилия, успешные или нет, расценили как благородные. Все инновации приветствовались как прогрессивные и дальновидные. Подобно тому, как неудачи не останавливали нас, это не понизило уровень лояльности со стороны наших клиентов.
Бауэрман, однако, очень корил себя за это. Я пытался утешить его, напоминая, что без него не было бы «Найка», поэтому он должен продолжить изобретать, создавать, действуя бесстрашно. Модель «ЛД 1000» была как роман литературного гения, который не совсем удался. Такое случалось с лучшими из лучших. Не повод, чтобы бросить писать.
Мои потуги воодушевить его результата не давали. И тогда я допустил ошибку, упомянув о «воздушной» подошве, которую мы разрабатывали. Я рассказал Бауэрману об инновации Руди с подкачкой кислорода, и Бауэрман фыркнул: «Пфф, «воздушные» кроссовки. Никогда такое не получится, Бак».
В его голосе прозвучала… зависть?
Я посчитал это за хороший знак. Дух соревновательности вновь ожил в нем.
Много дней просидел я со Штрассером в кабинете, пытаясь понять, почему некоторые линейки нашей продукции продавались, а другие – нет, что привело нас к более широкому обсуждению, что думают о нас люди и почему. У нас не было групп, состоящих из специалистов для целевых опросов потребителей, не занимались мы и маркетинговыми исследованиями – мы позволить себе не могли такое, – поэтому пытались действовать интуитивно, руководствоваться божественным провидением, гадать на чайных листьях. Мы соглашались друг с другом: людям действительно нравились наши кроссовки. Им действительно нравилась наша история: орегонская фирма, основанная парнями, помешанными на беге. Им явно нравилось, что говорил о них самих тот факт, что они носят пару кроссовок «Найк». Мы были больше, чем бренд, мы были декларацией.
Некоторая часть полученного кредита ушла на Голливуд. У нас там был человек, который раздавал кроссовки «Найк» звездам, всяким звездам, большим, маленьким, восходящим, затухающим. Каждый раз, когда я включал телевизор, можно было видеть нашу обувь на каком-нибудь персонаже одного из популярных сериалов – «Старски и Хатч», «Человек на шесть миллионов долларов», «Невероятный Халк». Каким-то образом нашему спецу по связям с Голливудом удалось вложить в руки Фарры Фосетт пару наших кроссовок «Сеньорита Кортес», которая надела их в эпизоде «Ангелов Чарли», отснятом в 1977 году. Это было все, что требовалось. Один раз мелькнувший кадр с Фаррой Фосетт в «найках», и к полудню следующего дня и во всех магазинах страны были раскуплены все запасы «Сеньориты Кортес». Вскоре команды чирлидерш Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и университета Южной Калифорнии прыгали и скакали, обутые в то, что в обиходе стали называть кроссовками Фарры.
Все это в очередной раз означало больший спрос… и еще больше проблем, связанных с его удовлетворением. Наша производственная база стала шире. Помимо Японии у нас было задействовано несколько фабрик на Тайване и две небольшие фабрики в Корее, плюс производство в Пуэрто-Рико и Эксетере, и все равно мы не поспевали идти в ногу. Кроме того, чем больше фабрик мы подключали к выпуску продукции, тем с большим напряжением сказывалось это на наших резервах наличности.
Иногда наши проблемы не имели никакого отношения к наличности. В Корее, например, пять крупнейших фабрик были настолько огромными, а конкуренция между ними была настолько острой, что мы понимали, что вскоре нас скопируют. И точно, в один прекрасный день я получил по почте идеальную копию наших кед «Бруин», включая наш логотип «свуш». Подражание лестно, но копирование авторской модели – это воровство, и данное воровство было дьявольским.
Детали и качество изготовления – без какого-либо вмешательства наших специалистов – были поразительно хорошими. Я написал председателю правления фабрики и потребовал, чтобы он прекратил и не допускал впредь противоправных действий, в противном случае я засажу его в тюрьму на сотню лет. «И кстати, – добавил я, – не хотели бы вы работать с нами?»
Я подписал контракт с его фабрикой летом 1977 года, что на время решило нашу проблему с пиратским копированием. Что еще важнее, это дало нам возможность переноса производства, в случае необходимости, в огромном объеме.
Это также раз и навсегда покончило с нашей зависимостью от Японии.
Я понимал, что проблемы никогда не прекратятся, но на данный момент у нас было больше движения в сторону роста, чем проблем. Для того чтобы воспользоваться этим темпом роста, мы развернули новую рекламную кампанию с сексуальным новым лозунгом: «Финишной черты не существует». Это была идея нашего рекламного агентства и его генерального директора Джона Брауна. Он только недавно открыл свой собственный магазин в Сиэтле, он был молод, умен и, разумеется, полная противоположность представлению о спортсмене. Похоже, только таких мы и принимали на работу. Помимо меня и Джонсона, «Найк» был раем для тех, кто вел сидячий образ жизни. И все же, качок или нет, Браун смог придумать кампанию и ее лозунг, который идеально формулировал философию «Найка». На его рекламе был изображен одиночный бегун на безлюдной проселочной дороге, вдоль которой стояли высокие дугласовы пихты. Картинка явно орегонская. Надпись гласила: «Победить, соревнуясь, относительно легко. Победить себя – нескончаемое обязательство».
Все вокруг меня считали, что эта реклама смела и свежа. Она концентрировала внимание не на продукте, а на духе, который ассоциировался с ним, то есть это было нечто невиданное в 1970-х годах. Люди поздравляли меня с этой рекламой, будто мы достигли чего-то, что потрясло почву под ногами. Я пожимал плечами. Дело было не в том, что я скромничал. Я все еще не верил в силу рекламы. Совершенно. Продукт, думал я, говорит сам за себя или же не говорит. В конце концов, имеет значение только качество. Я представить себе не мог, что какая-то рекламная кампания когда-либо докажет, что я был не прав, или заставит меня изменить мое мнение.
Наши рекламщики, разумеется, говорили мне, что я не прав, не прав, на тысячу процентов не прав. Я же вновь и вновь спрашивал их: «Можете ли вы со всей определенностью утверждать, что люди покупают обувь «Найк» благодаря вашей рекламе? Можете вы мне доказать это черным по белому в цифрах?»
Молчание.
«Нет, бывало, – отвечали они, – определенно так сказать мы не можем».
«Так что, наверное, трудновато прийти в восторг от такого заявления, – говорил я, – не так ли?»
Молчание.
Я часто жалел, что у меня не было больше времени, чтобы парировать, дискутируя о тонкостях рекламы. Наши кризисы, возникавшие с регулярностью по два на день, всегда оказывались масштабнее и насущнее, чем вопрос о том, какой лозунг напечатать под изображением наших кроссовок. Во второй половине 1977 года кризис возник в связи с нашими облигационерами. Неожиданно они стали настойчиво изыскивать способ как нажиться. Безусловно, лучшим был бы вариант с публичным размещением, что, как мы пытались им растолковать, для нас вариантом не был. Они этого и слышать не желали.
Я вновь обратился к Чаку Робинсону. Он отслужил с отличием в звании капитан-лейтенанта на линкоре в годы Второй мировой войны. Он построил первый сталелитейный завод в Саудовской Аравии. Он помогал вести переговоры о сделке по продаже зерна с Советами. Чак знал о бизнесе все досконально, лучше, чем кто-либо из всех, кто мне был известен, и мне уже давно требовался его совет. Но последние несколько лет он оставался человеком номер два у Генри Киссинджера в Госдепе, а посему недосягаемым для меня, согласно Джакуа. Теперь же при недавно избранном Джимми Картере Чак оказался на Уолл-стрит и вновь был доступен для консультаций. Я пригласил его прилететь в Орегон.
Никогда не забуду его первый день в нашем офисе. Я ввел его в курс наших событий за последние несколько лет и поблагодарил за бесценный совет, данный им относительно японских торговых компаний. Затем я показал ему наши финансовые отчеты. Он пролистал их и начал смеяться. Он не мог остановиться. «По своей структуре, – сказал он, – вы – японская торговая компания. На 90 процентов в долгу!»
«Я знаю».
«Вы не можете так жить», – сказал он.
«Ну… полагаю, поэтому вы здесь».
В качестве первого вопроса на повестке дня я предложил ему занять место в нашем совете директоров. К моему удивлению, он согласился. Затем я спросил его мнение относительно превращения компании в публичную.
Он ответил, что это не просто вариант. Это обязательное решение. Мне надо было решить эту проблему движения денежных средств, сказал он, атаковать ее, бороться с ней, положить ее на лопатки, иначе я потеряю компанию. Слушать такую оценку было страшно, но необходимо.
Впервые я увидел, что превращение компании в публичную – это нечто неизбежное, и я ничего не мог с этим поделать, а реализация такого решения обращала меня в уныние. Разумеется, мы существовали, чтобы зарабатывать огромные деньги. Но обогащение никогда не было решающим фактором в принятии мною моих решений, а для «задолицых» оно значило еще меньше. Поэтому, когда я поднял этот вопрос на нашем следующем совещании и сообщил им, что сказал Чак, я не просил начать новые дебаты. Я просто поставил вопрос на голосование.
Хэйес был за.
Джонсон – против.
Штрассер – тоже. «Это испортит культуру», – снова и снова повторял он.
Вуделл был в нерешительности.
Однако если и было что-то, с чем мы все были согласны, это было отсутствие препятствий. Ничто не мешало нам стать публичной компанией. Продажи были экстраординарными, молва о нас была положительная, судебные разбирательства были позади. У нас был долг, но на тот момент он был управляемым. В самом начале рождественских каникул 1977 года, когда дома в нашей округе украсились яркими цветными огоньками, я, помню, думал, выполняя свою вечернюю пробежку: все вот-вот изменится. Это просто вопрос времени.
И потом пришло письмо.
Невзрачный маленький конвертик. Стандартный, белого цвета. Рельефными буквами был напечатан обратный адрес: Таможенная служба США, Вашингтон, округ Колумбия. Я открыл его, и руки мои начали дрожать. Это был счет. На 25 миллионов долларов.
Я читал и перечитывал его. Я ничего не мог понять. Единственное, что до меня дошло, – это то, что федеральное правительство заявляло, что с «Найка» причитаются таможенные пошлины за последние три года в силу того, что называется некой «американской отпускной (продажной) ценой», старого метода по установлению сумм таможенных пошлин. Отпускной – от чего? Я вызвал в кабинет Штрассера и сунул ему письмо. Он прочитал и рассмеялся. «Это немыслимо», – сказал он, дергая себя за бороду. «В точности моя реакция», – подтвердил я.
Мы прошлись по письму взад и вперед и пришли к заключению, что это должно было быть ошибкой. Потому что, если это реально, если мы действительно задолжали 25 миллионов долларов правительству, мы разорены. Мгновенно. Все эти разговоры о превращении компании в публичную были колоссальной тратой времени впустую. Все, начиная с 1962 года, было пустой тратой времени. Финишной черты не существует? Нет, она прямо тут, вот она, финишная черта.
Штрассер сделал несколько телефонных звонков и пришел ко мне на следующий день. На этот раз он не смеялся. «Это может быть реальным», – сказал он.
Происхождение этой проблемы было зловещим. За ней стояли все наши американские конкуренты, «Конверс» и «Кедс», плюс несколько небольших обувных фабрик – другими словами, то, что осталось от американской обувной отрасли. Они пролоббировали Вашингтон в попытке притормозить темпы нашего развития, и их лоббирование дало результат, причем он оказался лучше, чем они смели надеяться. Им удалось убедить должностных лиц таможенных органов в том, чтобы эффективно стреножить нас, применив эту «американскую продажную цену», архаичный закон, который восходил ко временам протекционистской политики, которая предшествовала, а некоторые считают, что спровоцировала Великую депрессию.
По существу, в законе об «американской продажной цене» говорилось, что импортные пошлины на нейлоновую обувь должны составлять 20 процентов от фабричной себестоимости обуви, если «аналогичная обувь» не выпускается конкурентом в Соединенных Штатах. В этом же случае пошлина должна составить 20 процентов от продажной цены конкурента. Поэтому все, что требовалось сделать нашим конкурентам, – это выпустить немного обуви в Соединенных Штатах. Объявить ее «аналогичной», загнать продажную цену на нее за облака – и бац! Они могли также загнать за те же облака и наши импортные пошлины.
Как раз это они и сделали. Один маленький грязный трюк, и им удалось взвинтить сумму наших импортных пошлин на 40 процентов – задним числом. Таможня сообщала, что мы задолжали с оплатой импортных пошлин за прошедшие годы в размере 25 миллионов долларов. Грязный это был трюк или нет, Штрассер сказал мне, что таможня не шутила. Мы были ей должны 25 миллионов, и она хотела их получить. Немедленно.
Я положил голову на письменный стол. Несколько лет тому назад, когда шла борьба с «Оницукой», я объяснял себе, что проблема кроется в различии наших культур. Какая-то часть во мне, сформированная Второй мировой войной, совершенно не удивлялась тому, что мы не были в ладах с бывшим врагом. Теперь же я был в положении японцев: в состоянии войны с Соединенными Штатами. С правительством своей собственной страны.
Это был конфликт, которого я никогда и представить себе не мог, и отчаянно не хотел его, и тем не менее не мог его избежать. Проигрыш означал уничтожение. То, чего требовало правительство – 25 миллионов долларов, – почти в точности равнялось объему наших продаж за весь 1977 год. И даже если нам каким-то образом удалось отдать им весь наш доход, мы не смогли бы продолжать платить импортные пошлины, которые повысились на 40 процентов.
«Поэтому оставалось одно, – сказал я со вздохом Штрассеру. – Нам придется бороться с этим всеми нашими силами».
Не знаю, почему этот кризис ударил меня больнее морально, чем все остальные. Я пытался успокоить сам себя, повторяя снова и снова: у нас бывали плохие времена, мы переживем и это.
Однако на этот раз ощущения были совершенно иными.
Я попробовал поговорить об этом с Пенни, но она сказала, что я вообще-то не говорил, а только ворчал, мычал и пялился в пустоту. «Как об стену», – говорила она с раздражением и с некоторым испугом. Я должен был сказать ей, что как раз это и делают люди, готовясь к сражению. Они возводят стены. Они поднимают подъемные мосты. Они заполняют рвы водой.
Но, сидя за своей растущей стеной, я не знал, как быть. В 1977 году я потерял способность говорить. Во мне либо царило молчание, либо бушевал гнев. Ближе к ночи, после того как я переговорил по телефону со Штрассером, Хэйесом, Вуделлем или своим отцом, я приходил в выводу, что выхода я не вижу. Я лишь видел, как сворачиваю бизнес, который с таким трудом создал. После чего я взрывался и вымещал злость – на телефоне. Вместо того чтобы положить трубку, я швырял ее, а затем бил ею все сильней и сильней, пока она не разлеталась на куски. Несколько раз я избивал свой телефонный аппарат до полусмерти.
После того как я сделал это три, а может, четыре раза, я заметил, что мастер, вызванный из телефонной компании, чтобы починить аппарат, смотрит на меня. Он поставил аппарат на место, проверил, есть ли гудок, и, убирая свои инструменты, тихо произнес: «Незрело… вот так… на самом деле… поступать».
Я кивнул.
«Полагаю, вы же взрослый человек», – сказал он.
Я опять кивнул.
Если мастер по ремонту телефонов чувствует, что надо призвать тебя к порядку, сказал я себе, значит, возможно, тебе следует изменить поведение. В тот день я надавал себе обещаний. Я поклялся, что с того момента буду медитировать, считать в обратном порядке, делать вечерние пробежки по двенадцать миль, делать что угодно для того, чтобы собраться.
Собраться с духом и быть хорошим отцом – это не одно и то же. Я всегда обещал себе, что буду лучшим отцом для своих сыновей, чем мой отец был мне, имея в виду, что буду яснее выражать им свое одобрение, оказывать им больше внимания. Но в конце 1977 года, когда я попробовал дать себе честную самооценку, когда я обнаружил, сколько времени я проводил вдали от сыновей и насколько далеким я оставался, даже когда бывал дома, я выставил себе низкие оценки. Если выражаться строго математически, я лишь мог сказать, что был на 10 процентов лучше, чем мой отец был по отношению ко мне.
По крайней мере, я лучший кормилец, говорил я себе.
И по крайней мере, я рассказываю им истории перед сном.
Бостон, апрель 1773 года. Вместе с десятками разгневанных колонистов, протестовавших против повышения импортных пошлин на их любимый чай, Мэт и Трэвис Хистори пробрались на борт трех кораблей в Бостонской гавани и выбросили чай за борт… (Фил Найт ошибается. Акция, получившая в истории Американской революции название «Бостонского чаепития», произошла 16 декабря 1773 года. – Прим. пер.)
В ту же минуту, когда их глаза смыкались, я выскальзывал из спальни, усаживался в свое кресло и принимался звонить. Привет, пап. Ага. Как дела?.. Как я? Неважно.
В течение последних десяти лет это стало моей венчающей день радостью на сон грядущий, моим спасением. И теперь, больше чем когда-либо, я жил ради этого. Я жаждал того, что мог получить только от своего старика, хотя дать этому название, как я ни старался, не мог.
Подбадривание?
Подтверждение?
Утешение?
9 декабря 1977 года я получил все это в едином порыве. Причиной, естественно, был спорт.
В тот вечер «Хьюстон Рокетс» играли с «Лос-Анджелес Лейкерс». В начале второй половины игры Норм Никсон, разыгрывающий защитник команды «Лос-Анджелес Лейкерс», пропустил бросок в прыжке, и его товарищ по команде Кевин Куннерт, семифутовый (2 метра 13 см. – Прим. пер.) жердяй из Айовы, стал бороться за отскок с Кермитом Вашингтоном. В ходе свалки Вашингтон стащил с Куннерта шорты, а Куннерт отомстил ударом локтя. Тогда Вашингтон ударил Куннерта по голове. Началась потасовка. Когда Руди Томьянович из «Хьюстон Рокетс» подбежал на защиту своих товарищей по команде, Вашингтон нанес ему сокрушительный удар с разворота, сломав Томьяновичу нос и челюсть и содрав кожу с его головы и лицевых костей. Томьянович упал на площадку, будто сраженный из охотничьего ружья. Его массивное тело грохнулось наземь с тошнотворным шлепком. Эхо этого звука отразилось от верха крытой арены «Л. А. Форум» и пронеслось по ней, и в течение нескольких секунд Томьянович лежал без движения в растекавшейся вокруг луже крови.
Я ничего об этом не слышал до тех пор, пока не поговорил в тот вечер с отцом. У него дыхание перехватило. Я был удивлен, что он смотрел игру, впрочем, в тот год все в Портленде сходили с ума по баскетболу, потому что «Трейл Блейзерс» защищали свой чемпионский титул НБА. И все же дыхание у отца перехватило не из-за игры как таковой. После того как он рассказал мне о драке, он вскричал: «О Бак, Бак, это была самая невероятная вещь, которую я когда-либо видел». Потом наступила пауза, и он добавил: «Телекамера стала давать крупный план, и можно было ясно увидеть… на кроссовках Томьяновича… «свуш»! Они держали картинку крупным планом на «свуше». Я никогда не слышал такой гордости в голосе отца. Разумеется, Томьянович находился в больнице, и шла борьба за его жизнь, и его лицевые кости были раздроблены, но логотип Бака Найта был в центре внимания всей страны.
Возможно, в тот вечер «свуш» стал для моего отца реальным. Респектабельным. На самом деле он не использовал слова «гордый». Но я повесил трубку, чувствуя, будто он его произнес.
Это почти что делает все затраченные усилия стоящими, сказал я себе.
Почти что.
Объем продаж увеличивался в геометрической прогрессии, год за годом, не прекращаясь, начиная с первых нескольких сотен пар проданных мною модели «Валиант». Но когда мы стали подводить итоги 1977 года… оказалось, что продажи стали бешеными. Почти 70 миллионов долларов. Поэтому мы с Пенни решили купить дом побольше.
Это было странное решение в разгар апокалипсического сражения с правительством. Но мне нравилось поступать так, будто все образуется.
Фортуна сопутствует храбрым, что-то в этом роде. Мне также нравилась идея смены декораций. Возможно, думал я, это приведет к тому, что удача улыбнется мне.
Нам, разумеется, было грустно покидать старый дом. Мальчики сделали в нем свои первые шаги, а Мэтью жил ради своего бассейна. Никогда он не был так умиротворен, как резвясь в воде. Помню, как говаривала Пенни, качая головой: «Ясно одно. Этот мальчишка никогда не утонет».
Оба парня становились такими большими, им так отчаянно не хватало места, а в новом доме его было предостаточно. Он располагался на пяти акрах, высоко над Хиллсборо, все комнаты были просторными и полными воздуха. В первую же ночь мы поняли, что нашли свой дом. В нем даже была встроенная ниша для моего кресла.
В связи с получением нового адреса в честь нового старта я постарался соблюдать новый график. Если я не уезжал из города, то пытался посещать все молодежные баскетбольные игры, молодежные футбольные (соккер) игры и игры Малой лиги. Я проводил выходные, обучая Мэтью пользоваться битой, хотя мы оба не понимали зачем. Он отказывался фиксировать заднюю ногу и не двигать ею до замаха. Он отказывался слушать. Он постоянно спорил со мной.
«Мяч же двигается, – говорил он, – так почему я не должен?» – «Потому что в этом случае будет труднее ударить». Такой аргумент никогда не был для него достаточно хорошим.
Мэтью был больше, чем бунтарь. Я обнаружил, что он был больше, чем еретик. Он положительно не мог подчиняться авторитету, и он подозревал, что авторитет таится в каждой тени. Любое противление его воли рассматривалось как угнетение и, следовательно, было причиной призыва к оружию. В соккер, например, он играл как анархист. Он соревновался не столько с соперником, сколько с правилами – со структурой. Если лучший игрок противоположной команды, как нападающий, ушедший в отрыв, мчался на него, Мэтью забывал про игру, забывал про мяч, а просто избирал своей целью голени парня. Парнишка валился с ног, на поле выскакивали родители и начиналось столпотворение. Во время одного вызванного Мэтью ближнего боя я взглянул на него и понял, что ему так же, если не больше, не хотелось оставаться там, как и мне. Ему не нравился соккер. Поэтому он был безразличен к спорту вообще. Он играл – а я видел, как он играл, – из некоего чувства долга.
Со временем его поведение стало оказывать подавляющее влияние на его младшего брата. Несмотря на то что Трэвис рос одаренным спортсменом и любил спорт, Мэтью отвратил его. Однажды маленький Трэвис просто отошел от спорта. Он больше не хотел входить в какие-либо команды. Я попросил его передумать, но единственной чертой его характера, общей с Мэтью и, возможно, с его отцом, было упрямство. Из всех переговоров, которые я провел за свою жизнь, самыми сложными для меня были переговоры с моими сыновьями.
В канун нового, 1978 года я проходил по своему новому дому, гася свет, и почувствовал, будто внутри моего прочного фундамента образовалось нечто вроде глубокой трещины. Вся моя жизнь была связана со спортом, мой бизнес был связан со спортом, мои отношения с отцом были завязаны на спорте, и лишь оба моих сына не хотели иметь ничего общего со спортом.
Как и «американская продажная цена», все это казалось таким несправедливым.
Противостояние
Штрассер был нашим пятизвездным генералом, и я готов был следовать за ним в любую стычку, под любой обстрел. В нашей борьбе с «Оницукой» его возмущение успокаивало и поддерживало меня, а его ум был грозным оружием. С началом нового боя – с федералами – он был разгневан в два раза сильнее. Хорошо, думал я. Он грохотал своими ногами по учреждениям, как обозленный викинг, и его топанье было музыкой для моих ушей.
Однако мы оба знали, что одного гнева будет недостаточно. Как и одного Штрассера. Мы замахивались на Соединенные Штаты Америки. Нам нужны были несколько хороших бойцов. Поэтому Штрассер вышел на портлендского адвоката, своего друга, которого звали Ричард Вершкул.
Не помню, был ли я когда-либо представлен Вершкулу. Не помню также, чтобы кто-либо просил меня встретиться с ним или же принять его на работу. Просто помню, что неожиданно ощутил присутствие Вершкула, причем присутствие явное и постоянное. Нечто схожее с тем, как вы чувствуете присутствие большого дятла во дворе перед домом. Или же сидящего у вас на голове.
По большей части присутствие Вершкула приветствовалось. В нем постоянно гудел некий мотор, что нам нравилось, как и его верительные грамоты, на которые мы всегда обращали внимание. Студент Стэнфорда, выпускник школы права Орегонского университета. Он также обладал впечатляющим характером, оставлял ощущение своего присутствия. Темный, жилистый, саркастичный, в очках, обладал необыкновенно глубоким, сочным баритоном, как у Дарта Вейдера, с холодной головой. В целом он оставлял впечатление человека, имеющего план, и план этот не предполагал сдачи в плен или сна.
С другой стороны, у него также была и эксцентричная черта. Она у нас у всех была, но у Вершкула было то, что мама Хэтфильд могла бы назвать «непредсказуемой импульсивностью». В нем всегда обнаруживалось что-то, что не совсем… подходило. Например, хотя он был коренным орегонцем, у него был озадачивающий привкус Восточного побережья. Синие блейзеры, розовые рубашки, галстуки-бабочки. Иногда его акцент напоминал летние месяцы в Ньюпорте, греблю за команду Йельского университета – «конюшню пони для игры в поло» (Фил Найт проводит сравнение Вершкула с Томом Бьюкененом, героем из «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. – Прим. пер.). Очень странно для человека, который досконально знал все тропинки в долине реки Уилламетт. И в то время как он мог быть очень остроумным, даже дурашливым, он мог в мгновение ока измениться, став страшно серьезным.
Ничто не делало его более серьезным, чем противостояние «Найка» и Таможенной службы США.
Некоторые в «Найке» были обеспокоены серьезностью Вершкула, опасаясь, что она граничит с одержимостью. Да, это нормально, думал я. Для такой работы подходили только одержимые. Для меня – только такие. Некоторые ставили под сомнение его стабильность. Но когда дело доходило до стабильности, я спрашивал: кто из нас первым бросит первый камень?
Кроме того, Штрассеру он нравился, а я доверял Штрассеру. Поэтому, когда Штрассер предложил повысить Вершкула и перевести его в Вашингтон, округ Колумбия, где он стал бы ближе к политикам, которые были нам нужны на нашей стороне, я не колебался. Разумеется, не колебался и Вершкул.
Примерно в то же время, когда мы переводили Вершкула в Вашингтон, я направил Хэйеса в Эксетер, чтобы проверить, как идут дела на фабрике, а также посмотреть, как ладят между собой Вуделл и Джонсон. Кроме того, у него на повестке дня стояла покупка некоего механизма под названием «резиновая мельница». Вроде бы она могла бы нам помочь в изготовлении внешних и промежуточных подошв повышенного качества. Более того, Бауэрман хотел получить ее для проведения своих экспериментов, а моей политикой по-прежнему была ЧБП: Что бы Бауэрман ни Пожелал. Если бы Бауэрман подал заявку на танк «Шерман», сказал я Вуделлю, не задавай вопросов. Просто звони в Пентагон.
Но когда Хэйес спросил у Вуделля об «этих штуках – резиновых мельницах» и где их можно достать, Вуделл пожал плечами: «Никогда не слышал о них». Вуделл адресовал его к Джампьетро, который, разумеется, знал все про резиновые мельницы, и спустя несколько дней Хэйес уже направлялся вместе с Джампьетро в самую глухомань штата Мэн, в городок Сако, где проходил аукцион промышленного оборудования.
Хэйес не смог найти резиновую мельницу на аукционе, но он влюбился в место, где он проходил, – в старую фабрику из красного кирпича на островке посреди реки Сако. Фабрика походила на нечто из фантазий Стивена Кинга, но это не нервировало Хэйеса. Это ему импонировало. Полагаю, этого следовало ожидать – человек, который фетишизировал бульдозеры, влюбился в ржавую насквозь фабрику. Удивительнее всего то, что фабрика была выставлена на продажу. Цена – 500 000 долларов. Хэйес предложил владельцу 100 000 долларов, и они сошлись на 200 000.
«Поздравляем», – сказали мне Хэйес и Вуделл, когда в тот же день они позвонили мне.
«С чем?»
«Заплатив чуть больше, чем за «резиновую мельницу», ты стал гордым владельцем целой обалденной фабрики», – отвечали они.
«О чем вы, черт бы вас побрал, говорите?»
Они просветили меня. Как сказочный Джек, который рассказывал матери о волшебных бобах, они бормотали, когда дошли в своем рассказе до цены. И до того места, когда стало ясно, что на ремонт фабрики потребуются десятки тысяч долларов. Я чувствовал, что они были под градусом, и позже Вуделл признался, что, когда в Нью-Гемпшире они остановились около огромного винного магазина, реализовавшим спиртное со скидкой, Хэйес завопил: «За такую цену? Нельзя не выпить!»
Я вскочил с кресла и заорал в телефон: «Манекены набитые! Зачем мне сдалась неработающая фабрика в Сако, штат Мэн?»
«Под склад, – отвечали они. – И однажды она может стать дополнением нашей фабрики в Эксетере».
Никогда лучше я не подражал Джону Макинрою, когда заорал благим матом: «Вы что это, серьезно?! Не смейте!»
«Слишком поздно. Мы уже купили ее».
В трубке раздались гудки.
Я сел. Я даже не чувствовал бешенства. Я был слишком расстроен, чтобы быть в бешенстве. Федералы наседали, требуя уплаты 25 миллионов долларов, которых у меня не было, а мои люди разъезжали по стране, выписывая чеки еще на сотни тысяч долларов, даже не спрашивая меня. Неожиданно я стал спокойным. Будто погрузился в квазикоматозное состояние. Я спросил себя: кого это волнует? Когда явятся правительственные чиновники, когда они изымут все подчистую, пусть они же ломают голову, что им делать с неработающей фабрикой в Сако, штат Мэн. Позже Хэйес и Вуделл перезвонили и сказали, что лишь пошутили о покупке фабрики. «Просто подразнили тебя, – сказали они. – Но тебе надо ее купить. Ты должен».
«О’кей, – сказал я устало. – О’кей. Все, что вы, манекены набитые, посчитаете нужным».
В 1979-м мы приближались к объемам продаж порядка 140 миллионов долларов. Что еще лучше, качество нашей продукции также быстро улучшалось. Все, кто имел отношение к обувной отрасли, кто знал ее изнутри – «хорошо осведомленные люди», все писали статьи, хвалили нас за то, что мы «наконец-то» выпускает обувь, которая лучше, чем у «Адидас». Лично я считал, что «хорошо осведомленные люди» – инсайдеры – несколько припозднились на нашу вечеринку. За вычетом нескольких неудач на раннем этапе качество нашей продукции уже в течение нескольких лет было на высоте. И мы никогда не отставали в области инноваций (плюс к этому у нас уже были в разработке «воздушные» подошвы Руди).
Если не считать войны с правительством, мы были в отличной форме. Что было похоже на поговорку: если не считать, что ты сидишь в камере смертников, жизнь прекрасна.
Еще один хороший признак. Мы продолжали расширять свою штаб-квартиру. В тот год мы вновь переехали – в собственное здание площадью сорок тысяч квадратных футов (3716 кв. м. – Прим. пер.) в Бивертоне. Мой кабинет был шикарный и огромный, больше, чем все помещение нашей первой штаб-квартиры по соседству с «Розовым ведерком».
И абсолютно пустой. Декоратор решила обставить интерьер в духе японского минимализма с небольшой долей абсурда, что все нашли восхитительным. Она полагала, что будет уморительно поставить рядом с моим письменным столом кожаное кресло в виде гигантской бейсбольной перчатки. «Теперь, – сказала она, – вы можете сидеть в нем каждый день и думать о ваших… спортивных вещах».
Я плюхнулся в свою «перчатку», как фал-бол (мяч, отбитый за лицевую линию и считающийся вне игры. – Прим. пер.), и выглянул в окно. Наверное, в тот момент я упивался, смакуя юмор и иронию. Быть выброшенным из моей бейсбольной команды старшеклассников – это всю жизнь причиняло мне огромную боль, и теперь я восседал в огромной перчатке, в шикарном новом офисе, руководя компанией, которая продавала «спортивные вещи» профессиональным бейсболистам. Но вместо того, чтобы смаковать то, как далеко мы продвинулись, я видел лишь то, как далеко нам предстоит еще пройти. Мое окно выходило на красивый ряд сосен, и я определенно не мог видеть за деревьями лес.
В тот момент я не понял, что происходит, но теперь я знаю. Годы стрессовых ситуаций брали свое. Когда ты видишь одни проблемы, перед тобой нет ясной картины. И как раз в тот момент, когда мне требовалось самое острое зрение, я приблизился к состоянию полного изнеможения.
Я открыл нашу последнюю в 1978 году встречу «задолицых» зажигательной речью, стараясь воодушевить войска, а главное – себя. «Господа, – сказал я, – наша отрасль – это Белоснежка и семь гномов! И в следующем году… наконец-то… один из гномов собирается залезть к Белоснежке в штаны!»
Я пояснил, будто эта метафора требовала разъяснения, что Белоснежка – это «Адидас». И наше время, прогремел я, пришло!
Но прежде мы должны начать продажу одежды. Помимо чисто арифметического факта, заключавшегося в том, что «Адидас» продавал больше предметов одежды, чем обуви, одежда давала ему психологическое преимущество. Одежда помогала им заманивать лучших спортсменов, предлагая им соблазнительные спонсорские контракты. «Смотрите, что мы можем вам дать», – говорили в «Адидас» спортсменам, демонстрируя им свои футболки, шорты и прочие предметы одежды. И то же самое они могли говорить, садясь за стол переговоров с владельцами магазинов спортивных товаров.
Кроме того, если нам когда-либо удастся завершить нашу борьбу с федералами и если когда-нибудь мы захотим стать публичной компанией, мы не получим от Уолл-стрит того уважения, которое заслуживаем, если мы останемся всего лишь обувной компанией. Нам нужно диверсифицировать продукцию, а это значит, нам надо разработать внушительную линейку предметов одежды, что, в свою очередь, означает, что нам необходимо найти кого-то чертовски хорошего как специалиста, чтобы поручить ему руководство этим направлением. На нашей сходке «задолицых» я объявил имя этого специалиста – Рон Нельсон.
«Почему его?» – спросил Хэйес.
«Ну, – отвечал я, помедлив, – для начала, он – сертифицированный специалист в области финансового учета…»
Хэйес замахал руками у себя над головой. «Это как раз то, что нам надо, – сказал он, – еще один бухгалтер».
Тут мне крыть было нечем. Похоже, я действительно никого, кроме бухгалтеров, не нанимал. И юристов. И не потому, что у меня была некая странная привязанность к бухгалтерам и юристам. Я просто не знал, где еще искать таланты. Я напомнил Хэйесу, причем уже не в первый раз, что не существует ни школ для обувщиков, ни университета обуви, откуда мы могли бы набирать специалистов. Нам приходилось брать на работу людей с острым умом – это был наш приоритет, и бухгалтеры с юристами, по крайней мере, доказали, что они способны освоить трудный предмет. И пройти большое испытание.
Большинство из них также продемонстрировало, что они обладают базовыми знаниями. Когда вы нанимали бухгалтера, вы знали, что он или она умеет считать. Когда вы нанимали юриста, вы знали, что он или она умеет говорить. Когда же вы нанимали специалиста по маркетингу или разработчика продукта, что вы о нем знали? Ничего. Вы не могли представить, на что он или она способен и способен ли он или она вообще что-то делать. А типичный выпускник школы бизнеса? Ни он, ни она не хотели бы начинать с того, чтобы навьючить на себя сумку с обувью и пойти торговать ею. Плюс ко всему у них был нулевой опыт, поэтому вы просто играли в лотерею, основываясь на том, насколько хорошо они выдержали собеседование. У нас не было достаточного допуска на ошибку, чтобы кидать кости наудачу при найме каждого новичка.
Кроме того, если говорить о бухгалтерах, то Нельсон был лучшим. Всего за пять лет он стал менеджером, что было до смешного быстро. В старших классах средней школы он был лучшим учеником (к сожалению, мы лишь много позже узнали, что он учился в старших классах средней школы в восточной части штата Монтана, где в классе было всего пять учеников).
Оценивая негативные аспекты, следует сказать, что, поскольку он так быстро стал бухгалтером, Нельсон был молод. Возможно, слишком молод, чтобы справиться с такой большой задачей, как запуск линии по производству одежды. Но я успокаивал себя, говоря, что его молодость не будет критическим фактором, поскольку запуск линии был относительно легким предприятием. В конце концов, это не было связано ни с техникой, ни с физикой. Как однажды язвительно заметил Штрассер, «воздушных» шорт ведь не бывает».
Затем, во время одной из первых моих встреч с Нельсоном, сразу после того, как я нанял его, я заметил, что… у него совершенно не было чувства стиля. И чем больше я оглядывал его с ног до головы, с одной и другой стороны, тем больше убеждался в том, что он одевался хуже всех, кого я когда-либо знал. Даже хуже Штрассера. Даже у машины Нельсона, которуя я заметил однажды на парковке, окраска была отвратительного коричневого оттенка. Когда я заметил это Нельсону, он рассмеялся. У него хватило самообладания, чтобы похвастать, что все машины, которые были у него, имели тот же коричневый оттенок.
«Возможно, я допустил ошибку с Нельсоном», – признался я Хэйесу.
Я тоже не был франтом. Но я знал, как надо носить приличный костюм. И поскольку моя компания запускала линию по производству одежды, я стал пристальнее смотреть за тем, что я ношу и что носят люди рядом со мной. На втором фронте я был потрясен. Банкиры и инвесторы, представители компании «Ниссо», все, на кого нам надо было произвести впечатление, проходили по нашим новым коридорам, и, когда они замечали Штрассера в его гавайской рубашке или Хэйеса в его комбинезоне бульдозериста, они моргали, протирали глаза и оглядывались. Иногда наша эксцентричность принимала смешной оборот (топ-менеджер компании «Фут Локер» сказал: «Мы думаем о вас, ребята, как о богах, пока не видим ваши автомобили»). Но в большинстве случаев она ставила нас в неловкое положение. И имела потенциально разрушительные последствия. Поэтому ближе ко Дню благодарения, в 1978 году, я ввел строгий корпоративный дресс-код. Реакция не была полна энтузиазма. Корпоративная фигня, ворчали многие. Надо мной подсмеивались. По большей части меня игнорировали. Даже для случайного наблюдателя стало ясно, что Штрассер решил одеваться еще хуже. Когда он однажды заявился на работу в мешковатых шортах-бермудах, будто он выгуливал по пляжу счетчик Гейгера, я не смог оставаться в стороне. Это было неповиновением начальству.
Я перехватил его в коридоре и вызвал к себе. «Ты должен носить пиджак с галстуком!» – сказал я.
«Мы не компания по выпуску пиджаков и галстуков!» – парировал он.
«Теперь – да».
Он вышел от меня.
В последующие дни Штрассер продолжил одеваться с подчеркнутой небрежностью, граничащей с конфронтацией. Поэтому я оштрафовал его. Я распорядился, чтобы бухгалтер вычел семьдесят пять долларов из следующей зарплаты Штрассера. Разумеется, он закатил истерику. И замыслил мщение. Спустя несколько дней он пришел с Хэйесом на работу в пиджаке и при галстуке. Но в нелепых пиджаках и галстуках. В полоску и клеточку, в клеточку и в горошек, и все это из искусственного шелка и полиэстера – и джутовой мешочной ткани? Они хотели представить это как фарс, но так же и как протест, жест гражданского неповиновения, а я не был в настроении для того, чтобы позволить двум модникам в духе Ганди устроить забаставку против дресс-кода. Я не стал приглашать их на следующую неформальную встречу «задолицых». Затем я приказал им уйти домой и не возвращаться до тех пор, пока они не будут прилично себя вести и одеваться как взрослые люди.
«И… ты опять оштрафован!» – проорал я на Штрассера.
«Ну, тогда тебе хана!» – крикнул он мне в ответ.
И в тот же самый момент я обернулся. В мою сторону шел Нельсон, одетый еще хуже, чем они. В брюках-клеш из полиэстера, розовой шелковой рубашке, расстегнутой до пупка. Штрассер и Хэйес – это одно, но с какого бодуна встал в ряды протестующих против моего дресс-кода этот новичок? После того как я только что нанял его на работу? Я указал ему на дверь и тоже отправил его домой. По его смущенному, испуганному лицу я понял, что он не протестовал. Он просто по своей природе не был стильным.
Мой новый руководитель подразделения по выпуску одежды.
В тот день я уединился в своем кресле-перчатке и долго, бесконечно долго смотрел в окно. Спортивные вещи. Я знал, что грядет. И, о Боже, оно пришло.
Несколько недель спустя Нельсон стоял перед нами и делал свою официальную презентацию первой линейки спортивной одежды «Найк». Сияя от гордости, расплываясь в улыбке от волнения, он выложил на стол для совещаний все новые предметы одежды. Грязные тренировочные шорты, рваные футболки, мятые толстовки – все эти зловонные предметы выглядели так, будто их собрали, чтобы выбросить в мусорный контейнер или, наоборот, вытащили из него. Верхом всего было то, что Нельсон извлекал каждый предмет из грязного коричневого бумажного пакета, который выглядел так, что в нем, помимо всего прочего, лежал и его обед.
Вначале мы были в шоке. Никто из нас не знал, что сказать. Наконец кто-то хихикнул. Возможно, Штрассер. Затем кто-то что-то промямлил. Возможно, Вуделл. Затем плотину прорвало. Все покатывались от смеха, раскачиваясь взад и вперед и соскальзывая с кресел. Нельсон понял, что он облажался, и в панике стал запихивать принесенные вещи обратно в бумажный пакет, который разорвался, что вызвало у всех новый приступ смеха. Я тоже смеялся, сильнее других, но чувствовал, что в любой момент начну рыдать.
Вскоре после того памятного дня я перевел Нельсона в только что созданный производственный отдел, где его внушительные бухгалтерские таланты помогли ему замечательно справиться с работой. Затем я тихо перевел Вуделля на производство одежды. Он выполнил работу, как всегда, безукоризненно, наладил линию, которая привлекла немедленное внимание и уважение во всей отрасли. Я спросил себя, почему я вообще не поручаю Вуделлю делать все. Включая мою собственную работу. Может, стоило ему полететь на восток и сделать так, чтобы федералы оставили меня в покое?
Среди всего этого хаоса, в этой атмосфере неуверенности в завтрашнем дне нам было нужно нечто для укрепления морального состояния, и мы получили это нечто в самом конце 1978 года, когда мы наконец произвели на свет «Тейлвинд». Разработанный в Эксетере, выпущенный в Японии, плод мысли М. Фрэнка Руди был чем-то большим, чем просто обувью. Это было произведение постмодернистского искусства. Большие, блестящие, ярко-серебряного цвета, с запатентованными Руди «воздушными» подошвами, кроссовки были носителями двенадцати различных инноваций. Мы раскрутили эту модель до небес с помощью броской рекламной кампании, связав ее появление на рынке с марафоном в Гонолулу, во время которого многие бегуны будут обуты в эти новые кроссовки.
ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ БЫЛА СВЯЗАНА СО СПОРТОМ, МОЙ БИЗНЕС И ДАЖЕ ОТНОШЕНИЯ С ОТЦОМ. И ТОЛЬКО МОИ СЫНОВЬЯ НЕ ХОТЕЛИ ИМЕТЬ СО СПОРТОМ НИЧЕГО ОБЩЕГО.
На Гавайи вылетели все, чтобы участвовать в представлении нового продукта целевой аудитории, что превратилось в пьяную вакханалию и пародийную коронацию Штрассера. Я переводил его из юридического в маркетинговое подразделение, вытаскивая его из комфортной зоны, как я любил это делать время от времени с каждым, чтобы они там не засиживались. «Тейлвинд» был первым крупным проектом Штрассера, поэтому он чувствовал себя Мидасом. Нет равных, продолжал он повторять, и кто стал бы выражать недовольство по поводу его небольшого хвастовства. После своего невероятно успешного дебюта «Тейлвинд» превратился в монстра продаж. В течение десяти дней мы думали, что у него будет шанс затмить «вафельные» тренировочные кроссовки.
Затем посыпались рапорты. Клиенты возвращали «Тейлвинд» в магазины в массовом порядке, жалуясь, что кроссовки «взрываются», разваливаются. Вскрытие возвращенной обуви обнаружило фатальный конструктивный недостаток. Мельчайшие частицы металла, содержащиеся в серебряной краске, терлись о верхнюю часть кроссовки, действуя как микроскопические бритвы, разрезая и измельчая ткань. Мы объявили о своего рода отзыве проданного товара и предложили полный возврат денег за приобретенные бракованные кроссовки. Половина первого поколения модели «Тейлвинд» оказалась в мусорных контейнерах.
То, что вначале выглядело как стимул для подъема морального духа, завершилось для каждого из нас сокрушительным ударом по уверенности в себе. Каждый реагировал по-своему. Хэйес накручивал неистовые круги на бульдозере. Вуделл с каждым днем засиживался все дольше в офисе. Я в ошеломленном состоянии курсировал между своим креслом с откидной спинкой и креслом-перчаткой.
Со временем мы все согласились с тем, чтобы делать вид, будто ничего особенного не произошло. Мы получили ценный урок. Не вкладывайте двенадцать инноваций в одну кроссовку. Это предъявляет слишком большие требования к обуви, не говоря уже о дизайнерской команде. Мы напомнили друг другу, что, когда говорят о том, что надо «вернуться к чертежной доске», это рассматривается как дело чести. Мы напомнили друг другу о многочисленных вафельницах, которые угробил Бауэрман.
На следующий год, сказали все мы, вы увидите. На следующий год. Гном сделает Белоснежку.
Но Штрассер пережить этого не мог. Он начал пить, опаздывать на работу. Его манера одеваться стала теперь наименьшей моей проблемой. Возможно, это стало его первой настоящей неудачей, и я всегда буду помнить те тоскливые зимние утренние часы, когда он, едва волоча ноги, входил в мой кабинет с очередными плохими новостями о его «Тейлвинде». Я узнал признаки. Он тоже приближался к тому, что называется «перегореть» на работе.
Единственным человеком, который не был подавлен тем, что произошло с «Тейлвиндом», был Бауэрман. На самом деле катастрофический дебют новой модели помог вытащить его из того болота, в которое его засасывало после отхода от дел. Как же ему нравилось, что он мог сказать мне, сказать всем нам: «Говорил же я вам».
Наши фабрики на Тайване и в Корее продолжали устойчиво работать, в тот год мы открыли новые в Хекмондуайке, Англия, и в Ирландии. Обозреватели деловой прессы, следившие за ситуацией в отрасли, указывали на наши новые фабрики, на наши объемы продаж и говорили, что нас не остановить. Мало кто догадывался, что мы банкроты. Или что наш руководитель по маркетингу погружен в депрессию. Или что наш основатель и президент сидит с огорченным видом в кресле в виде гигантской бейсбольной перчатки.
Этот вирус, когда человек «перегорает» на работе, распространялся в офисе как мононуклеоз. Но в то время, как все мы «перегорали», наш человек в Вашингтоне пылал огнем.
Вершкул сделал все, о чем мы его просили. Он обрабатывал политиков, хватая и удерживая их за пуговицу во время разговора. Он рассылал петиции, лоббировал, отстаивал наше дело со страстностью, хотя не всегда производя впечатление вменяемого человека. День за днем он носился по коридорам конгресса, раздавая в качестве подарков кроссовки «Найк». Крутая халява со «свушем» сбоку. (Зная, что члены палаты представителей должны по закону сообщать о подарках стоимостью свыше 35 долларов, Вершкул всегда вкладывал в коробку ценник на 34 доллара 99 центов.) Но каждый политик говорил Вершкулу одно и то же: «Дай мне что-нибудь в письменной форме, сынок, что-то, что я мог бы изучить. Дай мне общий расклад вашего дела».
Поэтому Вершкул потратил несколько месяцев на составление «расклада» – и в процессе написания перенес нервное расстройство. То, что должно было иметь, как предполагалось, форму краткого резюме, лаконичной сводки, раздулось как шар, превратившись в исчерпывающую историю, «Взлет и падение империи «Найк» на сотнях страниц. Она была длиннее романов Пруста, Толстого, но, в отличие от них, совершенно нечитабельна. У этой истории имелось даже название. Без малейшей иронии Вершкул назвал ее: «Вершкул об американской продажной цене, том 1-й».
Когда вы думали о ней, когда вы действительно о ней задумывались, то, что вас действительно пугало, было как раз вот это упоминание в конце строки: том 1-й.
Я направил Штрассера обратно на восток, чтобы стреножить Вершкула, поместить его, если потребуется, в психушку. «Просто успокой парня», – сказал я ему. В первый же вечер они отправились в местный паб в Джорджтауне, приняли по коктейлю или три раза по столько, и к концу посиделок Вершкул спокойнее не стал. Напротив. Он забрался на стол и выступил с шумной агитационной речью перед клиентурой заведения. Он был как две капли воды Патрик Генри. «Дайте мне «Найк» или дайте мне смерть!» Завсегдатаи готовы были проголосовать за последнее. Штрассер попытался стащить Вершкула со стола, но тот еще только разогревался. «Неужели вы не понимаете, люди, – кричал он, – что здесь судят свободу! СВОБОДУ! Знаете ли вы, что отец Гитлера был таможенным инспектором?»
Позитив здесь был в том, что, как я полагаю, Вершкул всерьез напугал Штрассера. Он был похож на своего отца, старика Штрассера, когда вернулся и рассказал мне о психическом состоянии Вершкула. Мы от души посмеялись, и смех этот имел целебное воздействие. Затем он передал мне копию фолианта «Вершкул об американской продажной цене, том 1-й». Вершкул даже сделал для него переплет. Кожаный. Я посмотрел на название, напечатанное заглавными буквами, – WASP (Werschkul on American Selling Price – в сокращении wasp – оса. – Прим. пер.). Идеально. Как и сам Вершкул.
«Ты собираешься прочитать это?» – спросил Штрассер.
«Подожду, когда выйдет фильм по этому сценарию», – сказал я, бросая фолиант со шлепком себе на стол. Я понял тогда, что мне придется самому летать в Вашингтон, округ Колумбия, и самому вступать в схватку. Другого пути не было. И, возможно, я излечусь от того, что во мне перегорело. Возможно, подумал я, лекарство от любой усталости и изнеможения таится в том, что надо просто упорнее работать.
Два миллиарда ног
Он занимал крошечный офис в Казначействе, размером с бельевой шкаф у моей мамы. В нем едва хватало места для канцелярского стола темно-серого цвета, не говоря уже о стуле такого же цвета для редких посетителей.
Он указал мне на этот стул. «Садитесь», – сказал он.
Я сел. Оглянулся, не веря своим глазам. И это было домом человека, высылавшего нам счет за счетом на 25 миллионов долларов? Потом я перевел взгляд на самого бюрократа с глазами-бусинками. Какое существо напомнил он мне? Не червяка, нет, он был больше размером. Не змею. Он был попроще, чем она. Потом я понял. Домашнего осьминога, которого держал у себя Джонсон. Я вспомнил, как Растяжка затащила беспомощного краба в свое логово. Да, этот бюрократ был морским чудищем, кракеном. Микрокракеном. Бюрокракеном.
Подавляя эти мысли, скрывая свою враждебность и страх, я изобразил на лице вымученную, фальшивую улыбку и попробовал в дружеском тоне объяснить, что все дело представляло собой гигантское недоразумение. Даже коллеги бюрокракена по Казначейству встали на нашу сторону. Я передал ему документ. «Вот, – сказал я, – меморандум, в котором прямо говорится о том, что американская продажная цена не применима к кроссовкам «Найк». И этот меморандум подготовлен Казначейством».
«Хм-м, – сказал бюрокракен. Он просмотрел документ и отшвырнул его от себя. – Он не является обязательным для Таможенного управления».
Не является обязательным? Я стиснул зубы. «Но все это дело, – сказал я, – не что иное, как результат грязных махинаций со стороны наших конкурентов. Нас наказывают за наш успех».
«Мы так не считаем».
«А кого… вы имеете в виду под словом «мы»?»
«Правительство США».
Мне трудно было поверить в то, что этот… человек… говорил от имени правительства США, но я этого не сказал. «Мне трудно поверить, что правительство США хотело бы удушить свободное предпринимательство, – сказал я, – что правительство США хотело бы стать участником такого обмана и махинаций. Что правительство США, мое правительство хотело бы запугать маленькую компанию в штате Орегон. Сэр, при всем уважении, я объездил весь мир, я видел, как в слаборазвитых странах коррумпированные правительства именно так и поступают. Я видел, как головорезы помыкают местными компаниями, с высокомерием, безнаказанно, и я поверить не могу, что мое собственное правительство стало бы вести себя подобным же образом».
Бюрокракен ничего не сказал. Слабая ухмылка промелькнула на его тонких губах. Меня тут же поразило, что он выглядел чудовищно несчастным, впрочем, все функционеры выглядят несчастными. Когда я вновь начал говорить, вся его неудовлетворенность, все несчастье выразились в беспокойном, маниакально энергичном движении. Он подпрыгнул со стула и начал мерить комнатку шагами. Туда-сюда, пританцовывая за своим столом. Затем сел, после чего повторил все сначала. Это было не мерное расхаживание мыслителя, а возбужденное метание зверя в клетке. Три шажка влево, три шажка вправо, тормозя и прихрамывая. Когда он вновь уселся за стол, то прервал меня на полуслове. Сказал, что ему было наплевать, что я говорил или думал, что ему было все равно, «справедливо» там что-то было или «не по-американски» (он показал кавычки в воздухе своими костлявыми пальцами).
Ему просто нужно было получить свои деньги. Свои деньги?
Я обхватил себя руками. С того момента, как я поймал себя на том, что перегораю, эта старая привычка становилась все заметнее. В 1979 году я часто выглядел так, будто пытался удержать себя руками, не дать себе разлететься на части, предотвратить исторжение содержимого во мне. Я хотел привести еще один аргумент, опровергнуть очередное заявление бюрокракена, но я уже не доверял себе, что смогу говорить. Я боялся, что начну молотить конечностями как цепами, что начну орать благим матом. И что душу выбью из его телефона. Мы составили еще ту пару – он со своим бешеным метанием по кабинету и я со своим яростным сдавливанием себя в объятиях.
Стало ясно, что мы в тупике. Мне надо было что-то предпринимать. Поэтому я начал делать шаги в сторону примирения. Я сказал бюрократену, что уважаю его позицию. Он должен был выполнять свою работу. И это была очень важная работа. Должно быть, это не так легко заставлять оплачивать обременительные пошлины, все время рассматривать жалобы. Я оглядел его кабинет-камеру как бы с сочувствием. Однако, сказал я, если «Найк» принудят заплатить эту непомерную сумму, голая правда будет заключаться в том, что это вышибет нас из бизнеса.
«И что?» – спросил он.
«И что?» – переспросил я.
«Да-а, – сказал он. – ну… и что? Мистер Найт, моя обязанность собирать импортные пошлины для Казначейства США. Для меня этим ограничивается сфера моих действий. Что должно случиться… то случится».
Я обхватил себя руками так сильно, что со стороны могло показаться, будто на мне надета невидимая смирительная рубашка.
Затем я выпустил себя из своих объятий и встал. Осторожно взял я свой портфель и сказал бюрокракену, что не намерен принимать его решение и не намерен сдаваться. Если потребуется, я встречусь с каждым конгрессменом и сенатором и буду в частном порядке ходатайствовать о своем деле. Внезапно я ощутил огромное сочувствие к Вершкулу. Неудивительно, что его сорвало с петель. Разве вы не знаете, что отец Гитлера был таможенным инспектором?
«Делайте то, что должны сделать, – ответил бюрокракен. – Всего хорошего».
Он вернулся к своим бумагам. Посмотрел на часы. Время приближалось к пяти часам. Не так много его оставалось до конца рабочего дня, чтобы успеть искорежить жизнь еще кому-то.
Я стал более или менее регулярно наведываться в Вашингтон. Каждый месяц я встречался с политиками, лоббистами, консультантами, бюрократами, со всеми, кто мог бы помочь. Я погрузился в ту странную политическую преисподнюю и стал читать все, что мог найти, про таможню.
Я даже бегло просмотрел WASP, том 1-й.
Ничто не срабатывало.
В конце лета 1979 года мне устроили встречу с одним из сенаторов от штата Орегон, Марком О. Хэтфильдом. Пользующийся большим уважением, с отличными связями, Хэтфильд был председателем Сенатского комитета по ассигнованиям. Одним телефонным звонком он мог бы заставить боссов бюрокракена разрешить это противоречие, связанное с необходимостью уплаты пошлины в размере 25 миллионов долларов. Поэтому я провел несколько дней в подготовке, изучая материалы, которые потребуются на встрече, и провел несколько тайных совещаний с Вуделлем и Хэйесом.
«Хэтфильду надо просто все увидеть нашими глазами, – сказал Хэйес. – Его уважают по обе стороны, противники и сторонники. Некоторые называют его святым Марком. На нем нет и тени злоупотребления властью. Он шел нога в ногу с Никсоном при разбирательстве дела Уотергейта. И он дрался как тигр, чтобы добиться ассигнований на строительство плотины на реке Колумбия».
«Похоже, это наш лучший шанс», – сказал Вуделл.
«Возможно, наш последний шанс», – поправил я его.
В тот вечер, когда я прилетел в Вашингтон, мы с Вершкулем вместе поужинали и порепетировали. Как два актера, читали текст по ролям, прошлись по каждому аргументу, которым Хэтфильд мог нас осадить. Вершкул постоянно ссылался на свой WASP, том 1-й. Иногда даже на том 2-й.
«Забудь об этом, – сказал я. – Давай будем все излагать проще».
На следующее утро мы медленно поднимались по ступеням, ведущим к двум этажам офисных помещений конгресса. Я взглянул на великолепный фасад, на все эти колонны и блестящий мрамор, на огромное полотнище флага и должен был остановиться. Я вспомнил Парфенон, храм богини Ники. Я понимал, что этот день также станет одним из ключевых моментов моей жизни. Независимо от того, как все получится, я не хотел, чтобы он прошел буднично, не осознав его значения, не пропустив его через себя. Поэтому я стоял и вглядывался в колонны. Я был восхищен солнечным светом, отражавшимся от мрамора. Я стоял так долго, очень долго…
«Ты идешь?» – спросил Вершкул.
Это был летний день, пылавший жаром. Моя рука, сжимавшая портфель, была мокрой от пота. Костюм промок насквозь. Я выглядел так, будто только что попал в ливень. Как я мог встретиться с сенатором США в подобном виде? Как я собирался пожать ему руку?
Как мне в таком состоянии удастся ясно мыслить и соображать?
Мы вошли в приемную Хэтфильда, и одна из его помощниц провела нас в зал ожидания. КПЗ. Я вспомнил рождение обоих своих сыновей. Вспомнил Пенни. Вспомнил о родителях. О Бауэрмане. О Греле. О Пре. О Китами. О Джеймсе Справедливом.
«Сенатор вас сейчас примет», – сказала помощница.
Она провела нас в огромный, освежающе прохладный офис. Хэтфильд вышел из-за своего письменного стола. Он по-товарищески приветствовал нас, как земляков-орегонцев, и провел к креслам у окна, где у него было отведено место для встреч и бесед. Мы все сели. Хэтфильд улыбался. Вершкул улыбался. Я заметил Хэтфильду, что мы с ним дальние родственники. Моя мать, насколько я знал, была троюродной сестрой сенатора. Мы поговорили немного о Розбурге.
Потом все мы откашлялись, и стало слышно, как шелестит кондиционер. «Итак, сенатор, – начал я, – причина, почему мы пришли к вам сегодня…»
Он поднял руку: «Я знаю все о вашей ситуации. Мой персонал прочитал «Вершкул об американской продажной цене» и проинформировал меня обо всем. Чем я могу помочь?»
В ошеломлении я закрыл рот. Повернулся в Вершкулю, чье лицо стало такого же цвета, как его розовая бабочка. Мы потратили столько времени, репетируя то, как будем убеждать Хэтфильда в правоте нашего дела, что оказались не готовы к возможности… успеха. Мы наклонились друг к другу. Полушепотом посовещались о различных способах того, как Хэтфильд мог бы нам помочь. Вершкул считал, что ему следует написать письмо президенту Соединенных Штатов или же, возможно, руководителю Таможенной службы. Я же хотел, чтобы он позвонил по телефону. Мы не могли прийти к согласию. Начали спорить. Кондиционер воздуха издавал звуки, будто смеялся над нами. Наконец, я утихомирил Вершкула, утихомирил кондиционер и повернулся к Хэтфильду: «Сенатор, – сказал я. – Мы не были готовы к тому, что вы будете сегодня настолько любезны. По правде говоря, мы не знаем, чего мы хотим. Нам придется еще раз прийти к вам».
Я вышел, не оглядываясь и не смотря, следовал ли за мной Вершкул.
Я вылетел обратно домой и прибыл как раз ко времени, чтобы председательствовать на двух важнейших мероприятиях. В центре Портленда мы открыли дворец розничной торговли площадью три тысячи пятьсот квадратных футов (более 325 кв. м. – Прим. пер.), который был моментально забит толпами покупателей. Очереди в кассы были бесконечными. Люди бились за место, чтобы примерить… все, что предлагалось на прилавках. Мне пришлось нырнуть в толпу и помогать персоналу. На какой-то момент я ощутил, будто я опять в гостиной моих родителей беру мерку со стопы, подгоняю нужные размеры обуви для бегунов. Это напоминало некий бал, фурор и своевременное напоминание того, почему и для чего мы ввязались во все это.
Затем был очередной переезд нашей штаб-квартиры. Нам требовалось еще больше места, и мы нашли его в здании площадью сорок шесть тысяч квадратных футов (4273 кв. м. – Прим. пер.) со всеми удобствами – парилкой, библиотекой, спортзалом и таким числом комнат для переговоров, что мне трудно было их пересчитать. Подписывая договор аренды, я вспомнил те вечера, когда объезжал город с Вуделлем в поисках приличного места. Я покачал головой. Но победного чувства я не ощутил. «Все это может исчезнуть завтра же», – прошептал я.
Спору не было, мы стали большими. Если быть точнее, мы не были слишком большими для наших штанов, как говаривала мамаша Хэтфильд. Мы двигались тем же путем, которым шли всегда. Все триста служащих прибыли на выходные и упаковали свои вещи в личные машины. Мы предложили им пиццу и пиво, грузчики загрузили более тяжелое оборудование со склада в фургоны, а затем, выстроившись в караван, мы пустились вниз по шоссе.
Я сказал кладовщикам, чтобы они оставили на старом месте и не брали с собой кресло в виде гигантской бейсбольной перчатки.
Осенью 1979 года я вылетел в Вашингтон на вторую встречу с бюрокракеном. На этот раз он не был таким злющим. Хэтфильд подключился к решению вопроса. Как и другой сенатор от Орегона, Боб Пэквуд, председатель финансового комитета конгресса, в полномочия которого входил надзор за деятельностью Казначейства. «Я дико… устал, – сказал бюрокракен, указывая на меня одним из своих щупалец, – получать напоминания от ваших высокопоставленных друзей».
«О, извините, – сказал я. – Полагаю, удовольствия в этом мало. Но вы будете получать от них напоминания до тех пор, пока эта ситуация не разрешится».
«Неужели вы не понимаете, – прошипел он, – что мне не нужна эта работа? Знаете ли вы, что у моей жены… есть… деньги! Мне не нужно работать, знаете ли».
«Повезло вам. И ей». Чем скорее ты уйдешь на пенсию, подумал я, тем лучше будет.
Но бюрокракен никогда не соберется на пенсию. В дальнейшем его будут видеть на том же месте и при республиканской, и при демократической администрациях. Неотвратимо. Как смерть и налоги. На самом деле однажды, в отдаленном будущем, он окажется в небольшом узком кругу бюрократов, которые дадут зеленый свет федеральным агентам штурмовать предместье в Уэйко. (Речь идет о 50-дневной осаде ранчо Маунт Кармел в 1993 году, в котором обосновалась крайне деструктивная секта «Ветвь Давидова», отколовшаяся от адвентистов Седьмого дня, во главе со своим мессией, извращенцем Давидом Корешем, практиковавшим насилие над детьми. В осаде принимали участие не только агенты ФБР, но и Национальная гвардия США (несколько сотен солдат), а также вертолеты, танки, БМП и БТРы. Это была крупнейшая и бездарнейшая операция против гражданского населения в США в ХХ веке. В ходе ее были убиты 82 члена секты, в том числе 20 детей в возрасте от 3 лет и старше, а также 4 агента ФБР. – Прим. пер.).
Поскольку бюрокракен потерял самообладание, я смог моментально переключить свое внимание на другую угрозу нашему существованию – производственную. Те же самые условия, которые привели к экономическому коллапсу Японию – колебание курса валюты, рост стоимости рабочей силы, нестабильность правительства, – складывались теперь на Тайване и в Корее. Вновь пришло время поиска новых фабрик, новых стран. Пришло время подумать о Китае.
Вопрос был не в том, как попасть в Китай. Та или иная обувная компания в конце концов проникла бы в Китай, но тогда все остальные устремятся вслед за ней. Вопрос был в том, как оказаться там первым. Проникновение туда первым означало бы получение конкурентного преимущества, которым можно было бы пользоваться на протяжении десятилетий, и не только в производственном секторе Китая, но и на его рынках, и у его политических лидеров. Вот это была бы удача. На наших первых совещаниях по вопросу о Китае мы всегда повторяли: миллиард населения. Два. Миллиарда. Ног.
В нашей команде был один добросовестный эксперт по Китаю. Чак. Помимо того что он работал бок о бок с Генри Киссинджером, он был членом правления компании «Аллен Груп», производителя автозапчастей с оригинальным дизайном на китайском рынке. Ее генеральным директором был Уолтер Киссинджер, брат Генри. Чак сообщил нам, что «Аллен» в ходе своего исчерпывающего исследования обнаружила впечатляющего помощника по Китаю, которого звали Дэвидом Чангом. Чак знал Китай и знал людей, которые знали Китай, но никто не знал Китай так, как его знал Дэвид Чанг.
«Скажем так, – пояснил Чак. – Когда Уолтер Киссинджер захотел попасть в Китай и не смог, он обратился не к Генри. Он позвонил Чангу».
Я бросился к телефону.
Вхождение династии Чанг в систему «Найка» началось не очень удачно. Для начала он был прилизанно-опрятным. Я думал, прилизанно-опрятным был Вершкул, до тех пор, пока я не увидел Чанга. Голубой блейзер, золотые пуговицы, сильно накрахмаленная рубашка из пестротканой льняной материи, полковой галстук в полоску – все это он носил без видимого напряжения. Не стыдясь и не смущаясь. Он был продуктом любви к стилям Ральфа Лорена и Лоры Эшли (Ральф Лорен, урожденный Ральф Лившиц, – американский дизайнер одежды из семьи эмигрантов из России, который заимствовал модельные стили одежды у основательницы бренда, английского дизайнера интерьера Лоры Эшли. – Прим. пер.) в виде узоров типа «сердечка Пейсли».
Я провел его по всему офису, представляя его каждому, а он проявил завидный талант, отвечая абсолютно невпопад. Он встретился с Хэйесом, весившим 330 фунтов, со Штрассером, вес которого был 320 фунтов, а также с Джимом Маннсом, нашим новым финансовым директором, которому до 350 фунтов не хватало лишь веса шоколадного батончика «Маундс» с кокосовой начинкой. Чанг отмочил шутку в адрес нашей «полтонны высшего руководства».
«Столько лишнего веса, – сказал он, – в спортивной компании?»
Никто не рассмеялся.
«Возможно, в вашем представлении», – сказал я ему, поспешно уводя его дальше. Мы прошли по коридору и налетели на Вуделля, которого я незадолго до этого вызвал с Восточного побережья. Чанг нагнулся и пожал Вуделлю руку. «Несчастный случай на лыжах?» – спросил Чанг.
«Что?» – переспросил Вуделл.
«Когда вам разрешат встать с этого кресла?» – спросил Чанг.
«Никогда, недоумок».
Я вздохнул. «Ну, – сказал я Чангу, – отсюда уж нам некуда больше идти – только наверх».
Что такое победа?
Мы все собрались в зале совещаний, и Чанг изложил нам свою биографию. Родился он в Шанхае и вырос в роскоши. Его дедом был третий по значимости производитель соевого соуса в Северном Китае, а отцом – должностное лицо, имевшее третий высший ранг в иерархии китайского Министерства иностранных дел. Однако когда Чанг был подростком, грянула революция. Чанг бежал в Соединенные Штаты, в Лос-Анджелес, где он посещал Голливудскую среднюю школу (4-годичное среднее учебное заведение для учащихся 9–12-х классов. – Прим. пер.). Он часто мечтал, что вернется на родину, и его родители тоже думали так же. Они продолжали оставаться в тесном контакте со своими друзьями и своей семьей в Китае, а его мать сохраняла чрезвычайно близкие отношения с Сун Цинлин, крестной матерью революции (1893–1981; жена Сунь Ятсена, в 1927–1931 гг. проживала в СССР, лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1951 г.), с 1954 г. – председатель Общества советско-китайской дружбы, почетный председатель КНР. – Прим. пер.).
Между тем Чанг посещал занятия в Принстоне, изучал архитектуру и переехал в Нью-Йорк. Он устроился на работу в хорошую архитектурную фирму, в которой трудился над проектом Левиттауна (послевоенная Американская мечта – каркасные поселки Билла Левитта, выходца из России. Тысячи домов, полностью обставленных мебелью, оборудованной кухней и санузлом, общей площадью 260 кв. м, были построены и продавались или сдавались внаем по баснословно низким ценам. Новоселов также ждали свежие продукты в холодильнике и на кухне. Б. Левитт использовал ту же схему, что и Фил Найт, – брал кредиты и все деньги пускал в дело, строил и в США, и за рубежом, но с кредиторами расквитаться не получилось. Украл из благотворительного фонда 17 миллионов долларов, был судим, обанкротился и умер больным и в нищете. – Прим. пер.). Затем Чанг создал собственную фирму. Он зарабатывал приличные деньги, делал хорошую работу, но отчаянно скучал. Он не испытывал удовольствия и не чувствовал, что созидает что-то стоящее.
Однажды один его приятель из Принстона пожаловался, что не может получить визу, чтобы посетить Шанхай. Чанг помог своему другу получить ее, а также поспособствовал ему в организации встреч с деловыми людьми. Ему понравилось это занятие. Играть роль эмиссара, посредника – это было лучшим способом использовать его время и таланты.
Даже с его помощью, предостерегал Чанг, попасть в Китай было чрезвычайно сложно. Это был трудоемкий процесс. «Вы не можете просто обратиться за разрешением посетить Китай, – сказал он. – Вы должны официально попросить китайское правительство, чтобы оно пригласило вас. Бюрократия – это еще мягко сказано».
Я прикрыл глаза и представил себе, как где-то на другом конце света обитает китайский вариант бюрокракена.
Я также вспомнил бывших американских вояк, которые растолковывали мне, 24-летнему парню, тонкости ведения японского бизнеса. Я в точности последовал их совету и никогда об этом не пожалел. Поэтому под руководством Чанга мы составили письменное обращение.
Оно получилось длинным. Почти таким же длинным, как «Вершкул об американской продажной цене, том 1-й». И мы тоже переплели его.
Часто мы спрашивали друг друга: неужели кто-то действительно собирается прочитать все это?
Ну, знаешь ли, говорили мы, Чанг говорил, что это делается именно так.
Мы отправили обращение в Пекин безо всякой надежды.
На первой же сходке «задолицых» в 1980 году я объявил, что, хотя мы и одержали верх над федералами, так может продолжаться целую вечность, если мы не сделаем что-то смелое, что-то безумное, выходящее за рамки. «Я много думал об этом, – сказал я, – и считаю, что нам самим надо установить… «американскую отпускную цену».
Собрание «задолицых» расхохоталось.
Затем они перестали смеяться и посмотрели друг на друга.
Мы потратили остаток выходных, обкатывая идею так и сяк. Возможно ли это?
Да не-ет, невозможно. Можем ли мы? Ой, да ни в коем случае. Хотя… может быть?
Мы решили попробовать. Мы выпустили новые кроссовки для бега с нейлоновым верхом и назвали эту модель One Line. Это была имитация, клон, дешевка, с простым логотипом, сделанная в Сако, на устаревшей фабрике Хэйеса. Мы оценили ее очень дешево, чуть выше себестоимости. Теперь таможенники должны будут использовать эту «конкурирующую» обувь как новый ориентир для установления нам импортных пошлин.
Это было как дразнящий удар. Просто для того, чтобы привлечь их внимание. Затем мы нанесли левый хук. Мы выпустили рекламный телеролик – историю о маленькой компании в Орегоне, которая ведет борьбу с плохим правительством. Ролик начинался с показа одинокого бегуна на дороге, тогда как глубокий закадровый голос превозносил идеи патриотизма, свободы, американского образа жизни. И борьбы с тиранией. Людей эта реклама серьезно распалила.
Затем мы ударили наотмашь. 29 февраля 1980 года мы подали антимонопольный иск на 25 миллионов долларов в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, утверждая, что наши конкуренты и соответствующие резиновые компании, прибегнув к закулисной деловой практике, вступили в сговор, чтобы выжать нас из бизнеса.
Мы сидели, откинувшись на спинки стульев, ждали. Мы знали, что это не займет много времени, и действительно, так оно и вышло. Бюрокракен психанул. Выступил с угрозой, что развяжет ядерную войну, что бы это не означало. Это не имело значения. И он сам не имел значения. Его боссы и боссы его боссов больше не хотели этой борьбы. Наши конкуренты и их пособники в правительстве осознали, что недооценили нашу силу воли.
И немедленно выступили инициаторами переговоров о мирном, досудебном соглашении.
День за днем наши юристы обрывали мой телефон. Из какого-то правительственного учреждения, из какой-то юридической конторы, обслуживающей «голубые фишки», из какого-то конференц-зала на Восточном побережье, где они вели переговоры с противоположной стороной, юристы звонили, чтобы обсудить со мной последние незакрепленные, «плавающие» предложения о мировой, и я отвергал их наотмашь.
Однажды юристы сообщили, что мы могли бы урегулировать все дело без промедления и избежав драматических событий в зале суда за кругленькую сумму в 20 миллионов долларов.
«Ни за что», – сказал я.
В другой раз они позвонили и сказали, что мы можем все утрясти за 15 миллионов долларов.
«Не смешите меня», – ответил я.
По мере того как сумма становилась все меньше, я выдержал несколько бесед на повышенных тонах с Хэйесом, Штрассером и своим отцом. Они хотели, чтобы я заключил мировую и покончил с этим делом. «Какая же твоя идеальная сумма?» – спросили они. «Нулевая», – ответил я.
Я не хотел платить ни пенни. Уплата даже одного пенни была бы несправедливостью.
Но Джакуа, кузен Хаузер и Чак, которые все вместе консультировали меня по этому делу, как-то усадили меня за стол, чтобы объяснить, что правительству надо было получить хотя бы что-то, чтобы спасти лицо. Оно не могло покинуть поле сражения с пустыми руками. Когда переговоры окончательно застопорились, я провел с Чаком встречу один на один. Он напомнил мне, что до тех пор, пока эта схватка будет преследовать нас, мы и думать не можем о том, чтобы стать публичной компанией, а если мы не станем публичной компанией, то останется и риск потерять все.
Я стал раздражительным. Я жаловался на отсутствие справедливости. Я говорил о том, чтобы держаться и не сдаваться. Говорил, что, возможно, я вообще никогда не хотел становиться публичной компанией. И вновь я выражал опасение, что превращение «Найк» в публичную компанию изменит ее суть, разрушит ее, передав контроль в чужие руки. Что будет тогда с культурой орегонского трека, к примеру, если она станет предметом для решения голосованием акционеров или же корпоративных рейдерских требований? Мы уже вкусили немного подобного сценария, столкнувшись с небольшой группой облигационеров. Расширяя масштабы и впуская к себе тысячи акционеров, мы столкнемся с ситуацией, которая будет в тысячу раз хуже. Кроме того, я вынести не мог мысли о том, чтобы какой-то титан скупил акции, превратившись в бегемота на правлении директоров. «Я не хочу терять контроль, – сказал я Чаку. – Это вызывает у меня самый большой страх».
«Ну… возможно, есть способ стать публичной компанией, не теряя контроля», – сказал он.
«Что?»
«Ты можешь выпустить два типа акций – класса «А» и класса «Б». Обычные акции класса «Б» будут приобретаться всеми, и каждая такая акция будет означать один голос. Основатели и внутренний круг, а также твои конвертируемые облигационеры получат привилегированные акции класса «А», что даст им право избрания трех четвертей состава совета директоров. Другими словами, ты аккумулируешь огромные суммы денег, ускоришь свой рост, перейдя в режим «турбонаддува», одновременно с гарантией, что контроль остается в твоих руках».
Я взглянул на него, потеряв дар речи. «Мы действительно можем это сделать?»
«Это непросто. Но «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост», а также пара других компаний это сделали. Думаю, и ты сможешь».
Может, это не было сатори или кэнсё, но подействовало как мгновенное просветление. В мгновение ока. Прорыв, который я искал долгие годы. «Чак, – сказал я, – это звучит, как будто… ответ есть».
На следующих посиделках «задолицых» я изложил концепцию акций класса «А» и класса «Б», и у всех была одна и та же реакция: наконец-то. Но я предостерег «задолицых»: будет ли это нашим решением или нет, мы должны прямо сейчас сделать что-то, чтобы решить нашу проблему потока наличности раз и навсегда, поскольку наше окошко закрывается. Неожиданно я рассмотрел на горизонте приближение экономического спада. Через полгода, максимум через год. Если мы замешкаемся и попробуем стать публичной компанией позже, рынок оценит нас куда дешевле, чем мы на самом деле стоим. Я попросил проголосовать, подняв руки. Кто за то, чтобы стать публичной компанией… все «за»?
Голосование было единогласным.
Как только мы покончим с нашей затянувшейся холодной войной с конкурентами и федералами, мы инициируем публичное размещение акций.
Весенние цветы уже вовсю цвели, когда наши юристы и правительственные чиновники сошлись на цифре: 9 миллионов долларов. Она по-прежнему казалась слишком большой, но все в один голос убеждали меня заплатить. Согласись на сделку, говорили они. Я потратил час, глядя из окна и все обдумывая. Цветы и календарь подтверждали, что на дворе весна, но в тот день облака плыли на уровне глаз, были такими же грязно-серыми, как вода после мытья посуды, а ветер пронизывающе холодным.
Я застонал. Схватил телефонную трубку и набрал номер Вершкула, который взял на себя роль главного переговорщика. «Давай сделаем это».
Я распорядился, чтобы Кэрол Филдс подготовила чек. Она принесла его мне на подпись. Мы взглянули друг на друга и, разумеется, оба вспомнили о том времени, когда я выписал счет на 1 миллион долларов, покрыть который было нечем. Теперь я выписывал счет на 9 миллионов долларов, и не было никакого шанса на то, что его не обналичат. Я посмотрел на пробел, где должен был поставить свою подпись. «Девять миллионов», – прошептал я. Я все еще помнил, как продал свой «Эм-джи» 1960 года с шинами для гонок и двумя верхними распредвалами за тысячу сто долларов.
Будто это было вчера. Веди меня от нереального к реальному.
Письмо пришло в начале лета. Китайское правительство с удовольствием приглашает посетить…
Я целый месяц решал, кто поедет. Это должна быть команда класса «А», думал я, поэтому сидел со своим блокнотом на коленях, составляя списки имен, вычеркивая фамилии, составляя новые списки.
Разумеется, Чанг.
Естественно, Штрассер.
Конечно, Хэйес.
Я уведомил всех, кто собирался в поездку. Привести в порядок документы, паспорта и свои личные дела. Затем в оставшиеся перед нашим отъездом дни я читал, зубря китайскую историю. Боксерское восстание. Великая стена. Опиумные войны. Династия Мин. Конфуций. Мао.
И будь я проклят, если я собирался быть единственным студентом. Я составил учебный план для всех членов нашей отъезжающей группы.
В июле 1980 года мы сели в самолет. Пекин, мы летим к тебе. Но вначале – Токио. Я подумал, что будет неплохо сделать там остановку по пути. Просто, чтобы проверить. Продажи на японском рынке вновь начали расти. Кроме того, Япония будет хорошим подготовительным этапом для каждого, чтобы легче было приспособиться к реалиям в Китае, что наверняка станет испытанием для всех нас. Детскими шажками, постепенно. Пенни и Горман – я усвоил свой урок.
Через двенадцать часов полета я в одиночестве шел по улицам Токио, а в мыслях все возвращался в 1962 год. К моей Безумной идее. И теперь я вновь здесь, стою на пороге, чтобы перенести эту идею на гигантский новый рынок. Я вспомнил Марко Поло. Я вспомнил Конфуция. Но вспомнил я и все игры, которые видел на протяжении всех этих лет – американский футбол, баскетбол, бейсбол, – когда команда имела внушительное преимущество на последних секундах или иннингах, но расслабилась. Или же зажалась. И поэтому проиграла.
Я скомандовал себе больше не оглядываться, смотреть только вперед. Мы съели несколько замечательных японских ужинов, посетили нескольких старых друзей и через два-три дня, отдохнувшие и готовые к продолжению путешествия, отправились дальше. Наш рейс в Пекин должен был состояться на следующее утро.
В последний раз мы поужинали в торговом квартале Гиндза, осушив несколько бокалов с коктейлями, и все рано улеглись спать. Я принял горячий душ, позвонил домой и распластался на кровати. Через несколько часов я проснулся от неистового стука в дверь. Я взглянул на часы, стоявшие на тумбочке. Два часа ночи. «Кто там?»
«Дэвид Чанг! Позвольте войти!»
Я подошел к двери и увидел там Чанга, который был очень не похож на Чанга. Взъерошенный, затравленный, полковой галстук в полоску болтался где-то сбоку.
«Хэйес не летит!» – сказал он.
«О чем ты говоришь?»
«Хэйес внизу, в баре, говорит, что он не может, не может лететь на самолете».
«Почему не может?»
«У него какой-то панический приступ».
«Да. У него имеются фобии».
«Какие фобии?»
«У него… полный набор фобий».
Я стал одеваться, чтобы спуститься в бар. Затем вспомнил, с кем мы имеем дело. «Ступай спать, – сказал я Чангу. – Хэйес будет завтра утром там, где надо».
«Но…»
«Он там будет».
Рано утром, с тусклым взглядом, мертвенно бледный, Хэйес стоял в вестибюле гостиницы.
Разумеется, он позаботился о том, чтобы упаковать в багаж достаточно «лекарств» на случай очередного приступа. Несколько часов спустя, проходя таможенный контроль в Пекине, я услышал позади страшный шум. Помещение было пустое, с фанерными перегородками, и с другой стороны одной из перегородок кричали несколько китайских таможенников. Я обошел перегородку сбоку и увидел двух офицеров в возбужденном состоянии, указывающих на Хэйеса и его открытый чемодан.
Я подошел. Подошли Штрассер с Чангом. Поверх нижнего белья гигантского размера в чемодане Хэйеса лежала дюжина кварт водки (11,35 л. – Прим. пер.).
В течение долгой паузы никто ничего не произнес. Затем Хэйес глубоко вздохнул.
«Это для меня, – сказал он. – Вы, ребята, позаботьтесь о себе сами».
В течение последующих двенадцати дней мы проехали по всему Китаю – в сопровождении китайских агентов-кураторов (Фил Найт использует для описания сопровождающих лиц термин, которым в США называют агентов ФБР, которые следят за подозреваемыми, – handlers. – Прим. пер.). Они сводили нас на площадь Тяньаньмэнь и постарались сделать так, чтобы мы подольше постояли перед гигантским портретом председателя Мао, умершего за четыре года до нашего приезда. Они сводили нас в Запретный город. Они сводили нас к гробницам династии Мин. Мы были под большим впечатлением, разумеется, и мы проявляли любопытство – излишнее любопытство. Массой наших вопросов мы ставили наших агентов-кураторов в мучительно неловкое положение. Во время одной из остановок я осмотрелся вокруг и увидел сотни людей в костюмах, как у Мао, и в хлипких черных ботинках, которые выглядели так, будто их сделали из плотной бумаги. Но на нескольких ребятишках были парусиновые кеды. Это внушило мне надежду.
Разумеется, то, что мы хотели увидеть, – это фабрики. Наши агенты-кураторы неохотно согласились их показать. Они повезли нас в города, расположенные далеко от Пекина, где перед нами возникли огромные и устрашающие промышленные комплексы, небольшие метрополии, состоящие из фабрик, одна другой старше. Старые, ржавые, рассыпающиеся, по сравнению с этими фабриками фабричные руины Хэйеса в Сако были примером современного технического уровня.
Помимо всего прочего, они были грязными. Ботинок скатывался с конвейера заляпанным и исполосованным грязью, и ничего поделать с этим было нельзя. Понятия о всеобъемлющей чистоте не существовало, как не существовало и контроля за качеством. Когда мы указывали на ботинок с дефектами, заводские чиновники-управленцы пожимали плечами и говорили: «Функционально – в отличном состоянии».
Забудьте об эстетике. Китайцы не понимали, почему нейлон или парусина в паре обуви должны быть одного оттенка на левом и правом ботинке. Обычным было видеть, что левая туфля была светло-голубой, а правая – темно-синей.
Мы встретились с десятками заводских начальников, местных политиков и отобранных для наших встреч деятелей высокого уровня. В нашу честь звучали тосты, нами восхищались, нами интересовались, за нами наблюдали, с нами общались и почти всегда тепло принимали. Мы съели несколько фунтов морского ежа и жареной утки, а во время многих остановок нас потчевали тысячелетними куриными яйцами. И я мог ощутить на вкус каждый год из прошедшего тысячелетия.
Нас, разумеется, много раз угощали водкой маотай. После своих многочисленных поездок на Тайвань я был подготовлен. Моя печень прошла закалку. К чему я не был подготовлен, так это к тому, насколько маотай понравится Хэйесу. С каждым глотком он причмокивал и просил добавки.
Ближе к концу нашего визита мы совершили девятнадцатичасовую поездку на поезде в Шанхай. Мы могли бы и полететь, но я настоял на поезде. Я хотел увидеть, проникнуться видами сельской местности. Не прошло и часа нашего путешествия, как мои попутчики уже проклинали меня. День был таким жарким, что пот с нас лил в три ручья, но в поезде не было кондиционеров.
В самом углу вагона нашего поезда работал старый вентилятор, и его лопатки едва разгоняли нагретую пыль вокруг. Для того чтобы почувствовать себя свежее, пассажиры-китайцы не придумали ничего лучше, как обнажиться вплоть до нижнего белья, и Хэйес со Штрассером посчитали, что это дало им право поступить так же. Если я доживу до своего двухсотлетия, я все равно не забуду вид этих левиафанов, прогуливающихся вдоль вагона в своих футболках и кальсонах. Не забудут этого зрелища и китайцы с китаянками, которым пришлось ехать с нами в одном поезде.
Перед тем как покинуть Китай, нам предстояло выполнить одно или два поручения в Шанхае. Первое касалось того, чтобы заключить сделку с китайской федерацией легкой атлетики (такой организации в КНР не было и нет, есть Легкоатлетическая ассоциация Китая. – Прим. пер.). Это означало, что нам надо было заключить соглашение с Министерством спорта КНР (такой организации в КНР не было и нет, есть Государственное управление по делам физкультуры и спорта. – Прим. пер.). В отличие от западного мира, в котором каждый спортсмен заключает свои индивидуальные спонсорские контракты на рекламу товаров и услуг, Китай как государство вел переговоры о подписании таких контрактов от имени всех спортсменов. Поэтому я со Штрассером провел встречу с министерским представителем в старом здании шанхайской школы, в классе с семидесятипятилетней мебелью и огромным портретом председателя Мао. В течение первых нескольких минут представитель прочитал нам лекцию о красотах коммунизма. Он подчеркивал, что китайцам приятно делать бизнес с «единомышленниками». Я со Штрассером переглянулся. Единомышленниками? Да на каком основании? Затем лекция резко оборвалась. Представитель наклонился вперед и тихим голосом, поразившим меня как некая китайская имитация спортивного «суперагента» Ли Стейнберга, спросил: «А сколько твоя предлагает?» (Фил Найт проводит аналогию с Ли Стейнбергом, который якобы прославился фразой «Покажите мне деньги!». На самом деле спортивный агент Стейнберг никогда этого не говорил. Режиссер фильма «Джерри Магуайр» Кэмерон Кроу, рассказавший о порядках, царящих в американском профессиональном спорте, срисовал портрет главного героя со Стейнберга и вложил в его уста ставшую за последние 20 лет расхожей фразу. В Америке по сей день убеждены, что ее произнес именно Стейнберг, хотя тот регулярно это опровергает. Не избежал этого заблуждения и Фил Найт. – Прим. пер.)
Через два часа мы имели готовый контракт. Четыре года спустя, в Лос-Анджелесе, впервые почти за два прошедших поколения, китайская легкоатлетическая команда вышла на олимпийский стадион в американской обуви и американских тренировочных костюмах.
В кроссовках и тренировочных костюмах «Найк».
Наша последняя встреча прошла в Министерстве внешней торговли. Как и во время прошлых встреч, было сказано несколько длинных речей, в основном чиновниками. Первый раунд речей поверг Хэйеса в скуку. К третьему раунду он был близок к самоубийству. Он начал играть с ниточками, торчащими по переднему шву своей сорочки. Они стали его неожиданно раздражать. Он достал зажигалку. В тот момент, когда заместитель министра внешней торговли превозносил нас как достойных партнеров, он замолчал и, подняв глаза, увидел, что Хэйес поджег себя. Хэйес лупил ладонями по пламени, и ему удалось его сбить, но только после того, как он сорвал выступление, а самого выступающего лишил жизненной энергии.
Это происшествие ни на что не повлияло.
Перед самой посадкой на рейс, чтобы лететь домой, мы подписали контракты с двумя китайскими фабриками и официально стали первыми американскими обувщиками за последние двадцать пять лет, которым было разрешено заниматься бизнесом в Китае.
Назвать это «бизнесом», пожалуй, было бы неверно. Наверное, было бы неправильно навешивать на все эти беспокойные дни и бессонные ночи, на все эти великолепные триумфы и отчаянные схватки банальный и безликий ярлык: бизнес. То, чем мы занимались, ощущалось как нечто гораздо большее. Каждый новый день приносил с собой пятьдесят новых проблем, пятьдесят жестких решений, которые необходимо было принять немедленно, и мы всегда остро чувствовали, что одного поспешного шага, одного неверного решения могло бы хватить для того, чтобы положить всему конец. Допустимый предел погрешности все время уменьшался, тогда как ставки все время увеличивались – и ни один из нас не поколебался в вере в то, что «ставки» не означают «деньги». Для некоторых, как я понимаю, бизнес – это всепоглощающая погоня за прибылью, и точка. Жирная точка. Но для нас бизнес – это нечто большее, чем просто средство для того, чтобы делать деньги, как и человеческий организм существует не только для того, чтобы вырабатывать кровь. Да, человеческому организму требуется кровь. Он должен вырабатывать красные и белые кровяные тельца и тромбоциты и распределять их равномерно, плавно там, где необходимо, и в нужное время, иначе будут неприятности. Но такая каждодневная деятельность человеческого организма не является нашей главной целью, как человеческих существ. Это базовый процесс, который способствует тому, чтобы мы могли достигать наши более высокие цели, и жизнь всегда стремится выйти за пределы базовых процессов – и в какой-то момент в конце 1970-х гг. я тоже стремился к этому. Я пересмотрел определение того, что такое победа, расширил это понятие, выведя его за узкие первоначальные рамки понятия «не проигрывать», «всего лишь оставаться в живых». Этого было недостаточно для того, чтобы устойчиво поддерживать мою жизнь или существование моей компании. Мы хотели, как все великие компании, создавать, делать вклад, и мы посмели сказать это вслух. Когда ты создаешь что-то, когда ты улучшаешь что-то, когда ты достигаешь чего-то, когда ты привносишь что-то дополнительное, вещь или услугу, в жизнь чужих людей, делая их счастливее или здоровее, а их существование безопаснее, лучше, при этом добиваясь всего этого решительно, эффективно, по-умному, так, как все должно делаться, но редко делается, – ты в более полной мере участвуешь во всей великой человеческой драме. Ты не просто остаешься живым, ты помогаешь другим жить более полной жизнью, и если это и есть бизнес, то хорошо, можете называть меня бизнесменом.
Возможно, мне это понравится.
Времени для того, чтобы распаковать вещи, не было. Не было времени для того, чтобы восстановить наш суточный ритм организма, ощутимо нарушенный перелетом из Китая через несколько часовых поясов. Когда мы вернулись в Орегон, процесс превращения компании в публичную был в полном разгаре. Предстояло сделать серьезный выбор, и не один. Особенно кто будет управлять процессом публичного размещения.
Публичные предложения акций не всегда завершаются успешно. Наоборот, когда руководство процессом оказывается неправильным, он оборачивается железнодорожным крушением. Поэтому с самого начала это было критически важным решением. У Чака, работавшего ранее в банке Абрахама Куна и Соломона Лёба (этот банк к тому времени, которое описывает Фил Найт (в 1978 г.), слился с инвестиционным банком братьев Леман, который, увы, обанкротился в 2008 г. – Прим. пер.), все еще оставались крепкие связи с его людьми, и он полагал, что они выполнят задачу наилучшим образом. Мы провели собеседования с представителями еще четырех или пяти других фирм, но в конце концов решили положиться на инстинкт Чака. Он еще никогда не направлял нас по ложному пути.
Далее нам необходимо было выпустить проспект. Потребовалось по крайней мере пятьдесят проектов, прежде чем он стал выглядеть и звучать так, как мы хотели.
И наконец, в самом конце лета мы передали все свои бумаги в комиссию по ценным бумагам и биржевой деятельности, и в начале сентября мы выступили с официальным объявлением. «Найк» выпускает 20 миллионов акций класса «А» и 30 миллионов акций класса «Б».
Цена, как мы объявили миру, будет составлять от восемнадцати до двадцати двух долларов за одну акцию.
Из общего количества акций – 50 миллионов – почти 30 миллионов будут находиться в резерве и около 2 миллионов акций класса «Б» будут проданы населению. Из приблизительно 17 миллионов оставшихся акций класса «А» на долю ранее существовавших акционеров или инсайдеров, т. е. меня, Бауэрмана, держателей облигаций и «задолицых», придется 56 процентов.
Я лично буду владеть почти 46 процентами. Моя доля должна была быть такой большой, как мы все согласились, потому что компанией должен управлять один человек, чтобы у нее был один твердый и ровный голос – всегда, что бы ни случилось. Не должно быть ни малейшего шанса для альянсов или раскольнических группировок, никакой угрожающей самому существованию компании борьбы за власть. Для стороннего наблюдателя распределение акций могло показаться непропорциональным, несбалансированным, несправедливым. Для «задолицых» оно было необходимостью. Не прозвучало ни недовольства, ни жалоб. Никогда ни единого слова.
Мы отправились в путь. За несколько дней до публичного размещения мы отправились к потенциальным инвесторам, чтобы рассказать им о достоинствах нашего продукта, нашей компании. Нашего бренда. Нас самих. После Китая мы не были в настроении, чтобы опять путешествовать, но другого пути не было. Нам надо было сделать то, что на языке Уолл-стрит называется «прокатить собачку верхом на пони» – хорошо подготовленным цирковым представлением. Двенадцать городов за семь дней.
Первая остановка на Манхэттене. Деловая встреча за завтраком в зале, битком набитом банкирами с безжалостными глазами, воротилами, представлявшими тысячи потенциальных инвесторов. Хэйес встал и произнес несколько вступительных слов. Он лаконично подвел итоги в цифрах. Он произвел довольно хорошее впечатление. Затем встал Джонсон и рассказал о самой обуви, что делало ее иной, отличной от другой, особенной, и как случилось, что она стала такой инновационной. Никогда он не смотрелся лучше.
Я выступил с заключительным словом. Говорил об истоках компании, ее душе и духе. У меня была маленькая шпаргалка с несколькими нацарапанными на ней словами, но я ни разу не взглянул на нее. У меня не было никакой неуверенности относительно того, что я хотел сказать. Не знаю, мог бы я объясниться перед залом, заполненным незнакомцами, но проблем в том, чтобы объяснить, что такое «Найк», у меня не было.
Я начал с Бауэрмана. Я рассказал, как бегал под его руководством в Орегоне, как затем создал с ним партнерство, когда мне едва исполнилось двадцать пять. Говорил о его уме, храбрости, его волшебной вафельнице. О его заминированном почтовом ящике у дороги. Это была смешная история, и она всегда вызывала смех, но в ней был заложен скрытый смысл. Я хотел, чтобы эти ньюйоркцы знали, что, хотя мы родом из Орегона, шутки с нами плохи. Трусы никогда не могли начать что-либо, а слабаки, по ходу дела, играли в ящик. Это значит, что остались только мы, дамы и господа. Мы.
В первый же вечер мы провели такую же презентацию во время формального ужина в Мидтауне (Средний Манхэттен. – Прим. пер.) перед группой банкиров, которая была в два раза больше первой. Коктейли разнесли заранее. Хэйес перебрал лишнего. На этот раз, когда он встал, чтобы выступить, он решил сымпровизировать, подать информацию в вольном стиле. «Я провел с этими парнями долгое время, – сказал он, смеясь, – с теми, кого вы могли бы назвать ядром компании, и я скажу вам сегодня, ха-ха, все они хронически нетрудоспособные личности».
Сухое покашливание.
Кто-то в глубине зала прочистил горло.
Одинокий сверчок прострекотал и умолк.
Где-то в отдалении кто-то захохотал, как ненормальный. До сих пор думаю, что это был Джонсон.
Деньги для собравшихся там людей смехом не были, а публичное размещение акций на такую сумму – не повод для шуток. Я вздохнул, заглянул в свою шпаргалку. Если бы в тот момент Хэйес прокатился бы по залу в своем бульдозере, то и такое представление не было бы хуже того, что случилось. Позже, в тот же вечер, я отвел его в сторону и сказал, что было бы лучше, если он больше не будет выступать. Формальные презентации будем проводить мы с Джонсоном. Но он все же потребуется нам, когда начнутся вопросы и ответы.
Хэйес взглянул на меня, разок моргнул. Он все понял. «Я думал, ты собираешься отправить меня домой», – сказал он. «Нет, – ответил я, – тебе следует остаться частью происходящего».
Мы продолжили свой путь в Чикаго, затем в Даллас, Хьюстон, Сан-Франциско. Оттуда проследовали в Лос-Анджелес, потом в Сиэтл. С каждой новой остановкой мы уставали все больше, валились с ног и чуть не плакали от изнеможения. Особенно я с Джонсоном. Странная сентиментальность вдруг окутала нас. В самолете, в гостиничных барах мы вспоминали наши дни незрелой юности. И его бесконечные письма. Пожалуйста, напиши мне слова ободрения. Мое молчание. Говорили о названии «Найк», которое приснилось ему. Говорили о Растяжке, о Джампьетро и «ковбое Мальборо», о бесчисленных случаях, когда я выдергивал его и посылал то в один, то в другой конец страны. Говорили о том дне, когда его чуть было не вздернули на виселицу рабочие в Эксетере, когда банки не приняли у них чеки на заработную плату. «И после всего этого, – сказал мне однажды Джонсон, сидя на заднем сиденье лимузина и направляясь на очередную встречу, – теперь мы шишки с Уолл-стрит».
Я взглянул на него. Все меняется. Но он не изменился. И теперь он полез в свой портфель, достал книгу и стал читать.
Выездное шоу завершилось за сутки до Дня благодарения. Я смутно помню индейку, клюкву, семью вокруг меня, смутно припоминаю, что это был своего рода юбилей. Впервые я полетел в Японию на День благодарения в 1962 году.
За обедом отец задал мне тысячу вопросов о публичном размещении акций. Мама не задала ни одного. Она сказала, что всегда знала, что это случится, с того дня, когда она купила пару кроссовок Limber Up за семь долларов. Они, вполне понятно, размышляли о происходящем, испытывали радость и хотели поздравить, но я быстро остановил их порыв, попросил не делать это преждевременно. Игра продолжалась. Затевалась гонка.
Датой начала размещений мы выбрали 2 декабря 1980 года. Последним барьером оставалась договоренность о цене акции. Накануне вечером Хэйес зашел ко мне в кабинет. «Ребята в банке Куна и Лёба рекомендуют установить цену в двадцать долларов за акцию», – сказал он.
«Слишком низкая, – ответил я. – Это оскорбительно».
«Ну, цена не может быть и слишком высокой, – предостерег он. – Мы же хотим, чтобы эта чертова штука продавалась».
Весь процесс походил на какое-то сумасшествие, потому что он был лишен точности. Не было правильной цены. Все сводилось к чьему-то мнению, вкусу, чувству, к продаже. Продажа – это то, чем я занимался по большей части все последние восемнадцать лет, и я устал от этого. Я больше не хотел продавать. Наше предложение равнялось двадцати двум долларам за акцию. Такой была наша цифра. Мы ее заработали. Мы заслуживали того, чтобы оказаться на верхней границе ценового диапазона. На той же неделе компания под названием «Эппл» тоже становилась публичной и продавала свои акции по двадцать два доллара за штуку, и мы стоили столько же, сколько они, сказал я Хэйесу. Если шайка парней с Уолл-стрит не посмотрит на все это моими глазами, я готов отказаться от сделки.
Я уставился на Хэйеса. Я знал, о чем он думал. Ну, вот опять за прежнее.
«Заплатим «Ниссо» в первую очередь».
На следующее утро мы с Хэйесом поехали в центр города в нашу юридическую фирму. Сотрудник ввел нас в кабинет старшего партнера. Помощник юриста набрал номер банка Куна и Лёба в Нью-Йорке, затем нажал на кнопку динамика в середине большого стола из орехового дерева. Мы с Хэйесом уставились на динамик. Бестелесные голоса заполнили комнату. Один из голосов стал громче и четче: «Господа… доброе утро».
«Доброе утро», – ответили мы.
Обладатель громкого голоса взял на себя инициативу. Он долго и тщательно разъяснял мнение инвестиционного банка Куна и Лёба о том, какой должна быть цена акций, и его разъяснение было «бармаглотным» (см. стихотворение в сказке «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. – Прим. пер.). «Поэтому, – сказал некто с громким голосом, – поэтому мы никак не можем дать больше, чем двадцать один доллар».
«Нет, – сказал я. – Наша цена – двадцать два».
Мы услышали, как зашептались другие голоса. Они произнесли цифру «двадцать один с половиной». «Боюсь, – произнес громкий голос, – это наше окончательное предложение».
«Господа, наша цена – двадцать два доллара».
Хэйес уставился на меня. Я уставился на динамик.
Наступила тишина, прерываемая потрескиванием. Мы слышали тяжелое дыхание, что-то хлопало, царапало. Шуршали бумаги. Я прикрыл глаза и настроил себя так, чтобы весь этот белый шум, обусловленный микрофонным эффектом, прокатился волной через меня. Я как бы пережил все переговоры, которые приходилось мне вести за всю свою жизнь вплоть до этого момента.
Ну-у, пап, ты помнишь ту Безумную идею, которая пришла мне в голову в Стэнфорде?..
Господа, я представляю компанию «Блю Риббон Спортс оф Портленд, штат Орегон».
Видите ли, Дот, я люблю Пенни. А Пенни любит меня. И если все и дальше пойдет в том же духе, то, полагаю, мы сможем строить нашу дальнейшую жизнь вместе.
«Извините, – сердито сказал громкий голос. – Нам придется перезвонить вам».
Отбой.
Мы сидели. Никто ничего не говорил. Я делал глубокие вдохи и выдохи. Лицо клерка медленно плавилось.
Прошло пять минут.
Пятнадцать.
Пот лил ручьем со лба и шеи Хэйеса.
Раздался звонок телефона. Клерк взглянул на нас, чтобы убедиться, что мы готовы. Мы кивнули. Он нажал на кнопку динамика.
«Господа, – сказал громкий голос. – Считайте, мы договорились. Мы разместим ваши акции на бирже в пятницу на этой неделе».
Я поехал домой. Помню, мальчишки играли у дома. Пенни стояла на кухне. «Как прошел день?» – спросила она.
«Хм. О’кей».
«Хорошо».
«Мы получили нашу цену».
Она улыбнулась: «Разумеется».
Я отправился на длинную пробежку.
Затем принял горячий-прегорячий душ.
Затем быстро поужинал.
Затем уложил ребят в постель и рассказал им историю.
Шел 1773 год. Рядовые Мэт и Трэвис сражались под командованием генерала Вашингтона. Продрогшие, уставшие, голодные, в разодранной в пух и прах форме, они разбили лагерь, чтобы перезимовать в поселке Вэлли-Фордж, Пенсильвания. Они спали в бревенчатых домиках, зажатых между двумя возвышенностями: Маунт-Джой и Маунт-Мизери. С утра до ночи леденящие ветры прорывались через горы и проникали сквозь щели в хижины. Еды не хватало; только у трети бойцов была обувь. Куда бы они ни отправлялись, выходя из дома, они оставляли кровавые следы босых ног на снегу. Умирали тысячами. Но Мэт и Трэвис держались. Наконец наступила весна. До армии повстанцев дошли слухи, что британцы отступили, а французы шли на помощь колонистам. С тех пор рядовые Мэт и Трэвис знали, что они смогут выжить в любых условиях. Маунт-Джой, Маунт-Мизери (гора Радости, гора Нищеты. – Прим. пер.).
Вот и все.
«Спокойной ночи, ребята».
«Спокойной ночи, папа».
Я выключил свет, вышел и сел перед телевизором с Пенни. Никто из нас на самом деле его не смотрел. Она читала книгу, а я занимался подсчетом в голове.
К этому времени на следующей неделе Бауэрман будет стоить 9 миллионов долларов. Кейл – 6,6 миллиона. Вуделл, Джонсон, Хэйес, Штрассер – каждый по 6 миллионов долларов. Фантастические цифры. Цифры, которые ничего не значили. Никогда не знал, что цифры могут одновременно значить так много и так мало.
«Баиньки?» – спросила Пенни.
Я кивнул.
Я обошел дом, выключая свет, проверяя двери. Затем я присоединился к ней. Долгое время мы лежали в темноте. Ничего еще не закончилось. Далеко не закончилось. Мы отыграли первую часть, сказал я себе. Но это была только первая часть.
Я спросил себя: что ты чувствуешь?
Это не была радость. Это не было облегчение. Если я что-то и чувствовал, то это было… сожаление? Боже правый, подумал я. Да. Сожаление.
Потому что я честно хотел бы, чтобы я смог повторить все сначала. Я заснул и проспал несколько часов. Когда я проснулся, было холодно и дождливо. Я подошел к окну. С ветвей деревьев струйками стекала вода. Все вокруг было в тумане. Мир был таким же, как и за день до этого, каким он был всегда. Ничего не изменилось, и меньше всего изменился я сам. И тем не менее стоил я 178 миллионов долларов.
Я принял душ, позавтракал, поехал на работу. Я оказался за своим столом раньше всех.
Закат
Мы любим ходить в кино. Всегда любили. Но сегодня вечером перед нами возникла дилемма. Мы пересмотрели все жестокие фильмы, которые Пенни любит больше всего, поэтому мы собираемся с духом, чтобы выйти за пределы своего домашнего уюта и попробовать что-то другое. Может, комедию посмотреть. Я листаю газету. «Как насчет того, чтобы посмотреть «Пока не сыграл в ящик» – в «Сенчури»? С Джеком Николсоном и Морганом Фрименом?»
Она хмурится: ну, может быть.
На дворе Рождество 2007 года.
«Пока не сыграл в ящик» оказывается чем угодно, но только не комедией. Это фильм о летальности. Двое мужчин, чьи роли исполняют Николсон и Фримен, неизлечимо больные раком, решают провести остаток дней, совершая забавные, сумасшедшие поступки, которые они всегда хотели совершить, чтобы выжать максимум из того времени, которое осталось у них, перед тем как сыграть в ящик. Спустя час после того, как начался фильм, в зале не раздался ни один смешок.
Я нашел много странных, тревожащих параллелей между этим фильмом и моей жизнью. Во-первых, Николсон всегда заставляет меня вспоминать другой фильм – «Пролетая над гнездом кукушки», который, в свою очередь, заставляет меня задуматься о Кене Кизи, а это переносит меня в то время, когда я учился в Орегонском университете. Во-вторых, в числе самых первых дел в списке обреченного персонажа Николсона числится посещение Гималаев, что переносит меня в Непал.
Кроме всего прочего, персонаж Николсона прибегает к услугам личного помощника – своего рода суррогатного сына, – которого зовут Мэтью. Он даже немного похож на моего сына. Та же нечесаная козлиная бородка.
Когда фильм заканчивается, когда в зале вспыхивает освещение, мы с Пенни с облегчением встаем, чтобы вернуться в яркий свет реальной жизни. Кинотеатр – новый колосс с шестнадцатью экранами в сердце города Катидрал-Сити, расположенного рядом с Палм-Спрингс. Теперь мы проводим здесь бо́льшую часть зимы, укрываясь от холодных орегонских дождей. Выходя через вестибюль, ожидая, когда глаза привыкнут к яркому свету, мы замечаем два знакомых лица. Вначале мы никак не можем определить, кому они принадлежат. Перед нами все еще маячат Николсон с Фрименом. Но эти лица не менее знакомы – и не менее знамениты. Теперь до нас доходит. Это Билл и Уоррен. Гейтс и Баффет.
Мы подходим к ним.
Ни одного из них нельзя назвать нашим близким другом, но мы встречались с ними несколько раз на социальных мероприятиях и конференциях. У нас общие цели, общие интересы, несколько общих знакомых. «Кто бы мог подумать, что встречу вас здесь!» – говорю я. И тут же съеживаюсь. Неужели я действительно только что произнес такое? Неужели я все еще стесняюсь и неловко себя чувствую в присутствии знаменитостей?
«Я только что подумал о тебе», – говорит один из них.
Мы пожимаем руки всем вокруг и говорим главным образом о Палм-Спрингс. Не правда ли, премиленькое местечко? Разве не замечательно выбраться сюда из холода? Говорим о семьях, бизнесе, спорте. Я слышу, как за моей спиной шепчут: «Эй, взгляни, Баффет и Гейтс, а этот с ними кто?»
Я улыбаюсь. Как и должно быть.
Не могу не сделать несколько быстрых арифметических действий в уме. На данный момент я стою 10 миллиардов долларов, а каждый из этих людей стоит в пять или шесть раз дороже. Веди меня от нереального к реальному.
Пенни спрашивает, понравился ли им фильм. Да, говорят они, глядя на свои ботинки, хотя сюжет немного удручающий. А что у вас в списке того, что надо успеть сделать, прежде чем сыграть в ящик? Я чуть было не спрашиваю их, но не делаю этого. Гейтс и Баффет, похоже, сделали все, чего когда-либо хотели сделать в этой жизни. Уж точно у них нет такого списка.
Что заставляет меня спросить себя самого: а у тебя есть?
Дома Пенни принимается за свое вязание, а я наливаю себе бокал вина. Я вытаскиваю свой желтый блокнот, чтобы свериться со своими заметками и списками дел на завтрашний день. Впервые за долгое время… там пусто.
Мы сидим и смотрим одиннадцатичасовые новости по телевизору, но в мыслях я далеко, очень далеко. Витаю, переношусь во времени. Чувство, ставшее знакомым в последнее время.
Я склонен проводить долгие часы, мысленно погружаясь в детство. По какой-то причине я много думаю о своем деде Бампе Найте. У него ничего не было, больше, чем ничего. И все же ему удалось сэкономить, наскрести денег и купить новехонькую фордовскую модель «Т», в которой он перевез жену и пятерых детей из Виннебаго, Миннесота, до самого Колорадо, а оттуда до Орегона. Он рассказывал мне, что не стал заморачиваться, чтобы получить водительские права. Просто сел и поехал. Спускаясь со Скалистых гор в своей тарахтящей, содрогающейся на ухабах «жестянке», он постоянно ругал ее: «Тпру, ТПРУ, сучье вымя!»
Я слышал эту историю так много раз от него, от тетушек и дядюшек, кузин и кузенов, что мне казалось, будто я и сам был там. В каком-то смысле я действительно был там.
Позже Бамп приобрел пикап, и он обожал сажать нас, своих внуков, в кузов и отвозить нас в город, куда он отправлялся по делам. По дороге он всегда останавливался у пекарни и булочной в местечке Сатерлин, где покупал нам по дюжине глазированных пончиков – каждому. Мне достаточно лишь поднять глаза и посмотреть на голубое небо или на белый потолок (на любой пустой экран), и я уже вижу, как, свесив свои босые ноги с плоского кузова его грузовичка и чувствуя, как свежий ветер, пахнущий зеленью, ласкает мое лицо, облизываю глазурь с горячего пончика. Смог бы я так рисковать, отваживаться на такое, ходить по лезвию предпринимательства, острому как бритва, балансируя между безопасностью и катастрофой, если бы во мне с раннего детства не было заложено это блаженное чувство защищенности и довольства? Не думаю.
Спустя сорок лет я ушел с поста главного управляющего и президента компании «Найк», оставляя ее, как думаю, в хороших руках и, уверен, в хорошем положении. Объем продаж в предыдущем, 2006 году достиг 16 миллиардов долларов (у «Адидас» этот показатель равнялся 10 миллиардам, но кто считает?). Наши обувь и одежда продаются в пяти тысячах магазинов по всему миру, и у нас работают десять тысяч сотрудников. Только в нашем китайском бизнесе в Шанхае заняты 700 человек (и Китай, наш второй по величине рынок, является крупнейшим производителем обуви. Полагаю, наша поездка 1980 года полностью окупилась).
Пять тысяч сотрудников нашей мировой штаб-квартиры в Бивертоне размещаются в Эдемском университетском кампусе, на покрытых лесами двухстах акрах девственной природы, пронизанных бурными потоками и усеянных идеально чистыми полями для игры в мяч. Здания названы в честь мужчин и женщин, которые дали нам не только свое имя, которые не только помогли нам продвигать свою продукцию на рынке. Джоан Бенуа Самуэльсон, Кен Гриффи-младший, Миа Хэмм, Тайгер Вудс, Дэн Фоутс, Джерри Райс, Стив Префонтейн – они помогли нам приобрести свою индивидуальность, свою самобытность.
В качестве председателя правления я по-прежнему провожу большинство дней у себя в офисе. Я смотрю на все эти здания вокруг себя и не вижу зданий. Я вижу храмы. Каждое здание – храм, если вы делаете его таковым. Я часто вспоминаю то знаковое путешествие, которое я совершил в возрасте 24 лет. Я вспоминаю, как стоял высоко над Афинами, пристально вглядываясь в Парфенон, и постоянно испытываю ощущение, что время как бы сворачивается, накладывается само на себя.
Меж зданий кампуса, вдоль дорожек университетского городка висят огромные баннеры: фотографии суператлетов, сделанные во время их выступлений, легенд, гигантов и титанов, которые подняли «Найк» на высоту, которая превзошла уровень просто бренда.
Джордан.
Кобе.
Тайгер.
Вновь не могу не вспомнить свое кругосветное путешествие.
Река Иордан.
Мистический Кобе, Япония.
Первая встреча в «Оницуке», на которой умолял дирекцию компании дать мне право продавать кроссовки «Тайгер»…
Может ли все это быть совпадением?
Думаю о бесчисленных офисах «Найка» по всему миру. И у каждого, независимо от того, в какой стране он находится, номер телефона заканчивается на 6453 – буквы, расположенные рядом с цифрами, на наборном диске складывались в слово «Nike». По чистой случайности, если прочитать эти цифры справа налево, получается лучший результат, с которым Пре пробежал дистанцию в одну милю, – с точностью до десятых долей секунды: 3:54,6.
Говорю: по чистой случайности, но так ли это? Могу ли я думать, что некоторые совпадения больше, чем совпадения? Буду ли я прощен за то, что думал или надеялся, что Вселенная или некий управляющий мною дьявол подталкивают меня, нашептывают мне? Или просто играют со мной? Может ли это быть действительно ничем, кроме как везучей географической случайностью, – обнаружение древнейшей пары обуви за всю историю археологии – сандалий, которым больше девяти тысяч лет… в одной из пещер в Орегоне?
Можно ли утверждать, что нет ничего странного в том, что сандалии были найдены в 1938 году, когда я родился?
Я всегда испытываю острые ощущения, прилив адреналина, когда проезжаю пересечение двух главных улиц кампуса, каждая из которых названа именем одного из отцов-основателей «Найка». Весь день, каждый день охранник у главных ворот дает одни и те же разъяснения посетителям, как проехать. Для того чтобы попасть туда, куда вы хотите, поезжайте по Бауэрман-драйв до пересечения с Дел-Хэйес-вей… Мне также доставляет огромное удовольствие прогулка мимо оазиса в центре кампуса – мимо японских садов «Ниссо Иваи». С одной стороны, наш кампус – это топографическая карта истории и развития «Найка», с другой – диорама моей жизни. Ну, а с еще одной стороны – это живое, дышащее выражение ценнейшей человеческой эмоции, возможно, самой жизненно важной из всех после любви. Благодарности.
Самые молодые сотрудники компании «Найк», похоже, испытывают ее. С лихвой. Их глубоко волнуют имена, которыми названы улицы и здания, как и давно минувшие дни. Как Мэтью, просивший рассказать ему на ночь какую-нибудь историю, они настойчиво просят поведать им о прошлом. Они всякий раз переполняют конференц-зал, когда приезжают Вуделл или Джонсон. Они даже организовали дискуссионную группу, неформальный мозговой танк, для того чтобы сохранить первоначальный дух новаторства. Они называют себя Духом 1972 года, что греет мое сердце. Но в компании чтут историю не только молодые люди. Я вспоминаю июль 2005 года. В разгар какого-то мероприятия, не могу сказать точно какого, Леброн Джеймс просит меня конфиденциально с ним переговорить:
«Можете уделить мне минуту, Фил?»
«Разумеется».
«Когда я впервые подписал с вами спонсорский контракт, – говорит он, – я мало что знал об истории «Найка». Поэтому я восполнял пробел, читая».
«Да?»
«Вы – основатель».
«Ну. Со-основатель. Да. Это удивляят многих».
«И «Найк» родился в 1972-м».
«Ну. Родился?.. Да. Полагаю, что так».
«Отлично. Поэтому я пошел к своему ювелиру и попросил его мастеров отыскать мне часы «Ролекс» выпуска 1972 года».
Он вручает мне часы. На них гравировка: «С благодарностью за то, что дали мне шанс».
Как обычно, я ничего не говорю. Я не знаю, что сказать.
Только шансом это назвать было нельзя. Он был довольно близок к тому, чтобы стать настоящей звездой. Но относительно предоставления шансов людям – он был прав. Можно, пожалуй, сказать, в этом и была соль.
Иду на кухню и наливаю еще один бокал вина. Вернувшись к своему креслу, какое-то время наблюдаю, как вяжет Пенни, и на меня со все ускоряющейся быстротой, хаотично, наскакивая друг на друга, начинают набегать мысленные образы. Впечатление такое, будто я стараюсь вышить узор из этих воспоминаний.
Я вижу Пита Сампраса, сокрушающего всех своих противников на одном из своих Уимблдонских турниров. После того как он зарабатывает окончательные очки, он бросает свою ракетку на трибуны – мне! (Она пролетает надо мной и поражает зрителя, сидевшего за мной, который, естественно, подает в суд.)
Вижу главного соперника Пита – Андре Агасси, несеянного игрока, как он выигрывает Открытый чемпионат США по теннису и подходит ко мне после финального сета весь в слезах: «Мы сделали это, Фил!»
Мы?
Я улыбаюсь, когда Тайгер в Огасте – или это было в Сент-Эндрюсе? – делает своей клюшкой завершающий катящий удар на грине. Он обнимает меня – и задерживает в своих объятиях несколько дольше, чем я ожидал.
Я перебираю в памяти многие частные, интимные моменты, которые делил с ним, Бо Джексоном, Майклом Джорданом.
Остановившись в доме Майкла в Чикаго, я поднимаю трубку телефона, стоящего рядом с постелью в комнате для гостей, и вдруг слышу из аппарата голос: Могу ли я чем-нибудь помочь? Это обслуживание по вызову. Настоящее, круглосуточное обслуживание, как в гостиничном номере, типа «чего вашей душе угодно».
Я вешаю трубку, забыв закрыть рот.
Они все мне как сыновья, как братья – моя семья. Не меньше. Когда умирает отец Тайгера, Эрл, церковь в Канзасе вмещает в себя меньше сотни людей, и мне оказывается честь быть среди приглашенных. Когда убивают отца Джордана, я лечу в Северную Каролину на похороны и обнаруживаю, что для меня зарезервировано место в первом ряду. Все это, разумеется, возвращают мои раздумья к Мэтью.
Я думаю о его долгом, сложном поиске смысла жизни, своей индивидуальности. Меня. Его поиск часто выглядел таким знакомым, хотя Мэтью не хватало моей удачи или моей способности сосредоточить внимание. И моего чувства неуверенности, незащищенности. Возможно, если бы он обладал большей неуверенностью, незащищенностью…
Весь в стремлении найти себя, он бросил колледж. Он экспериментировал, баловался, бунтовал, спорил, убегал. Ничто не помогало. Затем, наконец, в 2000 году, казалось, он был рад стать мужем, отцом, филантропом. Он был вовлечен в работу с Mi casa, su casa («Мой дом – твой дом» (исп.). Прим. пер.), благотворительным фондом, который занимался строительством сиротского дома в Сальвадоре. Во время одной из своих поездок туда, после нескольких тяжелых, но приносивших удовлетворение дней работы, он сделал перерыв. Отправился с двумя друзьями на глубоководное озеро Илопанго нырять с аквалангом.
По какой-то причине он решил проверить, как глубоко он может нырнуть. Решил пойти на такой риск, на который даже его отец, известный своим пристрастием к риску, никогда бы не решился.
Что-то пошло не так. На глубине 150 футов мой сын потерял сознание. Если бы мне пришлось думать о пережитых Мэтью последних моментах его жизни, как он боролся, чтобы ему хватило воздуха, я полагаю, мне удалось бы почти в точности представить, что он испытал. После того как я, бегая на тренировках и соревнованиях, отмерил тысячи миль, мне знакомо чувство, которое возникает во время борьбы за каждый следующий вздох. Но я не позволю своему воображению заходить так далеко. Никогда.
Тем не менее я разговаривал с его двумя друзьями, которые были с ним в той поездке. Я прочитал все, что только смог найти, про несчастные случаи во время погружений. Я узнал, что, когда что-то идет не так, аквалангист ощущает нечто, что носит название «эффекта мартини». Он думает, что все в порядке. И даже лучше. Он ощущает эйфорию. Наверное, это и произошло с Мэтью, говорю я себе, потому что в последнюю секунду он вытащил изо рта дыхательную трубку. Я предпочитаю верить в сценарий с эйфорией, чтобы думать, что мой сын не страдал в конце. Что мой сын был счастлив. Я предпочитаю так думать, потому что это единственный способ для меня продолжать жить.
Мы с Пенни были в кино, когда узнали об этом. Мы пошли на пятичасовой сеанс, на котором демонстрировался «Шрек-2». В середине фильма мы обернулись и увидели Трэвиса, стоящего в проходе. Трэвис. Трэвис?
Он шептал нам из темноты: «Вам надо пройти со мной, ребята».
Мы прошли по проходу между рядами на выход из зала кинотеатра, из темноты на свет. Когда мы вышли, он сказал: «Мне только что позвонили из Сальвадора…»
Пенни упала на пол. Трэвис помог ей подняться. Он обнял ее рукой, а я побрел, пошатываясь, в конец коридора, с глазами, полными слез. Помню, как в моей голове непроизвольно повторялась непрошенная фраза, будто строфа из какого-то стихотворения: «Вот как оно заканчивается» (это строчка из популярной песни The Way it Ends американского актера и исполнителя Ландона Пигга. – Прим. пер.).
На следующее утро эта новость звучала повсюду. Везде, в Интернете, по радио, а газетах, по телевидению раструбили голые факты. Мы с Пенни опустили жалюзи на окнах, заперли двери, отрезали себя от внешнего мира. Но не прежде, чем наша племянница Бритни переехала к нам. До сих пор думаю, что она спасла нам жизнь.
Все спортсмены, имевшие контракты с «Найком», писали письма, посылали сообщения по электронной почте, звонили. Все до единого. Но первым был Тайгер (Вудс. – Прим. пер.). Он позвонил в 7.30 утра. Никогда, никогда не забуду. И никому не позволю сказать что-либо плохое о Тайгере в моем присутствии.
Еще один ранний звонок поступил от Альберто Салазара, всегда яростно боровшегося в забегах на длинных дистанциях и победившего в кроссовках «Найк» в трех нью-йоркских марафонах подряд. Всегда буду любить его за многое, но больше всего за выражение им сочувствия в тот день.
Теперь он тренер, и недавно он привозил нескольких своих бегунов в Бивертон. Они проводили легкую разминку посреди поля имени Роналду, когда кто-то из них оглянулся и увидел, что Альберто лежит на земле, хватая воздух ртом. Сердечный приступ. Он находился в состоянии клинической смерти на протяжении четырнадцати минут, пока санитары не откачали и быстро не увезли его в больницу Сент-Винсент.
Я хорошо знал эту больницу. В ней родился мой сын Трэвис, в ней скончалась моя мать, через двадцать семь лет после моего отца. За полгода до его смерти я смог взять отца с собой в большое путешествие, чтобы разрешить наконец извечный вопрос, гордится ли он, и доказать ему, что я горжусь им. Мы объехали с ним весь мир, видели «Найк» в каждой стране, которую посетили, и каждый раз, когда он видел «свуш», в его глазах появлялся блеск. Боль, вызываемая его нетерпимостью, враждебностью к моей Безумной идее, угасла. Давно пропала. Но не память о ней.
Отцы и дети. Всегда было одно и то же, испокон веков. «Папа, – признался мне однажды Арнольд Палмер на турнире по гольфу «Мастерс», – делал все, чтобы отвадить меня от того, чтобы я стал профессиональным игроком в гольф».
Я улыбнулся: «Не может быть!»
Во время посещения Альберто, входя в фойе больницы Сент-Винсент, меня охватило чувство, будто я увидел своих родителей. Я явственно ощутил их присутствие рядом со мной, будто они касались моего локтя, дышали мне над ухом. Полагаю, у нас были напряженные отношения. Но как это бывает с айсбергом, все скрывалось под водой. В их доме по Клейборн-стрит напряжение было скрыто, там почти всегда преобладали спокойствие и благоразумие из-за того, что они любили нас. О любви не говорили, ее не показывали, но она там была всегда. Я с сестрами вырос, зная, что оба родителя, как бы они не отличались друг от друга, заботились о нас. Это то, что они оставили нам в наследство. В этом их окончательная победа.
Я прошел в кардиологическое отделение, увидел знакомую вывеску на двери: «Не входить». Я проскользнул мимо таблички, вошел в дверь, миновал коридор и нашел палату, в которой лежал Альберто. Он приподнял голову с подушки и смог изобразить страдальческую улыбку. Я потрепал его по руке, и мы хорошо пообщались. Затем я заметил, что он стал замирать. «До скорого», – сказал я. Он резко поднял руку и схватил ею мою. «Если что-то случится со мной, – сказал он, – обещай, что ты позаботишься о Галене».
Его спортсмене, которого он тренировал. Кто был для него как сын.
Я понял это. О, как же хорошо я это понял.
«Разумеется, – сказал я, – разумеется. Гален. Считай, что это сделано».
Я вышел из палаты, едва слыша пульсирующие звуки, которые издавали медицинские аппараты, смех медсестер, стоны пациента в конце коридора. Я думал о фразе: «Это просто бизнес». Никогда не бывает просто бизнеса. И никогда не будет. Если же он действительно станет просто бизнесом, это будет означать, что бизнес очень плохой.
«Пора спать», – говорит Пенни, убирая свое вязание. – «Да», – говорю я ей. – «Буду через минуту».
Продолжаю думать об одной фразе в фильме «Пока не сыграл в ящик». «Каждый судит о себе по людям, которые судят о себе, примеряясь к нему». Я забыл, кто это произнес, Николсон или Фримен (это сказал Морган Фримен. – Прим. пер.). Но сказано так верно, так удивительно верно. С этой мыслью переношусь в Токио, в штаб-квартиру «Ниссо». Не так давно я вновь был там. Позвонил телефон. «Вас», – сказала секретарь в приемной, передавая мне трубку. «Меня?» Звонил Майкл Джонсон, трехкратный золотой медалист, обладатель мирового рекорда в беге на 200 и 400 метров. Все эти победы были завоеваны в наших шиповках. Он случайно оказался в Токио, сказал он, и услышал, я тоже здесь. «Не хотите вместе пообедать?» – спросил он.
Я был польщен. Но сказал, что не могу. «Ниссо» устраивала в мою честь банкет. Я пригласил его прийти. Спустя несколько часов мы сидели вместе на полу перед столиком, уставленным плошками с сябу-сябу (тонко нарезанной говядиной, курицей или морепродуктами, которые опускают в кипящую воду и едят с соевым творогом и овощами, макая в кунжутный соус; образовавшийся после варки в котле бульон съедают в конце с рисом или лапшой. – Прим. пер.), провозглашая тосты в честь друг друга и чокаясь чашками с саке. Мы смеялись, подбадривали друг друга, чокались, и что-то между нами произошло, то, что возникает между мной и большинством спортсменов, с которыми я работаю. Некий дух взаимного расположения, товарищества, своего рода взаимной связи. Это длится недолго, но происходит почти всегда, и я знаю, что это часть того, чего я искал, когда отправлялся в свое кругосветное путешествие в 1962 году.
Изучение самих себя – это забвение самих себя. Mi casa, su casa.
Единение – каким-то способом, в каком-то виде, в какой-то форме – это то, чего искал каждый, кого я когда-либо встречал.
Я вспоминаю о тех, кто не дожил до этого времени. Бауэрман скончался в канун Рождества, в 1999 году, в Фоссиле. Он вернулся в свой родной город, как мы всегда подозревали, что это рано или поздно случится. Дом на вершине горы, над университетским кампусом, по-прежнему принадлежал ему, но он решил съехать, перебравшись с миссис Бауэрман в дом для престарелых в Фоссиле. Ему надо было оказаться там, где он начинал, – говорил ли он кому-либо об этом? Или же я представляю в своем воображении, как он бормочет это про себя?
Помню, когда я был на втором курсе, у нас намечались соревнования с командой университета в Пулмане, штат Вашингтон, и Бауэрман заставил водителя автобуса изменить маршрут и проехать через Фоссил, чтобы показать нам город. Я сразу же вспомнил об этом сентиментальном крюке, когда услышал, что Бауэрман слег и уже не смог подняться с постели.
Позвонил Джакуа. Я читал газету, рождественская елка мигала, мигала, мигала. Вам всегда запоминаются самые странные мелочи в такие моменты. Задыхаясь, я сказал в трубку: «Мне придется перезвонить вам». Затем я поднялся в свой уголок. Выключил все лампы. С закрытыми глазами я стал припоминать миллионы различных моментов, включая давнишний обед в гостинице «Космополитен».
Договорились?
Договорились.
Прошел час, прежде чем я смог спуститься вниз. В какой-то момент в ту ночь я перестал расходовать салфетки «Клинекс» и заменил их полотенцем, повесив его себе на плечо. Прием, которому обучил меня другой любимый тренер – Джон Томпсон.
Штрассер умер тоже неожиданно. Инфаркт, 1993 год. Он был так молод, это была трагедия, которая усугублялась тем, что произошла она после того, как мы поссорились. Штрассер сыграл важную роль в подписании спонсорского контракта с Джорданом, в создании бренда «Джордан», увязав его с изобретенными Руди подошвами на «воздушной подушке». Модель «Эйр Джордан» изменила «Найк», подняла нас на новый уровень, а затем еще выше, но она также изменила и Штрассера. Он решил, что больше не должен получать указания от кого бы то ни было, включая меня. Особенно от меня. У нас пошли стычки, их стало слишком много, и он уволился.
Было бы еще хорошо, если бы он просто уволился. Но он пошел работать в «Адидас». Невыносимое предательство. Его я так и не простил (хотя недавно с радостью, гордостью принял на работу его дочь, Эйвери. Ей двадцать два года, и она работает в отделе специальных мероприятий. Говорят, она преуспевает в своем деле. Это настоящее благословение и радость – видеть ее имя в справочнике сотрудников компании). Жаль, что мы не помирились перед тем, как он умер, но не знаю, возможно ли это было. Мы оба были рождены, чтобы соревноваться, и мы оба не умели прощать. И для обоих измена была сильнодействующим криптонитом (вымышленный химический элемент из комиксов о Супермене; якобы может лишить героя сил и даже убить его. В американском разговорном языке используется как аналог выражения «ахиллесова пята». – Прим. пер.).
Такое же чувство предательства я ощутил, когда на «Найк» обрушилась лавина обвинений в связи с условиями на наших заокеанских фабриках – так называемое расследование на предмет использования кабального, потогонного труда. Когда бы репортеры ни сообщали о том, что на какой-то фабрике существуют неудовлетворительные условия, они никогда не упоминали, насколько условия работы улучшились по сравнению с тем первым днем, когда она стала работать на нас. Они никогда не упоминали, сколько сил было потрачено нами и нашими заводскими партнерами на то, чтобы улучшить условия труда, сделать их безопаснее и чище. Они никогда не упоминали, что эти фабрики не были нашими, что мы были только арендаторами, причем не единственными. Они просто копали и докопались до рабочего с жалобами на условия, использовали этого рабочего, чтобы очернить нас и только нас, зная, что наше имя вызовет максимальную сенсацию.
Разумеется, мой подход к разрешению кризиса только усугубил ситуацию. Разгневанный, уязвленный, я часто реагировал самодовольно, раздражительно, разъяренно. В определенный момент я почувствовал, что моя реакция вредоносна, контрпродуктивна, но я не мог остановиться. Непросто оставаться уравновешенным, когда однажды просыпаешься, думая, что ты создаешь рабочие места, помогаешь бедным странам модернизировать промышленность, а спортсменам – добиваться великих достижений, и видишь, что твое чучело сжигается напротив флагманского магазина твоей компании в родном городе.
Компания отреагировала так же, как и я. Эмоционально. Всех шатало. До позднего вечера во всех окнах штаб-квартиры в Бивертоне горел свет, а во всех комнатах для переговоров и офисах шли самокритичные обсуждения наших действий. Хотя мы и понимали, что значительная часть критики в наш адрес несправедлива, что «Найк» был символом, скорее козлом отпущения, нежели настоящим виновником, все это не имело отношения к делу. Мы должны были признать: мы могли бы действовать лучше.
Мы сказали себе: мы должны действовать лучше. Затем сказали миру: ну, смотрите. Мы превратим наши фабрики в блестящие примеры.
И превратили. За десять лет, прошедших после появления дурных заголовков и сенсационных разоблачений, мы смогли воспользоваться кризисом, чтобы изобрести заново всю компанию. Например, худшее, что было в обувной фабрике, – это резиновый цех, где соединяются верх и подошвы обуви. Испарения там удушающие, токсичные, канцерогенные. Поэтому мы изобрели связующее вещество на основе воды, которое не выделяет никаких испарений, устранив, таким образом, 97 процентов канцерогенных веществ, содержащихся в воздухе. Затем мы передали это изобретение нашим конкурентам, всем, кому оно требовалось. Все взяли. Почти все теперь используют его. Это лишь один из многих, очень многих примеров.
Мы превратились из мишени у реформаторов в доминирующего игрока во всем фабричном реформаторском движении. Сегодня фабрики, выпускающие нашу продукцию, среди лучших в мире. Представитель Организации Объединенных Наций недавно сказал следующее: «Найк» – это золотой стандарт, с которым мы сравниваем все фабрики одежды».
Из кризиса, связанного с кабальным производством на потогонной основе, с нашей помощью родился проект под названием «Девичий эффект» – широкая программа компании «Найк», направленная на то, чтобы положить конец нищете в самых мрачных уголках земного шара. Вместе с ООН и другими корпоративными и государственными партнерами программа «Девичий эффект» расходует десятки миллионов долларов, проводя разумную, глобальную кампанию, направленную на то, чтобы девочки-подростки (в развивающихся странах Африки. – Прим. пер.) могли получить образование, наладить связь друг с другом и воспрянуть духом. Экономисты, социологи, не говоря уже о наших собственных сердцах, свидетельствуют, что молодые девушки экономически самые уязвимые, хотя относятся к такой категории населения, которая жизненно важна и демографически незаменима. Поэтому оказание помощи им помогает всем. Стремится ли программа «Девичий эффект» к тому, чтобы положить конец детским бракам в Эфиопии, создать безопасную среду для девочек-подростков в Нигерии или выпускать журнал или радиопередачи с мощным, вдохновляющим призывом к молодым руандийкам, она вносит изменения в миллионы жизней, и моими наилучшими днями недели, месяца или года становятся те, когда я получаю яркие отчеты с линии фронта, где ведется такая борьба.
Я готов был бы сделать все, что угодно, лишь бы вернуться назад, чтобы принять много иных решений, которые позволили бы или не позволили избежать кризиса с «потогонным производством». Но не могу отрицать и того, что этот кризис привел к чудесным изменениям как внутри, так и за пределами «Найка». За это я должен быть благодарен ему.
Разумеется, вопрос о заработной плате всегда будет стоять. Зарплата рабочего на фабрике в третьем мире для американцев выглядит невероятно низкой, и я это понимаю. И все же мы должны действовать в рамках ограничений и структур каждой страны, каждой экономики; мы просто не можем платить столько, сколько пожелаем. В одной стране, которую я не стану называть, когда мы попытались поднять уровень зарплаты, нас вызвали на ковер, в кабинет высшего правительственного чиновника, который приказал нам не делать этого. Мы разрушаем экономическую систему всей страны, сказал он. Это неправильно, настаивал он, и недопустимо, когда рабочий на обувной фабрике получает больше, чем врач.
Перемены никогда не происходят так быстро, как мы хотели бы.
Я постоянно думаю о нищете, которую видел, путешествуя по миру в 1960-е годы. Тогда я знал, что единственным ответом такой нищете могут быть рабочие места начального уровня. Большое число таких мест. Это не я вывел такую формулу. Я слышал ее от всех профессоров экономических наук, которые мне преподавали и в Орегонском университете, и в Стэнфорде, и все, что я потом видел и о чем читал, подтверждало ее. Международная торговля всегда, всегда выгодна для обеих торгующих стран.
Еще я часто слышал от тех же профессоров старое изречение: «Если товары не пересекают международные границы, их пересекут солдаты». (Мудрое замечание великого французского экономиста Фредерика Бастиа полностью звучит так: «Если границы не пересекают товары, их рано или поздно пересекут солдаты». – Прим. пер.) Хотя я прославился тем, что называл бизнес войной без пуль, он на самом деле является замечательным оплотом против войны.
Торговля – это путь к сосуществованию, сотрудничеству. Мирная жизнь подпитывается процветанием. Вот почему, как бы меня ни преследовали призраки вьетнамской войны, я всегда клялся, что однажды у «Найка» будет фабрика в Сайгоне или рядом с ним. (После бегства американского посольства и капитуляции Южного Вьетнама 30 апреля 1975 г. Сайгон был переименован и уже 40 лет носит название в честь первого президента страны – Хошимин. – Прим. пер.)
К 1997 году их у нас было четыре.
Я был горд. И когда я узнал, что нас будут чествовать и поздравлять от имени вьетнамского правительства, как один из пяти ведущих рычагов, способствующих притоку иностранной валюты, я подумал, что просто обязан посетить эту страну. Какая мучительная поездка. Не знаю, был ли я способен оценить всю глубину своей ненависти к войне во Вьетнаме до тех пор, пока я не вернулся спустя двадцать пять лет после того, как воцарился мир, до тех пор, пока я не взялся за руки с нашими бывшими противниками. В какой-то момент мои хозяева любезно поинтересовались, что бы они могли сделать для меня, что сделало бы мою поездку особенной или запоминающейся. Я ощутил комок в горле. Я не хотел бы утруждать их, сказал я. Но они настаивали.
ПЕРЕМЕНЫ НИКОГДА НЕ ПРОИСХОДЯТ ТАК БЫСТРО, КАК МЫ ХОТЕЛИ БЫ.
«О’кей, – сказал я, – о’кей, я хотел бы встретиться с восьмидесятишестилетним генералом Во Нгуен Зяп, вьетнамским Макартуром, человеком, который без посторонней помощи разгромил японцев, французов, американцев и китайцев».
Мои хозяева молча уставились на меня, не скрывая удивления. Они медленно поднялись со своих мест, извинились и отошли в сторонку, где стали совещаться на безумно быстром вьетнамском языке. Спустя пять минут они подошли. Завтра, сказали они. Часовая встреча.
Я низко поклонился. А затем стал считать минуты, оставшиеся до знаменательной встречи. Первое, что бросилось мне в глаза, когда генерал Зяп вошел в комнату, был его рост. Этот блестящий воин, гениальный тактик, организовавший наступление Тет («Новогоднее» наступление 1968 года против полумиллионной американской армии. – Прим. пер.), спланировавший многокилометровые туннели под землей, этот гигант истории не доходил мне до плеч. В нем, возможно, было пять футов и четыре дюйма (1 м 62 см. – Прим. пер.).
И скромный. У Зап не было курительной трубки, сделанной из кочерыжки кукурузного початка (фамилия генерала – Во, а Нгуен Зяп – имя, поэтому Фил Найт ошибается, называя его «генералом Зяп». Это все равно что называть его любимого генерала Макартура «генералом Дугласом». – Прим. пер.).
Помню, на нем был темный деловой костюм, как у меня. Помню, что он улыбался так же, как и я, – застенчиво, неуверенно. Но в нем чувствовалось пристальное напряжение. Я уже замечал этот сверкающий отблеск уверенности в глазах великих тренеров и великих деловых лидеров, элиты из элит. Никогда не видел его в зеркале.
Он знал, что у меня есть вопросы. И ждал, когда я начну их задавать.
Я просто спросил: «Как вам удалось это сделать?»
Мне показалось, что уголки его рта дрогнули. Улыбка? Возможно. Он задумался. Надолго. «Я был, – сказал он, – профессором джунглей».
Мысли об Азии всегда приводят меня к «Ниссо». Где бы мы оказались, не будь «Ниссо» и без бывшего главного исполнительного директора и председателя правления «Ниссо» Масуро Хаями. Я довольно хорошо узнал его после того, как «Найк» стала публичной компанией. Между нами не могла не установиться прочная связь: я был его самым прибыльным клиентом и самым усердным учеником. А он, возможно, был самым мудрым человеком из всех, кого я знал. В отличие от других мудрецов, он получал глубочайшее умиротворение от своей мудрости. Это умиротворение подпитывало меня.
В 1980-е годы, когда бы я ни приезжал в Токио, Хаями приглашал меня на выходные в свой дом на пляже, около Атами, на японской Ривьере. Мы всегда выезжали из Токио поздно вечером по пятницам, поездом, и пили в дороге коньяк. Через час мы уже были на полуострове Идзу, где ужинали в каком-нибудь шикарном ресторане. На следующее утро мы играли в гольф, а в субботний вечер устраивали барбекю в японском стиле на лужайке за домом. Нам удавалось разрешить все мировые проблемы, или же я делился с ним своими проблемами, и он решал их.
Во время одной из таких поездок мы закончили вечер, погрузившись у Хаями в бочку-купель с горячей водой. Помню, как до пенящейся воды издалека докатывался звук набегавших на берег океанских волн. Помню запах прохладного ветерка, пробиравшегося сквозь листву деревьев, – сквозь тысячи тысяч деревьев, окаймлявших берег, сквозь десятки их видов, которых не найти ни в одном орегонском лесу. Вспоминаю, как вдали каркали большеклювые вороны, в то время как мы философствовали о бесконечности. Затем перешли к тому, что имеет конец. Я жаловался на свой бизнес. Даже после того, как мы стали публичной компанией, оставалось так много проблем. «У нас так много возможностей, но мы с огромным трудом находим менеджеров, которые могли бы правильно воспользоваться ими. Мы пробуем людей со стороны, но они терпят неудачу, потому что наша культура настолько отличается».
Г-н Хаями кивнул. «Видите бамбуковые деревья вон там, наверху?» – спросил он.
«Да».
«На следующий год… когда вы приедете… они будут на фут выше».
Я широко раскрыл глаза. Я понял.
Вернувшись в Орегон, я приложил много сил для того, чтобы воспитать и взрастить нашу команду управленцев, медленно, проявляя больше терпения, нацеливаясь на то, чтобы продолжать и дальше их подготовку и заниматься долгосрочным планированием. Я стал смотреть на вещи шире и на более дальнюю перспективу. Это сработало. В следующий раз, когда увиделся с Хаями, я рассказал ему об этом. Он лишь один раз кивнул, хай, и отвел взгляд.
Почти три десятилетия тому назад Гарвард и Стэнфорд приступили к изучению «Найка», делясь результатами своих исследований с другими университетами, что подарило мне множество возможностей для того, чтобы посещать различные колледжи, принимать участие в стимулирующих научных дискуссиях, продолжать свое собственное обучение. Всегда приятно прогуляться по кампусу, но это также помогает глубже понять многое, потому что в то время, как я нахожу современных студентов смышленее и компетентнее студентов моего времени, я одновременно вижу, что их настрой куда более пессимистичен. Время от времени они в тревоге вопрошают: «Куда идут Соединенные Штаты? Куда идет мир?» Или: «Где новые предприниматели?» Или еще: «Неужели мы обречены как общество на худшее будущее для наших детей?»
Я рассказываю им о разоренной Японии, увиденной мною в 1962 году. Говорю им о руинах и развалинах, из которых каким-то образом появились мудрецы вроде Хаями и Сумераги. Говорю им о еще неразведанных ресурсах, природных и человеческих, которые имеются в мире, об изобилии путей и средств для разрешения многих мировых кризисов. Все, что нам надо сделать, говорю я студентам, – это работать и учиться, учиться и работать, и как можно упорнее.
Другими словами: все мы должны стать профессорами джунглей.
Я гашу свет, поднимаюсь наверх в спальню. Свернувшись калачиком с книгой, оставшейся рядом с ней, погрузилась в сон Пенни. Вся эта химия, это чувство внутренней синхронизации, начиная со Дня Первого, с бухучета по форме 101, осталось, никуда не делось. Наши конфликты, какими бы они ни были, в основном сводятся к противостоянию работы против семьи. К поиску баланса. Поиску определения слова «баланс». В наши труднейшие моменты нам удалось сымитировать тех спортсменов, которыми я больше всего восхищаюсь. Мы проявили выдержку, прошли сквозь все невзгоды. Выстояли.
Я проскальзываю под одеяло, осторожно, чтобы не разбудить ее, и, замерев, думаю о других, кто тоже выстоял. Хэйес живет на ферме в долине Туалатин, имеет в общей сложности 108 акров земли, нелепую коллекцию бульдозеров и других тяжелых машин и механизмов (его гордостью и радостью является гусеничный трактор John Deere JD-450C. Он выкрашен в канареечный цвет, как школьный автобус, и такой же огромный, как кондоминиум, но с одной спальней). У Хэйеса проблемы со здоровьем, но он прет вперед, как бульдозер.
Вуделл живет с женой в центральной части штата Орегон. Многие годы он водил собственный частный самолет, показывая средний палец всем, кто говорил, что он беспомощен (помимо всего прочего, пилотируя частный самолет, ему не приходилось волноваться из-за того, что какая-то авиакомпания потеряет его кресло-коляску).
Он один из лучших рассказчиков в истории «Найка». Моим любимым рассказом, естественно, является его рассказ о том дне, когда мы стали публичной компанией. Вуделл усадил своих родителей и выложил им новость. «Что это значит?» – прошептали они. «Это значит, что ваш первоначальный заем Филу в размере восьми тысяч долларов теперь стоит 1 миллион шестьсот тысяч долларов». Они взглянули друг на друга, посмотрели на Вуделля. «Не понимаю», – сказала его мать.
Если вы не доверяете компании, на которую работает ваш сын, то кому тогда вы доверяете?
Когда он уволился из «Найка», Вуделл стал исполнительным директором порта Портленда (был им с января 1988 г. по декабрь 1990 г. – Прим. пер.), одновременно управляя движением на всех реках и работой аэропортов. Человек, не способный физически передвигаться, руководил движением всех этих транспортных артерий. Замечательно. Он также является ведущим акционером и директором успешно работающей мини-пивоварни. Он действительно больше всего любил свое пиво.
Но, когда бы мы ни встречались, чтобы вместе отобедать, он, разумеется, всегда говорил мне, что его самой большой радостью и величайшим достижением, предметом гордости является его сын Дэн, который собирается поступать в колледж.
Старый соперник Вуделля, Джонсон, живет, точно как в одной из поэм Роберта Фроста, где-то посреди дикой местности Нью-Гемпшира. Он превратил старый амбар в пятиэтажный особняк, назвав его Крепостью уединения. Дважды разведенный, он заполнил все внутреннее пространство вплоть до стропил десятками кресел для чтения и тысячами тысяч книг; он ведет им всем учет, внося в обширный каталог, состоящий из карточек. У каждой книги есть свой номер и своя карточка с указанием автора, даты выпуска и краткого содержания – и свое точное место хранения в этой крепости.
Разумеется.
Вокруг хозяйства Джонсона носятся и скачут бесчисленные дикие индюки и бурундуки, многим из которых он присвоил имена. Он знает их всех настолько хорошо, настолько интимно, что может сказать вам, когда и кто из них запаздывает с зимней спячкой. Помимо этого, на некотором расстоянии, среди поля, поросшего высокой травой, в окружении покачивающихся кленов, Джонсон построил еще один амбар, священный амбар, который он раскрасил, покрыл лаком, оборудовал и заполнил излишками из своей личной библиотеки, а также целыми поддонами старых книг, купленных им у букинистов на распродажах, которые устраиваются библиотеками. Он называет свою книжную утопию «Барахольщиками», там постоянно горит свет, ее двери никогда не запираются и она открыта двадцать четыре часа в сутки для любого, кто ищет место, чтобы почитать и поразмышлять.
Вот каким он стал, нанятый на полный рабочий день сотрудник номер один.
Мне рассказывают, что в Европе встречаются футболки с надписью «Где Джефф Джонсон?». Как знаменитая начальная строка «Кто такой Джон Голт?» из романа Айн Рэнд (имеется в виду роман «Атлант расправил плечи», в котором эта фраза повторяется многократно. – Прим. пер.). Ответ: как раз там, где он и должен быть.
Когда они привалили, деньги повлияли на нас всех. Не так сильно и не надолго, поскольку никто из нас никогда не был движим деньгами. Но такова природа денег. Имеете вы их или не имеете. Хотите вы их или не хотите, нравятся они вам или не нравятся, они попытаются определить вашу жизнь. Наша задача, как человеческих существ, заключается в том, чтобы не позволить им этого сделать.
Я купил себе «Порше». Я попытался купить баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» и оказался затянутым в судебный процесс с Дональдом Стерлингом. Я надел солнечные очки и носил их везде, в помещении и на улице. Сохранилась фотография, на которой я изображен в «десятигаллонной» серой ковбойской шляпе, – не знаю, где, когда или почему. Я должен был избавиться от всего этого. Даже Пенни не смогла уберечься. Видимо, для того, чтобы с лихвой компенсировать незащищенность ее детства, она разгуливала с тысячами долларов в сумочке. Она покупала сотнями – за один поход в магазин – что угодно, продукты и товары, например рулоны туалетной бумаги.
Прошло не так много времени, и мы вернулись в нормальное состояние. Теперь, если мы с ней вообще думаем о деньгах, то концентрируем свои усилия на нескольких конкретных целях. Ежегодно мы раздаем по 100 миллионов долларов, и когда нас не станет, мы отдадим бо́льшую часть того, что останется.
В данный момент мы в самом разгаре строительства прекрасного нового спортивного сооружения для баскетболистов на территории Орегонского университета. Арены имени Мэтью Найта. Логотипом на фронтоне будет имя Мэтью, написанное стилизованным шрифтом в форме ритуальных врат Тории. От мирского к сакральному… Мы также завершаем строительство нового легкоатлетического комплекса, который планируем посвятить нашим матерям, Дот и Лоте. На мемориальной доске у входа будет выгравирована надпись: «Потому что матери – наши первые тренеры».
Кто сможет сказать, как все могло бы повернуться, не помешай моя мама ортопеду, намеревавшемуся хирургически удалить у меня болезненный нарост на ноге и заставить меня прохромать весь спортивный сезон? Или же не скажи она, что я могу быстро бегать? Или не купи она первую пару кроссовок Limber Ups и не поставь тем самым отца на место?
Когда бы я ни возвращался в Юджин и ни прогуливался по кампусу, я думаю о ней. Каждый раз, когда я стою около стадиона имени Хэйварда, я думаю о том безмолвном забеге, в котором она участвовала на протяжении всей своей жизни. Думаю обо всех многочисленных забегах, этих гонках наперегонки, в которых участвовал каждый из нас. Я прислоняюсь к ограде, смотрю на поле стадиона и беговые дорожки вокруг, прислушиваюсь к ветру, вспоминая Бауэрмана с его галстуком, кончики которого развевались у него по плечам. Думаю о Пре, упокой, Господи, его душу. Повернувшись, оглядываюсь, и сердце мое начинает колотиться. На другой стороне улицы стоит Юридическая школа Уильяма Найта. Махина весьма внушительного вида. В ней никто не смеет валять дурака.
Не могу заснуть. Не могу не думать об этом проклятом фильме «Пока не сыграл в ящик». Лежа во сне, спрашиваю себя снова и снова: что в твоем списке?
Пирамиды? – галочка.
Гималаи? – галочка.
Ганг? – галочка.
Так что… ничего?
Думаю о немногих вещах, которые хочу сделать. Помочь паре университетов изменить мир. Найти лекарство от рака. Помимо этого, это скорее не то, что я хочу сделать, а то, о чем я хочу сказать. И, возможно, умолчать.
Возможно, хорошо было бы рассказать историю «Найка». Все рассказывают истории или пытаются рассказать, но у них всегда половинчатые факты, если еще это так, и никакого духа. Либо наоборот. Я мог бы начать историю или же закончить ее – с сожалением. Сотни – возможно, тысячи – плохих решений. Я был тем, кто сказал, что Мэджик Джонсон – «игрок, не имеющий позиции, который никогда ничего не добьется в НБА». Я тот, кто навесил на Райана Лифа ярлык, сказав, что он, как квотербек НФЛ, лучше, чем Пейтон Мэннинг.
Легко со смехом отмахнуться от всего этого. Другие поступки вызывают более глубокое сожаление. Не позвонил Хираку Ивано после того, как он уволился. Не возобновил контракт с Бо Джексоном в 1996-м. С Джо Патерно не проявил себя как достаточно хороший менеджер, чтобы избежать массовых увольнений. Трижды за десять лет – в общей сложности тысячу пятьсот работников. Мысль об этом до сих пор не дает покоя.
Разумеется, прежде всего я сожалею, что не проводил больше времени с сыновьями. Возможно, если бы я уделял им больше времени, я смог бы прочитать зашифрованный код Мэтью Найта.
И все же я знаю, что эта горечь сожаления борется с тайным чувством сожаления о том, что я не могу все повторить заново.
Господи, как бы я хотел пережить снова все, что было. Лишенный такой возможности, я хотел бы делиться опытом, победами и поражениями, с тем чтобы молодые люди, где бы они ни были, проходя через такие же испытания и мучения, смогли получить вдохновение или утешение. Или предупреждение. Какой-нибудь молодой предприниматель, спортсмен, художник или писатель, возможно, приложил бы больше сил и умения для достижения своей цели. Это тот же драйв. Та же мечта.
Было бы неплохо помочь им избежать типичных разочарований. Я бы посоветовал им взять паузу, подольше, с усилием подумать о том, как они хотят потратить свое время и с кем они хотят его провести в предстоящие сорок лет. Я бы посоветовал, обращаясь к двадцатипятилетней молодежи, не довольствоваться работой, профессией или карьерой. Ищите призвание. Если вы будете следовать призванию, легче будет переносить усталость, неудачи будут вас подогревать, а прилив энергии будет таким, какого вы никогда не испытывали.
Я хотел бы предупредить лучших из них, иконоборцев, новаторов, мятежников, что у них на спине всегда будет мишень. Чем лучше они будут, тем больше будет мишень на спине. Это не мнение одного человека – это закон природы.
Я хотел бы напомнить им, что Америка – не предпринимательская Шангри-Ла, как думают многие. Свободное предпринимательство всегда раздражает тех троллей, которые живут ради того, чтобы блокировать, мешать. Говорить: нет, извините, нет. И так было всегда. Их всегда превосходили по огневой мощи и по численности. Им всегда приходилось идти на приступ возвышенности, и возвышенность эта еще никогда не была круче, чем сейчас. Америка теряет предпринимательский дух, а не укрепляет его. Исследование школы бизнеса Гарвардского университета недавно предложило рейтинг стран по силе предпринимательского духа. Америка заняла место вслед за Перу.
А те, кто призывает предпринимателей никогда не сдаваться? Шарлатаны. Иногда вам надо сдаваться. Иногда знание того, когда сдаваться, когда предпринять что-то иное, становится проявлением гения. Отказаться от чего-либо – не значит остановиться. Никогда не останавливайтесь.
Удача играет огромную роль. Да, я должен публично признать силу удачи. Удачливыми бывают спортсмены, удачливыми бывают поэты, удачливым бывает бизнес. Упорная работа критически важна, хорошая команда имеет решающее значение, ум и решимость – бесценны, но удача может решить исход. Некоторые, возможно, не называют это удачей. Они, возможно, называют это Тао, Логосом, Джнаной, Дхармой. Или духом. Или Богом.
Скажем так: чем упорнее вы трудитесь, тем лучше ваше Тао. И поскольку никто еще не сумел дать адекватное определение того, что такое Тао, я теперь пытаюсь регулярно ходить к мессе. Я сказал бы им: имейте веру в себя, но также веруйте в веру. Не в ту веру, как ее определяют другие. В веру по вашему определению. Вера как вера определяется в вашем сердце.
В каком формате хотел бы я высказать все это? В виде мемуаров? Нет, только не мемуары. Не могу себе представить, как все это втиснуть в одно-единственное повествование. Может, в виде романа. Или выступления. Или ряда выступлений. А может, просто письма моим внукам.
Я всматриваюсь в темноту. Так, может быть, в моем списке все же осталось хоть что-то из невыполненного, но важного? Еще одна Безумная идея.
Внезапно в моей голове все помчалось галопом. Имена тех, кому мне надо позвонить, названия книг, которые мне надо прочитать. Мне надо связаться с Вуделлем. Надо посмотреть, остались ли у меня те письма, что писал мне Джонсон. Их было так много! Где-то в доме родителей, в котором до сих пор живет моя сестра Джоан, должна лежать коробочка с моими слайдами, сделанными во время моей кругосветной поездки. Как много надо сделать. Как многому надо научиться. Как много я не знаю о собственной жизни.
Теперь уж я точно не смогу уснуть. Я встаю, хватаю свой желтый блокнот со стола. Иду в гостиную и сажусь в свое кресло.
Ощущение неподвижности, необъятного покоя охватывает меня. Искоса поглядываю на луну, сверкающую за окном. Ту же луну, которая вдохновляла древних мастеров дзен ни о чем не беспокоиться. В безвременном, просветляющем свете этой луны я приступаю к составлению списка.
Слова признательности
Я прожил внушительную часть своей жизни, оставаясь в долгу. Мне стало удручающе знакомо это чувство, когда ты каждый вечер идешь спать и каждое утро просыпаешься, задолжав многим людям намного больше того, что ты в состоянии выплатить.
Однако ничто не заставляло меня так остро чувствовать, что я в долгу, как написание этой книги.
Насколько бесконечна моя благодарность, настолько невозможно найти должное, логичное место, с которого можно было бы начать ее выражение. Итак. В компании «Найк» я хотел бы поблагодарить моего помощника, Лизу МакКиллипс, за то, что она выполняла всё – и я подчеркиваю, именно всё – идеальным образом, охотно и с неизменной ослепительной улыбкой; старых друзей Джеффа Джонсона и Боба Вуделля за то, что обо всем напоминали мне и проявляли терпение, когда я вспоминал о чем-то не так; историка Скотта Римза (Scott Reames) за то, как он ловко отделял факты от мифов; и Марию Эйтель за то, как она использовала свой опыт и знания для разрешения самых весомых вопросов.
И, разумеется, моя огромная, настоятельная благодарность всему 68-тысячному международному коллективу компании «Найк» за его каждодневные усилия и преданность, без которых не было бы ни книги, ни автора, ничего.
В Стэнфорде хотел бы поблагодарить сумасшедшего гения и одаренного учителя Адама Джонсона за его золотой пример того, что значит быть работающим писателем и другом; Абрахама Вереса, который учит так же, как и пишет – спокойно, без усилий; а также бесчисленное множество аспирантов, рядом с которыми я сиживал в заднем ряду в классах по развитию навыков письма, – каждый из них вдохновлял меня своей страстью к языку и ремеслу писателя.
В издательстве «Скрибнер» благодарю легендарную Нэн Грэхем за ее непоколебимую поддержку; Брайана Бельфильо, Роз Липпель, Сьюзан Молдоу и Кэролин Рейди за их бодрящий, возбуждающий энтузиазм; Кэтлин Риццо – за плавное поддержание производственного процесса, сохраняя при этом величественное спокойствие; и прежде всего благодарю своего в высшей степени талантливого и острого как бритва редактора Шеннон Уэлч, которая укрепила меня в самоутверждении, в котором я нуждался, и тогда, когда я нуждался в нем, когда никто из нас полностью не осознавал, насколько мне это было необходимо. В ее ранней похвале, в ее анализе и не по летам зрелой мудрости было все.
Чисто в произвольном порядке приношу благодарность многим своим приятелям и коллегам, которые проявили такую щедрость, делясь своим временем, талантом, советом, включая суперагента Боба Барнета, гениальную поэтессу-администратора Иван Боланд, мемуариста «Большого шлема» Андре Агасси и артиста цифрового жанра Дела Хэйеса. Особая и глубокая благодарность мемуаристу-писателю-журналисту-спортивному обозревателю-музе-другу Дж. Р. Морингеру, на чье великодушие, добрый юмор и вызывающий зависть дар рассказчика я полагался при подготовке и переделке многочисленных черновиков и набросков этой книги.
И наконец, хотел бы поблагодарить свою семью, всех ее членов, но особенно моего сына Трэвиса, чьи поддержка и дружба значили – и значат – для меня целый мир. И конечно, благодарю во весь голос, от всего сердца свою Пенелопу, которая ждала и ждала. Ждала, когда я путешествовал, ждала, когда я потерялся. Ждала ночи напролет, пока я безумно медленно возвращался домой, – как правило, поздно, к холодному ужину, – ждала и в последние несколько лет, когда я вновь прожил пережитое вслух и про себя, и на страницах, хотя там были некоторые моменты, которые она не хотела бы пережить опять. С самого начала и на протяжении полувека она ждала, и теперь наконец я могу вручить ей эти с трудом давшиеся мне страницы и сказать об этих страницах, «Найке» и обо всем остальном: «Пенни, не будь тебя, я не смог бы этого сделать».



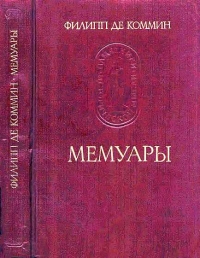
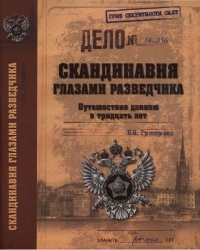
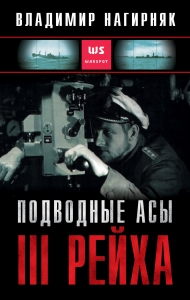

Комментарии к книге «Продавец обуви», Фил Найт
Всего 0 комментариев