Семен Данилюк Константинов крест Сборник
О повести «Константинов крест» И. Лысов
Личность основателя и первого президента Эстонского государства Константина Якобовича Пятса, при котором в 1940 году в Прибалтику вошли советские войска, по сей день вызывает яростные, непримиримые споры в среде Эстонской общественности. Амплитуда настроений колеблется от обожествления до обвинений в прямом предательстве. При этом каждый, убеждённый в своей правоте, остается глух к аргументам другой стороны.
Этому способствует своеобразие политической фигуры Константина Пятса. Апологет независимости республики, но русский по матери, православный, он в своей политике ориентировался на сохранение добрососедских отношений с советской Россией.
Я в Эстонии слышу часто, что мнение о Константине Пятсе двоякое и лучше не настаивать ни на одном из них.
И, быть может, знаменательно, что первое художественное произведение, посвященное судьбе Пятса, в преддверии 100-летия детища его — независимого Эстонского государства, появилось не в Эстонии, а в России.
События остросюжетной повести Семёна Данилюка развиваются в последние месяцы жизни Константина Пятса, а также в начале девяностых годов.
Как известно, после ввода советских войск в Эстонию Пятс с семьей был вывезен в Уфу, где размещён в комфортных условиях. По версии автора, здесь он узнаёт, что, вопреки заверениям Советского руководства, тысячи невиновных эстонцев подверглись жесточайшим репрессиям по политическим мотивам.
Стремясь разделить судьбу соотечественников, Пятс публично объявил о неприятии советской власти, после чего был арестован, шестнадцать лет провёл в заключении и в психлечебницах, потерял сына и внука и умер в 1956 году в Бурашевской психбольнице Калининской области, изможденный, но не сломленный. В заключении Пятс написал и сумел передать на волю три знаменитых письма с призывом бороться против оккупации. Их опубликование на Западе в семидесятых годах дало толчок национально-освободительному движению в Прибалтике.
Другая часть повести: детективная история поисков могилы Пятса в девяностом году, участникам которых жёстко противодействуют советско-партийные и силовые органы Калининской (ныне — Тверской) области. События происходили за полтора года до распада СССР, и участие в розыске требовало от людей большого мужества. Обе части повествования связывают образы главных героев: эстонцев и русских, — судьбы которых оказались переплетены с трагической судьбой президента-мученика.
По сути, в произведении сталкиваются полярные точки зрения на принципы сосуществования между народами-соседями. Именно острая постановка злободневной, особенно актуальной в наше время проблемы, в сочетании с драматизмом и насыщенностью сюжета, привлекли меня как режиссёра. Но более всего меня вдохновляет сама личность Пятса — насквозь трагическая. Человек, прошедший сквозь скалы провокаций, обманов и надежд. Сейчас, спустя многое время, можно спокойно рассуждать — кто такой Константин Пятс. Но услышать его состояние души, ощутить момент осознания своего пути — пути ошибок и героизма — это крайне важно нам, живущим после него…
Книга Семена Данилюка, помимо прочего, — качественный литературный материал для художественного фильма, способного стать событием в культурной жизни республики в преддверии 100-летия независимого Эстонского государства.
И. Лысов (Художественный руководитель Русского Театра в Эстонии)
Нести свой крест
Нет физической боли, сравнимой с болью души, особенно — если это боль души народа.
Именно такую боль выразил в себе герой повести Семена Данилюка «Константинов крест», первый президент Эстонии Константин Пятс, ставший в провинциальной российской психбольнице всего лишь «номером 12». Образ президента, при котором советские войска вошли в 1940-м году в Эстонию, вырисован хлестко: в его уста вкладываются слова о кровавом Сталине, об абортах, которые делали русской нации, — но в то же время благородно и деликатно: симпатией к смиренно стоящему на коленях в темном храме Пятсу проникаешься с первых строк.
Неизменно актуальную проблему роли личности в истории автор решает, делая главными героями своей повести классических «маленьких людей», отца и сына Понизовых, которые, однако, «маленькие» только для общества, формально «понизившего» их, — автор намеренно выбирает такой глагол, антонимируя тот факт, что на самом деле они — герои, которым удалось поучаствовать в больших, пусть и скрытых от глаз широкой общественности, политических событиях. Более того, эти политические события навсегда связали их, ведь отец и сын никогда не видели друг друга, но сын продолжил дело отца и завершил его, закольцевав тем самым большую политическую историю первого президента Эстонии и историю своей семьи.
Автор умело совмещает несколько временных планов, переходя от лечащего врача-психиатра Константина Понизова (действие происходит в 1956-м году) к его сыну Николаю Понизову, который в 1990-м году участвовал в поисках могилы президента, рискуя потерей хорошей должности, карьерой, быть может, свободой, точно так же, как его отец когда-то рисковал жизнью, относясь к пациенту со всей добротой, на которую было способно огрубевшее в социально-политических реалиях того времени сердце. Хотя и не настолько, чтоб не разорваться под давлением хамской и наглой от безнаказанности силы.
Понизов — отец — рожден незадолго до революции 17-го. Сын — на середине существования Советской власти. Рожденным в пятидесятых знакомо это ощущение себя как связующего звена между «веком канувшим и временем грядущим» и соответствующей ответственности за передачу моральных ценностей, иных, казалось бы, утерянных, изжитых и выбитых за 70 лет «нашего нового мира».
«— Вы упрекнули меня в ненависти к России. Я и впрямь не люблю советскую власть. Ни один нормальный человек не сможет любить такую власть.
— Отчего же? Мы как раз ее любим».
Только если на словах. На самом деле простые люди, герои повести, любят друг друга, любят ближнего — и эта любовь намного больше любви к какой бы то ни было власти. Тема любви не центральная в повести, но освещает все, происходящее в ней, она — фон картины. История Понизова-младшего и Светланочки — глоток весеннего воздуха, который мы чувствуем, встречая уже постаревшего Понизова в 2011-м году. Ведь мы уверены, что как Светланочка ждала его долгие годы до этого, так ждет и сейчас, но уже зная — придет.
Любовью дышит и образ Ксении Гусевой, бывшей военно-пленной, а потом советской заключенной, которая через всю жизнь пронесла любовь к Понизову-старшему и помогла его сыну найти останки Пятса. Светлой иронией завершается повесть: на месте захоронения президента совершается пышная панихида, а на лесном кладбище под крестом со стершимся именем покоится почетная гражданка Эстонии Гусева Кс…
В начале повести первый президент Эстонии произносит пророчество: «Люди подобреют, когда церковь опять станет молельней, а не амбаром. А до тех пор свое отмороженное ухо всегда ценней чужой жизни». Сколько же еще так будет? «Сегодняшнее торжество символизирует победу сил дружбы и единения народов над мракобесием и разжиганием вражды. Сейчас эти слова звучат обыденно», — говорит эстонский атташе в наши дни, как бы отвечая своему президенту: «Теперь-то все в порядке, теперь все, как надо, Вы можете покоиться с миром». К сожалению, нет, сегодня эти слова звучат не обыденно, а так же остро, как в 1990-м году, и в 1956-м, и в 1940-м. Однако в повести нет исторического пессимизма (как, впрочем, и оптимизма). Зато есть правда. Каждой строчкой автор говорит, что, пока есть такие «маленькие» люди, как отец и сын Понизовы, как Ксения, как другие герои повести, не менее важные в ней, — пока есть такие люди, не требующие ничего для себя, но готовые из любви и сострадания протягивать руку помощи, ждать годами, хранить память, «ведь как ты к мертвым, так и живые к тебе», хранить любовь, верить, пока есть такие люди, у общества есть надежда.
Вероника Кузнецова
Член редколлегии литературного журнала «Слово/Word»
(Рецензия опубликована в журнале «Слово/Word» № 87, 2015)
Константинов крест (киноповесть)
Памяти основателя Эстонской Республики и ее первого президента Константина Пятса посвящается
Соотечественники! Я приветствую вас, живущих на нашей борющейся родине, находящихся в российских тюрьмах, за рубежом и в изгнании. Я желаю вам всего самого наилучшего, стойкости и силы духа. Скоро все мы будем свободны. Я посылаю свой привет мужественным героям сопротивления литовского и латышского народов и всем беженцам. Я счастлив, мой непоколебимый народ, действуй храбро и уверенно и пусть будет достигнута наша великая цель — наши дома станут свободны на нашей свободной родине.
К. Пятс (первый президент Эстонии) Подпись. Отпечаток пальца. Обращение, написанное в заключении1955 год, декабрь
Декабрь выдался морозным. Старенький автозак, в просторечьи — воронок, въехал в заметенное снегом село Тургиново и, припадая на правый, подломанный амортизатор, захромал по шоссе. В надвигающихся сумерках фары высветили двухэтажное здание правления колхоза с наискось прибитым плакатом — «Встретим 1956 год новыми трудовыми достижениями».
За правлением автозак свернул с шоссе и притормозил на булыжной площади, возле большой церкви. Когда-то праздничной, гудящей колоколами. Ныне обшарпанной, с разрушенной кровлей, с заколоченными стрельчатыми окнами. Из кабины на снег выскочил укутанный в тулуп сержант с автоматом через плечо.
— Точно здесь? — уточнил он у шофера.
— Сказали — за церковью первый дом, — подтвердил тот. Высунулся следом. — Только поторопись! Слышь, движок сбоит. Глушить не стану, чтоб вовсе не заглохла.
От церкви вниз и впрямь убегала улица. Мгла сгущалась. Но избы стояли темные — электричество экономили. Лишь дымы над крышами выдавали присутствие людей. Свет горел в единственной, ближайшей к церкви избе. Как раз в той, что была нужна.
Сержант распахнул калитку, вошел в незапертую прихожую. Коротко стукнув, толкнул дверь в жилое помещение.
У окна за столом, накрытом скупой деревенской снедью, сидело несколько хмурых, хмельных человек.
При виде ввалившегося с холода сержанта кто-то поставил недопитую стопку с самогоном. Кто-то, напротив, торопясь, опрокинул в себя.
Сержант, понявший, что пьют здесь не с радости, кашлянул аккуратно.
— Разыскиваю Понизова. — Сержант сверился с листочком в руке. — Константин Александрович.
Со своего места поднялся худощавый, рано поседевший сорокалетний мужчина со щетиной на подбородке: то ли ранняя борода, то ли недельная небритость. Встревоженный взгляд его уперся в автомат за плечом дородного сержанта.
— Я — Понизов, — через силу подтвердил он.
— Главврач Бурашевской психбольницы? — уточнил для верности сержант.
— Исполняющий обязанности.
Сержант вскинул рукавицу к виску:
— Сопровождаем пациента. Велено передать вам лично.
— Что значит лично? — Понизов насупился. — Существует приемный покой, дежурный врач. Там примут, оформят. А у меня отгулы. Мать сегодня похоронил.
Он едва заметно повел головой в сторону угрюмого стола.
— Так это… понимаю, — сержант сдернул шапку. — Только — велено непременно главному. И — адрес ваш дали. Так что, уж извините, без вас никак. Сказали, чтоб без ошибки.
Он потоптался.
— Я подожду снаружи.
Через короткое время следом за сержантом, натягивая на ходу тулупчик, из дома вышел Понизов.
— Кого хоть везете?
— Старикашка какой-то мутный, — конвоир поправил ремень автомата. — Нам его передали. Этапируется вроде как из Прибалтики. Реальное отбывание заменено на психушку. Обычное дело.
«Обычное дело», — согласился привычный ко всему Пони-зов. Многие сходили с ума, не выдержав тюремный или лагерный режим. Бывало, доставлялись и в здравом состоянии: психбольницы использовались для изоляции неугодных, содержание которых в тюрьмах признавалось нежелательным. Но — хрупок человеческий разум: месяц-другой пребывания в судебно-психиатрическом отделении, и разница между больными и здоровыми незаметно стиралась.
Обогнув церковь, Понизов увидел автозак с поднятым капотом.
Водитель возился в заглохшем двигателе. Подле, переминаясь на морозе, дожидался второй конвоир.
— Надолго у тебя? — неприязненно обратился сержант к водителю.
Из-под капота выглянула измазанная озлобленная физиономия.
— А хрен его!.. Может, час. А может, и вовсе… Все-таки заглохла, кургузая, — водитель выругался. — Говорил же — нельзя на колымаге на большие расстояния!
— Я старичка пока выпустил, — доложил сержанту второй конвоир. — А то фургон выстудился. Как бы не заледенел с концами.
— Не даст деру?
— Куда он на трех ногах? Ковыляет себе.
С противоположной стороны машины доносилось постукивание клюки о булыжник.
— Может, согреемся? — конвоир намекающе пристукнул себя по карману. — Мороз-то крепчает…
— Разливай, — с удовольствием разрешил сержант. — Как, товарищ главврач?
Понизов согласно кивнул.
Выпили. Закурили. Повторили. Опьяневшие на морозе конвоиры свернули разговор на зэчек, отчего разрумянившиеся лица приняли сальное выражение.
Понизов незаметно отошел к углу, откуда виден был материнский дом. Впрочем, уже не материнский. Кажется, по поверью, душа умершего сорок дней витает рядом с прежним жилищем. Понизов вскинул глаза на морозное звездное небо и сам себе усмехнулся: хорош атеист. А может, права была в своих упреках верующая мать? Какой он, в сущности, атеист? Атеист, которому в школе разъяснили, что бога нет, но не отличающий Библии от Евангелия, — всего лишь малограмотный безбожник.
— Сбежал! — услышал он всполошный крик.
Оплошавшие конвоиры с автоматами в руках бежали в сторону развилки, наперехват.
— Вот тебе и старикашка! — выкрикнул сержант Понизову, отчего-то — с укоризной. — С этой сволочью только дай слабину!
— Застрелю паскуду! — дыша перегаром, пообещал второй, чувствовавший себя виноватым.
Понизов, заметивший, что дверь в церковь приоткрыта, проводил топочущих конвоиров безразличным взглядом. Стараясь не шуметь, поднялся по ступеням. Тихонько вошел.
Бывшая церковь, превращенная в склад, оказалась забита пиломатериалом и мешками с цементом. Даже на встроенной лестнице, ведущей на второй этаж, громоздились деревянные ящики с гвоздями и скобами. Лишь в отдаленном углу, скупо освещенном сумеречным светом, падающим через щелястую крышу, оставалось пустое пространство. Там истово молился пожилой мужчина, в котором Понизов угадал пропавшего этапируемого.
Стоял он на коленях на цементном полу перед голой стеной — на месте давным-давно соскобленных фресок торчали пунцовые кирпичи. Впрочем, что спрашивать с психбольного?
Понизов неловко переступил. Скрипнула доска.
Богомолец судорожно сжал кулак. Стало ясно, что в руке его крест, видимо, утаенный при обыске. На него-то, оказывается, и молился.
Опершись на убогую самодельную клюку, он с усилием разогнулся.
Перед Понизовым стоял глубокий старик. Лицо, в прошлом округлое, дородное, ныне — исхудалое, испещренное морщинами, с впалым ртом и обвисшими щеками, производило впечатление гнетущее. Грудь с присвистом вздымалась под телогрейкой. Тяжелая облысевшая голова безвольно покачивалась на дряблой шее, будто чахлый бутон на надломленном стебле.
— Я врач больницы, где вы будете содержаться, — представился Понизов. — Мне сказали, вас везут из Прибалтики.
— Из Ямеяла. Я — эстонец, — подтвердил старик — без акцента, но голосом глухим, в котором хрипы заглушали звуки, будто неслись из неисправного репродуктора.
— Эва! Тогда почему в этой церкви? Ведь вы же, знаю, протестанты!
— Я из православных эстонцев, — старик отвечал не сразу, после паузы. То ли выравнивая дыхание, то ли из привычки подбирать слова.
Понизов любил, когда удавалось, пообщаться с новыми пациентами прежде, чем ознакомиться с материалами дела. Было интересно составить предварительное мнение и после сличить его с официальным диагнозом. Здесь случай сам шел в руки.
— У нас есть время познакомиться. За что были осуждены? — спросил он.
— За сотрудничество с Германией, выразившееся в организации фашистских формирований в Эстонии, а также участие в деятельности разведывательных органов Германии против Советского Союза, — привычно отрапортовал старик.
Отвечал он без интонаций, как человек, свыкшийся с лагерной беспрекословной дисциплиной.
— Значит, вы воевали на стороне немцев?
— Нет. Воевал я как раз за русских. За это был помещен в немецкий концлагерь.
— И там согласились сотрудничать против нас?!
— Напротив, продолжал требовать, чтобы немецкие оккупанты покинули территорию Эстонской Республики. Освобожден из концлагеря после поражения Германии.
Похоже, перед Понизовым стоял один из несчастных, доживших в фашистском плену до заветного освобождения. Но вместо свободы перекочевавших из немецких лагерей в советские. И — лишившихся рассудка. Сколько же их прошло перед его глазами еще со времен пребывания в должности главного врача фронтового психиатрического госпиталя!
— Так когда именно были арестованы нашими?
— Вместе с семьей был вывезен в глубь России после оккупации Эстонии Советским Союзом в июле 1940 года. С тех пор нахожусь под приглядом.
— Опять оккупация! Что ж у вас все оккупанты? Я понимаю — немцы. Но как можно освободителей с фашистами на одну доску! Похоже, вы из махровых националистов.
— Так точно, я — националист, — бесстрастно подтвердил старик. — До сорокового года выступал за независимость Эстонии. За это арестовывался и большевиками, и немцами.
— Но позвольте! — спохватился Понизов. — Что-то вы, голубчик, зарапортовались! Если наши арестовали вас в сороковом, за год до войны, как же вы могли воевать с немцами? Напридумывали?
Он принялся приглядываться.
— Никак нет. Воевал. Служил прапорщиком в Ревельской крепости.
— В Ревельской… Ревель у нас… И почему прапорщик?!.. Так это вы о Первой мировой!
Только теперь Понизов разглядел насмешливые морщинки в уголках глаз, упрямый выступающий вперед подбородок. Кажется, Понизов ошибся: старик не походил на душевнобольного и, очевидно, не был сломлен. Потому что сломленные люди к иронии не способны.
Из-под привычной равнодушной покорности проступил вдруг неукрощенный дух.
— Что ж, похоже, вы меня крепко подурачили, — признал Понизов. — И всё же вернемся в сороковые. В каком качестве вы шпионили в пользу Германии перед арестом?
— В качестве президента.
Понизов озадаченно потеребил мочку уха.
— Ах да! — сообразил он. — Президентом какой-нибудь буржуазной компании?
— Президентом Эстонии.
Понизов огорчился. До того ответы старика выглядели вполне здравыми. Неужели всё-таки душевнобольной?
— Да! Президентов у нас еще не было, — признал он. — Ну и какой же вы по счету президент Эстонии? Первый? Второй? Десятый?
— Единственный!
В хриплом стариковском голосе внезапно прорезались высокомерные нотки. В подслеповатых, слезящихся зрачках блеснул гнев.
«Типичная мания величия, — диагностировал Понизов. — Самое безнадежное для излечения заболевание».
Он попытался всё-таки воззвать к логике.
— Если вы президент Эстонии, почему же вас из Эстонии вывозят куда подальше? — съязвил он.
— Как раз потому, что президент! — отчеканил старик, как и всякий душевнобольной, логике неподвластный.
На крыльце забухали валенки.
В церковь ворвались конвоиры, подмороженные, обозленные. Всё еще не протрезвевшие.
— Ты глянь. Мы бегаем бобиками, а он тут…, — сержант выругался. — Ухо из-за этой сволочи отморозил.
Второй конвоир, то ли стращая, то ли спьяну всерьез, вскинул автомат:
— А чего с ним?.. Всех делов-то! При попытке к бегству!..
Понизов подметил, как старик сунул руку в карман, куда перед тем спрятал крест, прикрыл глаза. Губы быстро зашевелились.
— Отставить! — коротко приказал Понизов, на всякий случай заслонив собой больного. — Никакой попытки нет и не было! И вообще — отныне он мой пациент. Так что — ступайте! Ждать у машины.
Конвоиры, глухо перебраниваясь, вышли. Вскинутая в минуту опасности стариковская голова вновь обвисла. Его качнуло, так что клюка едва не выпала из рук.
— Как же война нас всех ожесточила! — Понизов счел нужным извиниться за конвоиров.
Старик удивленно скосился.
— Война ли?
— Конечно! Я психиатр и знаю: люди по натуре незлобливы. Просто нужно время, чтоб зарубцевались боли и обиды.
Старик озадаченно повел шеей.
— Человек — пластилин, намешанный из добра и зла, — объявил он. — Каков мир вокруг, таким и человек становится. Как полагаете, почему шепелявлю?
— Неправильно выточен зубной протез?
— Был правильно. Сломали в тюрьме, на следствии. Такие же незлобливые люди. Наверное, хотели подправить.
Он ткнул клюкою в звездное небо над разрушенным куполом.
— Люди подобреют, когда церковь опять станет молельней, а не амбаром. А до тех пор свое отмороженное ухо всегда ценней чужой жизни.
— Поповщина-то здесь причем? — рассердился Понизов. — Я вам о нравственных категориях!
— Так и я о том же: человека Богу вернуть — труд потяжелее будет, чем авгиевы конюшни вычистить. Разрешите идти?
Этапируемый поклонился голой стене. Натянув на облысевшую голову кургузую шапку, вышел на крыльцо. Понизов еще постоял, сбитый с толку. Странный старик. Говорит темно, но весомо. Не похоже на путаную, сумбурную речь психбольных. Может, симулирует?
И другое ощущение неприятно скребло по самолюбию психиатра: будто не он провел диагностику, а его самого протестировали.
Машина уже стояла под парами. Оба конвоира нетерпеливо топтались у распахнутого фургона. Мстительно втолкнули старика внутрь, так что загремела о металл отлетевшая клюка. Сами влезли следом, освободив место в кабине для врача.
2.
На территорию психиатрической больницы имени Литвинова, что в поселке Бурашево, въехали в темноте. Малоэтажные корпуса, разбросанные по больничной территории, растворились в ночи. Лишь окна приемного отделения освещали подъехавший к крыльцу автозак.
Пока конвоиры оформляли доставленного, Понизов прошел в соседний, административный корпус, поднялся в свой кабинет с потускневшей табличкой «и. о. главного врача Понизов К.А.», позвонил в приемный покой, чтобы дежурный врач, приняв пациента, зашел вместе с делом.
Ловко накинул овчинный тулупчик на рогатую вешалку, следом стянул свитер «в елочку», достал бритвенные принадлежности. Стоя у зеркала, долго, неприязненно скоблил подбородок. Наконец обтер горячим полотенцем. Вгляделся в желтоватые белки, оттянул вниз нижнее веко, оттопырил уши.
— Рыло! — констатировал он.
— Бывало и получше, — подтвердили сзади.
Понизов круто развернулся. В дверях в белом халате стояла Ксения Гусева, при виде которой у Понизова привычно защемило в груди.
К тридцати пяти годам прошедшая два года войны и десять лет лагерей: сначала немецких, потом — своих. И ухитрившаяся сохранить статную осанку и дерзость во взгляде. Разве что рыжая копна, за которую на фронте прозвал ее Валькирией, заметно опала и потускнела. Да и кожа на лице, когда-то нежная, теплая, стала на ощупь напоминать наждачную бумагу.
— А вот ты и сейчас та же, что прежде, — громко восхитился он.
Ксения горько усмехнулась.
— Будет врать-то… Костя, по поводу твоей мамы. Узнала случайно, уже на дежурстве. Прими соболезнования…
Понизов кивнул:
— Вот как вышло! Сколько ссорились. Может, потому редко, недопустимо редко наезжал. И вот ее не стало. Вышел из материнского дома, смотрю на звезды, и жутко сделалось — будто исчезла преграда меж мной и вечностью. Раньше мать своим существованием заслоняла. Понимаешь, пока она была жива, я оставался ребенком. Аж зябко!
— Что? Так плохо? Бедный ты мой! — такая мальчишеская боль и обида проявились в этом дорогом сорокалетнем человеке, что Ксения, не удержавшись, шагнула, готовая обнять, приласкать, утешить. — Ничего, Костенька. Зато мы опять вместе. Вдвоем всё вынесем.
И вдруг замерла, ощутив его внезапный испуг.
— Вместе ведь? — с тревогой повторила она. — Или?.. Господи, опять!
— Не смог, — виновато пролепетал Понизов. — Вчера заезжал. Хотел окончательно, за вещами… И… представляешь, беременная она, оказывается. Как мог сказать? Не бросать же малого! Сам безотцовщиной вырос… Ну, что молчишь? Всё время молчишь. Отматерись, что ли?
— Что уж теперь? Я еще на фронте угадала, что не судьба нам.
— Ишь, как у тебя просто, — Понизов обиженно насупился. — Я ж после сорок третьего, когда ты в окружении пропала, еще восемь лет тебя ждал. Всё надеялся. А как надеяться перестал да женился… Да и женился-то так, от безысходности да жалости. Подумал, пусть хоть кому-то получше будет. Тут-то и нашлась. Будто черт язык показал.
— Нашлась — это сильно сказано. Правильней — я тебя нашла. На свою голову, — губы Ксении задрожали.
— Зачем ты так? Зачем?! — закричал Понизов. — Будто я тебя не искал. Одних запросов сколько исписал! — он даже потянулся к ящику, где хранил переписку. Но наткнулся на знакомый прищуренный взгляд.
— Да, обоим досталось, — Ксения жестко усмехнулась. — Вы меня с чем вызывали, Константин Александрович? Чтоб утешила?
Лицо Понизова горело от стыда.
— Во-первых, Ксения Сергеевна, вызывал я не вас, а дежурного врача, которому доставили нового пациента. По службе, так сказать!
— Нет вам сегодня ни в чем удачи, Константин Александрович, — Гусева подхватила предложенный фальшивый тон. — Потому что по службе у вас тоже проблема. В больницу поступил бывший президент Эстонии.
Понизов саркастически улыбнулся. Гусева молча раскрыла перед ним личное дело пациента, заглянув в которое, Понизов осел в собственное кресло. В самом деле: Константин Якобович Пятс, президент Эстонии.
— И что? — нелепо спросил Понизов.
— Как положено. Провела собеседование. Он вполне нормален. Насколько вообще можно остаться нормальным при такой биографии, — она кивнула на дело. — По сути, шестнадцатый год в заключении. Почти всё время — без приговора. Страдает от одиночества. И — изможден до последнего предела. Я, конечно, назначила, но… лечить можно того, кто хочет вылечиться. А этот — кажется, сам смерть кличет. А когда человек не хочет жить, то, не тебе говорить…
Понизов хмуро кивнул.
— Семью разбросали, так что долгое время не имел никакой информации. Недавно узнал, что погиб в заключении сын, в детском доме от голода умер внук. В общем, жуткая депрессуха. Просит сообщить родственникам, где содержится. Поскольку Пятс помещен по определению суда, а значит, проходит по линии судебно-психиатрического отделения, я обратилась за согласием к Кайдаловой.
— Отказала?
— А когда было иначе? Как всегда, — наотрез. Давай подготовлю письмо за твоей подписью. Ведь ему и впрямь всего ничего осталось. В конце концов, сообщать родственникам о пациентах — наша прямая обязанность. Хотя бы будут знать, где похоронен.
Понизов растерялся. Пятс — осужденный, которому реальное наказание заменено на меры медицинского воздействия. Без согласия судебного отдела утечка информации не допускается.
— Я поговорю с Маргаритой Феоктистовной, — попытался он уклониться от прямого обещания.
Но с Гусевой, прямой и резкой, такая тактика не прошла.
— Не юли, Константин Александрович! — потребовала она. — Сам знаешь: уговаривать Кайдалову — пустые хлопоты. У нее даже кличка — Нельзяха. А речь всё-таки о крупной политической фигуре.
— Именно! Понимать надо масштаб ответственности! Насчет режима, смягчим, конечно, как можем. Выдели палату попристойней. Да хоть с Князем помести, пока того не выпустили.
— Неужели всё-таки выпустят? — не поверила Гусева.
— Вот, кстати, и ответ тебе, — Понизов приободрился. — Главное, грамотно подготовить вопрос. С протоколом комиссии пробился к главному психиатру области. Он при мне согласовал и с прокурором, и с судом. Так что со дня на день…
— С чего вдруг? Год за годом отказывали, а тут согласовывают.
— А это и есть умение выждать.
— Выждать! — неприязненно передразнила Ксения. — Мальчишке, родившемуся за границей, рвавшемуся после Победы на родину, впаяли три года за незаконный переход границы. При наличии-то консульского разрешения! А когда после освобождения принялся разыскивать арестованных вместе с ним родителей, так упекли в психишку! Это называется умением выждать. Люди ли мы? А если люди, так что такое люди вообще?
— Зато и жду его освобождения, будто отпущения грехов, — признался Понизов.
— Так значит, можно всё-таки!.. — Гусева норовила вернуть разговор к Пятсу.
— Можно и нужно делать то, что реально. Одно дело пацаненка-дворянчика вызволить. А здесь! Другого полета птица. — Понизов возложил руку на пухлую папку. — Не угадаешь, каким боком чрезмерная забота выйти может! Зря, что ли, его с места на место таскают? Может, именно для того, чтоб концов не найти. В общем, есть те, кто за ним надзирают, они и сообщат, если сочтут нужным. А наше с тобой дело — грамотный уход.
Под сверлящим ее взглядом он сбился.
— Костя! Робкий мой Костя! — прошептала Ксюша. — Ну ты ж фронтовой врач. Чего сейчас трусишь? Ведь после пятьдесят третьего иные ветры дуют.
— Иные! — угрюмо согласился Понизов. — Но оттуда же, откуда и прежде.
— Тогда я сама, от себя напишу! — Гусева развернулась.
— Не вздумай! — с неподдельным испугом выкрикнул Пони-зов. Перегородил дверь. — Не хотел до времени говорить. Но иначе… Ты ж психованная, таких дров наломаешь… Короче: как главврач я отправил ходатайство о твоей реабилитации.
— Это что, вроде отступного? — съязвила она, всё еще полная обиды. Лицо Понизова болезненно исказилось.
— Какая же ты всё-таки… — он сглотнул. — Рассказываю, чтоб была готова, если вызовут. В ходатайстве указал, что в плен попала, будучи сотрудницей моего фронтового психиатрического госпиталя, потому что не бросила душевнобольных пациентов. Что после освобождения, работая в нашей больнице, проявила себя… Прошу, чтоб восстановили в звании и вернули ордена… Ксюша! Я всех, кого мог, подключил, и… пожалуйста! Пожалуйста!
Длинные пальцы его впились в женские плечи, принялись непроизвольно оглаживать.
— Знаешь, скольких потерял? — прижимая ее, страстно бормотал Понизов. — Одна наша с тобой судьба переломанная чего стоит! Не хочу больше терять! Лучше перемолчать! Забиться и — перетерпеть. Главное, чтоб без подлости.
Ксюша, задыхающаяся, готовая простить и уступить, вдруг энергично уперлась руками в его грудь.
— Что? — не понял Понизов.
— Да всё то же! По лагерям мордовали меня. А душу будто из тебя вынули!
С усилием освободилась. Выскочила в коридор.
— Видеть тебя, такого, не желаю! — донеслось оттуда.
Понизов тяжко осел в служебное кресло. Достал наощупь валокордин, накапал, выпил, боясь разлить. Отдышался и — потянул к себе дело Константина Пятса.
1956 год, январь
Начиная с 1940 года я содержусь без распоряжения суда и без каких-либо обвинений в заключении в России, …где я как президент Эстонской Республики всячески подвергаюсь унижениям и где моя жизнь находится под угрозой. Из-за преклонного возраста и неописуемо тяжелых условий жизни мое здоровье здесь сильно ухудшилось. Трудно описать всё то грубое насилие, которое применяли здесь в отношении меня: у меня отобрали мое личное имущество, мне запретили использовать собственное имя. Здесь я всего лишь № 12, мне даже не разрешают переписываться с семьей и получать от нее какую-либо помощь. Пища здесь плохая, я ослабел, ухудшились слух и зрение… Родившись свободным, я хотел бы и умереть на свободе…»
К. Пятс. Подпись. Отпечаток пальца. Из обращения, написанного в заключении3.
Нянечка Елена Ивановна Бабанова, попросту — тетя Лена, полненькая, аккуратная и, несмотря на свои пятьдесят, шустрая и энергичная, открыла дверь палаты, сложила на свободную койку постельное белье, линялое, стиранное-перестиранное.
— Доброе утро, — произнесла она ласково.
Палату на шесть коек накануне перераспределили, так что навстречу медсестре поднялся единственный обитатель: костлявый длиннющий парень 27 лет с буйными жесткими вихрами. Даже коротко остриженные, они походили на подровненные секатором заросли кипариса. Вопросительно кивнул на белье.
— Новый сосед тебе, Князюшка, — Елена Ивановна принялась ловко заправлять койку. — Ты ж не думал в одиночестве досидеть?.. Говорят, резидент какой-то, — сообщила она доверительно. — Не, путаю. Бери выше, — президент!
Новость пациента по кличке Князь не обрадовала.
— Не буйный хоть? — буркнул он.
— А хотя б и буйный.
Елена Ивановна, довольная розыгрышем, тонко засмеялась.
— А ничего, не боись! Этот буйный, если бузить начнет, сам же первый и рассыплется в лапшу. Да щас увидишь.
Она «взбодрила» тощую подушку и вышла, лукаво улыбаясь. Нимало не успокоенный, Князь вперился в оставшуюся приоткрытой дверь.
Послышалось неровное постукивание клюки. В палату, наваливаясь на нянечку, вошел старик в обвисшей, не по размеру пижаме. Поддерживаемый заботливой Еленой Ивановной, опустился на приготовленную койку.
— Располагайся до утра, — предложила тетя Лена. — А там доктор придет, назначит, чего надо. А если что срочно, вот сосед. Он тут старожил, заместо старосты. Всё знает — поможет. Ну, знакомьтесь, стало быть, мальчики.
Нянечка вышла. Старик отдышался.
— Номер 12, — представился он.
— А меня можете без церемоний — Князем, — снисходительно разрешил Князь. — Нынче мы, дворяне, без затей, запросто.
Мальчишеская надменность соседа старика позабавила.
— И из каких же вы князей, позвольте спросить: испанских, австрийских? Может, князь Монако?
— Из русских, — Князь насупился. — Просто русский князь.
— Просто князей не бывает, — не поверил старик. — Наверное, с этим сюда попали? А фамилия, случаем, не Князев?
Князь раздраженно повел худым плечом.
— Так вот, чтоб вы не задавались: князья и графы — это Мещерские, Ростовы. А Князевы да Графские — потомки их бывшей прислуги, — назидательно произнес старик. — Потому мой совет: выбросьте эту дворянскую блажь из головы.
— Ну, не всем же президентами, — огрызнулся Князь, беспокойно приглядываясь к своенравному новичку. Старик-то старик. Но впадет в буйство, — откуда силы берутся? Не унять. Конечно, настоящего буйного сюда бы не поместили, но бывают тихушники — с приступами. За долгие годы на всяких насмотрелся.
— Ты, отец, имей в виду, — произнес он строго. — Тебе козырная палата выпала. Таких здесь, считай, больше нет. Начнешь бузить, перебросят в общак, на десять коек. А там нравы простые. Чуть что не так, укольчик в жопельник и опять — тихой-тихой! Улыбчивый-улыбчивый. Так что цени и — не нарушай. Слышал, что я тут за старосту? Потому доложись: откуда? Давно ль президентствуешь? Над каким народом? А то как-то поступил президент США. Так оказалось — симулянт.
Ёрничающий Князь напоролся на колючий неприязненный взгляд.
— Больно ты, парень, словоохотлив. Что надо, есть в деле, — обрубил разговор номер 12.
Принялся раскладываться.
На Князя потянуло холодком. Психбольной явно принял его за «наседку».
— Ну-ну. Была бы честь предложена, — пробормотал он уязвленно. Несколько, впрочем, успокоенный. Психбольные, особенно буйные, стукачей не опасаются.
4.
Константин Понизов налегке, в халате, наброшенном на тонкий джемперок, торопился по морозцу от амбулатории в административный корпус.
Наступало время обеда. Меж корпусами с кастрюльками, судками, термосами сновали больные — дежурные по кухне.
Проходя мимо судебно-психиатрического отделения, Пони-зов расслышал доносящийся из палат искаженный динамиком голос-заклинание. «Родина — моя!», «Советский Союз — великий и неделимый!», «Сталин»! «Отечество»! — пафосно, со сдержанной слезой, произносил голос. Следом, после паузы, тот же голос, но уже с ноткой отвращения, загнусавил, перечисляя врагов: «Гитлер!», «Черчилль!», «Америка!». Через пяток секунд всё повторялось заново. Завотделением Кайдалова ввела среди контингента ежедневные сеансы патриотизма.
Понизов уже взбегал на служебное крыльцо, когда краем глаза разглядел на заиндевевшей скамейке нахохлившуюся грузную фигуру, опиравшуюся на клюку. Хоть после церкви Пятса он не видел, не узнать его было невозможно. Сидел Пятс в одиночестве. Значит, в нарушение инструкции лечащий врач Гусева выпустила пациента без присмотра, да еще во время обязательной психотерапии.
Понизов зыркнул по окнам второго этажа, — не наблюдает ли бдительная Кайдалова. Вроде нет.
— Господин главный врач! — расслышал он. Пятс взмахами руки пытался привлечь его внимание.
Поколебавшись, Понизов подошел. Опытным глазом подметил, что со времени их знакомства пациент еще одряхлел. К тому же совершенно окоченел. Кажется, выдерни клюку, и тело рухнет на снег и разобьется об него сосулькой.
— Здравствуйте, тезка, — радушно поприветствовал его Понизов. — Что ж вы один, на холоде? Не боитесь простыть?
Старик скривился, как от неудачной шутки.
— Это последнее, чего я испугаюсь. Я вас поджидал, господин главный врач. Очень просил бы меня выслушать.
— Хорошо. Как-нибудь приглашу. А пока немедленно в палату, — Понизов кивнул, прощаясь.
— Боюсь, что «как-нибудь» для меня слишком большой срок. Пятс хотел засмеяться, но зашелся в захлебывающемся, выворачивающем кашле.
Понизов разглядел наконец за тюлем на кайдаловском окне очертания женской фигуры. А стало быть, нагоняй Ксюше обеспечен.
— Вот что, — решился он. — Пожалуй, у меня как раз сейчас есть время. Завотделением после скажете, что на улицу вышли по моему указанию.
Помог Пятсу подняться. Повел, поддерживая под локоть. Продрогшего старика буквально колотило. Да и сам Понизов ощущал щекотание в носу. Потому, усадив в кресло у себя в кабинете, налил две рюмки коньяка. Протянул одну пациенту.
Понизов выпил коньяк залпом и еще долго наблюдал, как мелкими глотками, будто на приеме, цедит свою порцию человек, прошедший лагеря. Наконец, и Пятс отставил рюмку. Дыхание его стало коротким, горячечным, лицо порозовело. Заблестели глаза.
В доживающем теле вспыхнул вдруг прежний веселый огонь, будто в тлеющей головешке, перед тем как ей окончательно погаснуть.
— Так чего же вы боитесь больше, чем простуды? — напомнил Понизов.
— Памяти.
— В смысле: потери памяти? Вы ощущаете признаки амнезии?
— Нет. Я боюсь чужой памяти.
Понизов озадаченно нахмурился.
— Хорошо, давайте иначе: что же у вас всё-таки болит? Душа, конечно?
— Почему угадали? — настал черед удивиться Пятсу.
— Ну, это же клиника для душевнобольных… Так что на самом деле?
Он мазнул взглядом по часам. Пятс заторопился.
— Вы угадали. На самом деле, — именно душа. И нет физической боли, что сравнится с этой.
— Что именно мучает?
Пятс перевел дыхание. Набрал воздуха.
— Моя мука, моя беда и моя вина — что привел Эстонию в СССР!
Понизов оторопел:
— Как это «привел»? Вы же как раз противились… Раз вы здесь!
Горькая усмешка исказила усталое лицо:
— Увы, нет! Я и мое правительство, мы пытались предотвратить кровопролитие, которое полагали бессмысленным. Эстония выглядела обреченной. Мы подписали всё. Сначала соглашение о вводе войск, потом — оккупацию.
Он застонал:
— У нас маленький народ. Сколько больших народов перемолола история. А маленьких никто и не сосчитал. Что не сосчитал… Не запомнил! Ушли в почву и — будто не было. Миллион двести. Тьфу! Пескарь меж двух акул: Россией и Германией. Два выхода: сражаться или…
— С кем? Какие шансы? — Понизов невольно поддался его волнению.
Пятс закивал.
— Я рассуждал так же. Раздавят за несколько дней. Что такое для обозленного Сталина миллион двести? Мужчин с оружием пострелял, семьи вывез в Сибирь на погибель и заселил территорию другими. Был на земле народ — эстонцы, и как слизнуло. Значит, надо перетерпеть. Всё наше правительство было в этом едино. Для политика бог — целесообразность. Господи, прости мое высокомерие! Думал, я умный: всё просчитал, всё взвесил. Лавировал. Хитрил. Торговался с Молотовым из-за каждого пункта. Кланялся, смирив гордыню. А надо было — если убрать шелуху, — действовать на уровне инстинкта, как муж и отец, в дом которого ломится бандит. Хватаешь то, что под рукой, и защищаешь семью. Чем можешь и сколько продержишься. Остальное от лукавого. Надо было объявить всеобщую мобилизацию. Кричать, бить в набат: «Сражайся, мой народ! Умирай, но в борьбе».
— Смысл? Смысл?! — увлекшийся Понизов застучал ладонью по столу.
— Только один. Сдавшись, спасаешь рабов. Когда погибаешь в борьбе, у тех, кто выживет, сохранится свободная душа! — Пятс даже приподнялся, воодушевленный. Впрочем, тут же другим, просевшим голосом закончил:
— Но тогда я рассуждал иначе. Это был мой выбор и моя ошибка. Я пытался спасти свой народ и, кажется, погубил.
— Что значит погубил? — Понизов выглянул в коридор. Еще три года назад разговор, в который его настойчиво втягивали, прервал бы без колебаний. Но и по нынешним временам он приобретал чрезмерно опасный оттенок. — У вас как у человека буржуазной формации свои предубеждения. Но я лично уверен: для Прибалтики благо, что она вошла в число других союзных республик. Боюсь, среди эстонцев действительно были невинно арестованные. К сожалению, приходится верить. По себе знаю, что и с русскими допускалось подобное (он скользнул глазом по шарфику, забытому Ксюшей). Но это не повод ненавидеть страну, пусть жестокую лично к вам, но — выигравшую войну, защитившую мир, в том числе ваш народ от фашизма! В конце концов, всё нормализуется. Да и Сталин умер.
— Умер, — согласился Пятс. — Давно. Но я-то всё еще здесь. Так, может, и не умер? — голос его сделался раздраженным. — Надо же, — благо! Цвет нации пошел по этапу. Выслали, перемололи. Ассимилировали. А по какому праву вы вообще за нас решили, что для нас лучше? Чем лучше, что коммунисты победили фашистов, а не наоборот?
— Ну, знаете! — привычная снисходительность врача, беседующего с пациентом, изменила Понизову. Он почувствовал себя оскорбленным: его, фронтовика, поставили на одну доску с фашистами.
— Вы правильно обратились, господин Пятс! — отчеканил он. — У вас депрессия. Пожалуй, есть смысл усилить транквилизаторы. Я поговорю с лечащим врачом. А пока вас отведут в палату.
Он потянулся к трубке.
— Не надо! — испугался старик. — Я должен вам объяснить важное. То, что разъедает изнутри хуже чахотки. Чего страшусь пуще безумия. В конце концов, вы как врач обязаны выслушать пациента. Пожалуйста! И потом то, что хочу сказать, важно и вам, русским в России.
— Ну хорошо, только успокойтесь, — с видимой неохотой согласился Понизов. — Хотя всё это странно на слух. Сами говорите, что всё подписали. Почему ж вас тогда арестовали?
— Как раз не арестовали. Напротив. Вывезли с семьей в Уфу. В дом из пяти комнат с прислугой. С дворником! Все, конечно, агенты наблюдения. Писал аналитические справки о ситуации в Эстонии. Вроде продолжал соблюдать нейтралитет. Пока агентуру не внедрили, чтоб выведать, — что на самом деле про себя думаю.
— Откуда это поняли?
На лице Пятса промелькнула тень улыбки.
— Я, видите ли, конспиратор со стажем. Еще при царе к смертной казни приговаривали. И большевики арестовывали. И в подполье был. И у немцев в концлагере. Накопил опыт. Так что обмануть меня трудно. Сын Виктор как-то примчался с рынка радостный. Случайно встретил эстонца-учителя, что в соседнем колхозе преподает. Ранее будто бы преподавал в эстонской колонии. Много общих знакомых. Надо же, — «случайно». Это под приглядом-то энкавэдэшников. Что взять? Молодость наивна. Да и закисли мы без новостей. От внешнего мира изолировали, и сведения о ситуации на родине искали как воздух. Пригласили учителя этого в гости вместе с женой. А агенту, чтоб «расколоть» объект, в доверие войти, самому нужно значимой информацией поделиться. Они и расстарались.
Тогда и у знал, что пока я в особняке отсиживался!.. тысяч и соплеменников, которых я как президент не защитил, шли в лагеря. Не только члены правительства, что мы допускали! Не десятки несмирившихся! Поток! Сталин знал, что делал. Иезуитская школа! Республику по этапу гонят, а президент с семьей на курорте. Справки пишет. Сто лет живи — не отмоешься, не отмолишь.
Надо было решать. За себя не колебался. Но дети, внуки! Не освободить, не спрятать. Что ж… Не я первый, кто ближних в жертву приносит. Собрал своих, объяснился, попросил прощения. После чего пригласил ЭТИХ и вроде как проговорился, и что думаю о вашей советской власти, и будто бы жду прихода фашистов, чтоб обменяли. Обменяли! — Пятс скрипуче засмеялся. — Всё проглотили. Доложили наверх! Как раз война началась. А с ней и мои круги. Арестовали меня. Пошла по этапу семья. Погибли сын — в «Бутырке», внучок — в детдоме. Это всё, что я смог сделать для своей республики. Я понятно говорю?
— Слишком сбивчиво.
— Да, это так. Трудно стало собирать мысли. Вы упрекнули меня в ненависти к России. Я и впрямь не люблю советскую власть. Ни один нормальный человек не сможет любить такую власть.
— Отчего же? Мы как раз ее любим, — возразил Понизов.
— Я сказал: нормальный! — вспылил Пятс. — До Сталина не предполагал, насколько легко оболванить целую нацию. Еще вчера никто и звать никак, — один из двух-трех десятков. А года не прошло, — вся страна взахлеб славит как «отца народа». Обворовывают ее, вырезают семьями, по тюрьмам распихивают. А она славит! Как-то на банкете в Кремле в разговоре со Сталиным я пошутил: «Советские материалисты особой породы. Готовы согласиться, что всё в мире конечно. Допускают конец цивилизации, даже конец света. Но только не конечность советской власти. Это вечно!» Сталин усмехнулся в усы. Ему понравилось.
Пятс задышал натужно. Силы его вновь иссякли.
Понизов, которого разговор, по правде, захватил, подлил ему коньяка, — будто бензинчику на головешку плеснул. Мутная от катаракты роговица пациента вновь озарилась, подсвеченная внутренним жаром.
— Я не люблю вашу нынешнюю власть — это правда, — подтвердил Пятс. — Но, милый доктор, кого вы обвинили в ненависти к русским? Я — православный, русский по матери. Много лет служил России. Да! После октябрьского переворота я настоял на отделении Эстонии. Но в то же время я старался сблизить наши страны, чтоб избавить эстонцев от предубеждения к русским. Это кропотливый труд — сделать соседей друзьями… И вдруг Россия вламывается, всё круша, как медведь в барсучью нору. Я пытался объяснить: Сталину, Молотову, — что так мы лишь посеем вражду. Пытался, пытался. Они кивали. И только в заключении постиг простую истину: плевали они глубоко на наши симпатии-антипатии. Они нас мысленно похоронили.
Понизов, завороженный страстной исповедью необыкновенного этого человека, всё больше подпадал под его влияние, и сам ощущал себя кроликом, которого гипнотизирует змея. Попытался прервать наваждение.
— Странные беседы вы затеяли с главврачом клиники, господин Пятс. Если бы это говорил сумасшедший… Но вы не сумасшедший. Вы ищете собеседника. А ведь я даже по должности обязан…
— У вас глаза собачьи, — объяснился Пятс.
Понизов опешил.
— Больные, не стеклянные, — Пятс примирительно накрыл руку Понизова старческой ладонью. И Понизов ощутил, что ладонь эта мелко, едва ощутимо потряхивается. «Кажется, еще и Паркинсон начинается», — некстати подумалось ему, и — раздражение схлынуло, уступив место сочувствию.
— Не сердитесь, — попросил Пятс. — Вы правы, мне важно высказаться. Вы молодой. Может, доживете, когда на смену этим придут другие и спросят… И тогда ваше слово будет для меня важно. Да и вам самому. Мы маленький народ. И все процессы на глазах. Но всё, что говорил, касается и русских. Есть геноцид внешний, но есть и внутренний. У любой нации свой запас прочности. Понятно, у огромной России он куда обширней. Но — не безграничен. С вас же десятилетия за десятилетиями будто плодородные слои срезают. Дворянство, купечество, после — крестьяне зажиточные, интеллигенция. Будто аборты. Это не может длиться бесконечно. Потому что при всеобщей покорности неминуемо бесплодие и вырождение.
Понизов хотел возразить, но не мог, — многое из того, что говорил эстонский президент, крутилось в его голове в ночные бессонные часы.
Пятс, нашедший благодарного слушателя и опьяненный вниманием, рассказывал и рассказывал: о революции пятого года, об аресте большевиками, о годах эстонской независимости от эмиграции, становлении эстонской государственности. И о самом больном: крахе независимой республики, — его детища. Соприкоснувшийся с неведомой ему историей Понизов не слушал — внимал.
Сколько прошло времени? На улице стемнело. Врач и пациент сидели бок о бок.
В коридоре раздались цокающие шаги. В кабинет после короткого стука вошла энергичная женщина с красивым злым лицом — заведующая судебно-психиатрическим отделением Маргарита Феоктистовна Кайдалова.
При виде ее мужчины непроизвольно отодвинулись.
— Разрешите, Константин Александрович? — хрипловато произнесла она, уже отмахав широким шагом половину кабинета. Недоброжелательным взглядом полоснула по пациенту.
— Вот вы где, номер двенадцатый? Подумала сперва, не в бега ли подался. А то, гляжу, у вас чуть ли не вольный режим.
— Я пригласил пациента Пятса, — осадил Кайдалову Понизов.
Кайдалова нахмурилась.
— Кстати, номер двенадцатый, мне передали, что вы при больных ругали качество постельного белья.
— Я не ругал качество белья. Качества там нет. Оно просто дырявое, — возразил Пятс.
— Как бы то ни было, впредь прошу с подобными замечаниями только к врачу, один на один. Если закончили, Константин Александрович, пациенту пора на ужин.
Понурясь, Пятс нащупал клюку.
— Надеюсь, не заблудитесь, — проводила его Кайдалова. — И вообще, впредь предлагаю меньше толкаться в кабинетах начальства. А больше внимания режиму.
Когда пациент вышел, Кайдалова присоединилась к застывшему у окна Понизову. Сверху оба наблюдали, как неспешно, выбрасывая клюку, будто трость, вышагивает по снегу бывший президент Эстонии.
— Заносчивый! — оценила Кайдалова. — Ишь, как ногу впечатывает. Прям на плацу.
— Гордый, — не согласился Понизов. — У него ревматизм и вены. Видите, как аккуратно ставит ступню? Чтоб никто не заметил, насколько ему больно.
— Что ж, враги тоже сильными бывают. — Кайдалова вернулась к столу. — Тем зорче и беспощадней должны быть мы, психиатры.
Постучала ноготком по бутылке, потом по часикам на руке.
— Три часа беседы с врагом? Что могут подумать, Константин Александрович?
— Вообще-то я как врач беседовал с пациентом, — возразил Понизов. Подманил ее поближе. — А что вы подумали?
— Не валяйте дурака! Мы не на трибуне. И кому как не вам знать: психиатр не врач. Психиатр — боец. А Пятс этот — матерый антисоветчик! Которому необходимо дать понять, что он не в санатории. А отбывает наказание.
— Для нас он пациент! — сорвался на крик Понизов. Но Кайдалову не поколебал ни на йоту.
— Для нас он враг! — отрезала она. — А для вас в первую очередь. И без того нехорошие разговоры о вашей мягкотелости идут. Вы подумали, почему вас до сих пор не назначили на должность? Достаточно того, что приняли на работу судимую за измену Родине.
— Побойтесь бога, Маргарита Феоктистовна! Если вы о Гусевой, то она фронтовичка, незаконно осужденная. И в ближайшее время будет реабилитирована.
— Но в плену-то она была!
— Стало быть, тоже враг? — У Понизова заходили желваки.
Кайдалова смолчала значительно.
— Идите-ка вы работайте. Что касается пациента Пятса, он уж и без нас с вами свое получил. Пусть хоть умрет спокойно.
— Ну-ну, — Кайдалова статным парадным шагом направилась к выходу.
У двери ее нагнал голос Понизова.
— И еще. Я пересматриваю статистику. В вашем подразделении недопустимо высокая смертность среди лиц, направленных судом. Может, это следствие вашей классовой борьбы с пациентами? Обещаю разобраться тщательно. А пока требую пациенту Пятсу обеспечить надлежащее лечение и уход! Как и всем. Во всяком случае, так будет, пока я здесь за главврача.
— Думаю, это ненадолго.
Насмешливо скривившись, Кайдалова с чувством захлопнула за собой дверь. Подрагивает табличка «и. о. главного врача Понизов К. А.».
Год 1990
1.
Наглухо привинченная медная табличка с выбитыми выпуклыми буквами — «Председатель Бурашевского поселкового совета Понизов Н. К.».
Николай Понизов, рослый, ладный молодой мужчина с аккуратными усиками вдоль верхней губы, подергал табличку, пробуя на прочность.
— Как влитая. Даже жаль менять, — пожаловался он уборщице бабе Лене, что прибиралась в его кабинете.
— Как же тебя теперь обзывать-то станут? — полюбопытствовала баба Лена. — Голова, что ли?
— Глава администрации! — Понизов со вкусом выговорил новое, диковинное словосочетание.
Он всё делал со вкусом. Любил, поднявшись пораньше, пройтись по пробуждающемуся поселку, прийти на работу за час-полтора до того времени, когда начнут собираться сотрудники, и посидеть за дела ми в одиночестве. Ем у вообще нравилось быть успешным, удачливым. Задаться целью и добиться ее, вопреки обстоятельствам. Собственно, именно так он, старший оперуполномоченный районного уголовного розыска, капитан милиции, оказался на должности председателя поссовета.
Будто ненароком бросил он взгляд на стену, на которой развесил почетные грамоты и благодарности: «Участковому инспектору лейтенанту милиции Н. К. Понизову — за задержание вооруженного особо опасного преступника», «Оперуполномоченному ОУР старшему лейтенанту милиции Понизову — за раскрытие серии групповых краж из Пригородного райпо». А рядышком две копии, в рамочках из орехового дерева: «Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Понизова Н. К. за превышение пределов необходимой обороны» и с краешку, ехидное, — «Постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления». Уж как они к нему подбирались. Ан вывернулся!
Несмотря на исполнившиеся накануне тридцать три года, Понизов сохранял молодецкую осанку, когда плечи при ходьбе чуть откидываются назад, будто паруса, ищущие ветра, и отменную, со времен ВДВ, реакцию. Реакция эта проявляется и в работе. Понизов быстро вникает в любую проблему, без задержки и, как правило, безошибочно принимает решения. Поэтому ему непонятна медлительность и нерасторопность других, хотя к чужим слабостям снисходителен. За что любим подчиненными.
— С букетами-то чего делать? — баба Лена озадаченно разглядывала вазы и банки, расставленные по кабинету. — Не убрать, так осыпаться начнут!
— Себе забери! Подругам раздашь, — разрешил великодушно Понизов. — Им уж давно, поди, никто не дарил.
— Как же, забери! Да тут на тракторе вывозить надо, — проворчала баба Лена. Она разогнулась, так что голова уперлась в красочный адрес: «Женский коллектив поссовета поздравляет дорогого Николая Константиновича с возрастом Иисуса Христа. Желаем мудрости, но не святости». Прочитала, шевеля губами. Сорвала.
— Уж больно тебя девки балуют, Колька!
— Так и я их! — Понизов хохотнул. На Кольку он не обижался. Наоборот, нравилось, когда шел по поселку, и старики, помнившие его пацаном, окликали по-свойски, на «ты». Себе цену он знал, а потому не боялся показаться смешным.
— Шкодник ты! — без злобы оценила начальника баба Лена. — А пора б остепениться. Тридцать три года, — не пацан-участковый, как прежде. На большой должности!
— Что должность? Собачья метка. Дела всё решают, — Пони-зов распахнул окно, огляделся. Перед ним, как на блюдце, лежал поселок Бурашево. Старый ветхий поссовет сгорел, и Понизов отстроил на горе новый: кирпичный, светлый. С котельной на угле. Недалеко от магазинов. Хоть и строки в смете не было. Но, как любил выражаться, — «порешал», «разрулил». И всё это за какой-то год. Ему самому нравилось то, что получилось.
— Всё-таки молодцы мы с тобой, баба Лена, — не стесняясь, похвалился он. — Гляди, какое здание отгрохали. Уже не зря жизнь прожили. Вот явишься перед Богом своим, так и доложи: отчитываюсь, Господи, что на пару с Колькой Понизовым новый поссовет построили. А поскольку Колька этот богохульник и охальник, выдели мне за доброе дело сразу два места в раю. Одно для меня, а второе сдавать буду.
Баба Лена, несмотря на свои «за восемьдесят», все еще шустрая и деятельная, подрабатывала сразу на трех работах, полагая, что лишних денег не бывает.
— Ой, дурак. Погоди, припрет, — вмиг уверуешь.
Она втиснулась с веником за шкаф.
— А насвинячили-то! Насвинячили. Обокрасть культурно, и то не умеют, — забубнила она. — Коли залез в поссовет, так бери, чего хотел, да и уходи. А не так, чтоб после уборщица за тобой три дня отскребала. И вообще, — нашли куда лезть. Понимаю, если б в сельпо. Туда, говорят, норковые шапки завезли.
На сей раз ворчание бабы Лены совпало с недоумением самого Понизова. За трое суток до того ночью подломали поссовет. Ничего ценного не взяли, да ценного и не было. Так, мелочь из кассы, бланки справок да печати. Можно было бы подумать на пацанов. Но Понизов, в недалеком прошлом старший оперуполномоченный угро, — сразу определил, что замки — входной двери, сейфа, — вскрывались опытной рукой.
— Кольк, глянь, не твой, случаем? — баба Лена выгребла веником из-под шкафа янтарный мундштук, не замеченный опергруппой при осмотре места происшествия.
— Оп-ля! — не удержался Понизов. Теперь он точно знал, кто побывал в поссовете.
Наборный, изготовленный в колонии мундштук принадлежал неоднократно судимому по кличке Порешало, которого когда-то участковый инспектор Понизов задержал при совершении вооруженного разбоя. Ныне Порешало — «сто первый километр» — жил в Тургинове. Числился в совхозе. Но фактически с группой таких же судимых подкалымливал каменотесом, — обрабатывал гранит для надгробных плит в Бурашевском кооперативе некоего Щербатова по кличке Борода, человека, по области знаменитого. Но зачем опытному вору понадобилось лезть в нищий поссовет, за который, попадись, схлопочешь полной мерой? Не из мести же?
— Никак, признал, Николай Константинович? — баба Лена натура тонкая. Как только председатель поссовета усаживался за рабочий стол, тотчас из Кольки обращался в Николая Константиновича.
— Похоже на то.
— Кто?! — у бабы Лены аж рот приоткрылся от любопытства.
— Не скажу. Но премию выпишу. За виртуозное владение веником.
По коридору процокали каблучки, и в кабинет, не сняв распахнутого плаща, впорхнула секретарша Любаня, рослая, большегрудая.
— Ох и погуляли вчера! — она озабоченно покачала головкой, давая возможность шефу оценить крупные серьги-висюльки. — Головка-то не бобо?
— Голова в порядке. И уже приступила к работе. Чего и остальным желает, — грубовато отреагировал Понизов.
Любаня, посмурнев, вышла. Демонстрируя неудовольствие, долбанула откидной доской на перегородке.
Понизов пожинал плоды собственного сластолюбия. Месяц назад, перепив, он, вопреки железному правилу, отвез секретаршу на «конспиративную» калининскую квартиру, что досталась на время от сослуживца, завербовавшегося на Север. После той ночи вышколенная секретарша превратилась в докучливую любовницу, а общение с ней — в муку.
2.
Шум двигателя заставил Понизова обернуться к окну. Возле поссовета остановилась — невиданное дело — иномарка: «фольксваген» с прибалтийскими номерами. Из машины вышли двое немолодых светловолосых мужчин в белых приталенных плащах и коричневых полуботинках на ранте, словно приобретенных в одной и той же подсобке. Один худощавый, повыше, второй — невысокий, склонный к полноте. Но на расстоянии, несмотря на разницу в объемах, они казались удивительно похожими.
Приезжие затоптались на крыльце. Принялись обивать испачканную обувь, не решаясь пройти внутрь, чтобы не наследить.
— Ишь, чистюли, — отчего-то обиделась баба Лена. Коврик с крыльца на время уборки она забросила в ведро.
Прежде чем войти в кабинет председателя, визитеры постучали в распахнутую дверь. Вошли, только дождавшись приглашения. В приемной скинули плащи. Костюмы на них оказались разными. Но ощущение неуловимого сходства еще усилилось.
— Мы имеем чьесть говорить с Главой? Э-э-э… — начал худощавый с тем акцентом, по которому безошибочно определяют прибалтов.
— Имеете, — подтвердил Понизов, показав на стулья для посетителей. Гости сели. Выложили визитки, написанные на незнакомом языке.
Понизов хмыкнул:
— Специально для России подготовили? — вгляделся в текст. — Эстонцы?
— Эстонцы, да, — закивали оба.
— Хенни Валк, — ткнул в свою визитку худощавый.
— Густав Вальк, — представился полненький. — Но я канадский эстонец. Я волонтер.
Послышались голоса. Поссовет начал наполняться. Понизов поторапливающе постучал по визиткам. Вальк кивнул на Валка.
— Мы — эстонская община, — произнес тот. — Исчез президент. Два года ищем.
— В этом месте поподробней, — Понизов не на шутку удивился. Розыском пропавших заниматься ему доводилось. Но об исчезнувших без вести президентах слышал впервые.
— В восемьдесят восьмом году у нас случилась Поющая революция, — сообщил Валк. — Люди вышли на Певческое поле… Много-много недовольных людей. Люди стали спрашивать…
Валк перевел дух. Понизов кивком головы поторопил.
Валк посмотрел на Валька. Вальк взялся объяснить по-своему:
— Когда в 1940 году Советская Россия оккупировала Эстонию…
— В смысле Эстония добровольно вошла в союз нерушимый республик свободных, — поправил Понизов.
— Да, да, именно… — закивал Вальк. — Когда СССР оккупировал Эстонию, многих руководителей увезли в тюрьмы. Среди других пропал наш президент Константин Пятс.
— И люди спросили, где наш президент, — подхватил Валк. — Мы хотим знать о нем. И тогда создали экспедицию. Да… И мы здесь экспедиторы.
Понизов хмыкнул — эстонец скаламбурил, даже не заметив этого. Слушал он без интереса, в нетерпении поглядывая на сегодняшний график, из которого уже начал выбиваться. Мутная история с каким-то стремным президентом мало заинтересовала его. Своих хлопот по горло. То и дело в открытый кабинет заглядывали сотрудники, сконфуженно кивали. Но вскоре заглядывали вновь, намекая на неотложность вопроса.
Валк меж тем неспешно нанизывал слова, получая удовольствии от собственного умения грамотно выстраивать чужую речь.
— Так в чем суть, экспедиторы? — поторопил Понизов.
Валк вытащил из портфеля карту СССР, разложил перед председателем поссовета.
— Вот!
Откинулся торжествующе. Понизов недоуменно вглядывался в нанесенные кружки и стрелки.
— Мы много ездили. Год, два. Много областей, больниц, — пояснил Густав Вальк. — Тщательно опрашивали, сверяли. Нигде нет следов. Появятся — затеряются. Последние по времени Ямеяла, Ленинград, Стренчи. Указали сюда. Ехали с надеждой.
— И что?
— Вчера побывали в психиатрической больнице. Нам сказали, — никогда не был.
— Сочувствую, — без особого сочувствия протянул Понизов, уже в откровенном нетерпении.
— Это наш президент, — сообщил Хенни Валк. — Для республики очень важно, чтоб вернуть на Родину… Это символ, понимаете?
Понизов усмехнулся, — это как раз он понимал распрекрасно. Тело президента, загубленного в сталинских застенках, для самопровозглашенной республики — как флаг.
— От меня-то что хотели? Я не психбольница, не кладбищенская администрация. Я — советская власть, которую вы так не любите… Не любите ведь? — не удержался он от хулиганства.
Эстонцы переглянулись, будто пойманные на непристойности. Отвели глаза.
— Не любите, — констатировал Понизов. — И всё-таки пришли. С чем?
— Бурашево — последнее место, где он мог быть, — затянул прежнюю песню Хенни Валк, тыча в карту.
Понизов нахмурился. Отодвинул визитки. Демонстративно потянулся к папке «На подпись».
— Мы бы к вам не пришли, — заверил Густав Вальк. — Но Александр сказал, — надо идти к Понизову. Александр сказал: если можно решить, он решит.
Оба визитера переглянулись и замолкли, будто сказали предостаточно.
— Дальше, ребята, — поторопил Понизов. — Кто у нас Александр?
Эстонцы переглянулись, озадаченные.
Из коридора донесся грохот перевернутого ведра, ворчание бабы Лены и весело извиняющийся баритон. Чем-то знакомый. Да конечно, — знакомый! Еще как знакомый! Понизов подался вперед.
В кабинет ввалился белобрысый крепыш, свежий и крепкий, будто ядрышко фундука.
— Алька! Брат! — Понизов бросился навстречу. Но вошедший, покоробленный панибратством, выставил предостерегающе руки. Нижняя губа его оттопырилась.
— Что еще за Алька? С вашего позволения, — Александр Тоомс, — холодно поправил он. Скосился на огорошенных Валка и Валька и со смехом распахнул объятия:
— Здравствуй же, большой братан.
Они познакомились восемь лет назад. Молодожен Понизов с юной женой прибыл в Таллинн в свадебное путешествие. Приятели из обкома комсомола посулили забронировать номер в гостинице «Виру» — наимоднющей по тем временам в Союзе.
Но то ли позабыли, то ли пообещали то, что не смогли сделать. Во всяком случае, у администраторской стойки многоэтажной гостиницы с диковинной табличкой «Ресепшн» Понизова завернули: все номера забронированы на месяц вперед. Отказался помочь и главный администратор — пренебрежительно покрутив удостоверение лейтенанта милиции из российской глубинки, бросил его назад. Бросил с видимым наслаждением. Не часто выпадал случай безнаказанно унизить милицию.
Обескураженный Николай спустился в огромный холл, где в уголке, подле двух чемоданов, оттертая на краешек дивана перепившими финнами, затерялась его молодая жена. Не было даже обратного билета на поезд. Что и говорить, — свадебное путешествие удалось.
Справа от ресепшн высвечивалась надпись «Милиция». В отчаянии Понизов зашел.
За столом, над документами, корпел белобрысый крепышок в погонах старшего лейтенанта.
— Работаешь здесь? — беспардонно произнес Понизов. Прибалт оторвал голову от документов, прищурился.
— Обслуживаю по линии угро, — деликатно уточнил он, без малейшего акцента.
— Такое дело, братан… Женился, — Понизов выложил перед ним служебное удостоверение. Принялся сбивчиво объясняться. Прибалт внимательно оглядел удостоверение, повертел, проверил на просвет, вернул.
— Не вижу штампа о браке, — произнес он бесстрастно. — Без штампа недействительно.
Понизов опешил. Прибалт, не меняя строгого выражения лица, поднял трубку. Коротко произнес несколько фраз на эстонском. Прикрыл трубку ладонью.
— Неделю хватит? Втиснут меж двумя симпозиумами.
Положил трубку.
— Поднимись к главному администратору. Оформят.
— Так у него мест не было, — наябедничал Понизов.
— У него и сейчас нет, — отбрил эстонец. — Это лично для меня. Сказал, что ко мне брат приехал… Братан, — смачно повторил он незнакомое словцо.
Коротко кивнул и, считая разговор законченным, потянул к себе дело.
С тех пор Понизов трижды приезжал в Таллинн. Несколько раз в гостях в Калинине побывал Алекс Тоомс. Пару раз ездили отдыхать вместе с женами. Чаще без жен. Лощеного, насмешливого прибалта, у которого под ледяной коркой бушевала яростная лава, Понизов обожал. А после того, как в пьяной сочинской драке Алекс, прикрывая спину Понизова, подставился под нож, иначе как братом его не называл. Правда, в последние годы, закрутившись в перестроечном вихре, как-то потеряли друг друга из виду.
— Совсем потерялись, — Понизов всё охлопывал друга. — Последнее, что слышал, — о твоем назначении начальником Таллиннского угро.
— Это не последнее. Последнее — о моем увольнении, — в своей бесстрастной манере сыронизировал Тоомс.
Оценил оскомину на лице друга. Показал на Валка и Валька.
— У них еще хлеще. Оба бывшие комитетчики. Подполковники. Уволены без пенсиона. Россия бросила, Эстония не подобрала. В Эстонии сейчас вообще весело. Новое поветрие. Считают, если прежних заменить на новых, — будет по-другому. То, что меняют, — ничего, терпимо. Важно, за что и кем. У нас сейчас решается, в какую сторону страна двинется дальше.
Алекс подсел поближе, так что вчетвером они образовали полукруг.
— Понимаешь, какое дело, Коля, — доверительно объяснял Алекс. — Когда образовали Народный Фронт Эстонии, объявили, что создались исключительно для поддержки реформ в рамках СССР. Всем тут же стало ясно, что из Союза Эстония уйдет. Это как точка невозврата. Главный вопрос — кем уйдет. Обиженной и отплевывающейся от всего, что было, или доброй соседкой? В Эстонии очень много русских. Их заселили в сороковых и дальше, и они живут. Давно живут. Корнями вросли. Сейчас русские пытаются задавить эстонских сепаратистов. Завтра националисты начнут выживать русских. А память о войне? Русские, понятно, — поголовно в Красной армии. А вот среди эстонцев… Многие служили в легионах. Всё очень неоднозначно. И столкнуть меж собой — на раз. Очень, очень важно, чтоб не случилось раскола. Внутри Эстонии. Эстонии с Россией. А президент Пятс — это как раз цементирующее начало. Легенда среди эстонцев. Особенно после того, как на Западе в семидесятых опубликовали его письма из заключения, с призывом не признавать вхождение Прибалтики в СССР. Это если с правой руки заглянуть. А если с левой, — русский по матери. Православный. Ориентированный на дружбу с Россией. Понимаешь, как эта фигура сейчас важна, чтоб всех сцепить в одно целое?
Алекс говорил непривычно горячо и оттого немного путаясь. Понизов сочувственно кивал. Но думал о том, насколько некстати вся эта история ему лично. Должность в поссовете занял с перспективой на повышение. Только накануне встречался со своим покровителем — председателем райисполкома Корытько. Обговаривали совместные планы на будущее.
А Эстония — каким боком она ему? Где-то на обочине СССР и на обочине его сознания. Но среди «экспедиторов» — Алекс Тоомс, близкий друг. А друзья для Понизова — особая категория. К их просьбам всегда относился трепетно. Впрочем, успокоил себя Понизов, им же ответили в больнице, что никакого Пятса нет и не было. А на нет, как говорится, — суда нет!
Понизов склонился над селектором:
— Девочки, гляньте! Баба Лена не ушла еще?
Баба Лена, уже одетая, заглянула через порог. Завидев посторонних, перешла на «вы»:
— Вызывали, Николай Константинович?
— Баба Лен! — обратился к ней Понизов. — Ты ведь у нас до пенсии в психбольнице числилась?
— Что значит числилась? — баба Лена возмутилась. — Сорок пять лет санитаркой. Считай, с войны. Поди кто попробуй. Да еще в судебном! Еще у твоего отца поработала.
Понизов движением пальца остановил поток негодования.
— Тогда припомни, не было ли у вас среди пациентов в пятидесятые годы…
Баба Лена насмешливо присвистнула.
— А ты напрягись. Эстонец.
— Да сколько их перебывало!
— Константин Якобович Пятс! — умоляюще выдохнул Валк. — Ему восемьдесят было.
— И Константинов, и Яковлевичей без счета. За кем только горшки не убирала. Может, какие особые приметы? Чтоб запомнился?
Валк и Вальк безнадежно переглянулись. Понизов кивком отпустил старуху.
— Он был президентом! — подсказал Тоомс. — Нашим президентом.
Баба Лена вдруг остановилась. По лбу забегали глубокие морщины.
— Президент! Погодьте, чего-то знакомое. Был какой-то старичок. Его Князь так называл. Тоже наш пациент. Бывало, зайду в палату, а тот: «Тетя Лен! Почему к президенту без стука входишь? Почему не приветствуешь гимном? Ну-ка, отдай рапорт». Всё юморил. Потому и запомнила. Правда, быстро помер.
— Президент Эстонии! — подсказал Валк с надеждой.
— Это уж не знаю. Может, просто дразнили так? У нас кого только не перебывало!
Понизов потянулся к телефонной трубке.
— Кто вам сообщил, что в Бурашевской больнице Пятса никогда не было? — уточнил он, набирая номер.
— Старушка из архива, — Алекс пощелкал пальцами.
— Кайдалова, — подсказал, заглянув в блокнот, Валк. — Очень хмурая, очень неприветливая.
— Типичная эстонка, — дополнил портрет Алекс — специально с акцентом.
Больница ответила.
— Галочка, солнышко, — промурлыкал Понизов в трубку. — На тебя, единственную, уповаю и припадаю… Обещаю. В следующий раз как только, так сразу. — Он хохотнул сочно.
— Пожалуйста, запиши: Пятс (перевернул к себе блокнот) Константин Якобович. По непроверенной информации, находился в судебно-психиатрическом отделении в пятидесятых и будто бы у нас же умер. Обращались, правда, в архив. Получили отлуп, — никогда-де не было. Но — на всякий случай перепроверь. Можешь зачесть как услугу советской власти… Ладно, тогда мне лично. Хоп, я все сказал.
Он отсоединился.
— И что? Будут искать? — Валк недоверчиво показал на телефон.
— Конечно. Это у вас беспредельщина. А у нас с советской властью пока считаются. Так что ждем-с… А кстати! — Понизов увидел кого-то через окно. Выглянул:
— Эу! Ты чегой-то мимо поссовета, как мимо тещиного дома, прогуливаешься? Ну-ка, загляни!
Повернулся к эстонцам:
— Какие раньше старики-участковые были! — посетовал он. — «Отказник» написать не могли без ошибок. Зато по поселку из конца в конец пройдет — всё про всех знает!
В кабинет, протопав по коридору, вошел участковый Хурадов — ладненький румяноликий кавказец в пригнанной милицейской форме с погонами младшего лейтенанта. Бросил руку к фуражке:
— Товарищ председатель поселкового совета! Младший лейтенант милиции Хурадов по вашему приказанию прибыл.
— Ты уж три дня как должен был прибыть. И без всякого приказания, — осадил весельчака Понизов. — Ты помнишь, что у тебя на участке произошло? У тебя поссовет подломали. Советскую власть — мать твою кормилицу — ограбили. Печати украли! — Понизов, добавив голосу грозности, потряс пальцем. — Меня, председателя поссовета, можно сказать, полномочий лишили. Потому что какой же я председатель без печати?
Отвернувшись от растерявшегося участкового, подмигнул То омс у.
— Так… работаем, Николай Константинович, — пролепетал Хурадов. Напускная бравада исчезла, — председателя поссовета, в прошлом капитана милиции он боялся.
— Тогда давай, — Понизов требовательно протянул руку. В нетерпении пошевелил пальцами.
— Ч-чего?
— Результаты давай! За три дня ты наверняка гору свидетелей и доказательств перелопатил! Может, уже и преступление раскрыл? Ну же! Поделись!
Участковый принялся отчаянно постреливать глазами на посторонних.
— Ты что, вообще по краже не работа л?! — сообразил Понизов.
Хурадов удрученно выдохнул:
— Верите? Ни минуты свободной. Выполняю задачу, лично поставленную начальником райотдела подполковником Сипагиным. Велено бросить все силы на раскрытие преступной деятельности кооператора Щербатова.
— Чьей? — не поверил своим ушам Понизов.
— Щербатов по кличке Борода, — доверительно сообщил Хурадов. Сверился с материалами. — Живет в Бурашево, в собственном доме, где разводит в пруду карасей. Владелец гранитной мастерской, в которой вытесывает памятники.
— Про этот кооператив весь поселок, да и весь Калинин знают, — поторопил его Понизов.
— В райотдел милиции поступило анонимное заявление, что кооператив фиктивный. Числятся Щербатов с женой да старухой тещей. А фактически под прикрытием кооператива Щербатов у себя дома выбивает портреты на памятниках и деньги кладет в карман. К тому же, как стало ясно из анонимного заявления, — Хурадов заговорил с придыханием, — использует чужой наемный труд. Даже без оформления. Мне поручено осмотреть районные кладбища, установить памятники, изготовленные Щербатовым, допросить заказчиков, что деньги платили напрямую…
— И дальше?!
— Будет возбуждено уголовное дело по статье 153 Уголовного кодекса — за частнопредпринимательскую деятельность. И если я справлюсь, меня переведут в ОБХСС, — Хурадов сладко зажмурился.
Глаза прибалтов расширились.
— А вы говорите — «перестройка», — бросил им Понизов. — Хурадов, на дворе девяностый год. Акционерные общества одно за другим появляются. Банки частные! А вы собрались мужика гробить по какой-то лохматой статье…
Хурадов насупился.
— Подполковник Сипагин говорит, что раз статья за частнопредпринимательство не отменена, значит, по ней можно сажать.
— Ну, вот что! — обманчивое добродушие покинуло бывшего опера. Он возложил на хрупкое лейтенантское плечо массивную лапищу, задумчиво потрепал погон. — Ты участковый! На твоей территории ограблен поссовет. Кража на контроле. И если немедленно ею не займешься, ты у меня не то что мимо ОБХСС пролетишь, но и из ментовки вылетишь. И никакой Сипагин не поможет. Потому что, когда нажмет облисполком, он первый тебя сдаст. Это понял?!
Хурадов сглотнул, — видно, и впрямь понял.
— Так вот. Немедленно выезжай в Тургиново и выясни, где были твои подна дзорные со сто первого километра в ночь кражи. Поминутно выясни. Прихвати для прикрытия какого-нибудь пожарного и обшарь общагу. Если обнаружишь что-нибудь из поссовета, изымай официально, протоколом обыска. Вопросы есть?
— Никак нет, — Хурадов, хоть и огорченный, вытянулся. — Для меня высокая честь выполнить поручение легенды уголовного розыска!
— Кончай трендеть! И с утра с результатами ко мне! — Пони-зов легким пинком выставил начинающего подхалима.
С сомнением прищурился:
— Сколько я этого Бороду знаю, столько его пытаются посадить. Сам с Запада, и голова на западный манер устроена. К чему ни прикоснется, всё в золото обращает. Ныне, казалось бы, дожил до своего звездного часа. Развернулся. И — опять то же самое.
Телефон задребезжал.
Понизов поднял трубку. Глазами показал эстонцам, что звонят по их вопросу. Выслушал, мрачнея на глазах. С удрученным видом отсоединился. Оглядел поникших «экспедиторов».
— Пятс этот ваш… Точно, что Якобович? Может, перепутали отчество?
— Якобович, конечно, — багровый Валк принялся убирать блокнот в портфель, в полном расстройстве тыча мимо. Огладил белобрысый бобрик огорченный Алекс.
— А если Якобович, тогда чего вы здесь штаны протираете? — удивился Понизов. — Пошли в больницу. Нашли-таки в архиве ваше дело. Кто ищет, тот обрящет.
Считая розыгрыш удачным, подмигнул Тоомсу:
— Главное, вовремя к правильному пацану обратиться.
3.
Недалеко от входа в психбольницу, у магазина ТПС, с КамАЗа сгружали куски гранита. Подле, около вишневой «восьмерки», прохаживался владелец гранитной мастерской Щербатов. Высокий, под стать Понизову, но худющий шестидесятилетний бородач. В джинсиках «Левайс» и в замшевой курточке, в аромате мужского парфюма, с расписной тростью в правой руке и лайковыми перчатками — в левой. Ухоженный барин. Правда, интенсивно лысеющий со лба. Зато оставшиеся волосы беспорядочно лезли вверх витыми посеребренными проволочками. Легко было представить, какой непролазный «кустарник» торчал над этой высоколобой головой прежде.
— Здорово, Борис Вениаминович! — окликнул его Пони-зов. Щербатов обернулся, потеплел лицом. Добрые отношения меж ними установились еще с начала восьмидесятых, когда участковому Понизову поступали указания посадить тунеядца Щербатова, а тот, симпатизировавший талантливому предприимчивому мужику, находил увертки, чтобы указания не исполнять.
— О! Привет, поссовет! — в запевной своей манере откликнулся Щербатов. — Вышел в народ узнать, чем живет?
— Вышел, — подтвердил Понизов. — И чем живешь, народ?
— Вашими молитвами! Вот! Наладил поставки гранита с Урала. С божьей помощью надумал расширяться. В Дмитрово-Черкасах филиал открываю, — Щербатов горделиво помахал свежезарегистрированным уставом. — А то и вовсе туда переберусь.
— А в тюрьму перебраться не планируете?
— С чего бы? — Щербатов нахмурился. Шутки про тюрьму ему не нравились. — Прошли, слава богу, прежние времена. До сих пор вам, Николай Константинович, свечку благодарственную ставлю. А ныне свобода. Гуляй не хочу, — Борода улыбнулся, но, приглядевшись, посерел. Улыбка сделалась искательной. — Или что знаете?
Понизов подхватил его под локоть. Жестом извинившись перед гостями, отвел в сторону:
— Предлагаю обменяться информацией.
Щербатов, несколько озадаченный, согласно кивнул.
— Жизнь-то, оказывается, и впрямь по спирали движется. На вас, Борис Вениаминович, в райотдел анонимка поступила. Что изготавливаете «левые» памятники помимо кассы, и что наемный труд используете. В общем, нетрудовые доходы, как бы!
Щербатов опешил:
— Как же это может быть? Ведь… перестройка.
— Вот и перестраивайтесь по-быстрому, пока самого не перестроили. Похоже, кому-то вы дорогу перешли.
Подтолкнул шутливо:
— Теперь вы мне в порядке алаверды ответьте, не ваши каменотесы поссовет обчистили?
Щербатов замялся:
— Официально кто спросит, отвечу — не знаю. Голова дороже.
Убедился, что никто не слышит:
— А если приватно… Они — не они… На библии, конечно, не поклянусь. Но то, что вместо работы чешут языки, где бы найти, что плохо лежит, — этим достали. И как-то в шутку действительно вроде как проговорился, будто в вашем поссовете в кассе десяток тысяч рублей отложен — на покупку уазика. Ну, извините. Ляпнул, не сделав поправку на чувство юмора.
Понизов не поверил:
— Решил их моими руками убрать?
— Как это?
— К примеру, скопились долги перед каменотесами, а платить не хочется.
Щербатов огладил залысину:
— Да! Тяжел разговор с властью, когда она в одном лице и власть, и мент. Да я в любую минуту рассчитаюсь, лишь бы их больше не видеть. Это ж как на мине. Хотят — работают, хотят — нет. Вроде поднадзорные, а каждые выходные в Москву ездят. А зачем ездят? Медом Москва вымазана? Полагаю, — жди ЧП.
— Скажу участковому, чтоб приглядел, — пообещал Понизов.
Щербатов иронично прищурился:
— Лучше спросите у Хурадова, откуда у него сервелат в холодильнике не переводится. Сумками из Москвы везут. В общем, считайте, я знаю, кто ваш поссовет ограбил. И если их посадят, не огорчусь.
— Но тогда и я, кажется, знаю, кто на вас анонимку написал.
Оставив озадаченного предпринимателя, Понизов бросился догонять истомившихся эстонцев.
В архиве психбольницы, отгородившись барьером, хмурая высохшая старуха — архивистка Маргарита Феоктистовна Кайдалова — неприязненно приглядывала за эстонцами, листавшими в сторонке архивное дело Константина Пятса. То и дело доносились торжествующие, непонятные для русского слуха гортанные выкрики.
— Ишь ты, — выписки делают! — процедила она. — Дорвались!
— Что ж удивительного? Два года искали. Пол-России обшарили, — пояснил стоящий рядом Понизов. — Как же вы сразу дело-то не нашли? Неужто так затерялось?
— Команды не было, и не нашла, — без стеснения призналась Кайдалова. Остро глянула на председателя поссовета.
— А Вам, товарищ Понизов, команда поступила?
Заметила его замешательство. Тонкие старушечьи губы сошлись в злую гузку:
— То есть несанкционированно?! Знала бы, нипочем дело не выдала… Вы ведь коммунист?.. Коммунист, конечно. Иначе б на такую должность не назначили.
Понизов кивнул, с интересом ожидая дальнейшего.
— Так вот как коммунист коммунисту: вы совершаете огромную политическую ошибку. Без отмашки сверху, без ведома органов вы, по сути, выдали националистам государственную тайну.
— Эва как! — на сей раз Понизов удивился нешуточно. — В чем же государственная тайна? В том, что эстонцы нашли место, где умер их земляк? Так вы сами обязаны сообщать родственникам насчет пациентов.
Он склонился к старухе с чекистской бдительностью во взоре:
— Или у вас имеется особое указание сведения ни под каким предлогом не выдавать? А если припрут, вырвать запись и съесть на глазах у врага!
— Да, врага! — рассердилась Кайдалова. — Больно вы, нынешние молодые, легкие. Всё кузнечиками прыгаете. Так и пропрыгаете державу-то!
Эстонцы как раз вернулись к стойке.
— Мы хотим знать, где похоронен президент Пяте, — произнес Валк.
Вальк подхватил:
— Чтобы эксгумировать останки, вывезти их на родину, в республику… — Он тяжело, натруженно задышал.
— Видал, чем недальновидность оборачивается! — попеняла Кайдалова председателю поссовета. — Только палец покажи.
— …И торжественно перезахоронить. Да, — завершил длиннющую фразу Валк.
— А вот это хренушечки!
Бодрые, праздничные эстонцы осеклись.
— Вы обязаны показать могилу. Это в любой инструкции… — напомнил Вальк.
— Еще и инструкции изучили! Готовились! — уличила Кайдалова. — Могилу желаете? Нате! — повторила старуха с торжеством, скрыть которое не смогла, да и не желала. — Во-он кладбище! — Она ткнула за окно.
— Полный лес захоронений. Только ни крестов, ни плит опознавательных. И хоронили по двое-трое в гробу, в исподнем… А то и просто в простынях. Одежды, уж извините, не было. После войны-то! Может, у вас в Прибалтиках как сыр в масле катались? Вас же немцы не больно трогали. Своих-то! А у нас, извините, каждая пара кальсон на счету была. Теперь поди найди, поди отличи. Так что, ауф-видерзейн, господа хорошие!
Эстонцы, так и не поняв толком причину старушечьего раздражения, угрюмо потянулись к выходу. Следом, не попрощавшись, вышел Понизов.
Кайдалова проводила его хмурым взглядом.
— Правду говорят про яблоко и яблоньку, — пробурчала она. — Ведь не видел никогда отца. А что тот шалопутом прожил, что этот без царя в голове.
На крыльце Понизов нагнал удрученных эстонцев.
— Что значит по-русски «хрэнушечки»? — вопросил Валк.
— Значит, два года псу под хвост, — перевел ему Тоомс. Невольно простонал.
— Будет, братан, — Понизов приобнял друга. — Не кори себя. Ты этот путь прошел до конца. Место смерти установил. Есть чем перед своими отчитаться. А насчет остального… Сволочная, конечно, старуха. Но в этом права. Зарывали вперемешку, так что найти, да еще опознать — безнадега.
— Константиныч! — окликнули сзади. От аптеки в грязном халате со шваброй поспешала баба Лена.
— А я ведь вспомнила! — на ходу, торжествующе выкрикнула она. — Точно, что был. Даже лицо перед глазами. Мордастое. Но только от старости ввалилось.
— Знаем уже, — подтвердил Алекс. — Другая беда. Хотели останки найти. А оказалось, что хоронили без примет, без табличек. Даже без одежды.
— Это да, — признала баба Лена. — Трудное время было.
Всколыхнулась.
— Но погодите! Вашего-то как раз в одеже хоронили!
Эстонцы, похожие на снулую рыбу, разом ожили. Окружили старушк у.
— Ну да, — подтвердила та. — В одёже, скалабудах. Вы ж у Кайдалихи были? Ее б и поспрашали. Она знает… Хотя эта соврет, недорого возьмет. У нее, стервы, с сороковых годов кличка Нельзяха.
Глазами она нашла Понизова, — не наболтала ли чего лишнего? Но тот поощрительно кивнул.
— Вот если Ксюшка Гусева где жива. Она тогда лечащим врачом была и очень, помню, хлопотала. И костюм они с главврачом, Константин Александровичем, отцом вашим, справили. И место захоронения сама подобрала. Их тогда обоих после той истории поприжали. Константин Александровича особенно — в органы даже тягали. На каком-таком основании штаны покойнику выделил. Не в целях ли теракта? Совестливый человек был, хоть и негромкий. Сердце и разорвалось. После этого и Ксюшку вышибли. Очень она смерть отца вашего переживала. С Кайдалихой на людях поскандалила, — страшное дело. И стукачкой ее называла, и по-всякому. Сразу и уехала. Лет десять тому в Калинине ее видели. Может, и жива еще. Чего ей, пацанке, не жить? Должно, семидесяти нет.
Николай Понизов об отце знает мало. Родился после его смерти. За долгие годы в Бурашевской психбольнице сменился не один главврач. Но — странное дело — именно память о руководителе клиники пятидесятых засела в народном сознании. Вспоминали как о слабовольном руководителе, при котором Бурашевская больница была превращена энкавэдэшниками в разновидность тюрьмы. Куда запирались арестованные, содержать которых предписывалось без приговора и без огласки. И те, кого сюда запирали, редко, по слухам, выживали более полугода. Было ли так на самом деле или недобрая молва пущена кем-то из недругов Константина Понизова, оставалось гадать. Письменных свидетельств не сохранилось. Живых очевидцев, кажется, тоже.
Пытался расспрашивать мать. Но мать, вскоре вышедшая вновь замуж, о первом муже вспоминала неохотно. А если упоминала, то больше как о самовлюбленном рохле. Но фамилия Гусевой, которую услышал от бабы Лены, Николаю была знакома. Как-то, копа ясь в отцовских книгах по психиатрии, в одной из них обнаружил несколько писем, не замеченных матерью и потому сохранившихся. Это была фронтовая переписка отца с некоей Ксенией Гусевой, из которой он понял, что женщину эту, вместе с которой воевал, отец, единственную, любил. Матери о своей находке, конечно, не сказал.
Но теперь, когда Николай узнал, что влюбленные, оказывается, после войны воссоединились в Бурашево, у него появился личный мотив найти Гусеву, — очень хотелось побольше узнать о таинственном отце. Не верилось, что никчемного рохлю может так истово любить женщина.
Год 1956
1.
Князь проснулся среди ночи от духоты и горячечного бормотания, доносившегося с койки, на которой лежал номер 12, о котором Князь давным-давно разузнал, что зовут его Константин Якобович Пятс.
Откинувшись на тощей подушке, номер 12, несомненно, бредил во сне. Но что-то в этом неконтролируемом, вроде, бреде показалось Князю необычным. Он пересел на койку к соседу, всмотрелся в орошенное капельками пота лицо, жадно вслушался в странно-знакомые звуки. Распрямился, потрясенный, — впавший в беспамятство старик на французском читал стихи Аполлинера.
Князь откинул куцее, промокшее насквозь одеяльце, дотронулся до скользкой, надсадно хрипящей груди. Жизнь в ней, кажется, едва теплилась. Собрался позвать палатную сестру. Но от прикосновения Пятс очнулся, открыл глаза. Дыхание несколько выровнялось.
— Я что, бредил?
— Еще как, — Князь кивнул. Услышал, что скрипнула и замерла койка под третьим соседом, переведенным в палату Кайдаловой, — сразу вслед за Пятсом. Сам перешел на французский. С удовольствием повторил услышанное:
— «Король я, но умру бродягой под забором». Давно не приходилось слышать. Не знаю, какой вы президент, но произношение вполне приличное. Откуда знаете Аполлинера?
— Приятельствовали в девятьсот пятом, — объяснился Пятс. Подышал, набираясь сил. — Я тогда от смертного приговора бежал из России в Швейцарию.
— Тогда всё может быть, — нижняя губа Князя уважительно оттопырилась. Он продолжил. — «Родился Иисус! Его настало время! Бессмертен только он, рожденный в Вифлееме!»
— Пан умер! Умер Пан. И больше нет богов! — закончил Пятс — через силу. — А вы? Для вас кто Аполлинер?
— Ну, чести быть знакомым, конечно, не имел. Родился, правда, во Франции, но через десять лет после его смерти. Отец его обожал. Он в эмиграции сильно поэзией увлекся.
— Выходит, вы в самом деле князь?
— Всамделишней не бывает.
— Подумал, что стукач, — старик пытливо присматривался к молодому парню.
Князь хмыкнул:
— Стукачи по десятку лет не сидят. Правда, на днях обрадовали, будто вот-вот освободят. Но — уже изверился.
Князь провел носовым платком по желтому лбу старика. Платок увлажнился, — будто росу собрал. Озабоченно покачал головой:
— Похоже, вас всерьез прихватило. Испугался, что во сне умрете.
Лицо Пятса исказила гримаса, — он попытался засмеяться:
— Когда-то, когда я был президентом… Был-был, — Пятс успокоительно дотронулся до руки молодого соседа. — Возле президентов полно прожектеров крутится с завиральными идеями. Нашелся чудак. Предложил медицинский курс: как не умереть во сне… Как же я смеялся, когда услышал… Тогда я еще умел смеяться… На самом деле умереть во сне — счастье, которым Господь одаривает праведников. Я, видно, не заслужил этой благодати.
Он закашлялся надсадно.
— Однако сейчас вы проснулись. И, кажется, всерьез болеете. Я позову помощь, — Князь сделал движение подняться, но Пятс поспешно дотронулся до его кисти, — силы сжать чужую руку в нем не осталось.
— Не надо, прошу! Всё в порядке. Я не болею, я умираю. И наконец-то. И слава богу!
— Но вы мучаетесь!
— Оставьте! Я православный. А по православным канонам мученическая жизнь и смерть полностью искупают все, совершенные при жизни прегрешения, вольные и невольные. Так что еще и в выигрыше окажусь, — по лицу скользнуло подобие улыбки. — Не о том боль. И не спорьте. Сами видите, у меня не осталось времени на споры. Вы правду сказали, что вас отпустят?
— Тьфу-тьфу, — Князь опасливо сплюнул.
— Тогда нам надо поговорить.
Князь пригнулся, перешел на французский:
— Если это и впрямь для вас важно, тогда лучше на аполлинеровском.
Показал пальцем на дальнюю койку:
— Не того опасались.
Понимающе прикрыв глаза, Пятс подманил его поближе.
На лице третьего пациента — с ухом, приподнятом над подушкой, — возникла мука бессилия от невозможности разобрать чужой язык.
2.
Рано утром в своем кабинете Константин Александрович Понизов подписывал документы, что подкладывала заведующая судебно-психиатрическим отделением Кайдалова.
В дверь, энергично постучав, вошла Гусева. Коротким кивком поздоровалась с обоими.
— Хорошо, что зашли, Ксения Сергеевна! — Понизов поднял тонкую папку, протянул ей. — Князя — фамилию-то настоящую еще не забыли? — готовьте к выписке.
Не сдержал переполнявшего его торжества:
— Добился-таки.
Кайдалова неодобрительно фыркнула:
— И совершенно напрасно. Дерзкий мальчишка, из бывших. Подлечился бы еще годик-другой, только на пользу. Хорошо хоть запросы о родителях перестал в инстанции рассылать.
— Вот видите, — перестал. Стало быть, вылечили, — примирительно пошутил Понизов. Обратил, наконец, внимание на встревоженную Гусеву. — У вас что-то случилось, Ксения Сергеевна?
— У нас у всех случилось. Сегодня ночью скончался пациент Пятс, — Гусева опустилась на стул. — Надо подумать, как его похоронить, как сообщить родственникам.
— Никаким родственникам сообщать не будем! — вскинулась Кайдалова. — Не было такой команды.
Гусева взглядом обратилась за поддержкой к Понизову. Перехватившая взгляд Кайдалова взъярилась не на шутку:
— И по поводу захоронения не надо нагнетать. Похороним как всех! Не хуже.
— Так хуже некуда! — огрызнулась Гусева.
— Потому что время суровое! Война столько соков из страны…
Но и Гусева не отступила:
— Довольно уж! Больше десяти лет прошло, а все на войну киваем! Портки одноразовые для покойников за это время хотя бы можно было наштамповать! Если для нас пациент не человек, то давайте хоть на полшага вперед смотреть. Придут когда-нибудь, спросят, как мы похоронили президента Эстонии. И чем отчитаемся? Тем, что зарыли в общей могиле?
— А почему мы должны за каждого отчитываться? Да еще за кого?! И перед кем? — тонко закричала Кайдалова. — Пятс ваш — преступник! Приговор ему никто не отменял.
— А если отменят? Многих уже реабилитировали.
— Да! Слабаки пришли, — с горечью согласилась Кайдалова.
Обе женщины, горячо споря, даже не смотрели друг на друга. На самом деле апеллировали к хозяину кабинета, каждая стремясь привлечь его на свою сторону.
Было заметно, что Понизов колеблется.
— Легко быть добренькой за чужой счет! — поспешила додавить его Кайдалова. — Помни, Константин Александрович, если что, отвечать не Гусевой. Ответственность всегда на том, кто дает отмашку!
Понизов сделал выбор:
— Что ж, обе вы правы. И впрямь дожили. От безысходности и безденежья хороним кое-как, наспех. Но если есть хоть какая-то возможность похоронить иначе, это надо сделать.
— Какие там возможности? В больнице живых одеть не хватает, — напомнила Кайдалова.
— Потому и приходится изыскивать. Я, пока вы спорили, прикинул. Поношенный костюм у меня есть. И ботинки вполне приличные. Пожалуй, они ему не по размеру. Но…
— Подгоним как-нибудь, — заверила Гусева. — В крайнем случае подрежем. Не носить ведь.
— Вот-вот. И гроб чтоб отдельный. Это за счет больницы. Ну, и… Что там положено? Табличка с датами жизни.
— Он верующий был, — напомнила Гусева. — Так что лучше крест.
Кайдалова поднялась, негодующая:
— Это… Огромная политическая ошибка, — она потрясла пальцем. — Огромная! Врага идейного, можно сказать, на постамент. Попомните оба.
Дверь за ней захлопнулась.
— Звонить пошла, — догадалась Гусева.
— Наверняка, — равнодушно согласился Понизов. — Потому поторопись. Князя в помощь возьми, пока еще здесь. Парень рукастый. К тому ж художник. И вырежет, и шрифт нанесет красивый. Лошадь с телегой должна была за дровами ехать. Я прикажу, чтоб в твое распоряжение.
Придержал Гусеву за рукав:
— Ох, Ксюха! Гонишь себя. А загонишь меня. Под березку хоть придешь поплакаться?
Год 1990
1.
По счастью, Гусева оказалась жива, — нашлась в Первомайском поселке Калинина. И даже работала — на станции переливания крови. Эстонские «экспедиторы» выехали за ней с утра пораньше и уже должны бы вот-вот подъехать. Понизов поглядывал на часы. Его, розыскника по натуре, всё больше увлекала история поиска, что вели упорные эстонцы, и которая, кажется, близилась к счастливой развязке.
Наконец подъехал знакомый «фольксваген». В сопровождении эстонцев в кабинет вошла оживленная пожилая женщина. Несмотря на возраст, сохранившая осанку и привычку к ухоженности. Небогатая цигейковая шубка выглядела на ней добротной, и даже стильной. Из-под кокетливого берета выбивались крашенные под рыжину густые волосы.
На свету она проморгалась.
Николай Понизов шагнул навстречу, протянул лапу, в которой утонула покрытая мелкими морщинками и пятнышками рука. Жадный, изучающий взгляд Гусевой буквально вонзился в председателя поссовета. И — попритух.
— Не похож? — догадался Николай.
— Посмотрим, — непонятно ответила Гусева. — А насчет захоронения… Помогу! — она приободрилась. — Конечно, помогу! Еще бы не помочь. Наконец-то пришло время-времечко, когда начали вспоминать своих мертвых. А ведь как ты к мертвым, так и живые к тебе. Правда? — обратилась она к Николаю.
Озадаченный неожиданной меткостью формулировки, Пони-зов кивнул.
— Вот и мы знали, что обязательно станут разыскивать. Я уж товарищам по дороге рассказала, как всё было. И костюм надели, и ботинки, как сейчас помню, фабрики «Скороход». Ничего ж по тем временам не найти. Так Константин Александрович, ваш батюшка, свое отдал. Он и похоронить достойно скомандовал. Вы запомните фамилию, — обратилась она беспокойно к эстонцам. — А лучше запишите, чтоб не забыть. Сейчас про него, знаю, гадости распускают. А без него ничего бы не было.
Николай про себя улыбался, видя, как трогательно старается старушка подчеркнуть роль любимого человека.
— Место-то не забыли? — забеспокоился Алекс. Поиски близились к концу, и привычная выдержка стала изменять ледяному эстонцу.
— Чай, не выжила еще из ума! — Гусева весело обиделась. — Сама выбирала. Специально, чтоб поприметнее. Меж двух лесочков, с видом на Калинин. Мы гроб на лошади привезли. Крест на могиле поставили, хоть и деревянный. Рядом, помню, лежал летчик — полковник. Тоже, кстати, ориентир. Так что не сомневайтесь: и найдем, и опознаем. По костюму, по обуви. Да, манжетные запонки! И еще верная примета есть! — прибавила она с лукавством. — Крестик нательный у него был. Сама на шее поправляла, перед тем как гроб заколотили. Он-то уж точно не сгнил.
Она в нетерпении глянула на часики:
— Так, может, пойдемте? Чего время теряем? А то смеркаться станет.
2.
Все, воодушевленные, поднялись. Собрался с ними и Николай Понизов, полный любопытства. Но тут заглянувшая Любаня передала: звонили из города. В Бурашево выехал председатель райисполкома Корытько. Велел дожидаться его на месте.
В самом деле, в ту минуту, как «экспедиторы» принялись рассаживаться в «фольксваген», к поссовету подкатила черная «Волга». Лихо, со свистом затормозила. Из машины выбрался худощавый молодящийся мужчина в бежевом вельветовом пальто и длинном, через плечо шарфе — фривольность, какой прежде руководители среднего звена себе не позволяли. Вдохнул раннего весеннего воздуха, с подозрением пригляделся к отъезжающей машине с незнакомыми номерами, потянулся, то ли разминая затекшее тело, то ли давая время председателю поссовета встретить начальство.
Меж тем Николай Понизов, укрытый за занавеской, пытался догадаться, с чем на сей раз приехал председатель райисполкома. Корытько не слишком любил ездить по району и, когда возникала нужда, предпочитал вызывать подчиненных к себе, на ковер. Сам ехал или для публичного разноса, или если хотел подчеркнуть особую доверительность встречи.
Наконец, неодобрительно мотнув головой, он вбежал на крыльцо, и через пару секунд пружинистой походкой вошел к председателю поссовета. Стремительность выдавала в нем спортсмена: Корытько был председателем Калининского яхтклуба.
— Нас не беспокоить, — бросил он на ходу поднявшейся навытяжку Любане.
Тщательно закрыл дверь, — привычку Понизова держать двери нараспашку не одобрял.
— Здравствуй, здравствуй, друже. В какой раз смотрю и дивлюсь твоей хозяйской хватке. Славный домишко отгрохал. Для кого только?
Со значением мазнул взглядом по хозяину. Прошелся вдоль рамок на стене. Постучал желтоватым ногтем сначала о постановление о возбуждении уголовного дела, следом — о постановление о его прекращении.
— Специально на всеобщее обозрение?
— Прокурор приезжал. Он же депутат от нашего округа. К его приезду и повесил.
— И как?
— Пятнами пошел.
— Да, умыли мы их! — с удовольствием припомнил Корытько. — Они тебя уж в тюрьме видели. А тут я им ход конем: раз — и подследственного в председатели и депутаты. И кукиш им в виде депутатской неприкосновенности. Ценишь?
— Ценю, — подтвердил Понизов без особого энтузиазма.
Корытько чуть нахмурился.
— Я ведь до сих пор подробности того случая не знаю. Торопился помочь.
— Подробности нехитрые. Преследовал на мотоцикле группу по вооруженному грабежу. Они на машине, помощней. Понимаю, — уходят. Стреляю по колесам. Машина — в кювет. Труп. Внешне — облом под два метра. А оказалось, месяца до совершеннолетия не хватает. Ну и принялась прокуратура дело вертеть за превышение должностных полномочий в отношении малолетки.
— Да, этих деталей не знал, — подтвердил Корытько. — Зато знаю то, чего ты, кажется, до сих пор не знаешь, — почему прокуратура так рвалась тебя посадить.
— Так они вообще любят ментов сажать.
— Но не всех же! Всё у тебя, Николай, есть, чтоб в большие руководители выйти. Но до чего ж наивен, — Корытько поцокал. — Тебя ведь тогда, сколько знаю, в академию планировали направить — на двухгодичный факультет, на котором начальство лепят. Место от области считанное. И кто вместо тебя поехал?.. А кто начальником райотдела вернулся?.. А чей сын Сипагин — это хоть знаешь?
Понизов угрюмо кивнул.
— То-то, — снисходительно уел его Корытько. — А не спрашивал себя, почему я против такой силы полез? Потому что тоже добро помню. И помню, что не был бы я сейчас тем, кем стал, если б когда-то пацаненок-участковый не покрыл секретарю райкома комсомола пьяную аварию. Я после еще года два приглядывался: станет ли языком полоскать или с просьбами домогаться? А ты нет. Гордый! Будто ничего и не было. Вот тогда и понял, что на такого можно поставить… Ты ведь мой человек?
— Я в вашей команде, — деликатно уточнил Понизов.
— И это хорошо. Потому что командой далеко шагнем. А кто отломится, тот в одиночку и переломится.
Корытько вернулся к окну. Неодобрительно кивнул на гниющий под окнами понизовский ушастый «запорожец»:
— Машина-то не по чину!
— Подумываю о «копейке», — признался Понизов. — Сосед продает подержанную. Подкопить только всё никак не выходит.
— О чем ты, Николай? Погоди немного, — на иномарках ездить станем.
Он вернулся к двери, еще подергал, убеждаясь, что не осталось щели:
— Я днями из Москвы. Приглашали. Я ведь тоже в команде. Они меня поднимают, я — тебя. Так и подпираем друг друга как бусинки на ожерелье. Бусинка снизу ту, что сверху, никогда, может, и не видела. Но важно, что в одной связке. В мае, как помнишь, состоится съезд Верховного Совета РСФСР. Есть мнение поддержать Ельцина. Рисковая, конечно, затея. Но если проскочит, перспективы головокружительные. Я сразу во главе облисполкома встану. Тебя планирую для начала на свое место двинуть, чтоб кому чужому не отдать. После за собой дальше потащу. Не против?
— Не против, конечно, — сдержанно подтвердил Понизов, хотя от головокружительной перспективы аж зубы свело. Это ж какие масштабы!
— Пора, пора прежних поджать. Свежего воздуха подпустить, — мечтательно произнес Корытько.
Спохватился, что наговорил лишнего:
— Но тем важнее эти два месяца не дать, как говорится, повода.
Он погрозил пальцем в то место, откуда отъехала машина прибалтов.
Понизов, понявший, наконец, с чем прибыл председатель райисполкома, нахмурился:
— Что? Кайдалова из психбольницы настучала?
— Если б мне напрямую, — полбеды! Она в комитет госбезопасности, в райком сигнализировала. Словом, с утра был у Первого… А что делать? Пока приходится считаться. Собирались тебя на ковер чуть ли не с партбилетом вызывать. Но я заверил, что ситуация под контролем и несанкционированных действий не будет… С чем и приехал. Но не один. Со мной присланы Сипагин и оперуполномоченный КГБ по району Острецов. Они проскочили на кладбище сделать, так сказать, рекогносцировку на местности…
Возле крыльца как раз притормозила «шестерка», из которой выбрались краснолицый, рано облысевший начальник райотдела милиции Сипагин и следом — тучнеющий бодрячок, протиравший на ходу очки.
Вошедший первым Сипагин радушно, по-свойски приобнял Понизова, представил успевшему запыхаться Острецову. Тоненькие золоченые очочки на одутловатом, лоснящемся лице комитетчика смотрелись некстати, будто полосочка бикини на ломовой заднице. Но маленькие глазки из-под стекол постреливали пытливо и недоверчиво.
— Так что обнаружили, мужики? — поинтересовался Корытько.
Сипагин скривился, как человек, жалеющий о потерянном впустую времени. Ответил Острецов:
— Пока ничего опасного. Там на кладбище такая каша, что черт следов не сыщет. Но если что попробуют, мимо нас не проскочат, — сообщил он неожиданным баском. — Рытье могил, эксгумация, коснись, — куда им без разрешения? Первым на председателя поссовета выйдут. Думаю, на нем и сгорят. Как мыслишь, Голова? Выстоишь на передовом рубеже? А то нам уже доложили, что чуть ли не хлопочешь за них. — Он стрельнул острым взглядом.
— Вот этого не надо! За Николая ручаюсь, — жестко вступился Корытько. — И если скажем, как надо, так и будет. Как, Коля?
— Да так, конечно, — добродушно подсказал Сипагин.
Но просто поддакнуть у Понизова не лежала душа.
— Понятно, что указание шефа я выполню, — подтвердил он. — Но, по-моему, мы что-то накручиваем. Мужики разыскивают тело своего соотечественника. В чем криминал-то?
— Вот только не прикидывайся! — Острецов вскинулся с неожиданной в тучном теле энергией. — Не какого-то соотечественника. А буржуазного президента — яростного врага советской власти. С ореолом мученика! Которого осудили и посадили. Ишь, ты, — мужики! Сепаратисты, стремящиеся развалить Союз на части. И которым каждый лишний предлог — на зубок. И не нам им в этом содействовать! Ты погляди на ход событий. Восемьдесят восьмой — Декларация о суверенитете Эстонии; восемьдесят девятый — Народные Прибалтийские фронты. Дальше — больше. Ноябрь восемьдесят девятого — Постановление «О незаконности вхождения Эстонии в СССР 22.07.40 года»! Эва куда! И следом раскручивается — об аннулировании вхождения в СССР. Тенденция, однако! А кто ее идейный вдохновитель? Да вот он, треклятый! В твоей земле упокоен! И письма эти зэковские, что проворонили. С них еще в семидесятые смута началась!
Молчание Понизова ему решительно не нравилось.
— Может, ты против единства СССР?
Но Понизов с изъявлением верноподданичества не спешил:
— Да нет, конечно, — он огладил усики, как делал в моменты колебаний и раздумий. — Но, сколько помню, прибалты всегда на сторону смотрели. Вот мы с вами вроде демократы. Но и они демократы. Тут бы диалог, аргументы. А мы, получается, опять через колено норовим.
— Да, демократы, — нехотя согласился комитетчик. — Но еще и государственники! И не можем допустить, чтоб державу в лохмотья порвали. В одном месте послабку дашь, и — пошла вода в хату!
Он неодобрительно запыхтел.
— В общем, вижу: геополитика — не сельского масштаба дело. Потому давай так! Если начнут наседать насчет разрешений и почувствуешь, что кишка тонка, просто отсылай за согласованием наверх. А дальше они уж сами уткнутся в кого надо! Ну что, по рукам и побежали?
Он перевернул пухлую ручку, лежащую на столе, ладонью вверх.
— По рукам, — прижал его ладонь Корытько.
— По рукам, — прихлопнул их руки своей Сипагин. Подозвал Понизова.
Лапа Понизова обрушилась сверху на пирамиду, так что притиснутая к дереву ладошка комитетчика аж хрустнула. Острецов вскрикнул от боли.
— По рукам! — подтвердил Понизов. На сей раз, — с удовольствием.
— Вот и славненько! — обрадовался Сипагин. — Тем более у меня еще просьбишка образовалась.
Доверительно приобнял Понизова за талию:
— У тебя на Щербатова по кличке Борода компромат есть?
— Зачем он тебе? Нормальный мужик, — Понизов деликатно освободился от дружеских объятий.
— Жалобы на него. Налоги не платит. Наемную силу использует без оформления.
— Не туфти. Говори прямо, кому дорогу перешел?
— Перешел, — неопределенно подтвердил Сипагин. — Так поможешь? Нужны сведения о «левых» памятниках. Хотя бы с десяток-другой. Ты ведь его еще участковым пас. А у тебя, слышал, глаз-алмаз. Что раз увидел, то накрепко. Нам бы краешком зацепиться. Дальше уж сами.
Не дождавшись ответа, хмуро прикусил губу:
— Подумай! У нас любая помощь зачтется!.. Ну, пора по коням?
Обернулся вопросительно к Корытько.
— Езжайте вдвоем! Я еще по району поезжу, — отказался тот. Проводил взглядом попутчиков.
— А этот Борода. Он кто тебе? — осторожно поинтересовался Корытько, оставшись с Понизовым наедине.
— Да никто.
— Так сдай. Нам с милицией ссориться не ко времени.
Понизов поморщился, огладил усики.
— Валентин Васильевич, честно говоря…
— Мне они тоже не по сердцу, — согласился Корытько. — И насчет Сипагина тебя понимаю, — сам глаза раскрыл. Но ныне оба за нас играют. Приходится лавировать. Парус, он тоже нос по ветру держит. Но для чего? Да чтоб яхта в нужный момент была готова перестроиться и ускориться. Не всяк маневр плох. Уступи в малом. После отыграешься, когда он у тебя под ногами заместо коврика ляжет. Добро?
Понизов неопределенно повел плечом. Корытько, стараясь не выказать недовольства, ткнул его на прощанье в грудь:
— Если что — в любое время суток! Обязательно мне первому. Чтоб подконтрольно!
3.
Николай Понизов взглядом проводил исполкомовскую «Волгу», на повороте едва не въехавшую в «фольксваген» прибалтов.
По тому, как вылезали они из машины, как, сгорбившись по-старушечьи, семенила к поссовету Гусева, понял, что поисковая экспедиция закончилась неудачей. Понял и — ощутил в себе липкое чувство успокоенности, — проблемы разрешились сами собой. И тут же — гадливость к самому себе. Трусящему. А себя, трусящего, Николай не любил.
Отчего-то первой вошла Гусева. Виновато протянула руки к председателю поссовета.
— Всё изменилось. Всё! — осипшим от огорчения голосом выпалила она. — Там же два леска было. И дорога меж ними… Я была уверена… Я точно помню. Ну поверьте!
От прежнего пятна, что запомнила Гусева как ориентир, не осталось и следа. Лес одичал, кладбище разрослось. Захоронения, подзахоронения. Старые, тут же поновее. Тут же и совсем свежие.
К тому же во время войны бесчинствовавшие на территории Бурашева фашисты превратили психиатрическую больницу в руины, а больных закалывали штыками, расстреливали в палатах, умерщвляли смертельными дозами морфия, скопаламина, веронала, амиалнатрия. Погибших — а их насчитали порядка 700 человек — сваливали в ямы, будто в скотомогильник, неподалеку от больничных захоронений. Закапывали в спешке, даже не обыскивая. Конечно, прошел слух, что в захоронении полно драгоценностей. Объявились «черные» археологи, принявшиеся за беспорядочные раскопки, так что к девяностым годам фашистское захоронение и больничное кладбище смешались меж собой.
— Ужасно! Ужасно! — без устали причитала Гусева, чувствуя себя безмерно виноватой. Кажется, этого дня она ждала едва ли не больше, чем сами эстонцы. И вот всё в одночасье рухнуло.
Алекс, безмерно удрученный, подвел старушку к стулу, бережно усадил. Успокаивающе погладил по плечу:
— Вы не виноваты, мать.
Гусева кивала, благодарная за поддержку, но безутешная.
Валк, привлекая внимание, торжественно набрал по обыкновению воздуха:
— Много могил, да! Но можно нанять людей! У нас на это выделен бюджет. Да!
— Ребят, вы с головой дружите? — раздраженно отреагировал Понизов. — Несанкционированные раскопки…
— Понимаем, что нельзя без официального разрешения. Но нам очень, очень надо, — включился Вальк.
Оба — и Валк, и Вальк, — подавшись вперед, принялись внимательно изучать председателя поссовета.
Понизов растерялся:
— Вот от этой мысли отдохните. Это не мой уровень. За разрешением на раскопки вам надо в район, область. Только…
Он поцокал, давая понять бессмысленность попытки. Но Валк и Вальк, не сговариваясь, поднялись бок о бок.
— Мы поедем, — объявил Хенни Валк.
— Мы будем добиваться, — согласился Густав Вальк.
— И как долго? — Понизов не сдержал сарказма.
— Сколько надо долго, — ответил Валк. — Нас направили. Нам доверили.
— Мы обязаны, — поддержал Вальк.
Оба отставника коротко, по-офицерски кивнули и вышли энергичным шагом.
Алекса, по молчаливому соглашению, оставили в поссовете, — видимо, в качестве офицера при штабе. То, что поселковый совет рассматривался как штаб экспедиции, с Понизовым даже не обсуждалось. Подразумевалось само собой.
— И таких бойцов отправляют в отставку. Богатая же у вас республика, — сыронизировал с невольным уважением Понизов.
Заметил беспросветную тоску в глазах Гусевой:
— Вы-то отчего так переживаете, Ксения Сергеевна? Не нашли. Бывает.
— Константин Александрович! Наш бывший главврач, — объяснилась она невнятно. — Понимаете, Николай, на вашего отца много несправедливого сейчас наговаривают. При жизни клевали за то, что с больными по-человечески обращался. После смерти решили память изуродовать, — придумали, будто чуть ли не пытал. А при нем на самом деле пациенты-старики годами содержались. Сравните хоть с тем, как нынче. Сегодня поступил. Через неделю-другую, глядишь, на погост везут. А это дело, если до конца довести, оно б совсем с другой стороны человека высветило. Ведь он тогда на себя всю ответственность взвалил. И… в конечном итоге жизнью поплатился.
Ей почудилась на лице Понизова-младшего недоверчивая ухмылка.
— Да, да! И нечего с умным видом кривиться, — рассердилась она. — Вместо того, чтоб слушать всякую гадость о собственном отце, которого даже не знали, потрудились бы вникнуть! Нынче все смельчаки да весельчаки задним числом судить. Вы б сами попробовали в то время!
Алекс, изумленный внезапной вспышкой, переглянувшись с другом, повел налитым плечом, успокоительно огладил старушечье запястье.
Николай Понизов подошел к бару, на нижней полке которого стояла початая бутылка коньяка, разлил по двум стопкам. С верхней полки достал конверт, что накануне принес из дома. Стопки поделил с Алексом, конверт протянул Гусевой.
— Возьмите. Это ваше… Нашел среди отцовских книг.
Старушка приняла пачку. Не понимая, глянула на почерк на конверте. Губы задрожали. Неверными пальцами извлекла письма. Перебрала. Подняла влажное лицо:
— Откуда? У меня же ничего не сохранилось.
Жадно ухватила письма, отошла к окну. Протирая глаза, впилась в расползающиеся строки.
— Господи! Костенька! С того света! Родненький мой!
Николай Понизов и Алекс Тоомс переглянулись.
— Кто б меня на полстолько полюбил, — Алекс завистливо причмокнул. — Веришь? Душу бы заложил.
Мрачный Николай согласно кивнул.
— Наверное, разведусь всё-таки, — ответил он на незаданный вопрос. — Дети, конечно… Как якорем держат. Но и придумывать дела допоздна, только чтоб не домой, — это не жизнь. Уговариваю себя. Но, похоже, там уж выжженная земля. А тут под сорок лет мертвый, а она всё им живет.
— Может, и нам попробовать помереть? — в бесстрастной своей манере пошутил Алекс.
4.
С улицы донесся игривый женский смех. На крыльце участковый Хурадов любезничал с женским составом поссовета. Смеялись охотно и от души, — ладненький кавказец пользовался успехом.
— Еще один великий поисковик явился, — процедил Понизов. — Сейчас начнет пургу гнать.
Хурадов и впрямь был неподдельно оживлен. С любопытством кивнул светловолосому прибалту, которого видел здесь уже второй раз.
— Что светишься, будто сразу начальником ОБХСС назначили? — буркнул Понизов, искавший, на ком бы выместить дурное настроение. Удивительное дело, но теперь, когда поиски зашли в тупик, Понизов вместо удовлетворения испытывал жгучую досаду.
— На рамешковском кладбище две щербатовские плиты обнаружил! — похвастался Хурадов. — Свеженькие. Года не прошло.
Понизов запунцовел:
— Ты делом начнешь заниматься? Помнишь, куда тебя вчера послал? Или еще дальше послать?!
— Зачем ругаетесь? Сделал, как сказали.
Хурадов с шиком распахнул задвижки объемистого крокодиловой кожи портфеля, что таскал через плечо на длинном ремне, извлек позвякивающий пакет, и под удивленными взглядами высыпал содержимое на полировку председательского стола.
— Вот! — он разровнял горку из бижутерии, цепочек, медных крестиков, перемешанных с засохшей глиной.
— Здесь тебе чего, ломбард? — Понизов почувствовал, что свирепеет.
— Так обыск сделал, как велели, — заторопился струсивший участковый. — Порешало и других на месте не оказалось. А я обыскал… Замочек хлипкий, зашел. Посмотрел по шкафам, по тумбочкам. Что нашел, сгреб и привез.
Понизов брезгливо тронул кучку пальцем.
— Хурадов! Ты хоть помнишь, что искать надо? Поссовет подломали: документы, печати. А это… Будто лавку старьевщика обчистил.
— Тут женского много. Подумал, может, сотрудницы что-нибудь из своего опознают? Если правильно объяснить, — глаза Хурадова сделались хитрющими. — Тогда арестуем.
Понизов удержался от стона.
— Хурадов, нельзя ж быть таким… недотепой. Вези назад пулей, где взял. Может, успеешь до их возвращения. А то у зэков свои понятия. Не поглядят, что участковый. Отбуцкают в ночи так, что мама не горюй.
— Как скажете, — пробурчал Хурадов. — Для вас же старался.
Страдая от незаслуженной обиды, подставил пакет, зачерпнул горсть.
Внезапно Александр Тоомс, ленивым пальчиком теребивший кучку, изумленно вскрикнул, ухватил участкового за запястье, резко вывернул. Субтильный Хурадов, ойкнув от боли, разжал ладонь. Как искатель алмазов, обнаруживший на дне лотка знакомый блеск, тянется к нему неверной рукой, так Тоомс выхватил что-то, лежавшее на ладони, поднес к глазам. Нащупал выключатель настольной лампы. Посреди яркого пятна выложил недорогой крестик с подстершимся вензелем «КП».
— Он! — сдавленным голосом объявил Алекс. Торжествующе глянул на друга. — Это крест Пятса. Понимаешь ты?!
Понизов вытаращил глаза.
— Вензель видишь? КП — Константин Пятс.
— А почему не какая-нибудь Клавдия Пелипенко?
— Не понимаешь! — Алекс любовно огладил крестик. — Это не просто так. На, убедись! — он вытащил из портмоне сложенную кальку, волнуясь, развернул. Внутри оказался рисунок креста. Алекс наложил на него крестик из кучки. Торжествуя, разогнулся, — кресты и впрямь казались один в один.
— Спроси, откуда, — предложил он. — У нас в Эстонии есть человек — Урмас Поски. Старый человек. Старый диссидент. Очень закрытый. Сидел, страдал. Проходил по делу о письмах Пятса. Вышел в начале семидесятых. «Контора» после освобождения пыталась его заново на семьдесят седьмую раскрутить. Я помог, затихарил. Мы с тех пор… — он свел пальцы. — Так вот, чтоб ты понял! Он с Пятсом работал еще до сорокового. И он последний, кто общался с президентом в лечебнице Ямеяла. От него я о кресте и узнал, когда уже экспедицию организовали. Рассказал мне на случай, если удастся найти, чтоб лишние ориентиры были. Он сам его для Пятса заказал и успел передать — президент хотел иметь православный крест. Специально недорогой, чтоб не отняли. А кальку эту для меня нарисовал по памяти. Как раз для опознания.
— Но, Алекс! — Понизов с сомнением повертел крест. — Сам же говоришь, — по памяти. Старый человек. Разве не бывает похожих? К тому же — дешевка. Да их десятками могли наштамповать. Может, просто уверил себя, потому что очень хочешь? Сам подумай, откуда кресту Пятса взяться в тумбочке у тургиновских зэков?!
— Из могилы! — подошедшая незаметно Гусева приняла крест из рук Понизова, всмотрелась напряженно, часто моргая. — Похож! На нем, умершем, на шее был. И вензелек в середке точно запомнила. С ним и похоронили.
— Да что говорить?! — в нетерпении подхватил Тоомс. — Он это. Он!
— Но тогда что получается?.. — Понизов озадаченно потеребил усики.
Алекс сгреб к себе прочие безделушки, принялся разглядывать, обнюхивать.
— Ты думаешь?! — сообразил Понизов.
Теперь уж подтверждающе закивал обрадованный Хурадов:
— Я тоже слышал про них разговоры, будто ночами на кладбище копают. Днем плиты для Бороды тешут, а ночью, выходит… Там, где фашистские захоронения. Пустили слух, будто расстрелянных зарывали наспех, кто в чем был. И с чем был. Только это всё-таки в стороне.
— Могли сбиться, тем более ночью. Залезли не на тот участок! — бодро закивала Гусева. В ней вновь зажглась надежда.
— Ну, брат?! Время теряем, — Алекс требовательно потянул Понизова за рукав.
Тот, и сам ощутивший азарт, глянул на Хурадова:
— Где они?!.. На какой срок ты их в Москву отпустил?
— Как то есть отпустил? — Хурадов растерялся.
Понизов нахмурился:
— Ваньку не валяй. О сервелате, что тебе из Москвы возят, уже в поселке болтают. Ну?
Хурадов сглотнул:
— Должны были к вечеру вернуться.
Алекс Тоомс, торопясь, принялся натягивать плащ. Хурадов испугался.
— Но ведь наверняка пьяные. Как бы поножовщиной не обернулось. Такие беспредельщики! Может, до утра? Группу захвата из района вызовем.
— Обойдемся! — нервик у правого глаза Алекса весело затикал в предвкушении опасности.
— Но я не могу! Рабочий день закончился… Ночное время суток. Потом не имею права без письменного приказа! — при мысли, что через полчаса окажется среди ночи в бандитском логове, Хурадов понес полную околесицу.
Понизов с Тоомсом переглянулись. Алекс брезгливо скривился.
— Стало быть так, Хурадов, получаешь боевое поручение, — строго обратился Понизов к перетрусившему участковому. — Тебе доверяется забота о Ксении Сергеевне.
Показал на старушку, завороженно замершую, — давненько не выпадало ей подобных приключений.
— Отвезешь в гостиницу, разместишь за счет поссовета. Сумеешь?
— Уж это-то… — Хурадов просиял. Но, поняв двусмысленный подтекст, запунцовел и только уныло кивнул.
— Но их же там пятеро! — выдохнул он.
— Так поехали, наконец? — поторопил друга Тоомс. Понизов для вида заколебался.
— Слышал же, — пятеро!
— Слышал, слышал. Но нас-то двое!
Не найдя что возразить против такого сногсшибательного аргумента, Понизов, и сам ощутивший знакомый приятный холодок, вытянул сборную дубинку из гибкого металла, сунул в запасной карман куртки.
В Тургиново бросили машину, не доехав до барака, в котором размещалось так называемое совхозное общежитие.
Понизов заглянул в окно с улицы: в комнате было четверо. Похоже, только вернулись. Низкорослый, юркий, как язь, Петро Лещик, дважды судимый за хулиганство, вытаскивал из сумок и расставлял на столе водку, консервные банки, раскладывал палки колбасы. Трое других, побросав на кровати куртки, бурно жестикулировали возле раскрытых тумбочек, — заметили пропажу. Порешало среди них не было.
— Считай, повезло, — шепнул Понизов Алексу. — Водку еще не распечатывали.
— А что? Выпив, лучше дерутся? — душа Алекса рвалась в драку.
— Вот только не нарывайся, — предупредил Понизов. — Мы сюда не с мечом, а с крестом приехали.
Хмыкнул довольно, — каламбур самому понравился.
Рывком распахнув щелястую дверь, Понизов первым вошел в комнату. Прошагал к столу, брезгливо переступая окурки и кучки мусора на немытом полу. Тоомс остался у входа, беззаботно привалившись к косяку.
— Что, братва? — Понизов кивнул на раскрытые тумбочки. — Могильное «рыжье» пропало?
Зэки с недобрым удивлением переглянулись.
— Какое еще?!.. Чего пургу гонишь?! — задиристый Лещик попер по привычке на скандал.
— Где Порешало? — оборвал его Понизов.
— А мы почем знаем?! — Лещик сцыкнул, как умел только он, — метра на три. — Кто ты вообще такой, чтоб в чужое жилище под ночь влезать? Натоптал тут на чистом полу. Да еще с вопросиками! С подковырочкой. Ты больше не мент, так что сваливай по-быстрому, пока не пощекотали.
Он со значением опробовал острие кухонного ножа. Понизов взял со стола бутылку водки, оглядел.
— Хорошо живете. «Столичная»! — позавидовал он. — А у председателя поссовета едва на «паленку» хватает. Мертвецы, поди, кормят?.. Так что, будем разговаривать?
— Слушай! Ты чего прилип, как банный лист? Могилы какие-то. — Лещик незаметно кивнул своим. — Да хоть бы и были. Ты-то тут с какого припеку?
— Как это? — Понизов удивился. — На моей земле, в Бурашево, объявились «черные археологи» (он вытащил из сумки пакетик с бижутерией, потряс). А за разрешением в поссовет никто не обращался. Налоги не платятся! Народ задает своему председателю недоуменные вопросы… Так что, давно копаете?
— Да пошел ты! — ответил за всех Лещик.
— Значит, разговор не получился, — вздохнул Понизов. Коротким движением расколотил бутылку об угол стола. Взялся за другую. По комнате остро потянуло невыпитым спиртным.
От такого беспредела Лещик утратил всякую осторожность. С коротким злым криком метнулся он на Понизова. Бросился на помощь еще один. Но Тоомс, оказавшийся рядом, ловко перехватил его на бегу, развернул и любимым броском через бедро шмякнул об пол. Грохот и слабый стон упавшего остановили двух остальных. Один из этих двоих потянулся было к карману. Но Алекс так сладко ему улыбнулся, что рука сама собой замерла. Лещик, отчаянно ругаясь, трепыхался под мышкой Понизова.
Крик его: «Лягво поганое!» — вывел Понизова из себя.
— За «лягво» ответишь, как прежде! — процедил он. Резким движением скрутив Лещику локоть, погнал его перед собой к вы ход у.
— Пригляди за остальными, — бросил он Алексу.
Протащил, упирающегося, лягающегося, по коридору, снеся по дороге лбом Лещика звонкое, как колокол, корыто, спустил с крыльца. Подхватил, прижал к забору. Оглянулся.
— Ну, привет, Лещик! — без всякой злобы произнес он.
— Мог бы поаккуратней, облом! — Лещик ощупал плечо, лоб, повел шеей.
— У кого теперь на связи?
— Да, считай, после тебя в отвязке… Ты был правильный мент. Потому и пошел на связь. А нынешние ваши… — Лещик сцыкнул. — Ты-то с какого бодуна объявился? Или поссоветы теперь тоже с агентурой работают?
— На фашистском захоронении давно копаете?
Лещик молчал выжидающе.
— А на больничное кладбище зачем залезли?
— Куда?! — Лещик озадаченно сцыкнул. — Там-то в чем интерес?
Понизов достал из кармана, показал крестик. Лещик внимательно осмотрел.
— Это вообще не с кладбища, — изрек он.
— Только не гони!
Лещик еще раз пригляделся:
— Говорю тебе! Я ж у них за ревизора. Всё через мои руки. А это… Это Бороды.
— Ч-чего?! — от неожиданного поворота Понизов опешил.
— Бороды! — подтвердил Лещик. — Он нас по зарплате давно поджимает. Вот Порешало в конторе ему стол подломал. Поглядеть, — может, деньжата, ценности. А там всего пара цепочек из золота. Остальное — висюльки. Порешало сгреб, что было. Принес.
— Какая еще контора?! — на сей раз Понизов разозлился не на шутку. — Крест этот из могилы. С покойника снят!
Лещик опасливо отодвинулся.
— Ну, не знаю, — буркнул он. — Порешало сказал, что взял у Бороды. Может, натуфтил? Хотя он без нас не копает. Да если б и копал, с какого резона ему «левый» навар в общак отдавать? Наоборот, затихарил бы.
— Когда появится?
Лещик повел плечом:
— Если только к утру. Он как-то все больше с московскими затусовался. Явно чего-то замутить хочет. А вот насчет Бороды… Зуб не дам. Но под ночь его раза два у кладбища видели.
— Будет дураковать-то. Нашел себе гробокопателя. При его-то деньгах.
Уже собираясь расстаться, припомнил:
— А для чего анонимку на Бороду написали? Это-то наверняка твоя работа?
Лещик широко ощерился, будто вышла наружу остроумная проказа.
— Не я один…
— За что?
— За дело. Такие бабки огроменные огребает.
— Ну, огребает, — согласился Понизов. — Так не за просто так, за руки золотые. Но ведь и вам прилично платит.
— Платит, — неохотно подтвердил Лещик. — Но себе-то больше берет. Порешало насоветовал, чтоб посадили.
— Так если его посадят, вы сами заработка лишитесь!
— Зато по справедливости, — Лещик длинно и точно харкнул на почтовый ящик.
В какой раз поразился Николай Понизов причудливым извивам российской логики.
5.
Когда наутро Понизов с Алексом подъехали к поссовету, Гусева, полная нетерпения, уже прохаживалась у крыльца.
— Так что, мальчики?! — бросилась она навстречу. — Они?
— Пока не признались, — огорчил ее Николай. — Валят всё на своего работодателя. Будто бы он на кладбище копает.
— Кто?
— Да ерунда это, — Понизов завел Гусеву в кабинет, помог раздеться, усадил. — Они его посадить пытаются. Вот и наговаривают.
Из коридора донесся приветливый баритон Бороды.
— Говорят, просили заглянуть, Николай Константинович? — он поздоровался с хозяином кабинета.
— Господи! Князюшка, — прошелестел потрясенный старушечий голос. Гусева неловкими движениями принялась выкарабкиваться из глубокого кресла.
Щербатов всмотрелся.
— Ксения Сергеевна! — бросился навстречу. Обхватил. Склонившись, поцеловал в печеную щечку.
— Князюшка! — она уткнулась головой ему в шею.
Отстранилась:
— Ой, как постарел! Пооплешивел. А худющий-то, хлеще прежнего… Надо же, — живой!
Ее усадили на место. Но она так и не выпустила узкую руку Щербатова, будто боялась, что он исчезнет, как видение. И всё поглаживала, поглаживала.
— Тоже мой пациент! — сообщила она остальным. — Уж как мы его баловали. И было за что. Семь лет без суда и следствия в психушке. Иные и впрямь ума лишались. А этот молодец, — еще и других поддерживал. Вечно щебечет что-то, по хозяйству приспособился помогать — и за плотника, и за завхоза. И помню, всё рисовал. Уж такие пейзажи были! А портреты! Меня рисовал. Жаль, затерялось при переездах. Я всё гадала, где он. Может, в Академии художеств выставляется. Фамилию на выставках искала… Не забросил ли?
— Не забросил, — глухим голосом подтвердил Борода. — Я теперь на плитах портреты выбиваю. Всё больше на граните. Иногда на мраморе.
Простодушная Гусева закивала:
— Я всегда знала! Дар-то божий пробьется!.. Покажешь ли?
— Покажу, — пообещал помрачневший Борода. — Сейчас с председателем поговорим. И — прошу ко мне в гости. Всё покажу. Всё расскажу.
Вопросительно поглядел на Понизова.
— Знаете, что ваши, со сто первого, копают на кладбище? — спросил тот.
— Конечно, — подтвердил Щербатов. — На фашистском захоронении. Слышал не раз. И копают-то, будто свиньи на огороде. Пройдитесь, — кости с тряпьем вперемешку. Пытался вразумить, достучаться, — какое там! Гогочут себе. Давно пора бы этот вандализм пресечь.
— Пресечем, — пообещал Понизов. — Вчера у них изъяли кой-какую мелочевку. Часть, похоже, ворованная. Утверждают, что кое-что ваше.
Он протянул руку к красной коробочке на столе. Извлек крестик.
— Поглядите, может, доводилось видеть?
— Слава богу! Нашелся, — прошептал Князь. — Так и подозревал, что их работа. Разгоню я эту банду. И пусть хоть в ООН пишут!
— Значит, и впрямь у вас украли? — Понизов с Алексом переглянулись, озадаченные. — Но тогда как этот крест к вам попал?
— Крест этот — память. Подарил мне его товарищ по психбольнице, что умер у меня на руках в пятьдесят шестом. Звали его… — Щербатов намекающе глянул на Гусеву.
— Константин Пятс! — выпалила та.
Щербатов закивал, довольный тем, что она вспомнила эту фамилию.
— Так-таки подарил? — уточнил Тоомс.
— Не то чтоб подарил, — Щербатов смутился. — Передал как опознавательный знак. Он знал, что меня выпускают. Хотел, чтоб я после его смерти сообщил в Эстонию родственникам, где он умер. А крест — что-то вроде пароля. Что не вру.
— И что ж не сообщил? — сухо поинтересовался Понизов.
Щербатов пошел пятнами.
— Испугался. Меня, когда выпустили, предупредили, что, хоть формально и свободен, но если из области куда уеду, заново посадят. А я-то понимал, что родственники там, в Эстонии, тоже под приглядом. И чуть засвечусь… Я ж больше десяти лет за решеткой провел!
— Складная легенда! — протянул Понизов.
Щербатов осекся.
— И прошла бы! — подхватил Тоомс. — Только неувязочка. Крест этот вместе с покойным Константином Пятсом в гробу был заколочен. И иметь его, следовательно, мог только тот, кто могилу эту разрыл.
— Как говорю, так и было! — вспыхнул Щербатов. — Крест получил от самого Пятса!
Но тут Гусева, дотоле притихшая, охнула:
— Господи! Да что ж это? Да как у тебя язык поворачивается такое говорить, когда я сама его с этим крестом похоронила! Вместе ж на лошади везли. Сам и гроб заколачивал. Разве не при тебе на шее поправляла?
— Не видел, — буркнул Щербатов, вовсе растерянный.
— Как же ты мог, святотатец? На что польстился? — она задохнулась.
Алекс поспешил подать разволновавшейся старухе воды.
Щербатов подошел к Гусевой, взял за руку.
— Ксения Сергеевна! — произнес он с чувством. — Времени-то сколько прошло. Память слабеет. Может, перепутали.
Гусева негодующе выдернула руку.
— Будет за дурочку держать! Я и вензелек помню, что был!.. Как же мог-то? Ведь за сынка считали! Надо же! Таким чистым мальчишкой казался.
Борода озадаченно отступился.
— Это называется, с больной головы на здоровую, — Понизов уничижительно скривился. — Вас, Щербатов, видели ночью на кладбище. Можете объясниться, что делали?
— Почему только ночью? Я и днем ходил, — с вызовом объявил Щербатов. — Искал могилу Константина Пятса.
— И — нашел! — Понизов пристукнул лапой стол, будто штемпель на решение поссовета поставил. — В том-то и фишка, что нашел! Но зачем вскрыл? Что искал?!
— Я не нашел могилу, — устало произнес Князь. — Искал, но не нашел. Там всё переменилось.
— А зачем искали? — уточнил Тоомс.
— Теперь это не важно.
— Нет, важно, — зловеще возразил Понизов. — Помнишь, сколько раз я тебя покрывал?.. Потому что за человека держал и величал не иначе, как на «вы» и по имени-отчеству. А щас ты повел себя как дешевка! И за это придется ответить. Или показываешь, где могила… Вот им нужны останки!.. Они за этим приехали, понимаешь?! Покажи, где! Остальное спишется! Или ты меня знаешь: с друзьями — друг. Но дальше: каждый волен, пока волен.
— Но я не знаю, где! — закричал Щербатов. — Говорю же: не нашел!
— Для чего же всё-таки искали? — повторил вопрос Тоомс.
Щербатов вздохнул:
— Знал, что приехали эстонцы. Знал, что ищут Константина Якобовича. Хотел помочь. Я же его должником остался.
— Свежо предание, — Понизов осклабился.
— Другого не услышите, — Щербатов закусил удила. — Не из-за креста же в самом деле. Постойте же! Да, конечно, крест с вензелем! — кровь бросилась ему в лицо. Подбежал к столу, схватил лист бумаги, карандаш, верной рукой художника накидал рисунок. Повернул его к Гусевой. — Ну-ка гляньте, может, этот?!
На рисунке был выведен крест с вензелем «кн. В. Щ.»
Гусева смешалась. Подняла испуганное лицо на Тоомса:
— Тоже похож! Ей-богу, похож!
— Что такое «кн. В. Щ.»? — хмуро уточнил Тоомс.
Борода отбросил карандаш:
— Князь Владислав Щербатов. Мой отец. От него ко мне. От меня к Пятсу. Мы в ту ночь с ним обменялись. Он мне свой — как знак. Я ему. Вроде, как похристосовались. Так что, найдем — значит, и я свое фамильное верну.
Понизов помялся.
— Борис Вениаминович! Черт его знает, как получилось… — выдавил он виновато. — Уж больно всё сошлось один к одному!
— Пустое! — суховато извинил Щербатов. — Я уж вычислил квадрат, где в пятидесятых хоронили умерших из судебно-психиатрического отделения. Беда в том, что одному не управиться.
Он достал кальку с размеченными участками. Ткнул.
— Площадь больно велика. Как ни отсекай. Может, организуем через поссовет общественность? Что-то вроде субботника!
Понизов хохотнул.
— Думаете, в районе не откликнутся? — обеспокоился князь.
— Откликнутся, не сомневайтесь. Таких звездюлей наваляют… Как только первый штык в землю воткнется, меня снимут, вас посадят.
Он спохватился.
— Кстати, насчет анонимки… Не приезжали еще?
— Хурадов подходил. Грозился, что какие-то мои старые плиты разыскал. Турнул я его. После звонили из ОБХСС. На той неделе вызывают.
Понизов куснул губу.
— И что думаете?
— Чего думать? Власть вызывает. Съезжу. Мне скрывать нечего. Всё по закону. Время на дворе не прежнее. Не могут ни за что посадить.
У Понизова от такого перла аж морщины волнами заходили по лбу.
— Ни за что не могут. А вот когда есть что, — он пошуршал пальцами, — схавают за милую душу. Послушайте, наивный вы человек. Время, может, не прежнее. Но люди-то точно — те, что и раньше. Кому как не вам знать, что сажают у нас не по закону, а по интересу. Очень прошу, — не надо ездить. Съездите лучше в Прибалтику.
— Куда?!
— В Таллинн. Вот к нему, — он показал на Алекса. — Команду даст, устроят в лучшем виде. Поживете как на фазенде. А я пока здесь разрулю. Выясню, чей интерес, сколько стоит. Короче, это мои проблемы. Уложусь в две-три недели. Закрою вопрос, и — вернетесь чистым, как свежеотполированный памятник.
Он ухватил Щербатова за костистую руку.
— Не могу! — отказался князь. — У меня своя вина перед покойным президентом. И пока не разыщу его могилу, никуда не уеду. Помогу вашим эстонцам найти могилу, глядишь, спишется старый грех… Но больно площадь велика, — повторил он сокрушенно.
Понизов заглянул в ящик стола, где в уголке, завернутый, лежал мундштук вора Порешало, потерянный им при краже из поссовета.
— Будет вам помощь, — пообещал Понизов.
Щербатов, откланявшись, повез к себе в гости старого врача. Было любопытно смотреть в окно, как идут они к машине. Старушка, не знавшая, как загладить свою оплошность, хлопотала вокруг постаревшего князя, забегая то справа, то слева.
— Теперь и мне самое время в Таллинн отъехать, — объявил Алекс.
Понизов удивленно скосился.
— Помнишь, я тебе рассказывал о трех письмах президента Пятса, что сумел он передать из заключения? Три письма: в ООН с требованием не признавать оккупацию Прибалтики, о своих мытарствах и призыв народу Эстонии не смиряться. После они всплыли на Западе. Аж двадцать лет спустя.
Понизов невнимательно кивнул.
— До сих пор толком неизвестно, где именно написал, как передал. Ходит разговор, будто через каких-то литовцев, с которыми в одной камере был. Но — смутно. А для эстонцев всё это важно. Когда письма опубликовали, это такой мощный толчок дало. Так вот появилась у меня одна версия. Надо проверить. Хочу переговорить со своим старичком-боровичком. Он, конечно, темнило редкостный. Но, может, расколю.
Понизов придвинул к нему телефон.
— Он даже в помещении со мной об этом не разговаривает, — возразил Алекс. — На улицу выходим. А чтоб по телефону!.. Старая школа. Да и письмо от Верховного Совета насчет эксгумации пробить надо. В неделю уложусь!
6.
Алекс перезвонил уже на следующий день. Сообщил, что на некоторое время задерживается в Эстонии. Готовится запрос по эксгумации. А также ведутся переговоры с потомками Пятса, и экипируется спецавтобус с персоналом и оборудованием для проведения генетической экспертизы на месте — сразу после извлечения останков.
Понизов подивился такой спешке:
— Не боишься опростоволоситься? Пока и на полшага не приблизились.
Алекс засмеялся, будто шутке:
— Тот же вопрос мне в нашем Верховном Совете задали. Я ответил, что делом этим занимается мой друг. А это, считай, всё равно, что сделано.
Хитрюга Тоомс отсоединился.
Понизов показал печальную рожицу собственному отражению в зеркале: «Похоже, нас с тобой схомутали».
В гранитной мастерской, куда заглянул Понизов, Щербатова не было. Зато на месте оказалась тургиновская бригада во главе с самим Порешало, — угрюмо тесали гранит. Должно быть, иссякли деньги.
При виде Понизова Порешало вопросительно повел шеей. Понизов издалека сделал приглашающий жест в сторону строительной будки — конторы Бороды.
День, хоть и майский, выдался холодным. Электрообогреватель в щелястом вагончике был отключен. На электроплитке остывала медная кружка с кипятком.
Понизов, не скинув куртку, подсел к хлипкому, заваленному чертежами столу. Осторожно опробовал непрочный стул.
Дверь скрипнула, — вошел Порешало. Сорокалетний армавирский вор. Плечистый. Неспешный. С обманчиво добродушной усмешкой сильного и коварного человека.
Не здороваясь, опустился на маленький диванчик. Выжидательно прищурился.
Понизов порылся в ящике стола:
— Крест отсюда взял?
— Что еще за крест? Ты зачем звал? — поторопил Порешало. — Слышал, насчет кладбища к нам заходил. Забудь. Никто из моих ни о каких раскопках слыхом не слыхивал. Цацки эти дешевые Лещику кто-то сплавил. А кто сплавил и где сам взял, не в курсах. Да я и лопату-то забыл, каким концом держать. У меня вообще, если помнишь, сроки вышли. Так что в ближайшее время перебираюсь куда подальше. Чтоб ни одну ментовскую рожу, вроде твоей, больше не видеть. Это тебе на прощание. От сердца. Если у тебя всё?.. — Порешало потянулся подняться.
— Далеко собрался? — Понизов выудил из кармана янтарный мундштук, покачал в воздухе.
Завидев утерянный мундштук, Порешало посерел.
— Вот чего и боялся, — протянул он. — Выходит, всё-таки в поссовете обронил.
Уточнил осторожно:
— Чего с этим делать думаешь?
На этот раз паузу взял Понизов.
Порешало скрипнул зубами:
— С поссоветом твоим, конечно, глупость вышла несусветная. Борода на понт взял, а я купился. Хотел напоследок куш срубить. Но, Константиныч! Ты ведь всегда правильным ментом был. Послушай, что скажу, — он скосился на окно. — Завязываю я, понимаешь? Этим бакланам не говорил. Но — не хочу больше отсидок. Да и времена нынешние, — как раз для таких, как я.
— А я всё в толк не мог взять, для кого перестройку замутили, — не удержался от насмешки Понизов.
Порешало подался вперед, навалился пузом на стол.
— В Москве с бывшими корешами пересекся. Крышуют помаленьку. Предложили смотровым на Савеловском рынке. Ты ведь тоже, похоже, вот-вот окрас сменишь. Глядишь, пригожусь… Так чем ответишь?
— Давно на кладбище копаете? — вернулся к тому, с чего начал, Понизов.
Порешало непонимающе нахмурился:
— Что оно тебе далось? Попробовали. Да там ничего ценного. Больше языком трепали. Так что, считай, — пустые хлопоты.
— Это копия, — Понизов извлек рисунок крестика, сделанный Щербатовым. — Оригинал в одной из могил на больничном захоронении. И его надо найти среди полусотни других! Но имей в виду, — копать придется на свой страх и риск. Я, случись что, — в стороне. Так что? — он поднял демонстративно обе руки. — Крест против мундштука! По рукам?
Порешало озадаченно повел массивной шеей, неохотно кивнул.
— Тогда подсаживайся, — Понизов достал переданную Щербатовым кальку, разгладил на столе.
Через неделю из Эстонии прибыла передвижная автолаборатория с целым обслуживающим штатом. Вновь прибывшие разместились в гостинице «Волга», в центре Калинина. В предвкушении удачи, гуляли по городу, громогласно обсуждали подробности предстоящей эксгумации и репатриации. Ежедневные сходки происходили в помещении правления региональной «Эстонской общины», а вечером — в ресторанах. Когда же к подготовке празднества подключился региональный финский национально-культурный центр, стало ясно, что скрывать происходящие раскопки от властей долго не получится.
Тем более что забурлило и Бурашево. Правда, благодаря тому, что безымянное кладбище находилось на отшибе и родственниками не навещалось, сами раскопки пока оставались втайне. Но нехорошие слухи, что в районе старых захоронений наблюдается подозрительное оживление, доползли до района.
Отныне Понизов каждый день начинал со звонка председателю райисполкома. Бодро рапортовал, что растерянные эстонцы действительно мечутся по поселку. Но без дозволения районных властей к реальным раскопкам не приступают. Отчитавшись, спешил к Щербатову поторопить.
Поторапливал больше для собственного успокоения. И Щербатов, и Порешало работали, не теряя времени. Пятно быстро сужалось. Весь вопрос заключался в том, что произойдет прежде: поисковики доберутся до могилы Пятса или калининские власти доберутся до самих поисковиков, после чего раскопки будут свернуты самым решительным образом.
Счет пошел на дни.
7.
Понизов припарковал машину на набережной Волги, возле памятника Афанасию Никитину. Напротив, через дорогу, стояла опрятная церквушка, в которой размещалось Калининское бюро экскурсий и путешествий, — цель его поездки.
В прохладном, из нескольких комнаток, помещении было тихо.
Экскурсоводы с утра выходят «на линию» — проводят экскурсии. Незанятые в этот день сотрудники засели по библиотекам. Разрабатывают новые маршруты: автобусные, трамвайные, пешеходные. Без работы не сидят. Да это и невозможно, потому что возглавляет бюро Лева Псахис. Леву знает весь город. Полненький, рыжеволосый, с живым смуглым лицом, с которого не сходит заинтересованное выражение. У Левы две страсти. Основная — он едва ли не лучший по области краевед, влюбленный в ее историю. И если узнает про что-то неизведанное, на подвижном Левином лице азарт быстро сменяется беспокойством, — ему не терпится пуститься по новому следу, пока не обогнал кто-то другой. Вторая Левина страсть, еще со времен Дворца пионеров, — фото- и видеосъемка. Собственно, благодаря ей Понизов с ним в свое время и познакомился. Надо было сделать очень качественную фотосъемку места убийства. Вспомнили о Псахисе. И тот здорово помог. На цветном панорамном снимке отчетливо различались даже зыбкие следы ног на речном песке. Расстались они, как у Понизова часто бывало, добрыми приятелями. Изредка созванивались.
В Левушкиной помощи Понизов нуждался и сейчас. Чтоб не возникло поводов для инсинуаций, эксгумацию необходимо задокументировать на месте: на видео, на фото.
Распахнутый директорский кабинет был пуст. Понизов принялся озираться.
— Вы, наверное, насчет проведения экскурсии? — окликнули его. Из-за перегородки поднялась изящная фигурка с раскосыми глазами и длинноватым носом, придававшим лицу необъяснимое обаяние. Пшеничные волосы оттенялись легким загаром. Глаза и особенно нос показались Понизову смутно знакомыми. В свою очередь, сотрудница мельком, из вежливости глянула на визитера, вдруг сощурилась, заморгала и — отчего-то зарделась.
— Я, собственно, к директору по личному вопросу, — Пони-зов как-то растерялся. Нереальное ощущение овладело им: не запомнить такое необычное лицо было невозможно. Но он не помнил. И всё-таки где-то видел! Может, в другой жизни?
— Ба! Да у нас гости, — из санузла вышел, вытирая на ходу руки носовым платком, сам директор. — Познакомься, Светик! Не приходилось прежде сталкиваться с сыщиками? Так вот он, собственной персоной! Правда, бывший, но бывший лучший.
Левушка с чувством потряс лапу Понизова.
— Менты бывшими не бывают, — привычно отшутился Понизов.
— В какой ипостаси понадобился на сей раз? Как фотограф или?..
— В обоих. Есть очень интересная тема для краеведа.
Левушка оседлал ближайший стул, жестом пригласил поближе девушку.
— Света — наша сотрудница. Не помешает? — поинтересовался он вскользь.
Тревожащий Светин взгляд мешал Понизову отчаянно. Но, конечно, он согласно кивнул.
Зная любопытную Левушкину натуру, Понизов постарался с порога заинтриговать фигурой президента Пятса, тяжкой судьбой его, историей розысков.
Левушка слушал с приоткрытым ртом, посапывая от возбуждения. То и дело подскакивал, подталкивал свою помощницу. Но когда Понизов закончил, задал вполне логичный вопрос:
— Раскопки санкционированы?
Врать Понизову не хотелось:
— Для тебя — да. Если что, сошлетесь на председателя поссовета.
— А для вас? — не поднимая глаз, уточнила Светлана.
Понизов нахмурился:
— Это уже мои дела. Соглашайся, Лева! Оба окажемся в выигрыше. Первооткрыватель — это знак на всю жизнь.
На румяном лице Псахиса проступила мука. В нем боролись азарт поисковика и опасливость чиновника, которого втягивают в сомнительную несанкционированную авантюру. Риск показался слишком велик. Лева огорченно воздел полненькие рыжеватые руки.
— Мы согласны! — опередила его Света.
Ручки Левушки опустились.
— Свет не видывал такой авантюристки! — пожаловался он. — И чего я, простофиля, на ней женюсь. Кстати, забыл представить, — моя невеста!
При слове «невеста» у Понизова всё разом срослось.
…Это было лет восемь назад. Только в июне.
Николай Понизов вышел из здания УВД на площадь Мира. Подмигнул постовому у входа. Глубоко вдохнул теплый, пахнущий Волгой воздух. Выдался чудный денек. Только что лейтенанта милиции Понизова за задержание вооруженного особо опасного преступника — знаменитого Порешало — премировали почетной грамотой и денежной премией и перевели из участковых в уголовный розыск. К тому же Пашка Гулькин из кадров догнал в коридоре и нежданно-негаданно вернул шестимесячный долг.
В кармане вдруг образовалась невиданная сумма, которой хватало, чтоб заменить движок на «Яве».
Понизов верил в судьбу и удачу. И сегодня она просто ломилась к молодому лейтенанту. А когда нам сопутствует удача, окружающие ощущают ее кожей и стремятся хотя бы прикоснуться. Встречные девушки с интересом постреливали глазками на ладного парня в водолазке, повторяющей рельеф фигуры, и, даже разминувшись, с надеждой оборачивались.
Сокращая маршрут, Понизов пошел к Волге наискосок, через территорию школы. За трехэтажным зданием гремела музыка, на асфальтированной площадке выстроилась школьная линейка. Толпились разодетые выпускницы, — по всему городу шел последний звонок.
В кустах у тропинки всхлипнули. Понизов заглянул. На скамейке, съежившись, подрагивала закутанная в плащ-болонью девчушка.
— Отставить плач! — потребовал бодрый Понизов. Приподнял за подбородок головку. Припухлое от слез личико с потеками дешевой косметики. Длинный, шмыгающий нос.
Девушка сердито мотнула головкой:
— Слушайте! Чего хапаете? Идите своей дорогой!
— Твои? — догадался Понизов, показав в сторону линейки.
Девушка кивнула.
— А ты чего?
— Платье сожгла. Гладила и сожгла!
— Что? Из-за этого?! — Понизов удивился женской неадекватности. — Неприятно, конечно. Но надела бы другое.
Она зарыдала с новой силой.
Только сейчас до Понизова дошло, какую сморозил бестактность: нет там никакого другого. И это-то, может, сама пошила.
— Ничего страшного! Завтра схожу к директору. Заберу аттестат. Подумаешь! — девушка отерла от потеков глаза, оказавшиеся большими и раскосыми. С тоской скосилась в сторону линейки и, помимо воли, хлюпнула.
Колю пронзила жалость к этой трепетной гордой пичужке.
— Поехали! — потребовал он.
— Ч-чего?
Понизов бесцеремонно поднял ее со скамейки, повлек на набережную.
— Но я не понимаю… — девушка вяло сопротивлялась. — Кто вы? Зачем?
— Бюро добрых услуг! — невразумительно представился Понизов.
Энергичным взмахом остановил легковушку. Усадил на заднее сидение ошарашенную девушку, втиснулся следом.
Через три остановки машина по знаку Понизова прижалась к бордюру. Они выбрались наружу.
— Приехали! — сообщил Понизов.
Девушка подняла головку. Ротик ее непроизвольно открылся. Перед ними сияла вывеска — «Салон для новобрачных». Мечта юности семидесятых-восьмидесятых. Многие специально подавали заявления в загс, чтобы получить заветную справку, дающую право «отовариться» в «мире грез». А, отоварившись, забирали заявления обратно.
В витринах красовались разодетые манекены.
Девушка сглотнула слюну и попятилась.
— Что вы хотите? — пролепетала она. — У меня всё равно нет денег!
— А у меня нет времени! — отбрил Понизов. — Гляди веселей, принцесса!
Провел пальцем вдоль позвоночника, заставив распрямиться. Подхватил под руку.
В утренний час посетителей в салоне не было. Несколько продавщиц щебетали у входа, обсуждая вчерашние похождения. С удивлением оглядели бравого усача в сопровождении заплаканной, закутанной в дешевую болонью девочки-подростка.
— Моя невеста, — представил Понизов. — Надо одеть.
— Уж больно молода, — усомнилась дородная, лет тридцати, женщина с биркой на халате «Старший администратор».
— Зато свежа, — отпарировал Понизов.
Администраторша усмехнулась. Протянула руку, требуя справку.
— Я сам вместо справки, — огорошил ее Понизов. Подхватив под пухлый локоток, отвел в сторону. Доверительно пригнулся. — А вот ответьте, вы родную милицию любите?
— Ну-у, — неопределенно протянула администраторша.
— По справке или всей душой? Вот если завтра вы вдруг позвоните: «Коля, беда», как, по-вашему, я пойду справки собирать или примчусь на помощь?
Администраторша хмыкнула, выдернула из-под прилавка бланк справки с печатью:
— Что одеваем? Платье, конечно?
Понизов глянул на переступающую стертыми босоножками, пунцовую от волнения девчушку:
— Вааще!
— В копеечку станет.
— А ништяк! Кто за нами считает?
— Девочки, одевайте невесту, — приказала администраторша. Бросила руку сверху вниз. — От и до!
Девчушка метнулась к Понизову. Жалобно зашептала:
— Но послушайте! Если вы рассчитываете…
— Полно блажить! Там уж линейка вот-вот закончится, — оборвал ее суровый опекун.
— Давайте, пока народ не пошел! — поторопила администраторша. — Как вашу невесту зовут?
Понизов вопросительно вздернул подбородок.
— Света! — выдохнула девчушка.
Трепещущую Свету повлекли в кабину.
Довольный Понизов хлопнул в ладоши:
— Девчата! За чашку кофе продаю свежий анекдот.
Через пятнадцать минут невесту вывели на всеобщее обозрение. Прежняя пичужка испарилась. Появилась светловолосая раскосая, в платье колоколом, на каблучках хрупкая невеста. Длинноватый нос придавал тонкому вытянутому личику особенное обаяние.
— Статуэтка! — с легкой завистью оценила администраторша. — Может, упаковать?
Смущенная, счастливая, юная Света смотрела на доброго волшебника. Он подошел, и сам пораженный:
— Какая ж ты Света? Свет полно. Только не светят. Нарекаю тебя Светланкой! Вырастешь, может, хоть кому-то счастье выпадет.
На секунду взгрустнул. Подставив локоть, гордо вывел на улицу. Взмахом подозвал дежурящий у входа «жигуль». Усадил:
— Удачи!
Светланка вдруг испугалась, заметалась:
— Но подождите! Это же всё не так… Я отработаю, отдам. Не сразу, конечно! Хотя бы телефон…
Понизов сунул водителю купюру:
— Езжай, невеста! И — умой их всех!
Машина тронулась. Из окошка высунулось жалобное личико:
— Но хоть кто вы?!
Через полминуты «трешка» проскочила светофор и замешалась в общем потоке.
Понизов сунул руку в карман, извлек единственную затерявшуюся десятку.
— Нормальный ход! Еще и деньги остались, чтоб отметить, — порадовался он.
Положительно, сегодня он сам себе нравился.
…Понизов скосился влево.
— Светланка! — удостоверился он. — Как же повзрослела-то!
— Так вы знакомы? — забеспокоился Левушка.
— Можно сказать, что нет, — успокоил его Понизов.
Зазвонивший телефон избавил обоих от объяснений.
Левушка послушал. Глаза сделались удивленными. Протянул трубку Понизову:
— Это… тебя почему-то.
— Я оставлял координаты!.. Слушаю… Когда?! Без ошибки?.. Ни в коем случае! Наоборот, засыпьте как было. Сами никому! И своим передай, чтоб рты не открывать. Оставь одного-двух для присмотра. Через пару часов подгоню всю экспедицию. Как раз ближе к вечеру! И помните, — ни гу-гу!
Он положил трубку. Заблестевшими от азарта глазами оглядел собеседников:
— Похоже, всё срастается.
— Хорошо бы согласовать, — протянул Левушка.
— Некогда согласовывать. Эксгумация — сегодня вечером.
Левушка вдруг обрадовался:
— Как раз сегодня не могу. Вечером веду спецкурс в университете.
Понизов, поморщившись, протянул руку для прощания.
— Тогда я смогу! — вступила Светланка с вызовом. — Фото, видеокамера есть! Не так, конечно, как Лев Максимович, владею. Но, думаю, получится. Как оформим, Лев Максимович? Как командировку от бюро или за свой счет?
— Что ж, — Левушка, боявшийся чего-то подобного, уныло вздохнул. — Придется перенести семинар. А что делать? Сам такую выбрал, что того и гляди под цугундер подведет.
8.
Эксгумация едва не сорвалась. Неожиданно воспротивились руководители экспедиции Валк и Вальк. Оба категорически отказывались извлечь тело до получения необходимых согласований. Все эти дни они безуспешно ходили по областным инстанциям, предъявляли справки, запросы. От них требовали новых. Они собирали. Их направляли в другие кабинеты, где они возбужденно трясли новыми справками и получали новые запросы. Теперь они с надеждой ждали ходатайства от правительства Эстонии, что должен со дня на день подвезти Александр Тоомс.
К удивлению Понизова, на немедленной эксгумации и идентификации останков настояла Гусева, вместе с «экспедиторами» хлопотавшая по начальству. В отличии от правильных эстонских эмиссаров она понимала, чем может закончиться проволочка, и настаивала с удивительной для старого человека энергией. В отсутствие Александра Тоомса именно старушка превратилась в двигатель всего дела. Ее убежденность поколебала даже Валка и Валька.
На кладбище с остальными Понизов намеренно не поехал, — памятуя, что несогласованные раскопки совершались как бы помимо него. Но, занимаясь другими делами, с беспокойством поглядывал в окно.
Наконец к поссовету подъехал автобус, посыпались наружу люди, большей частью — незнакомые. Валк и Вальк, подхватив с двух сторон, помогли сойти Гусевой. Не было отчего-то Щербатова. Видно, укатил по своим делам. По общему оживлению стало понятно, — предприятие увенчалось успехом. В кабинет ввалились, шумные, праздничные. Расселись без приглашения.
Понизов вопросительно вздернул голову. Валк с Вальком принялись переглядываться, уступая один другому право похвастаться.
В результате рассказывали все, перебивая и подправляя друг друга.
О могильщиках, что ждали у раскопанной могилы. Об изъятии образцов, что произвели под видеозапись. О генетической экспертизе прямо на месте, в автобусе, подтвердившей, что извлеченные останки безусловно принадлежат Константину Якобовичу Пятсу. Об извлеченных крестике и запонках.
Большинство участников, в том числе внук президента Пятса, с кладбища уехали в Калинин и сегодня же вечером возвращаются в Эстонию, увозя с собой несомненные доказательства, что место захоронения первого президента страны установлено.
— В Эстонии уже знают, — выдохнул наконец Хенни Валк.
— Мы сделали людям праздник, — вдохнул следом Густав Вальк.
— Что ж, — Понизов поднялся. — Поздравляю всех с удачей. Дабы не возникло недоразумений, выезжайте поскорей. Еще лучше — прямо сейчас.
Хенни и Густав переглянулись.
— Куда? — спросили в унисон.
Понизова нехорошо кольнуло.
— Останки в автобусе?!
— Почему в автобусе? — переспросили оба.
— Так они опять зарыли! — сообщила Гусева. — Я им тоже говорила, — забирайте! Так нет, присыпали холмиком. Дощечку поставили красивую!.. Всё у них по правилам, — не как у людей.
Понизов вперился в торжествующих экспедиторов.
— Почему не вывозите?! — грозно потребовал он объяснения.
Оба экспедитора насупились.
— Мы согласились на проведение идентификации останков, да! Мы сделали это нарушение. Этого очень ждали в республике. Но проводить репатриацию без официального разрешения не имеем права. Такого разрешения мы пока не получили.
— И не получите! — не удержался Понизов.
Эстонцы, обескураженные, переглянулись.
— Нет, мы добьемся, — возразил Валк. — Мы всё делаем по процедуре.
Понизов взъярился:
— Ребята, вы здесь уже чертову уйму времени. И, сколько могу судить, едва ли не все дни тратите на хождения по инстанциям. Много вам наразрешали?!
— Нет, — признали эстонцы. — Но теперь, когда мы получим ходатайство от правительства республики…
— Вы что, вообще не въезжаете, в какие игры играете?! — не сдержался Понизов. — Впрочем, как угодно. Ездите, хлопочите. Хлопотуны! Через годик-другой, глядишь, добьетесь.
— Но мы не можем без разрешения! — едва не в отчаянии выкрикнул Валк. — Это незаконно… Если только?
Валк и Вальк, не сговариваясь, с умоляющими лицами подступились к председателю поссовета, намекающе закивали на печать.
Понизов демонстративно стряхнул печать в ящик стола:
— Ребята, не нахальничайте! Чем мог, помог. И так подставился сверх меры.
Удрученные «экспедиторы», признавая его правоту, отступились. Но внезапно вмешалась Гусева.
— Что ж, — горько произнесла она. — Видно, и впрямь каждый отмеряет меру по себе.
— Да поймите, упрямая женщина! — вскричал задетый за живое Понизов. — То, чего вы требуете, это действительно не уровень поселкового главы. И почему на самом деле, если сами эстонцы не желают нарушать чужой закон, я должен идти против собственного государства и подставлять голову?
— А почему свою голову подставил главврач больницы Понизов? — отчеканила Гусева, подрагивающим, неожиданно молодым голосом. — Его-то дело вообще была сторона. А он вступился и погиб.
Николай от неожиданности поперхнулся.
— Что значит, погиб? Умер на рабочем месте. Сердце износилось, и — взорвалось. Пуф!
— Да! Взорвалось, — насмешливо подтвердила Гусева. — А отчего? От мины? Снаряда?
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Я обращаюсь к ООН и ко всему цивилизованному миру с просьбой помочь народам Эстонии, Латвии и Литвы, по отношению к которым русские оккупанты применяют жестокое насилие и которые поэтому могут погибнуть. Я объявляю аннексию Балтийских государств, осуществленную в 1940 году, грубым нарушением международных законов и фальсификацией свободного волеизъявления порабощенных народов. Спасите эти народы от полного уничтожения и дайте им возможность свободно решать свою судьбу… Пусть Эстония, Латвия и Литва станут свободными и независимыми государствами.
К. Пятс. Подпись. Отпечаток пальца. Из обращения к Генеральному Секретарю ООН, написанного в заключении.Год 1956
Июньским утром, во время производственной планерки, в кабинет исполняющего обязанности главврача Понизова вошли двое. Оба в гражданском. И хотя они еще не представились, по смурным неприветливым лицам, по поджатым губам, по особому скрипу полов под коваными башмаками стало ясно, откуда они. Рабочее оживление сменилось тревожным ожиданием.
— Оперуполномоченный Хромов, — шедший впереди махнул краешком красного удостоверения. — Вы главврач?
— Исполняющий обязанности, — подправил Понизов.
— Необходимо побеседовать.
— Но у нас совещание, — напомнил Понизов несколько растерянно.
— Так прервите!
Стальная нотка в его голосе подействовала на приглашенных завораживающе. Не дожидаясь указания главврача, все поднялись и тихонько, мелким шагом потрусили к выходу.
Помещение в минуту очистилось. Крепышок, сопровождающий Хромова, выпроводив последних, остался у двери.
Хромов бесцеремонно сел на угол стола.
— В вашей больнице содержался бывший президент Эстонии Константин Пятс.
— Пациент Пятс умер.
Хромов нетерпеливо кивнул.
— Комитет государственной безопасности располагает информацией, что в Прибалтику переданы и готовятся к пересылке на Запад письма Пятса антисоветского содержания.
Понизов продолжал внимательно слушать.
— По нашим сведениям, эти письма написаны в период пребывания Пятса в вашей больнице, — отчеканил Хромов.
Напряжение на лице Понизова спало.
— Это невозможно.
— Сведения точные!
— Это исключено! — повторил Понизов с облегчением. — Пациент Пятс попал в больницу совершенно изможденным, в состоянии сильнейшей депрессии. Находился до своей смерти короткое время. На виду, не имея ни бумаги, ни карандаша… Это исключено физически и фактически. Если такие письма и существуют, то отправлены ранее: из мест заключения или из эстонской психбольницы.
— Органы не ошибаются! — внушительно напомнил Хромов.
По лицу Понизова проползла злая ухмылка, Хромова рассердившая.
— Органами проделана определенная работа, — сообщил он значительно. — Сопоставлены сроки, перепроверены контакты. Всё сходится на том, что письма переправлены именно в период пребывания Пятса в психбольнице.
— Но это нелепо! Опросите медперсонал, больных, что находились рядом. Пройдитесь по нашим палатам, в каждой по шесть-восемь человек. Сами убедитесь, насколько ваши подозрения беспочвенны!
Зрачки Хромова сделались злыми и — грозными.
— Здесь не обсуждается, мог или не мог враг нашей родины Пятс писать свою антисоветчину в вашей больнице. Я хочу знать — как он это сделал и кто был его пособником! Почему лечащим врачом была назначена судимая за измену Родине? Вот и спелись.
Понизов побледнел.
— Врач Гусева имеет боевые награды! — проникновенно произнес он. — Она, если знаете, реабилитирована!
Увидел, что слова эти в глазах комитетчиков цены не имеют. Поспешил увести разговор в другую сторону.
— И вообще, Гусева числилась лечащим врачом лишь номинально. Фактически врачебный надзор за пациентом Пятсом осуществлял я лично!
Хромов закивал — с показным недоумением.
— Это любопытно, — обратился он к безмолвному напарнику. — У главврача других дел нет, как вести с антисоветчиком душеспасительные беседы?
— Обязанность врача-психиатра лечить душевнобольных, в том числе направленных судом. Душеспасительные, как вы выразились, беседы — то же самое лечение. Еще Авиценна!..
Хромов вскипел:
— Ваша обязанность — не словоблудием заниматься. А приводить тех, кого направляем мы, к ногтю! И чем быстрей, тем лучше. Без всяких сомнительных авиценн.
Он навис над хозяином кабинета.
— Думаешь, не знаем, что ты лично давал ему послабку? — перешел он на «ты».
— Это был немощный старик! А я его врач. И почему вы себе позволяете в таком тоне?!
— Этот немощный старик обвел вас всех, дураков, вокруг пальца! Пока вы нюни разводили он свою антисоветчину строчил. Не за это ли по высшему разряду похоронили? Повторяю вопрос: с чьей помощью могли быть написаны и переправлены письма? Имей в виду, дело государственного масштаба. Потому уполномочен антимонии не разводить.
— Что вы, наконец, хотите?! — побелевший Понизов принялся глотать воздух.
— Хочу знать, кто именно в стенах вашей больницы, пользуясь слюнтяйством руководства, снюхался с врагом народа, гнусная клевета которого, если не успеем пресечь, растечется по Европе! Хочу найти, чтобы спросить, почем стоит продать Родину?
— Сейчас пятьдесят шестой год! Понимаете вы?!
— Как не понять? — Хромов подергал дверь. Вернулся к бледному главврачу. — Решили, раз Сталин умер, так можно Родиной безнаказанно торговать? Но у Родины еще есть защитники!
Через минуту-другую в коридор, где толпились приглашенные на совещание, среди которых была Ксения Гусева, выскочила секретарша.
— Там! У Константина Александрыча крики! — она в ужасе потыкала в сторону кабинета.
Гусева и те, кто посмелей, метнулись к кабинету. Она подлетела первой, готовая ворваться.
Дверь распахнулась изнутри. Вышли комитетчики. Раскрасневшиеся, хмурые.
Хромов, поправляя галстук, огляделся:
— Среди вас настоящие врачи есть? Которые не по психам, а нормальные. Там вашему хлюпику начальнику плохо. Сердчишко!
В кабинете, в кресле, откинулся Константин Понизов. Пульс уже не прощупывался. Диагноз, поставленный при вскрытии — обширный инфаркт, — не удивил. О больном сердце и. о. главврача было известно.
Через два дня, опросив весь медперсонал и даже некоторых больных, работники КГБ удалились, совершенно сбитые с толку. Понизов, оказывается, говорил правду. В самом деле, написать пресловутые письма в период от поступления в Бурашевскую больницу до смерти у Пятса не было физической возможности.
Год 1990
…— И где же они были написаны, эти знаменитые письма? И как всё-таки оказались на Западе? — поинтересовался Понизов.
Но Гусева, а вслед за ней и Валк с Вальком лишь беспомощно повели плечами.
— Одно могу сказать точно, что Константин Александрович был прав, и в психбольнице написаны они быть не могли, — подтвердила Гусева.
Делегация в полном составе удалилась. Заработал движок автобуса.
Зашла секретарша Любаня, — на сей раз в облипающем фигуру желтом кримпленовом платье. Положила перед Понизовым список звонков.
— Корытько звонил. Потом дважды этот, приставучий, из КГБ. Подай да подай. Ответила, что ездите насчет ремонта клуба.
— И что хотели?
— Выпытывали, что за движение у нас на старом кладбище.
— А ты?
— Сказала, что мертвецы по ночам из могил встают… Выгонят тебя, Коля. Как пить дать.
— Пожалуй, что выгонят, — равнодушно согласился Понизов.
— Весь поссовет меж собой считает, что зря ты с эстонцами этими связался. Навару с них никакого. А геморроя… До этого мы с девчонками жребий тянули, кого с собой в райисполком заберешь. А тут такое…
— Да, обломил я светлую девичью мечту, — согласился Понизов. Увидел, как огорчилась секретарша. — Не робей, Любаня. Мы с тобой к этому кладбищенскому безобразию напрямую непричастны? Нет. Так что, может, будешь ты еще в райисполкоме.
— А в «обл»? — загорелась корыстная Любаня.
Понизов усмехнулся.
— Подучиться малость — и область потянем.
— А меня Петька Беленький замуж зовет, — сообщила Любаня.
— Хороший вариант, — одобрил Понизов.
— И прапорщик один с Васильевского Мха обхаживает.
— Прапорщик — это надежно. Там паек.
— Вот возьму и выйду!
— За кого? — из вежливости полюбопытствовал Понизов.
— Да какая разница! Всё равно к тебе после бегать буду!
Понизов смутился:
— А вот ко мне больше не будешь! Я, Любань, человека встретил.
— И что?
— И — всё! — закинув голову за руки, Понизов зажмурился, думая о своем.
Любаня пригляделась.
— Что? Встретил и — сразу всё? — спросила завистливо.
— Сразу! — подтвердил Понизов. — Я еще со школы знал, что у меня должно быть так, что встречу, и — сразу всё! Вот не поверил себе. Женился наспех и — наперекосяк.
— Чем же она тебя так взяла? Неужто лучше меня в постели?
— Не знаю. Да она и сама про меня еще не знает.
— Все-таки правду девки про тебя говорят, что с вольтами, — определила Любаня.
Понизов, кажется, не расслышал, всё сидел, откинувшись в кресле с закинутыми за голову руками. Судя по слабой улыбке, мыслями был он не здесь.
Любаня обиженно поджала губки.
— Кстати, чуть не запамятовала! Жена Бороды звонила. Говорит, три дня как уехал в Калинин. Будто по делу. И — ни слуху, ни духу! Ну, я отбрила, конечно. Если каждая, у которой муж загулял, начнет в поссоветы названивать, так нам и работать некогда будет.
— Хабалка ты всё-таки, Любаня, — беззлобно попенял секретарше Понизов. — Учу, учу, чтоб с людьми поделикатней.
Вдруг подскочил:
— Сколько, говоришь, дней, как уехал?!
Только сейчас Понизов сообразил, что вот уж третий день как не видел Щербатова, и даже на эксгумации того не было.
Встревоженный, полный скверных предчувствий, схватил трубку, набрал телефон районной милиции.
— Костылев? Привет, вечный дежурный. Понизов. Не видел, случаем, Борода в отделе не появлялся?
— Почему не видел? Сам его третий день как в ИВС оформил по 153-й статье.
— Кто задержал?! — прохрипел Понизов с такой силой, что испуганная Любаня вернулась от входной двери.
— Сипагин лично. Если тебе он нужен, так полчаса как из отдела убыл. Думаю, как раз к прокурору за санкцией на арест поехал.
— Почему знаешь?
— Я ж бывалый аналитик, — похвастал Костылев. — У него из пакета литруха водки выглядывала. Если б с коньяком, наверняка в райком. А с водкой — точно к прокурору.
Посеревший Понизов бросил трубку.
— Я в Калинин!.. Не знаю, когда!
Едва не сбив замешкавшуюся секретаршу, бросился к машине.
— Псих! — нежно прошептала вслед Любаня.
2.
Дорога в город лежала мимо щербатовского, расписанного под теремок, дома. Почти проскочив, Понизов краем глаза разглядел через приоткрытые ворота знакомую «восьмерку». Нажал на тормоза.
Бросив машину на дороге, кинулся к калитке. Из дома на крыльцо как раз вышел сам Щербатов с кастрюлькой костей для собаки.
— Борис Вениаминович! — окликнул Понизов. Щербатов неохотно поднял голову.
Если б не дом и не знакомая машина, не признал бы его Понизов.
Вместо ухоженного, молодящегося мужчины увидел перед собой изможденного человека в жеваной одежде. Оживленный обычно взгляд казался пот у хшим, будто свет внутри отключили. Знаменитая борода, всегда подстриженная, подкрашенная, торчала неопрятными седыми пучками.
— Вы! — без выражения поприветствовал Щербатов.
— Ну и вид у вас, — не удержался Понизов. — Как же так? Почему не позвонили? Не предупредили? Мне только передали, — вас задержали и собираются арестовать.
— Освободили, — скупо сообщил Щербатов. Заметил нетерпение Понизова. — Насчет эксгумации уже в курсе. И — слава богу, что свершилось. Хоть здесь слава богу.
Он размашисто перекрестился.
Понизов вытянул из кармана завернутый в целлофан крестик:
— Возвращаю ваше, фамильное! В дополнение к тому, что вам передал Пятс.
При виде отцовского крестика лицо старого князя дрогнуло.
— Пойдемте-ка в дом, — пригласил он, стесняясь. — Никто не помешает. Жену к сестре отправил. Уж больно блажила, как вернулся.
Мало кому доводилось побывать в этом доме. Хозяин не любил допускать чужих. Но Понизов бывал, и всякий раз поражался, как большой, ярко расписанный, но типичный деревенский сруб внутри преображался в княжеские палаты, уставленные старинной, восемнадцатого-девятнадцатого веков мебелью. Комоды, канапе, шифоньеры, кованые сундуки, ореховый книжный шкаф, готический буфет — кабинет в стиле Генриха Второго, сервер в стиле буль… Мебель эту, поломанную, полуразрушенную, рукастый Борода разыскивал по старым домам, чердакам, подвалам, свалкам и реставрировал так, что музеи и театры предлагали за нее крупное вознаграждение. Но хозяин не продавал. Старинная мебель, фарфор были его страстью. Возвращаясь по вечерам, он запирал входную дверь и будто переносился из ненавистного советского настоящего в дореволюционную старину — какой запомнил ее по рассказам родителей.
Князь вынул из буфета фигурную бутылочку с фруктовой настойкой, рецепт которой придумал сам. Налил по стопочкам, из которых, по Понизову, разве что валокордин пить.
Но на сей раз непьющий князь махнул свою «пипетку» одним глотком. Перевел дух.
— Сказать ли, чем мучился все эти годы? В чем даже вам в прошлый раз не признался, — произнес он.
Боясь разрушить исповедальное его состояние, Понизов поспешно кивнул. То, что услышал, и впрямь поразило.
Крест молодой князь Щербатов действительно получил от самого Пятса. И действительно для того, чтоб адресат уверился, что действует он по специальному поручению. Но передать Щербатов должен был не только сведения о последнем пристанище президента. Главное, что поведал ему Пятс перед смертью, — что во время транспортировки в Бурашевскую психбольницу ему удалось спрятать в Тургиновской церкви важные документы, которые необходимо отвезти в Эстонию и там вручить верному человеку.
— А я струсил, — закончил рассказ Щербатов. — Долго сидел, пуглив стал. Через месяц решился-таки, приехал в Тургиново, но документов в церкви не нашел. Подумал — пацаны нашли да выбросили. Даже обрадовался — не судьба. Но много позже по «Голосу Америки» услышал про письма президента Эстонии Пятса, написанные в заключении.
— И что это значит? — недоуменно спросил Понизов.
— Значит, нашелся кто-то посмелей меня… А знаете, как меня выпустили? — Щербатов вдруг вернулся к началу разговора. — Начальник райотдела Сипагин самолично ко мне в ИВС (изолятор временного содержания. — С. Д.) приехал. Показал санкцию на арест и предложил свободу в обмен на мой бизнес. У него, оказывается, у брата в Кувшиново схожее дело. Расширяться надумали. Я согласился. Там же и все бумаги при нотариусе оформили. Всё штампы ставил. Так раззадорился, что аж постановление об освобождении заштамповал. Так что я отныне люмпен! — он горько засмеялся. — Возвращаюсь во Францию. С чем уехал, с тем и вернусь.
Он насмешливо щелкнул себя по ширинке. Понизов взъярился:
— Борис Вениаминович, не смейте так! Не дело уступать поляну негодяям, когда дождались, наконец, своей свободы! Вы-то, как никто, ее выстрадали.
— Это не та свобода, — возразил печально Щербатов. — И — полно вам, Коля! Эти ли, другие. Да я уж и документы оформлять начал. Думаю, недолго займет. Французского гражданства меня никто не лишал. А вот вы попробуйте. Мне всегда казалось, что у вас получится. Есть в вас тяга к новому, неизведанному. Да и крепость — чтоб отбиться.
Щербатов достал крест Пятса, протянул Понизову.
— Оставь себе, — всегда державший дистанцию, он вдруг перешел на «ты». — Он еще просил: если когда-то церковь в Тургинове восстановят для отправления культа, отнести этот крест туда. Мне уж не судьба.
Понизов тихонько закрыл за собой калитку. «Ушастик» так и стоял посреди дороги. Местные водители, зная хозяина, не гудели. Осторожно объезжали по обочине.
Так скверно ему давно не было. Домой, как часто в таких случаях бывало, совершенно не хотелось. Поехал в Тверь, на «конспиративную» квартиру.
В чем преимущество старенького «запорожца»? Можно бросить на ночь — не сильно напрягаясь. Правда, разок всё-таки сняли колеса. Понизов даже посочувствовал чудаку, польстившемуся на разношенную, как старые калоши, резину. Но, в сущности, головной боли брошенный без надзора «ушастик» не доставлял. Допыхтел до места назначения — уже удача!
Понизов выбрался из машины. С силой хлопнул дверью, — иначе не закрывалась. От подъезда отделилась тень.
— Николай Константинович! — окликнула тень. Вышла на свет и обернулась Светланкой. Кровь ударила Понизову в голову.
— А я вас заждалась. Долго гуляете, — сообщила она, стараясь выглядеть беззаботной.
Понизов совершенно растерялся.
— Но — каким образом именно сюда? Никто не знает…
— Ну, не совсем никто. Секретарша ваша дала адрес. Я ей сказала, что готовы материалы и что вы их очень ждете. Она засмеялась и — дала.
Светланка протянула обернутую в целлофан кассету.
Понизов неуверенно принял.
— Но… это не мне. Это эстонцы ждут. Разве не предупредили?
Светланка нахмурилась: конечно, предупреждали. И маленькая хитрость не удалась.
— Я… хотела увидеться! — выпалила она.
— А Лева, он?..
Светланка рассердилась:
— Леве я сказала, что ухожу, потому что люблю другого! Сказать, кого именно?!
Понизов смешался.
— Но… — промямлил он. — Как это может быть? Мы и виделись-то всего раз.
— Всего раз! — подтвердила Светланка. — Но какой!.. Я, может, до сих пор всех мужиков к тому случаю примеряю.
— А тебе Левка, когда отговаривал, не сообщил, что я бабник?
Светланка уныло кивнула: конечно, сообщил.
— И что женат? И дети? Криво, правда, женат. И, наверное, разойдусь. Но пока так.
— Не пугай ты меня, — попросила она. — Не видишь разве? Я и так боюсь.
Ее затрясло.
Понизов заботливо склонился:
— Что-то не так?
— Коля! Включи, наконец, мозги! — простонала она. — Два часа на улице. Я ж элементарно продрогла!
Понизов сгреб ее в охапку.
3
Поздно вечером из гостиницы позвонил возвратившийся Алекс. Похвастался, что привез с собой таинственного старичка-диссидента. Того самого. Они уже договорились в Бурашевской психбольнице, что наутро им разрешат пройти по территории, ознакомиться с палатой, в которой умер президент Пятс. Сопровождать их вызвалась Гусева, за которой заедут. После чего всей делегацией прибудут в поссовет.
О решении «экспедиторов» вывозить останки только после получения официального разрешения он уже знал.
— Да, мы, эстонцы, так устроены. В уважении к закону. Даже к плохому, — посетовал он. То ли осуждая, то ли гордясь.
На следующее утро Понизов приехал на работу с опозданием.
Любаня поднялась за своей перегородкой. Пристально оглядела шефа.
— Вижу, материалы получены, — констатировала она.
Понизов благодарно поцеловал насмешнице ручку.
— Хоть за других порадоваться, — буркнула Любаня. — Тебе опять Корытько звонил. Очень гневался, что не может застать. Требовал немедленно перезвонить.
Скрепя сердце, Понизов набрал личный телефон председателя райисполкома. Тот и впрямь оказался крепко зол.
— Что происходит?! — обрушился он, едва заслышав знакомый голос. — Председателя поссовета не могу застать на месте.
Он вдруг подозрительно засопел:
— Николай Константинович! У нас ничего не изменилось? Мы по-прежнему в одной команде?
— В одной, — заверил Понизов.
— Надеюсь. А то очень тревожные сигналы поступают. Будто уже и эксгумацию провели! Собирались к тебе с Сипагиным выехать. Ему поручено неприятную ситуацию разрулить раз и навсегда.
Это было бы чрезвычайно некстати.
— Чего вам время впустую тратить? Завтра сам приеду и доложусь, — заверил Понизов.
Но через час перезвонил уже Сипагин.
— Здравствуй, Колян! — услышал Понизов. Заметил в зеркале, как натянулась кожа на скулах. — Как ты там, на сторожевом рубеже? Насчет чухонцев точно, что не добрались до своего идола?
— Без согласования ком земли не поднимут, — заверил Понизов. — Ко мне не раз приходили, но я их, как договорились, в район отфутболиваю.
— И правильно, — Сипагин слегка успокоился.
— А если они официальный запрос пришлют?
— Уже! Вчера ихняя депутация опять была в области, на этот раз с письмом от Эстонского правительства. Вот-вот соберутся в Москву — добиваться.
— И добьются! Как им официально откажешь? Может, лучше самим, пока без скандала? — Понизов осторожно закинул наживку. — Наоборот, подадим как пример интернационализма, единства демократических сил.
— По мне так тоже: гори они огнем, — согласился Сипагин. — Но наверху сформировалось окончательное мнение: местонахождение этого ихнего президента не выдавать и тем более не позволить вывезти тело. Нечего плодить антисоветские настроения на окраинах! Потому на хитрых есть, как известно, с винтом. Значит, идея такая: пока они в Москву, мы их Роснадзором прихлопнем. Появилось подозрение, что на бесхозном этом кладбище имеются инфекционные захоронения.
— Вообще-то пациенты психбольницы инфекционными заболеваниями не страдают.
— А фашисты?! — с торжеством возразил Сипагин. — Эти закапывали, не разбирая: больной, здоровый. Ну, ты понял! Фашист, он всегда фашист. И порой — кстати! — Сипагин хохотнул свойски. — А кладбища, считай, срослись. Значит, и зараза перекинулась. В общем, с утра будь на месте: СМУ выделяет бульдозеры, экскаваторы. Пора этот источник заразы срыть под ноль! Как тебе идея?
— Богатая, — процедил Понизов, разъединяясь. Озабоченно скользнул взглядом по ходикам. Время к одиннадцати, а от Алекса никаких вестей.
Совсем было собрался позвонить в больницу. Но как раз подъехал автобус, из которого выбралась всё та же знакомая команда в сопровождении Гусевой. Поначалу Понизов ее не признал: в форме капитана медицинской службы, при орденах, в сапожках. Помолодевшая. Под руку с низкорослым глубоким стариком с длинными седыми волосами, клубящимися вокруг обширной плоской лысины. Гусева что-то деятельно ему объясняла, а старик вежливо кивал, углубленный в свои мысли.
В поссовет вошли шумно, чувствуя себя своими. Здоровались с сотрудниками, перешучивались с посетителями.
Алекс, обогнавший других, обнял друга, показал на медленно входящего старика:
— Урмас Поски — старейший депутат нашего Верховного Совета, возглавляет комиссию по истории вхождения Эстонии в состав СССР. В сороковом году был одним из помощников президента Пятса.
Дождался, когда старик приблизится.
— Господин Поски, позвольте представить вам Николая Константиновича Понизова — моего друга, о котором я вам много рассказывал. Без него было бы невозможно…
Коротким властным кивком старик оборвал вступление. Подошел вплотную, прищурившись, снизу вверх осмотрел Понизова глубоко посаженными, безресничными глазками. Землистый цвет его лица Понизову был хорошо знаком, — немало встречал таких среди зэков в колониях.
— С перерывами — почти тридцать лет отсидки, — расшифровал его взгляд Поски.
Он повел шеей, и Валк и Вальк бесцеремонно вытащили из-за стола председательское кресло, подставили старику и осторожно придержали, пока тот садился. Полные благоговения, расселись полукругом остальные.
Понизов незаметно глянул на часы. Надо было спешить. Но время шло, а старик прокашливался. Похоже, готовился к речи. Готовился долго. Всё познается в сравнении: на его фоне Валк и Вальк стали казаться Понизову торопыгами.
Внезапно старик заговорил.
— Когда-то я говорил на пяти европейских языках, — сообщил он. — Но почти не говорил по-русски. Не говорил по-русски, хотя, как и президент Пятс, любил Россию. Да! Сейчас я подзабыл эти языки. Зато по-русски говорю без акцента. Даже изучил северные наречия и говоры. Так, да? Хотя больше не люблю Россию. Да! Трудно любить того, кто, притворяясь братом, гнет тебя через колено. Мы не хотим больше большого брата. Но мы соседи и обречены жить рядом. Как мы будем жить, определяют люди и их дела. А вот сорокового года больше не допустим. Это завет нашего президента.
Понизов вновь мазнул взглядом по ходикам, на сей раз так, чтоб это подметил Алекс.
— В 1955 году я вышел из заключения, — продолжил меж тем Поски. — Прошел слух, что в заведении для хронических душевнобольных Ямеяла, близ Вильянди, содержится президент Пятс. Я, как узнал, поехал сразу. Заплатил, добился встречи. Мы встретились после пятнадцати лет разлуки. Президент Пятс плохо выглядел. Я беспокоился о его здоровье. Но он беспокоился о другом, — хотел во всеуслышание заявить на весь мир, что произошедшее в сороковом году — это оккупация и геноцид. Я предостерегал, что с ним будет после этого. Но он боялся одного: если не получится, о нем останется дурная память. Мы обсуждали письма, что он напишет и передаст через меня эстонским дипломатам, оставшимся на Западе. Он хотел три письма: политическое завещание, обращения к эстонскому народу и к ООН. Я отдал президенту крест, что изготовили по его поручению. Договорились, что через неделю вернусь за письмами. Но власти спохватились. Сначала власти хотели унизить господина президента, представить его сумасшедшим, но вышло наоборот. Люди стали ездить в Ямеяла, будто в святилище. И когда через неделю я вернулся, президента уже вывезли в неизвестном направлении.
Поски пожевал влажными губами. Понизов откровенно постучал по часикам. Но Алекс беспомощно пожал плечом. Старик же, далеки от мирской суеты, продолжил:
— Да! Я горевал о моем президенте, об у траченных воззваниях. Но зимой 1956-го на пороге моего дома меня остановил человек, закутанный в овчинный тулуп. — Вы Урмас Поски? — уточнил он скороговоркой. Произношение выдало чистокровного русского. Когда я подтвердил, он сунул мне в руку сверток и быстро удалился. Я окликнул, пытался догнать. Но он прибавил шагу и вскоре скрылся. В свертке оказались письма президента Пятса. Он безумно боялся, этот человек. Пытался даже, как мог, загородить воротником лицо, так что я едва его разглядел. Ему было, чего бояться. И всё-таки он сделал то, на что решился бы не всякий смельчак. Я очень взволнован. Потому что только что побывал в лечебнице — в месте последнего приюта президента Пятса. Видел фотографии руководителей больницы. И узнал того, кто передал мне письма. Имя отважного этого человека — Константин Понизов.
— Господи! Костенька! — потрясенная Гусева обхватила голову, будто боясь, что та взорвется. — Как же смог-то? И ведь ни полсловом!
Прикрыл глаза Николай Понизов.
— Вся Эстония в моем лице кланяется его памяти.
Урмас Поски торжественно приподнялся и, преодолевая боль, изобразил подобие поклона.
Валк и Вальк поспешили усадить старика на место.
Понизов, хоть время и подгоняло, не мог не спросить о том, что мучило:
— Как же получилось, что на Запад письма попали аж через двадцать лет?
— Произошла утечка. О письмах этих стало известно «конторе». Трясли всю Прибалтику. Меня опять посадили. Полагаю, на всякий случай. Так что извлечь письма из тайника и передать получилось очень нескоро. Да! — закончил он рассказ.
— Это замечательно, — признал Понизов. — Но что вы теперь собираетесь делать? Останки не вывезены.
— Об этом больше не беспокойтесь, — пошли палить Валк и Вальк.
— Господин Поски привез письмо от нашего Верховного Совета.
— И если даже ваш исполком …э…
— Не поменяет позицию.
— То мы едем в Москву, в Верховный Совет, где получим разрешение…
— Уже есть договоренность, и господина Поски примут вместе с представителем республики…
— Не позже, чем через неделю!.. Как мы и говорили. По закону! Гордясь друг другом, они снисходительно улыбались председателю поссовета.
Детская наивность умиляет. Наивность во взрослых, поживших людях утомляет и раздражает.
— Не через неделю, а завтра с утра старое кладбище будет срыто, — отчеканил Понизов со злостью. — Так что полученное разрешение сможете положить сверху, на строительную кучу.
Эстонцы, включая Поски, оцепенели.
— Но как можно? Это же не по закону… — пролепетал Валк.
— Напротив. У нас на всё есть закон, — возразил Понизов. — На что надо, на то и есть. На старом кладбище обнаружились признаки инфекционных захоронений времен войны.
— Что же делать? — «экспедиторы» принялись переглядываться. Даже Урмас Поски подрастерялся. Впрочем, лишь на мгновение.
— Мы сегодня же, немедленно извлечем останки, — объявил старый «сиделец». Зыркнул на встрепенувшихся Валка и Валька. — Законно-незаконно! Плевать!
— Но репатриировать, не имея разрешения… — слабо возразил Валк. — Хотя бы, чтоб погрузить гроб в поезд! Но даже если в автобусе, на любом посту… Без разрешения невозможно.
— Затруднительно, — согласился Поски. Пристально посмотрел на Николая Понизова.
— Послушайте. Вы много сажали. Я много сидел. Может быть, мы поймем друг друга?
— Поймем, — усмехнулся Понизов. Так его еще никто никогда не просил.
Он вытащил чистый бланк поссовета, напористо, от руки заполнил. Театрально подышал на печать.
С хрустом припечатал. Протянул Алексу.
— Не теряйте времени. Лучше всего, чтоб к утру вас вообще не было на территории области.
Тоомс заколебался:
— Коля! Нам это и впрямь, похоже, позарез. Но — ты хоть понимаешь, что тебя после этого разотрут?
— Авось подавятся! — Понизов, представив себе физиономию Сипагина, хищно осклабился.
Поски поднялся. Протянул Понизову руку для прощания.
— Вы умеете принимать резкие решения, — прочувственно сообщил он. — Из вас получится крупный руководитель.
— Уже не получится, — Понизов скосился на открытый ящик стола, куда перед этим сложил в стопочку партбилет и депутатское удостоверение. Вновь напоминающе постучал по циферблату часов.
Но расчувствовавшийся Урмас Поски всё не хотел расстаться.
— То, что сделали для нас вы и госпожа Гусева. Да! Это дорогого стоит. Мы ценим таких друзей. Чем их больше, тем крепче доверие. Я буду ходатайствовать перед Верховным Советом Эстонии о присвоении вам званий почетных граждан нашей республики.
— И — Константин Александрович! — забеспокоилась Гусева.
— Не обольщайтесь, Ксения Сергеевна, сто раз забудут, — огорчил ее Николай.
4.
На другой день во время планерки в набитый сотрудниками кабинет председателя поссовета решительным шагом вошел оперуполномоченный КГБ Острецов в шляпе, причудливо сбившейся на курчавый затылок. Из-под длиннополого плаща торчал нескладный предмет, завернутый в кусок простыни. Понизов с интересом скосился на густо заляпанную глиной обувь.
— Да, с кладбища! — сквозь зубы подтвердил Острецов. Скинул плащ.
Огляделся раздраженно:
— Значит, так. Сходняк приостанавливаю. У меня разговор к вашему председателю.
Приглашенные недоуменно посмотрели на Понизова.
— Прерываем совещание, — сдержанно подтвердил тот. — Тем более, время обеда.
Через минуту-другую поссовет опустел.
— Ну, и?.. — Понизов предложил продолжить.
Острецов развернул то, что притащил, швырнул на председательский стол.
— Как прикажешь это понимать?
Перед Понизовым лежал выдернутый из земли крест с надписью «Здесь покоилось тело…»
— Похоже, всё-таки эксгумировали, — предположил он.
— Будет фуфло толкать!.. Вчера, вчера вырыли! — неистовый Острецов потыкал толстым пальцем в дату на дощечке. — Пока ты нам дуру гнал по телефону!
Понизов нахмурился.
— Ты, парень, весь район, мало — область подставил, — процедил Острецов. — Себе карьеру обломал, другим. Сколько ж они тебе за это отстегнули?
Руки Понизова под столом соединились в замок так, что пальцы побелели. Но внешне не изменился. Разве что взгляд сделался предостерегающе-колючим.
Острецов его разглядел.
— Неужто просто от души? — поразился он. — Вот чего не думал! За деньги — хоть понять можно. Но нет страшней прекраснодушного дурака. Сначала весь соцлагерь влегкую, под аплодисменты, раздали. Ныне и Союз затрещал. Того и гляди, на осколки посыплется. Чего нам, от широкой души? Или надеешься, — отблагодарят эстонцы? Так зря губы раскатал, — что бы ты ни делал, для них все русские одним миром мазаны.
— Ты с чем приехал-то? — скупо уточнил Понизов. — О геополитике порассуждать? Так это не нашего, сельского уровня дело! Если же об эксгумации… Да! Выдал разрешение! Это их президент и их право!
Жестом осадил негодующего комитетчика.
— А уж если хочешь напрямую, — это их земля!
— Добрались-таки до главного! — уличающе пробасил Острецов. — А русские, стало быть, оккупанты. Решительно вся беда от дураков. Прибалтов пожалел? А русских тамошних, о которых, едва отделившись, ноги начнут вытирать, тебе не жалко?! А то они плохо пятьдесят лет на нашем хребте жировали? Хороши оккупанты, которые от себя отрывали, чтоб им там получше жилось? Любая империя окраины доила. А мы, наоборот: на российских прилавках кукиш с маслом, а в Прибалтике да Закавказье — живи, не хочу! Вот с жиру и взбесились!
Неистовость Острецова, громогласная его убежденность вывела и Понизова из состояния равновесия, в котором пытался себя удержать.
— Ты чего поссовет сотрясаешь?! Ты не здесь, ты там убеждай. Езжай в Прибалтику! И всё это им доказывай. Через тех же русских! Через прорусских эстонцев. Через финансы! Через экономику, что все республики переплела накрепко. Тысяча рычагов в руках! Убеди, что в Союзе им будет лучше, чем в одиночку!
— Кого это я убеждать должен?! — возмутился Острецов. — Да если каждого начнем уговаривать, глоток не хватит! Там же каша в головах. Свободы возжелали! Мы — западники! Быть первыми в Союзе, им, видишь ли, западло! А под немцев на карачках ползти готовы. А те с ними через губу. Потому что это для нас они — ах! прибалты! А для них — чухня! Омоном придушить, и все дела! Понадобится — войска!.. Ништяк! Поверещат с годик-другой ребята-демократы, да и притихнут. Кто захочет из-за карликов с ядерной державой ссориться?
Не жалея, с силой застучал кулаком по собственному колену:
— Как угодно! Пусть даже через колено! Если не хотим, чтоб от Союза одни славяне остались! Э! Что с тобой?.. Ты свою судьбу выбрал.
Подхватив плащ, двинулся к выходу.
— Если всё время через колено, так и славяне перегрызутся, — возразил с усмешкой Понизов.
Острецов, не останавливаясь и не оборачиваясь, лишь рукой безнадежно отмахнулся.
— Эх, вы! Прожектеры, — донесся его страдающий голос — уже из пустого коридора.
Понизов сидел за своим столом с распахнутыми ящиками, из которых он извлекал и откладывал в сторонку личные вещи.
При очередном телефонном звонке поднял трубку.
— Безработный Понизов у аппарата.
Услышал взволнованный девичий голосок. Улыбнулся собственному отражению.
— А скажи-ка, друг мой Светланка, слабо замуж за бомжа?
Эпилог 9 июня 2011 года
1.
К свежеотреставрированной церкви — Тургиновскому храму Покрова Божией Матери — подъехал внедорожник, из которого вышел рослый осанистый мужчина 55 лет, с аккуратными усиками вдоль верхней губы. Постаревший Николай Понизов. Перекрестившись, вошел в церковь. У входа установлена благодарственная плита людям, усилиями которых восстановлен храм. Первым в списке значится «Понизов Н. К.» Навстречу раннему посетителю вышел молодой, с редкой бородкой священник — настоятель храма протоиерей Алексей Кулаков. Показал место, куда встроен маленький крестик с вензелем «КП».
— Пора ехать, — напомнил ему Понизов.
2.
На месте захоронения Пятса в лесной зоне поселка Бурашево установлен роскошный православный крест. К кресту прикреплена доска с надписью: «Здесь покоился первый президент Эстонии — Константин Якобович Пятс, 23.02.1874–18.01.1956, находившийся на лечении в КОПБ № 1 им. Литвинова. В 1990 году прах президента перезахоронен на родине, в г. Таллинне». К кресту возложены васильки — национальный цветок Эстонии.
Литию служит отец Алексей.
Звучит музыка Густава Эрнесакса в исполнении тверского эстонского семейного ансамбля «Ыунаке» (Яблочко») и оркестра «Брасс Ренессанс». В церемонии участвуют представители тверской региональной организации «Эстонская община». Присутствуют руководители Твери, сотрудники Посольства Эстонии в РФ.
Торжественную часть открывает вице-губернатор Твери Валентин Васильевич Корытько. Несмотря на возраст, по-прежнему поджарый, энергичный.
— Дорогие друзья! — зычный голос его резонирует по старому кладбищу. — Сегодняшнее торжество символизирует победу сил дружбы и единения народов над мракобесием и разжиганием вражды. Сейчас эти слова звучат обыденно. Но двадцать лет назад, когда мы помогали эстонскому народу разыскать и вывезти на родину останки президента Пятса, нам приходилось преодолевать жесточайшее сопротивление сил реакции. Достаточно вспомнить, что сам президент СССР неприкрыто угрожал экстренными мерами, которые будут предприняты для восстановления конституции Советского Союза на территории Прибалтики. Но мы, демократы, не отступились! По моему указанию бывший председатель Бурашевского поссовета, а ныне один из самых успешных тверских предпринимателей Николай Понизов…
Эстонский атташе склонился к уху Понизова, стоящего рядом со своим компаньоном Алексом Тоомсом:
— Доверительно сообщаю. В ближайшие дни решится вопрос о присвоении вам за особые заслуги звания почетного гражданина Эстонии.
Понизов и Тоомс, не сговариваясь, захохотали. На лице пресс-атташе установилось недоуменное выражение.
— Эту музыку мне заиграли еще в девяностом. С тех пор и слушаю, — объяснился Понизов. — Да бог с ними, со званиями! — добавил он в сердцах. — Если б хоть на самом деле за друзей считали. Ведь как уговаривали: не трожьте Бронзового солдата! Не переносите из центра Таллинна! Это ж святыня, что как пуповина нас связывает… Разве кто прислушался?
— Всё очень непросто, — атташе нахмурился. — У нас много тех, кто не любит русских. Для них этот памятник — символ оккупации. Было много столкновений. Пришлось решать, выбирать.
— Выбрали, — горько констатировал Понизов.
— Выбрали, — согласился атташе. Оживился. — Но о друзьях мы не забываем. Звание почетного гражданина будет также присвоено госпоже Гусевой.
— А вот тут вы точно припозднились. Лет двадцать как умерла, — Понизов горько усмехнулся.
— В самом деле? Мне не доложили, — раздосадованный атташе вышел к микрофону, как раз освобожденному вице-губернатором. Заученным жестом записного оратора приподнял руку.
— К сожалению, среди нас отсутствует замечательная женщина, благодаря самоотверженности которой мы сегодня имеем возможность чтить память нашего первого президента. Нам известно, что госпожа Гусева, увы, умерла, — голос атташе дрогнул. — Но благодарная память — вот главное, что оставляем мы после себя. Дела, преобразуемые в память. Каждому воздается по делам его. По поручению господина посла, мы хотели бы навестить могилу госпожи Гусевой, чтобы поклониться и возложить цветы.
Среди присутствующих чиновников возникло замешательство. Большинство о такой никогда не слыхивали. Те же немногие, что помнили историю розысков девяностого года, принялись смущенно переглядываться: когда и на каком кладбище похоронена героиня тех событий, им было неведомо. Никому неведомо. Никому неинтересно.
Камера устремляется по лесным тропинкам, путается в чащобе, мечется меж заброшенных, заросших могил и, наконец, обнаруживает среди прочих кургузый, осыпавшийся холмик и покосившийся крест на нем. На полусгнившем кресте едва угадывается надпись — «Гусева Кс…». Далее — неразличимо.
01. 2015
Остров незрячих (Военная киноповесть)
Жизнь — лучший романист. Толчком для написания этой повести послужили невероятные события, случившиеся накануне капитуляции Германии.
Глава 1. Последний май войны
Чуть припомню русскую равнину — Замирает сердце. Боже мой! Вся в пыли дорога на чужбину, Вся в цветах дороженька домой.[1]Искрошившая Европу Вторая мировая война близилась к концу. Советские и союзнические войска стремительно продвигались по землям поверженной Германии, навстречу друг другу.
К началу мая Вторая ударная армия Федюнинского ворвалась в Переднюю Померанию.
1 мая с боем взят Штральзунд.
3 мая волны наступающих соединений захлестнули последний оплот обороны — остров Рюген — и слились с волнами Балтики.
На страшном острове Рюген — родине «Фау» — и случилась поразительная история, память о которой, словно травинка, пробилась сквозь многолетнюю толщу умалчивания.
…Вдоль скалистого, скупо поросшего балтийского берега свободным строем брели тридцать бойцов. Тридцать войсковых разведчиков. С вещмешками за плечами, с автоматами на груди, с запасными дисками в брезентовых чехлах на поясе. Многие с непокрытыми головами, с пилотками, заткнутыми под ремень.
Шли чуть ли не вслепую. Прищурив глаза, впитывая жадными ноздрями солоноватый морской ветерок и одновременно стараясь уловить пряные запахи из глубины острова, — началось майское цветение садов.
Май, боже мой, — май! Не надо таиться в придорожных канавах, часами дожидаясь возможности перескочить на другую сторону. Можно просто плестись по этой самой дороге, не остерегаясь авианалета. Конец многолетнего, кровавого, вымотавшего всех труда.
То, что вымотались до предела, обнаружили именно сейчас, накануне капитуляции. Прежде война казалась нескончаемой. И вдруг из-за плотного тумана проглянул берег. При виде желанной цели руки, ноги, головы налились свинцовой тяжестью. И усилия, еще недавно дававшиеся естественно, сделались неподъемными. Они дотянули. Но это оказалось пределом. Не было даже сил радоваться победе. Довлело одно — желание покоя и отупляющего, восхитительного безделия.
— Воздух! — всполошный выкрик в рядах разорвал тишину. Кто-то тревожно вздрогнул, оглянулся на кричащего — рядового Ипатьева. Но, разглядев расплывшуюся веснушчатую физиономию, продолжил движение. Могучий ефрейтор Будник молча погрозил незадачливому шутнику кулачищем. Остальные на незатейливую хохму вовсе не отреагировали.
Пора бы устроить небольшой привал. Но командир отдельной разведроты 108-го стрелкового корпуса капитан Арташов брел впереди, погруженный в себя. По бедру его лениво постукивала обтрепанная, вытертая до белесости полевая сумка. Исхлестанная дождями и вьюгами. С дырой в кирзе, оставшейся после попадания осколка.
Трудно было представить, что этому статному, широкоплечему мужчине едва исполнилось двадцать четыре года. Впрочем, таким он был и в двадцать один, после нескольких месяцев в разведке. Привычка принимать решения и отвечать за них, находить выход там, где для других его не осталось, а главное, — необходимость посылать на смерть, давно превратила ленинградского студента и непризнанного поэта, дерзкого и мечтательного Женьку Арташова в сдержанного, знающего тяжелую цену своему слову человека, по жесту которого шли под огонь бывалые, давно пережившие все возможные страхи мужики. Он помнил о погибших по его приказу, а живые помнили о тех, кто благодаря ему выжил. И за то, что даже в смертельном их ремесле умел поберечь своих, уважали и рвались из госпиталей к капитану Обгони Смерть, слава о котором гремела по Федюнинской армии.
Вот и сейчас из памяти Арташова не выходили двое погибших при штурме острова. Никто не упрекнет его в их гибели — он послал их туда, куда обязан был послать, и именно с задачей, которую они выполнили: выяснить, не укрылся ли в дюнах противник. Они выяснили — ценой жизни. Кто мог знать, что следом шел танковый батальон, который перепахал бы остатки фрицев без всякой разведки. Никто и никогда не обвинит. Но сам он зачислил эти бессмысленные смерти на собственный счет, и не существовало судебной инстанции, которая смогла бы отменить этот самоприговор. «Есть в нашей жизни странные минуты, в крови цветут победные салюты. А ты молчишь.» Арташов аж головой тряхнул, отгоняя возникшие будто ниоткуда строки.
Ссутуленная спина командира не давала забыть о последней потере и бойцам, будто укоряя каждого в том, что не его, а других накануне победы послали на смерть. И хоть вымотались до предела, подойти к капитану не решался никто.
Даже идущий следом ординарец Сашка Беляев — ротный щеголь. Всегда в свежем подворотничке, гладко выбритый. Единственный в роте, пренебрегая уставом, носил широкий офицерский ремень и хромовые, надраенные сапоги. Вот и сейчас, во время долгого марша по пыльной дороге, ухитрился сохранить блеск на голенищах. Но главная Сашкина гордость — офицерская гимнастерка, что досталась ему после гибели взводного. Сашка говорит, что гимнастерка — память о товарище. Это правда, но не вся. Гимнастерку Сашка носит как талисман. Взводный был убит автоматной очередью, прошившей тело от живота до сердца. Теперь на месте разрывов аккуратные штопки. Сашка втайне верит в приметы и убежден, что снаряд дважды в одну воронку не падает, а, стало быть, гимнастерка мертвеца защитит от смерти живого.
Меж тем сильно припекло. Сашку нагнал Петро Будник.
— Привал бы, — он намекающе отер рукавом пот и кивнул на командирскую спину.
— Хочешь схлопотать в дыню, подойди сам, — ехидно предложил Сашка.
Будник опасливо почесал увесистый подбородок.
— Всё переживает, — определил он. — И чо душу рвет? Не его ж вина, что на мину напоролись. Война, она и есть угадайка. Поди определи, чего ждет в прикупе. По мне лучше вспоминать, если кого спас. Спится спокойней.
— Это ты считаешь, кого спас. А он свой счет с другого края ведет.
— М-да! Одно слово — Обгони Смерть. Зря не назовут, — хитрый Будник, добившись, что влюбленный в командира Сашка сомлел от удовольствия, подступился к главному.
— Не знаешь, случаем, чего нас по побережью гонят?
Сашка самодовольно повел плечом, — «я да не знаю»!
— Получен приказ — разместиться поближе к морю и осуществлять наблюдение за береговой линией, — с важностью сообщил он.
— Не понял, — Будник озадаченно тряхнул крупной, обросшей, как валун, головой. — Какое, к черту, наблюдение, если немцев отовсюду повыбили? С часу на час капитулируют. За кем наблюдать-то? Разве что за фрицевскими бабами. Так это мы и без приказов горазды, а?
Будник подтолкнул Сашку локтем:
— Эх, кореш, быстрей бы погоны снять! Вернусь, перво-наперво по всем бабам — что вдова, что солдатка — шершнем пройдусь! Кто не спрятался, я не виноват.
— А не боишься на какого-нибудь ухажера с ломиком нарваться? — поддел Сашка.
— Хо! Напугал слона дробиной, — Будник беззаботно хмыкнул. — Смету тыловую крысу и не замечу!
— Вот и я к тому: не надо бы тебе, Петро, из армии уходить. При твоем гоноре, помяни мое слово: на гражданке полгода не пройдет, как заново сядешь.
— Так это когда еще, — мрачное пророчество Будника не сильно огорчило: он и на день-то вперед не загадывал. А полгода мирной жизни виделись отсюда и вовсе чем-то безмерным. — Главное — чтоб полной грудью! А там как картея ляжет.
Ефрейтор, в прошлой, довоенной жизни удачливый шулер, предвкушающе потянулся крупным налитым телом.
Сашка заметил, что командир впереди слегка повернул голову, словно прислушиваясь, и быстренько насупился, будто отгораживаясь от любопытного Будника, — ему уж перепадало за болтливость.
Арташов слышал перешептывания, понимал, о чем ропщут сомлевшие на солнце бойцы, но упрямо продолжал движение, — вот-вот должны были объявиться посланные вперед квартирьеры.
Солдаты и впрямь вымотались. Задремавший на ходу Карпенко наступил на пятку Захарчуку. Тот возмущенно повернулся:
— Чего спотыкаешься, хохол?
Карпенко встряхнул головой. Мечтательно зевнул во всю пасть:
— Ох, мужики, щас бы подушку придавить.
— И сколь проспишь? — подначил Захарчук.
— Хоть сутки, хоть двое. Лишь бы дали.
— Не завирай! Двое не проспишь.
— Как это? Очень даже просплю. А то и трое подавай. Сна много не бывает!
— Вот брехун-то! — громко удивился Захарчук. — Всегда брехуном был. И война не исправила.
— Кто брехун?! — взвился Карпенко. — За это, москаль, и ответить недолго!
— А хило не станет? — задиристый Захарчук с готовностью принялся закипать.
Но тут в строй вернулся Будник.
— Заткнулись оба, — пресек он зарождающуюся бучу. — Два года, считай, всех достаете. Да хоть ты, Карп! Если он тебе так опостылел, какого ляда на Днепре среди бела дня полез из-под обстрела вытаскивать?
— Так я чего полез?! — Карпенко смутился. — В надежде, что увезут в госпиталь с концами. Так нет, — трех месяцев не прошло, — заявился.
— А в самом деле, Захар. — Будник, прищурившись, глянул на Захарчука. — Сам же говорил, что после госпиталя в учебку направляли. Чего ж опять сюда утёк?
— Так я к кому утёк? К Обгони Смерти, к вам. Не к этому же, — он сплюнул. — Этого бы сто лет не видел. Ничего, теперь уж скоро. Дембеля только дождаться. А там думать забуду.
— А я так наоборот, твою фотку с собой возьму, — незамедлительно отреагировал Карпенко. — В хате у образов повешу. Каждый день Бога благодарить буду, что избавил!
— Ты ж врал, что неверующий.
— Избавит — уверую!
Слушая перепалку заклятых друзей, спровоцированную лукавым Будником, остальные слегка приободрились, принялись перемигиваться.
Впереди зашевелились придорожные кусты, и на дорогу выбежал рядовой Фархад Мухаметшин — один из отправленных вперед квартирьеров. При виде Мухаметшина солдаты, предчувствуя конец пути, оживились. Послышался заливистый голос Ипатьева:
— Глянь, мужики, Федя! Никак, жилье надыбали! Не прошло и года! Вас со старшиной, паразитов, только за смертью посылать.
— Как раз за смертью старшину не дозовешься, — Будник презрительно скривился. — Он от нее всю войну ополовником на кухне отбивался.
Меж тем Фархад Мухаметшин, зыркнув вправо-влево, заспешил, слегка приседая на простреленную правую ногу, к капитану. Из-за этой припадающей после ранения ноги полненький рябой таджик на фоне остальных ловких, поджарых разведчиков смотрелся эдаким раскормленным, всполошным воробьишкой. Впрочем, ползать подраненная нога ему не мешала. Никто другой не умел так ловко, по-гадючьи бесшумно извиваться по земле, порой в нескольких метрах от противника.
— Тарища капитана! Тарища капитана! — привлекая внимание роты, Фархад издалека зазывно замахал руками, призывая всех свернуть на тропинку, с которой только что выскочил.
— И впрямь нашли! — облегченно прошелестело по рядам.
— В лучшем, слушай, виде! — гортанно затараторил Мухаметшин, сам радостный от того, что принес хорошую весть. — Всё как капитана приказал! И на берегу! И чтоб всем разместиться. Старшина Галушкин обнаружил.
То, что на место предполагаемого размещения первым наткнулся старшина роты Галушкин, никого не удивило. Несмотря на пятьдесят лет, старшина сохранил зоркий глаз, одинаково цепко подмечавший вражеские патрули и припрятанный хозяйками самогон. Правда, за линией фронта ему довелось побывать лишь однажды. Как-то в связи с потерями в личном составе Галушкин вызвался в поиск и в самую важную минуту сробел так, что едва не погубил всю группу.
— Должно, старый хрен, спиртное учуял. В разведку по собственным тылам — на это он силен, — процедил злопамятный Будник.
По знаку Арташова приободрившаяся рота вслед за Мухаметшиным потянулась в кустарник.
Через несколько сот метров среди сосновых деревьев показалась высокая скошенная черепичная крыша, будто нахлобученная на белоснежный яблоневый сад. У резной металлической калитки, врезанной в массивный забор, разведчиков поджидали старшина и двое бойцов.
— По месту, кажись, то, что надо, — доложил Арташову Галушкин. — Добрый домина. В три этажа. Считай, замок. И усадьба на полгектара.
— Почему не зашли? — не понял Арташов.
— Так вроде жилое, — старшина замялся. Нервно заморгал, отчего отечные мешочки будто сами собой запрыгали под глазами. — Решил без команды, так сказать, обождать… Дабы без конфузии. Языков-то не знаю.
Будник поморщился:
— Тебе б, старшина, всё по каптеркам воевать. Дабы без конфузии… Разрешите, товарищ капитан?
Он приподнял приклад автомата и, дождавшись подтверждающего кивка, несколько раз с чувством пристукнул по металлу. Требовательный гул понесся вглубь сада.
— Как будто женские голоса доносились, — вроде в никуда сообщил Галушкин, вызвав воодушевление в рядах.
— А ну, фрицевки, кончай в прятки играть! — задиристо выкрикнул Сашка Беляев. — А то мы тут как раз самые большие поисковики по вашу душу собрались! Живо всех пересчитаем!.. Может, сигану на разведку, товарищ капитан?
Двухметровый забор — не препятствие для разведчика. Тем более для гибкого, переполненного энергией Сашки.
— Видать, что за войну не напрыгался, — хмыкнул Будник.
— Так ему на бабу запрыгнуть не терпится. А в этом деле какая усталость, — донеслось из рядов.
В глубине сада послышались звуки шагов. Сашка, демонстративно отогнув ухо, прислушался. Значительно приподнял палец.
— Так, даю вводную: походка женская, нога легкая, тридцать шестого где-то размера. Не больше. Судя по нажиму, лет эдак не сильно за тридцать. Точно! У меня сердце — вещун.
Из-за кустов черемухи показался с у хощавый шестидесятилетний мужчина в тирольской шляпе с аккуратно подстриженными седыми усиками, отчасти прикрывающими тонкий, жилистый шрам, рассекший правую губу.
— Вот балабон, вечно пальцем в небо, — разочарованно пробурчал Будник.
Глава 2. Русские и советские
А дымочек выстрела «Авроры» так и не развеялся за век. Лишь устал от войн и от террора терпеливый русский человек.Подойдя к калитке, мужчина оглядел несколько десятков вооруженных людей. Стараясь не выказать страха, он с достоинством снял шляпу, слегка поклонился стоящему впереди прочих Галушкину и выжидательно замер.
— Передрейфил фриц! — определил Сашка. — Ништяк, дедок! Мы, в отличии от ваших, со стариками не воюем.
Арташов, укрытый за широкой спиной Будника, заметил, как при Сашкином пассаже во взгляде старика сквозь маску учтивости блеснул гнев человека, непривычного к панибратству. Вполне может оказаться каким-нибудь переодетым гитлеровцем. Много их — полковников да генералов — сейчас под бабские юбки попрятались.
— Шпрехен зи руссиш? — произнес Арташов. Будник поспешно отодвинулся.
При виде офицера старик приободрился. По лицу его пробежало подобие улыбки.
— Шпрехен, шпрехен. Похоже, вы меня приняли за офицера вермахта, — на чистом русском языке ответил он.
— А кто же вы? — от неожиданности вырвалось у Арташова.
Старик приосанился.
— Позвольте представиться: Сергей Дмитриевич Горевой. Капитан второго ранга российского флота. — Он коротко, по-гвардейски кивнул.
— Советского флота? — неуверенно подправил Арташов.
— Никак нет. Именно российского. Списан с корабля по ранению. После большевистского переворота эмигрировал. Поселился в Померании.
— А мы тебя и здесь достали! — без задержки отреагировал Сашка. Уловив неодобрительный взгляд капитана, буркнул. — Переворот ему, видишь ли, контре! Это он о нашем-то Великом Октябре!
— Кто, кроме вас, есть в особняке? — спросил Арташов. Заметил колебание хозяина и, дабы пресечь препирательства, отчеканил. — Мы ищем место для размещения. Ваше имение кажется для этих целей подходящим. Надеюсь, возражений нет?
Тон недвусмысленно говорил, — возражений быть не должно. Старик, однако, упрямо пожевал губы.
— Боюсь, этот дом вам не подойдет. Видите ли, господин капитан, здесь пансионат для дам.
Оживление среди стоящих вольно солдат сделалось нешуточным. Горевой обеспокоенно повел шеей.
— Это совсем не то, что вы подумали, — поспешил он исправиться. — Прошу господина офицера пройти внутрь. Я бы хотел, чтоб вы переговорили с директором пансионата. А нижние чины могут пока передохнуть в задней части сада, возле каретного сарая.
Арташов, не скрываясь, с неприязненным прищуром разглядывал царского офицера. Горевой, уловив колебание, искательно дотронулся до его рукава:
— Господин капитан! Антр ну! Уверяю вас, это действительно очень необычная, требующая деликатности ситуация. — Особой, доверительной интонацией он словно поверх солдатских голов обращался к человеку одного с ним сословия.
— Я уж и забыл, когда у меня были обычные ситуации, — усмехнулся Арташов.
Восприняв это как согласие, Горевой отодвинулся, приглашая капитана войти и тем же движением отсекая его от остальных.
Арташов, сохраняя неприязненное выражение на лице, прошел внутрь. Следом, бесцеремонно отодвинув прикладом упирающегося старика, двинулся Сашка — охранять спину командира было его святой обязанностью, которую он никогда и никому в роте не уступал.
Арташов шел вдоль благоухающего сада, мимо аккуратных, подбитых округлым булыжником цветочных клумб по усыпанной белыми лепестками гравийной дорожке и с наслаждением вдыхал густой, настоянный на яблоневом цвету воздух.
За поворотом им открылся мрачный трехэтажный особняк, стилизованный под средневековый замок, с бойницами в башенках и узкими зарешеченными окошками по периметру. Арташов озадаченно присвистнул.
— А, тоже обратили внимание! — заметил Горевой. — Вот так-то прежде строили. Крепость. Говорят, огонь корпусной артиллерии может выдержать.
— Может, проверим? — свирепо предложил Арташов.
Горевой, искавший расположения советского офицера, хихикнул.
— Уверен, что традиции русской армии остались неизменны, и огонь по мирным жителям открывать не станете, — с важностью изрек он. — Позвольте, я приготовлю директора пансионата к визиту.
Бочком протиснулся мимо Арташова и пружинистым, не по возрасту шагом заспешил к парадному крыльцу.
— Мутный дедок, — засомневался Сашка.
Арташов заметил за портьерой одного из окон старческое женское личико, сморщенное, будто сушеная груша, но с живыми, поблескивающими от любопытства глазками. Волосы у старушки были уложены какими-то буклями, какие Арташову доводилось видеть разве что в костюмных пьесах.
Заметил подглядывающую старуху и Сашка.
— Может, приют для престарелых, — расстроился он.
Сашка вообще легко переходит от надежды к унынию. Но еще легче от уныния к надежде.
— Не, непременно молодухи есть, — успокоил он себя. — У меня сердце — вещун.
Двустворчатая дубовая дверь распахнулась от резкого толчка изнутри. На пороге возник успевший обернуться Горевой:
— Пожалуйте, вас ждут. Зал приема сразу за прихожей. — Он отодвинулся, пропуская гостей.
Арташов вошел в затемненную прихожую, на стенах которой угадывались картины в тяжелых золоченых рамах.
— Светомаскировка. Не успели расшторить, — коротко пояснил Горевой. — Зато зал уже приведен в порядок.
Обогнав капитана, он откинул перед ним плотную плюшевую портьеру, разделявшую комнаты. В глаза им брызнуло солнце. После мрачной прихожей полукруглая, застекленная зала оказалась залита теплым светом.
Арташов с усилием размежил заслезившиеся глаза.
При его появлении из глубоких кожаных кресел поднялись две пожилые женщины, в одной из которых легко узнавалась та, что подглядывала из окна. Выражение любопытства и теперь не сошло с ее шустрых, беспокойных черт. Взгляд постреливал лукавством так, словно она всё еще ощущала себя семнадцатилетней гимназисткой.
Но главной здесь была не она. На полметра впереди, высоко вскинув голову, застыла сухопарая дама с гладко зачесанными волосами и настороженным выражением удлиненного лица. Она, правда, пыталась изобразить добросердечность. Однако прикушенная нижняя губа свидетельствовала, что показная приветливость дается ей с трудом.
Брезгливым взглядом скользнула она по Сашке, вскинула бровь в сторону Горевого, выражая ему неудовольствие появлением нижнего чина, и, наконец, соизволила обратить внимание на Арташова.
— Баронесса Эссен, — без выражения представилась она. Не уловив ответной реакции, недоуменно поморщилась. Повела рукой.
— Моя компаньонка и наперсница, госпожа Невельская. Что вам угодно, господин советский офицер?
Говорила баронесса по-русски с твердым прибалтийским акцентом. Быть может, оттого Арташову показалось, что слово «советский» она будто начинила ядом.
— Мне угодно разместить в этом доме своих солдат, — отчеканил он.
— Это невозможно, — безапелляционно отрубила хозяйка. Добродушия в ней хватало ненадолго.
— Элиза! — подруга умоляюще потянула ее за рукав.
— Это невозможно, — упрямо повторила баронесса. — Мой дом — не казарма.
— Еlise! Was tust du? Du hast doch versprochen! Sie sind ja Okkupanten! (Элиза! Что ты творишь? Ведь обещалась! Они же оккупанты!) — отчаянно выкрикнула Невельская.
В самом деле, если своей язвительностью баронесса намеревалась вывести оккупанта из себя, она своего добилась.
— Вот у него, — указывая на Сашку, процедил Арташов, — тоже дом не был казармой. Однако ваши пришли без спросу и заняли. А уходя, сожгли забавы ради весь горняцкий поселок, так что мать его в землянке ютится. Ишь ты, — невозможно! — голос Арташова клокотнул. — Небось, в сорок первом казалось невозможным нас здесь увидеть. Ан — сподобились! Как там у вашего бога? — он ткнул в золотистую, свиной кожи библию на ломберном столе. — Азм воздастся? Вот и воздалось!
Арташов снял пропыленную полевую сумку и демонстративно шлепнул ее поверх библии, — будто тузом припечатал. Зыркнул через плечо:
— Сашка, оглядись по комнатам и распредели людей!
— Айн момент! — с готовностью отозвался ординарец. Высокомерие старой дамы заметно задело и его.
— Минуту, господа! — поспешил вмешаться Горевой. — Всего лишь минуту! Присядьте же, господин капитан. Много ли вам будет стоить минута?
Он отодвинул для Арташова свободное кресло и стремительно подошел к баронессе, зашептал. С другой стороны ее теребила за рукав Невельская.
Арташов с удовольствием погрузился в мягкую, податливую кожу. Не часто доводилось ему оказываться среди барской роскоши.
В простенках меж окон стояли разлапистые, в тон креслам, стулья, над которыми к стенам были пришпилены раскрытые веера из японского шелка и слоновой кости. С потолка угрожающе нависала огромная хрустальная люстра, в углу за дверью оперся на меч спесивый средневековый рыцарь.
И всё-таки Арташова не оставляло ощущение неухоженности. Пытаясь понять причину, он осмотрелся повнимательней. Люстра над головой оказалась совершенно запыленной. Зато подсвечники на столе и на всех подоконниках сияли надраенной бронзой. Судя по обгоревшим свечам, пользовались ими, в отличии от люстры, регулярно. Очевидно, экономили на электричестве.
Да и дорогая кожа на стульях и креслах при внимательном рассмотрении оказалась изрядно потертой, как и плюшевые портьеры. Арташов исподтишка пригляделся к хозяевам. Заметил белесый шов на юбке баронессы, бахрому на кружеве Невельской, стоптанные задники у Горевого. В этом доме поселилась тщательно скрываемая нужда.
Меж тем Горевой и Невельская продолжали что-то втолковывать хмурящейся хозяйке. Легко угадывалось, что необходимость действовать против воли угнетала ее гордыню. Наконец общими усилиями они добились от баронессы неохотного, через силу кивка.
— Вот и слава богу, — Горевой обрадованно обернулся к Арташову. — Позвольте еще раз представить, господин капитан. Видимо, вы не расслышали. Перед вами, — он торжественно указал на баронессу, — свояченица адмирала Эссена.
Он сделал паузу, давая возможность советскому офицеру сообразить, о ком идет речь, и проникнуться осознанием величия фамилии, с которой волею случая довелось столкнуться.
К сильному его разочарованию, гость сохранял прежний безучастный вид.
Растерявшийся Горевой переглянулся с баронессой. Та ответила презрительным взглядом.
— Простите, господин капитан, — недоверчиво произнес Горевой. — Вам что, в самом деле ничего не говорит фамилия адмирала Эссена?
Арташов напрягся. Что-то вспоминалось в связи с Порт-Артуром, Кронштадтом. Что-то реакционное. Но припоминалось смутно.
— Кажется, был командующим Балтфлотом перед революцией, — с усилием припомнил он.
— Кажется? — обескураженно переспросил Горевой. — Или в советских школах не изучается история Первой мировой войны?
— А чего ее особенно изучать? — бесцеремонно вмешался Сашка. — Империалистическая бойня за передел рынков.
Горевой поразился:
— Как, как?!.. А жертвы? Подвиги беспримерные по имя Родины? На этой, как вы выражаетесь, бойне погибли миллионы русских людей. Таких же, как мы с вами.
— Конечно, погибли, когда бездарное командование. Знаем-знаем! У меня по истории твердая четверка была, — самодовольно объявил Сашка. — То брат царя — горе-стратег, командовать полез, то сам царь. Этот вовсе квелый попался. А жена-немка с Распутиным за него правили. И Эссены всякие при них. Хорошо еще, что революцию вовремя сделали. А то бы всю Россию профукали.
Услышанное произвело на присутствующих парализующее действие. Даже дружелюбная Невельская принялась озадаченно тереть виски. Баронесса же, утратив обычное высокомерие, совершенно потрясенная, на ощупь опустилась в кресло.
— Майн гот! Они нас просто вычеркнули, — выдохнула она.
Но самое сильное впечатление Сашкин исторический экскурс произвел на Горевого. На побагровевшем лице затикал нерв у правого глаза. Не снизойдя до дерзкого солдатика, он, играя желваками, шагнул к капитану.
Баронесса вовремя заметила его состояние.
— Сергей Дмитриевич! — обеспокоенно окликнула она. Но Горевой, кажется, не заметил окрика.
— Выходит, это мы немцам Россию сдали? — булькающим голосом просипел он. — Может, это мы каторжный мир в Бресте подписали?! Да мы до конца стояли!.. — он нервно отер выступившие на губах пузырьки. — А вот это видели?
Отворотившись от женщин, Горевой рывком вздернул рубаху, обнажив обожженный, пергаментный бок.
— Я на «Святителе Николае» горел!
Внезапный порыв добродушного вроде старика смутил Арташова. Отчего-то прежде не приходило в голову, что тридцать лет назад, в ту самую, породившую революцию войну, называемую в учебниках империалистической и антинародной, также сражались русские люди, и действительно гибли, и действительно совершали подвиги. И вовсе не считали, что гибнут понапрасну. А просто выполняли свой долг перед Россией, подобно тому, как его разведчики — перед новым, стоящим на этой же земле государством — Советским Союзом.
Невельская меж тем проворно подошла к Горевому, приобняла, забормотала:
— Полно вам, Сергей Дмитриевич! Werfen Sie nicht die Perlen vor die Säue. Ihnen schwirren ja die Köpfe. Lisa — das mag noch hingehen. Aber vergessen Sie doch nicht, dass sie Sieger sind, und wir von ihnen abhängen. (Не мечите бисер перед свиньями. У них же просто каша в голове. Ну ладно Лиза, но вы-то хоть не забывайте, что они победители, и мы от них зависим).
Услышанное вернуло Арташову душевное равновесие.
— Непросто вам, как погляжу, — насмешливо посочувствовал он. — С победителями и впрямь приходится считаться, даже если их за свиней держишь.
С удовлетворением подметил, как смущенно переглянулись оконфузившиеся аристократы.
— Только если вы такие патриоты, чего ж родину оставили? Аж до Померании драпанули! Кстати, теперь-то отчего не удрали дальше на Запад? Не успели? Или дошло, наконец, что Советский Союз — это навсегда?
— Не дай бог! — вырвалось у баронессы.
Глаза Арташова сузились:
— Даже так откровенно? Здорово же вы советскую власть не любите.
— Элиза! — бессильно вскрикнула Невельская.
Но баронесса уже не владела собой:
— А за что ее любить, вашу власть? Всё лучшее, что веками накапливала нация, цвет и надежду ее, — вырезали или выдавили. И что осталось? Власть быдла!
Она, не скрываясь, оглядела насупившегося Сашку.
— Никогда не смирялась и не смирюсь! — отчеканила баронесса.
— Оно и видно, — Арташов хмыкнул. — Только не немецкой баронессе о России разглагольствовать. Патриоты они! Чуть беда и — к своим, под крылышко. Большевики вас не устроили. Зато с фашистами, похоже, куда легче спелись. Они-то для вас не быдло. И замок оставили, и денежек на собственный пансионат отвалили. Должно быть, из-за замка и не уехали? Жалко стало добро бросать?
Лицо баронессы исказилось. Горевой бросился поддержать ее. Но она надменно отстранилась.
— Словом, так, господа хорошие! — Арташов поднялся, сдернул полевую сумку, оставив на лощеной библии пыльный след. — Насчет пособничества — это вам с другими придется объясняться. Я же реквизирую особняк для нужд армии.
Он повернулся, собираясь выйти. И — едва не сбил подошедшую вплотную Невельскую. Благодушное ее личико от волнения покрылось пигментными пятнами.
— Постыдитесь, молодой человек! — выкрикнула она. — Кому вы это говорите? Элиза — коренная петербуржка, из старинного прибалтийского рода. А Сергей Дмитриевич, если угодно знать, добровольно от нансеновских документов отказался, а значит, и от пособия. Впроголодь жил, а сохранил императорский паспорт в надежде вернуться на Родину. Что же касается подачек! Баронессу перед самой войной едва в гестапо не забрали за то, что евреев приютили. Да и в эту зиму спасло лишь то, что на свои средства содержит пансионат для девочек-сирот. На свои, понимаете?!
— Чьих сирот? Небось, фашистского офицерья? — брякнул Арташов, всё еще в запале.
— И офицеров тоже! — в тон ему подтвердила баронесса. — Сироты, они потому и сироты, что без родителей остались.
Она указала на одно из окон.
— Извольте сами полюбопытствовать!
Арташов неохотно кивнул Сашке. С презрительной миной тот прошел к указанному месту, отдернул штору. Всмотрелся.
— Мать честная! Товарищ капитан! — он приглашающее отодвинулся.
Арташов выглянул наружу.
Внизу, на аккуратной зеленой полянке, меж цветущими белоснежными яблонями, были густо натянуты бельевые веревки. Вдоль них, перебирая руками, передвигались в разные стороны полтора десятка худеньких девочек в одинаковых серых платьицах и белых фартучках, с черными повязками на глазах. Проходя мимо друг друга, они старались дотронуться одна до другой и, если удавалось, выкрикивали радостно: «Gehascht! Gehascht!» (Загасила! Загасила!). Увлеченные игрой, они задорно перекрикивались. Подле резвящихся девочек прохаживались две женщины-смотрительницы — в строгих длинных платьях из синей ткани.
— В салочки играют, — пробормотал Сашка. — Только почему-то все водящие.
В этот момент одна из девочек, заигравшись, неловко сбила повязку с лица подруги. Подоспевшая смотрительница подняла повязку с травы и, надевая, приподняла детское личико за подбородок. Арташов разглядел вскинутые к небу пустые глазницы.
Сашка ткнул пальцем в угол полянки, где на витой скамейке, в такой же одежде и с такой же черной повязкой на глазах, сидела четырехлетняя белокурая малышка. С безучастным выражением лица она гладила ладошкой устроившегося на коленях карликового пуделя.
Арташов почувствовал спазм в горле. Он ухватил ладонью собственное лицо и принялся яростно растирать.
— Что это? — не оборачиваясь, выдавил он.
— Сами изволите видеть, — сзади подошел Горевой. — Слепые девочки. Жертвы бомбардировок… Английских бомбардировок, — поспешил уточнить он. — Рюген, видите ли, — особый остров. Здесь ведь заводы, «Фау» делали. Так что перепахан изрядно. Нас-то почти не коснулось. А вот в срединной части… После первых бомбежек ездили, смотрели, чем помочь. Сначала одну выжившую подобрали, другую. А потом уж по острову прокатилось, и — отовсюду повезли. Не отказывать же! Учим их. Стараемся как-то приспособить к жизни. Ведь, считай, все сироты.
— Возраст? — скупо уточнил Арташов.
— От четырех, — Невельская показала на девочку на скамейке, — до… — она сделала едва уловимую паузу, — тринадцати лет. Так что вряд ли солдатам будет удобно в таком обществе. Тем более и с продуктами у нас теперь, сами понимаете… Урезаем всё, что возможно.
— Потому и не уехали, — догадался Арташов.
Баронесса высокомерно смолчала. Гордо подобрался Горевой. Лишь Невельская подтверждающе закивала:
— Как же тут уедешь? Кому теперь до них? Вот передадим с рук на руки оккупационным властям, а тогда уж, если бог поможет… Так, Лиза?
Баронесса фыркнула:
— Надеюсь, с детьми-калеками ваша благословенная власть всё-таки не воюет?
Арташов ощутил смятение.
Они всё понимали. Беглецы, ярые, непримиримые, даже не умеющие скрыть своей ненависти к советской власти, они не могли не знать, что грозит им. И всё-таки остались. Это был их выбор.
— Так как же, господин капитан? — Горевой потрепал Арташова за рукав. — Ведь все свободные комнаты отданы девочкам. Может быть, всё-таки где-нибудь по соседству?… Многие уехали. Тут в пяти километрах есть очень приличное пустующее имение…
— Нет, — отрезал Арташов. — У меня приказ разместиться вблизи побережья. Да и не гнать вам нас надо, а, напротив, самим зазывать. Следом движутся войска. А мы для вас безопасней прочих. Всё-таки ваши такую в Союзе глубокую борозду пропахали, что теперь наши дорвались и в запале не разбирают.
Конечно, Арташов не сказал и десятой доли того, что знал.
Как и по всей Германии, для мирного населения Померании наступили дни жуткого возмездия за чужие вины. Грабежи, изнасилования, поджоги, убийства стали обыденностью. Заполучить на постой командира считалось огромной удачей. Матери торопились подложить дочерей под офицеров, дабы избежать надругательства со стороны солдатни! Не остановил волну насилия и приказ командующего 2-м Белорусским фронтом Рокоссовского о расстреле на месте за мародерство. Угроза смерти лишь добавляла возмездию сладостности.
— В общем, прикиньте, где всё-таки сможете нас разместить, чтоб не тревожить… — Арташов показал на поляну.
Невельская вопросительно скосилась на подругу. Та кивнула.
— Вам, само собой, освободим комнату в доме, — сориентировалась Невельская. — А для нижних чинов — в задней части имения есть каретный ряд и людская с сеновалом.
Горевой заметил, как при слове «людская» поморщился капитан.
— Нет-нет. Всё очень пристойно. И места на всех достанет, — поспешил он. — Там прислуга прежде жила.
— Что, разбежались со страху?
— Нечем стало платить, — объяснил Горевой, вызвав гневный взгляд баронессы. Вообще, похоже, бедному управляющему крепко доставалось от строптивой хозяйки.
— Матрасов в избытке, а вот простыней, боюсь, не хватит, — расстроилась Невельская.
На слово «простынь» Сашка отреагировал нервным смешком.
— Думаю, без простыней мои разведчики выживут, — по лицу Арташова впервые проскользнуло подобие улыбки.
— Этого нельзя, — баронесса позвонила в колокольчик. Вошла дебелая, за сорок лет, женщина в передничке. Несмотря на возраст, она бы и сейчас выглядела эдакой сдобной пампушкой, если бы не угрюмое выражение округлого лица.
— Глаша, голубушка! — обратилась к ней баронесса. — Посмотри, что мы можем найти из простыней для солдат.
Служанка неохотно кивнула. Арташов, заинтересованный, остановил ее:
— Из репатриированных?
— Еще чего? — буркнула та.
— Не обижайтесь. Глаша у нас человек необщительный, но верный, — вступилась баронесса. — Она из тамбовских крестьян, из имения покойного мужа. У меня в услужении с пятнадцатого года.
— Ишь ты, — в услужении! — Сашка, плотоядно поглядывавший на горничную, перегородил ей дорогу. Браво приосанился. — И охота на чужбине на барыню гнуться? Осталась бы на Родине, сейчас бы сама себе госпожой была.
Глаша поджала губы и, не ответив, вышла.
— Тоже не любит, — буркнул уязвленный Сашка. — Под себя воспитали!
— А ты чего ждал, чтоб здесь Маркса изучали?! — рыкнул вдруг Арташов. — Марш к роте, историограф хренов!
В секунду с чуткого Сашки смыло вальяжность. Опасливо косясь на командира, он припустил к выходу. Следом двинулся Арташов.
Горевой напоминающе подкашлянул. Баронесса, недовольная подсказкой, уничижительно свела брови.
— Сударь, — остановила она Арташова. — Обычно мы едим с воспитанницами. Но сегодня для нас накроют отдельно, в гостиной. И поскольку нам придется привыкать друг к другу, приглашаю вас к обеду, господин?.. Я не разбираюсь в этих ваших звездочках.
— Капитан, — услужливо подсказал Горевой.
— Вообще-то меня Женя зовут, — представился Арташов.
Старшина Галушкин, которому приказали получить постельное белье, плутая, вышел в сад за особняком. На скамейке спиной к нему недвижно сидела белокурая девочка, видимо, о чем-то задумавшаяся. Сердце Галушкина, истосковавшегося по детям и внукам, наполнилось теплом.
— Хенде хох! — подкравшись сзади, шутливо гаркнул он.
Девочка испуганно подскочила, вытянула вперед руки и, неуверенно переступая ножками, побежала по поляне. Через несколько метров споткнулась и упала на живот. Но вместо того, чтоб снова подняться, обхватила голову ручонками и затихла.
Проклиная себя за дурацкую шутку, Галушкин подбежал, подхватил ее.
— Да ты чо, доча, — как можно ласковее проговорил он. — Пошутил я нескладно, бывает. Такой вот дурень старый.
Он поперхнулся, — только теперь разглядел плотную темную повязку на ее глазах. При звуках незнакомой речи девчушка в страхе забилась в его руках. Галушкин прижал ее к себе, шершавой ладонью огладил головку:
— Ну, ну, не бойся, доча. Не обижу.
Сердце его колотилось от жалости. Не спуская ребенка, уселся на скамейку. Принялся отряхивать ее оцарапанные коленки.
— Ах ты, щегол подраненный. Как зовут-то? Я есть дядя Галушкин.
— Голюшкин! — непонимающе повторила девочка. Уловив заботливый тон, она слегка успокоилась.
— Ну да. Фамилие такое, — обрадовался обретенному взаимопониманию старшина. — Зовут Иван Иванычем. Можно Ваня. А ты? Ну, это… их намэ.
— Роза, — ответила девочка
— Ишь ты, навроде цветка, — Галушкин наморщил лоб, соображая, о чем бы спросить.
— Родители-то живы? Это… фазер, мутер?
Девочка заплакала.
— Какие еще мутеры? — послышалось сзади. С охапкой белья с черного хода вышла Глаша. — Поубивали ихних мутеров.
Галушкин неохотно ссадил девочку с колен, поднялся.
— Вот ведь какое время! — заискивающе произнес он. — Такую кроху не пожалело. Да, горе, оно всем горе: что правым, что виноватым. А ты, вроде, наша, русская?
— Русская, — грубовато подтвердила Глаша. — Но не ваша… Держи! Всё, что нашли на вашу ораву.
Не церемонясь, она сбросила белье на мужские руки. Галушкин уловил забытый запах стираных простыней:
— Чего это? Нам?
Недоверчиво зарылся щетинистым лицом в простыни.
— Мать честная, — умилился он. — И впрямь, похоже, войне конец.
Глава 3. Петербуржцы…
И, поправить ничего не в силах, Режет душу вечная мольба. Родина моя, ты вся в могилах, Как хватает места под хлеба?В гостиную на втором этаже Арташов вошел с опозданием в несколько минут, когда остальные уже сидели за накрытым столом. Баронесса не преминула с укором скользнуть глазами по циферблату массивных напольных часов.
Неудовольствие ее, впрочем, было больше показное, — уж больно ладно скроенным выглядел молодой офицер в пригнанном кителе с четырьмя орденами и тремя нашивками за ранения.
Заметное впечатление произвел он и на Невельскую. Та невольно принялась оправлять седоватые букли. Горевой же, не отрываясь, прилип взглядом к орденам. Даже Глаша, застывшая у сервировочного столика, забывшись, приоткрыла рот от любопытства. Оказавшись в перекрестье внимания, Арташов зарделся.
Похрумкивая сапогами по паркету, он поспешил к свободному месту, оглядел стол перед собой. Справа и слева от тарелки лежало по три серебряных, разной формы ножа и вилки. Обращаться с ножом и вилкой Женя умел. Но только с одним ножом и одной вилкой, — в питерских ресторанах и один-то нож не каждый раз подавали. Поэтому разобраться, какие из приборов предназначены для закусок, а какие для рыбы или мяса, выглядело для него делом безнадежным. В некотором замешательстве он поднял голову и успел перехватить нацеленные взгляды, — оказывается, ему уготовили испытание.
Смущение разом ушло, — лицо гостя, дотоле опечатанное напускной суровостью, сделалось по-мальчишески лукавым. А затем, к всеобщему изумлению, Арташов беззаботно расхохотался.
Заразительный и очищающий, словно ливень в засуху, басистый смех смыл напряжение за столом. Горевой, довольный, что не ошибся в незнакомом человеке, охотно засмеялся следом. Мелко, смущенно прикрывая рот, захихикала Невельская. Лишь баронесса удержалась, но лучики, задрожавшие у глаз, выдали и ее.
Арташов сгреб по два ножа и вилки, отложил в сторону:
— К чему понапрасну пачкать?
— И то верно, офицерам на войне не до изысков, — поддержал Горевой. Из солидарности с Арташовым он отложил и собственные лишние приборы. — Тем паче нынче не до разносолов.
Он кивнул на скупо накрытый сервировочный столик.
— С продуктами и впрямь трудно стало, — пожаловалась Невельская. — Сергей Дмитриевич едва не каждый день ездит по поставщикам. Но чем дальше, тем хуже.
— Никто на марки не отпускает. Только по бартеру. Как у нас в России говорили, — баш на баш.
Горевой взвесил отложенное столовое серебро в воздухе:
— Как раз дня на два.
Баронесса насупилась, — похоже, всякое напоминание о нужде для этой гордячки было невыносимо.
— Да разве только в деньгах дело? — исправился Горевой. — К примеру, обувь у девочек поистрепалась. И где прикажете доставать? Так, представьте, по вечерам беру дратву, суровую нитку и — пошло. Так, глядишь, и специальность башмачника освою. Будет на кусок хлеба в старости.
Он, единственный, засмеялся. Потянулся к графину:
— Ну-с, по-офицерски, водочку?
Арташов согласно кивнул.
По знаку баронессы Глаша налила ей и Невельской вина. После чего принялась раскладывать незатейливый салат.
— Глаша у нас искусница, — похвасталась Невельская. — Иной раз вроде и не из чего, а глядишь, — стол накрыт. Ей хоть кашу из топора поручи сделать — сделает.
От похвалы полнолицая Глаша зарделась.
— Вот и слава богу. Значит, мои солдаты тоже с голоду не перемрут, — невинно произнес Арташов.
Хозяева встревоженно встрепенулись, принялись переглядываться, — похоже, мысль о необходимости кормить незваных постояльцев не давала покоя.
— Шутка! — успокоил их Арташов. — У нас свое довольствие. Еще и Глаше поможем. Во всяком случае, топор для каши всегда найдем.
Обрадованный Горевой поспешил приподнять рюмку:
— Тогда за добрососедство прежней и нынешней России? Выпили. Мужчины, как положено офицерам, залпом, женщины пригубили.
— Откуда вы знаете немецкий, Женя? — придвигая тарелку, полюбопытствовала Невельская.
— Я на фронт с третьего курса Ленинградского иняза ушел.
Ответ этот вызвал неожиданное оживление.
— Выходит, здесь все петербуржцы, — с легкой улыбкой пояснила баронесса.
— Я подумал, вы немка, — повинился Арташов. — Раз Эссен.
Баронесса промокнула рот салфеткой.
— Что ж, что Эссен? Великий род, занесенный в Готский альманах. Между прочим, мой муж, как и множество его предков, погиб, сражаясь за Россию. Кстати, в ту самую мировую войну, которую вы отчего-то не признаете, — не удержалась она от язвительности. — Они с Сергеем Дмитриевичем на одном корабле служили. Вместе и тонули. Только Сергею Дмитриевичу удалось спастись.
Горевой сгорбился.
— Да, повезло, — подтвердил он. — Меня после прямого попадания взрывной волной в воду швырнуло. Ну, и поплыл себе. Как говорится, не приходя в сознание. Я ведь из первых пловцов на Балтфлоте был. Призы на дальность брал. Как-то по майской воде на пари пять километров отмахал. И ничего — вылез, обтерся, спирту внутрь и — опять вперед, за орденами. Если б его хоть вместе со мной выбросило. Пусть каким угодно увечным. Видит бог, вытащил бы, — он заискивающе глянул на баронессу. Похоже, безвинную эту вину нес годами. — А так, кроме меня, всего восемь человек подобрали. Это с эсминца-то!
Он вновь потянулся к графину:
— Эх, были когда-то и мы рысаками! Выпьем в память погибших за Родину!
Не дожидаясь остальных, опрокинул стопку.
Арташов приподнял свою. Он жадно вглядывался в этих чужаков, трогательно тоскующих по родине, по которой тосковал и он сам, и отчаянно силился понять, откуда же берет начало та незримая, но непреодолимая борозда, что отделила их друг от друга.
Смущение легко читалось на его лице.
— Где мужчины, там непременно о войне, — Невельскую занимало совсем иное. — Будет уже. После стольких лет довелось встретить петербуржца. Может, еще и соседи? У моих родителей квартира была на Васильевском острове. Малюсенькая, правда, пятикомнатная. Но сейчас издалека она видится мне такой милой. А вы где живете?
— У меня квартирка, конечно, побольше вашей — на двадцать шесть комнат, — Арташов сдержал улыбку. — Правда, и соседей соответственно — пятнадцать семей. Коммуналка называется. Доводилось слышать?
Хозяева озадаченно переглянулись.
— Пожалуйста, расскажите нам про нынешний Петербург! Что там? — взмолилась Невельская.
— Я не был в Ленинграде с начала войны, — Арташов помрачнел. — Слышал, город сильно разрушен. Хотя центр: Исаакий, Невский, Фонтанка, — говорят, удалось сохранить.
— И на том слава богу! — баронесса перекрестилась.
Невельская, стремясь развеять установившееся меланхолическое настроение, всплеснула ручками.
— Фонтанка! Невский! Слова-то какие! Элиза! А помнишь Павлика?.. Ну, того юнкера, что прямо посреди Фонтанки застрелиться грозил, если замуж за него не пойду? И ничего! Не пошла.
— Не жалко было? — подначил Арташов.
— Жалко, что соврал и не застрелился! — Невельская беззаботно рассмеялась. — Слава роковой женщины по всему Смольному бы пошла.
— Этой славы у тебя и без того хватало, — баронесса показала Глаше на опустевший бокал.
— В самом деле, — согласилась Невельская. — Я ведь, знаете ли, приметная была. Зимой, в белой шубке, в сапожках на каблучке. Шлейф из поклонников. Ух! Помнишь, Элиза, ты еще пеняла мне за легкомыслие?
— Да, огонь, — подтвердила баронесса.
— Тогда казалось, так будет всегда, — Невельская погрустнела. — А нынче одно легкомыслие и осталось.
Но природная веселость не давала Невельской надолго впасть в уныние:
— А у вас, Женя, тоже, поди, первые увлечения связаны с Петербургом? Небось, многим головки такой красавчик вскружил. Ну, как на духу. Наверняка какая-нибудь зазноба осталась? — она задорно подмигнула остальным.
— Невеста, — коротко ответил Арташов, интонацией предлагая поменять предмет разговора. Но отделаться от любопытной старушки оказалось не так просто.
— И как познакомились? — от нетерпения Невельская аж заерзала на стуле.
— На Гороховой, в период белых ночей. Она порхала, — лицо Арташова потеплело. Улыбнулся непонимающим взглядам. — Все вокруг шли, а эта — порхала. Оттолкнется — взлетит-приземлится. Понял, что если упущу, то — улетит. Вот и поймал на лету. Думал — навсегда.
Он сбился.
— Конечно, навсегда. Теперь уж недолго ей ждать! — утешила его Невельская. — Вот вернетесь, и, как на Руси говорили, честным пирком да за свадебку.
Она наконец обратила внимание, что гость приуныл. Неуверенно закончила:
— Ведь ждет?
— Не знаю, — Арташов склонился над тарелкой.
— Какие вы всё-таки, мужчины! Недоверы, — рассердилась Невельская.
— Наверняка ждет, — баронесса приподняла бокал. — А в моей судьбе, знаете, Гороховая тоже знаковая улица. Да! Именно там на одном из балов ко мне подошли два морских офицера. Оба претендовали на танец. Не сразу выбрала. А выяснилось — выбрала судьбу. Припоминаете, Сергей Дмитриевич? — разогретая вином, неожиданно подмигнула. — Вот только выветрилось, где этот бал был? Кажется, какое-то страховое общество? Подводит память. Зарастает лопухами.
— И впрямь подводит, — буркнул Горевой. — Здание ныне знаменитое. Большевики там ЧК разместили. Сейчас, должно быть, то же самое?
— Теперь это называется НКВД, — уточнил Арташов.
Оживление спало. Словно зловещая тень просквозила над столом. Баронесса пасмурнела.
— Всё отняли, сволочи, — процедила она. — Имение, особняк, фабрику. Всё потеряла.
— Элиза, — Невельская тихонько указала на гостя.
Арташов сидел, укрыв лицо ладонями.
— А Вы, Женя? — спохватилась баронесса. — Тоже, должно быть, многое в эту войну потеряли?
— Тоже, — через силу подтвердил Арташов. Он отвел руки от закаменевшего лица. — Родители и сестренка у меня в блокаду умерли.
— Господи, господи! Сколько горя! Неужели никого не осталось? — голос Невельской задрожал от слез. — Но вот сами же говорите, — невеста. Вернетесь к ней. Как-то наладится.
— Да не к кому возвращаться! — вырвалось у Арташова. — Она в оккупации оказалась. Потом следы затерялись… Так что, как видите, господа, разные мы с вами потери считаем, — мертвым голосом закончил он.
За столом установилось сконфуженное молчание.
— Дай бог, сыщется, — пробормотала Эссен. — И извините, что невольно растревожила.
Но признавать вину она не привыкла. Взгляд задиристо заблестел.
— Но, раз уж коснулись, — отчего умерли ваши близкие?
— А вы не знаете, отчего в блокадном Ленинграде умирали? — в висках Арташова запульсировало. С ненавистью оглядел стол. — От голода, видите ли. Там сотнями тысяч погибали. Погибали, а город фашистам не отдали!
— А могли отдать? — невинно уточнила баронесса.
— Кто?
— Петербуржцы. Родители ваши, сестренка. Их кто-то спросил? Выбор у них был? Могли они собраться на Сенатской площади и сказать: мол, не хотим умирать. Или выпустите нас, или сдайте город.
— Да кто б такое сказал?! — вспылил Арташов.
— А сказал бы кто, что было? — упорствовала баронесса.
Арташов отвел глаза, — и так ясно, что было бы.
— То-то и оно, — мягко констатировала баронесса. — Погибать — дело военных. А когда детей да стариков сотнями тысяч умерщвляют, а после объявляют это героической обороной, то не героизм это. А власть каннибальская, человеконенавистническая!
Арташов отер вспотевшие виски, — сколько раз представлял себе умирающих, бесполезно зовущих его на помощь близких. И всякий раз объяснял себе происшедшее жестокой целесообразностью, гоня мысль, что лютая смерть их есть следствие ротозейства и безразличия властей. И вот теперь ему в лоб говорят о том, о чем он даже думать себе не позволял. И говорят классовые враги! Оставить за ними последнее слово он не мог.
— Не вам о рабоче-крестьянской власти судить! — выдохнул он. — И о жертвах — не вам! Мы за нее эту войну вытянули. На жилах, а вытянули.
Невельская с упреком стрельнула глазками в баронессу.
— Полно вам, капитан! — умиротворяюще протянул Горе-вой. — За Россию вы сражались. Как и мы до вас. А уж каким режимом она сегодня болеет, — то второе. Она, голубушка, чего только не перенесла: татар, самозванцев. Дай бог, и нынешнее лихолетье перетерпит. Иначе — для чего всё было?
— Вы вот давеча Глашу пожалели, что на Родине не осталась, — не удержалась баронесса. — Так нам удалось прознать: вся Глашина родня была раскулачена и, кажется, сгинула в Сибири. А они крестьяне вековечные. Вот вам и рабоче-крестьянская власть.
Это было чересчур. Арташов до боли прикусил нижнюю губу, резко поднялся, кинул салфетку на скатерть.
— Благодарю за угощение! Пойду проверю, как там бойцы.
— Дрыхнут без просыпу, — сообщил Горевой, шутливостью тона стараясь загладить неловкость.
— Тем более и мне пора отдохнуть. Мы, видите ли, еще вчера в бою были.
В дверях Арташов обернулся.
— Я не могу обратить вас в нашу веру. Но сюда еще наверняка придут… другие службы. И я бы вам посоветовал впредь взвешивать, с кем и о чем можно говорить. За сим — честь имею! — он вышел, не поклонившись удрученным хозяевам.
— Ведь хороший, чистый мальчик, — прощебетала Невельская. — А общаемся будто через трещину в стекле. И видит, да не слышит.
— Это не трещина. Это разлом, — с обычной своей категоричностью рубанула баронесса.
Глава 4. Поэт и генерал
Как далеко до той весны, когда я видеть перестану противотанковые сны.Сколь сладостен победный сон! Никакого сравнения с обрывистым, клочковатым пересыпом меж боями и рейдами. Арташов провалился в него, едва рухнув на перину. И — будто оттолкнувшись от перины, как от батута, взмыл в небо и в полном одиночестве парил, недоступный земному притяжению. Задаваясь единственным вопросом: как же он раньше не пробовал взлететь? Ведь это, оказывается, так просто. В восторге от покорности собственных мышц он вытянулся в струнку, взмыл и выписал «бочку» — ничуть не хуже, чем «ястребки» в воздушном бою. Затем пропорол влажное облачко и едва увернулся от планирующей девушки с длиннющими волосами, распущенными над обнаженным телом, будто огромное смоляное крыло.
— Маша! — потрясенный Арташов едва не сорвался в штопор.
Девушка, зависнув в воздухе, выжидательно улыбалась.
— Машенька! — не веря себе, он подлетел к ней поближе. — Так ты всё-таки жива? Я знал, что жива. Скажи лишь, где ты? Хоть намекни.
Маша игриво подманила его пальчиком. Но в это время сверху послышался жуткий вой сирены «юнкерса».
— Воздух! — истошно закричал Арташов, втолкнул перепуганную Машу в ближайшую тучку, развернулся, изготавливаясь к обороне.
Из облака с автоматом наперевес стремительно спикировал Сашка с его неизменным:
— Товарищ капитан!
— В рыло рюхну! — сквозь сон пробормотал Арташов.
— Просыпайтесь, товарищ капитан! — Сашка не отступался, продолжал трясти командира. — Там Полехин!
— Что? Опять во сне кричал? — Арташов с полузакрытыми глазами сел на кровати.
— Командир корпуса приехал! — повторил Сашка, извиняющимся голосом давая понять, что, будь это кто-то хоть чуток ниже рангом, никогда бы он не позволил себе потревожить командира. Но — генерал всё-таки!
— Где?
— С буржуазным элементом беседует, — подавая гимнастерку, наябедничал Сашка.
Когда через несколько минут Арташов, застегивая на ходу воротничок, вошел в гостиную, командир 108-го стрелкового корпуса генерал-лейтенант Полехин мило общался с баронессой Эссен и Невельской. Дородное тело комкора провалилось в мягком кожаном кресле. Дымящаяся чашка с чаем затерялась в огромной лапище.
— Товарищ генерал! — Арташов вытянулся.
Мясистое, в тучных родинках лицо Полехина при виде подчиненного приобрело недовольное выражение.
— Сладкий видок! — оборвал он рапорт. — Разгулялся на хозяйских харчах. Даже караульное охранение выставить не удосужился. Не рановато ли расслабился? Иль забыл, что война еще не кончилась?
— Как же, забудешь тут, — обиделся Арташов. — У меня только вчера двое погибли. В том числе последний офицер.
— Не у тебя одного, во всем корпусе потери. Дорого нам этот Рюген дался, — Полехин нахмурился. — Что зыркаешь? Думаешь, сотни на смерть послать легче, чем двоих?
— Полагаю, легче. Вы эти сотни на корпус делите. А у меня они считанные.
— Ишь, каков! — Полехин оборотился к притихшим дамам, приглашая их оценить дерзость подчиненного и собственное, генеральское долготерпение. Но в глубине суровых глаз проблескивали лукавые лучики. Эти хорошо знакомые Арташову лучики стирали с тяжелого лица простецкое выражение, за которым прятался очень умный и наблюдательный, битый-перебитый жизнью мужик.
В дверь протиснулась потеющая от страха физиономия старшины Галушкина, из-за спины которого выглядывал Горевой. Полехин поманил Галушкина пальцем.
Старшина выдохнул и, старательно чеканя шаг, двинулся к генералу. В левой его руке вверх-вниз ходил зажатый в кулаке лист бумаги.
— Давай, давай, — поторопил Полехин. Пробежал глазами содержимое листа.
— Десять килограмм шоколада? — переспросил он с показной суровостью. — Не слипнется?
Старшина в ужасе сглотнул.
— Так мал мала ведь, товарищ генерал, — горячо зашептал он. — Глядеть больно, какие тщедушные!
— Рассчитали, как вы и приказали, на неделю, — дополнил Горевой, под взглядом генерала браво подтянувшись.
— Тушонки пару ящиков вписать? Или лишним будет? — шутливо обратился Полехин к Невельской.
— Не-не-не! — Невельская, утратив дар речи, затыкала пальчиком в докладную. — То есть непременно.
Полехин, вошедший в роль благодетеля, выдернул из кармана самописку, начал было писать, раздраженно потряс ее и лишь после этого сумел вписать строку.
— Так. А тут что? «60 пар женской обуви малых размеров». Это непросто будет. Но поищем. Поглядите, ничего не упустили?
Он показал содержимое Горевому. Тот, плохо скрывая волнение, коротко, по-военному, кивнул.
Полехин подтянул требование, вывел наискось: «Начальнику АХО. Где угодно изыскать и выдать. Об исполнении доложить».
Подписанное требование протянул старшине:
— Завтра же получить!
Перевел строгий взгляд на Арташова:
— Сами догадаться не могли… Пойдем-ка, прогуляемся к морю, капитан.
С видимой неохотой Полехин выкарабкался из обволакивающего кресла, с галантностью гиппопотама склонился перед дамами:
— Спасибо за чай. Насчет сирот ваших позаботимся. А пока, считайте, оставил вас под охраной.
— Главное, чтоб не под конвоем, — сострил Горевой. На него скосились.
Полехин нахмурился.
— Конвой — это еще заслужить надо, — значительно отшутился он. — А про вас мы пока знаем, что делаете доброе дело. Вот и продолжайте.
— Спасибо, генерал, — баронесса поспешила загладить неловкость. — Вы здесь всегда желанный гость.
— Надо думать, — ироническую улыбку Полехина разглядел лишь идущий следом Арташов. Он же, единственный, успел заметить радостное рукопожатие Невельской и Горевого, — генеральская благосклонность стала для них нежданной индульгенцией.
На крыльце с автоматом наперевес застыл Петро Будник, у калитки — в плащ-палатке старательно тянулся в струнку Магометшин, — караулы были расставлены.
Покряхтывая, Полехин прошествовал к воротам, за которыми обстукивал колеса генеральского «мерседеса» водитель. В стороне, привалившись к металлической решетке, переговаривались двое охранников. При виде генерала все трое выжидательно вытянулись.
Но Полехин, отмахнувшись, в сопровождении Арташова пошел к берегу.
Море открылось сразу, едва вышли из кустарника в дюны.
Полехин прошел к огромному, заросшему валуну у края невысокого обрыва, ощупал мох на поверхности камня, уселся. С сапом втянул в себя пропитанный йодом воздух. Вгляделся в волны, что с глухим рыком лизали побережье острова.
— Балтика! — протянул он. — Слышь, Арташов, как рычит. Не любит нас с тобой. Ничего! И пес побитый порыкивает. А после ластится к новому, понимаешь, хозяину. Побили — теперь приручим!.. Чего озираешься?
Арташов встрепенулся, поймав себя на том, что краем сознания изучает открытую местность вокруг, прикидывая, где можно укрыть генерала в случае опасности. Поймал — и сам себе изумился: прятаться больше было незачем. Но подсознание продолжало воевать.
— Ты, кстати, хоть знаешь, в чьем доме оказался? — полюбопытствовал генерал.
— Знаю.
— Зна-аю! — передразнил Полехин. Озадаченно потряс залысой головой. — Всё-таки любопытные коленца жизнь отхватывает. В Первую мировую германский флот в Финский залив пожаловал. В Петроград захотели прорваться. А знаешь, что спасло город, а считай, и революцию? Не смогли преодолеть минно-артиллерийскую систему, разработанную адмиралом Эссеном. А вот теперь мы с тобой вышли на германскую Балтику. И в кого утыкаемся? Опять в фамилию Эссен, от революции сбежавшую. Такая вот круговерть судеб в природе.
Он огладил крутой, в складках затылок.
— Ты-то как к ним угодил? Других домов, что ли, не было?
— Сами видели. Поблизости ничего.
— Положим, видел. Хотя, если и были, тебе б наверняка этот достался. Вот если по всему побережью, — он повел лапищей, — одну-единственную коровью лепешку оставить, ты в нее как раз и угодишь.
По раздражению, овладевшему генералом, Арташов сообразил, что разговор затеян неспроста.
Полехин вытащил из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, протянул подчиненному:
— Твоя работа?
Даже не развернув, Арташов узнал потерянный листок.
— Видно, когда в штабе был, из сумки выпал, — объяснился он.
— Это что, семечки, чтоб выпадать?! — рявкнул Полехин. — Вслух читай.
Арташов уныло вздохнул:
— Порой мне кажется: Она рожала не меня, А мир, в котором есть страна Из крови и огня. Уж лучше б спрятаться в подол, Не видеть и не знать Тот многоликий произвол, Что подарила мать.— Товарищ генерал! Тут ничего крамольного. «Страна из крови и огня», — так война же.
— А многоликий произвол — конечно, Гитлер, — в тон ему догадался Полехин. — Ты это попробуй особистам объяснить. У них отобрал. А если в следующий раз меня не окажется?
Оглядел унылого подчиненного:
— Допустим, не можешь не марать бумагу. Прет изнутри. Понимаю, с природой не поспоришь. У самого иной раз поносы бывают. Так пиши как все люди: о зверствах фашистов, о матерях, не дождавшихся сыновей, о подвигах. Да хоть о разведчиках своих. Вы ж такого повидали, что другому писаке ста жизней не хватит, чтоб осмыслить. А у тебя под рукой. И главное — всё по правде будет.
— Всё, да не всё, — пробормотал Арташов. Под подозрительным генеральским взглядом опамятовал.
— Не получается у меня так, товарищ генерал.
Полехин от души ругнулся:
— Потому что мозг у тебя с вывертом. Знаешь, почему так и не стал Героем?
— Не достоин.
— Поязви еще. Мне доложили после. Потребовал вписать Будника?
— Без Будника не добыли бы ни документов, ни штабиста того! Он его на себе два километра по снегу волок. И потом, обмороженный, раненый, нас прикрывал!
— Да Буднику твоему за счастье было, что ты его, гопстопника, из штрафбата вытащил! А уж чтоб бывшего зэка в Герои! — Полехин в сердцах пристукнул лапой по валуну. — Неужто не соображал, чем для тебя самого обернется?
— Несправедливо это было, товарищ генерал.
— Ишь, как! — Полехин озадаченно потеребил пористый нос. — Как же ты такой дальше-то будешь?
Крупные белые зубы Арташова обнажились в беззаботной улыбке:
— Ничего! Уж если в войну пронесло!
— Так в войну таким как ты выжить легче, — Полехин не принял облегченного тона. — Я, собственно, с этим заехал. Перевожусь в Москву, в Генштаб, — он отмахнулся от поздравления. — Хочу взять несколько самых надежных. С которыми от и до прошел. А ты подо мной с сорок второго. Разведчику в штабе всегда дело найдется. Короче, времени для сбора не даю. К вечеру пришлю замену. Сдашь роту и — сразу в корпус. Утром вылет.
Он грозно, дабы пресечь возражения, вперился в подчиненного. Но тот очень знакомо упрямо покусывал нижнюю губу.
— Хочу всё-таки демобилизоваться, товарищ генерал, — буркнул Арташов.
— С этим, что ли? — обозленный Полехин тряхнул листком. — Вот тебя с этим на гражданке и «закроют»! Думаешь, если Германию победил, так круче всех стал? Ан нет. Случись что, заслуги не помогут. Потому что вины награды всегда перевесят. А твои вины, — он вновь обличающе потряс листком, — из тебя сами прут.
— А может, теперь там другие? — протянул Арташов. — Всё-таки такую войну прошли.
— Это мы с тобой прошли!
Генерал снял фуражку, большим платком протер изнутри — он сильно потел, и по канту образовывалась засаленная кромка.
— Да ты пойми, дура! — рявкнул он. — С твоим норовом армия для тебя и крыша, и мать родная. Да и я, если что, подопру.
Арташов сконфузился.
— Всю жизнь под вами не просидишь, товарищ генерал. И потом, Вы же знаете, я обещал разыскать.
Он решился:
— Разрешите обратиться по личному вопросу?
— Опять насчет своей девки? — Полехин поморщился. Дождался подтверждающего кивка.
— Надо же, — так и не выкинул из головы. Ведь пол-Европы прошли. Ты на себя глянь, — каков гусар. Мадьярки да полячки, поди, головы посворачивали. А? Неужто ни одной не перепахал?
Арташов отвел смущенный взгляд.
— То-то, — с удовольствием уличил комкор. — Так чего ж тогда дуришь?
— Я, товарищ генерал, в батю — однолюб, — Арташов упрямо напрягся. — Одна она для меня. Если не разыщу, больше такой не встречу. И потом, я докладывал, — она нам жизнь в сорок третьем спасла.
Полехин в раздражении оттопырил сочную нижнюю губу.
— Товарищ генерал! Вот был случай, чтоб вы мне поручили, и я не выполнил?
— Ну, ты меня еще шантажировать будешь, — комкор нахмурился. — Сам помню, что обещал. Только почем знаешь, что она в Германии?
Арташов оживился.
— Точно не знаю. Но если жива, то здесь.
Под пытливым взглядом Полехина он сбился, потому что даже теперь, спустя два года, не мог бы, не покривив душой, рассказать обо всех обстоятельствах той последней встречи с Машей.
Глава 5. В тылу врага
Давай обнимемся с тобой, и пусть печаль тебя не гложет — еще главой я не поник. Там, за брезентовой стеной, мне выжить, выдюжить поможет, быть может, наш прощальный миг.Курская дуга. Советские и германские войска застыли в противостоянии, готовые броситься друг на друга. Но кто, когда, где начнет? Штабы задыхались без информации. Нужны сведения. Языков. Языков! Любой ценой.
Разведка работала без устали. На цену не скупились, платили как всегда щедро — жизнями. Но результат низкий. Обе стороны в прифронтовой полосе сторожатся. Меры безопасности удвоены, утроены.
В безуспешных вылазках потерял четверых поисковиков и командир взвода дивизионной разведки лейтенант Арташов.
После очередной неудачи он предложил руководству дерзкую акцию — пройти прифронтовую полосу, углубиться в тыл противника на 60–70 километров, к городу Льгову, где, по оперативным данным, размещались тыловые службы немцев. И уже там, в районе железнодорожного узла, добыть ценного «языка». Добро было получено. И группа в составе трех человек, преодолев прифронтовую полосу, углубилась в немецкий тыл.
Схитрил лейтенант Арташов. Потому что все аргументы, приведенные им в пользу маршрута на Льгов, были полуправдой. Истинная же, невысказанная правда заключалась в том, что в пяти километрах от Льгова находилась деревенька Руслое, где проживала Машина мать, у которой гостили они вдвоем в сороковом. В июне сорок первого, сдав курсовые экзамены, Маша вновь уехала на месяц в Руслое. В Питер она не вернулась. И если мать осталась под немцами, Арташов рассчитывал от нее узнать о судьбе пропавшей невесты.
За двухдневный марш-бросок группа, старательно обходившая шоссейные дороги и населенные пункты, совершенно вымоталась. Люди нуждались в отдыхе.
Арташова догнал новичок — Сашка Беляев.
— Отдышаться бы чуток, товарищ лейтенант, — прохрипел он. — Километров сто с гаком, считай, напетляли. Коснись заваруха, у Рябенького ноги не побегут.
В самом деле, третий — коренастый сержант Рябенький — едва поспевал за остальными. Взять его в глубокий рейд было ошибкой Арташова. Незаменимый в ближнем бою, коротконогий Рябенький быстро уставал. И теперь всё ощутимее становился обузой.
Арташов оглядел измотанных людей. Достал карту.
— На четыре километра вас еще хватит?
Сашка и Рябенький обнадеженно переглянулись.
— Тогда идем в деревню Руслое, — Арташов внутренне ликовал — его тонкий расчет сработал. — Я там бывал до войны. Живет знакомая старуха. У нее и отдышимся.
Он почувствовал невысказанное колебание подчиненных.
— Тихая, заброшенная деревушка. По сути, хутор. Ни немцев, ни полицаев там быть по определению не может. До утра оклемаемся и уходим на задание. Вопросы? Ответы на мои вопросы?.. Тронулись.
Но через полчаса в сумерках, на проселочной дороге, разведчики заприметили одинокую «эмку». Должно быть, что-то сломалось, потому что водитель копался под капотом. На заднем сидении разглядели пассажира в офицерской фуражке. Шофера Рябенький убил, даже не дав разогнуться, — коротким ударом ножа. После этого пожилой интендантский полковник, задыхаясь от паники, выложил всё, что знал: какие боеприпасы и продовольствие в какие части надлежит доставить в первую очередь. Несложный анализ услышанного позволял легко определить, когда и на каком участке фронта готовится первый удар. У Арташова аж дух заняло, — нежданно-негаданно в руки им легко упала стратегическая информация, добыть которую считалось за высшую, невиданную удачу. Закончив рассказ, полковник, жадно глотая воздух, достал портмоне, неловкими пальцами выудил из него семейную фотографию и с мольбой протянул Арташову. Не в силах видеть слезящиеся его глаза, Арташов кивнул Рябенькому и отошел.
Ему было искренне жаль больного старика. Обреченного на смерть, потому что провести добытого «языка» десятки километров по вражеским тылам было нереально. Задача изначально ставилась иначе — добыть, выпотрошить и уничтожить.
Заколотого астматика вместе с шофером оставили заваленными ветками в придорожных кустах в стороне от сброшенной в овраг «эмки».
Арташов заколебался. До захвата вражеского полковника маршрут на Руслое выглядел военной целесообразностью. Но теперь, груженные важнейшими, сверхсрочными сведениями, они обязаны были немедленно уходить подальше от рокового места, — ясно, что исчезнувшего полковника станут искать, и очень быстро обнаружат машину и тела. После чего начнется прочесывание. Будто он мог уйти, даже не попытавшись узнать о судьбе любимой.
И Арташов, подавляя сомнения, повел группу в прежнем направлении. Всё прибавлял и прибавлял шагу, заставляя задыхаться подчиненных и успокаивая себя тем, что в запасе достаточно времени. Только узнать что-нибудь о Маше и тут же уйти.
— Товарищ лейтенант… — осторожно напомнил о себе Рябенький. — Как бы нам это самое…
— Ничего, — перебил, стараясь выглядеть уверенно, Арташов. — Сейчас главное — маневр. Искать будут по прямой. А мы по дуге. Так что, подтянись, славяне!
Он прибавил ходу, ощущая себя последней сволочью.
Лесистая дорога к Руслому густо поросла по обочинам лопухами и подорожником. Сюда, похоже, и впрямь редко заглядывали, — на прибитой дождем пыли выделялся единственный след тележной колеи. Деревню они увидели на рассвете, с пригорка, выйдя на край березовой рощи. В узенькой, зажатой меж рощей и вялой речкой долине среди парящего тумана проглядывал десяток деревенских крыш. Из труб трех из них шел дымок, — деревня пробуждалась.
Арташов поднес к глазам бинокль, волнение его усилилось, — одна из «оживших» крыш принадлежала Машиной матери. Во дворе различил он телегу и привязанную подле колодца чалую лошадку, — очевидно, именно эта единственная телега и проложила обнаруженную на пустынной дороге колею. Возле остальных домов не было ни движения, ни голосов, — всё вымерло. Патриархальная тишина не нарушалась даже собачьим брёхом. Будто и не было рядом войны.
Арташов поднялся.
— Я спущусь на полчаса, — объявил он подчиненным. — Услышите шум, стрельбу, немедленно уходите. Главное, донести до наших полученные сведения.
Он пресек возражения и начал спуск с холма, быстро погружаясь в туманное молоко.
Дом оказался незапертым. Арташов шагнул в темные сени. Через щель разглядел женскую, в темном платке фигуру, нагнувшуюся с ухватом над печью. Он неловко переступил сапогами, пол заскрипел. Женщина испуганно оборотилась, машинально выставив ухват. Арташов приложил палец к губам, притворил изнутри дверь.
— Так-то Вы будущего зятя встречаете, — укорил он.
— Боже мой! Женька! — женщина медленно стянула старящий платок; обнажились стриженные смоляные волосы. Сердце Арташова порхнуло куда-то под горло, — перед ним в рваной, пропахшей навозом телогрейке стояла его Маша.
Война захватила ее в Руслом. Сначала отсиживались с матерью в деревне. Ждали, что вот-вот наши погонят врага. Когда же фашисты приблизились, начали готовиться к отъезду. Но накануне эвакуации мать тяжело заболела. Так оказались под немцем. Мать нуждалась в лекарствах, найти их в деревне было нереально. Перебрались во Льгов. Средств не было. Пришлось устроиться переводчицей в комендатуру. Выходить мать всё-таки не удалось. Здесь, на деревенском погосте, ее и похоронила. В деревню приезжала раз в два месяца приглядеть за могилкой и домом. Как раз накануне удалось выпросить те лег у.
— И партизан не побоялась? Они ведь, поди, тех, кто с немцами сотрудничает, не больно жалуют? — голос Арташова помимо воли наполнился обличительными интонациями.
Маша расслышала их, сжалась.
До сих пор они сидели за столом, переплетя руки. Она выпростала пальцы.
— Нет здесь никаких партизан. А то, что в комендатуре, так я ведь никого не предала. Или так, или с голоду подохнуть.
Зло прищурилась:
— Можно было, правда, еще в бордель. Всё выбирала, что для наших будет простительней. Как думаешь, не ошиблась ли?
Подкрашенные ноготки ее непроизвольно поползли по непрокрашенной доске, оставляя борозду.
— Но можно было, наверное, с подпольем как-то связаться, — неловко буркнул Арташов.
Лицо Маши исказила горькая усмешка.
— Вот и я поначалу такой же наивной дурой была. Да если и были подпольщики, их в первый же месяц повылавливали. Наверное, вроде меня специалисты, — невесело пошутила она. — Был поначалу партизанский отряд. Но я еще только подумала, а каратели его уже ликвидировали. Ничего не скажешь, ловко немцы работают.
Голос ее задрожал. Арташов почти физически ощутил, сколько боли и озлобленности скопилось в прежней открытой, порывистой девчушке, брошенной без всякой защиты на произвол судьбы и обреченной выживать как умела. Рывком притянул он к себе Машин табурет, прижал ее к себе. И — будто плотину прорвал. Уткнувшись ему в плечо, она разрыдалась.
— Видишь, как получилось, — давясь слезами, забормотала она. — Мечтала на фронт, бороться с захватчиками. А вместо этого им же и служу. Думаю, как наши освободят, попроситься санинструктуром. Только — возьмут ли? Или, наоборот, обвинят. Вот даже ты заподозрил. А там, кому еще объяснять придется. Не каждый вникнуть захочет.
— Ничего, родная, теперь прорвемся, — Арташов огладил подрагивающую головку как когда-то, когда совсем похоже рыдала она после незаслуженного «неуда» по истории политучений. И как тогда, склонившись к ушку, зашептал:
— Как я рад, что мне дано лишь тебя любить, и стучать в твоё окно, и цветы дарить, под дождем твоим стоять, под снегами стыть, безрассудно ревновать, тихо говорить: «Как я рад, что мне дано лишь тебя любить…»При первой же строчке Маша встрепенулась. Карие глазищи наполнились прежней восторженностью. Расстаться с ней, едва обретя?
Арташов вскочил.
— А зачем, собственно, дожидаться судьбы, если она, голубушка, в наших руках? «Зарницу» помнишь? Кроссы на значок ГТО?
— Ч-чего?
— До линии фронта сможешь дойти?
Маша, сглотнув, кивнула.
— Прямо сейчас!
— Господи! Да поползу.
— Тогда чего копаешься? Живо собирайся! — потребовал Арташов. — Через две-три недели, когда во Льгов придут проверялы, кукиш им достанется, — ты уже будешь числиться переводчицей в армейской разведке — за сотни километров отсюда.
— Женечка! — Маша ошарашенно глядела на жениха. — А тебе за это ничего?..
— Глупости! Знаешь, кто меня на задание послал? Ему слово сказать… — Арташов сорвал с вешалки куртку, протянул. — Только быстро. У нас счет на минуты. И на ноги что-то понадежней. В лесу прельщать некого.
Он с издевкой ткнул в модные полусапожки. Грозно свел брови.
— Или — передумала?
Маша метнулась переодеваться.
Дверь распахнулась. Вбежал Сашка.
— Немцы! Целый «Фердинанд». Въезжают в деревню.
Арташов простонал, — слишком складная выдавалась сказка. Еще и задание погубил.
— Так чего ты-то сюда приперся?! Я ж приказал уходить! — обрушился он на бойца.
— Я Рябенького отправил. Он настырный, дойдет, — Сашка, не обращая внимания на ругань, сноровисто выкладывал гранаты, запасные диски. — Можно попробовать через огороды.
— Поздно! — Арташов увидел выползающий из-за угла грузовик, из которого начали выскакивать эсэсовцы.
— Сволочь! — сквозь зубы обругал он себя.
— Что случилось? — из соседней комнаты показалась переодетая Маша.
Сашка удивленно вскинул голову.
— Маша! Моя невеста, — скупо, играя желваками, представил Арташов. Он кивнул на окно, через которое доносились гортанные немецкие выкрики, удары прикладов о двери домов. Обхватил ладонями родное Машино лицо, улыбнулся через силу. — Вот видишь, милая, как оно опять вывернулось. Залезай в погреб. После скажешь, что ворвались и заперли.
Шаги приблизились к крыльцу.
— В погреб, живо! — Арташов подхватил автомат. Сашка выдернул чеку из гранаты, примеряясь бросить, как только распахнется дверь. С улицы донесся требовательный гортанный голос. Пренебрегая грозной арташовской командой, Маша подбежала к окну, в чем-то убедилась. Скинула надетые боты. Натянула полусапожки. Подхватила кожаный жакет.
— Сидите тихо! Я уведу их.
— Уведешь?!
— Надеюсь, получится.
Она тряхнула головой, эффектно взбила волосы. Озорно подмигнула.
— Ну, как я вам?
— Блеск! — Сашка показал большой палец, на котором кокетливо болталась чека от зажатой в кулаке гранаты.
Маша, победно улыбнувшись, шагнула к выходу. Арташов ухватил ее за рукав:
— Только одно. Если пронесет, никуда. Жди! Скоро начнется наступление. Я тебя обязательно найду. И всё будет нормально! Слышишь? Ни-ку-да! Ты поняла?!
— Конечно, милый! Куда ж я от такого молодца?
Она высвободила рукав, пошевелила шутливо пальчиками и, напевая, вышла на крыльцо. На глазах у эсэсовцев принялась навешивать замок. Неспешно спустилась с крыльца и будто только теперь завидела офицера.
— Отто! — голос ее наполнился изумлением. — Was hat Sie in diese Öde geführt? Wollen Sie zu mir mit dieser Eskorte? (Какими судьбами в этой глуши? Не за мной ли с таким эскортом?)
— Freulein Maria? — пораженный офицер подхватил ее за ручку. — Woher kommen Sie denn? (Вы-то откуда?)
— Ich — klar (Я — понятно), — Маша улыбнулась. — Das ist das Haus meiner Mutter. Hier in der Nähe ist ihr Grab. Ich schaue hier nach dem Rechten. Это дом моей матери. Рядом, на погосте, — ее могила. Приезжаю приглядеть).
— Es ist gefährlich, allein zu reisen, Freulein Maria (Опасно ездить одной, фройлян Мария), — офицер, продолжая ласкать пальчики, укоризненно покачал головой. — Oder haben Sie keine Angst vor Partisanen? (Или не боитесь партизан?)
— Na und! (Вот еще!) — Маша фыркнула. — Sie haben sie doch vernichtet. (Вы же их уничтожили).
— Leider vermehrt sich dieses Gesindel, wie Kakalaken (Увы! Эта сволочь, как тараканы, имеет свойство плодиться), — офицер сделал доверительное лицо. — Vor einigen Stunden wurde das Auto des deutschen Oberst überfallen. Es läuf das totale Durchkämmen des Gebiets. So, dass wir Sie nicht mehr allein lassen. Nach L´gow werden Sie unter Aussicht der tapferen deutschen Armee eskortiert (Несколько часов назад совершено нападение на машину германского полковника. Идет повальное прочесывание. Так что одну мы вас больше не оставим. Во Льгов поедете под эскортом доблестной германской армии), — он склонился интимно к ушку. — Vielleicht wird Freulein Maria deswegen wohlwollender zu einem Soldaten? …Was?! (Может, хоть это заставит фройлян Марию стать благосклонней к фронтовику?.. Что?!) — резко оборвал он рапорт подбежавшего ефрейтора.
— Das Dorf ist leer, Herr Hauptmann. Wir haben alles durchgesucht (Деревня пуста, господин гауптман. Всё обыскали), — доложил тот. Задумчиво скосился на дом, возле которого они стояли.
Маша расхохоталась.
— Er schaute nachdenklich zu dem Haus, neben dem sie standen. Wieso alles, wenn keiner in meinem Haus war? Möchten sie öfnen? (Как же всё, если в мой дом не заходили. Желаете открыть?) — она с легкой издевкой протянула офицеру ключ.
— Es reicht uns, dass Sie selbst ihn duchgeschaut haben (Достаточно, что вы сами его доглядели), — гауптман зажал ключ в ее ладошке. — Los, wir fahren! (По машинам!)
Галантно подсадив Машу в кабину, гауптман с удовольствием полюбовался на обнажившиеся икры и браво запрыгнул следом. Машина развернулась и уехала.
— На зависть у вас невеста, товарищ лейтенант, — аккуратно вставляя чеку на место, с видом знатока объявил Сашка. — Прям в артистки!
Арташов не ответил.
— Не берите в голову, товарищ лейтенант! Эта за себя постоит, — как можно увереннее успокоил его Сашка. — А через неделю-другую вернемся, и всё будет абге махт! Вот увидите. У меня сердце — вещун.
Они нагнали Рябенького на месте последнего привала. Но проскочить незамеченными сквозь кольцо облавы не успели. При прорыве Рябенький был убит. Оставшееся до фронтовой полосы время Арташов, отнесший эту смерть на собственный счет, держался столь мрачно, что Сашка не выдержал. На последнем привале подполз вплотную.
— Чего скажем? — шепнул он.
Арташов презрительно цыкнул:
— Как было, так и скажу. Всё на мне.
Сашке эта покорность смертника не понравилось.
— Вовсе не так всё было, — объявил он. — Рябенького тяжело ранили при захвате машины. И нам его пришлось до деревни тащить. А там уж девушка-героиня оказалась и — спасла.
— Да что ты меня выгораживаешь?! — разозлился Арташов. — Виноват — отвечу.
— Ответить самим чего проще? Это и я с вами могу. Вопрос в Маше, — хитрый Сашка настойчиво потряс командира за локоть. — Ведь если было, как говорю, получается, она с риском для жизни всю группу спасла и сведения наиважнейшие. Это ж потом, коснись, ей совсем другое доверие будет. А?
Арташов пытливо вгляделся в бойца.
— Даже в голове не держите! — возмутился Сашка. — На дыбе и то всё один к одному покажу. Я правду люблю.
И в самом деле, как ни крутили его заподозрившие неладное особисты, в показаниях своих стоял насмерть: в деревню попали вынужденно и, кабы не та отчаянная деваха из комендатуры, ни в жизнь бы не спаслись. Вот кому награда-то положена.
Но некому оказалось вручать награду. После освобождения Льгова Арташов примчался туда. Увы! В городе Маши не было. От жителей разузнал, что за две недели до освобождения вновь активизировались партизаны. Каратели произвели массовые аресты. Ходили слухи, что среди расстрелянных был кто-то из работников комендатуры, изобличенных в пособничестве партизанам.
Следы Маши вновь затерялись. Арташову оставалось лишь надеяться на чудо. Он и надеялся.
Глава 6. Найти и потерять
Душа твоя болела. Душа твоя устала. Под простынею тело светилось вполнакала.— Она нам жизнь спасла, товарищ генерал, — упрямо напомнил Арташов.
— Это я слышал, — буркнул Полехин. — Ладно, допустим, жива. Допустим, в Германии. Допустим, дам команду искать. Но то, что силком угнали, — доподлинно? А вдруг добровольно? Сам же говорил, что в комендатуре числилась?
— Исключено! — отчеканил Арташов. — Она мне дождаться обещала.
Полехин, не сдержавшись, фыркнул.
— Ты не пори горячку, разведчик. А если окажется всё-таки, что нашкодила, да и сиганула от ответа? Тогда это уже, сам понимаешь, — совсем другая статья. Тут и женишку мало не покажется. Не поглядят на регалии.
Он пытливо присмотрелся к подчиненному:
— Всё равно искать?
— Так точно. Товарищ генерал! Вы ж обещали: как Германию займем… Вроде уже в ней. Прикажете подать официальный рапорт?
Полехин обескураженно охлопал свою шею.
— Думал, до потрохов тебя постиг. Ан — ухитряешься удивить. Так и я тебя удивлю: раз Генштаб ниже твоего достоинства, принимай боевой приказ!
Арташов, удивленный, подтянулся.
Не поднимаясь с валуна, генерал поднял прутик и принялся рисовать на песке.
— Прямо по курсу, в двух десятках миль от Рюгена, датский остров Борнхольм. На нем, по нашим данным, порядка 20 тысяч фашистов. Их командование решило сдаться в плен англичанам. Пункт приема военнопленных — на острове Зеландия. Пробиваются туда по ночам мелкими разрозненными частями. На тральщиках, катерах, яхтах, рыболовецких траулерах. Всё в ход пущено. У местных рыбаков сейчас самая путина. Маршрут — в нескольких милях от северной оконечности Рюгена, как раз где мы с тобой. Помешать не можем, — участок Балтики контролируется английскими катерами. Да такой задачи и не стоит, — пусть катятся. Но побережье остается десантоопасным. Вряд ли, конечно, решатся на высадку. Не до того. Все думы, как бы сдаться не нам, а господам союзникам. Тем не менее, остеречься будет не лишним. Мало ли у кого какая шальная мыслишка возникнет? Сохранилось кое-что из заводов «Фау». Может, где какая документация запрятана? По данным моего начальника Особого отдела Гулько, среди фашистов есть власовцы. Для них, к примеру, сдаться англичанам с таким гостинцем, — гарантия, что нам не выдадут. А значит, жизнь. Потому обязаны предвидеть. Так что твоя цель — наблюдение и охрана прилегающего участка побережья. Обеспечишь патрулирование.
— Есть!
— На всякий случай в шести километрах от тебя на мысе Арконс для ведения беспокоящего огня разместили танковый батальон. Съезди, договорись о взаимодействии, о связи. Хотя… — он спохватился, — сегодня, пожалуй, не езди. Сегодня туда мой начальник Особого отдела Гулько едет комбата арестовывать.
Полехин нахмурился:
— Нашкодничал, стервец, при штурме Штральзунда. Там у него два танка пожгли. Так он в отместку с немецкими девками надураковал. Теперь расплатится… Сколько предупреждали, скольких постреляли! Всё одно неймется. Как в Германию вступили, будто крышу снесло. Особых отделов не хватает… Так что завтра с утра езжай к тому, кто примет. Всё понял?
— Так точно. Только нам бы оружия не мешало. А то, считай, одни автоматы да «лимонки». Серьезного боя на полчаса не выдержать. Да и рацию вчера разбило.
— Прикажу подкинуть, — Полехин, заканчивая разговор, поднялся. Потянулся затекшим телом. Глянув на часы, тронулся к роще.
— Кстати, насчет Гулько, — на ходу прикинул он. — Пожалуй, ему розыск твоей зазнобы и поручу. Если кто найдет, так он. Этот — только команду дай — копытом рыть станет. Ретивый! — с неприязненным смешком оценил Полехин. — К тому же у меня он с осени сорок третьего. А до того, доподлинно знаю, в тылу врага под прикрытием работал. И как раз в том самом районе, что и невеста твоя. Чем черт не шутит, может, пересекались. Будет тогда, кому доброе слово замолвить. Ты ведь в ней уверен?
Арташов радостно вспыхнул:
— Так товарищ генерал! Да конечно же!..
— Что ж, прикажу, чтоб по дороге на Арконс к тебе заскочил за информацией.
— Есть!
За разговором вернулись к воротам особняка. Генерал приготовился влезть в машину, но заколебался. Ухватив Арташова за пуговицу, отвел в сторону.
— Вот что еще! Не надо бы говорить, да иной раз нельзя не сказать, — и хоть на десяток метров рядом никого не было, генерал еще понизил голос. — Гулько, он при мне вроде как в ссылке. Задание, с которым забросили, выполнить не сумел. И ему в его ведомстве это помнят, — ходу не дают, на подхвате держат. А парень самолюбивый. Ищет случай загладить. Поэтому постарайся, чтоб с хозяевами твоими не состыкнулся. А то, ретивый-то он ретивый. Но и борзой. И такие, как они, для него подарок судьбы, — вмиг чего-нибудь раскрутит. Усек?
Арташов понимающе прикрыл глаза.
Полехин забрался в машину. Арташов, торопясь, извлек самописку.
— Товарищ генерал! Разрешите? На память от разведчиков. Можно сказать, в тылу врага добыли.
Он дважды перевернул ручку — перед генеральскими глазами сначала появилась блондинка в купальнике. И тут же — без.
— Ишь ты! Что творят, — Полехин с удовольствием принял подарок. — Жене покажу. Чтоб бдила и форму не теряла.
Глаза его наполнились лукавством. Он достал собственное, скребущее и брызжущее чернилами перо.
— Тоже прими! Как подобное писать потянет, — он значительно похлопал себя по кармашку, — чтоб только этой ручкой. Глядишь, остынешь.
Сокрушенно покачал головой:
— Дура ты всё-таки, Женька. Уж такой дурында!
Полехину хотелось вылезти, обнять напоследок любимца, которого, скорее всего, уже не суждено будет увидеть. Но ограничился тем, что прихватил Арташова за шею, слегка пригнул к себе и тут же с силой оттолкнул.
— Поехали, наконец, что ли? Вечно копаешься! — прикрикнул он на водителя.
«Мерседес» дернулся и, набирая скорость, скрылся за поворотом.
Из калитки выскочил подглядывавший Сашка.
— Ну чо, товарищ капитан? — забегая то справа, то слева от командира, Сашка старался заглянуть ему в глаза. — Насчет Маши говорили?
— Говорил, — не стал отпираться Арташов. — Обещал, — будут искать.
— И правильно. Глядишь, и найдут. Мало ли чудес бывает, — утешил командира Сашка. Впрочем, утешал через силу, — большой веры в результат поисков не испытывал. Репатриированная в огромной, вздыбленной Германии — та же иголка в стоге сена.
— А с чем вообще генерал приезжал? — Сашка подступился к главному. — Не насчет демобилизации, часом? Может, нас за особые заслуги в первую очередь? А? Товарищ капитан?
Арташов грозно, подражая Полехину, насупился:
— Доведи до личного состава: переходим на режим берегового патрулирования, — к полному Сашкиному разочарованию объявил он. — Забыли, что война не кончилась? Рассиропились?.. А где, кстати, этот грёбаный часовой?
В самом деле, крыльцо перед входом в особняк было пусто.
— Да вроде здесь стоял, — растерянно пролепетал Сашка.
Арташов через пустующую прихожую легким шагом прошел внутрь особняка и — замер: у противоположной двери, ведущей в девичью спальню, на уровне замочной скважины подрагивал объемистый выпяченный зад Петра Будника. Автомат с равномерностью метронома болтался меж широко расставленных сапог.
— Это теперь так караул несут? — холодно поинтересовался Арташов.
Застигнутый с поличным Будник извернулся и, подхватив автомат, застыл недвижно. Громко сглотнул слюну.
Арташов подошел в упор к часовому, раскрасневшаяся ряха которого выражала сконфуженность и вожделение одновременно. Тяжелым взглядом вперился в упор в хитроватые, подернутые похотью глазки.
— Имей в виду, Петро, — процедил он. — Если хоть малейший повод… Расстреляю без суда. И напоминания, что ты меня на Висле собой закрыл, на сей раз не подействуют. Вник?
— Да вы чо, капитан? — в голосе Будника клокотнула обида. — За кого меня держите? В Кракове совсем другое было. Там маруха в теле. Сиськи по два пуда. Сама, считай, напросилась. Это уж после перед своими придумала, будто снасильничал. А здесь? Что ж я, нелюдь? И вообще это я на прислугу глаз положил… С прислугой-то можно, если по взаимности?
Повинуясь требовательному жесту капитана, он замолчал.
Сверху, из библиотеки, донеслось пение. Горевой под аккомпанемент гитары исполнял романс. Слова едва угадывались. Но одну фразу Арташов разобрал. Не веря своим ушам, он, будто завороженный, принялся подниматься по лестнице, навстречу музыке. Стали хорошо различимы и гитарные переборы, и поощрительные реплики баронессы и Невельской.
В ожидании второго куплета Арташов затаился. Может, всё-таки послышалось?
Горевой артистично кашлянул и продолжил:
— Разлюби меня, Муза печали.
Полюби меня, Муза любви,
На осклизлом житейском причале
мой оставшийся путь присоли.
Сердце Арташова заколотилось. Это были его стихи. Нигде и никогда не печатавшиеся. И читал он их только одному человеку. Одному-единственному на всем земном шаре. Прыжками преодолел он оставшиеся пролеты и влетел в библиотеку.
При виде кадыка, судорожно двигающегося на шее гостя, Горевой опасливо прервался:
— Что-то не так?
— Откуда?.. — прохрипел Арташов.
— Музыка, извините, моего скромного сочинения. Балуюсь.
Арташов отчаянно замотал головой.
— А, так вы о стихах? — Горевой замялся. — Где-то подслушал.
— Как ни странно, написал один из ваших, — вступилась баронесса. — Видно, не до конца еще убили способность чувствовать. Вам, похоже, они тоже знакомы?
— Тоже, — сдавленно подтвердил Арташов. — Так откуда?
Глаза по-женски чуткой Невельской вспыхнули догадкой.
— Так вы — Женя! — выдохнула она. — Господи! Это же тот самый Женя! — сообщила она баронессе и Горевому, сердясь на их непонятливость.
Сомнений больше не оставалось.
— Где она?! — в нетерпении выкрикнул Арташов. — Скажите, наконец, жива хоть?!
— Да бог с вами! — Невельская всплеснула руками. — Жива, конечно. Во флигеле, со старшими воспитанницами.
Она смутилась:
— Мы побоялись сказать. Мало ли что. Всё-таки солдатня. Договорились от греха подальше старших перепрятать вглубь острова. Как раз сегодня должны уехать.
— Быть может, их уже увезли, — баронесса, прищурившись, посмотрела на часы.
Арташов, не слушая более, сыпанул вниз, так что поджидавший Сашка едва успел отскочить в сторону. Подхватив автомат, Сашка припустил за командиром. Следом, поддерживаемая Горевым, засеменила по лестнице Невельская. Оставшаяся в одиночестве баронесса поколебалась, но любопытство одолело и ее — двинулась за остальными.
Двухэтажный флигель для обслуги находился в стороне, противоположной каретному сараю, где разместили роту.
Сокращая путь, Арташов перемахнул через палисадник с развешанными пучками красного перца, вспугнув при этом стайку тощих фазанов, и взлетел на крыльцо.
Через распахнутые двери увидел стол, за которым обедали пятеро воспитанниц. В отличии от тех, кого приходилось видеть ему раньше, это были барышни четырнадцати-семнадцати лет с оформившимися фигурами. Впрочем, по судорожным, неуверенным движениям рук, которыми придвигали они тарелки или искали хлеб, было понятно, что, как и прочие воспитанницы, они слепы.
У стола, вполоборота, с котелком в руках стояла молодая женщина с волосами, убранными под платок, в сером платье и передничке. Она что-то оживленно рассказывала воспитанницам. Слова ее не доносились до двери. Но нежная, щебечущая нотка, в которую они сливались, была до щемящего зуда знакома Арташову.
Волна предвкушения подхватила его. Он стремительно шагнул внутрь.
Девушка на раздаче встревоженно обернулась на шум, карие глаза ее распахнулись, рот приоткрылся, котелок выскочил из рук, шмякнулся о стол, дымящиеся картофелины вывалились на скатерть и покатились по покатой поверхности. Арташов принялся ловить их на лету. Раздатчица бросилась на помощь, споткнулась; падая, сбила Арташова, так что оба оказались на полу среди раскатившихся картофелин.
— Нашел, — выдохнул Арташов.
Потрясенная Маша, всё еще не веря, приподняла его голову и, подобно своим слепым воспитанницам, принялась пальцами ощупывать родное, подзабытое лицо. Палец коснулся влаги под его глазами, она поднесла его к губам, облизнула. И, будто только теперь, по вкусу слезы, окончательно определила, что перед ней именно он, — счастливо вскрикнула.
Встревоженные юные немки, не понимая, что происходит, повскакали со своих мест. Загалдели.
— Всё в порядке, барышни, — подоспевший Сашка сноровисто собрал с пола картофелины, подул на каждую, разложил по тарелкам. — Нихт ферштейн. Абге махт. Не виделись люди, считай, два года. Теперь встретились. А что тут особенного? Ничего, можно сказать, особенного.
Он умиленно шмыгнул носом. Повернулся к дверям, у которых столпились запыхавшиеся хозяева имения.
— А я всегда говорил, что найдется, — сообщил им Сашка. — Сердце-то — вещун!
…Первый восторг чудесной встречи схлынул. Оставшись наедине в комнате Арташова, оба переменились. Зажатые, неловкие, они исподволь приглядывались друг к другу. Маша, забравшись с ногами в кресло и закрывшись по горло пледом, затравленно отмалчивалась. Арташов исподтишка изучал перемены в ее замкнутом, поблекшем лице. Не заметить этот рыщущий взгляд было невозможно.
— Ты еще не видел самого привлекательного, — насмешливо сообщила Маша. Демонстративно, рывком сдернула косынку.
Пышная прежде смоляная копна, коротко подстриженная, поумялась и словно выгорела. Под выцветшими глазами стали заметны набухшие, отдающие в желтизну бугры. Холодно улыбнулась невольному его испугу.
— Если очень интересно, врачи говорят, это от сердца.
— Досталось тебе, — пробормотал Арташов.
— Досталось, — скорбно согласилась Маша. — Женя! Говори, что мучит! Не ходи вокруг да около. Я же вижу, что ты не в себе. Или не рад, что нашлась?
— Что значит не рад? — Арташов возмутился. — Ты, знаешь, говори да не заговаривайся. Я тебя разыскивал. Как раз сегодня с командиром корпуса о тебе говорил. Просил организовать поиск. А он, чудак, представляешь, спросил, не сбежала ли, мол, твоя невеста, добровольно. Это о тебе-то!
Он неестественно засмеялся. Пугаясь ее молчания, оборвал смех.
— Ведь не могла же? Я генералу твердо сказал: она меня дождаться обещала. И раз не дождалась, значит, увезли силой.
— А теперь боишься, — Маша знакомо, как когда-то, наморщила носик.
— Давно отбоялся! — выкрикнул Арташов. Сбился. — А вот за тебя да, — боюсь! С того времени, как в освобожденном Льгове не нашел. Жива ли, мертва? Хоть и гнал плохие мысли, но всё сходилось, что погибла. И вдруг чудом нашлась. Потому должен знать, каким образом здесь оказалась! Это тебе понятно?
— Конечно же, должен, Женечка, — на Машином лице появилось подобие слабой улыбки. Искательно провела пальчиками по мужской руке, как делала когда-то, заглаживая вину. Ощутила его отстраненность. Горько сдвинула брови.
— Я добровольно уехала, — рубанула она. Прикусила губу, — таким чужим он сделался.
— Точнее, добровольно-принудительно. Из-за неустановленных чудаков, что немецкого полковника убили.
— Так это из-за меня?! — вскинулся Арташов.
— Всё в те дни совпало, будто специально. Начальником полиции служил такой Васёв. Наш бывший офицер. Попал в окружение и при первой возможности сдался. Выслужиться стремился. И ради этого ничем не гнушался. Страшный человек. А для меня особенно страшный. На другой день после того как… вы ушли, взяли, как водится, заложников, — убийство-то на партизан списали. У меня был пропуск в тюремную канцелярию. Пришла во внеурочное время. А окно канцелярии во внутренний двор выходило. Их как раз расстреливали.
Ее передернуло. Арташов успокаивающе положил руку на плечо, но, погруженная в тяжелые воспоминания, она этого, кажется, не заметила.
— Среди расстрельной команды был Васёв. Так вот я видела, как он по ним стрелял. Весело так. Заставлял бегать и — на пари, как по воробьям. И он меня в окно увидел. Посерел. Я сразу в его глазах свой приговор прочитала. Кому ж свидетели собственных зверств нужны? Тем более, когда в войне перелом. Тем же вечером одна из девчонок мне шепнула: мол, слушок пошел, будто кто-то из старух в Руслом видел, что после отъезда эсэсовцев из моего дома выбрались советские солдаты. Будь наши ближе, ей-богу, сама бы через линию фронта на удачу побежала, а так ясно же, что как только дойдет до Васёва, мне конец. На другой день в Германию отправляли на работы. Выхода не оставалось. По счастью, неразбериха творилась. Договорилась с девчонками, подчистили документы — и всё! Я им за это платья свои раздала.
Маша, сбивая подступающую истерику, зло расхохоталась:
— Это ж кому сказать! Дать взятку, чтоб тебя угнали в Германию! Какова веселуха?
Арташов, ошеломленный услышанным, поймал ее за руку, усадил рядом с собой, прижал с силой, будто хотел смять, — как тогда, в Руслом.
— Ну, ну, довольно. Теперь всё позади. Мы снова вместе.
— Вместе, — уныло согласилась она. Решилась. — Женя! Ты не понимаешь: я дважды меченая.
— Тоже мне — меченая! — фыркнул Арташов. — Пигалица-переводчица. А гонору — как у врага народа.
Фраза вырвалась случайно. Но ее хватило, чтоб Арташов сбился с бодряческого тона, а Маша понимающе закивала. Оба знали, что именно такая формулировка и прозвучит, если дойдет до разбирательства.
— А кому вообще какое дело?! — Арташов зашагал по комнате. — Нечего об этой комендатуре и заикаться. Попала из-за матери в оккупацию, угнали в Германию. И здесь советский воин-освободитель находит свою недозамученную невесту. Точка. Нормальная биография. Без вопросов!
Он слегка смешался:
— Жалко, конечно, что в этом доме оказалась.
Она поняла:
— Женька! Да меня спасло, что я сюда попала. Я тебе вообще скажу — это святые люди!
— Может, и святые, — не стал спорить Арташов. — Но не наши святые. Я не для того тебя нашел, чтоб тут же потерять. Для начала надо будет сделать так, чтоб твое имя не упоминалось рядом ни с баронессой, ни с Горевым. Тогда никто и копаться не станет. Сейчас таких репатриантов по Германии тысячи тысяч. Он увидел, как Машин ротик сложился в знакомую упрямую складку.
— Я не уйду от них, — объявила Маша. — Пока девочек не передадим, не уйду. Ты не понимаешь, — меня здесь приютили, выходили. Можно сказать, укрыли от войны. И бросить, когда у них никого не осталось, — это как предать. Так что, Женечка, давай каждый сам по себе. Не было Маши и не надо. Я ведь понимаю, у тебя биография. — Она прошлась пальчиками по орденам.
Арташов понял — спорить бесполезно. Она пойдет до конца.
— Что ж, быть посему, — решился он. — Детей сдаем, куда положено, после чего женимся. Бог не выдаст, свинья не съест. Пусть кто-нибудь попробует тронуть жену орденоносца-победителя!
Лицо капитана озарила беспечная большеротая улыбка, которая часто вспоминалась ей во сне и которую уж не чаяла увидеть наяву. Он так хорош был в своей мальчишеской отчаянности, что Маша едва преодолела искушение кинуться ему на шею. И кинулась бы, если б не понимала, что станет для него тем булыжником, что утянет его за собой на дно вместе со всеми великолепными регалиями.
— А ты всё такой же — безмерный, — она насмешливо сморщила носик. — Как это ты с таким норовом выжил?
— Да причем тут? Глупость какая. Я ж люблю тебя!
— А я? — задумчиво произнесла Маша. Артюшов обомлел.
— Ты ж ничего обо мне, нынешней, не знаешь. Меня четыре года корежило так, как другой за всю жизнь не выпадет. И, видно, перекорежило, выжгло изнутри. Пока не встретила, вспоминала, надеялась. А вот встретила и — чувствую себя головешкой обугленной. Похоже, и впрямь перелюбила.
— Врешь! — Арташов обхватил ее за плечи. — Я ж помню, какой ты была в Руслом! Ты всё врешь. Назло!
Он тряхнул ее, пытаясь заглянуть в глаза. Но Маша лишь поморщилась болезненно, заставив его распустить сжатые пальцы.
— Придумал тоже — назло. Да ты для меня, наоборот, — шанс. Такой орденоносной грудью прикрыться — только мечтать. Мне бы сейчас у тебя на шее повиснуть. Но только в самом деле иссякло всё. Как у твоего любимого Есенина: кто сгорел, того не подожжешь. А жить за-ради Христа не смогу. В этом не изменилась. Да и ты гордый, подачек не принимаешь. Хотя, если хочешь, на прощанье…
Она сделала разухабистый жест в сторону кровати. Храбро поймала оскорбленный мужской взгляд.
— Прости.
Боясь передумать, выскочила в коридор. С затуманенными глазами вбежала по лестнице на второй этаж и едва не сбила Невельскую.
— Машенька! — перехватила ее та. — У нас тут всё кипит.
Лицо престарелой кокетки озарилось восторгом.
— Господи! Вот ведь судьба. А что я тебе всегда говорила? — затараторила Невельская. — Вот мне говорили, а я всё равно говорила. Помнишь же?! Вот по-моему и вышло! Я сразу по нему поняла, что это чистый, хороший мальчик. А еще говорят, случай слеп. Глупости какие! Провидение всегда благоволит влюбленным. Как же мы за тебя рады… Но почему плачешь? — наконец заметила она. Переменилась в лице. — Неужели отказался?
Маша замотала головкой:
— Я сама!
— Ты? — Невельская недоумевающе потерла виски. — Но как же? Ведь столько рассказывала!
— Не мучьте меня, Лидия Григорьевна! — Маша выдернула руку и убежала, оставив Невельскую в тягостном недоумении.
Глава 7. Белогвардейское гнездо
Мне казалось, что жизнь у меня впереди будет светлой, простой и прямой, но скрестились нечаянно наши пути, и разверзлась земля подо мной.Подполковник Гулько ехал на переднем сидении «виллиса» рядом с водителем. Сзади расположились два бойца из комендантского взвода. Опустив лобовое стекло, Гулько отдавался потокам балтийского ветра, который хоть немного отвлекал его от невеселых мыслей.
Не с чего было веселиться начальнику Особого отдела корпуса. Совсем не такой виделась ему собственная будущность четыре года назад. Войну выпускник академии Гулько начинал в стратегической разведке. Готовил заброску агентов за линию фронта и с нетерпением ждал собственного задания. Всё, что происходило с ним в Москве, виделось лишь подступом к настоящему прорыву — собственному внедрению в армию противника. Только в тылу врага мостится основа для серьезной карьеры в разведуправлении.
В том, что у него получится, Гулько не сомневался. Дерзкий, готовый при необходимости рискнуть, но и умеющий терпеливо выжидать, — эти качества должны были обеспечить ему успех. Долгожданный случай представился, когда немцы вышли в район Курского бассейна. По сведениям, полученным от партизан, во Льгове абвером была организована диверсионная школа. Перед Гулько поставили задачу, — под видом сына расстрелянного большевиками дворянина добровольно сдаться в плен, добиться доверия немцев, внедриться в школу, через подполье наладить связь с центром.
Все высоколобые планы посыпались сразу. Правда, внедрение прошло удачно, документы, почти подлинные, сомнения не вызвали, ретивость перебежчика встретила у немцев понимание. Так что ему охотно предоставили возможность мстить советской власти в рядах полиции. А вот связи и рации Гулько лишился, даже не приступив к работе, — те немногие подпольщики, что оставались в городе, были выявлены гестапо в первые же месяцы. Но даже не это известие оказалось самым сокрушительным. Никакой диверсионной школы во Льгове отродясь не бывало. Кто-то из горе-подпольщиков с перепугу перепутал ее со школой ускоренного выпуска капралов. Перепутал и — сгинул. А крайним оказался Гулько. Потому что пути назад через линию фронта не было. Оставался единственный вариант — выяснить потихоньку место дислокации действующего в округе партизанского отряда и до прихода своих продолжить борьбу с фашистами в рядах партизан.
Но и здесь не повезло. Отряд обнаружили без него. Обнаружили и блокировали. Среди ночи подняли полицейских и вместе с карателями бросили в лес. Надо отдать должное партизанам, — загнанные в ловушку, они отбивались отчаянно. Так что уничтожение отряда далось большими жертвами. Среди особо отличившихся в бою был отмечен и новый полицейский. Ничего не поделаешь: репутацию ненавистника советской власти приходилось доказывать на крови.
Перед началом Курской битвы Гулько перешел линию фронта. Сообщенные им сведения позволили советским войскам овладеть Льговом с минимальными потерями.
Однако в разведуправлении данный факт зачтен ему не был. Как бы ни оправдывался агент, главное для руководства заключалось в том, что задание осталось невыполненным. К тому же люди, засылавшие его, а значит, ответственные за результат операции, к моменту возвращения Гулько со своих должностей были сняты.
Это оказалось решающим. Гулько перевели в действующую армию, где он был чужим: без связей, без надежной поддержки. Всё приходилось начинать заново. И всё-таки он не поддался унынию. Активно проявил себя в СМЕРШе, был замечен и назначен начальником Особого отдела 108-го стрелкового корпуса.
Цену нового назначения Гулько понял сразу. О командире корпуса Полехине было известно, что он близок к Рокоссовскому, а значит, вхож в военную элиту. Стать незаменимым для такого человека — значит, получить новый шанс. И Гулько поставил на Полехина. Потому, в отличии от коллег-особистов, не конфликтовал со своенравным комкором. Напротив, не было поручения, которое бы начальник Особого отдела не выполнил, не было намека, который бы не уловил. Случалось, даже серьезно рисковал, покрывая по просьбе Полехина проштрафившихся офицеров. И хоть в служебных отношениях командир корпуса сохранял с начальником Особого отдела дистанцию, но во всех серьезных вопросах с мнением Гулько считался.
О том, что Полехина планируют отозвать с повышением в Генштаб, Гулько узнал из своих источников еще до того, как войска Федюнинского захватили Померанию. Сегодня утром пришел официальный приказ. И — подкожная информация, что несколько человек Полехину разрешено забрать с собой в Москву. И когда два часа назад комкор вызвал Гулько к себе, подполковник явился ободренный, с блеском в глазах — служба в Генштабе дала бы новый импульс заглохшей карьере. Увы! Вместо Москвы начальнику Особого отдела было предписано отправиться в 137-й танковый батальон и на месте разобраться с проштрафившимся командиром.
А по дороге заехать в особняк, где разместилась разведрота, и помочь капитану Арташову в поисках угнанной в Германию невесты.
Гулько продолжал стоять. Полехин нахмурился:
— Что-то непонятно?
Гулько проглотил ком обиды.
— Слышал, что отбываете, Василий Трифонович, — намекающе произнес он.
— Да, в самом деле, — Полехин, спохватившись, протянул лапищу для прощания. — Отныне будем служить порознь.
В этом брезгливом «служить порознь» невольно проступило истинное отношение армейского чистоплюя к ретивому службисту.
От генерала Гулько вышел бурый от ярости. Потому что в момент прощания ему был указан нынешний удел: разбираться с перепившими танкистами да разыскивать баб для генеральских любимчиков.
— Товарищ подполковник, — прервал размышления Гулько разбитной водитель. — Мы как: сначала едем арестовывать Гаврилова, а к Арташову на обратном пути? Я к тому, что разведчики где-то здесь разместились. — Он мотнул головой на сосновую рощу, в глубине которой среди зелени алым пятном сочилась черепичная крыша.
Встрепенувшийся Гулько разглядел впереди развилку, сделал знак притормозить.
— Кто ж с арестованным по гостям разъезжает? Сперва загляну к Арташову, а потом уж за Гавриловым сгоняем, — он выбрался из машины.
— Туда проехать можно, — водитель показал на колею.
— Ждать здесь! — коротко приказал Гулько. — Проверю, как службу несут. Многие сейчас бдительность потеряли.
Он углубился в кустарник.
— Сегодня злей обычного, — не удержался один из конвоиров, доставая кисет.
— Так есть с чего, — всезнающий водитель, не стесняясь, запустил лапу в чужую махорку, принялся крутить жирную самокрутку. — Ему опять рапорт о переводе зарубили. Сказали, чтоб в Германии дослуживал. А здесь после войны на чем отличишься? Ни тебе шпионов, ни диверсантов. Одна пьяная пальба да драки. Вот и бесится.
Едва Гулько свернул на тропинку, ведущую к особняку, как столкнулся с сухопарым пожилым немцем в тирольке.
При виде советского подполковника фриц вместо того, чтоб испугаться, расцвел в доброжелательной улыбке.
— Wer bist du? (Кто такой?) — Гулько чуть отступил.
Старик успокаивающе выставил руки.
— Не пугайтесь, господин подполковник, — на чистом русском ответил незнакомец. — Вы среди своих. Я и сам в некотором роде подполковник.
Он вытянулся шутливо, коротко кивнул:
— Честь имею представиться, капитан второго ранга Горевой!
— Второго ранга? — переспросил Гулько, приглядываясь к чудаковатому старичку.
— Так точно! — браво повторил старик. — Имел честь под командованием адмирала Эссена воевать на Балтийском флоте. И хоть волею судеб вот уж двадцать пять лет обретаюсь на чужбине, но Россия навсегда здесь! — Он высокопарно ткнул себя сухим пальчиком в область сердца.
— Должно быть, изволите разыскивать капитана Арташова?
— Вы его знаете?
— Это наш гость. Если позволите, — провожу, — Горевой радушно указал рукой направление. — Как водится на Руси, друг нашего гостя — наш гость.
— Ваш гость? — Гулько пригляделся. — А кто вы сами, черт возьми?
— По-моему, я представился. В настоящее же время состою управляющим у баронессы Эссен.
— Это что, жена того адмирала, у которого служил?
— Никак нет. Не жена, а вдова. И не адмирала, а его племянника.
— Один хрен, белогвардейская сволочь! — определил Гулько.
Благодушие сошло с Горевого.
— Во-первых, белогвардейской, как вы изволили выразиться, сволочью адмирал Эссен быть не мог хотя бы потому, что скончался за два года до вашей революции. Он был просто знаменитым русским адмиралом.
— Русский или белогвардейский — всё едино. Есть советский и — все остальные, — отчеканил Гулько, с нарастающей алчностью разглядывая Горевого. — Ну а сам?
— Что сам?
— Сам-то не умер. Эва куда сиганул! — Гулько облизнулся в предвкушении удачи. — Где был в Гражданскую? Ну!
Старик слегка смутился. Но то ли вранье претило, то ли не заметил надвигающейся опасности. Ответил честно.
— На Южном фронте.
— Короче, — деникинец! — сладко выдохнул Гулько. — И, конечно, удрал за границу, чтоб продолжить борьбу с советской властью?
Горевой поджал сухие губы:
— Странный получается разговор. Мне действительно предлагали перебраться в Констанцу, где обосновалась крупная русская колония и где велась подготовка к возможному вторжению. Но я уже тогда понял бесперспективность военного противоборства с большевизмом и отказал барону Врангелю.
Гулько ядовито хохотнул:
— Врангелю, значит, отказал, а к Гитлеру поехал. Логично! Понял, за кем сила.
Горевой нахмурился:
— Хочу напомнить, что Гитлер пришел к власти спустя тринадцать лет после моего приезда в Германию.
— Но ведь пришел! — ничуть не смутился Гулько. — Может, и с вашей помощью. А может, и теперь?.. Ведь не сбежал от фашизма, как другие. А жить при режиме и не замазаться — так не бывает. Сам, случаем, в национал-социалистах не состоишь? Или хозяйка твоя?
Горевой сдержал обиду.
— Здесь перед вами побывал генерал Полехин. И баронесса уже имела случай сообщить, что мы занимаемся исключительно благотворительностью. Прежде помогали госпиталям (при этих словах глаза Гулько вспыхнули восторгом), а теперь содержим пансионат для сирот. Так вот, генерал не только нас понял, но даже приказал оказать всяческое содействие. Так что можете себя не утруждать подозрениями.
Напоминание о Полехине добавило Гулько свежей ненависти.
— Я тоже окажу содействие, по своей линии, — плотоядно пообещал он. — По пунктам разберу, чтоб ничего не упустить. Когда, где, с кем. От кого бежал. К кому пристал. Чем помогал фашизму. Генералы, они народ широкий. Счет на армии. В мелочи вникать некогда. А нас страна специально отрядила, чтоб ни один фашистский недобиток не ушел отответственности.
Он предвкушающе зажмурился. Нетерпеливо ухватил Горевого за локоть, подтолкнул перед собой:
— Пошли в гнездо!
Горевой возмущенно остановился:
— Извольте повежливей, господин подполковник.
— Кончились господа! Товарищи вернулись, — Гулько зловеще захохотал.
— Товарищ капитан! Товарищ капитан! — донесся через дверь взволнованный Сашкин голос.
— Ну, чего тебе? — Арташов, совершенно разбитый, бессмысленно уставился в потолок.
— Товарищ капитан! Там подполковник Гулько!
— Опоздал особист! Без него уж нашлась! — Арташов горько подмигнул собственному отражению в зеркале. Пробормотал. — А вышло, что и не нашлась. Хороша Маша, да не наша.
Он поморщился оттого, что Сашка принялся скрестись снаружи.
— Ладно, скажи, иду!
— Товарищ капитан! — не отступался Сашка. — Там это… он хозяев наших вроде как арестовал!
— Что?! — тело Арташова будто пружиной выбросило из кресла.
— Удобное гнездышко! — Гулько вышагивал по гостиной, перекатывая шаг с пятки на носок, отчего паркет под сапогами постанывал, словно в испуге. И это доставляло ему удовольствие. Но истинное наслаждение он испытывал от страха, в который вогнал обитателей особняка.
Элиза Эссен, подавшись вперед в кресле, напряженно вслушивалась в звуки высокого, надрывного голоса. Невельская, прижав руки к груди, вглядывалась в мелькающего перед глазами человека, силясь понять причину столь громкого негодования. Горевой, затихший позади кресел, угрюмо глядел в затылок баронессы, как человек, единственный из всех догадавшийся о том, что последует дальше.
Даже Мухаметшин и Будник, по приказу Гулько застывшие возле двери с автоматами наперевес, выглядели ошарашенными.
— Вы же русские, черт бы вас побрал! — фальцетом выкрикнул Гулько. Сам заметил, что получилось чересчур надрывно. — Пусть онемеченные, но русские. Как же могли на такую подлость решиться, чтоб против собственной Родины пойти? В то время как мы кровью истекали, вы тут у Гитлера под брюхом пристроились да выжидали, чтоб на чужом горбу вернуться! Да не просто выжидали, а пособничали да поднауськивали.
Баронесса, будто что-то наконец уяснив, пристукнула поручень кресла.
— Сударь! — прошипела она. — По какому, собственно, праву вы позволяете себе разговаривать в подобном тоне? Тем более — с женщинами!
Гулько, будто только и ждал возражений, оставив хождение, подбежал к баронессе, угрожающе склонился.
— Я тебе не сударь, курва курляндская! — передразнивая, прошипел он. — И ты для меня не женщина, а вражина. Думаешь, если когда-то к России примазалась, так заслужила снисхождение? А вот это видала?
Он с удовольствием свел пальцы в увесистую дулю.
Потрясенная Элиза Эссен, вжавшись в кресло, смотрела, как перед ней потряхивается рыжеволосая лапа с нечистыми ногтями.
Внезапно другая мужская рука обхватила запястье особиста и с силой толкнула его назад. Перед креслом баронессы, отгородив ее от Гулько, встал Горевой.
— Вот что, любезный! — жилистый шрам его быстро подергивался. Осознание, что виной случившемуся собственная болтливость, придало старому эмигранту решимости. — То, что вы не сударь, от вас за версту несет. Но если мы, по-вашему, преступники, то существует суд, до решения которого извольте обращаться с нами в соответствии с цивилизованными нормами.
Гулько, в первую секунду обескураженный отпором старика, пришел в себя.
— Суд тебе? Отродье белогвардейское! Вот тебе будет суд! — он хлопнул по кобуре пистолета. — В двадцатом успел драпануть, так теперь добьем!
Он угрожающе шагнул к Горевому, заставив старика попятиться и едва не сесть на колени баронессе. Удовлетворенный маленькой победой, повел пальцем вдоль кресел:
— Думали, Родине изменить — как чихнуть! Что ни напакостничай, всё с рук сойдет. А вот не сойдет! Не простит вас Родина. Кровавыми слезами умоетесь.
— Вам удобно? — холодно поинтересовалась баронесса, и Горевой моментально отодвинулся. — Кажется, Серж, мы вам обязаны этому милому обществу. Я всегда вам пеняла на неразборчивость в знакомствах.
Подавленный Горевой смолчал.
— А ты, Лидушка, как будто доказывала, что они за тридцать лет переменились, — горькая язвительность фон Эссен обратилась на Невельскую. — Schau dir mal diesen triumphierenden Flegel an! Erquicke dich am Anblick der Evolution! (Так взгляни на этого торжествующего хама! Насладись зрелищем эволюции.)
Невельская, обычно порывистая, пугливая, с какой-то отстраненностью перевела взор на Гулько.
— Насколько я поняла, вы собираетесь нас арестовать? — уточнила она.
— Догадливая, — съехидничал Гулько.
— Но вы забываете, что здесь, — начав говорить, Невельская, как и остальные, увидела входящего Арташова и закончила фразу, прибавив голосу, скорее уже для него, — содержатся восемнадцать девочек-калек. Что с ними станется?
— А это теперь не ваше собачье дело! — Гулько, проследив направление взглядов задержанных, повернулся к двери. — А, капитан!
— Здравия желаю! — Арташов цепким взглядом окинул гостиную.
— Дрыхнешь беспечно! — Гулько демонстративно оценил помятый вид вошедшего. — Посреди фашистского гнезда!
— Почему, собственно, фашистского? — Арташов выгадывал время, пытаясь сообразить, как вести себя дальше.
— Почему? — Гулько саркастически усмехнулся. — Это я у тебя должен спросить, почему до сих пор врагов народа не разоблачил? Вот этот благообразный дедок, к примеру, — ткнул он в Горевого, — другом твоим себя объявил. Отцов наших в Гражданскую стрелял. А наверняка и вешал. А ты ему, выходит, дружок. Или не знаешь, что всё это бывшие буржуи да белогвардейцы, сбежавшие от советской власти?
Арташов понимал подоплеку вопроса и цену своего ответа. Но взгляды троих задержанных с надеждой сошлись на нем.
— Знаю, — не стал отпираться Арташов.
— Тогда почему не доложил?!
— Доложил. Лично командиру корпуса. Он, как и я, полагает, что советская власть со стариками не воюет.
— Ты дурочку не валяй и комкором не прикрывайся! — обрубил Гулько. — Или утверждаешь, что генерал Полехин, когда был здесь, знал, что перед ним фашистские пособники?
Гулько выжидательно прищурился. Арташов принялся покусывать губы.
— Так что? — не отступался особист.
Капитан вскинул глаза.
— Ни генерал, ни я ни о каких фашистских пособниках слыхом не слыхивали! — отчеканил он. — Есть просто старые люди, которые за собственные средства пытаются помочь сиротам…
— Ловко! — подивился Гулько.
— Что ловко? — Арташов нахмурился.
— Да тебя тут вокруг пальца. Разведчик, твою мать! Разнюнился. Поддался на вражескую провокацию. Забыл про такое слово — бдительность. Глаза тебе сиротами застили! А сироты эти — обыкновенная «крыша» для таких дураков, как ты. Под прикрытием которой они финансировали фашистов на войну против нашей родины!
Арташов ошеломленно посмотрел на притихших хозяев. Горевой отвел взгляд.
— Ты не на них, на меня гляди! — потребовал Гулько. — Они уж сами во всем признались.
— Прекратите лгать! — в своей бесстрастной манере отчеканила Элиза Эссен. — Я вам говорила и повторяю: мы никогда ничем не помогали национал-социализму. Деньги жертвовались не на войну, а госпиталям!
— Баронесса делала то же, что еще в пятнадцатом году в Петербурге, — помогала выхаживать раненых, — вмешалась Невельская.
— Фашистских раненых! — уточнил Гулько, едва сдерживая ликование. — Которые после, вылечившись, шли убивать наших бойцов.
— Хоть теперь дошло, капитан? Перед тобой злобный классовый враг!
Арташов отошел к окну, — больше ничего сделать он не мог.
— Этих недобитков я немедленно увожу с собой, — подвел итог дискуссии Гулько.
— Что ж с сиротами будет?! — выкрикнула Невельская.
— Спохватилась! — огрызнулся Гулько. Но поскольку этого ответа ждал и Арташов, буркнул. — Раскидаем куда-нибудь ваших фашистских выблядков. Сейчас голова о главном болит!
Он, будто кот сметану, обласкал взглядом безучастных задержанных:
— А ну, белая кость, пошли! Даю десять минут на сборы. Но под моим приглядом!
Невельская поджала губы:
— Желаете понаблюдать, как женщины переодеваются?
— Придется по долгу службы. А так… не такое уж это удовольствие — пялиться на голых старух.
— Хам! — оскорбилась Невельская.
— А если б с удовольствием, так не был бы хамом?! — Гулько, в восторге от удачной остроты, расхохотался. Заметил, что Невельская запунцовела. — То-то… Все вы, бабы, одинаковы. Что прачки, что баронессы, — одна физиология. Ну, пошли живенько… Минутка дорога.
Гулько и впрямь торопился: важно было лично доставить задержанных и как можно скорее доложить по инстанции о разоблачении законспирированного фашистско-белогвардейского гнезда. Опоздаешь — много появится желающих примазаться.
— Это еще что за чучело? — поразился он.
В гостиную, закутанная в платок, с корзиной в руках, ввалилась Глаша.
Баронесса озадаченно нахмурилась:
— Ты здесь зачем?
— Собрала вот в дорогу, — Глаша показала на корзину. — Чай, далёко. В Сибирь.
— Немедленно ступай к себе! — заклинающе процедила баронесса.
Глаша насупилась:
— Как это к себе? А то вы без меня в Сибири управитесь. Ведь как дите малое.
— Да, без няньки там никак! — Гулько расхохотался. — Тогда пошли со всеми, нянька! Поможешь барыне одеться. В последний, так сказать, путь. Узбек, за мной! Будешь сторожить.
— Таджик я, товарища подполковник! — поправил Мухаметшин.
— Один хрен, за мной.
Подгоняя задержанных, Гулько захлопал в ладоши. Теперь, когда ему открылся антисоветский заговор, сулящий перемены в карьере, он сделался почти благодушным. И даже игриво выдавил из гостиной замешкавшуюся Глашу.
— Что ж ты, вурдалак, чисто на убой гонишь? — послышался недовольный Глашин голос. Процессия протопала на второй этаж.
Едва Гулько скрылся, стоявшие доселе навытяжку Сашка и Будник расслабились.
— Да-а, — искательно глядя на Арташова, протянул Сашка. — Вон оно как бывает. Мы с ними по-людски. А выходит, — фашисты. Как, Петро?
Ответить Будник не успел, потому что в гостиную со стороны спален влетела Маша.
— Ты? — Арташов задохнулся. Сделал знак Буднику прикрыть дверь за ушедшими. — Немедленно уйди к себе.
— Ты должен помочь, — объявила Маша.
— О чем ты?! — Арташов неловко скосился на разведчиков. — Раз слышала, должна понять. Они! — он принялся чеканить слова, — да-ва-ли день-ги фа-ши-стам! На вой-ну против СССР!
— Да не на войну! Вот еще глупость, — Маша всплеснула руками. — На раненых же!
Ища поддержки, она посмотрела на Сашку и Будника. Оба отвели сумеречные взгляды.
— Пойми, дуреха! Неважно куда! — выкрикнул Арташов. — Главное — фашистам! И это пособничество! Это — приговор! Без вариантов. Всякий, кто сунется, — пойдет вслед за ними…
Будто вколачивая в нее эту мысль, он скрестил руки могильным крестом.
По упрямо поджатым Машиным губам он понял, что она разговор законченным не считает. Перебивая новый всплеск эмоций, поднял палец, прислушался.
— Гулько возвращается, — подтвердил Сашка.
— После договорим! Немедленно уходи к себе, — заторопился Арташов. — И чтоб до их отъезда не показывалась. Не хватало еще, чтоб он тобой занялся.
Но Маша, вроде, собравшаяся подчиниться, вдруг замерла.
— Да что ж тебя, на себе, что ли, волочь? — в отчаянии Арташов ухватил ее за талию, но с таким же успехом можно было бы передвинуть гипсовую статую, — закаменевшая Маша неотрывно следила за появившимся в проеме человеком.
— Капитан! Пошли кого-нибудь к развилке… — вошедший Гулько удивленно увидел подле Арташова молодую женщину с расширенными от ужаса глазами. Вгляделся, наполняясь недобрым предчувствием.
— Васёв! — простонала та.
Гулько взмок, — он узнал переводчицу из льговской комендатуры. Узнал и понял главное, — она не должна заговорить. Прежде, чем включилось сознание, рука сама потянулась к кобуре.
— Да здесь целая антисоветская банда! — судорожно теребя заевшую пуговицу, заорал он, стремясь заглушить слабый женский голос.
Наконец кобура подалась. Он выхватил пистолет.
— Смерть изменникам Родины!
Арташов загородил собой девушку.
— В сторону, капитан! Не сметь защищать изменницу Родины! — Гулько вскинул руку, — одного ли, двоих, выбора не оставалось.
Удар по запястью выбил пистолет на пол, и, прежде чем Гулько успел нагнуться, его ловко ухватили под локоть и потащили руку на излом, — охранять жизнь командира — это всегда была Сашкина привилегия.
— А ну отпустить старшего офицера, мерзавец! — зарычал Гулько, вырываясь. — Под трибунал пойдешь. Все пойдете! А!..
Дикая боль заставила прерваться. Доведенный до конца болевой прием уткнул особиста лицом в пол.
Сашка, взмокший от собственной дерзости, не отпуская захвата, в ожидании распоряжений посмотрел на помертвелого Арташова.
Озадаченно почесывал квадратный подбородок Петро Будник.
— Как всё это понимать? — не оборачиваясь, потребовал объяснений Арташов.
— Васёв! — не отводя завороженного взгляда от сломанного пополам человека, повторила Маша. — Тот самый полицай из Льгова, который расстреливал заложников.
— Врешь! Врешь всё, падаль! — прохрипел Гулько. — Крутишь, курва фашистская. От ответственности уйти хочешь… Да пусти же!
Арташов шагнул вперед. По его знаку Сашка ослабил захват, позволив Гулько разогнуться, а Будник — подхватил особиста с другой стороны.
— Вы ответите! — прохрипел Гулько. — Все ответите.
— Значит, полицай Васёв? — не отвлекаясь на угрозу, холодно поинтересовался Арташов. — Как же ты в Особый отдел проник?
— Да ты!.. — задохнулся Гулько. — Пацан! Тебя снова-здорово дурят. Ты ж со мной больше года бок о бок!..
— Бок о бок я с ними, — Арташов мотнул головой на своих разведчиков. — А тебя лишь знаю. Или думал, что знаю. Был во Льгове?
— А вот это не вашего ума дело. Отвечать стану только в корпусе.
— Дотуда еще доехать надо, — Арташов криво, опасно улыбнулся. — Сначала объяснишься здесь! Повторяю: был при немцах во Льгове?
— Какой к черту Льгов?!.. Да! Числился в полиции. Но это не то, что ты думаешь. Прикажи всем отойти. Могу только тебе. Это — особое.
— Ничего. Мы здесь все особые. Так что… Заложников расстреливал?
— Я?! — Гулько задохнулся. — Да ты в уме? Чтоб я своих? Ты подстилке этой фашистской, пособнице белогвардейской, поверить готов?! Зарываешься, капитан. Ох, зарываешься! Очнись, пока не поздно! Да, я был во Льгове. Если уж на то пошло, под видом полицая выполнял особое задание в тылу врага. Поедем в корпус, и ты убедишься. Горько убедишься.
На заклинания Арташов отреагировал недобрым прищуром.
— Значит, врет? — уточнил он.
— Полицаем был… По заданию руководства!
— Но наших не расстреливал?
— А ты что, другое мог подумать?.. Не видишь, выкручивается. Торопится оговорить. Это ж первый вражеский прием! Приказываю ее арестовать немедленно. Вместе с прочим отребьем!
— Не сходится, — вслух прикинул Арташов.
— Что н-не?.. — Гулько почуял неладное.
— Всё! О полицае Васёве, который расстреливал заложников, она рассказала за два часа до того, как ты здесь появился.
Арташов с притворным сочувствием оттопырил губу:
— Видишь, как влип!
Холодный пот прошиб Гулько. Сзади послышался ему шорох. Он извернул голову, — в дверях, переодетый к дороге, с выражением брезгливости на лице, застыл Горевой, за которым угадывались фигуры Эссен и Невельской.
Лиц державших его разведчиков Гулько не видел, но по тому, что легкий дотоле захват сменился железной хваткой, стало ясно, — теперь они держат врага. И — не выпустят!
— Да! — наигрывая ярость, зарычал Гулько. — Да, было! Пришлось расстрелять! И это навсегда открытой язвой! Но иначе никак. Потому что проверка. А у меня было задание высшего командования. Особой важности, которое не мог провалить! Любой ценой не мог! Пойми ты это! Ты ж сам разведчик! Разве не приходилось своих, раненых, добивать, если иначе не получалось от немцев с «языком» уйти? В нашей профессии цель оправдывает средства.
— И что же это за цель? — процедил Арташов. — Какое задание?
— А вот это нельзя! — отрубил Гулько. — Это даже у расстрельной стены!..
Арташов заколебался. Слова Полехина о том, что Гулько работал в тылу врага, он запомнил.
Наступившую тишину нарушало лишь громкое, с оскорбленными всхлипами дыхание Гулько.
— Особое, говоришь, задание? — послышался гневный девичий голос. Маша, скрытая дотоле за Арташовым, обошла его и, подрагивая от негодования, подошла вплотную к особисту. — Высокая цель?
Ноздри ее затрепетали.
— А крест как отличившемуся карателю за уничтожение партизан — тоже цель? — прошелестела она.
— Да-а! — в лицо ей выдохнул Гулько. — А ты бы, мерзавка, хотела, чтоб я легенду спалил?!.. Их без меня окружили!
— А девчонки-телефонистки, которых сожительствовать принуждал? — не отступилась Маша. Она безуспешно старалась поймать ускользающий взгляд врага. — Танька Стреглых, что умерла после аборта у повитухи, — это такая твоя легенда? А Верочка Бароничева, которую сдал как полукровку, — тоже по легенде или потому, что отказала тебе? А? Легендарный? Господи! Что ж вы его слушаете?.. Так я сама за всех!
Она вдруг вцепилась ногтями в его лицо. По щекам Гулько побежали резвые ручейки.
Замешкавшиеся Сашка и Будник оттащили заливающегося кровью особиста в сторону. Арташов запоздало ухватил за плечи Машу:
— Маша, успокойся!
— Да отпусти! Чего уж теперь? — обмякшая Маша всхлипнула.
— Так вот оно что! — Гулько, исподлобья наблюдавший за ними, всколыхнулся от догадки. — Вот оно кого искать надо было! Нашлась, значит. И — все, выходит, здесь заодно. Спелся с фашистским отребьем, капитан.
Он опасливо сбился, — на лице капитана заиграла нехорошая ухмылка.
— А ведь я тебя наконец раскусил, — во всеуслышание объявил Арташов. — А то поначалу не мог в толк взять, с чего вдруг за пистолет схватился? Вроде, не припадочный.
— Потому что врага увидел!
— Это точно. И понял, чем грозит. Ты доложил руководству, что в карателях состоял и своих расстреливал?
Гулько бессильно прищурился.
— То-то и оно, — Арташов цыкнул презрительно. — То, что с заданием был, — то возможно. Только сдается мне, что задание это ты провалил. И, чтоб шкуру спасти и за своего у немцев прослыть, принялся зверствовать. Легенда всё спишет, так?
Арташов подметил, как дернулся, будто ужаленный, Гулько, и продолжил, уже уверенно:
— Может, если б задание выполнил, и зверства твои с рук сошли. А раз нет, теперь боишься, что обо всем узнают. Правильно боишься. Тут, пожалуй, не только из органов попрут. Тут до расстрела.
Кровь отлила от лица Гулько.
По знаку Арташова, Сашка передал захват Буднику, а сам принялся выгребать содержимое карманов особиста.
— Ремень сними, — дополнил приказ Арташов. — Запереть под охраной. Завтра с утра доставим в корпус. Выполнять!
— Поостерегись, капитан! — Гулько шагнул было к Арташову, но тут же ухватился за поползшие вниз штаны. И, то ли смирённый, то ли пристыженный, покорно побрел прочь из гостиной под конвоем Будника и Мухаметшина.
Маша кинулась к баронессе, прижалась. Та ласково потрепала ее по волосам.
К Арташову с понурым видом подошел Горевой.
— Получается, я всех подвел, — повинился он. — Проболтался насчет того, что госпиталям помогали. Но после встречи с генералом показалось… Правду говорят: дурак — до конца жизни дурак!.. Об одном прошу как солдат солдата: женщин не трогайте, — он приосанился. — Все документы подписывал я. Один и отвечу. Хотя и сейчас полагаю, что помогать раненым — это…
— Не знаю, в чем вы себя оговорили! — Арташов густым басом заглушил взволнованный старческий фальцет. — Но, кем бы ни оказался этот тип, — он ткнул в закрывшуюся дверь, — теперь я обязан проверить полученную информацию.
— Женя! — умоляюще вскрикнула Маша.
— Обязан! — внушительно повторил Арташов. — Поэтому, как только освобожусь, сам проведу досмотр ваших вещей и документов… Пока ступайте по комнатам.
Все трое продолжали озадаченно переглядываться. Арташов оглядел их гипнотизирующим взглядом и, чеканя слова, произнес:
— Если при досмотре в самом деле обнаружатся документы, подтверждающие факты сотрудничества с фашистами, вы будете преданы суду как пособники. Теперь поняли?
К его досаде, они всё никак не могли взять в толк, что именно надлежит им понять. А сказать больше он не мог. Выручила Маша:
— Да поняли они, поняли. Господи! Спасибо, Женечка… Пойдемте наверх, — захлопотала она, подхватывая одновременно баронессу и Невельскую. — Я вам там всё объясню. Всё объясню!
Едва Арташов вернулся в свою комнату, следом заскочил Сашка.
— Особист-то совсем поганый, — с порога намекнул он.
Арташов сделал вид, что намека не понял. Но Сашка не отставал.
— Товарищ капитан! — прошелестел он над Арташовским ухом. — Давайте мы с Петром его вроде как в штаб конвоируем, да и при попытке к бегству.
Выдержал хмурый взгляд командира:
— А чо? Делов-то. Ему всё одно вышак корячится. Но ведь гнида натуральная! Коснись разборок, всех замажет. Машу вашу первую. Да и нас, грешных, следом. О буржуях и вовсе речи нет. А? Да без балды — сделаем чисто.
Арташов заколебался. Размышляя, опустился в кресло. Дверь распахнулась. В комнату вбежала Маша.
— Женечка! — выдохнула она. Нетерпеливо глянула на Сашку.
— Надумаете, я неподалеку, — Сашка неохотно вышел.
— Женечка мой! — Маша бросилась Арташову на колени, охватила горячо. — Я сейчас, пока всё это… И когда он целился… Как же всё хрупко. Это чудо, что вот так! И мы не должны транжирить секунды, будто впереди вечность!.. На самом-то деле — соломинки беспомощные! Любый мой! Единственный. Ведь через такую войну…
Торопясь, она беспорядочно целовала его, принялась расстегивать гимнастерку.
— Так разлюбила же, — ошарашенный Арташов с усилием отстранился.
— Я?! Дурашка! Ой, дурашка! Что ж ты баб-то слушаешь? Да я всякую ночь, когда не валилась от усталости, тебя представляла. Мечтала, как найдешь, спасешь. Как зацелую. И чем меньше верила, тем больше мечтала. Может, тем и выжила. А теперь уж всё равно вместе, — что будет, то будет.
Запутавшись в тугих пуговицах, яростно дернула ворот.
— И какой же женоненавистник это придумал!
Арташов подхватил ее на руки.
Глава 8. Слепая танковая атака
Он рассказать бы мог про ад, запытанный в аду, где души юные висят, как яблоки в саду— Солдат! Попить дай! — донесся до Мухаметшина через дверь голос задержанного. — В глотке пересохло! У тебя команды уморить подполковника жаждой не было…
— Зачем уморить? — переспросил осторожный Мухаметшин. — У тебя самой графин!
— Да пустой! Кровь я, по-твоему, чем смывал? — огрызнулся арестант. — Гляди, а то когда буду всех допрашивать, с тебя за это отдельно спросится.
Мухаметшин, поколебавшись, закинул за спину автомат, налил из крана стакан воды, просунул через приоткрытую дверь:
— Бери свой вода!
В то же мгновение Гулько, ухватив часового за руку, с силой втянул его в комнату и обрушил на голову графин из-под воды.
— Сказано же тебе, чурке, — пустой! — подхватывая обмякшее тело, процедил он. Сноровисто связал Мухаметшина, всунул кляп, выдернул брючный ремень, выглянул в пустой коридор. Стараясь не шуметь, как был, в нижней, в кровавых подтеках рубахе, на цыпочках, вдоль стены, двинулся к распахнутому окну. Заметил стоящий на тумбочке рогатый, с золоченым тиснением телефон, выдрал с «мясом» и прихватил с собой.
Перемахнув через ограду, разнес аппарат о ближайшую сосну и помчался к оставленному на развилке «виллису». Радость от спасения схлынула, едва появившись. Нечему особенно радоваться. Ведь, казалось, взял за правило, — победителем выходит тот, кто идет до конца. А выяснилось, — толком не усвоил. Хотел же тогда, во Льгове, сразу пристрелить эту глазастую деваху. Так нет, побоялся расследования. Решил убрать перед самой эвакуацией. И дождался, что след простыл. Вот и расхлебывай. То, что он первым прибудет в корпус и изложит случившееся к собственной выгоде, в чем-то, конечно, поможет. Но принципиально ничего не изменит. Расстрелы, участие в карательных акциях, — всё это при желании вполне проверяется. И тут уж, как ни подавай, — влип! Да и свидетелей полно. Эх, если б можно было всех разом! Гулько аж заскулил он несбыточности этого желания.
Водитель дремал за рулем. Бойцы конвойного взвода, озабоченные длительным отсутствием начальника Особого отдела, прогуливались неподалеку от машины. При виде бегущей фигуры всколыхнулись:
— Наконец-то!
Но, приглядевшись к расхристанному, в нижней рубахе подполковнику, притихли.
Гулько запрыгнул на переднее сидение, нетерпеливым жестом приказал заводить. Опасливо оглянулся на рощу, — не показались ли преследователи.
— А вам что, отдельное приглашение? В машину! — раздраженно гаркнул он на солдат.
Конвоиры поспешили занять свои места сзади. Водитель с приоткрытым ртом продолжал разглядывать окровавленного командира.
— Что застыл?! — прикрикнул Гулько. — Галопом в корпус!
— Как прикажете, — водитель принялся разворачиваться. Повернул зеркальце к Гулько. — Видок у вас будь здоров, товарищ подполковник! Будто из плена сбежали!
При словах «из плена» в голове Гулько всё разом сошлось. Дальнейший план действий сделался ясен. Дерзкий, поначалу испугавший его самого, план. Но единственный, который в случае успеха не просто спасал, а обращал провал в победу. Детали предстояло продумать, но в целом образовывалась вполне достоверная причинно-следственная цепочка: белогвардейские пособники фашистов, завладевшие важными документами по «Фау»; среди них наткнулся на немецкую сподручную из Льгова, бежавшую от советских войск в Германию, — и оказавшуюся невестой командира роты. Подпавший под ее влияние капитан Арташов на требование арестовать преступников ответил неповиновением и, пользуясь авторитетом в роте, оклеветал перед подчиненными самого Гулько, и даже попытался его расстрелять. Бежать помогло внезапное нападение на особняк высадившегося фашистского десанта, а еще лучше власовцев. Что-то в этом роде. Удача, как известно, благоволит смелым. В конце концов, это как в истории — кто наверху окажется, тот свою правду и утвердит.
— Говоришь «будто из плена»?! — обрушился Гулько на водителя. — А то откуда же еще в таком виде? Болтаетесь тут валенками. Хватило б у них ума проверить дорогу, давно б вас всех перестреляли.
— У кого? — пробормотал один из конвоиров.
— У власовцев! — рубанул Гулько, не переставая коситься на удаляющуюся развилку. — Особняк захвачен власовцами.
— Власовцами? — оторопел водитель. — Там, вроде, разведчики наши должны быть.
— И я думал — должны! — входя в роль, яростно рубанул Гулько. — Нет больше разведчиков. Кончили их! А ну, разворачивайся!
— Так приказ был — в корпус.
— Отставить — в корпус. Пулей жми к танкистам!
Поднятый с постели командир танкового батальона майор Гаврилов, скверно побритый, недоспавший и не до конца протрезвевший, озадаченно вглядывался в окровавленного человека в нижней рубахе, в котором не сразу признал начальника Особого отдела стрелкового корпуса.
— Сосредоточьтесь, майор! — энергично потребовал Гулько. — Повторяю: по дороге сюда я был захвачен власовцами и препровожден в особняк, где, как оказалось, разместился целый ихний отряд. Человек тридцать. Там же несколько бывших белогвардейцев.
— Власовцы! Белогвардейцы! Откуда всё? — майор с тоской скосился на ведро с водой у порога.
— Очухивайся же, наконец! — Гулько подошел к ведру, зачерпнул ковш, брезгливо протянул командиру батальона. — Полагаю, высадились ночью у вас под носом. Карту!
Он ткнул пальцем в раскрытый планшет:
— Вот они, голубчики.
Гаврилов засопел:
— По моим данным, здесь должна размещаться наша разведрота. Мне как раз передали насчет координации действий…
— По моим, тоже! — со злой издевкой оборвал Гулько. — Иначе с чего бы я туда без охраны поперся? Нет больше разведчиков. Перебиты. Зато власовцы в советской форме щеголяют. Догадываешься, для чего?
— В штаб вы уже сообщили?
— Откуда? Может, прямо из особняка? Де — разрешите, сообщу нашим о том, что вы меня захватили? Да въезжай ты наконец, мать твою!..
— Ну, теперь-то сообщим! — Гаврилов, оборотясь к двери, набрал в грудь воздуха.
— Отставить! — потребовал Гулько. — Из их разговоров я понял: цель десанта — один из заводов «Фау». Там, похоже, осталась спрятанная секретная документация. Планируют захватить ее, чтобы подороже продаться союзникам. Всю операцию собираются провернуть этой ночью! И если мы промедлим и упустим, то это… Пособничество!
— Откуда вы-то про всё это узнали? С чего вдруг поделились? — во взгляде майора пробурилась подозрительность.
Гулько гневно поджал губы.
— А вот с этого! — он ткнул в свое окровавленное лицо. — Меня, видишь ли, пытали. И не стеснялись при мне обсуждать. Потому что я для них живым трупом был! Как-то, видать, не рассчитывали, что мне бежать удастся… Зато теперь знают!
Он озабоченно глянул на часы.
— Знают. А значит, поспешают. Время теряем, майор!
— Так сейчас свяжемся, доложим. Будет приказ, нажать на гашетку — минутное дело! Правда, с топливом незадача! — майору отчаянно не хотелось сейчас, накануне победы, вновь идти в бой, рисковать жизнью.
— Я — твой приказ! — отрубил Гулько. Он заметил нарастающее в глазах комбата упрямство. — Как ты думаешь, почему я к тебе ехал с конвоем?
— Ну, откуда ж мне?.. — Гаврилов поскучнел.
— Врешь, всё ты понял! — уличил его особист. — С тем самым и ехал. Только, видно, не знаешь, что девка эта, Герда, что ты по пьянке на глазах у матери шпокнул, померла!
— Какая еще Герда? — у майора пересохло в горле.
— Ты ваньку не валяй! — прикрикнул Гулько. — Там свидетелей полдома. Они и заявление в комендатуру накатали. Мало тебе было малолетку трахнуть, так ты ей, паскуда, веретило свое в детскую попку запихал так, что кишка — вдребезги!
Гневным взглядом он подавил слабую попытку возразить.
— Может, до тебя, педофил хренов, приказ маршала Рокоссовского от третьего апреля не довели?! Так я доведу! Расстреливать такую сволочь на месте. Власть на то имею. Понял?!
— Выпивши был! — прохрипел Гаврилов. Обхватив руками голову, он согнулся на табурете и безысходно застонал.
Гулько отечески возложил руку на ссутулившуюся спину.
— Так вот, майор, твой последний шанс отслужиться перед Родиной! (Гаврилов осторожно отодвинул одну из ладоней от уха) — уничтожить власовский десант. Уничтожишь — спишем! Нет — и тебя нет. Как говорится, или грудь в крестах, или сам, — Гулько пальцем потыкал в спину Гаврилова, будто пулями прошил, — в кустах. Выбирай!
Гаврилов обнадеженно поднял голову.
— Смоешь вину кровью, и — все дела!
Поняв засевший в его голове вопрос, Гулько снисходительно засмеялся:
— Не дрейфь, комбат, — тебе лучшее из покаяний выпало, — позор смыть чужой кровью! Никаких орудий, никаких фаустов и прочего у них нет! — бодро заверил его Гулько. — Автоматы да противопехотные гранаты. Они ж на бой с танковым подразделением не рассчитывали. Сколько у тебя на ходу машин?
— Десять.
— Перемешаете с землей, даже не заметив.
Гулько подстегивающе постучал по часам.
— Поднимай батальон, майор! Задачу сам поставлю. А она простая, давно уж во всех приказах прописанная: с власовцами в переговоры не вступать! Пленных не брать!
Гулько отвел глаза, чтоб комбат не заметил запрыгавшего в них предвкушения.
— Товарищ капитан! — прерывистый Сашкин голос разбудил задремавших любовников.
Маша стыдливо натянула одеяло. К ее испугу, полуголый Арташов устремился к двери, — в оттенках Сашкиных интонаций разбирался досконально.
— Упустили, раззявы?! — еще возясь с задвижкой, догадался он.
— Сбежал, — убитым тоном подтвердил Сашка. — Оглушил Мухаметшина, связал и — в окно. Оттуда, видать, через забор. Еще телефонический аппарат разломал, гнида. Говорил, надо было сразу кончать!
— Давно?
— Считай, часа с два, — Сашка виновато повел плечами. — Все ж дрыхнут.
— Может, догоним?
— Я уж прошел по следу. Там, за посадками, на развилке у него «виллис» стоял.
— Черт! Даже этого не сообразили, — огорчился Арташов. — Прав был Полехин, — рано воевать кончили!
Он глянул на часы.
— Ищи транспорт. Немедленно едем в штаб. Всё равно для него другого пути как попытаться первым нас оговорить, не существует.
Прикинул не слишком уверенно:
— Ничего. Нас тут много. Не карателю же вера будет.
Он вдруг застыл, вслушиваясь в нарастающий свистящий звук. В саду у дома раздался взрыв от разорвавшегося снаряда. Дружно повылетали стекла.
Арташов и Сашка переглянулись. Новый взрыв, на этот раз возле крыла дома, вывел их из оторопи.
— Кажись, по нам выцеливают, — пробормотал Сашка.
— Фашистский десант! Всех в ружье! — Арташов бросился одеваться, кинул платье Маше.
Ухватил за гимнастерку метнувшегося Сашку:
— Оттянуться от дома и занять оборону! А я пока детей отведу к побережью, в дюны.
Перепуганная Маша едва сумела попасть головой в платье. Арташов ухватил ее за плечи.
— Машенька! — стараясь перекрыть новый нарастающий гул, выкрикнул он. — Надо спасать детей.
Он пригнулся, прикрывая ее от очередной ударной волны.
— Ты поняла меня?! Если поняла, кивни.
Маша поспешно закивала.
— Хорошо! — Арташов торопливо поцеловал ее. — Я на второй этаж, за стариками. А ты выводи девчонок с заднего хода. Веревки обязательно прихватите. Но главное, чтоб без паники. Иначе! Сама понимаешь! Поэтому главное — без паники! Надень улыбочку и…
Маша метнулась вглубь дома.
Странная процессия продвигалась среди ночи в сторону побережья. В середине цепочки, цепляясь за веревку, которую тянула за собой Невельская, гуськом, то и дело спотыкаясь, падая, вновь поднимаясь, ковыляли полураздетые слепые девочки. Сзади и по краям, пригибаясь к земле и содрогаясь от разрывов, оглядываясь на пылающий дом, шли взрослые. Беспрестанный детский плач и женские всхлипы перекрывались ровным, бесстрастным голосом баронессы Эссен:
— Alles in Ordnung, Mädchen. Keine Panik. Das sind gewöhnliche Militärübungen. Wir sind doch mit euch zusammen! Da gibt es nichts zu fürchten. (Всё в порядке, девочки. Без паники. Это не по нам. Просто идут плановые учения. Мы с вами! Бояться совершенно нечего.)
С менторским этим тоном контрастировали полные страха глаза баронессы.
Новый разрыв вызвал среди слепых девочек крики ужаса. И Эссен, преодолев страх, вновь принялась успокаивать остальных столь равнодушно, будто и впрямь не было для нее ничего привычней ночных обстрелов.
— Hinlegen! Gut, Mädchen. Jetzt auf, meine Braven. Die tapfersten bekommen zum Frühstuck noch einen Knödel als Beigabe. (Ложись! Хорошо, девочки. Теперь встали, умницы мои бесстрашные. Самые храбрые за завтраком получат по лишнему кнедлику.)
Заслышав вопль страха кого-то из обслуги, тем же ровным голосом перешла на русский:
— А если какая-то дрянь не умеет сдержать нервы, лучше пошла прочь, но не сметь пугать детей!
Шедшая с другой стороны Маша то и дело бросалась к очередной оступившейся девочке, заботливо поднимала, успокаивала и беспрестанно с тревогой посматривала вперед, силясь различить фигуры Арташова и Горевого, прокладывавших путь остальным.
Арташов бесконечно оглядывался на разрывы, на горящий особняк.
— Долго еще?!
— Метров триста, если не сбились, — прерывисто ответил Горевой. — Там большой валун! За ним и укроемся.
Он остановился перевести дух.
— Что ж это всё-таки, господин капитан? Неужто танковый десант?
— Похоже на то. С острова Борнхольм. Проморгали. Должно быть, к заводам «Фау» рвутся.
— Но к заводам прямой путь вдоль побережья. Зачем им дом-то наш? Это ж крюк. А?
— Черт его знает, — Арташов беспокойно обернулся. — Веди, веди, отец! Минута дорога!
— Я с вами вернусь! — объявил Горевой. — Стрелять, слава богу, не разучился. А вам сейчас каждый лишний человек сгодится.
— Да не человек! Гранат бы противотанковых. Они так всех моих повыбьют! — в отчаянии выкрикнул Арташов.
Он бессмысленно принялся крутить окуляры бинокля. Вспышка на секунду осветила машины наступающего врага. Лицо Арташова посерело.
— Наши, — глухо произнес он.
— Кто ваши? — оторопел Горевой.
— Наши танки, — Арташов помотал головой. — Безумие! Но нас атакуют наши танки!.. Вот что! Мы уж далеко отошли. Дальше вы сами. Укроетесь за валуном и ждите. А я к своим… Это приказ! — пресек он возражение. — Ваша боевая задача — обеспечить сохранность детей и женщин.
— Слушаюсь! И позвольте, как говорится, пожелать!.. — Горе-вой протянул для рукопожатия руку. Но спутник, только что дышавший ему в лицо, успел раствориться в темноте.
— Удачи! — договорил, уже в пустоту, старик.
Он вернулся к отставшей цепочке. Маша, державшая за руку самую младшую — Розу, — при виде одинокого Горевого вскрикнула.
— А где?!..
Горевой хмуро кивнул в сторону разрывов.
— Опять! — простонала она.
Ухнул новый взрыв, уже в непосредственной близости от цепочки.
— Hinlegen! (Ложись!) — истошно выкрикнула Маша и кинулась на землю, подмяв под себя Розу. Подле них раздался женский вскрик, короткий детский стон.
— Ach! Hier gibt es etwas warmes! — испугалась Роза. — Und wo ist Gretchen? Gretchen! (Ой! Я в чем-то теплом! А где Гретхен? Гретхен!)
Маша меж тем обшарила неподвижное тельце Гретхен. Ощупала тело Глаши, обожглась о торчащий из спины здоровенный осколок. Сдерживая рыдания, сжала собственное горло.
— Das ist nur Schmutz, Rosa! Der warme Schmutz, — пробормотала она, прижимая девочку. — Wir sind in Schmutz niedergefallen. So ungeschickt! Gretchen und Glascha sind schon vorwärts gegangen. Habe keine Angst, meine liebe. (Это просто грязь, Роза! Теплая грязь. Мы с тобой в грязь упали. Вот ведь неловкие какие! А Гретхен с Глашей вперед ушли. Не бойся, милая!)
Подползла Невельская, склонилась над телами:
— Что?
— Всё, — Маша, готовая впасть в истерику, показала окровавленную ладонь.
— Только не теперь! — Невельская с неожиданной силой встряхнула ее. — Не теперь, хорошая моя! После всех отплачем!.. Mädchen! Auf! Und marsch! Die übungen setzen sich noch fort! Es wird noch ein bißchen dauern. (Девочки! Поднялись и вперед. Учения продолжаются! Осталось совсем чуть-чуть.)
Маша обернулась на горящий особняк, откуда доносились бесконечные разрывы. Подхватила на руки рыдающую Розу и устремилась за остальными.
Баронесса Эссен, обогнув валун, обнаружила вглядывающегося в море Горевого.
— Что, Сергей Дмитриевич?
— Похоже, траулер, — он показал на огни в море, совсем рядом с берегом.
— И что с того? — баронесса увидела, что Горевой, усевшись на камень, принялся стягивать с себя обувь. — Что вы задумали?
— Что наши с пукалками против танков? А, перебив их, и нас проутюжат. Спастись можно только морем. Я уговорю капитана.
— Да о чем вы, Серж? — баронесса ухватила Горевого за руку. — Это же черт знает где! Дотуда и летом-то не доплыть. Все-таки не прежний мальчик. Тем более в бурлящей, холодной воде. Да даже если и доплыть. Ведь тьма кромешная. Пройдут мимо в десяти метрах и не заметят!.. Я запрещаю это безумие. Пожалуйста, Сережа. Это самоубийство.
Горевой упрямо освободил руку.
— Это шанс.
Разглядев тревогу на лице баронессы, шутливо приободрился:
— И потом, я выполняю боевой приказ, — обеспечить сохранность женщин и детей. А другого пути не вижу…
Ему показалось, что баронесса плачет.
— Полно, сударыня, вы забываете, что перед вами лучший пловец Балтфлота. Так что — вперед, за орденами!
Он подмигнул с непривычной развязностью.
— Сережа, милый! — баронесса потянулась обнять Горевого.
Шальной разрыв совсем близко заставил ее испуганно пригнуться. Когда она подняла голову, то услышала всплеск от нырнувшего тела.
Разведчики в беспорядке залегли за развороченным садом среди беспрерывных разрывов, порхающих яблоневых лепестков вперемешку с птичьим пухом, — снаряд угодил в сарай со сваленными подушками. Многие лежали прямо в свежих воронках. Отстреливались короткими очередями. Больше чтоб отвлечь на себя огонь танков. И тут же переползали, не давая пристреляться.
В одной из воронок залегли старшина Галушкин и Карпенко. После очередного разрыва справа послышался вскрик.
Карпенко выглянул:
— Еще одного накрыло! И Захар не возвращается. Вызвался в пекло, дурень! Лишь бы гонор показать.
— Почитай, половину уж за просто так выбили! — выкрикнул Галушкин, вне себя от отчаяния. — Эх, гранат бы противотанковых. Всех бы в темноте пожгли!
Он в бессильной ненависти принялся колотить кулаками о землю.
— Может, пора отползать? — нервно предложил Карпенко.
— Я тебе! Лежи хрюслом вниз. Приказ капитана был?
— Так где ж он, капитан-то?..
— Говорено вам, детишек калечных укрывает. Вот-вот вернется.
— Кого только застанет? — пробурчал Карпенко. — Ведь задарма выбивают. Вот и Захара, похоже!.. Может, сползаю, погляжу, вдруг жив дурень. А?
Сверху на него свалился возвратившийся Захарчук.
— Во, пожалуйста! — Карпенко фыркнул. — Кого б другого, а этому чего доспеется.
— Вам где с Петраковым наблюдать велено? — Галушкин нахмурился.
— Нету Петракова. Башку как срезало, — Захарчук перевел дыхание. — Старшина! Тут такое дело. Я, когда подполз, вгляделся… Вроде, на танках звезды.
— Белены, что ль, объелся?! — встрепенулся Галушкин.
— Этот запросто, — подтвердил Карпенко. — Этому москалю со страха чего не привидится!
— Заткнись, пустомеля! — оборвал Галушкин. — Точно, что видел? — Он принялся нервно накручивать окуляры бинокля.
— Уж и так, и так. Да и по силуэтам если… Тридцатьчетверки… Вон в ту сторону, получше видно!
В воронку с бутылками зажигательной смеси ввалились Сашка и Будник.
— Нашли! Целехонькие, — удовлетворенно объявил Сашка. — Сейчас угостим Гансов коктейлем Молотова. Отвыкли, поди! Так напомним.
Галушкин оторвал от глаз бинокль.
— Точно! Звезды, — подтвердил он. — Наши!
— Как это наши? С какого перепуга наши? — Сашка бросил возню с горючим. Выхватил у старшины бинокль. Пригляделся. — И впрямь, — мама дорогая! Так это тогда танкисты, что на Арконсе стоять должны. Перепились, что ли?
— Дорого им эта пьянка отольется! Первого же, кто под руку попадется, придушу! — Галушкин скинул гимнастерку, содрал с себя белую рубаху. Полез из воронки.
— Не пори горячку! — ухватил его за сапог Будник. — Здесь тебе не каптерка. Надо бы посторожиться. Высунь сначала тряпку свою наружу. Мало ли?
— Э! Хватит. Отсторожился, — Галушкин вырвал ногу, выбрался на край воронки.
Размахивая белой рубахой, побежал к танкам.
— Ребята! Стой! Свои! Прекратить стрельбу! По своим лупите! Мы — советские! Разведка Арташова.
Короткая пулеметная очередь переломила старшину на бегу.
Оставшиеся в воронке ошарашенно переглянулись.
— Переговорили, — констатировал Будник. — Всё, хлопцы! Шабаш, — он с чувством прихлопнул себя по ляжке. — Раз пошел такой перебор, отползаем и — растворяемся в дюнах. Давай, по одному, перебежками, — он подтолкнул Карпенко и Захарчука. Обернулся к Сашке, который как ни в чем не бывало обустраивался для боя. — А ты что?
— Без команды капитана не уйду! — коротко объявил Сашка.
Карпенко и Захарчук, готовые выпрыгнуть из воронки, приостановились.
— Да Арташова самого накрыло! — надрывно выкрикнул Будник. — Где он? Сорок минут, считай, прошло. А я жечь советские танки, чтоб потом под трибунал, не подписывался. И ждать, пока свои же под конец войны покрошат в капусту, не собираюсь. Ну?!
Взрыв совсем рядом обрушил на них комья земли.
Будник отряхнулся, постучал себя по уху, требовательно подергал Сашку. Тот продолжал упрямо готовить бутыли с горючей смесью.
— Что ж, вольному воля, дураку рай, — Будник рывком выпрыгнул из воронки. Карпенко собрался выбраться следом, но, обернувшись, увидел, что Захарчук принялся обустраи ваться подле Сашки.
— О, москаль упертый! Всё бы ему поперек характера! — негодуя, Карпенко вновь сполз на дно воронки.
Меж тем остальные разведчики, понукаемые Будником, один за другим перебежками двинулись в сторону дюн и едва не уткнулись в появившегося из темноты капитана.
— Что?! — Арташов обвел подчиненных взглядом. Насчитал полтора десятка.
— Остальных всех?.. — не в силах поверить, что от его роты осталась половина, охнул он. — И это от своих!
— Точно так! Наши тридцатьчетверки, — подтвердил Будник. — Лупят, гады, по всему, что движется. Старшина сунулся с белой тряпкой… Скосили. Набухались, должно быть.
В ночи вспыхнуло. Факелом загорелся танк.
— Сашка с Карпенкой и Захаром, — буркнул Будник. — Кость на кость пошли. Коктейлем Молотова по своим шуруют. Я пытался этих дураков увести. Но без вашей команды отказались. Знаете же Сашку.
Он с тоской всмотрелся в ночные всполохи. Сведенные скулы командира окончательно вывели его из равновесия:
— Товарищ капитан! Прикажите, вернусь к ним. Если кто выжил, силком уволоку, да и нырнем в темноту. От танков по темноте уйти, делов-то?! А?
Новый взрыв. Еще один загоревшийся танк. Ожесточенные пулеметные очереди.
Арташов, отодвинув Будника, шагнул в сторону боя.
— Капитан? — умоляюще ухватил его за рукав Будник. — От своих смерть принять! Западло как-то!
Арташов взглядом заставил забывшегося подчиненного отступиться. Ткнул пальцем в темноту.
— В пятистах метрах за нами слепые сироты. Им уйти некуда. Если не уведем танки в сторону, всех перестреляют и подавят гусеницами, — в темноте не различишь, где солдат, где калека. Вот такая вам будет диспозиция.
Не теряя больше времени, Арташов побежал в сторону разрывов. За ним двинулись остальные.
— Судьба-подлянка! — надрывно выкрикнул Будник. — По-всякому блефовал. Но чтоб перед Победой, когда все козыри на руках, и под свой же танк, — это перебор!
Матерясь, припустил следом.
Глава 9. Солдаты вермахта
Молчи! Не время, не сейчас высказывать предположенья о том, что кончилась война. Солдату всё един приказ, он выполнит предназначенье, душа метаться не вольна.По Балтийскому морю полз скупо освещенный траулер. На палубе сгрудились сорок фашистских солдат в изумрудных шинелях. Негромко играла губная гармошка. Перевязывал раненого фельдшер.
С капитанского мостика на солдат поглядывал капитан траулера рыжебородый датчанин Торвальдсон. Взгляд его то и дело с беспокойством останавливался на фигуре сидящего офицера, гауптмана Ранке. Прислонившись спиной к борту, тот с закрытыми глазами в такт мелодии мерно постукивал затылком по металлу.
— Versuchen Sie sich den Schädel zu zerschmettern? (Приноравли ваетесь размозжить башку?) — над Ранке навис лейтенант Вольф.
Ранке поморщился. В надежде, что лейтенант отойдет, он продолжал с закрытыми глазами вслушиваться в гортанный клекот чайки.
Непонятливый Вольф не отступался. Ранке неохотно открыл глаза.
— Bringt dieser scheussliche Jammer Ihnen niemanden in Erinnerung? — буркнул он. — Leibhafige Oberst Westhuss! (Вам эта противная глотка ничего не напоминает? Вылитый полковник Вестхус!)
— Es gibt schon keinen Oberst (Нет больше полковника), — напомнил Вольф.
— Ja, — неохотно подтвердил Ранке. — Es gibt schon niemanden. Nie-man-den. Findest du nicht, daß es ein wenig trübsinnig wirkt? (Нет. Никого нет. Ни-ко-го. Не находишь, что звучит уныло?)
— Ich fnde, wir haben tolles Glück gehabt, — Вольф подсел рядом. — Nach drei, vier Stunden kommen wir ans Land in Seeland und alles wird vorbei! Gefangenschaf bei Engländern ist nicht die schlimmste Möglichkeit. Die Hauptsache ist, Ivanen zu entkommen. So an deiner Stelle wäre ich froh. (Да. Я нахожу, что нам крупно повезло. Через три-четыре часа высадимся на Зеландии, и всё будет кончено. Плен у англичан — не самый скверный вариант. Главное — от Иванов ускользнуть. Так что я бы на твоем месте радовался.)
Он протянул Ранке фляжку.
— Haha! — Ранке, пугая собеседника, издал гулкие, издевательские звуки, похожие на клекот чайки. — Das große soldatische Glück! Aus einer Gefangenschaf in andere! Was für Srategen! (Ха-ха! Большая солдатская удача! Тонкий военный маневр. Ушли из одного плена в другой. Каковы стратеги!)
Он от души приложился к фляжке. С хитрецой ткнул пальцем за спину Вольфа:
— Und nimmst du sie auch mit? (А их ты тоже с собой возьмешь?)
Вольф непонимающе обернулся: за его спиной лишь борт корабля — и плещущееся море.
— Unseren Toten! (Мертвецов наших!) — обозлился на непонятливость приятеля Ранке. — Die sind uber ganz Europa zerstreut. Soll ich sie aufzählen? Ach, wo! Seit langer Zeit habe ich es selbst vergessen. (Которые по всей Европе разбросаны. Тебе их перечислить? Хотя где там. За столько-то лет сам перезабыл.)
— Sei ruhig, Karl (Уймись, Карл), — Вольф намекающе кивнул в сторону палубы. Солдаты, из тех, что поближе, принялись прислушиваться к выкрикам своего капитана. — Wir haben überlebt und sind nicht schuld daran. Der Gott gab Jedem das Seine. (Мы не виноваты, что выжили. Бог каждому судил свое.)
— Der Gott! — Ранке взвился. — Er hat sich den Teufel um uns geschert. Fünf Jahren in Graben. Wir morden. Man mordet uns. Wir — uns! Wir — uns! Fünf Jahre lang! Und bemühte sich der Gott dafür, Engländern, Französen, Deutschen schöpfend? Um sich das Vergnügen einen Aderlaß machen? Und, wenn es sich so verhält, wozu brauche ich eigentlich einen Gott? Zwölf Jahre haben wir um des Reichs willen gelebt, haben es unterstützt. Und was gibt es heute? Was haben wir über? (Бог! Плевать ему на нас. Пять лет в окопах. Убиваем мы. Убивают нас. Мы — нас! Мы — нас! Пять лет! Для этого Бог потрудился, создавая англичан, французов, немцев? Чтоб ему на потеху излишек дурной крови выпустить? А если для этого, на кой черт мне такой Бог сдался? Двенадцать лет жили Великим Рейхом. Несли его. И теперь — что в остатке?)
Он ткнул в сторону острова Рюген, мимо которого проплывал траулер.
— Wir haben sie ihrem Schicksal überlassen! Diesen Ivanen, die dort… (Вот их на кого бросили?! На Иванов, которые там сейчас…)
В горле его клокотнуло.
— Wir aber fiehen Hals über Kopf. Man möchte heulen! (А мы как крысы с корабля. Выть хочется!)
И вдруг, откинувшись, в самом деле завыл по-волчьи.
К офицерам подбежал Торвальдсон:
— Meine Herren! Würden Sie bitte aufören! Wir befnden uns nur eine Meile von Rügen entfernt. Am Wasser verstärkt sich die Schallintensität. Wenn Russen etwas aufschnappen… Gott bewahre! Jeder Zufallstrefer… (Господа! Прошу прекратить. Мы всего в миле от Рюгена. Звук на воде усиливается. И не дай бог, если русские услышат!.. Любое случайное попадание…)
— Halt’s Maul! (Заткнись!) — рявкнул Ранке. — Deine Kiste ist bezahlt. Und du darfst dich nicht ins Gespräch der Ofziere von der siegreichen deutschen Armee einmischen! (Тебе заплачено за твое корыто. И не сметь встревать в беседу офицеров победоносной германской армии!)
Торвальдсон посерел. Вольф испуганно схватил приятеля за руку:
— Karl! Besinne dich! (Карл! Опомнись!)
Но Ранке уже не владел собой:
— So weit ist es also mit mir gekommen! Ein beschissener Skandinavier wird mir Verweis erteilen! Mein Land ist daneben. Es ist beschmiert, doch das maine!.. (Дожил! Каждый поганый скандинавишко будет мне указывать! А я возле своей земли. Обгаженной, но своей!..)
При виде испуганных лиц собственных солдат Ранке ухмыльнулся:
— Seien Sie nicht feige! Um euch braucht sich kein Mensch zu kümmern. Russen sind bestimmt schon vor Freude besofen. Das Deutschland liegt unter ihnen, und spreizt freiwillig die Beine. Und die letzte überreste des Reiches gehen in Gefangenschaf — mit Sang und Klang! (Да не дрейфьте, никому вы не нужны. Русские, поди, перепились от радости, — Германия-то под ними лежит. Да еще и сама ноги раскинула. А последние ошметки рейха в плен драпают — под музычку!)
Он ненатурально загоготал и вдруг, прервавшись, «сделал стойку». Застыли и Вольф с Торвальдсоном. Повскакали с палубы солдаты.
С побережья острова Рюген всё явственней доносилась танковая канонада.
— Sieh mal, irgendwelche Abteilung kämpf sich durch (Надо же, какая-то часть еще пробивается.), — озадаченно констатировал Вольф. — Seit drei Tagen sollte dort niemand bleiben. (Уж дня три как никого не должно было остаться.)
Торвальдсон, обеспокоенный недоброй задумчивостью, в которую впал Ранке, поспешил напомнить:
— Meine Herren, das Fangboot ist überladen. Wenn wir in Dunkelheit Seeland nicht erreichen, gibt es Gefahr, den Wachbooten in Sicht kommen. Sie werden uns gerade in See erschissen. (Господа! Траулер перегружен. Потом, если мы по темноте не дойдем до Зеландии, велик шанс напороться на сторожевые катера. Они расстреляют нас прямо в море.)
Ранке со сведенными скулами исподлобья взглянул на Вольфа, на сгрудившихся солдат и понял, что приказ идти на подмогу пробивающейся части может вызвать у исстрадавшихся, дошедших до крайности людей мятеж. Он отступился, бессильно бормоча:
— Und sollen das Arier sein! (И это — арийцы!)
— Mann über Bord! (Человек за бортом!) — донесся крик с мостика.
— Boot aufs Wasser! (Шлюпку на воду!) — нехотя отреагировал Торвальдсон.
Находящиеся на палубе сгрудились на корме.
Через несколько минут из воды подняли обессилевшего, захлебывающегося кашлем пловца. Горевого колотило от озноба. Вольф молча сунул ему фляжку, к которой тот охотно припал.
— Wer ist das? (Кто такой?) — подступился Ранке. — Und was für ein Beschüß? (И что там за стрельба?)
— Ein Moment! Habe Wasser geschluckt. (Сейчас! Наглотался.) — Горевой жестом показал, что его выворачивает. — Viele Jahre habe ich nicht geschwommen… Hab schon gedacht, ihr sichten mich nicht, — махнул он в сторону берега, — Dort sind Kinder. (Столько лет не плавал… Думал уж, не заметите! Там дети!)
— Was für die Kinder? (Какие еще дети?) — сердито поторопил Ранке. — Wer schießt? (Кто стреляет?)
— Die blinde Krüppels… Die Mädchen nach Bombardierung. Wenn man hilf ihnen nicht, kommen dorthin Panzer. Sie wehren sich noch, aber gegen die Panzer… (Слепые калеки… Девочки после бомбежек. Если не помочь, их — танками! Пока отбиваются, но против танков… нечем обороняться.)
У Ранке и у всех остальных глаза, полезли на лоб:
— Hör auf mit dem Quatsch! Wаs für die Panzer? (Что ты несешь? Кто — танками?)
— Es scheint, Russischen. (Кажется, русские.)
— Und wer wahrt sich? Die blinde Krüppels? (А кто отбивается, — слепые калеки?!)
— Auch die Russen. (Тоже русские.) — Горевой увидел перед собой остолбенелые лица. Успокаивающе помахал рукой. — Ein Moment, meine Herren, ein Moment! Das Herz… Ich habe von der Kälte entwonnt. (Сейчас, господа. Сейчас! Сердчишко что-то прихватило. Отвык от холода.)
Он торопливо приложился к фляге.
…Закончивший рассказ Горевой откинулся к борту. Ухватившись рукой за грудь, трудно задышал. Но этого никто не заметил.
Ранке мрачно уставился на Торвальдсона. Понимая, что сейчас последует, Торвальдсон громко напомнил:
— Meine Herren! Bald graut es. Wenn wir an Seeland nicht gelängen… Möchten Sie schließlich am Leben bleiben? (Господа! Скоро начнет светать. Если мы не успеем добраться до Зеландии!.. В конце концов, вы хотите выжить?)
— Ich föte drauf! (Плевать!) — рявкнул Ранке. — Dort sind unsere Kinder, die wir nicht verteidigen konnten! Also, Ich warne allen, ich bin keine Ratte! Und sie haben nur einen Weg sofort in Gefangenschaf gehen. (Там наши дети, которых мы не защитили! Так вот, предупреждаю всех, я не крыса! И для вас только один способ немедленно уйти в плен…)
Он потянулся к кобуре, с вызовом взглянул на своих солдат. И встретил уже другие глаза, — полные боли и решимости. Знакомые глаза тех, кого не раз водил в бой.
Сразу успокоившись, перестал теребить кобуру и будничным тоном скомандовал Торвальдсону:
— Landwärts anliegen!.. Zur Ausbootung vorbereiten! (К берегу!.. Приготовиться к высадке!)
Глава 10. Честь имею!
Стынут в мраморе и бронзе имена показненной молодой мужицкой силы вдоль дороги, где протопала война, обелисков да крестов нагородила.Бой переместился. Уводя танки от дюн, разведчики отходили вглубь острова. Горело уже три танка, но и разведчиков осталось всего одиннадцать. Последними отступали Захарчук и Карпенко. Случайная, наугад в темноту, пулеметная очередь прошила приподнявшегося Захарчука. Карпенко обернулся на звук, бросился к упавшему.
— Опять симулируешь, москаль, — он принялся теребить неподвижное тело. — Захар, чего ты? Захарушка!..
Поняв, что Захарчук мертв, Карпенко впал в ярость. Забывшись, вскочил и принялся бессмысленно ошлепывать себя в поисках несуществующей гранаты.
Новая очередь сломала пополам самого Карпенко. Теперь разведчиков осталось девять.
Траулер причалил к берегу неподалеку от валуна, подле которого застыла баронесса Эссен. Она жадно вглядывалась в сбегавших по трапу солдат. Завидев среди них офицера, подбежала к нему.
— Herr Ofzier! Mit Ihnen muss… (Господин офицер! С вами должен быть…)
— Wo sind die Kinder? (Где дети?) — перебил ее Ранке.
— Ganz nahe. (Совсем рядом.) — Баронесса указала направление. Очередной взрыв снаряда заставил ее втянуть голову в плечи. — Sie kommen zurecht. Wir wurden beschossen… (Вы очень вовремя. На нас напали…)
— Ich weiß! Fünf Männer, um Kinder bringen zu helfen. Zehn stehen Wache (Знаю! Пять человек, помочь привести детей. Десять — охрана по периметру.)
Он подозвал капитана:
— Hofentlich, Ihre Kiste besteht die Kinder. (Надеюсь, детей ваше корыто выдержит.)
Торвальдсон ткнул в разрывы:
— Wenn Panzer zum Ufer kommen, schafen wir es nicht, abzulanden. (Если танки выйдут на берег, мы даже не успеем отплыть.)
Ранке кивнул.
— Frau, die Zeit drängt, (Фрау, у нас мало времени.) — обратился он к баронессе. — Das Schif fährt nach Dänemark. Wir können Sie und Kinder an Bord nehmen. Wenn Sie bereit sind, schifen Sie sich ein. Bevorzugen Sie doch nicht unter Sovjietischen Gewalt bleiben, oder? (Судно идет в Данию. Можем принять вас с детьми на борт. Если готовы, грузитесь. Или предпочитаете остаться под Советами?)
Баронесса, оглянувшись на полыхающий замок, покачала головой:
— Aber was fangen wir in Dänemark an? Ein ganz fremdes Land. (Но что нам делать в Дании? Совершенно чужая страна.)
— Das ist Ihre Sache. (Это ваша забота.) — Ранке, более не отвлекаясь, сбежал на берег.
— Wenn Sie wünschen, kann man nach Spanien fahren (Если желаете, можно в Испанию.), — услужливо подсказал Торвальдсон.
— Nach Spanien? — радостно вскинулась баронесса. — Es wäre wunderschön. Ich habe dort einflussreiche Freunde. (В Испанию? Это было бы прекрасно. У меня там влиятельные друзья.)
— Also, alles ist ganz einfach. Sonnabends fährt von Malmo nach Lissabon ein Schif, via spanische Hafen La Coruca, es führt neutrale schwedische Flagge. Der Kapitän ist mein Kamerad, und für mässige Bezahlung… (Тогда всё просто. По субботам из Мальме на Лиссабон уходит пароход под нейтральным шведским флагом — с заходом в испанский порт Ла-Корунья. Капитан — мой приятель, и за умеренную плату…)
— Ich lasse es an Dankbarkeitsbeweisen nicht fehlen! (Я отблагодарю вас!) — Она спохватилась. — Sagen Sie bitte, wo ist main… (Скажите, а где мой?..)
Но Торвальдсон успел отойти.
— Zwanzig Männer mit mir. Die Panzerfauste zum Gefecht! (Двадцать человек со мной. Фаустпатронщики, к бою!) — донесся голос Ранке. — Wolf, Einladen ist ihre Pficht! (Вольф, погрузка на вас!)
— Jawohl! (Есть!) — услышала баронесса над ухом. Лейтенант Вольф сбежал по трапу.
Баронесса ухватила его за рукав:
— Entschuldigen Sie, mit ihnen muss mein Hofmeister sein. (Простите, но с вами должен быть мой управляющий.)
Она сглотнула:
— Hat er doch geschwommen? Wenn Sie selbst hier sind. (Он ведь доплыл? Раз вы здесь.)
— Ah, der Alte? (Ах, старик?) — Вольф, занятый своими мыслями, неохотно отвлекся. — Ja, Sie dürfen kommen. Man hat ihn auf dem Decke gelegt. (Да, можете пройти. Его положили на палубе.)
Баронесса, шагнувшая к трапу, остановилась:
— Was heißt «gelegt»? Ist er schlecht daran? (Как, то есть, положили? Ему плохо?)
— Schon nicht (Уже нет.), — Вольф наконец разглядел страх на лице старухи. Придал лицу скорбное выражение. — Er ist von der überkühlung gestorben. Das Herz! Gnädige Frau, Entschuldigen Sie, bitte. (Умер от переохлаждения. Сердце! Извините, фрау.)
Побелевшая баронесса осела на землю.
Арташов, лежа на траве, озабоченно вглядывался вдаль. Ночь — их защитница — начинала преобразовываться в рассвет. Из темноты выскочил Сашка, упал рядом.
— А Будник?!
По тяжелому Сашкиному молчанию Арташов всё понял. Чтобы не зарычать, ухватил зубами траву.
— Чуть не в упор подползли, — прохрипел Сашка. — Совсем уж собрались в рост встать, чтоб окликнуть. И тут голос разобрали…
— Ну?! — яростно поторопил Арташов.
— Особист, — ответил на незаданный вопрос Сашка. — Распоряжался, чтоб перестрелять власовских недобитков до одного. Поняли? Власовцы мы для них. Как говорится, — переговоры невозможны!
Арташов, в бессильной ярости, уткнулся лбом в землю:
— Сам выпустил, раззява!..
Сашка спохватился:
— Не вините себя, товарищ капитан! Кто ж мог представить, что эта гнида такую подлянку завернет! Это бы и Гитлер не додумался.
Арташов, прикусив губу, приподнялся:
— Как с патронами?
— Почитай, у всех кончились.
— Раздай оставшиеся бутылки. Задача — подползать в темноте к танкам. Кому повезет — жечь!
— А вы, товарищ капитан?
— Я по Гулькову душу, — Арташов скрежетнул зубами. — Только бы на расстояние броска выйти. А уж там на лету порву.
— Обижаете, — Сашка прижал его к земле. — Вернулся бы я пустым. Петро эту гниду прямо из кустов очередью подшил. Следом, правда, самого.
Арташов застонал. Невдалеке разорвался очередной пущенный наугад снаряд. Арташов вновь застонал, — уже иначе.
— Что?! — Сашка чутко бросился к командиру.
Из темноты подскочил Мухаметшин.
— Товарища капитана! Опять танка ближе ползет! Надо бы еще отойти… Что с капитаной? Убит?!
Сашка облегченно приподнялся над лежащим.
— Кажись, только контузило!.. Эй, кто рядом? — приглушенно позвал он.
Из темноты выскочили двое.
— Оттащите командира в дюны к валуну! Головой отвечаете, — скомандовал Сашка. — Остальные — разобрать бутыли!
Укрываясь за малейшими бугорками, разведчики поползли навстречу смерти.
Выстрел справа заставил всех замереть. Один из танков загорелся. Бойцы переглянулись, — все, кто выжил, были на на виду друг у друга. Еще выстрел.
— Видать, в штабе прознали и прислали помощь, — радостно предположил кто-то. — Ишь, как складно молотят.
— Грамотно подобрались. Сбоку, со стороны моря, — оценил другой. — Танк сбоку, как голая девка, — бери не хочу.
— Откуда со стороны моря нашим взяться? — Сашка недоверчиво оттопырил нижнюю губу. Вслушался.
— Как будто фаусты, — озадаченно определил он.
— Фашист, да? Десант, да? — Мухаметшин поежился. Новое попадание зажгло еще один танк. На глазах оторопелых разведчиков один за другим разгорались танковые факелы.
Спустя пять минут выстрелы прекратились. Затем — короткие автоматные очереди, и — тишина. Танкового батальона майора Гаврилова больше не существовало.
— И что мы получили на выходе? — Сашка озадаченно оглядел остальных.
— Хотя бы живы, — неуверенно ответил Ипатов.
— Пока живы! — зло оборвал Сашка. — Потому что во взаимодействии с фашистским десантом положили советский танковый батальон!
— Но они сами напали! — запротестовал перепуганный Ипатов. — И фашистов мы не приглашали. Случайно всё получилось!
Сашка нахмурился.
— Это ты у расстрельной стенки объяснишь!.. Черт, туда ж капитана понесли. Не хватало еще, чтоб они к фрицам в зубы угодили. Все за мной!
Разведчики нагнали своих у самого побережья. Арташов лежал на плащ-палатке. Двое сопровождавших, укрывшись за чахлыми кустиками, вглядывались в происходящее на берегу. Дети с баронессой были уже на судне. Лишь Маша металась по берегу возле охраны.
По трапу сбежала Невельская:
— Маша, ступай на судно, — поторопила она.
— Я без него не уеду! — огрызнулась та.
— Господи, девочка! Да их там всех наверняка… Прости, родная. Но — что уж теперь?
— Без него не уеду, — упрямо повторила Маша.
— Похоже, готовятся к отплытию, — сообщил один из разведчиков. — Эх, патронов малёк! Захватили бы на ура!
— Если бы бабушке то, что у дедушки… — пробурчал Сашка, прикидывая, как подать знак Маше.
Внезапная команда «Hände hoch!» подбросила разведчиков с земли. Группа Ранке, вернувшаяся с поля боя, подобралась с тыла.
Победители, окруженные побежденными, спина к спине ощетинились бесполезным оружием.
— Hände hoch! — нетерпеливо повторил Ранке.
— Может, тебе еще и спинку почесать? — Сашка дотянулся до финки в голенище.
Бдительный Ранке приготовился дать отмашку.
— Nicht schissen! (Не стреляйте!) — Маша метнулась к ним. Прорвалась через строй немцев, увидела Сашку. — Где?!
— Жив! — Сашка отступил. При виде Арташова на плащ-палатке Маша упала на колени.
Озадаченный Ранке выставил ладонь.
— Meine Herren! Schissen Sie nicht! (Господа! Не смейте стрелять!) — подоспевшая Невельская кинулась к гауптману. — Sie haben unsere Kinder gerettet… (Они спасли ваших детей…)
Тут же, по-русски:
— Не стреляйте! Это они вас выручили. Они сейчас уплывут и больше никогда не вернутся.
Вновь умоляюще обратилась к Ранке:
— Sie hindern daran nicht, uns davonzufahren! (Они не помешают нам уплыть!)
Ранке, поколебавшись, сделал знак опустить оружие. Опустили бесполезные автоматы и разведчики.
С борта сбежал Торвальдсон.
— Herr Kapitän! — на ходу закричал он. — Begreifen Sie doch! Wir haben keine Zeit. (Господин капитан! Поймите наконец! У нас нет ни минуты.)
— Einschifen! (Грузиться!) — по приказу гауптмана солдаты двинулись к траулеру. — Frau, beeilen Sie sich! (Поторопитесь, фрау!)
— Машенька, — Невельская потеребила Машу за плечо. Та подняла залитое слезами лицо:
— Я без него не уеду.
Невельская вопросительно посмотрела на Торвальдсона.
— Schifet sich ein! Jetzt ist es schon ganz egal. Wenn nur schneller. (Грузите! Грузите! Теперь уж всё едино. Лишь бы скорее.) — замахал тот руками. Показал на разведчиков. — Diese auch? (Эти тоже?)
— В самом деле, — спохватилась Маша. — Вам же нельзя оставаться.
Подскочила к Торвальдсону:
— Sie dürfen nicht hier bleiben. Man wird sie erschießen. (Они не могут остаться. После случившегося их здесь расстреляют.)
Датчанин усмехнулся:
— Möchten Sie, daß sovjietische Soldaten bei Alliirten in Gefangenschaf gerieten? Sie werden schon morgen zurück übergegeben. (Вы хотите, чтоб советские солдаты сдались в плен союзникам? Да их завтра же выдадут назад.)
— Kann man wirklich nichts zu tun? (Неужели ничего нельзя сделать?) — Невельская умоляюще сложила руки.
Торвальдсон, все мысли которого крутились вокруг отплытия, готов был на всё, чтоб его ускорить.
— Es sei denn, daß sie mit Ihnen zusammen bis zum Spanien fahren. Selbstverstandlich, muß man draufzahlen… (Если только вместе с вами посадить до Испании. Конечно, придется доплатить…)
— Wunderschön! (Прекрасно!)
Маша бросилась к разведчикам. Захлебываясь от спешки, передала предложение Торвальдсона.
— Мальчики! У вас всё равно нет другого выхода. Здесь вас расстреляют свои же. А там новая жизнь! Начнем все вместе. Вы, я, ваш капитан. Ну же?!
Разведчики переглянулись, без слов поняли друг друга.
Сашка хмыкнул:
— Бог с вами, Маша, радость наша! Где мы, и где заграница?
— Но ведь это же смерть для вас!..
— Авось, — Сашка жестом остановил ее. — Капитана сбереги.
С судна нетерпеливо посигналили. Двое солдат, по знаку Ранке, подхватили плащ-палатку с Арташовым.
Растерявшаяся Маша наспех перецеловала разведчиков и, зареванная, последней взбежала по трапу.
— Leinen los und ein! (Отдать швартовы!) — тотчас подал команду Торвальдсон.
От заведенного мотора судно встряхнуло. Потревоженный Арташов со стоном открыл глаза. Увидел над собой темное небо. В следующее мгновение небо от него отгородили счастливые Машины глаза.
— Очнулся! — пробормотала она.
— Где мы?
— Это корабль. И мы с тобой на нем, — невнятно объяснила Маша.
Арташов принялся озираться и увидел себя на палубе среди фашистских солдат.
Разом вспотев, вжался спиной в борт и судорожно принялся шарить по бедру в поисках пистолета. Увы! Кобура оказалась пуста. Немцы поглядывали на него со снисходительной насмешкой.
— Женечка, успокойся! — перепуганная Маша с силой прижалась к нему. — Это не враги. Они не тронут тебя. Они сами пленные.
— Они с оружием!
— Они плывут в плен. А мы с тобой — в Испанию.
— Ку-да?! — очумевший Арташов попытался подняться. — Где мои ребята?
— Погибли.
— Все?!
— Все, — стараясь выглядеть твердой, подтвердила Маша.
Ноги под Арташовым подкосились. Маша едва успела смягчить падение.
— Только не волнуйся! Я тебе всё объясню, — заторопилась она. — Всё объясню, и ты поймешь. Потом примиришься, и всё образуется.
По палубе с совершенно подавленным видом прогуливалась баронесса Эссен.
Поднявшаяся из трюма Невельская подошла к ней:
— Девочек укладывают. Кажется, успокоились.
— Он же был таким крепким, — в голосе баронессы проступила безысходность.
Невельская, утешая, приобняла подругу.
— Знаешь, Лидушка, я тебе прежде не рассказывала, — растроганная баронесса грустно улыбнулась. — Тогда на балу, когда они подошли вдвоем, мне ведь сперва Сережа приглянулся. Но показалось, что больно дерзко смотрит. Вот и решила помучить, — отдала танец другому. А он больше не подошел.
— А сама не могла? — Невельская укоризненно покачала головой. — Ведь он-то тебя любил! Потому и нашел нас здесь. Потому и себя на этом проклятом острове похоронил. Хоть знаешь, что он в Париж не уехал, чтоб подле тебя быть?
— Конечно, знаю. Он же мне трижды предлагал замуж.
— И ты отказала?! — изумленно вскричала Невельская.
— Теперь бы согласилась, — баронесса горько пожала плечами.
— Теперь уж поздно! — зло рубанула Невельская. — Господи! Ну где твоя справедливость? Да если б ты такой любовью не эту гордячку твердокаменную, а меня наградил, не то что замуж не задумываясь, невенчанной бы за ним поползла.
Она спохватилась, заметив, что своими словами причиняет боль подруге. Взгляд ее упал на Машу, склонившуюся над Арташовым:
— Дай бог, хоть у этих детей состоится.
— Женечка, любимый! — Маша, обхватив голову Арташова, жадно вглядывалась в измученное лицо. — Всё, что случилось, — горько. Но это судьба. Только вдумайся. Ведь через всю войну сохранила нас друг для друга. В таком водовороте, когда миллионы кругом гибли, дважды свела. Будто магнитами стянула. Теперь уж навсегда. Конечно, поначалу на чужбине трудно придется. Может, всю жизнь будем тосковать. Да наверняка будем. Но разве был выбор? Там — смерть, здесь — жизнь. Главное, что вместе. Пусть где-то. Но вместе. Ведь нас только двое на земле осталось. Ни моих, ни твоих. Знаешь, я готова поверить, что Бог есть, раз он всё так для нас устроил. Ведь так? Так?! Ответь!
Арташов, думающий о своем, вскрикнул в отчаянии.
— Неужто хотя бы один не выжил?!
— Нет, — Маша невольно отвела взгляд.
В голосе ее Арташову послышалась фальшь. Он заерзал.
— Хочу встать.
— Но тебе нельзя двигаться!
— Помоги! — упрямо потребовал он. Опираясь спиной о борт, поднялся.
В занимающемся рассвете ему открылся удаляющийся остров, знакомый валун и семь стоящих на нем фигур, среди которых Арташову почудился Сашка. Не веря себе, протер рукавом слезящиеся глаза. Всмотрелся:
— Мои. Это же мои!
С молчаливым вопросом обернулся к потерянной Маше.
— Женечка! Не думай, — заторопилась она. — Им тоже предлагали. Но они сами захотели остаться. Сами! И они же велели мне сберечь тебя. Я не обманываю… Haltet ihn! (Держите его!)
Арташов, размахивая для равновесия руками, устремился к борту. Несколько солдат бросились наперерез. Повалили на палубу. Завязалась борьба.
— Abstellen! (Отставить!) — повелительный голос Ранке заставил солдат отступиться.
Арташов поднялся, с ненавистью вгляделся в фашистского офицера.
Ранке осмотрел пошатывающегося врага, прикинул расстояние до острова.
— Du wirst nicht den Ufer erreichen. (Не доплывешь.) — определил он.
Арташов, натужно дыша, презрительно смолчал.
— Kannst du rudern? (Грести сможешь?)
Арташов недоверчиво кивнул.
— Kapitän! (Капитан!) — Ранке помахал Торвальдсону. — Streichen Sie und geben Sie Befehl Boot aufs Wasser! (Табаньте и прикажите спустить лодку!)
— Sie dürfen es nicht! (Не смейте!) — опамятовшаяся Маша бросилась к Ранке. — Was tun Sie? Er hat doch eine Quetschung bekommen. (Что вы делаете? Он же контуженный.)
Она обхватила за талию Арташова, готового, казалось, рухнуть.
В отчаянии разыскала взглядом баронессу и Невельскую:
— Этого же нельзя! Скажите хоть вы!
Баронесса подошла к Ранке, решительным жестом ухватила под локоть, увлекла в сторону:
— Gnädiger Herr! Dieser Mann ist ihr Verlobter. Jetzt kann er nicht sich selbst gegenüber verantwortlich sein. Sie sehen doch seinen Zustand. Er hat einen Schock bekommen. Später wird er selbst dafür Dank sagen. Helfen Sie bitte, ihn in Sicherheit bringen. Glauben Sie, ich kann Dank wissen. Ich habe in Spanien einfußreiche Freunde. Sie dürfen mit uns fahren. (Сударь! Этот человек — ее жених. Сейчас он не способен отвечать за себя. Вы же видите его состояние. Он в шоке. Но после сам скажет спасибо. Помогите нам доставить его, и, поверьте, я сумею быть благодарной. В Испании у меня влиятельные друзья. Вы можете поехать с нами.)
Ранке отстранился.
— Gnädige Frau, zum Teufel mit Spanien! Ich gehe in Gefangenschaf mit meinen Soldaten. (Какая, к черту, Испания, фрау? Я проследую в плен вместе со своими солдатами.)
— Wollen Sie wirklich diese Liebespaar trennen? (Но неужели вы разлучите влюбленных?)
— Das ist doch sein eigene Wahl (Это его выбор), — заметив, что лодка спущена, Ранке шагнул к борту.
— Das wird für Ihn tödlich! (Это смерть для него!) — в отчаянии выкрикнула подбежавшая Невельская.
Ранке обернулся.
— Und wer sagt, daß uns ein besseres Schicksal erwartet? (А кто сказал, что наша участь лучше?) — мрачно процедил он. Во взгляде его проступила такая бездонная тоска, что Невельская умолкла.
Ранке поторапливающе поглядел на Арташова.
— Не-ет! — Маша обхватила Арташова за шею. — Не пущу! Женечка, очнись же! Это безумие. Этого не может быть! Ведь для чего-то всё было! Пожалуйста, не надо!.. Или раз так, — я с тобой. Чтоб до конца!
Арташов облизнул губы.
— Маша, у меня мало сил, — еле слышно прошептал он. — Боюсь не дотянуть. Прости!.. Haltet sie. (Возьмите ее.)
Маша, придерживаемая солдатами, в ужасе отступила. Арташов подошел к борту, перевалился. Нащупал ногой лестницу. Попытался перехватить руку, но промахнулся. Закачался, рискуя сорваться в воду. Ранке успел поймать его ладонь. Притянул. На мгновение глаза двух капитанов оказались совсем близко. Что-то они увидели каждый в другом, что заставило пожать руки.
Арташов бросил прощальный взгляд на Машу. Но та, совершенно потрясенная, бессильно рыдала на груди у Невельской. Времени не оставалось, — солнечный диск, наливаясь силой, уже начал отрываться от балтийской волны. Арташов принялся спускаться.
Помашу тебе рукой и не стану ждать ответа. Берег тает за кормой. Рвется песня. Не допета. Там, где высится скала, обрывается дорога. Для любви земля мала. Может, свидимся у Бога.Убить после смерти (фантастический детектив)
Смерть убирает человека тогда, когда всё, и дурное и хорошее, что могла получить от него жизнь, — получено, мера дел его исполнена, и лицо его ясно перед Богом.
Михаил АрцыбашевЭпизод 1. Апрель 2002 года. Калуга
Наблюдать за купающимся в апрельской луже воробьишкой было забавно.
Он мотал головой с победно задранным клювиком, елозил брюшком в мутной жиже, трепыхал мокрыми крылышками и, оттягивая удовольствие, поглядывал на рябиновую ветку в подтаявшем льду. Восторженное создание, намерзшееся за долгую, полную тревог зиму, настолько разморилось под мягкими солнечными лучами, что утратило привычное чувство опасности, и совершенно не замечало подкрадывающегося матерого кота. Единственный желтый глаз хищника горел предвкушением, — он уже вышел на дистанцию прыжка.
Мне стало жаль бедного недотепу, обреченного погибнуть на пороге выстраданной им весны. Не удержавшись, я легонько дунул.
У воробья взъерошились перья. У кота дыбом поднялась шерсть. Оба принялись обеспокоенно вглядываться в стылый воздух. В следующее мгновение воробьишко заметил опасность и взмыл вверх перед носом замешкавшегося охотника. Лишенный добычи кот негодующе фыркнул и удалился с видом оскорбленного достоинства.
— Опять ты вмешиваешься в естественный ход событий, — послышался у коризненный голос Анхэ. Вот уж кто непревзойден в искусстве подкрадываться. — А что если поблизости оказался бы не я, а суперконтролер? Ведь имеешь несколько замечаний, в том числе занесенное на голограмму.
— Жалко стало, — виновато пробормотал я, понимая, что Анхэ как всегда прав.
— Единственная реализация жалости, на которую нам дано право, — охрана своего поднадзорного, до тех пор, пока он сам не сойдет с предначертанного пути, — бесстрастно отчеканил Анхэ. Это у него здорово получалось, — накрепко запоминать инструкции. А я вот на экзаменах вроде помню, а в жизни — как-то упускаю.
При виде моего уныния Анхэ смягчился.
— Мне надо срочно отбыть в Доминикану. Идет ураган «Катрина» и назревает угроза тамошнему поднадзорному, — сообщил он с досадой. — Ведь что обидно: всё равно через семь месяцев ему суждено умереть от рака желудка. Казалось, какая разница? Еще и тяжких мучений избежал бы. Так нет, тащи до близкого предела, — судьба, видишь ли!
Впрочем, тут же взбодрился:
— Ничего, как там у смертных? Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Превозможем!
В нашем цеху Анхэ слыл выдающимся виртуозом-многостаночником. Он даже выступил с почином — с целью экономии ангельских ресурсов надзирать одновременно за несколькими десятками душ в разных концах земного шара. Вверенные души он именовал не иначе как «поднадзорные». Подчеркивая тем главную, по его мнению, миссию ангела-хранителя.
В случае успешного завершения эксперимента его планировали выдвинуть на Архангела. И надо признать, Анхэ и впрямь поспевал всюду, — за всё время ни единого прокола. Не то, что у меня, — и за одним-единственным-то не доглядишь.
— Тебе придется в мое отсутствие присмотреть за моей здешней поднадзорной. Сумеешь? — вопросил Анхэ со строгостью.
Мне уже доводилось подстраховывать его в частых отлучках. Но в этот раз я отчего-то перетрусил.
— А вдруг мой хранимый и твоя решат провести вечер порознь? Ведь «заказ» на его убийство никто не отменял.
— До утра они будут вместе, — снисходительно успокоил Анхэ. — А если даже разъедутся на час-другой, то я провидел, — твоему сегодня ничто не угрожает. Главное, не упустить мою. Вот с ней, сам знаешь, не в порядке. В случае преждевременных родов грозит смерть. Так как, можно на тебя положиться?
Не отказывать же в пустяке. Конечно, я согласился. Тем более, присматривать за очаровательной Ксюшей было очень приятно.
— К утру вернусь, — заверил меня Анхэ, готовясь удалиться. Но вдруг нахмурился, озабоченный. — Все-таки, Анхель, твое разгильдяйство добром не кончится. Чувствую, подведешь и себя, и меня. Пока ты воробьишку спасал, опять проворонил поднадзорных.
В самом деле, джипа во дворе коттеджа уже не было.
— Сейчас верну, — смущенно заверил я.
— И когда у тебя, наконец, прибавится ответственности? — посетовал Анхэ. — Как только меня поднимут в высшие сферы, похлопочу, чтоб и тебя с земли убрали. Я всегда утверждал: чрезмерное вникание в жизнь смертного контингента пагубно влияет на неокрепшие создания, — последнее донеслось издалека.
Наверное, Анхэ и здесь прав.
…— Черт! — едва отъехав от загородного коттеджа, Павел Игумнов с силой надавил на тормоз, отчего сидящая рядом Ксюша чуть не боднула лбом массивное лобовое стекло. — Вот видишь, из-за твоих душеспасительных бесед Пирата забыли!
Он круто, прямо по целине, принялся разворачиваться. Но, глянув в зеркало заднего вида, лишь приоткрыл дверцу машины, — забытый котяра дул во всю прыть вслед за бросившими его хозяевами.
Жесткое лицо Игумнова при виде любимца расслабилось: одноглазый Пират походил на самого Павла. Такой же битый-перебитый в бесчисленных схватках. Такой же независимый и неуступчивый.
Впрыгнув в машину, Пират демонстративно уклонился от Ксюшиной ладони, пролез на заднее сиденье и там забился в угол, недовольно фырча, — пренебрежения к своей персоне он не прощал.
— Обиделся, хохотульный котяра, — констатировал Павел. Он нажал на газ, потянулся включить музыку, но попытка уклониться от разговора не удалась, — рука Ксюши загородила панель магнитолы.
— Давай хоть раз в жизни договорим до конца, — потребовала она.
Павел кротко выдохнул, уступая, но и выказывая тем, что мера отпущенного ему добродушия близка к переполнению.
— Ничего, я дольше терплю, — не отступилась Ксюша. — И, между прочим, вместе с тобой под смертью хожу. Так что имею право голоса.
Павел потупился, — возразить было нечего. В последний год находиться рядом с ним стало не просто рискованно. Это превратилось в экстрим.
Ксюша почувствовала смущение мужа.
— Сколько можно кликать смерть, Игумнов? — в голосе ее появился непривычный напор. — Вспомни последнее покушение. Эту кошмарную перестрелку. Ведь чудом остался в живых!
«В самом деле, — чудом», — мысленно согласился я.
В тот день я не удержался, — позволил себе самовольную отлучку. Как-то разом созрели абрикосы в Харьковщине. В Изюме, Купянске, Чугуеве они свисали через заборы, шлепались в дорожную пыль, лопались и растекались. Воздух сделался так густ, что в нем можно было купаться, будто в сиропе. Хотелось бесконечно парить и кувыркаться. Единственно, что мешало получить полное блаженство, — невозможность обонять и ощущать то душистое благоухание, о котором говорили все вокруг. Запахи и вкус нам, увы, недоступны.
Громкий вопль Ксюши с трудом пробился через тысячу километров и вернул меня к действительности как раз в тот момент, когда на моего хранимого уже напали прямо возле входа на Лужский стеклозавод. Нападавших было двое. И стрелять они начали с десяти метров, так что Павел успел оттолкнуть Ксюшу к заводской проходной, выхватить револьвер, который в последнее время постоянно носил при себе, и выстрелить в того, что был ближе, сбив его на бегу пулей. Но в следующее мгновение пуля в живот опрокинула на асфальт самого Павла. Не обращая внимания на рухнувшего подельника, киллер добежал до беспомощной жертвы, выстрелил в грудь, затем, торопясь, приставил пистолет к виску.
Вот тут-то я и подоспел.
— Даже сейчас, как вспомню, так плющит, — Ксюшу и впрямь перетряхнуло от воспоминания. — Ведь это один случай на тысячу, чтоб при контрольном выстреле у убийцы заклинило оружие.
— Вот видишь, значит, судьба играет на моей стороне, — попытался отшутиться Павел.
— Но не вечно же! Нельзя испытывать ее на излом. В конце концов, и у твоей везучести есть предел. Устанет мучиться ангел-хранитель и бросит. Помяни моё слово, — бросит! И то удивляюсь, сколько в нем терпения.
— Опять ты в свою поповщину ударилась, — пробурчал Павел. Не очень, впрочем, уверенно. События последнего года кого хошь убедят в существовании потусторонних сил.
— И потом, давай откровенно, — Ксюша решилась отступиться от обычной деликатности. — Надо же хоть чуть-чуть соизмерять свои желания с реальной жизнью. Допустим, в конце девяностых вам повезло за небешено дорого отхватить стеклозавод.
— Отхватить?! — тотчас вскинулся Павел. — Да когда я пришел, завод загибался. Зарплату не платили. Меня, если хочешь знать, на собрании весь коллектив едва не на коленях просил на директорство.
— Знаю, знаю, — неохотно признала Ксюша.
Всё она, конечно, знала. Впрочем, как и вся Калуга.
Павел Игумнов слыл удачливым и, что важно, крутым предпринимателем. В середине девяностых вместе с друзьями детства Андреем Мазиным и Евгением Сапегой организовал автомастерскую, открыл несколько моек. Попытки криминала взять махонький, но успешный бизнес под контроль натолкнулись на жесткое противодействие друзей. Прежде всего — Игумнова. После нескольких стычек «братки» убедились — этого можно сломать, но не согнуть. Убедились — и отступились. Ломать оказалось небезопасно, а самим ломаться не с чего — не те сверхприбыли. Так и оставили утлый чёлн продолжать свободное плавание в мутных волнах российского предпринимательства.
Сильно друзья не разбогатели. Но в областных масштабах считались людьми состоятельными. Настолько, что после обвала девяносто восьмого года руководители Лужского стеклозавода уступили им тонущее под бременем долгов предприятие едва ли не за бесценок.
На этот бесценок заработанных на ремонте автомашин средств как раз хватило. Но оказалось, что приобрести и владеть — разные вещи. Необходимо было проплачивать долги, зарплату. А главное — модернизировать дряхлое оборудование. Завод оказался чемоданом без ручки. Павел бросился по банкам. Увы, кредитовать фактического банкрота охоты ни у кого не нашлось. Компаньоны бились, выгадывая каждый рубль. Дабы просто удержаться на плаву.
Через пару лет инвестиционный климат в стране слегка потеплел, и в Калуге объявилась итальянская фирма, согласившаяся перекупить завод. Намаявшиеся в безденежье Мазин и Сапега готовы были уступить свои акции, но, увы, уперся Игумнов. «Если согласны платить, значит, завод стоит больше. Надо только поднапрячься, перезанять денег, и тогда сами будем в шоколаде», — убеждал он друзей.
Увы! Но точно так же рассудили и бандиты. Раз итальянцы готовы купить завод, значит, на его перепродаже можно заработать. Следовательно, надо отобрать завод у нынешних владельцев и перепродать самим. Завод не автомастерская — тут было за что «ломаться». Компания «Вектра», за которой скрывалась криминальная группировка, возглавляемая калужским авторитетом Степаном Голутвиным, сделала друзьям коммерческое предложение — уступить акции по себестоимости. В подтверждение серьезности намерений голутвинские боевики привели аргументы: угнали новенькую «тойоту» Мазина, сожгли дачу Сапеги, прямо на автостоянке взорвали джипчик Игумнова. Вроде как намекнули. Мазин и Сапега согласились на переговоры. Но вот Игумнов! Этот намеков решительно не понимал. Даже после покушения, едва не стоившего ему жизни, не изменился. Выйдя из больницы, принялся с прежним рвением носиться по банкам в поисках кредита. Судьба упрямца стала казаться предрешенной.
— Павел, милый! — с мольбой в голосе произнесла Ксюша. — Взгляни наконец на вещи трезво. Сколько можно брёдать впотьмах? Вся твоя жизнь превратилась в поиск денег. Но их как не было, так и нет. Всем, кроме тебя, ясно, что завод не поднять. Его надо продать и отойти в сторону. Не хочешь из принципа отдать Голутвину, верни опять итальянцев. И негодяя Голутвина «умоешь», и сам будешь в шоколаде.
— Какие все вокруг легкие, — продать! И умные задним числом — все, оказывается, видели, что не поднять, — желчно процедил Павел. — Да если б наше банковское жлобьё раскошелилось хотя бы на два жалких лимона, этого хватило бы, чтоб реконструировать поточную линию. И мы сразу выходили на прибыль. Я ж всё просчитал!
— Он просчитал! — простонала Ксюша, страдая от невозможности взломать железобетонную упертость мужа. — Господи, Павел! Чего за эти годы добился? Хоть теперь-то спустись на землю! Да нет дураков давать кредит без надежного обеспечения! Тогда не было, и теперь нет!
— А вот и есть! — торжествующе выкрикнул он. — Есть! Жаль только, что припозднилось. Эх, если б эти трусы акции свои не спустили, хрен бы я от завода отступился!
Ксюша скривилась, будто от зубной боли.
— Да любой нормальный человек на месте Мазина и Сапеги сделал бы то же самое. И то из-за тебя сколько тянули. А так — продали, да и отошли.
— Отдали за поди знай что!
— Пусть! Зато живы.
— Так и я жив, — Павел усмехнулся победительно и тем совершенно вывел жену из себя.
— Да ты жив-то только благодаря мне! — надрывно выкрикнула она.
Это было правдой! Раны, особенно в животе, в первый момент показались смертельными. К тому же началось воспаление, пошли спайки. Полгода, почитай, безвылазно мы с Ксюшей провели в районной больнице. Сначала в реанимации, потом в обшарпанном больничном коридоре, куда за неимением мест клали безнадежных. И только после того как Мазин с Сапегой «занесли» главврачу, — в одноместной палате.
За эти месяцы пережили три полостных операции. Положим, за операции отвечал я. Но заживление шло безумно трудно. Только воля хрупкой молодой женщины продолжала тащить мужа с того света, не давая разувериться врачам. Да и мне тоже.
Анхэ настаивал, чтоб я отступился, — все-таки мой хранимый и впрямь превысил меру отпущенной судьбой удачи. Может, я и послушал бы его, если б не трехжильная Ксюша. Она жила меж домашней плитой и больничной палатой. Прибегала с утра, меняла судно, переворачивала мужа, чтоб не было пролежней и отека легких. У нянечек и медсестер, несмотря на подношения, руки до этого не доходили. Правда, иногда по ночам, когда никто не мог видеть, отчаяние накатывало и на нее. И тогда, стараясь утешить и снять головную боль, я легонько щекотал ее за ушком. Она вздрагивала, оглядывалась бессмысленно. Изумлялась наступившему внезапно облегчению. А после, будто поняв что-то, недоступное прочим, благодарно улыбалась. И, успокоенная, засыпала, положив голову на колени мужа. Так вдвоем его и вытянули.
Признаюсь, когда всё кончилось, мне стало очень не хватать этих совместных ночных бдений.
Вот и теперь, как когда-то в больнице, Ксюша измученно простонала.
Не удержавшись, я опять легонько пощекотал ей за ушком.
Она резко обернулась, тревожно оглядела забившегося в угол, непонятно взбудораженного Пирата.
Муж, чувствующий себя виноватым, примирительно погладил ее по ладошке.
— Да мне-то!.. — выкрикнула она. — Если тебе самому собственная жизнь не дорога! Тогда не добили, так добьют! Ведь не нищенствуем. Квартира, коттедж, машина. Не хуже других!
— А надо чтоб лучше! Я хочу, чтоб мой сын имел всё! Не поди знай что, а — всё!
Павел ласково огладил округлый, на шестом месяце животик жены.
— А я хочу, чтоб у нашего сына был отец! — не приняла примирительного тона Ксюша. — Нельзя победить всех! Сделай же раз в жизни по-моему. Христом Богом, чем хошь, прошу, Павка, отдай ты им эти акции проклятущие! Не себя, так меня с будущим ребенком пожалей. Отступись. Здесь-то что, кроме беды, накличешь? Тем более контрольного пакета больше нет!
От сознания собственного бессилия Ксюша разрыдалась.
— Полно, Ксюха-рассюха, — как всегда, при виде слез жены Павел растерялся. — Не вовсе ж я тупой, чтоб двери лбом прошибать. И тоже понимаю, что после того как Женька с Андрюхой свою долю слили, завод не удержать. Если на то пошло, всё уже порешал. Бандюганы, они тоже соображение имеют. Да, пытались пригнуть, потом пристрелить. А как не вышло, так зауважали. На днях, если хочешь знать, Голутвин сам пришел, поклонился на моих условиях. А в условия я, будь спокойна, всё полной мерой заложил, — он похлопал себя по изрезанному животу, потом с новым значением огладил животик жены. — Так что опасности больше нет. Наоборот, всё у нас теперь будет. И деньги, и… Всё! Недельку только перетерпи. И такой тебя сюрприз ждет!
Услышав про сюрприз, Ксюша заново затаилась, — чем-чем, а этим была накормлена досыта.
Машина меж тем проскочила через центр города, по Кирова, свернула в Алтынный переулок и подъехала к автоматическим воротам перед их таунхаусом.
— Чего не заезжаешь? — Ксюша насторожилась.
— Да у меня еще встреча намечена, — с чрезмерной скорбностью отреагировал муж. — Дела, понимаешь.
У Ксюши заныло сердце.
— Опять? — выдохнула она.
— Что «опять»? Что ты снова-здорово себе напридумывала?! — взгляд мужа шкодливо заметался. — Слушаешь всяких дур. Сказано же — деловая встреча! За два-три часа обернусь.
Врать он не умел совершенно. Да раньше и не врал. Потому при виде его притворной обиды Ксюше сделалось нехорошо.
О том, что у мужа появилась какая-то пассия, она начала догадываться месяца через два после выписки его из больницы. Сначала, как водится, по липким намекам подружек. А затем, присмотревшись, и сама заметила.
Как-то он обронил: «Ты бы за собой, что ли, следила. Забыла, когда последний раз маникюр делала?». Она поняла: «У той маникюр безупречный». И завыла от обиды, — ногти начали слоиться после бесконечных перекисей, которыми протирала его в больнице.
С тех пор в их отношениях возникла трещинка. Ксюше даже казалось, будто через эту трещинку стала понемногу вытекать ее любовь к мужу, прежде — безграничная.
— Чего тебе неймется?! — с деланой горячностью выкрикнул Павел. — Живешь без отказа. И на тебе! С жиру, что ли, бесишься? Да любая другая счастлива была бы на твоем месте на всём готовом!
— Вот пусть другая и будет, — в сердцах выпалила Ксюша. Заметила, как поджал губы самолюбивый муж. Но остановиться уже не захотела. Слишком накипело. — Знаешь, Игумнов, если думаешь, что на веки вечные купил меня, то — отдохни от этой мысли. Я за тебя замуж не за деньги пошла, а по любви. По любви и уйду, если что. Вместе с ребенком. Так и знай!
Она отстегнула ремень. Потянулась за сумочкой. Павел ухватил ее за плечо.
— Полно, горячка! Я чего решил! Уедем на днях отсюда. На мою родину, в Туапсе. На месте материнской халабуды коттедж поднимем. Катер морской купим, — можем теперь себе позволить. Я уж с дружками детства связался, чтоб местечко в бизнесе приглядели. По миру покатаемся. Ты ведь нигде не была. А тут — хоть в Египет, хоть на Канары-Багамы. Хоть поди знай, куда. Куда пальцем на глобусе ткнешь, туда и рванем.
Ксюша, высвобождаясь, повела плечом.
— От кого бежишь, Игумнов? — горько усмехнулась она.
Рука мужа ослабла и сползла.
Ссутулившись, Ксюша выбралась из джипа.
— Да будет себя накачивать, Ксюха! — донеслось из машины. — Я тебе главное скажу. Тебя я, после всего, что пере жили, никогда не брошу. Кто бы чего ни желал!
От этого вырвавшегося «кто бы чего ни желал» Ксюшу перетряхнуло. Поняла то, о чем прежде лишь догадывалась, — уже желают.
— Делай как знаешь, — безысходно пробормотала она.
В голосе и в позе ее проступало нестерпимое страдание. Меня аж защемило. Заколебался и Павел. Но ненадолго.
Кот Пират перепрыгнул на переднее сидение. Зафырчал, привычно устраиваясь подле хозяина.
— Ты-то еще куда собрался?! Марш домой! — обрадованный возможности выплеснуть раздражение, Павел схватил кота за шкирку и вышвырнул на тротуар, — чего прежде не делал.
После чего рванул с места, рычанием мотора и визгом тормозов объявляя жене о незаслуженно нанесенном ею оскорблении.
Я заметался. Из моего подопечного аж фонтанировала злая, притягивающая беду аура. Но слово, данное Анхэ, надо было держать. К тому же, в отличии от Ксюши, я точно знал, куда направился ее муж. Угрозы для жизни там не предвиделось. Я последовал за женой.
Через десять минут в квартиру позвонили. Ксюша, решившая, что вернулся раскаявшийся муж, с нарочитой неторопливостью пошла открывать. Увы, в дверном глазке обрисовалась фигура притоптывающей в нетерпении Оленьки.
Ксюша заколебалась, — сегодня ей никого не хотелось видеть. Тем более говорливую подружку.
Оленька, мать-одиночка, миниатюрная блондинка с зазывной поволокой в синих глазищах и пикантными ямочками на персиковых щечках, выросла и созрела в сознании собственной неотразимости. В самом деле, редкий мужчина мог устоять перед этой завлекающей улыбкой. В какой бы компании ни оказалась сексапильная синеглазка, она тут же принималась постреливать глазками, наполняя сердца мужчин истомой, а их жен — тревогой и неприязнью. К чести Оленьки, делала она это чаще всего вполне бескорыстно, просто из потребности лишний раз ощутить собственную власть над мужчинами. Но жёны-то об этом не знали. Неудивительно, что подруг, кроме снисходительной Ксюши, она не имела.
Впрочем, и долготерпение Ксюши в свое время оказалось подвергнуто жестокому испытанию. Едва перед свадьбой она познакомила Павла с Оленькой, как та по своему обыкновению попыталась отбить его у подруги. Правда, без успеха.
В практике Оленьки-завоевательницы это оказался, пожалуй, единственный случай, когда мужчина пренебрег ею. Простить такое унижение она решительно не могла. И при встречах с Павлом переходила на язвительный тон, на который он реагировал с неизменным равнодушием. Что еще пуще выводило из себя незадачливую обольстительницу.
На вопрос Ксюши, почему он столь неприветлив с ее подругой, Павел отреагировал по обыкновению лаконично: «Стервочка». Про себя Ксюша с ним согласилась и, само собой, рассеять мужнино предубеждение не пыталась. Да и Оленька старалась при Павле лишний раз не появляться.
Но раз пришла под ночь, очевидно, что-то стряслось. Ксюша неохотно откинула цепочку.
В квартиру подруги Оленька по обыкновению буквально ворвалась и тут же ухитрилась задеть плечом вешалку. В сердцах она выматерилась.
— Оп-ля! — спохватившись, Оленька опасливо прикрыла рукой рот. — Твой дома? — запоздало уточнила она.
Ксюша отрицательно мотнула головой:
— Чего на ночь, без звонка?
— Потому что подруга! Знаешь, как поэт Светлов говорил? Дружба — понятие круглосуточное. И если плохо, то к кому еще податься? Без звонка, видишь ли! Да потому и без звонка, что плохо. Могу уйти, если некстати.
Оленька вновь потянулась к снятому плащу. Требовательно замерла в ожидании.
Плохо взбалмошной Оленьке бывало едва ли не каждую неделю. Поводом для дурного настроения могло стать что угодно. Сопли у сына, разрыв с очередным любовником, «поехавшие» колготки. Утешать ее становилось занятием утомительным. К тому же в том состоянии, в каком пребывала Ксюша, она сама нуждалась в утешении.
Но сказать об этом мнительной подруге — значило спровоцировать разрыв. То, что другим тоже иногда бывает плохо, Оленька не осознавала, кажется, совершенно искренне.
— Будет кукситься. Проходи, раз пришла, — Ксюша подтолкнула гостью в гостиную, открыла уставленный спиртным бар, вопросительно приподняла розовый «Мартини» и ананасовый сок.
— Да, — подтвердила Оленька, с ногами обустраиваясь в любимом Ксюшином кресле. — Только набулькай сразу полный. Знобит.
Жадно, давясь, она выпила бокал. Это было что-то новенькое. Ксюша пригляделась повнимательней. Оленьку и впрямь трясло. На молочно-белом личике проступало непритворное волнение.
— Что на этот раз случилось?
— На этот? В смысле? — вопрос будто вернул Оленьку из переживаний, в которые она погрузилась. — А! Женька замуж предложил.
Это не было свежей новостью и во всяком случае не объясняло причину Оленькиного волнения. Евгений Сапега едва ли не с восемнадцати лет вздыхал по юной соседке по двору. Увы, безответно! Предложения руки и сердца отвергались год за годом. После каждой неудачи незадачливый поклонник неделю восстанавливал уязвленную мужскую гордость в компании проституток.
— В какой по счету раз отказала?
— Я согласилась, — Оленька с сожалением заглянула на дно бокала. — В конце концов когда-то за кого-то идти придется. И Димке отец нужен. Пусть лучше этот, если уж не выходит по любви.
По любви у Оленьки и впрямь не выходило. Слишком нетерпелива была. Могла, например, во второй или третий вечер знакомства придумать себе именины и потребовать в подарок лисью шубу или ювелирный гарнитур. После чего оторопевший любовник обычно исчезал. От мужской скупости Оленька сильно страдала и выплакивала очередную обиду на груди подруги. Ксюша пыталась убедить ее, что нельзя требовать всего и сразу. Чрезмерная алчность отталкивает мужчин. Надо дать время, чтоб он ощутил себя любимым, и тогда «само покатит». В ответ Оленька оскорбленно фыркала. По ее мнению, дорогой подарок в начале знакомства — это тест, отделяющий истинного мужчину от никчемных безденежных прохвостов.
Увы! Прохвостов в жизни Оленьки попадалось много больше. Тем не менее, принципам своим она не изменяла и в двадцать три года продолжала менять любовников, подобно золотоискателю, промывающему лоток за лотком в поисках золотого песка.
— Стало быть, Женька наскворчал на лисью шубу? — не удержалась от поддевки Ксюша.
Уловившая насмешку Оленька раздраженно поджала губки.
— Наскворчал! Брёдаешь! Тудамо-сюдамо! — передразнила она. — Сколько тебя учу манерам, а всё без толку. Нахваталась словесного мусора от муженька малограмотного. А что касается Сапеги, — попытка не пытка. Не заладится, — возобновлю пасьянсы.
Пасьянсами изысканная Оленька отчего-то называла свои любовные романчики.
— Ничего, — свыкнется. Как в других семьях.
Оленька намекающе наморщила носик. Раздосадованная тем, что Ксюша не отреагировала, зло ощерилась:
— О тебе, между прочим, говорю. Муж во всю на сторону гуляет, а ты живешь зажмурившись! Вот и сейчас, где он?
Именно Оленька на правах подруги первой намекнула Ксюше, что у Павла кто-то завелся. После чего мир в Ксюшиной душе задрожал и начал рассыпаться.
В висках Ксюши заколотило. Сил сдерживаться более не было:
— Ты что, с этим пришла?! Чтоб куснуть? Не могла дотерпеть до утра?
Добившаяся своего Оленька выпрыгнула из кресла, покаянно прильнула к взбешенной хозяйке:
— Я поганка, правда? Но, Ксюха, родная, если не я, то кто скажет? Другие-то вид делают, чтоб приятельницу не потерять. А я всё лбом колочусь… Ксюш, можно я у тебя заночую? Димка у предков. А одной быть дома так не хочется.
«Если не хочется одной, зачем опять сбагрила сына старикам-родителям»? — хотелось спросить Ксюше. А еще пуще хотелось выставить утешительницу, — из тех, что, обнимая, не преминут ковырнуть ноготком открытую рану.
— Ночуй, конечно, — разрешила она. — Я тебе постелю, как всегда, в гостевой. Только ты тут сама, если хочешь, похозяйствуй. Закипяти чайник, заточи чего-нибудь из холодильника, полистай телевизор. А я лягу. Голова опять разгуделась, и — в животе колотит. Похоже, малышу наружу не терпится.
Отделавшись от докучливой приятельницы, Ксюша не уснула. К двенадцати ночи жгучая ревность вытеснилась ощущением беды. Она знала это несчастное свое свойство. Подобно тому, как у фронтовиков к дождю начинали болеть раны, так и у нее душа в предчувствии несчастья принималась метаться.
В начале первого сердце вдруг с силой скакнуло в груди. Преодолев гордость, Ксюша набрала телефон Павла. Увы! Телефон голосил мелодией «Нежности», но не отвечал. «Возьми трубку, я спасу тебя», — бессмысленно заклинала она. В час ноль пять похолодевшая Ксюша совершенно явственно почувствовала, что сердце остановилось. И лишь через одну-две секунды, показавшиеся вечностью, запустилось вновь. Ощущение беды сменилось уверенностью — беда пришла.
Когда в половине четвертого утра в дверь позвонили, Ксюша, придерживая живот, поднялась, накинула халат — точно зная, что как только распахнет входную дверь, привычная, устоявшаяся за годы замужества жизнь разом рухнет. Появилось даже детское искушение не открывать, а забиться с головой под одеяло, — может, тогда пронесет. Не пронесет, конечно. Всё, что могло случиться, уже случилось.
Она включила свет в прихожей, дошаркала до двери, расслышала быстрое шуршание Оленьких тапочек от гостевой комнаты, и повернула ключ в замке.
На пороге с потерянным видом стояли Мазин и Сапега. Сзади, на площадке, угадывались голоса. Мелькнул силуэт в милицейской форме.
— Тут такое дело, Ксюха, — через силу пролепетал полненький Андрей Мазин. Он отер опухшие рачьи глаза и требовательно подтолкнул в бок Женю Сапегу. От несильного толчка массивного Сапегу качнуло. Стало заметно, что оба с трудом выходят из сильного опьянения.
Сапега обреченно вздохнул. Несколько раз открыл рот, так что в углу образовался сочный пузырь. Но так ничего и не выговорил. Лишь припал лицом к косяку. Плечи его мелко задрожали.
— Убит? — бесцветным голосом произнесла Ксюша.
— Нашли на окраине, у гаражей, — подтвердил Мазин. — Чем-то тяжелым по затылку. Видно, подстерегли. Джип не тронули, зато забрали мобилу. Явная заказуха. С нами милиция, — он показал за плечо. — Они сразу ко мне приехали. А теперь вот вместе к тебе… Ведь сколько умоляли, — жизнь-то дороже!
Прервавшись, Андрей, а за ним Женя бросились подхватить сползающую вдоль стены беременную женщину.
— Голову, голову держите! Да аккуратней, олухи! — из глубины квартиры на помощь бросилась Оленька.
Потерявшую сознание Ксюшу перенесли в спальню.
Очнулась Ксюша на постели, поверх одеяла. Над ней, придерживая подушку, со стаканом в руке склонилась встревоженная Оленька. В ногах сидел следователь прокуратуры Самарин.
Самарина Ксюша знала. Он расследовал прошлое покушение на Павла. Расследовал напористо, совершенно убежденный, что команда на убийство поступила от Степана Голутвина. Уверенность Самарина подкреплялась наличием мотива: борьба за завод, — а также тем обстоятельством, что убитый в перестрелке киллер оказался боевиком группировки «Вектра». Но, как часто бывает в подобных случаях, второй нападавший бесследно исчез, свидетелей и бесспорных доказательств добыть не удалось.
Так что по прошествии двух месяцев самолюбивый Самарин, смирив гордыню, расписался в собственном бессилии, — приостановил уголовное дело за неустановлением виновного.
Сейчас, примостившись на краешке кровати, следователь в нетерпении поигрывал сбитым носком туфли, — с видом охотника, взявшего наконец след изворотливого зверя.
Заметив, что хозяйка очнулась, он придал лицу скорбное выражение, скороговоркой изъявил соболезнования и принялся задавать дежурные вопросы:
— Во сколько муж уехал? Вел ли в дороге переговоры по телефону? Куда планировал поехать?
При ответе на последний вопрос Ксюша запнулась. Чуткий Самарин изготовился к более детальному допросу. Выручила Оленька, возмущенно потребовавшая оставить беременную женщину в покое.
Самарин с сожалением поднялся и перешел в гостиную. Последующие события Ксюша наблюдала через приоткрытую дверь спальни.
Несмотря на убежденность Самарина, что Голутвин изыскал-таки случай устранить неуступчивого конкурента, был он следователем добросовестным и помнил, что отрабатывать, наряду с основной версией, положено и все остальные. Потому начал с того, что поинтересовался, где в момент убийства находились компаньоны покойного (слово «покойный» резануло Ксюшу).
Выяснилось, что Мазин проводил ночь в компании двух проституток в своем загородном доме. Там и застал его приехавший наряд милиции.
— Баб этих знаешь? — уточнил Самарин.
— Знаю, конечно. Вика и… Нинка, кажется, — уныло пояснил Мазин. — Да они и щас, поди, у меня. Я-то, как сообщили, сразу сюда. А ваши остались в доме, чтоб их допросить. Можете сами вызвать.
— Не к спеху… Ну, а ты? — обратился Самарин к Сапеге. Ксюша расслышала, как тот что-то зашептал.
— Громче! — потребовал Самарин.
— Если можно, я хотел бы после. Один на один, — придушенный голос Жени звучал умоляюще.
— Нельзя! — отрубил Самарин. — Мне еще не хватало на тебя время тратить. Живо выкладывай алиби, если имеешь. Ну!
— Да вы чо, на нас с Андрюхой, что ли, катите?! — голос Жени задрожал от обиды. — Совсем оборзели? Нам Павлуха больше брата был. Не можешь Голутвину доказать, так решил крайних найти?! Оно, конечно, безопасней, чем с «Вектрой» в контры входить. Давай! Ты еще мать его родную проверь, вместо чтоб раскрывать!
— Я жду, — устало напомнил Самарин.
— Да вдвоем они были, — вошедший в комнату опер бросил перед следователем два заполненных протокола допросов. — Групповичок. Девки подтвердили, что аж до нашего приезда шарились.
— Вот сволочь! — Оленька, забывшись, пристукнула кулаком по Ксюшиной подушке. — И я еще за этого ублюдка замуж собиралась.
— Оленька! Да ведь чисто символически. Вроде как последний мальчишник, — умоляюще пролепетал Женя. — Там вообще на самом деле один Андрюшка их долбил. А я больше насчет выпить хлопотал.
Понявший подоплеку Самарин виновато потрепал понурившегося Сапегу по плечу:
— Извини, мужик, что невольно тебя вложили! Но — для нас главное — алиби.
В кармане Самарина зазвонил мобильник.
— Слушаю! — ответил следователь. — …Это точно?.. А по времени?.. Всё, жди. На вскрытии буду.
— Вот ведь какие дела, — озадаченно произнес он, поднимаясь. — Позвонил из морга судмедэксперт. Оказывается, раны на затылке две.
— Во сколько всё-таки…убили? — выдавил Сапега.
— В том-то и загадка. По времени получается, — Самарин важно сверился с циферблатом массивного хронометра, — что первый удар нанесли где-то в двенадцать. А второй, которым добили, — в час — час пятнадцать. И чего они столько времени тянули? Пытали, что ли?
Ксюша вспомнила, как скакнуло сердце в первом часу, а потом пророчески остановилось в час ноль пять. Она вскрикнула. Вскрик отозвался острой болью внизу живота. Начались преждевременные схватки.
Вызвали скорую. Потерпевшую отвезли в больницу, где случился осложненный выкидыш. Жизнь матери спасти удалось. Однако дорогой ценой. По заключению врачей, иметь детей ей отныне не суждено. Узнав о страшном приговоре, Ксюша впала в новую депрессию. Еще не зная всего, что уготовила ей судьба.
К немалой досаде Самарина, расследование вновь зашло в тупик. Главная неприятность ждала в офисе «Вектры». При первом же допросе Степан Голутвин ошарашил заявлением, что мотива для убийства у компании не имелось вовсе, — за два дня до смерти Игумнов, вслед за компаньонами, подписал договор об уступке своей доли в капитале стеклозавода в обмен на пакет акций «Бритиш петролеум» на общую сумму девятьсот пятьдесят тысяч долларов. Дубликат акта приема-передачи подтверждал, что акции были отданы Игумнову в тот же день.
— Отморозок этот нам дорого обошелся, но расплатились по-честному, — заявил, выпроваживая удрученного следователя, Голутвин.
— Как в прошлый раз? — не поверил Самарин.
Однако экспертиза потвердила подлинность подписи Игумнова. Правда, сами акции так и не нашли. Очевидно, зная, с кем имеет дело, Игумнов хорошенько припрятал новую собственность. Времени на это у него было предостаточно.
А еще спустя пару недель при аудите завода обнаружилось, что незадолго до убийства Игумнов сумел-таки получить в одном из банков двухмиллионный долларовый кредит — на покупку нового оборудования. Деньги тогда же обналичил. Но директорский сейф при вскрытии оказался пуст. Мазин и Сапега о кредите знали, но все дальнейшие решения принимал Игумнов, поскольку к тому времени сами они уступили свои акции «Вектре», и, по приказу Игумнова, на завод их больше не пускали.
В поисках пропавших денег оперативники обшарили все места, где бывал покойный, опросили всех, с кем встречался он за последнюю неделю. К розыску подключилась и «Вектра». Ведь именно ей как новому собственнику завода предстояло теперь вернуть полученный кредит банку. Люди Голутвина, перерывая городскую квартиру, отрывали обои, вскрывали полы. Загородный коттедж разбирали чуть не по досточке. Увы! Ни акции «Бритиш петролеум», полученные Игумновым от «Вектры», ни два миллиона долларов обнаружить так и не удалось.
Добросовестный Самарин не поленился съездить на родину Игумнова, в Туапсе, и установил, что при последнем приезде тот вел переговоры о покупке дорогого участка земли на побережье и даже открыл счет в местном банке, на который планировал перевести крупную сумму.
Образ погибшего сильно потускнел. Из-под личины непримиримого борца за интересы завода всё больше проступал плут, примерявшийся сбежать с чужими деньгами.
Как бы то ни было, пострадавшей стороной оказалась «Вектра». Правда, по городу ходили упорные слухи, что Игумнова всё-таки убили боевики Голутвина.
Но слухи остались слухами. Зато факт хищения Игумновым двух миллионов был подтвержден прокуратурой. Позиция следствия выглядела железной: если Игумнов не планировал украсть полученный кредит, то с какой целью он обналичил огромную сумму?
На основании следственного постановления «Вектра» через суд описала всё имущество покойного, включая квартиру, загородный коттедж, машину, деньги на счете.
Так что вышедшая в январе 2002 года из больницы Ксюша осталась без крова и без средств к существованию.
Эпизод 2. Февраль 2008 года. Джайпур (Индия)
Если чувствуешь недостаток драйва, вовсе не обязательно прыгать с тарзанки, лезть на Эльбрус или заявляться на выборы в Госдуму.
Купи путевку в Индию и прокатись по «золотому треугольнику». А для полноты впечатлений возьми на прокат машину и попробуй самостоятельно, без гида, въехать, например, в Джайпур — небольшой по индийским меркам городишко на три с половиной миллиона жителей.
Не сомневайся, — выброс адреналина обеспечен. Въезжать придется по местной автотрассе, состоящей из двух встречных извилистых полос, забитых разномастным транспортом. Крытые куском железа трехколесные мотороллеры «Отто», велорикши, запряженные в двуколки верблюды, груженые ослы и битые-перебитые авто, в поисках лазейки беспорядочно снующие из ряда в ряд, — без всяких предупредительных сигналов. Их заменяют энергичные взмахи рук. Всё это беспрерывно гудит, мычит, блеет и с криками и руганью продирается вперед. Лишь редкие слоны движутся в бешеном потоке мерным шагом, ни мало не обращая внимания на сутолоку и суету внизу. Разве что лениво разгоняют хоботами бесчисленных велосипедистов.
Скромный, маленький «пежо» со сломанным кондиционером — не слон. Раздвигать себе хоботом дорогу не способен. На окраине Джайпура полнотелый, измаявшийся от духоты водитель машины с трудом пробился из безумного потока на обочину, выбрался, обливаясь потом, наружу. Из правой дверцы появилась молодящаяся шатенка лет сорока в коротенькой обтягивающей маечке и в джинсах на бедрах, из-под которых торчали стринги. Оба принялись ошалело озираться вокруг.
Здесь, на обочине, кипела своя, диковинная жизнь. Если бы не гул автострады, можно было бы подумать, что путешественники попали в колониальную Индию времен восстания сипаев. Даже одежда та же, что на картинках в учебниках истории: сари на женщинах, белые штаны и цветастые рубахи на мужчинах. Вдоль дороги кучно стояли лотки с фруктами, орехами и пряностями. Меж ними втиснулась парикмахерская под открытым небом, — босоногий брадобрей с кисточкой сновал вокруг клиента, который, сидя на стуле, с важностью разглядывал свое отражение в воткнутом в землю зеркале. Чуть в глубине расположился палаточный городок из сшитых кусков разноцветной мешковины, натянутой на корявые, разной длины палки, отчего сами палатки выглядели перекошенными и горбатыми.
Меж палаток на лужайке спали люди, горели костры с булькающими закопченными котелками, у колонки стирали белье, ветер носил клочки бумаги, за которыми весело гонялась безнадзорная детвора. Позади палаток, перед длинным забором находился небольшой карьер, в котором работали женщины. Одни из них насыпали гальку в медные тазы, грузили тазы на голову другим, и те, плавно покачивая бедрами, переносили их к строящемуся дому.
Возле раскидистого дерева изможденный седобородый старик, широко расставив ножки-тростинки, в задумчивой сосредоточенности справлял малую нужду.
Впрочем, едва путешественники выбрались из авто, вся эта бурлящая жизнь замерла. Европейцы смотрели на туземцев, местные с уважительным изумлением разглядывали белых людей. Особенный интерес вызывала блондинка. Мочащийся старец при виде светлых волос в невольном восхищении распахнул беззубый рот, — не переставая, впрочем, пускать вялую струйку. Два мира встретились и удивились один другому.
Взгляды женщины и мужчины пересеклись. Губы ее сжались в узкую язвительную полоску:
— Что, Коля-Николаша? Экстремал хренов. Добился своего? Вот уж муженек достался, прости господи! Ведь предлагали взять гида. Так нет, тебе, видишь ли, захотелось погрузиться в самобытность. Погрузились по самое во! — она бесцеремонно ткнула в сторону испражняющегося старика. — И что теперь прикажешь делать? Как в этом бедламе найдем свой отель?
— А хрен его знает, — озадаченно отозвался полнотелый Коля. — По карте вроде получалось, что едем куда надо.
— По карте! — передразнила жена. — Какая в этом сраче может быть карта? Это тебе не Москва… Может, хоть по-английски кто понимает?.. Экскьюз ми! Уи вонт…
Наткнулась на непонимающие лица:
— Бесполезно! Даже этого не знают. Проклятая азиатчина!.. Ну, а вам чего? Денег, конечно!
Местная детвора — полуголые, оживленные чертенята с подкрашенными глазами, — сгрудились вокруг белых и принялись с ужимками теребить их за одежду. Меж прочими сверстниками застыла пятилетняя смуглянка с мелкими, под барашек, кудряшками, сияющая, будто уголек из костра. В отличии от приятелей, она не протягивала ладонь, а, казалось, внимательно вслушивалась в разговор путешественников, словно силясь вникнуть в смысл произносимых звуков.
— Правду, видно, говорят, что цыгане из Индии пошли, — сквозь зубы процедила женщина. — Один в один — попрошайки! Придется дать мелочь, — иначе не отстанут. Только постарайся, чтоб не дотрагиваться. А то еще заразу какую-нибудь подцепим.
Она неохотно выудила из сумочки несколько драхм и раздала тем, кто поближе. Поколебавшись, протянула последнюю монетку маленькой «кудряшке»:
— Наверняка из касты неприкасаемых. Гляди, какие рожи тупые.
Девчушка насупилась.
— Никакие мы не неприкасаемые и не тупые, — внезапно по-русски произнесла она. — Сами вы невдалые. Заблудились в двух соснах. И еще нас же обзывают.
Не поверив собственным ушам, женщина оглянулась на закаменевшего мужа.
— Отель-то как называется? — требовательно спросила смуглянка.
— «Индиана», — сглотнул прорезиненную слюну Коля.
— О! Я и говорю, — не туда забрёдали. Это далёко отсюда, — девочка озабоченно, явно подражая взрослым, поцокала язычком. — Дай десять рупий, скажу.
Не отрывая от нее ошарашенного взгляда, Коля полез в карман и протянул едва ли не первую попавшуюся бумажку.
Девочка с важностью приняла крупную банкноту, засунула поглубже за ворот платьица. В глазах ее появилось лукавство.
— Сейчас переедете мост, — она вытянула пальчик к дороге, и впрямь поднимавшейся вверх, — а сразу за ним — направо. Двести метров и — ваш отель.
Полагая, что ловко надула путешественников, и боясь расплаты за обман, она попыталась шмыгнуть за спины приятелей, но не сумела, — индийцы, пораженные тем, что их малышка ловко лопочет на каком-то неведомом языке, который хорошо понимают белые, сгрудились плотным кольцом.
Блондинка ухватила девчушку за запястье, присела на корточки рядом:
— Погоди убегать! Тебя как зовут?
— Рашья, — испуганная всеобщим вниманием, пролопотала та, делая новую попытку ускользнуть. Но женская рука оказалась крепкой.
— Ты откуда по-русски так научилась? Жила у нас? С кем? Где твои родители? Да отвечай же!
Девочка, не видя выхода, захныкала. Одна из торговок, с тревогой следившая за происходящим, протиснулась через толпу и подхватила ее на руки.
— Вы, вероятно, мать? — обрадовалась блондинка. — Вы можете объяснить?..
Она прервалась. Женщина испуганно прижимала к себе кудрявую головку, а глаза самой малышки сделались такими же непонимающими, как у всех остальных.
— Кажется, мы ее потеряли, — пытаясь перебороть потрясение, съехидничал Коля.
— Но этого не может быть. Она ведь только что разговаривала!.. — жена его заторможенно качнула головой. — Так же не бывает.
— Выходит, бывает. Поехали отсюда! — охваченный новой, пугающей мыслью, Коля потянул ее за руку.
— Надо бы всё-таки разобраться, — вяловато уперлась жена. — То понимает, то не понимает. Чертовщина какая-то.
— Вот именно. А то еще, говорят, сглазить могут так, что через неделю копыта отбросишь. И оно нам надо?
Переглянувшись, путешественники устремились к машине. Спустя несколько секунд старенький «пежо» врезался в поток и, без всяких знаков поворота, бросаясь в каждую щель, устремился на мост.
Лишь когда проклятое место скрылось из виду, женщина разогнула пальцы, украдкой зажатые в фиги.
— Чтоб еще раз без гида!.. По возвращении надо будет в церковь сходить!
Она от души сплюнула через левое плечо, угодив точнехонько в супруга. Он, впрочем, даже не отреагировал.
Через день маленькая Рашья зарыдала во сне. Когда прибежали взрослые, она сидела на циновке, потная от страха, и в ужасе лопотала на непонятном языке. Но как только с ней заговорили на привычном хинди, будто очнулась и не смогла вспомнить, что именно ей привиделось. В следующую ночь кошмар повторился. Испуганные родители обратились к учителям ближайшей школы.
Долго выясняли, на каком языке говорит малышка, родившаяся и выросшая на окраине Джайпура. Оказалось, на русском. Нашли молодого врача, закончившего московский университет имени Патриса Лумумбы и прожившего пять лет в России. Тот добровольно провел несколько ночей подле Рашьи. Обнаружилось, что девочку преследуют какие-то навязчивые, отрывочные видения — почему-то город в снежной России, в котором убивают неведомого Павла Игумнова. В следующую ночь видения обросли новыми подробностями. Рашья защищалась от какого-то Степана Голутвина и призывала на помощь женщину по имени Ксюша. Но, едва проснувшись, она начисто забывала и свои сны, и язык. Пораженный врач связался с делийскими друзьями. Решено было в мае за государственный счет отправить малышку на обследование в столичный центр по изучению паранормальных явлений.
Эпизод 3. Год 2008. Март. Высшие сферы
— Ты всё запомнил? — настойчиво повторил Анхэ. — Твоей вины в гибели поднадзорного нет! На этом стой. И тогда — я уже договорился — дело спустят на тормозах, а тебя перебросят на новый участок: через четыре месяца под Антверпеном родится будущая учительница фламандского. Спокойная беспроблемная судьба с тихим увяданием в кругу семьи. Конфетка, а не задание. Такое даже ты провалить не сможешь. После чего заберу тебя на повышение — в свой проект. Понял наконец?
— Да понял, — подтвердил я. — А как же Рашья? Получается, что ребенок обречен.
— И что с того? Люди, видишь ли, иногда смертны. Бывает, и в детском возрасте гибнут. Не она первая, не она последняя.
— Да, но тому всегда есть причина. В самом ли ребенке, в предках ли его. А здесь — из-за нашей ошибки! Как же тогда быть с постулатом, что без ведома Всевышнего и волос не упадет?
Анхэ удрученно вздохнул.
— О чем ты? Это всего лишь образ, дисциплинирующий смертных! Уж тебе-то пора бы усвоить. На самом деле человечеством правит не справедливость, а целесообразность, — тоном врача, беседующего с трудным пациентом, протянул он. — Человечество — плодоносящий луг. Мы — садовники, собирающие энергию и подпитывающие ею Высшие сферы. Каждый отвечает за свой клочок луга. А человек — цветочек на нем. Миллионы миллионов цветов. Каждый со своим родовым геном. Кто-то тучнеет, кто-то засыхает. Да, мы ухаживаем, стараемся сохранить, оберечь, дабы линия судьбы не прервалась до времени. Но ветры, дожди, бури, — всё суть случайности для чахлого цветочка. И убиваться из-за каждой былинки — садовников не хватит… Словом, делай как сказано, — поспешно отодвигаясь, прошипел Анхэ.
Атмосфера стремительно сгустилась, — члены Ангельского совета и приглашенные заняли свои места.
Я стоял и вместе с остальными слушал суперконтролера, обвинительная речь которого разносилась под сводами, повторяясь вязью в воздухе. Увы, занятый мыслями о трагической судьбе Рашьи, я то и дело невольно отвлекался.
Незримое пожатие Анхэ напомнило мне о необходимости собраться.
Меж тем в сводах гудело:
— Обвиняемый и прежде имел многочисленные замечания в связи с безалаберным отношением к своим обязанностям. В том числе занесенное на голограмму. Увы! Адекватных мер принято не было. Что и привело к новому, тяжкому проступку. Непостижимым образом оставил он без защиты своего хранимого в момент, когда тому грозила реальнейшая опасность. Содеянное выглядит особенно неприглядным на фоне поведения его коллеги — Анхэ, который, как известно, обеспечивает наблюдение сразу за двумя десятками судеб в разных концах земного шара. И у него, конечно, были основания отвлечься в этот момент от собственной хранимой — жены Игумнова Ксении. Тем более той, казалось, ничто не грозило. Но интуиция, сочетающаяся с истинной ответственностью, подсказала ему о скрытой угрозе. И в нужную минуту он оказался в нужном месте, что позволило спасти ее от гибели при осложненном выкидыше.
— А в самом деле, как случилось, что вы оставили своего хранимого? — пытливый и размеренный голос Председателя совета без усилия вклинился в трубный глас обвинителя. — Имеется ли разумное объяснение?
Все взгляды сосредоточились на мне. Я скосился на Анхэ, с безучастным видом погрузившегося в раздумье. Что после этого оставалось? Я уныло вздохнул.
Вздох мой, похоже, сработал против меня, — голос суперконтролера загремел воодушевленно:
— В результате преступной халатности обвиняемого его хранимый Игумнов погиб на 14 лет раньше своего предела и не совершил предначертанное. Налицо тягчайшее нарушение главы семнадцатой, части третьей Поведенческого кодекса, караемое при наличии рецидива низвержением в число смертных!
По залу прокатился гул, — похоже, такого сурового вердикта не ждали.
— Слово в защиту, — прошелестело в воздухе. Анхэ, обращая на себя внимание, подался вперед.
— Обвиняемый действительно допустил просчет, — подтвердил он. — Но всего лишь просчет, а не тяжкий проступок. Поскольку у нас были смежные задания, могу подтвердить: погибший задолго до гибели сошел с предначертанного пути. И последние несколько лет его жизни — исключительная заслуга моего коллеги. Я сам неоднократно рекомендовал Анхелю списать поднадзорного в наряд и оставить без защиты. Но он продолжал упорствовать. В данном случае, если и пенять ему за нарушение, то не Поведенческого кодекса, как выдвига ется в обвинении, а единственно параграфа 8Е инструкции № 17/347-бис «О порядке списания хранимых, сошедших с предначертанного пути», то есть за нерациональное расходование ангельских ресурсов на заведомо отработанный материал. А санкции данного параграфа не предусматривают столь тяжких последствий для оступившегося.
— Поправка принимается, — согласился Председатель совета.
Все-таки Анхэ великий дока по части документооборота. Надо же, уел самого суперконтролера. Я с благодарностью посмотрел на друга, но тот оставался бесстрастен и недоступен эмоциям, — воплощенная объективность.
К общему удивлению, суперконтролер, не споря, молчаливым кивком признал свою неправоту. И я понял, почему он столь легко отступился: в запасе у него имелось куда более тяжкое обвинение, которое незамедлительно было предъявлено.
— Сказанное выше — лишь малая, и не основная часть инкриминируемого. Истинное преступление обвиняемого, повлекшее события, могущие привести к осложнениям самым пагубным, и вынудившее собраться Ангельский совет, было совершено далее. Произошла вещь неслыханная, — после смерти Игумнова обвиняемый по халатности сдал отчет о причинах гибели не в архив, как то предписано инструктивным письмом № 856934/n, а… — суперконтролер выдержал интригующую паузу, — в отдел ближнего резерва!
Как и следовало ожидать, зал наполнился озабоченным шелестом.
— В результате вместо предписываемых методическими рекомендациями ста и более лет выдержки освобожденная душа незамедлительно оказалась реинкарнирована в тело индийской девочки Рашьи! — голос суперконтролера затрепетал от негодования. — Более того, грубое нарушение технологии привело к системном у сбою, и память о предыдущей реинкарнации оказалась стертой недостаточно тщательно. Ребенок, которому ныне пять лет, вдруг заговорил на языке прежней жизни. В любой момент он может вспомнить события, предшествовавшие его рождению.
Шелестение в воздухе подтвердило, что сообщение сильно взволновало собравшихся.
Еще бы! Всё, что касается обстоятельств потустороннего существования, от смертного глаза скрывается тщательно. То есть людям дано понять, что загробная жизнь существует. Это дисциплинирует и придает стимул. Но какова она и каким образом воздействует на земное бытие, что скрывается за занавесом, отделяющим жизнь от смерти, — сия загадка остается для смертных непознанной. Именно неразрешимость тайны бытия является одним из столпов, что подпирают веру и не дают человеку сойти с предначертанного пути.
К числу священных, особо хранимых таинств относятся и принципы реинкарнации, то есть переселение души из одного тела в другое. На протяжении нескольких жизней происходит своеобразная селекция. Девять жизней как девять урожаев. Одни души совершенствуются и подготавливаются для перехода в ангельский сонм, другие, вырождающиеся, обречены на умерщвление.
Технологические сбои, когда смертный вдруг начинал вспоминать события прошлой жизни, встречались и раньше. Всякий раз это вызывало жгучий интерес окружающих, будоражило умы как всё неведомое и непостижимое. Но одно дело, когда кто-то начинает вспоминать события, происходившие столетия назад. Проверить подлинность снизошедших на него откровений не дано ни тому, кто изрек, ни тем, кто услышал. В конце концов событие фиксируется как шрам на теле цивилизации, который потихоньку рубцуется. А с болью затухает и интерес к нему.
Иное дело — реинкарнация, произошедшая едва ли не немедленно. Если завтра в делийском институте, куда собираются поместить на обследование Рашью, она начнет вспоминать обстоятельства российской жизни, проверить соответствие ее фантазии действительности будет совсем нетрудно. И это не просто приоткроет — распахнет таинство переселения душ. Допустить подобное решительно невозможно. А значит, всё шло к принятию чрезвычайных мер. Что и подтвердил суперконтролер.
— Вследствие преступной халатности обвиняемого нам не оставлено выбора, — тяжко произнес он. Выдержал мучительную паузу. — Я вынужден поставить вопрос о принудительной эвтаназии.
Я, как и все, ждал этого и всё-таки вздрогнул. Принудительная эвтаназия есть насильственное умерщвление, когда вместе с телом до срока уничтожается и душа.
Мера эта чрезвычайная, применяемая лишь по приговору Ангельского суда и только в исключительных, грозящих раскрытием таинства, случаях. Приходилось признать, — сейчас была именно такая ситуация.
— Но этого нельзя делать! — донесся до меня чей-то вскрик. По тому, как удивленно посмотрели на меня окружающие, вскрик оказался моим собственным. — Нельзя! — повторил я, несмотря на предупреждающий жест Анхэ. — Умертвить безвинного ребенка — это бесчеловечно.
Едва выпалив последнее слово, я понял, что опять сморозил глупость.
— Спохватился! — желчно отреагировал суперконтролер. — Сначала поставил Совет в безвыходное положение. И теперь нас же учит доброте. Так вот, полагаю, для вашей собственной души как раз будет время усовершенствоваться. После низвержения в число смертных.
— Возражаю! — бесстрашно встрял Анхэ. (Всё-таки приятно иметь такого надежного друга.) — Необходимость принудительной эвтаназии, конечно, бесспорна. Но что касается вины Анхеля, ее еще требуется доказать. Я специально перепроверил. Отчет был сдан с соответствующей пометкой, предусмотренной методическими рекомендациями номер…
Председатель нетерпеливым движением замкнул уста моего заступника.
— Мера виновным будет определена, — холодно объявил он. — Сейчас важно решить судьбу Рашьи. Положение выглядит вроде бы безвыходным.
При ударении на «вроде бы» гул в зале сменился ожиданием.
— В самом деле, возникает замкнутый круг, — продолжил Председатель, как бы неспешно рассуждая. — Чтобы сохранить душу в нынешнем теле, необходимо, чтоб сначала она вспомнила полностью свое предыдущее существование. Только после этого возможно стереть память и залатать возникший энергетический прокол! Но как раз позволить девочке вспомнить предыдущую жизнь мы и не можем. То есть до того, как Рашья будет доставлена в Делийский институт, она должна умереть. Так получается?
Он сделал выжидательную паузу. Никто не нарушил ее.
— И это очень жаль, — констатировал Председатель. — С ее смертью иссохнет плодороднейшая, почти созревшая ветвь. Оборвется одна из позитивных энергетических нитей меж сферами. Ведь именно Рашье была уготована особая миссия, — пробиться из низов социальной лестницы, стать выдающейся индийской поэтессой, человеком, который разрушит кастовые границы, непоколебимые много столетий, гордостью собственной страны. Да, горько!
Я задрожал. Мысль о том, что жизнь малютки будет сейчас грубо оборвана, казалась невыносимой. С мольбой обратил я взор на Председателя.
— Говори, — дозволил он.
— Существует способ спасти девочку! — дерзко заявил я. Ощутил холод Совета, но остановиться уже не смог. — Надо на время изъять ребенка из теперешней среды обитания в Индии и переместить в Россию, в прежние условия. Чтоб Рашья встретилась с теми, кого знала в образе Павла Игумнова. Возможно, это встряхнет девочку и восстановит ей память о прошлом. Если это произойдет, мы сможем сделать то, чего не можем сейчас, — тут же стереть восстановленную память. После чего ребенок начисто забудет о прежнем существовании, обновленным вернется в нынешнюю жизнь и выполнит предначертанную ему миссию.
В зале установилось молчание, показавшееся мне отчужденным.
— Ведь умертвить никогда не поздно, правда? — пролепетал я, уже без всякой надежды.
Мольба моя оказалась услышана.
— Любопытно! — оценил Председатель. — И ты, очевидно, готов взять на себя на это время функцию ее ангела-хранителя?
— Готов.
— Рискнуть своей будущностью? Ведь шансов на успех мало. А в случае неудачи виновный будет наказан строжайше. Тогда нам в самом деле придется низвергнуть тебя в число смертных и обречь на столетние круги жизни.
— Конечно же! — выкрикнул я, боясь, что он передумает.
— Вот даже как! — констатировал Председатель, несколько, как показалось, озадаченно. — Что ж. Мы отправим девочку в эту… — он воздел очи горе, сверяясь с письменами в сферах, — Калугу. На неделю. Это предельный срок, что мы можем определить без утверждения Высшего судии. И ты отправишься с ней.
Не сдержавшись, я зааплодировал, чем вызвал укоризненные взгляды.
— Но не как ангел-хранитель, — сбил мой восторг Председатель. — Ангел-хранитель на этот период ей не положен категорически. Перебрасывая душу в прошлую жизнь, мы и без того идем на неслыханные нарушения. Отправишься в смертном теле. И в этом качестве будешь находиться подле нее до полного завершения эксперимента. Оберегать девочку имеешь право лишь способами, доступными обычному смертному.
— Но это невозможно! — вскрикнул я. — Игумнов был убит. Если ребенок вдруг вспомнит обстоятельства его смерти в присутствии убийц, то — это же детский ум — он тут же выдаст себя и станет мишенью. По сути его могут убить заново, и земных способов защитить может оказаться слишком мало!
— Довольно! — услышал я негодующее. — Совет и так соглашается на риск больший, чем когда бы то ни было. Если ребенок погибнет, стало быть, такова будет воля Высшего судии. Запомни! Категорически запрещается использовать особые возможности. Категорически! — прогремел Председатель, уловив в моем колебании несогласие. — Под страхом низвержения в земную жизнь! Решение принято! — прозвучало, фиксируя сказанное, громогласное эхо.
Тотчас атмосфера разрядилась, — члены суда и приглашенные покинули Зал совета.
— Ну, и зачем тебе это было надо? — послышался недовольный голос Анхэ. — Ведь, считай, отмазал тебя. А теперь сам заново вляпался в мутную историю.
— Мне может понадобиться твоя помощь, — я думал о своем. — Слышал ведь, что не смогу использовать особые возможности. И если случится непредвиденное… Ты же всё равно будешь возле Ксюши. Присмотри и за Рашьей.
— Даже не надейся, — Анхэ сделался холоден. — Отныне полагайся только на себя. Быть низвергнутым вместе с тобой желания не испытываю.
Что ж, это было справедливо.
— Тогда хотя бы помоги сейчас, — попросил я. — Помнишь, Игумнов действительно получил у Голутвина акции «Бритиш петролеум». Но куда он их дел, я не знаю. Меня не было рядом. В тот день ты как раз попросил подстраховать тебя на Сахалине и на это время взял моего подопечного под свой присмотр. Когда я вернулся, акций у него уже не было. Я должен знать, где они. Хотя бы на благо твоей хранимой.
— Ничего ты не должен, — буркнул Анхэ. — Делай свое дело. А моя поднадзорная — не твоя забота. Уж как-нибудь добредет до предначертанного конца.
— Но это важно и для выполнения основного задания, — заупрямился я. — Согласись, через акции у меня больше шансов выйти на убийство и вернуть Рашье память.
Моя настойчивость смутила Анхэ.
— Я не знаю, что происходило с твоим подопечным в те дни, — неохотно признался он. — Понимаешь, после твоего отбытия возникла внезапная проблема с одним поднадзорным в Кот д’Ивуар. Совершенно внезапная. Пришлось всё бросать…
Я похолодел:
— Но ты бы мог вернуть меня.
Анхэ смолчал. Я понял почему, — не вернул, дабы не оставить без защиты собственного хранимого на Сахалине.
— Что ж получается? — я чувствовал себя совершенно обескураженным. — Выходит, мы ничего не знаем. Ни кто убивал. Ни куда исчезли акции. Нечего сказать, хороши хранители.
Я решительно подобрался:
— Мне придется обратиться в Совет с просьбой восстановить происшедшее на голограмме.
— Вот как? — желчно хмыкнул Анхэ. — И что с нами обоими будет, когда узнают о несанкционированных подменах, а главное — что поднадзорный оставался без охраны?
Что будет со мной, мне уже объявили. Речь шла о том, что станется с Анхэ. Скорее всего, прервется блестящая карьера моего друга. А друзей, как известно, не губят.
— Что ж мне теперь делать-то? — пролепетал я.
— Да что и предначертано, — преувеличенно бодро отреагировал он. — Ты ж интуитивный. Проведешь на месте расследование. Всё восстановишь. А девчонку, чтоб чего ни случилось, держи всегда при себе.
Я хотел возразить, но Анхэ поспешно опечатал мои уста и растворился по своим бесчисленным делам.
Эпизод 4. Апрель 2008 года. Калуга
Как всегда, Ксюша долго ворочалась в постели. Надо было заставить себя заснуть, — в семь утра вставать на работу. Казалось, чего проще, — вечером, заканчивая смену, она едва держалась на ногах и мечтала об одном, — добраться до своей комнатенки, наскоро перекусить и погрузиться в сладкий, освежающий сон. Всё так и происходило, как мечталось, до того момента, когда голова тяжело опускалась на подушку, — зловредный сон тут же уносился во всю прыть. Не успокаивал даже Пират, по обыкновению свернувшийся под боком. Одряхлевший, но не ставший хоть немного покладистей. Он снисходительно позволял себя кормить. Но попытки приласкать пресекал злобным урчанием.
Ксюша лежала с закрытыми глазами, уговаривая себя заснуть, и слушая, как безостановочно капает из старого будильника время. Секунда за секундой, час за часом, год за годом.
Со времени гибели Павла накапало аж шесть лет. Безрадостных и безысходных. Потеряв всё, она впала в нервную депрессию. Тяжело вылечивалась. Да так до конца и не вылечилась. Правда, непроизвольное подергивание головы прекратилось. Но то и дело просыпалась среди ночи от того, что затекала рука или нога. Затекала настолько, что переставала ощущаться частью тела. Со страхом хваталась она за отказавшуюся повиноваться конечность, беспорядочно мяла, колотила ею, будто поленом, о спинку кровати, со страхом дожидаясь, когда кровь вернется в жилы. И боясь, что однажды не вернется.
Может, из-за этого страха и сон убегал. А может, оттого, что так и не свыклась ночевать по чужим углам. За эти годы трижды меняла съемное жилье.
Сначала однокомнатная квартирка в хрущевской пятиэтажке, потом комната в трехкомнатной квартире. Но и оттуда съехала. Цены на жилье беспрестанно росли, стремительно обгоняя убогую зарплату продавщицы парфюмерного отдела. А ведь надо было еще питаться, что-то откладывать на шмотки.
Пришлось перебраться в десятиметровую угловую халупу в двухэтажном деревянном доме в Заречье. Весь многокомнатный дом был заполнен жильцами. Стремясь извлечь побольше выгоды, прижимистая хозяйка сдавала его по частям. Она даже ухитрялась найти арендаторов в проходную комнатенку, через которую Ксюша пробиралась в санузел. Правда, недавно комнатка, слава богу, освободилась. Но наверняка ненадолго.
Прежняя, обеспеченная, полная грандиозных планов Ксюшина жизнь ушла в никуда. Теперь планы ее строились от зарплаты до зарплаты.
Как-то вдруг улетучились из жизни старые приятельницы. Да и самой Ксюше неловко стало видеться с теми, кто помнил ее в дни преуспевания. Оказавшись случайно возле знакомого фитнес-центра или косметического салона, Ксюша опускала голову и торопилась проскользнуть неузнанной.
Растворились где-то и друзья Павла, клявшиеся не оставить ее вниманием. Правда, поначалу и впрямь пытались помочь. Мазин и Сапега дважды навещали Ксюшу в больнице и передавали небольшие суммы денег. Обещали даже приискать дешевую квартирку, но тут у самих случился облом.
«Вектра», стремясь компенсировать потери, возникшие в связи с погашением чужого кредита, вслед за имуществом Игумнова, не церемонясь, обобрала и его незадачливых компаньонов. С тех пор ни тот, ни другой не появлялись.
О Мазине Ксюша случайно узнала, что он перенес тяжелый инсульт с лоботомией, после которой передвигается с трудом и на улицу не выходит.
Сапеге повезло чуть больше. Оленька во всей этой истории проявила себя на удивление благородно, — вышла-таки за обедневшего Женю замуж. А дальше, если верить недобрым языкам, осуществилась ее мечта. На отдыхе в Сардинии познакомилась с одним из боссов всемирно известной компании «Пармалат». Вернулась на джипе и с назначением для мужа — директором филиала «Пармалат» в Калужском регионе. Вот только менеджером Женя оказался неудачливым, — первая же проверка выявила грубые финансовые нарушения, после чего Сапегу уволили. Нажить богатство он так и не успел. Но проблемы мужа не сказались на благосостоянии жены. Пять-шесть раз в год Оленька летала в Италию и возвращалась с деньгами и ворохом дорогих шмоток, которые Сапега развозил по элитным бутикам.
Впрочем, узнавала это Ксюша от общих знакомых. После гибели Павла Оленька запропала. А навязываться самолюбивой Ксюше не хотелось. Столкнулись они случайно после пятилетнего перерыва. Оленька забежала в торговый центр купить что-то из парфюмерии. Ксюша как раз отлучилась в подсобку. И почти сразу из зала донесся знакомый пронзительный, раздраженный голосок:
— Есть здесь кто-нибудь? Эй, где вы там, барышни-крестьянки! Кончайте груши околачивать. Живо ко мне! А то придется вашему начальству втык сделать.
Если бы рядом находилась старший продавец Татьяна, Ксюша попросила бы ее обслужить клиентку. Увы! Татьяна уехала за товаром.
Хмурая Ксюша вышла в зал. Оленька, такая же холеная, как прежде, в белой песцовой шубке, с капризно поджатыми губками, нетерпеливо постукивала ноготками по стеклу прилавка. При виде старой подруги слегка смешалась.
— Ксюха! Ты? Здесь?!
Наметанным глазом пригляделась. Оттопырила губку:
— Ну надо же, как тебя!
Тут же, на одном дыхании, протараторила, что работает заместителем директора нового торгового центра «Рио». Один из поклонников пристроил. Сапега, правда, вздумал ревновать. Но она этому альфонсу уже объявила, что если за год не разбогатеет, она его вообще бросит. Кому нужен мужчина без жалкого миллиона? И чего стоит женщина, не умеющая такого мужчину найти.
Оленька, не скрываясь, прошлась насмешливым взглядом по подруге-неудачнице.
После этого общаться с ней Ксюше расхотелось совершенно. И от предложения зайти в гости («Жека будет рад») она уклонилась.
Да Оленька особо и не настаивала. Через пару минут заторопилась, прозрачно намекнув, что опаздывает на очередной пасьянс. Кажется, она совершенно не изменилась.
А вот личная жизнь самой Ксюши по существу иссякла. Правда, подружки-продавщицы несколько раз пробовали знакомить ее с парнями. Но знакомства эти, как правило, обрывались на первой встрече. Редкие же случаи физической близости заканчивались неизменным разочарованием, в котором, возможно, повинна была она сама, — не ощущала в себе сил не то что для любви, но и для увлечения.
К тому же она давно была не такой хорошенькой, как прежде. После пережитых потрясений на чистом когда-то лице горной грядой проступили угри и прыщи, которые приходилось тщательно замазывать по утрам.
Впрочем, на расстоянии, да еще под слоем косметики, это пока не было заметно. И мужчины, особенно в подпитии, — а почему-то к парфюмерному отделу они шли чаще всего именно в таком состоянии, — считали своим долгом похорохориться перед смазливой продавщицей.
Ксюше пришлось овладеть искусством тактично избавляться от домогательств ухажеров, ухитряясь при этом польстить их самолюбию. Так что, погусарив, почти все они что-то да покупали.
Как раз сегодня, в конце дня, к отделу подошел ладный, лет тридцати мужчина с волнистыми ржаными волосами, пронзительно голубющими глазами и нежным румянцем на мальчишески застенчивом лице.
— Чем интересуетесь? — дежурно отреагировала Ксюша, чтобы не выдать интереса, который невольно вызвал в ней незнакомец.
— Вообще-то вами, — ответил он, отчего-то волнуясь. Удивительно — но пошлая эта фраза в его устах не выглядела привычным, забубенным хамством.
Тем не менее Ксюша, измотавшаяся за день, сочла нужным обидеться.
— Меня нет в прейскуранте, — намеренно резко отреагировала она. И сама удивилась, как вдруг засмущался он. Румянец на щеках заалел, большие ресницы захлопали.
— Я что-то не то сказал? Обидел?
— Ничего. Я привыкла. Профессия, знаете ли, предполагает, — хмуро извинила Ксюша. — Покупать будете? Для жены или для девушки.
— Для девушки! — обрадовался он. — Помогите что-нибудь выбрать.
— Что значит «что-нибудь»? — Ксюша продолжала для виду сердиться, хотя в своем смущении он сделался очень милым. — У нас широкий ассортимент. Всё зависит от бабок.
— Бабок? — он наморщил лоб, словно ожидая подсказки.
Ксюша нахмурилась, — чего не терпела в мужиках, так это позерства. Она намекающе потерла пальцы.
— Ах, это! — он обрадованно полез в карман и вытащил тугую пачку тысячерублевых купюр. — Хватит?
— А можно не выпендриваться?! — на этот раз Ксюша рассердилась неподдельно. Она повернулась в сторону подсобки, из которой как раз выглянула старший продавец. — Видала, Таньк? Еще один юморист на нашу голову.
Странный незнакомец быстро захлопал ресницами, очевидно, соображая, чем вызвана вспышка гнева.
Татьяна подошла поближе, стрельнула глазами на купюры.
— Этого хватит, чтоб полотдела скупить, — хмыкнула она. — Вот, к примеру.
Она поставила на прилавок флакончик «Gucci ENVY», осторожно вытянула из пачки две тысячерублевки, отсчитала небогатую сдачу:
— Недешево, конечно. Зато не фуфло. Любая девушка будет рада.
— Правда? — покупатель пододвинул флакончик Ксюше. — Радуйтесь, пожалуйста.
— Да вы!.. — Ксюша задохнулась. То ли и впрямь в гневе. А больше потому, что чувствовала на себе испытующий взгляд Татьяны. — Я уже сказала, что не продаюсь. Словом… — она облизнула губы. — Спасибо за покупку.
— Я всё-таки что-то не так сделал, — уныло догадался мужчина. — Но я не хотел обидеть. Наоборот. Думал подождать вас. Проводить до дому.
— А то без вас некому, — огрызнулась вошедшая в раж Ксюша.
Незадачливый ловелас потерянно кивнул, неохотно отошел к лестнице и, всё еще колеблясь, скрылся из виду, оставив духи на прилавке.
— Еще одно забуревшее быдло, — неуверенно залепила вслед Ксюша. В ожидании поддержки скосилась на Татьяну.
Но та, всегда жестко пресекающая флирт сотрудниц с покупателями, на сей раз отчего-то улыбалась:
— Ну нет. Что угодно, только не быдло. Странный, правда, немного. Но… Ты видела, какие у него бездонные глазищи? Байкал — не меньше!
Замужняя мать троих детей грустно вздохнула. И после паузы убежденно добавила:
— Дура ты, Ксюха!
Ксюша молча согласилась. Она и сама жалела о неуместной грубости и пыталась понять ее причины. В сущности, за всё время незнакомец не сказал ничего оскорбительного. Даже позерство с деньгами выглядело вполне невинным. Но, едва появился он у прилавка, где-то по краю сознания Ксюши принялось скрести странное ощущение, будто с этим человеком она встречалась раньше. Была убеждена, что нет, — не запомнить такого яркого, необычного мужчину было бы невозможно. И всё-таки — да, встречалась! Ксюшей овладело беспокойство.
Сейчас, в постели, она с томлением принялась вспоминать робкие глаза, виновато хлопающие ресницы. И — странное дело — через несколько секунд внутри ее разлилось приятное тепло, и она заснула глубоким освежающим сном.
В темноте Ксюша вдруг вскочила с постели, — показалось, капает с потолка. Но нет, — то размеренно и без выражения тявкала под окном дворовая собака. Ксюша глянула на светящийся циферблат будильника и раздосадованно потянулась, — пора было вставать.
Неохотно выбралась из-под теплого одеяла. Отдернула штору. Мимо оконца вверх вспорхнули «вертолетики» — стаей. Будто разом кто-то спугнул. Хилая зима 2008 года в середине апреля вдруг взбрыкнула. По запорошенным улицам бродил, поднимая поземку, пронизывающий ветер. Комната выходила на северную сторону, и в огромное щелястое окно постоянно задувало. Даже раскрасневшийся калорифер, что Ксюша купила втайне от хозяйки, едва поднимал температуру до пятнадцати градусов.
Зябко поежившись, Ксюша поспешно накинула байковый халат.
Ею овладело уныние, — предстоял очередной безрадостный день. Но в следующую минуту она вспомнила о незнакомце. И расцвела, отчего-то уверенная, что сегодня он появится вновь. И на этот раз она его не оттолкнет.
Весь день Ксюша порхала за прилавком, чем дальше, тем с большим беспокойством поглядывая на лестницу. Увы! Он так и не появился. Что говорить, вчера она здорово постаралась произвести впечатление. В первый раз за столько лет на горизонте появилось что-то стоящее, и — сама оттолкнула.
Она так ушла в переживания, что даже беспричинно огрызнулась на Татьяну.
— Что? Не пришел? — догадалась та.
— Да мне-то по барабану! — выпалила Ксюша и смутилась, поняв, что невольно выдала тайные мысли.
— Я бы расстроилась, — призналась Татьяна.
«А уж я-то как!» Права, права Татьяна. Дура и есть. Да еще превратившаяся в мегеру.
В семь вечера, совершенно опустошенная, она вышла из торгового центра. В сумке лежал флакончик духов — единственная память о незнакомце.
Он ждал напротив выхода, переступая озябшими ногами в легких, не по сезону туфлях, глубоко погрузив нос в букетик мимозы.
Ксюшино сердечко вспорхнуло и заколотилось. Боясь выказать радость, она наморщила лоб.
— Никак вспомнили о забытых духах?
— Каких духах? — недоуменно повторил он. — Я вас ждал. Холодно только, — с детским удивлением незнакомец дотронулся до уха.
— Не удивительно, — Ксюша глянула на тоненькие туфли. — Что, не терпится попасть на тот свет?
— Почему? У меня еще неделя срока, — отчего-то испугался он.
— Шуточки же у вас, — Ксюша покачала головой. — Но вообще-то, если в летних туфельках по снегу, так и недели не протянешь. Вы зиму в чем отходили?
— Вообще не ходил, — наткнувшись на непонимающий взгляд, незнакомец спохватился. — В смысле зимой меня здесь не было.
Его неприкрытая робость помогла Ксюше обрести прежнюю, снисходительную интонацию.
— Тебя как зовут-то?
— Анхель.
— Как? — она поразилась. И диковинному имени. И тому, что необычное имя в самом деле идеально шло ему. — Болгарин, что ли?
— Могу и болгарином.
Ксюша нахмурилась.
— Вот что, Анхель. Я понимаю, ты хочешь мне понравиться. Но передо мной каждый день столько остряков-самоучек проходит, что уже аллергия. Поэтому давай договоримся: если острить не умеешь, то и не пытайся. Будь собой. Лады?
— Лады, — согласился он безропотно. Вновь прильнул лицом к цветам.
— И скажи на милость, что ты там всё вынюхиваешь?
Анхель поспешно протянул букетик Ксюше:
— Это мимоза, правда?
— А что же еще?
— Какой чудный запах. Густейший.
— Обычный. Кстати, ты руки испачкал. Очисти.
— Как?
— Снегом!
— Снегом? — Анхель боязливо погрузил ладони в колючий сугроб, но тут же выдернул и принялся разглядывать пальцы.
— Что теперь? — съязвила Ксюша.
— Холодный. И колется, — с совершенно детским удивлением он продемонстрировал ей покрасневшие фаланги.
— Эка невидаль. Ты что, в своей Болгарии снега не видал? — фыркнула Ксюша, начиная раздражаться от этой неуместной восторженности.
— Видел, конечно. Только не на ощупь.
Она лишь головой повела. Кажется, начиная привыкать к его чудачествам.
Угадав в ней раздражение, Анхель поймал ее ладошку, озабоченно заглянул сверху вниз:
— Тебе очень плохо?
— Мне?! Вот еще! — Ксюша надменно хохотнула. Что-то запершило в горле.
— Да! Представь себе, мне плохо, — ненавидя себя за слабость, призналась она. — Мне безобразно плохо. Уже давно. Только никому не говорю.
— Так выговорись. Будет легче, — участливо предложил Анхель.
— Размечтался. Еще один утешитель на мою голову, — взбрыкнула Ксюшина гордость — в последнем усилии. Но, заглянув в сострадающие, тоскующие от ее боли глазищи, Ксюша поняла, что поток чувств, зажатых в кулак обид и ночных рыданий вот-вот хлынет наружу. Так было, когда она переболела гайморитом. Боясь врачей, долго мучилась, терпела. Наконец решилась. И после непереносимой, сверлящей боли вдруг прорвало, и скопившаяся слизь полилась в подставленный тазик.
— Что ж! Считай, сам нарвался, — для очистки совести пробормотала она.
Следующие полтора часа Ксюша шла по вечерней Калуге, заботливо поддерживаемая под локоток, и говорила без передыху. О любви к Павлу, которого встретила восемнадцатилетней девочкой и, как умела, оберегала от несчастья. Обо всём, что случилось с Павлом и его друзьями, — как она это понимала. О его измене и своей боли. О его гибели. И главное — об отчаянной, старящей безысходности последних лет, когда не живешь, а доживаешь.
Говорила, боясь сбиться. Захлебываясь от избытка того, о чем хотелось рассказать, и оттого сбиваясь. Не умея точно выразить свои ощущения и сердясь на себя за это.
То и дело она косилась на внимающего ей спутника и не могла избавиться от болезненного ощущения, будто то заветное, чем она делится, во всяком случае о себе и Павле, откуда-то знакомо ему. И всё-таки это ему интересно. Больше того, исходящая из нее боль будто впитывалась им.
Наконец, она замолчала, с радостным изумлением ощущая в себе звонкую опустошенность. Прежняя жизнь, которой она все эти годы невольно продолжала жить, и которая не пускала ее в новую, нынешнюю, ушла в воспоминания. Гной вытек. Она словно сдала собственное мучение на хранение другому.
— Вот видишь, просил поделиться. И — схлопотал, — с благодарностью пробормотала Ксюша. Она огляделась и обнаружила себя стоящей подле своего пристанища в глуши Заречья.
— Как мы здесь оказались? — поразилась Ксюша.
— Мы шли.
— Но почему здесь?
— Ты привела.
— Я тебя никуда не вела! — к ней разом вернулась прежняя подозрительность, еще более усилившаяся при воспоминании о том, с какой легкостью она безоглядно, до неприличия раскрылась совершенно чужому человеку. Кровь бросилась в лицо. — Как ты узнал мой адрес? Только не юли. Выследил?
— Да, — сокрушенно признался он.
Губы Ксюши побелели в недобром предчувствии. Время от времени то в магазине, то возле очередного Ксюшиного прибежища объявлялись «мальчики» Голутвина, присматривались, прислушивались. Явно вынюхивали, не разбогатела ли внезапно бедная вдова. Увы им!
— Значит, следил за мной? Тебя подослали, да? Я-то, хороша дура. Раззюзилась тут. Как же! Состарадатель объявился. А это всего-навсего очередной голутвинский ублюдок! Никак не успокоитесь? Всё ищете пропажу? Шесть лет прошло, и всё ищете. Да неужто, если б хоть что-то осталось, я б в этой дыре кандыбалась? Неужто?!.. Уж убейте разом, что ли?
— Ксюшенька! Что ты? Как подумала? — сбивчиво залепетал Анхель. — Я наоборот… Друг Павла.
— Кто?! — поразилась Ксюша. Всех друзей покойного мужа она знала наперечет.
— Только не местный. Из Туапсе, — поспешно поправился он. — Знаю его с рождения.
— С рождения? Вы знакомы с рождения?!
— Во всяком случае я с ним.
Ксюша зло расхохоталась:
— Ты в зеркало на себя глянь, прежде чем впаривать. С рождения он! Да Павлу сейчас за сорок было бы. А тебе хоть тридцатка-то исполнилась?
Анхель согласно кивнул:
— Да, недоработка. Чересчур моложаво получилось. Но я ведь и впрямь старше его.
Он начал быстро, стремясь сбить в ней волну неприязни, рассказывать о детстве Павла, о том, что последние годы тот несколько раз приезжал на родину. Что рассказывал, будто собирается отступиться от завода, если уж никому не надо, бросить всё и вместе с женой и ребенком вернуться к морю. Даже подыскивал жилье. С этим он уехал в последний раз.
Ксюша слушала, наполняясь гнетущим беспокойством. Всё, что слышала она от Анхеля, походило на правду. Даже даты поездок в Туапсе совпадали один к одному. Он приводил такие факты, о которых никто, кроме Павла и ее самой, знать не мог. Стало быть, в этой части он не лгал. Но Павел, тосковавший по морю, часто рассказывал ей о своем детстве в Туапсе. Вспоминал тех, с кем рос. Горевал, что у большинства из них жизнь не сложилась. Надеялся, вернувшись, многим помочь. Однако ни о каком Анхеле не упоминал. Даже если предположить, что скрытность Павла простиралась гораздо дальше, чем она думала (умел же, стервец, скрыть любовницу), то допустить, что всё это время он тщательно избегал упоминания о ближайшем из друзей, она была не в силах.
Но еще больше ее настораживала мысль, что гордый, до бешенства самолюбивый Павел мог быть с кем-то слабым и откровенно рассказывать о собственных страхах, о готовности сдаться (как сам говорил — «плакаться», «растекаться соплями»). Это был бы уже другой, надломленный человек. А Павел так и ушел не согнувшимся.
И поверить, что муж мог запросто открыть душу кому-то третьему, — это уже был бы не Павел. Но и не поверить было невозможно.
— Он сам тебе об этом рассказал? — бессмысленно переспросила Ксюша.
— Можно сказать, — сам.
Ксюшу затрясло от внутреннего озноба:
— Я, пожалуй, пойду. На сегодня как-то многовато всего обрушилось.
Анхель, опережая, открыл перед ней калитку и шагнул следом.
— Мне сюда же.
— Что-о?!
Он заискивающе улыбнулся:
— Понимаешь. Я тоже здесь снял… Комнату на неделю. Утром и снял. Там такая проходная есть на втором этаже.
— Меня это всё уже достало. Говори, наконец! — Ксюша почувствовала приближение истерики.
Почувствовал и Анхель. Он заторопился:
— Павел звонил мне за два дня до гибели. Просил, если что случится, о тебе позаботиться.
— Значит, по поручению Павла, — Ксюша почувствовала жуткое разочарование. — Долгонько ж ты добирался.
— Так получилось, — плечи Анхеля в сознании справедливости упрека ссутулились. — Далеко отлучался.
— Да уж видно, что не близко, — Ксюша скрипнула зубками. — Ладно, радетель. Пойдем, раз уж соседи.
Вечерний дом дышал гулом голосов, из дверных щелей просачивались голубые лучи телеэкранов. На общей кухне еще позвякивали ложки о кастрюли, тянуло запахом жарящейся на сале картошки.
По скрипящей лестнице они поднялись на второй этаж. Ксюша первой открыла дверь в проходную комнату и — застыла на пороге.
На старом продавленном диване пятилетняя цыганочка играла с Пиратом. Да, собственно, не играла. Скорее, позволяла играть коту. А вот с тем и впрямь творилось невиданное. Недоступный чужой ласке, презирающий всех и вся, кроме погибшего хозяина, Пират носился вокруг девчушки двухмесячным котенком, то и дело запрыгивая на нее и норовя, будто щенок, лизнуть в лицо.
При виде незнакомой женщины девочка отчего-то просияла. Теплые бархатные глазенки распахнулись навстречу.
— Ксюха-рассюха! — тоненьким голоском выкрикнула она. Попыталась сползти с дивана, но разыгравшийся кот вновь прыгнул сверху, едва не повалив на спину.
— Фу, Пират! — девочка недовольно оттолкнула кота. — Достал своей телячьей нежностью! Ведешь себя поди знай как, хохотульный котяра!
Ксюша с помертвелым лицом сползла по косяку. Всполошившийся Анхель едва успел подхватить ее под руки.
Проснулась Ксюша в полной темноте в своей кровати. Прямо в платье поверх одеяла. Прикрытая чужим пледом. Едва пробудившись, почувствовала, что левая рука совершенно онемела, и вскрикнула от страха. Из соседней комнаты донесся шелест тапок, и через несколько секунд над ней склонилось участливое лицо Анхеля.
— Рука вот. Затерпла, — пожаловалась она.
— Сейчас, сейчас, — он осторожно принял ее руку, огладил и — будто перекрытый кран повернул. Кровь хлынула по венам. Ксюше даже показалось, будто она слышит хлюпанье разливающегося потока.
— Лучше? — озабоченно спросил Анхель.
Ксюша благодарно кивнула. Дотянувшись до бра, включила свет, со злорадством рассчитывая увидеть его в нижнем белье, — времени одеться не было. Но, к тайному ее разочарованию, на Анхеле оказалась шелковая, расшитая драконами пижама. Мужчин, спящих в пижамах, Ксюша видела доселе лишь в западных фильмах. Она хотела съехидничать. Но в следующее мгновение вспомнила то, что предшествовало обмороку: неведомо откуда взявшийся ребенок, слово в слово воспроизведший излюбленную фразу и даже интонацию ее покойного мужа. Липкий страх вполз в Ксюшу. К затылку из глубин мозга двинулась боль.
— Кто она? — прошептала Ксюша.
— Рашья. Ей пять лет, — невнятно объяснился Анхель.
— Цыганка?
— Почему? Индианка. Моя племянница. У меня сестра замужем за индийцем. Привезла погостить. Не с кем было оставить. Хотела увидеть русскую зиму. Так что вот…
— Но откуда?!..
— Да, да. Это фраза Павла, — опередил Анхель. — Я ей много рассказывал о вас. Повторял. Как видишь, усвоила. Очень впечатлительный и возбудимый ребенок. Вдруг вспоминает вещи, о которых вроде бы и знать не должна. Да еще с красочными подробностями. Ее даже хотят положить на обследование. А я подумал, может быть, здесь, в другом климате, все видения исчезнут. Девочка-то из-за них мучается. Пугается по ночам.
Ксюша не поверила. Она уже подметила, что всякий раз, когда он говорит что-то недостоверное, то отводит взгляд и переходит на конфузливое бормотание, словно торопится проговорить заранее заготовленный текст.
Но уличать во лжи его сейчас, среди ночи, не было сил. Хотелось одного — избавиться от наползшей, мучительной боли, что скоро охватит голову обручем и примется сдавливать-сдавливать, пока не сделается невыносимой. Вот в этом как раз можно было не сомневаться. Она бессильно простонала, готовясь к очередной бессонной ночи.
И вдруг ощутила легкое прикосновение, разом отогнавшее проклятущую боль. До жути знакомое прикосновение. Будто перышко скользнуло по затылку.
Ксюша резко обернулась, как делала прежде. Но прежде она всегда утыкалась в пустоту. Теперь же наткнулась на глаза, полные сострадания. Анхель, не успев спрятаться от ее требовательного, ищущего взгляда, смешался, будто поняв, что именно искала она в эту секунду. Он всё о ней знал. В горле Ксюши пересохло.
— Кто же ты? — бессильно пробормотала она.
— Друг, — успокоил он. — Просто друг. Ты спи. Освободись от всего тягостного. Завтра выходной. Покажешь нам с Рашьей город. Пообедаем где-нибудь в кафе. Рашья, например, никогда не пробовала мороженого.
— Тогда в «Сказке», — Ксюшу охватила непреодолимая сонливость. — Там есть чудный фисташковый «Баскин Роббинс».
Уже засыпая, она ухватила мужскую ладонь и подсунула под щек у.
Ксюша спала, ровно и глубоко дыша. А он до утра сидел подле, на краю кровати, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить благодатный сон. И с наслаждением шмыгал носом. Анхель уже начал привыкать к сладкому дурману запахов. Но этот, запах женского тела, смешанный с легким ароматом духов, нельзя было сравнить ни с чем другим. Он тихонько пригнулся и дотронулся губами до потного лба с прилипшим завитком.
«Кто же ты»? — вспоминал Анхель Ксюшин вопрос и горько хмурился. Можно подумать, он мог ей об этом рассказать…
Робкий солнечный зайчик с трудом прорвался сквозь затушеванное зимней накипью окно и коснулся спящей. Еще не вполне пробудившись, Ксюша счастливо улыбнулась. Впервые за много лет она чувствовала себя расслабленной и отдохнувшей.
Возле подушки послышался шорох. Когда она засыпала, рядом был Анхель. Неужели так и просидел всю ночь?
Она слегка приоткрыла веки, готовая благодарно улыбнуться своему охраннику. Но вместо этого увидела блестящие глазенки склонившейся Рашьи.
— Она проснулась, проснулась! — заливисто закричала девчушка.
Из проходной комнаты послышались скользящие шаги Анхеля.
— Пойдем, Рашья! Она еще спит.
— Но она проснулась. Я видела! Ты говорил, что как только Ксюша проснется, мы пойдем есть мороженое. Ты же сам говорил!
Ксюша открыла глаза, растроганная этим бесцеремонным «Ксюша». Ласково потрепала малышку по жгучим вихрам:
— Раз Анхель говорил, значит, так и будет. Сейчас встану, позавтракаем и — пойдем. А кстати, ты зубки почистила?
Это оказался первый по-настоящему весенний день — солнечный, прозрачный, овеваемый теплым ветерком. Как же чудесно себя чувствовала Ксюша! Рашья, с которой они моментально сдружились, поначалу не выпускала ее руку и все время щебетала, беспрерывно переходя с русского на неведомый, как объяснил Анхель, хинди. Но Ксюшу эти переходы не задевали. Она просто внимала музыке детского голоска. Потому что, даже говоря по-русски, девочка так быстро тараторила, что без помощи Анхеля разобрать ее сбивчивую речь было едва возможно. Зато Анхель понимал ее без всякого усилия.
С первых же минут бросилось в глаза, насколько дополняют эти двое друг друга. Анхель радовался тому же, чему Рашья, восхищался очевидными и приевшимися любому взрослому человеку вещами: слежалыми сугробами, бегущими ручейками, жухлыми клочками проступившей травы. Сначала Ксюша умилялась, полагая, что он ловко подыгрывает малышке, которая от восторга то и дело попискивала. А потом увидела, что в восхищении Анхеля не было ничего наносного. Он вел себя с непосредственностью человека, и в самом деле никогда не лепившего снежки, не знавшего запаха костров из прелых листьев.
Казалось, он не ведал и вкуса пищи. В «Сказке», когда подали овощные салаты, Анхель с беспокойством вертел в руках листик сельдерея, тщательно обнюхивал и лишь затем опускал в рот, прежде быстро касаясь языком, будто боясь обжечься. А после смаковал, восхищенно покачивая головой.
Рашья, уплетавшая тут же мороженое в вазочке, глядя на дядю, громко смеялась, побуждая к беспричинному смеху и Ксюшу. От их смеха Анхель смущался, краснел:
— Так ведь вкусно же!
Потом она повела их в городской сад. Как раз после зимы запустили карусель. Оба захотели прокатиться. И едва не передрались за право вскарабкаться на единственного жирафа. В конце концов примирились на двух тиграх.
Проносясь мимо поджидающей Ксюши, большой и малая, не сговариваясь, отпускали поручни и пугали ее, отчаянно размахивая руками.
Ничего слаще этого быть не могло. Ксюша понимала, конечно, что это не ее дочь и не ее муж. Просто чужие, случайные люди. Но представляла, будто гуляет с мужем и дочерью. Даже, войдя в роль, отчитала Анхеля, когда по его недосмотру Рашью окатило грязью из-под колес пролетевшего джипа.
Пришлось зайти отмываться в туалет торгового центра «Рио». Ксюша, помнившая, что здесь работает Оленька, спешила вернуться на улицу. Но глазенки Рашьи при виде наполненного людьми многоэтажного здания из тонированного стекла восхищенно расширились.
— Ну, пожалуйста, давайте здесь погуляем. Хоть на минуточку-разминуточку, — она умоляюще, подражая актрисам Болливуда, сложила ручонки. — Ведь расскажу — не поверят.
Ксюша смирилась.
И, конечно, едва ли не сразу, поднявшись на эскалаторе, наткнулись на Оленьку. Та стояла в проеме второго этажа возле распахнутого кабинета и, неприязненно поджав губки, с аппетитом отчитывала пожилую продавщицу. Завидев внезапно появившуюся подругу об руку с маленькой цыганочкой, Оленька округлила глаза и выпятила нижнюю губку. Тут же она разглядела Ксюшиного спутника и автоматически подпустила взгляду томности, а ее фигура в строгом брючном костюме, до того слегка ссутулившаяся, разом добрала упругости и шарма. Так охотничья собака делает стойку на дичь, не дожидаясь команды. Нетерпеливым жестом она отпустила продавщицу и — через голову подруги — просияла навстречу новому приключению.
— Быть того не может. У Ксюхи появился приличный кавалер, — проворковала Оленька.
— Знакомый, — нехотя поправила Ксюша.
Оленька охотно приняла поправку. Глазки заискрились.
— Может, наконец, представишь?
Выхода не было.
— Да ради бога. Анхель. Ольга.
— Для вас просто Оленька, — прожурчала та. — Значит, не кавалер. Тогда позвольте интимный вопрос: вы, случаем, не женаты?
— А ты, случаем, не забыла, что сама замужем? — не удержалась Ксюша.
Но смутить Оленьку мало кому удавалось. Эта умела любую ситуацию повернуть к собственной выгоде.
— Кстати, насчет мужа. Сапега как раз должен подойти, — вроде спохватилась она. — Собирались в ресторан. Но теперь обязательно сходим вместе. Как в прежние времена… Ну, почти как в прежние. Прошу пока ко мне в кабинет. И — пожалуйста, без возражений, — опередила она Ксюшу. — Сама виновата, что в гости попались.
Не церемонясь, Оленька по-хозяйски подхватила Анхеля под локоток и, будто ненароком прижавшись, повлекла к открытой двери.
Делать было нечего. Ксюша, поймав Рашью за ручку, угрюмо потянулась следом.
В кабинете Оленька усадила девочку на кожаный диван, всунула в руки альбом с репродукциями. Но Рашья, будто завороженная, не сводила глаз с хозяйки. От не по-детски цепкого взгляда Оленьке сделалось неуютно.
— Какая очаровательная девчушка, — через силу произнесла она. — Даром что цыганочка. Откуда такая?
— Она не цыганочка. Индианка, — грубовато отреагировала Ксюша. — Племянница Анхеля.
— Племянница? — Оленька недоверчиво сравнила две головы, — из ржи и смоли. — Впрочем, всякое бывает. А я-то думаю, где таких интересных мужчин выводят. Стало быть, в Индии?
— В Туапсе, — вмешалась Ксюша. — Он друг Павла.
— Вот как? — Оленька удивилась. — Приехали на могилу?
— Хочу разобраться, как он погиб, — к удивлению Ксюши, объявил Анхель.
Оленька озадаченно присвистнула:
— Разобраться! Если б это было так просто, мы бы сами давно всё знали. А уж чтоб спустя шесть лет что-нибудь найти… Ксюха, вон и та надежду потеряла. Город хоть знаете? В смысле — где какие улицы, что кому принадлежит (Анхель неопределенно мотнул головой). Во! А туда же — разбираться. Впрочем, ваше счастье, что у Павла здесь остались друзья. Ксюша у нас человек подневольный, трубит с утра до ночи за прилавком. А у меня со временем всё в порядке. Опять же своя машина! Так что в розысках помогу и деньгами не возьму.
Двусмысленный намек не оставлял сомнений: расчет будет произведен другим способом.
— Так что, принимается помощь? — добрая фея Оленька изогнулась в ожидании изъявлений признательности.
Только вот новый знакомый оказался неблагодарным.
— Полагаю, сумею справиться сам, — без эмоций протянул он.
После холодного этого ответа как-то вдруг стало заметно, что Оленькины чары, обычно безотказные, на Анхеля совершенно не подействовали. Более того, Ксюша убедилась в том, что подметила раньше. Робкий с нею, с другими Анхель становился снисходительно-вежливым, как человек, осознающий свое превосходство над собеседником.
Может, из-за этого обидного мужского равнодушия Оленькой овладело необоримое желание уколоть подругу.
— Ну, ну, не куксись, не буду! — она приобняла Ксюшу.
Лукаво обратилась к Анхелю:
— Проклятое мое свойство, из-за которого растеряла едва не всех подруг. Стоит заговорить с мужчиной, а тот уж маслом растекается.
— Но всё-таки не всякий, — зло напомнила Ксюша.
Но Оленька проигрывать не умела даже в мелочах. Глазки ее прищурились.
— Всякий! — выпалила она.
От запоздалой догадки Ксюша задохнулась:
— Так это была ты?!
— Что я? Вот еще придумала! — проговорившаяся Оленька смешалась. Упрямо поджала губки. — А хоть бы и я!.. Пашка сам хотел тебя бросить. Умолял, чтоб жить вместе. А я не соглашалась. Потому что тебя, дурочку, жалела!
При виде пошедшей пунцовыми пятнами подруги Оленька опомнилась. Через силу усмехнулась:
— Не бери в голову, мать. Говорю же, — все они, самцы, такие.
Она скосилась на звук от двери, — незаметно вошедший Евгений Сапега с мучительной маской боли привалился к косяку.
— Врешь ты всё! — среди неловкой паузы прозвучал детский голосок. Малышка, подавшись вперед, с взрослой неприязнью вперилась в кокетничающую Оленьку.
— Что, детка? — от неожиданности пролепетала та.
— Врешь, говорю. Сама на всех углах из трусов лезла, пока в постель не затащила.
— Что ты такое говоришь, малышка? — пролепетала смятенная Оленька. — Что еще за шутки? Женя, я ж тебе рассказывала: он меня изнасиловал, а потом принуждал сожительствовать. Кто подучил ребенка?!
Она возмущенно повернулась к Ксюше. Но та сама с открытым, перекошенным ртом завороженно смотрела на странного, вещающего младенца.
— Это кто кого изнасиловал? — с прежней страстью переспросила Рашья. — Забыла, как на Новый год, она, — Рашья ткнула пальчиком в Ксюшу, — спать ушла. А ты меня напоила вдребезги (от этого «меня» всех обдало холодом) и под пьяного залезла. А потом полгода донимала, будто «залетела», и требовала жениться. Не так, скажешь?
— Не так! Ничего я не требовала. Больно надо насильно тащить! Я и от денег его поганых отказалась… О господи! Прочь, исчадие ада! — в ужасе прервалась Оленька.
Ужас ее разделяла и Ксюша, которую просто колотило.
Застыл совершенно убитый Сапега.
Разве что Анхель сохранил подобие хладнокровия. Он подошел к возбужденной Рашье, встал на колени, огладил головку:
— Успокойся, девочка. Тебе опять привиделось.
От прикосновения его ладони злобно напряженные черты разгладились, в них вернулись детские мягкость и успокоение. Потеревшись лобиком о дядю, девочка поглубже забралась на диван и, как ни в чем не бывало, потянула к себе альбом.
— Бабка у нее была ясновидящая, — в звенящей тишине пояснил Анхель. — Похоже, передалось. Самый, говорят, несчастный дар.
Ксюша ненавидящим взглядом впилась в бывшую подругу. Оленька перепугалась.
— Да причем тут какой-то дар?! — выкрикнула она. — Не верь ей, Ксюха! Было у нас с Пашкой, да! Сама, считай, призналась. Но чтоб из-под лучшей подруги уводить, — больно надо! Мало ли какие у этого недомерка видения?
Боясь сорваться, Ксюша выскочила из кабинета и устремилась вниз по эскалатору. Следом с Рашьей на руках за ней торопился Анхель.
Вечерело. В полном молчании шли они через центр к трамвайной остановке. Впереди вприпрыжку бежала Рашья. Ксюша подавленно молчала. Анхель забегал то справа, то слева, стараясь заглянуть ей в лицо, но Ксюша сердитым движением головы отгоняла его прочь.
Внезапно она застыла, так что замешкавшийся спутник уткнулся в нее, едва не сбив.
— Что?
— Оленька, — во внезапном озарении пробормотала Ксюша.
— Да, неприятно такое узнать.
— Не о том я! — Ксюша отчего-то рассердилась. — Не сходится! Павел в ту последнюю ночь поехал к любовнице. Это я точно поняла. Но Оленька-то ночевала у меня. Понимаешь? А раз его любовницей была она, значит?..
Боясь потерять мысль, она требовательно поглядела на Анхеля.
— Значит, пригласила к себе и специально ушла, чтоб обеспечить алиби, — закончил за нее Анхель. — Но тогда кто?
— Голутвин! — объявила Ксюша. — В свое время Оленька мне намекала, что зацепила его, и вроде даже он из-за нее из семьи уходить собрался. Ну, насчет «уходить», понятно, врала по своему обыкновению. Но то, что крутила и была на содержании, — вполне возможно. Она ему и насчет кредита могла рассказать.
— Но откуда она сама?..
— От Сапеги, конечно, — опережая недоуменный жест Анхеля, Ксюша отмахнулась. — Да всё они про кредит знали. Что Сапега, что Мазин. И что получил, и что обналичил. Это они на следствии врали, боялись, чтоб на них не подумали. А Сапега что сам знал, то и Оленьке сливал. А та, получается, — Голутвину. Дальше, думаю, просто. Назначила Павлу свидание, где вместо нее голутвинские его поджидали. Такой вот сексуальный вечерок у Пашки выдался.
Ксюша потерла лобик.
— Вроде, на этом сходится.
— Не слишком ли мудрёно? — усомнился Анхель. — Деньги-то, как мы знаем, лежали в директорском сейфе. Разве чужой смог бы незамеченным через охрану?..
— О! Тут и вовсе говорить не о чем! Охрана — одно название. Через забор в десятке мест перемахнуть можно. Особенно к ночи, когда заводоуправление пустое.
— Но — мотив? — напомнил Анхель. — После уступки Павлом акций завод всё равно переходил к Голутвину. Так зачем же у себя собственные деньги воровать?
— Да всё затем же! — сердясь на его непонятливость, вскрикнула Ксюша. — Они ж специально организовали, чтоб на Пашку подумали! На убитого кражу кредита списали и под этим предлогом всё у меня отобрали! Коттедж, таунхаус, машину, — ты подсчитай! За это и убили.
Ксюша снизу вверх заглянула в лицо спутнику.
— Возможно, и так, — кисло согласился он. — Но…
— Да, теперь не докажешь, — тяжко согласилась Ксюша. — Теперь уж никому и ничего не докажешь. Павла нет, и всем всё до звезды!
Она закрутила головой:
— А где Рашья?
Девочки нигде не было.
Анхель и Ксюша побежали в ближайший, Алтынный переулок. Тот самый, где стоял таунхаус, в котором Ксюша с мужем жили перед его гибелью.
Рашья стояла возле калитки их бывшего дома и беспомощно теребила незнакомый замок.
Ксюша повернулась к спутнику.
— И что скажешь? — она облизнула пересохшие губы. — Про наш адрес тоже ты ей рассказывал?
— Называл. Алтынный переулок, дом…
— Да? И карту местности учил считывать? …Рашья, детка, прочти на табличке, какая это улица.
Малышка послушно подошла к указателю, старательно вгляделась в неведомые буквы. Беспомощно повела плечиками.
— Ну? — Ксюша требовательно обернулась к спутнику. — Что еще соврем?
— Я ж говорил, — у нее прозрения. Вроде как экстрасенсорный дар, — потерянно забормотал Анхель. — Может, с ее помощью выясним относительно смерти Павла.
— Угу. По следу, что ли, ребенка пустим? Вроде поисковой собаки? Нечего сказать, хорош дядя. Пошли домой, трепло!
Ксюша почувствовала невиданную, необоримую усталость.
С Анхелем в ее жизнь пришла тайна — жуткая в своей непостижимости.
В доме она потрепала по щечке Рашью и, демонстративно игнорируя потерянного Анхеля, ушла к себе. Не раздеваясь, уселась тяжело на край кровати и охватила голову, пытаясь свести в цельную картинку калейдоскоп обрушившихся событий и впечатлений.
— Айвари! Айвари! — донесся из-за стенки плачущий детский голосок.
Ксюша метнулась в проходную комнату. Из кухоньки выбежал Анхель.
Малышка в ночной рубашонке сидела на скомканной простыне, сжав ручками виски.
— Иди ко мне, солнышко! — Ксюша протянула руки, и Рашья с радостью прижалась к ней потненьким тельцем.
— Опять болит, — пожаловалась она подошедшему Анхелю. Горячо зашептала. — Мне страшно, дада. Эти люди! Они говорят, а я наперед знаю, что скажут. Будто я их давно знаю. И будто так было раньше! Я к маме хочу!
— Кто такая Айвари? — шепнула Ксюша.
— Ее мать, — слова сами сорвались с губ Анхеля. Глаза Ксюши округлились.
— Да, мать! — с отчаянием завравшегося подтвердил он. — И моя сестра. Приняла индуизм, получила индийское имя. Все так делают.
Ксюша понятия не имела, что и как делают в Индии. Но улавливать фальшь в голосе со времени гибели мужа не разучилась.
Глаза ее сузились. Шальная мысль взбрела в Ксюшину голову.
— Скажи-ка, малышка, — стараясь выглядеть беззаботной, нагнулась она над девочкой. — Вот тебе кажется, будто всё про нас знаешь. А, к примеру, какие у меня на теле есть родинки? А? То-то!
Она торжествующе дунула в детскую щечку.
— А вот и знаю. У тебя на попе крупная родинка, — припоминая, важно сообщила девочка. — И потом вот тут, — она ткнула пальчиком в правую подмышку. — А на спине ты вырезала. Потому что на корешке висела и задевала.
Ксюшу прошиб пот. Пальцы сами собой впились в слабые детские ручки.
— Откуда знаешь? Откуда?! Ты подглядывала за мной? Подглядывала, да?! Признавайся же!
Перепуганная Рашья заплакала. Это привело Ксюшу в чувство.
— Ну, ну, маленькая! Всё, всё. Глупая тетя больше не будет. Успокойся и спи. Пожалуйста!
Нежность к беспомощному, страдающему созданию заполнила ее. Отложив на потом все объяснения, она принялась ходить по комнате, баюкая малышку на руках, мурлыча что-то в ушко. Плач прервался, дыхание выровнялось. Девочка забормотала, устраиваясь на руках, засопела и уснула.
Ксюша нехотя переложила ее на кровать, заботливо подоткнула одеяло.
Анхель с побитым видом ждал у стола.
— Может, соизволишь наконец объясниться? — потребовала Ксюша. — И не начинай опять про мать — русскую индусску… Тоже, знаешь, не дурочка с переулочка. Я же видела, она в жилу говорит. У самой, как в глаза глянула, — когти по сердцу. Будто и про меня всё знает.
— Ксюшенька, но что я еще могу? — страдальчески залепетал Анхель. — Ведь в самом деле — дар у нее.
— И у тебя? Павла моего отродясь не видел. Голову даю — не видел! Откуда тогда? Не мучь! Ведь рехнусь!
— Видел! Сколько раз видел, — обрадованно всполошился Анхель. — Правду говорю!
Мысль, что говорит правду, добавила голосу страстности и убедительности.
Ксюша беспомощно разрыдалась. От тщательно выстроенной прелести лица не осталось и следа. Слезы смыли всё. Сквозь косметику проступили бурые пятна, рот перекосился. Сама знала, что сделалась некрасивой. Но остановить поток слез не могла.
Анхель всполошился. Сбегал к холодильнику, заходил вокруг со стаканом сока. Давясь слезами, Ксюша сделала глоток.
Анхель потянулся неловкими руками погладить.
В следующее мгновение оба непроизвольно отшатнулись друг от друга и обернулись на звук скрипнувшей половицы. За приоткрытой дверной створкой угадывалась массивная фигура квартирной хозяйки — в стираном домашнем халате. Поняв, что замечена, хозяйка распахнула дверь настежь и решительно вошла внутрь, полная запахов коммуналки.
— Гляжу, вы тут объединились, — ехидно констатировала она.
— Вообще-то стучаться надо, — сдерживая неприязнь, напомнила Ксюша.
— Молода еще меня поучать! — понимая, что виновата, хозяйка рассердилась. — Лучше скажи, зачем мой адрес кому попало даешь? Я тебя сюда, кажется, не прописывала.
— Адрес? — непонимающе повторила Ксюша. — Ах да. На работе, в отдел кадров. У нас требуют реальное место жительства. Я дала. Что-то не так?
— А то, что я тебе не почтальон. Не знаю, что там у тебя за дела с властями. Но меня прошу не впутывать. Это сегодня по почте пришло. Держи.
Ксюша приняла пакет со штемпелем налоговой инспекции. Смягчая обстановку, успокаивающе кивнула:
— Это по ошибке. Кто-то когда-то перепутал, будто у меня есть собственный дом, и, похоже, внесли в базу данных. Теперь требуют оплатить налог на недвижимость. В третий раз присылают. Если бы она у меня была, разве б я сейчас снимала этот угол?
— Не хуже других угол. Не нравится, не держу. Желающих — только свистни, — буркнула хозяйка и, не обращая внимания на заискивание квартирантки, вышла.
Ксюша нервно вскрыла конверт, вытащила вложенный листок. Переменилась в лице.
— Что-то случилось? — чутко угадал Анхель.
— Налоговики сообщают, что в случае дальнейшей неуплаты подают в суд. Господи! Этого мне еще не хватало. Будто своих забот мало. За что всё?!
Анхель аккуратно вынул из трясущихся пальцев бланк, внимательно прочитал.
— Знаешь, я ведь завтра свободен. Если хочешь, схожу в налоговую. Разберусь.
— Спасибо, — пробормотала Ксюша, исполненная благодарности. Она уже забыла это чувство, когда мужчина принимает на себя груз твоих забот.
Трепетная бережность, с какой обращался с ней Анхель, согревала и умиляла. Ксюша чувствовала, что сама начинает утопать в нежности к этому диковинному чудаку с бездонными голубыми глазами. Далекому, но кажущемуся отчего-то близким. Ей вновь стало тепло, уютно.
Она не признавалась себе, но значительная часть нежности проистекала от мстительного ощущения реванша, что испытала она при виде того, как, даже не заметив, отмел он ухищрения опытной обольстительницы Оленьки.
Боясь выдать зародившееся чувство, она поспешила уйти к себе. Нырнула под одеяло. «Может, и впрямь полюбил»? — с истомой спрашивала она себя и со страхом махнувшей на собственную судьбу долготерпки старалась прогнать сладостную мысль. Глупость, конечно. С чего бы этот таинственный красавец мог увлечься такой бесприданной простушкой, как она? «А быть может, всё-таки?»
Ксюшина головка закружилась.
Голуби на ситцевой занавеске потихоньку принялись наливаться синевой — занимался рассвет, а с ним — очередная рабочая неделя. Воскресная сказка закончилась. Будто ничего и не случилось.
Ан случилось! Ксюша понимала это явственно. Никогда уж не будет так, как прежде.
За прилавком Ксюша то беспричинно улыбалась, то вдруг принималась покусывать губки, так что сновавшая здесь же Татьяна с возрастающим любопытством поглядывала на подругу.
— Тот самый? — не выдержала она. Промежуточный вопрос пропустила как излишний.
Ксюша хотела запулить в ответ что-нибудь пренебрежительное. Но лишь жалко замотала головой. Губы задрожали:
— Он скоро уедет.
И при мысли, что и впрямь уедет, накатила волна горечи — предвестница будущей беспросветной тоски.
Вечером, торопясь к своим, Ксюша наплевала на строгий режим экономии и позволила себе прокатиться сразу на двух маршрутках.
Дома ее ждали. Хлипкий, покрытый новой скатертью стол был уставлен деликатесами, и среди прочего глаз сам выхватил блюдце с черной икрой, вкус которой она забыла со времен замужества. В углу дивана угадывалась укутанная в одеяло кастрюля.
Анхель стоял на коленях перед диваном с разложенной картой области. Рашья со скучающим видом следила за двигающимся пальцем.
Предвкушая сюрприз, Ксюша кашлянула.
В то же мгновение Рашья обернулась, глазенки заискрились радостью. Расставив ручонки, она припустила к Ксюше и, подхваченная ею, с визгом повисла, суча ножками в воздухе.
Анхель поднялся с колен.
— Тебе название Завалиха что-нибудь говорит? — с видом приготовившего сюрприз фокусника поинтересовался он. Дождался недоуменного кивка. — Там теперь ваша усадьба, миледи.
Он изобразил вполне изящный реверанс.
— Какая еще усадьба? Что за глупости, — Ксюша неохотно спустила с рук Рашью.
— Может, насчет усадьбы я хватил. Но домик у вас там точно имеется. Во всяком случае, в налоговой инспекции значится на тебе с 2002 года.
— Но откуда? — Ксюша, не раздеваясь, опустилась на край дивана, устроив Рашью на колене. — Ни слухом, ни духом.
— Должно быть, Павел оставил, — предположил Анхель.
— Больше точно некому, — Ксюша озадаченно нахмурилась. — Но к чему?
— Хотел сюрпризом.
— Да, сюрпризов от него и после смерти не убывает, — Ксюша припомнила вчерашнее унижение, зло прикусила нижнюю губу. — Знаю я эту Завалиху-развалиху. Десяток перекособоченных домишек. Там уж, поди, и живых не осталось. Если только…
Она собиралась высказать зародившуюся догадку, но Анхель украдкой показал ей на Рашью. На лице малышки отображалась взрослая, уже знакомая Ксюше мука. Будто пыталась что-то вспомнить и не могла. От напряжения на лобике проступили бисеринки пота.
Ксюша спохватилась:
— Замучили ребенка болтовней. Давайте ужинать.
К разговору о таинственном наследстве они вернулись после того, как уложили налопавшуюся Рашью спать. Начал Анхель:
— Я вот всё думаю насчет этого дома…
— Я тоже, — перебила, усаживаясь рядом, Ксюша. — Скорей всего, в налоговой произошла обычная путаница. Но если Пашка на самом деле купил дом в деревне, что-то могут знать его дружки бывшие — Мазин и Сапега. Раньше они всё меж собой обсуждали. Может, ты завтра съездишь к Мазину? А Рашью я бы с собой на работу взяла.
Ксюша представила, как удивится и восхитится при виде Рашьи Татьяна, как сбегутся продавщицы из других отделов, начнут пичкать девочку сладостями. А она, притворно хмурясь, будет требовать не портить ребенка.
— Конечно же, — охотно согласился Анхель. — И найду, и поговорю.
— Не жалко на меня отпускное время-то тратить? — со смешком произнесла Ксюша. И по вскинувшимся, распахнувшимся навстречу глазам увидела, — не только не жалко, но в радость.
Ксюше сделалось грустно.
— Зачем всё? Зачем? — пробормотала она. — Жила себе замороженная, отжившая.
— Ты не отжившая. Что ты? Совсем не отжившая, — Анхель замахал руками. — Уж если ты отжившая… Ты — красивая. И потом как ты пахнешь! Никто так не пахнет. Как мимоза зимой!
— Что? — от диковинного комплимента Ксюша зарделась. Полная благодарности, робко провела рукой по длинным его пальцам.
В то же мгновение ее пронзило острое, полыхнувшее из самых глубин желание, грозящее сию же минуту, от следующего прикосновения, разразиться мощным оргазмом, о котором давно и забыла.
Ксюша больно прикусила губку. Сглотнула. С силой притянула Анхеля:
— Иди ко мне.
— Как это? Зачем?
— Иди же. Хочу!
— Ч-чего?
— Я тебе еще и это объяснять должна? Ну же. Кто из нас мужчина?
Она впилась в его губы, сама опрокинула на кровать и утонула в потемневших от страха глазищах.
Это было поразительно. Анхель и в постели поначалу оказался неумелым и пугливым, будто лишаемая невинности девушка. Знай Ксюша жизнь чуть хуже, решила бы, что перед ней и впрямь девственник. Но мысль эта как появилась, так и пропала, — сорокалетних красавцев-девственников не бывает. К тому же вскоре он превратился в страстного и нежного любовника, восстающего от малейшего касания ее ноготка и в свою очередь способного довести до безумства простым поглаживанием живота.
Она даже не заметила, как пролетела ночь и начало светать. Анхель лежал на спине с открытыми, неподвижно глядящими в потолок глазами и бессмысленно-блаженной улыбкой на лице.
Ксюша же, счастливо-опустошенная, водила подушечками пальцев по его телу, повторяя углубления и морщинки — словно стремясь накрепко запомнить. Восторг в ее душе всё более вытеснялся печалью.
Пока Анхель останется подле — будет великое, всепоглощающее, неизведанное прежде счастье. Но вскоре он исчезнет. И — на смену душевной зиме, в которой прозябала последние годы, придет вечная мерзлота. Потому что представить, что место Анхеля сможет занять кто-то другой, она решительно не могла.
Словно угадав Ксюшины мысли, Анхель перевел на нее вопросительный взгляд. Столкнувшись с бездонными, сочащимися нежностью глазами, она всхлипнула:
— И что теперь? Появился, растопил. А дальше? Был, и через неделю вдруг нет. А мне-то каково будет? Подумал?
Анхель в ответ невольно простонал, — будто именно об этом и думал.
В магазине Рашья и впрямь произвела сенсацию. Девчонки из других отделов, благо покупателей с утра было немного, умиленно разглядывали бойкую, с маслянистыми глазами смугляночку, копавшуюся в коробках с духами и беспрерывно что-то лопотавшую. Впрочем, когда ей задавали вопросы, малышка без всякого усилия переходила на русский. Это отчего-то особенно удивляло.
— Ксюха, скажи, где таких дают!
Объяснения насчет дяди и индийской племянницы отметались со смехом. Требовали откровений. Тем более о таинственном болгарине были наслышаны.
— Ну-ку, ну-ка, насчет дяди поподробней!
Ксюша краснела счастливо и чувствовала себя именинницей.
Впрочем, скоро всеобщее внимание переключилось на подъехавшую Татьяну. Она только что пригнала новенький «рено», на который копила восемь лет. И теперь, гордая и счастливая, водила всякого желающего на автостоянку.
Меж тем покупателей прибавилось. А притомившаяся малышка начала капризничать. Анхеля всё не было. Ксюша уже пожалела, что в припадке неуместной гордыни отказалась от предложенного им подарка — мобильного телефона. Да и его номер не записала.
После обеда в магазин заскочил Женя Сапега. Как всегда, ухоженный, с косынкой, повязанной на шее, источающий запах добротного мужского одеколона. Отозвав Ксюшу в сторону, смущенно извинился за поведение жены.
— Я ведь и сам про них не знал, — стесняясь, признался он. — То есть знал, что было. Но она мне тоже дула в уши, будто Пашка ее изнасиловал. А, оказывается, сама навязалась. Редкостная всё-таки стерва!
— Как же ты теперь? — посочувствовала Ксюша. Ответа она не дождалась. Но и без того было ясно, — как и раньше. Свыкся.
— Скажи, — Ксюша помедлила. — А насчет Голутвина ты ничего не слышал?
— Голутвина? В смысле с Оленькой?.. — Женя нахмурился. — Да нет. Хотя теперь не разобрать. От женушки моей всего ждать можно. А с чего ты вдруг? Или твой новый интересуется?
Ксюша стремительно покраснела. И Женя поспешил исправиться:
— Не, я не в смысле, чтоб там осудить… Просто он вроде как насчет Павловой смерти расследование затевает.
— Какое там расследование! Сболтнул в сердцах. Уезжают они на днях, — горько вырвалось у Ксюши.
— Жаль, — Сапега огорчился. — Может, свежим взглядом и впрямь что обнаружил бы. Опять же ребенок — экстрасенс.
Украдкой зыркнул на большие настенные часы.
— Как всегда, торопишься? — заметила Ксюша.
— Увы, — Сапега удрученно протянул руку. — Бывай, Ксюха-горюха.
Он уже уходил, когда Ксюша вспомнила о налоговой повестке.
— Женя, — окликнула она. — У тебя с Пашкой не было, случаем, разговора насчет дома в Завалихе?
— А что такое?
Ксюша рассказала о присланном почтой извещении.
— Действительно, странно, — Сапега озадаченно прищурился. — Что там путного может быть в Завалихе? Понимаю, если б в элитном поселке, где я его уговаривал дома по соседству построить. А это… Наверняка и впрямь ошибка.
— Мы тоже с Анхелем так рассудили, — согласилась Ксюша, вроде бы случайно произнеся «мы с Анхелем». — Решили завтра-послезавтра на всякий случай съездить. Чтоб уж из головы окончательно выбросить.
— Это вы еще сначала транспорт найдите. В такую глушь такси не поедет. Да и хляби, — не каждая легковуха пройдет, — Женя фыркнул. Что-то прикинул. — Ладно, где наша не пропадала. Сгоняю в твою Завалиху.
— Так ты ж торопишься!
— Тороплюсь, — подтвердил Женя. Отчаянно рубанул воздух. — Да гори они, все эти дела, огнем! Давай номер дома. К вечеру приеду, доложусь. Еще и в сельсовет заскочу. Погляжу, на кого там у них всё записано. Иначе на что бы нужны друзья?
Из подсобки донеслось детское хныканье. Рашья сидела на полу среди флаконов, потирая виски. Похоже, от ароматов разболелась голова. Рядом валялся подаренный плюшевый зайчик. При виде малышки Сапега зябко поежился. Поймал на себе испытующий взгляд Ксюши:
— А что ты хочешь? Нагнала она вчера страху. Не каждый день, знаешь, малолетние прорицатели попадаются.
— Да полно. Совершенно безобидный ребенок, — Ксюше вдруг пришла мысль, показавшаяся удачной. — Слушай, возьми ее с собой. Ты-то всё равно туда и обратно. Прокатишь мимо русских сугробов, — в полях наверняка еще снег лежит. Будет, что на родине рассказать.
Сапега смутился.
— Да я, видишь ли, не один…
— Пожалуйста, — Ксюша искательно потрепала Женю за рукав. — Нам надо товары перепроверить. А какая с ней инвентаризация?
— Ладно! — неохотно согласился он. — Помогать так помогать. Поехали, экстрасенша малолетняя! Может, по дороге и мне судьбу нагадаешь.
…2-ой Леденцовский переулок Анхель разыскал без труда, хоть тот и затерялся среди деревянных заречных улочек. Дом был хорошо ему знаком, — когда-то Игумнов вместе с Сапегой дневали и ночевали здесь, обсуждая судьбы завода. Но за шесть истекших лет всё сильно переменилось. Шумная прежде усадьба пришла в запустение.
Анхель долго давил кнопку на проржавевшей калитке с полустершейся надписью «Осторожно. Злая собака». Ничто не нарушило стылой дачной тишины. Лишь из глубины дома отчетливо доносился отзвук дребезжащего звонка. Анхель решил было, что не застал хозяина. Но вспомнил Ксюшино предупреждение: перенесший инсульт Мазин из дома не выходит. Да и по дому передвигается с трудом.
Подтянувшись, он перемахнул через дощатый забор.
Апрельский ветер беспорядочно разносил по сугробам жухлые листья — будто метлой махал. Высоко над головой тоскливо гудели огромные березы и сосны.
По присыпанной снегом, простроченной сорочьими следами дорожке Анхель дошел до облупленного деревянного дома с выпяченной в сторону улицы застекленной террасой, на которую вело высокое крыльцо с надломившимися перилами. На входной двери поскрипывал под порывами ветра порыжевший навесной замок.
Анхель побарабанил в стекло. В ответ ни звука. Лишь с верхушки березы возмущенно каркнула разбуженная ворона да вроде как дрогнула занавеска на окне.
Он взбежал по гнилой лестнице, без усилия выдернул из стены скобу вместе с подвешенным замком и проник на стылую, заваленную тряпьем и пустыми ящиками террасу, а через нее — в жилое помещение.
В нос ударило затхлым, прокисшим запахом.
Через другую, внутреннюю дверь, в комнату навстречу гостю выехало электрическое инвалидное кресло, в котором сидел пухлотелый человек с круглой залысой головой и угрожающе зажатой в правой руке клюкой — Андрей Мазин.
При виде незнакомца агрессия на его лице сменилась удивлением.
— Я думал, сосед приперся, — не дожидаясь вопроса, объяснился он. — Напьется, завалится. Потом не выставишь. «Выставочная» часть тела, увы, более не функционирует.
Он многозначительно хлопнул себя по вытянутой левой ноге.
— А насчет вас вчера звонили. Но ждал к вечеру. Опять, что ли, на перекомиссию? Бюрократы вы всё-таки. Чего мотать понапрасну? Сколько ни освидетельствуй, ни нога, ни рука отсохшая не заработают. А мне новая морока, — до больниц ваших добираться.
Мазин повнимательней пригляделся к визитеру:
— Или не из собеса?
В маленьких припухших глазках его, прикрытых беспорядочными кустистыми бровями, отчего-то заметался испуг.
— Не от Голутвы, часом?
— Меня зовут Анхель, — представился гость. — Я товарищ Павла Игумнова.
— Товарищ Павла, — недоверчиво повторил Мазин. — Слыхал про такого. Звонил мне Сапега насчет как вы им шороху навели. Вроде как с экстрасенсным расследованием пожаловали?
— Именно, — подтвердил Анхель. Огляделся. Принюхался, что за эти дни вошло у него в привычку.
— Да один я в доме. Кому такой без денег нужен? — Мазин озлобленно приподнял правой рукой неподвижную левую, отпустил, и та бессильно шмякнулась о поручень. — Едва хватает соседке приплачивать, чтоб в магазин там, туда-сюда. А бабы, они в веки вечные на запах бабла тянутся. Нет бабок, нет и баб.
Он с силой хлопнул себя по низу живота. Кашлянул поторапливающе.
— Ты говори, с чем пришел. Если и впрямь насчет Павла, так на следствии всё давно спрошено-переспрошено.
— И про кредит?
— Ебстественно… А что кредит? Пашка сам, как выяснилось, получил и обналичил. А уж сам ли «бабло» перепрятал или тот, кто убил, втихаря в сейф залез, сие, как говорится, погрузилось в пучину.
— Вот и хочу попробовать извлечь, — визитер отер ладонью запыленную тахту, осторожно опустился на краешек. — Вы ведь того же хотите? — В голосе его легко угадывалось сомнение.
Глазки Мазина недобро сузились.
— Вот что, гость незваный, — прохрипел он. — Не тебе в наших с Пашкой отношениях ковыряться. Хочешь расследовать? Спрашивай. Чем могу — помогу. А нет, так вот, как говорится, бог, а вот…
— Хорошо, — кротко согласился Анхель. — Тогда давайте по пунктам. Павел опасался снимать кредитные деньги со счета. Помните его слова: «Это ж какой соблазн, если кто узнает про два миллиона «живых» баксов?» А вы настаивали, чтоб деньги непременно обналичить.
— Откуда эта туфта, будто я настаивал насчет обналички?
Анхель с мягкой укоризной покачал головой:
— От самого Павла. Он мне звонил за день до смерти. Поделился.
— С чего бы вдруг? Откровенничать, да еще по телефону… Загибаешь ты чего-то, малый. Не его это стиль.
— И всё-таки от него. Он же планировал в Туапсе возвращаться. В мой бизнес входить. Потому и делился. (Анхель сам удивился, как ловко у него стало получаться привирать.)
Подозрение с лица Мазина несколько сошло. Про планы насчет Туапсе он знал. Но и признаваться не торопился.
— Не было этого, — буркнул он. — Как мы с Сапегой акции слили, Пашка нас сразу с завода попер. И вся эта кредитная бодяга уже без нас случилась.
— Слили, то правда. И друга своего тем самым в безвыходное положение поставили, потому что разом лишили контроля над заводом, — холодно подтвердил Анхель. — Только случилось это позже, когда деньги уже лежали в директорском сейфе. А за два дня до того вы провели совет директоров. В кабинете Игумнова.
— Вот и видно, что врешь, — осек Мазин. — У нас советы всегда в зале заседаний проходили.
— Обычно так. Но в этот раз в зале заседаний люстру меняли. Припоминаете? (Мазин, скрывая удивление, отвел глаза.) Припоминаете, вижу. И как раз на совете вы настояли, чтоб кредит обналичить.
— С чего бы я? Сапега первым прокукарекал!
— Да, начал он, — согласился гость. — Но перед этим вы его убедили.
— Еще чего? Не было такого.
— Да вы соберитесь, — Анхель незаметно подкатил кресло поближе к тахте. Пригнулся к неприветливому хозяину и размеренно, будто изовравшемуся ребенку, напомнил. — Через десять минут после начала совета Павла вызвали в цех. Так? Вы остались вдвоем. Вас еще похмелье мучило. Достали коньяку.
Он пощелкал пальцами:
— «Мартель», кажется? Помните, никак не открывалось, так вы… Палец поранили. Не этот ли?
Мазин конвульсивно отдернул руку за спину. Анхель засмеялся.
— Так вот, оставшись вдвоем, вы объявили Сапеге, что оборудование желательно купить за «живые» деньги. Потому что в этом случае поставщик готов сделать, как это?.. «Откат», да. И вы ему пообещали, что, если он поможет уговорить Павла, откат поделите на двоих. Так?
Анхель притянул инвалидное кресло вплотную.
Мазин попытался выдержать требовательный взгляд. Но бездонные голубые глаза, в которые заглянул, испугали сдержанным холодом. Дыхание калеки перехватило. Мелкими конвульсивными глотками он принялся всасывать воздух. Наконец облегченно выдохнул:
— Думал, опять припадок начнется. У меня ведь после того, как башку инсультную разрезали, эпилепсия откуда-то зачалась. Подступит вдруг, скрючит. Очнешься на полу, весь обслюнявленный и в собственной кровенюке. А когда-нибудь и не очнешься. Рядом-то никого, чтоб скорую вызвать. Вот и вся активная жизнь. Отактивничался.
Ища сочувствия, он шмыгнул носом. Визитер с бесстрастным лицом продолжал ждать. Мутный всё-таки. Не угрожает. Не скрежещет зубами. Не взывает к совести. Но в его поведении угадывалась неотвратимость запущенного механизма.
— Сапега, что ли, оговорил? — Мазин зябко поежился. — Чтоб с больной головы на здоровую… Хотя какая у меня теперь здоровая?
— Нет.
— Стало быть, Пашка видеонаблюдение втихаря сварганил. Вроде как вышел, а сам за нами следил. Не водилось за ним прежде, чтоб хитрованил!.. Но погоди, если он про откат подслушал, тогда зачем же согласился обналичить?!.. Ведь по жизни получилось, что этим сам себя подписал. Глупость какая-то.
— Павел ничего не знал. Я знаю.
В глазах Анхеля мелькнула догадка. Торопясь проверить ее, отчеканил:
— Больше скажу. Откат — это предлог. Вы с Сапегой сговорились после того, как Игумнов обналичит кредит, деньги выкрасть, да так, чтоб подумали на Павла! «Живые»-то деньги украсть легче.
— Да ты!.. — от мазинского испуга не осталось и следа. Навалившись на упертую в пол клюку и привычно выгнув бедро, он рывком поднялся и, перехватив палку, угрожающе навис над визитером. — На кого косишь, понтяра?! Да Пашка мне ближайшим был! Я ему всем, можно сказать!.. Да если б мог предотвратить, веришь, собой бы закрыл!
Анхель с удивлением увидел, что замусоленные дотоле глазки наполнились неподдельной обидой. Опомнившись, Мазин медленно, виляя бедром, осел на место. Дотянулся до пачки сигарет на столике, жадно затянулся.
— Ловко вывернул, — он прокашлялся. — Вроде всё так, да не так. А если по правде… Поначалу, как деньги обналичили, и впрямь попытались уговорить его два миллиона этих раздербанить да и разбежаться по России. Один хрен Голутва навис, и ясно было, что завод придется отдавать. Так не жирно ли еще и два лимона «зеленых» ему на подносе подать? Я лично Пашку убеждал — что было, то было. И Сапега тоже. Но — Павел, он упертый. Я, мол, вам не «Вектра». Никаких раздербаниваний. На кредит купим оборудование, и всё пойдет тип-топ. Глаза-то зашорены. А на деле альтернативы не было — либо сдаем завод, либо всех уроют. Вот после этого разговора случился грех — слили мы с Сапегой Голутве свои акции. Хотели хоть чуток наварить. Задаром, что ли, столько лет завод на себе тянули? Но такого, чтоб два лимона на двоих затихарить, а Павла крайним подставить, — этого в мыслях не было. Уж у меня-то, пока он был жив, точно.
— Пока был жив?! — Анхель вцепился в последнюю фразу. — А после?
Мазин спохватился:
— Вот репей. Не наседай! Пытали меня уж с этим кредитом-перепытали.
— Как то есть пытали? — не понял Анхель. Взор его непроизвольно начал шарить по телу хозяина, будто выискивая на нем следы пыток.
Мазин усмехнулся горько:
— Вот именно так и пытали, по-взрослому. Полюбуйся, раз любознательный. После этого у меня и инсульт случился.
С вызовом, рывком задрал рубаху. На правом боку багровело пергаментное пятно, — след ожога.
— «Вектра», — догадался Анхель.
— Тоже кредитные деньги искали. Как Голутва увидел в балансе дыру в два миллиона, так сразу своим шакалам команду «фас» дал.
— Раз искали, значит, всё-таки украли не они!
— Конечно, не они! — неохотно подтвердил Мазин. Лицо его перекосило. — Беспредельщики! Не признаешься, говорят, жить не будешь.
— Но ведь ты жив! — Анхель, не заметив, перешел на ты. — Почему всё-таки не убили?
— Да чем такую волынку тянуть, лучше б убили! Внезапно дыхание Мазина вновь прервалось, глаза покатились из орбит.
— Ну вот, довел! Приступ начинается. Скорую, скорую! — в панике выкрикнул он, торопливо отбрасывая клюку, о которую не раз в припадке расшибал лицо.
Голова его мелко затряслась, рот перекосился, из уголка потекла слюна.
— Хватай и держи меня, чтоб в беспамятстве не побился. Изо всех сил держи! И чтоб язык не запал.
Но вместо того, чтоб схватить его в охапку, Анхель крепко сжал здоровое запястье.
Мазин уже начал впадать в беспамятство, когда бездонные глазищи принялись бесцеремонно буравить его мозг, добираясь до очага возбуждения.
То ли добрался Анхель, то ли еще что совпало. Но вдруг — впервые — приступ сам собой отступил. Очаг возбуждения в мозгу потух, будто залитый сверху.
Не веря себе, Мазин ощупал гудящую голову.
— Это ты сделал? — ошарашенно спросил он. — И впрямь экстрасенс, что ли? О! Да ты любого профессора стоишь!
Он перевел дух. Отер мокрые от слюны губы и щеку.
— Если б не со мной, не поверил бы. Слушай, там «Депакин», — он ткнул в подвесной ящик. — Дай пару таблеток.
Среди груды лекарств стоял приготовленный пузырек. А рядом — валялся деревянный, смутно знакомый Анхелю божок с вмонтированными внутрь часиками. Кажется, видел его в руках Ксюши.
— Что это? — протягивая пузырек, он показал находку больному.
Мазин, занятый таблетками, невнимательно глянул.
— А! Это от Пашки. Можешь Ксюхе на память забрать, всё равно батарейка давно подсела.
Анхель сунул брелок в карман, выжидательно замер.
— Не сверли ты меня так, — попросил Мазин. — Теперь уж сам всё расскажу. Тем более давно накипело. Словом, кредитные деньги заныкал Сапега.
— Вот как?! — поразился Анхель. — Но когда? Ведь, насколько помню, в ночь убийства…
— Вместе были, да. Только мы в десять растащили девиц по комнатам. В час я пошел в другую половину, — предложить поменяться. Любил, правду сказать, групповички, — Мазин ностальгически причмокнул полными губами. — И застал картину, достойную пера. Подруга его дрыхла без продыху. А вот Женечки не было. И машины за воротами, — глянул, — тоже нет. Ну, нет и нет, — подумал, что на станцию за добавкой рванул. Свое-то к ночи попили. А душа добавки всегда требует, сам знаешь.
— Не знаю.
— Да? — Мазин со свежей, особой неприязнью оглядел незнакомца. Еще и не пьет. Прямо как нерусский. — Через пару часов Сапега сам ко мне ввалился насчет того, чтоб мою отыметь. Мол, всю ночь со своей проваландался. Теперь вроде как отрубилась. Хочется свеженького. А тут и менты как раз подкатили насчет Павла. С вопросами. Где, мол, были? Женя сразу: здесь и были. Я сначала-то значения не придал, — кто ж на друга такое подумает. Уж когда выяснилось, что кредитные деньги пропали, сопоставил. Ведь кроме меня да Женьки насчет этих бабок никто не знал. Прижал я его.
— Признался?
Мазин скривился.
— Не сразу. Столько соплей на меня выплеснул, что и при приступе меньше вытекает. Рубаху рвал. Сначала на себе, потом на мне начал. Мне, мол, Павел как брат был.
— Прямо как тебе, — не удержался Анхель.
Мазин насупился:
— Я Пашку любил. Любил! Злился на него, — было. Сколько из-за упертости его потеряли. Но все равно… А Сапега… Там иное, — завидовал. За всё. Даже за то, что мы, слабаки, свою долю в заводе слили за бесценок. А Пашка до конца стоял. И за Оленьку, конечно. За которой он ползал, а та — под Пашку подстилкой стелилась.
— Так вы знали?!
— Про Оленьку? Еще бы! Всё сделала, чтоб у Ксюхи увести. То ли на него, то ли на деньги его зарилась. Только — обломилось ей. Дрючить дрючил. Говорил, уж больно сладенькая, не оторваться. А вот чтоб от Ксюхи уйти — это наотрез. Тоже не дурак был. Знал, на кого в жизни можно опереться, а кто наоборот, — один отсос.
Анхель потер взмокшие от напряжения виски.
— Но если Сапега сам не признался, откуда знаешь, что Павла он убил?
— Кто?! — Мазин вскинулся. — С чего взял?
— Ты сам сказал, что он кредитные деньги украл. Ясно же, что кто украл, тот и…
— Фу на тебя! — Мазин перевел дыхание. — Опять, гляжу, в дурь попер. Я тебе сказал, что он кредит заныкал. Заныкал, а не украл! А уж чтоб убить, тут вообще другой характер нужен. Во насмешил-то! Женя — киллер. Да он тихарь первейший. Главное кредо — ни с кем не ссориться. Вот вы вчера у них побывали. А сегодня он уже к Ксюхе наладился заехать — загладить, если, не дай бог, ненароком обиделась.
— Тогда откуда у него деньги? Говори толком.
— Да от Пашки, — Мазин недобро усмехнулся. — В ту ночь, часов в одиннадцать, когда мы разошлись по комнатам, Пашка ему сам позвонил. Велел нам всё бросать и срочно подъехать к заводу. Но я-то к тому времени уже в люлю был. Так что Сапега один рванул. Там Пашка ему передал те самые два миллиона. Чтоб перепрятать. Вроде, информацию получил, что голутвинские прознали о кредите и собираются среди ночи проникнуть на завод и вскрыть сейф. А потом на нас стрелки перевести, будто это мы украли. Сапега перепрятал.
— А почему сам Павел не мог перепрятать?
— По качану, — Мазин устало пожал плечами. — Времени не хватило. Он Сапеге сказал, что ему голутвинские стрелку забили. На нее и торопился. И — живым уж не вернулся.
— Так почему ж на следствии об этом не рассказал?! — вскричал Анхель. — Почему, как узнал, не заставил Сапегу деньги назад в банк вернуть?
Мазин уныло потупился.
— Почему, почему? Потому что сволочь. Пока Пашка жив был, не предавал, хоть соблазнов хватало выше крыши. Так после смерти не удержался, — продал! Может, мне инвалидность в наказание за иудство дадена. Как думаешь?
Анхель бесстрастно ждал. Мазин выдохнул безысходно:
— Сапега подбил. Мол, нечего нетопырям отдавать. Разделим кредит втихаря, да и спишем на покойника. Я и сглотнул. Подумал тогда: Павлуху не воскресишь. А жить надо. Предложил, правда, Ксюхе подкинуть. Но у Сапеги своя правда: поделишься, все поймут, откуда бабло, а тогда уж не отмажешься. В общем, чего говорить, — купился я на дешевку.
— Дальше, — неприязненно поторопил Анхель.
— Про «дальше» говорил. Не довелось нам на халяву разбогатеть. Бандиты приперлись. Как бочок мне припекли утюжком, я им выложил, что деньги у Сапеги. А чего?! Была охота из-за сучка этого палиться. Они от меня к нему поехали. Пообещали, если что, вернуться.
Мазин принялся тяжко дышать, — мучительный разговор давался всё трудней.
— Тогда откуда знаешь, что Сапега деньги отдал?
— Ты и впрямь не русский, — скупо удивился Мазин. — Не вернулись ведь. И Сапега до сих пор жив. Да он и сам после рассказал. Прибежал в палату, где я с инсультом валялся. Вроде навестить. А на деле — пытался выведать, не знаю ли, куда Пашка мог акции «Бритиш петролеум», полученные в «Вектре», похерить. Очень Сапега на них глаз положил. Своего-то, как два лимона отобрали, ничего не осталось. У курвы жены теперь на содержании. Воздалось сучонку!
Мазин с удовольствием рубанул ребром здоровой руки по сгибу мертвой, левой.
— Всем воздастся, — процедил Анхель. Вдруг спохватился. — Так говоришь, Сапега акции искал?
— А то. И я искать думал, пока инсульт не схлопотал.
Он с трудом пошевелил пальцами левой кисти, повисшими вялой виноградной гроздью.
— А как не искать такой клад, мил человек? Эти акции «Бритиша» в две тысяча втором, считай, лимон стоили. А теперь им цена пять тогдашних номиналов. Это ж — любые врачи к услугам. Любые операции.
— Клад этот, между прочим, не ваш. Вдове Павла принадлежит, — холодно напомнил Анхель, поднимаясь. — Да и с кредитом… Ведь Ксению под этим предлогом бандиты начисто обобрали. Нищенствует! Ты не одного, двоих сразу предал.
— Твоя правда, Ксюха нынешней судьбы не заслужила. И за это мне тоже воздалось, — Мазин мучительно выдохнул. С беспокойством поглядел на заторопившегося гостя.
— Слышь, экстрасенс, погоди. Чего вдруг погнал? Может, поколдуешь, чтоб в башке у меня опять свет наладить? А то еще и руку с ногой. Чем черт не шутит!
— Черт и впрямь не шутит, — язвительно подтвердил гость. Возле двери на террасу приостановился. — А лекарство тебе одно — покайся!
— На исповеди?
— На допросе.
Анхель выскочил на улицу. Мысль о том, что тишайший кладоискатель Сапега собирался заехать к Ксюше, наполнила его беспокойством.
…В машине Сапегу дожидалась Оленька. Она была против того, чтоб извиняться за вчерашнее перед Ксюшей. Но любопытство пересилило, — уж очень хотелось узнать, надолго ли приехал в город странный визитер с паранормальным младенцем и что собирается предпринять.
Она уже начала переполняться раздражением, когда муж выскочил из дверей торгового центра, таща на руках карапуза с плюшевой игрушкой под мышкой. В карапузе этом Оленька признала вчерашнего младенца-вещателя. В предчувствии недоброго ее пробрала нервная дрожь.
Сапега распахнул заднюю дверь, почти кинул Рашью на сидение. Бесцеремонно тормоша малышку, пристегнул ее ремнем безопасности. Ребенок переносил неудобства стоически — без единого всхлипа. Когда Оленька обернулась, Рашья ответила ей улыбкой — как доброй знакомой.
— Что сие значит? — неприязненно обратилась Оленька к мужу.
— Подсунули в нагрузку, — пыхтя над замком, буркнул Сапега. — Едем на Одинцовскую дорогу, в деревню Завалиха.
Он втиснулся на заднее сидение, рядом с малышкой.
— Может, соизволишь объясниться? — Оленька свела густые брови. Но вопреки обыкновению, угроза скандала на мужа не подействовала.
— Гони, не мешкая. Дело сверхсрочное. Всё расскажу по дороге.
Сбивчивый, возбужденный рассказ его Оленька выслушала, не отвлекаясь от дороги и не перебивая.
— Значит, ты полагаешь?.. — протянула она.
— Да к бабке не ходи! — Женя, чтоб оказаться к ней поближе, просунул голову меж сидений. — Я ведь знаю эту Завалиху. Самое проклятое место: пять-шесть развалюх да вечная грязь. Реки и то рядом нет. Какая там может быть дача? Рупь за сто: специально купил за бесценок, чтоб там заныкать акции. Он же всё рассчитал. И то, что Голутвин с потерей денег не смирится и может попытаться назад отобрать. И правильно, — ведь и впрямь все адреса перерыли. А об этом как раз никто не знал. Всё продумал. Но когда-то, а должно было случиться по справедливости. Тем более само в руки идет.
Женя предвкушающе потер сухие ладони.
— Только про справедливость не надо, — Оленька поджала губки. — Не для тебя прятал.
— И не для тебя! — с надрывом согласился Сапега. Девочка подле него беспокойно заерзала, и он, не оборачиваясь, потрепал ее по головке. — Положим, для Ксюхи! Так, может, давай ей отдадим? Или слабо?
— Ей?! Не жирно? Вцепилась в мужика ради денег!
Оленька поняла, что в запале хватила лишку:
— Да если и не из-за денег. Всё равно. У меня, коли на то пошло, больше прав. Уж как меня замуж уговаривал. Если б не смерть его, может, теперь всё мое бы было.
Припомнив вчерашнее, она с опаской зыркнула на ребенка. Рашья внимательно слушала.
— Опять врешь! — взбеленился Женя. — Всегда врешь! Он ведь к тебе в тот вечер на случку ехал. Не ко мне! Если б и впрямь собирался на тебе жениться, так чего тогда меня подставила? Знала, что тебе ни копейки не перепадет. Вот и придумала, чтоб вместо тебя я его в квартире поджидал!
Оленька озлобленно поджала губы. Как всегда, когда под сомнение ставились ее женские чары, она стервенела.
— Это не женские разборки деньги делить, а мужские! — не владея собой, выкрикнула она. — Мое дело было вас свести. А ты должен был уговорить его поделиться. Ты, а не я!..
— Я и уговорил, — буркнул Сапега.
Оленька издевательски хихикнула:
— Про это я много раз слышала. Только вот думаю, как это ты ухитрился уговорить Павла доверить тебе два миллиона? А?! Это после того, как вы с Мазиным акции за его спиной слили, и он из-за вас, засранцев, завод потерял. А тут всё вдруг так ловко сошлось! Сам! На подносе!
— А вот и доверил! — просипел Сапега. — Не тебе ж, подстилке, было…
— Брешет он всё, — раздался ясный голосок. — Никто ему деньги не отдавал. Он их заранее из сейфа спёр. А после убил, пес галимый. Чтоб — с концами…
После отъезда Сапеги с Рашьей Ксюша с Татьяной занялись пересчетом товаров. Такую внутреннюю инвентаризацию они проводили ежемесячно, дабы не просчитаться и не допустить излишков или недостачи. Ксюша пересчитывала товар поштучно, Татьяна, сидя за прилавком, вносила под ее диктовку записи в толстую клеенчатую тетрадь и обслуживала редких покупателей.
Переучет был в разгаре, когда Татьяна преувеличенно бодро, не похоже на себя, расхохоталась:
— Ба, какие люди. Ксюха, встречай!
Выйдя из подсобки, Ксюша едва не столкнулась с непривычно возбужденным Анхелем.
— Жаль всё-таки, что ты без телефона, — он охватил взглядом подсобку, заглянул за прилавок. — А где?..
— С Женей Сапегой, — торжествующе сообщила Ксюша. — Я его уболтала съездить посмотреть дом в Завалихе. Так что к вечеру будем всё про него знать. А Рашью отправила с ним покататься.
— Напрасно, — Анхель помрачнел.
— Что-то не так? — перепугалась Ксюша. — Ты что-то узнал от Мазина, да?!
— Да, — коротко подтвердил он. — Сапега, оказывается, пытался найти Павловы акции, чтоб присвоить. Боюсь, что в Завалиху он поехал за тем же.
Анхель озабоченно нахмурился:
— Как бы не обобрал тебя… Кстати, держи. У Мазина забрал. Всё-таки память о муже.
Анхель вытащил брелок.
— Что с тобой?!
Помертвевшая Ксюша в ужасе уставилась на покачивающегося перед ее глазами божка.
— О-откуда? Это ж Павла, — с усилием выговорила она.
— Говорю же, у Мазина забрал. С его слов, от Павла осталось. А в чем собственно?..
— Ты не понимаешь, — прохрипела Ксюша. — Этот брелок Павел ни-ко-му не мог подарить. Потому что сам о нем не знал. Это оберег. Я лично его освятила и спрятала в «бардачок» под бумаги. Понимаешь? Когда я в тот вечер вылезала из машины, он был на месте. А это значит…
— Что брелок мог взять только тот, кто обыскивал машину. Убийца, — холодея, закончил за нее Анхель.
— Да, — беззвучно подтвердила Ксюша. — И тогда выходит… Неужто Мазин?!
Ее затрясло. Татьяна, никогда не видевшая подругу в таком состоянии, бросилась налить воды.
— Не может быть, — растерянно покачал головой Анхель. Он вспомнил равнодушие, с каким Мазин отдал ему находку. Что-то не сходилось.
Вытащил телефон и принялся набирать номер.
— Значит, убийца — Мазин? — Ксюша всё не могла прийти в себя. — Мазин — убил Павла! Того, кто ему всё дал!
Анхель требовательно поднял палец.
— Мазин? Это опять я, — сухо произнес он в трубку. — Уточни, когда именно Павел подарил тебе этот брелок?
Он отодвинул трубку в сторону, чтоб голос на том конце был слышен и Ксюше.
— Какой еще?.. — донеслось до нее. — А, этот! Так мне не Пашка. Я его у Сапеги забрал. Когда он меня в больнице после инсульта навещал. Часов у меня как раз не было. Увидел случайно и прикарманил. А ему, с его слов, Пашка подарил. А чего за дела?
Не ответив, Анхель отсоединился.
— Теперь Сапега! — от водоворота новостей Ксюшина голова закружилась. — Еще не легче! Чтоб тихий Женечка!
— Но тогда… — Анхель свеже вспомнил, что в машине убийцы находится маленькая беззащитная Рашья. Прежнее беспокойство сменилось неподдельным страхом. — О боже!
Ксюша заметила, как краска сползла с лица Анхеля. Поняла причину.
— Ты же не думаешь, что что-то может случиться с Рашьей. Ребенку же ничто не угрожает!
И еще нанизывая слова, не умом, а интуицией поняла, — именно Рашье и угрожает опасность.
— Еду следом! — коротко объявил Анхель.
— На чем?! — вмешалась Татьяна, о которой подзабыли. Всё это время она с нарастающим волнением вслушивалась в бурный диалог. — Чтоб кого-нибудь уломать ехать под ночь в медвежий угол, — даже не мечтайте. Только на днях два ночных убийства таксистов прогремели!
Анхель, склонившись, поднял с пола оброненный ломик из подсобки:
— Взломаю любую машину на стоянке.
Ксюшу затрясло. Безупречно рафинированный Анхель, взламывающий машины, — это было чрезвычайно серьезно.
— Я с тобой, — объявила она.
— Но-но, разогналась! А кто работать будет? — осадила ее Татьяна. — Мы ж такой бардак развели. Да еще покупатели! А если начальство нагрянет? В секунду уволят.
— Тогда, считай, сама уволилась! — бросаясь в подсобку, рубанула Ксюша. — Мою зарплату можешь забрать себе.
Выскочила, на ходу натягивая шубку:
— Там ребенок! Понимаешь ты?!
— Постой, гангрена! — Татьяна с силой перехватила ее за рукав. — Вот ведь горячка. Уж и работа, которой год добивалась, по боку. Держите, взломщики!
Она всунула в потную Ксюшину ладошку ключи от долгожданной своей «ренушки». Упреждая слова благодарности, насупилась:
— Постарайтесь всё-таки не расколошматить!
Анхелю никогда не доводилось сидеть за рулем. Но мало ли чего ему прежде не доводилось. К примеру, сколько раз бывал в салоне машины, но понятия не имел, как сытно пахнет новая кожа.
Он рванул авто с места, словно только и делал, что тренировал раллийные старты. Обоих вжало в спинки сидений. Перепуганная Ксюша огладила его руку своей ладошкой:
— Не нервничай. Что бы ни было, Рашью эта сволочь не тронет. Это ж просто ребенок.
Анхель незаметно для нее прикрыл на секунду глаза, — если бы он мог ей сказать, что на самом деле грозит этому ребенку. И главное — он опять не уследил!
Отгоняя мрачные мысли, Анхель ожесточенно мотнул головой и прибавил скорости. Счет мог идти на секунды.
Город проскочили без помех. Но на Одинцовском шоссе движение застопорилось. Главным образом из-за узкой двухполосной дороги. Любой ползущий по шоссе тихоход определял скорость движения всех остальных.
К ужасу Ксюши, Анхель, не колеблясь, вывернул на встречную полосу и погнал, не сбавляя скорость. При разъездах со встречным транспортом, если успевал, вклинивался в собственный поток и тут же вновь выскакивал. Если же возможности втиснуться не было, лишь прижимался предельно. Встречные машины шарахались к обочине и негодующе гудели. Особенно грузовики. С ними расходились в миллиметрах. От потока воздуха «рено» то и дело содрогался, так что казалось, его вот-вот перевернет. Даже на крутых поворотах Анхель не возвращался на свою полосу, а, подавшись вперед, продолжал гнать. На «слепом» подъеме они едва не воткнулись лоб в лоб в «ушастый» «за порожец» с тюками на крыше. Ксюша заметила, как исказился рот у пожилого водителя, как крутнул он руль. Обернувшись, успела увидеть, что «запорожец» юзом несет к заснеженной обочине, а следом из-под лопнувших веревок на дорогу, перекрывая движение, валятся тюки.
Анхель даже не скосился в зеркало.
В районе канашевской птицефермы из кустов, размахивая жезлом, запоздало выскочил гаишник. А еще через полкилометра на шоссе с проселочной дороги вылетел гаишный «жигуленок» с включенной мигалкой и устремился в погоню.
— Не переживай. Не догонят, — не снижая скорости, бросил Анхель в ответ на отчаянный Ксюшин взгляд. Сказать, что переживала она совсем по другому поводу, Ксюша не решилась.
В самом деле, какое-то время сирена доносилась, затем умолкла. Очевидно, гаишники рассудили, что даже с мигалкой мчаться за сто километров по влажной узенькой встречной полосе, беспрестанно увертываясь от «чайников» и большегрузов, — самоубийство.
Ксюша мысленно с ними согласилась, — безумная гонка казалась дорогой на тот свет.
— Нельзя опоздать! — угадав ее страхи, процедил Анхель. — Если опять, не прощу себе.
— Что опять? — пролепетала Ксюша.
Анхель не ответил. Таким — недоступным, неподвластным убеждению — Ксюша его еще не видела. Он знал что-то, для нее непостижимое. И это что-то заставляло идти на запредельный риск.
Ксюша выхватила носовой платок и впилась зубками, положившись на судьбу и смутно догадываясь, что в эту минуту судьба сидит рядом с ней.
Приближался поворот на Новую Пойму и — оттуда — на Завалиху. Между тем попутный поток машин, и без того едва двигавшийся, почти встал.
Теперь в случае появления встречного большегруза не оставалось возможности даже на сантиметры подать вправо, — машины едва ползли.
Но Анхель и не подумал никуда прижиматься. Метрах в трехстах впереди он разглядел проблесковый маячок. Донеслись звуки сирены скорой помощи.
— Может, авария, — неуверенно предположила Ксюша.
Анхель вновь устремился вперед. Лихо, бок в бок, разминулся с выскочившим из-за поворота ЗИЛом, так что снесло боковое зеркало. Затем резко подал вправо и принялся, яростно сигналя, проталкиваться к обочине, на которой разглядел УАЗ-452 с медицинским крестом на боку. УАЗ стоял неподвижно, с распахнутой дверцей, среди нескольких легковых автомашин. Облокотившись на кузов, застыли две угрюмые медички. Неуклюжие, в несвежих белых халатах, натянутых поверх ватников.
Машины на обочине были пусты. Ехавшие в них люди столпились вокруг чего-то на земле. Ксюша увидела вдруг Оленьку. В распахнутой норковой шубке, растрепанная, она подбежала к одной из женщин в халатах, ухватила за рукав и принялась тащить за собой. Та вяло упиралась.
Присутствие Оленьки наполнило Ксюшу ужасом.
Анхель меж тем втиснул «рено» капотом на обочину, так что багажник перегородил треть и без того узкой проезжей части. Не обращая внимания на истерические гудки, выскочил наружу. Ксюша вывалилась еще прежде него, не дождавшись полной остановки. Нога ее поехала, так что прямо в белой шубке она проползла на животе по глине едва ли не к ногам Оленьки. Оленька, однако, ее даже не заметила.
— Вы не смеете так уезжать! — с перекошенным, ставшим некрасивым лицом кричала она на угрюмую врачиху.
— А что мне здесь прикажете делать?! — вяло, видно, не в первый раз, огрызнулась та.
— Но вы же врач! Вас учили!
— Именно что врач, а не Господь Бог! Ну что я еще могу, мамаша дорогая?!
В это мгновение Оленька увидела Анхеля. Губы ее задрожали.
— Я пыталась помешать! — невнятно выкрикнула она.
Анхель пролетел мимо. Разметал сгрудившихся людей.
За спиной слабо ойкнула Ксюша. На куцем, брошенном на землю одеяльце, неестественно вывернувшись, лежала неподвижная Рашья. С мертвенно-белых детских щечек к воротнику вяло стекала стынущая слюна.
Люди, со страдающими лицами, скорбно расступились, — Анхеля приняли за отца девочки.
— Мы пытались по очереди дыхание рот в рот, пока скорая не подъехала, — виновато, едва сдерживая клокотание в горле, пояснил один из мужчин. — Ты уж прости, браток, — не сумели.
Он требовательно поглядел на подошедшую следом врачиху:
— Может, сами отцу объясните! Хоть это-то можете!
— Да я уж, дорогой папаша, вашей жене всё объяснила, — врачиха безысходно кивнула в сторону замершей Оленьки. — Похоже, девочке пища не в то горло попала. Вот и задохнулась. А мамаша впереди за рулем отвлеклась, видать, не расслышала за шумом. Уж когда на ремнях повисла…
— Какая еще, к черту, пища?! — разъяренная Ксюша с силой ухватила Оленьку за плечо. — Вы что с ней, сволочи, сделали?
— Больно же! — слабо пискнула та.
— Это тебе, гадюке, больно?! А ей? — Ксюша ткнула в лежащее тельце, и мысли ее переменились. Она бросилась к врачихе.
— Вы-то чего стоите?! — срывающимся голосом закричала она. — В больницу везите! Там же аппаратура побогаче!
— Побогаче, — вяло согласилась врачиха. — Но и там не боги. Она уж при нас полчаса как не дышит. …Да пока нас вызвали, пока доехали. Неужто б не попытались, если б хоть полшанса? Такая крохотулечка. Глупость какая!
Районная медичка давно притерпелась к чужим страданиям и смертям. Но идиотская гибель очаровательной девчушки подействовала и на нее.
Безысходность повисла над обочиной. Люди продолжали толпиться, не разъезжаясь, будто ощущая вину за собственную беспомощность. Каждый на месте девочки невольно представлял кого-то из близких.
Анхель отодвинул врачиху в сторону, наклонился над тельцем Рашьи, набрал воздуху, приподнял головку.
— Да что вы выдумываете! — в сердцах выкрикнула врачиха. — Чего только не делали! И аппарат искусственного дыхания подключали, и кололи.
Не отвечая, Анхель склонился. Почувствовал жгучее жжение в затылке. Это Анхэ изо всех сил пытался удержать его от непоправимого проступка. Кара за который — низвержение на землю.
— Не отдам! — отгоняя его, Анхель зло мотнул головой и припал к синюшным губам.
Секунд через пятнадцать, совершенно опустошенный, он отстранился. Размежил припухлые веки. Не вставая с колен, поднял голову к хмурому небу. То ли каясь, то ли с вызовом.
— Глядите, щечки розовеют! И губки зашевелились, — ойкнул бабий голос.
— Что вы мне тут истерики закатываете! Какие там розовые щечки у покойников! Бром пить надо… — в сердцах рявкнула толстая врачиха. Она прервалась на полуслове. Громко, при общем ошеломленном молчании, икнула, опустилась на колени и завороженно, боясь спугнуть чудо, принялась подползать к возвращающейся к жизни малышке.
— Верка-а, — едва различимым шепотом прохрипела она. — Ампулу, жив-а-а!
И, будто этим криком освободившись от оторопи, коршуном бросилась на Рашью, принялась охлопывать, мять в сильных руках. — Всем разойтись. Ребенку нужен воздух!
Подскочила медсестра, с разгону бухнулась рядом, неверными пальцами принялась расстегивать замки чемоданчика.
Анхель тяжело поднялся. Раздвинул возбужденных людей, отошел к кювету. Жадно зачерпнул колючего весеннего снега и, ничего не чувствуя, принялся растирать лицо. По щекам обильно заструилась кровь.
Подбежавшая Ксюша с силой отвела его руки, приложила платок:
— Будто малой! На минуту нельзя оставить.
Шепнула, прижавшись:
— Это ты сумел, да?
— Да, — ответил Анхель.
— А можно было?
Анхель едва заметно, уголками глаз, улыбнулся, — словно заморозка начала отходить. Потрепал ее по вскинутому курносому носику:
— А разве было из чего выбирать?
В полуха услышал бодрый, набирающий победные нотки голос врачихи. Разыскал взглядом переминающуюся неподалеку Оленьку, под его взглядом съежившуюся. Подозвал.
— Куда делся?! — без выражения спросил он. Предупреждающе приподнял палец.
Оленька, приготовившаяся соврать, смешалась. Боязливо отодвинулась от кипящей яростью Ксюши.
— Уехал. Сел, гад, в мой джип. А мне велел сказать, будто девчонка подавилась пищей. А сам ее плюшевым зайцем…
Она пришлепнула ладонью собственный ротик и сделала сдавливающее движение. Завороженно скосилась на возвращающуюся к жизни Рашью. Всхлипнула:
— Но я ж не убийца! Не убийца!
Робко заглянула в лицо мрачному Анхелю:
— Вы с ней вместе, да?
— Да, — Анхель понял, что скрывалось за этим «вместе». — Говори!
Оленька искательно скосилась на бывшую подругу. Поежилась от ненавидящего, в упор, взгляда.
— Никому такое пережить не пожелаю.
Вспомнив происшедшее в машине, она разрыдалась.
…— Брешет он всё, — раздался ясный голосок. — Никто ему деньги не отдавал. Он их заранее из сейфа спер. А после убил, пес галимый. Чтоб — с концами.
От неожиданности Оленька до отказа втопила сапожок в педаль тормоза, так что саму ее тряхнуло в ремне безопасности, а Сапегу, просунувшего голову меж передних сидений, ударило лицом об автоматическую коробку передач.
Машина встала. Из разбитого носа Сапеги закапали на металл капельки крови. Но, кажется, он этого вовсе не заметил. Он, а вслед за ним Оленька, с ужасом огляделись в машине, помимо воли разыскивая притаившегося Павла Игумнова. Взгляды скрестились на малышке.
После внезапного торможения Рашья как-то боком болталась внутри ремня безопасности. Но, не обращая внимания на неудобство, недетским, очень знакомым обоим презрительным прищуром впилась в Сапегу.
— Ты что-то сказала? — не желая верить собственным ушам, тихо переспросил Женя.
— Ты убил! — жестко повторила Рашья. — В квартире встретил вместо этой. Сначала и впрямь пытался опять уговорить раздербанить кредит. Но знал, что не покатит. И — приготовился.
Она прикрыла глазенки, будто черпая информацию из глубин собственного сознания.
— Что ты несешь, пацанка? — Сапегу заколотило. — Нашла тоже матерого убийцу.
— Какой там матерый? Просто невдалый, — Рашья по-прежнему не открывала глаз. — Потому с первого удара убить не смог.
— Да я курицу зарезать!.. Кого хошь спроси… — с неудавшимся смешком вскричал Сапега, краем глаза заметив, что лицо Оленьки сделалось мертвенным.
— Ты и не зарезал, — равнодушно подтвердила Рашья. — Гантелей по затылку ударил. Специально за креслом положил на полотенце. Только не рассчитал, что затылок крепкий. Когда я обернулся весь в крови, ты перетрусил. Начал лепетать, что случайно, мол, из рук выпала. Помнишь?
У Сапеги сами собой застучали зубы.
— Вижу, помнишь! Ишь, как плющит, — подметила Рашья. — А я сделал вид, что поверил. И велел себя в больницу вести. И ты ведь повез, трус. Как миленький поскокал. Всё скворчал, что, де, не хотел. А сам глазом косил. А я сидел рядом и старался не потерять сознание. Потому что понимал, что как только потеряю, ты добьешь.
Рашья выдохнула обреченно:
— И всё-таки не дотерпел.
Она замолчала, обессилено прикрыв глазенки.
Сапега глянул на потрясенную Оленьку. Вновь на неведомое существо. Сознание заискрило.
— Прочь, нежить! — выкрикнул он. — Мало тебе одного раза! Так иди, откуда пришел!
Схватив с сиденья плюшевого зайца, он навалился на Рашью. Девчушка захрипела.
Оленька, полная ужаса, перевесилась назад, принялась беспорядочно молотить мужа кулачками по затылку:
— Не смей, гад! Оставь! Это же ребенок.
— Где ребенок?! — отмахнулся Сапега. — Ты что, не видишь? Задавлю по новой, будто сам захлебнулся.
Продолжая душить, забормотал остервенело:
— Что, сучонок? Силенка-то уж не та. Ничего, потерпи. Мы аккуратненько, чтоб без следов на яблочке.
Оленька выскочила из машины, распахнула заднюю дверцу, бросилась на Сапегу сверху и с разгону, по-собачьи впилась зубами в руку.
От боли тот ослабил хватку, подушка спала. Глазки девочки бессильно закатились, из уголка рта вместе с остатками пищи вытекала слюна. Она не дышала.
Муж и жена переглянулись.
— Убийца! — прошептала обессиленная Оленька. Она безнадежно потормошила недвижное тельце. — Господи! Ты же — убийца! И тогда, и сейчас.
— А кто из меня его сделал?! Кто объявил, что без денег мне тебя не видать? — Женя схватил жену за плечи, с силой встряхнул. — Неча под монахиню косить! Будто не знала, на что шла, когда его в квартиру заманила, а мне перед тем свои ключи передала? Иль впрямь думала, что он за здорово живешь бабки отдаст? И мне отступать некуда, — либо так, либо без денег и без тебя, стервы! Всю душу спалила. Так что, — всё ты, голубушка, знала! Сама увести от Ксюхи не сумела, — так моими руками отомстила!
Плечи Оленьки обвисли.
— Ладно, чего уж! Одним миром мазаны, — сжалился над ней Сапега. — Слушай сюда! Я в Завалиху. Заберу клад. Зря, что ль, всё было? А ты останавливай машины. Вроде как на помощь.
Ополоумевшая Оленька смотрела на мужа непонимающим взглядом.
— Вникни же наконец! — яростно, пытаясь пробиться в ее подсознание, выкрикнул Сапега. — Сейчас вся жизнь, может, решается… Она! — он ткнул в недвижное тельце, — подавилась пищей! Пищей, поняла? Пищей! А мы не заметили, потому что сидели оба впереди и музыка громкая. На том стой. Иначе — соучастница!
Отстранив жену, он потащил тельце наружу, положил на землю и с поднятой рукой побежал к дороге.
— Помогите! — крикнул он в салон первой же притормозив шей легковушки. — Ребенку плохо. Я в село, тут неподалёку. Может, найду врача!
Сапега метнулся за руль джипа. Оттолкнул недвижную Оленьку:
— Помни! Проболтаешься, — вместо денег — тюрьма!.. Помогите же, люди добрые!
Джип рванул с места.
Машины, одна за другой, принялись прижиматься к обочине. Из них выскакивали пассажиры и бежали к лежащей девчушке. Кто-то тащил воду и одеяльце. Меж суетящихся людей, покачиваясь, ходила потерянная Оленька.
…— Я же не убийца! — Оленька умоляюще глянула на Ксюшу. Прижала кулачки к груди. — Денег хотела, да! А кто б не хотел? Но не убийца.
Ксюша брезгливо отвернулась.
Возле ожившего ребенка всё хлопотали. Врачиха, не в силах отойти от пережитого потрясения, будто пытаясь загладить вину за свой диковинный, едва не приведший к смерти просчет, преувеличенно энергично потянула девочку с земли.
— Так. Сейчас мы ее, голубушку, на ручки, — победно объявила она, — и — в скорую. А уж там пулей.
С невольным страхом она глянула на возвратившегося «отца».
— Говорю вот: сейчас мы её в скорую и…
Сидящая на одеяльце Рашья увидела за спиной Анхеля Ксюшу и обрадованно потянула к ней ручонки.
— Эк как к мамке-то тянется, счастливица, — умиленно прокомментировали в толпе.
Ксюша едва не силой отобрала малыша у неохотно уступившей врачихи. Прижала к клокочущей от неслышных рыданий груди.
— Солнышко наше, — выдохнула она.
Лицо Анхеля едва заметно потеплело.
— Всем спасибо за помощь. Ребенка мы забираем, — объявил он.
— Как это забираете?! — всколыхнулась врачиха. — Вы что тут? Да ее срочно в реанимацию. На аппараты… Чудом ведь, можно сказать!..
Она сбилась. То ли вспомнила, кому обязана малышка этим чудом, то ли прочитала что-то в пронзительно голубых глазах.
— Не положено ведь! — вяло запротестовала она. — Уже и в милицию сообщили. Вот-вот подъедут. Что я им предъявлю?
Ксюша зло обернулась.
— А вот ее, — она ткнула в покачивающуюся Оленьку. — Она им всё расскажет. И как Павла убили. И как ребенка душили. Нетопыри!
Стараясь не потревожить притихшую Рашью, протиснулась на заднее сиденье.
— В Завалиху? — уточнила она. Анхель промолчал. Лицо его свело судорогой.
Чем дальше по проселочной дороге, тем трудней становилось ехать. Бедолага «ренушка», созданный для убаюкивающих европейских автобанов, по-пластунски карабкался с кочки на кочку, отплевываясь грязью, рискуя провалиться в глубокую тракторную колею.
— Еще немного, и сядем, — озабоченно предупредила Ксюша.
— Туда, — Анхель ткнул пальцем на подмерзшую пашню, где отпечатался след джипа.
Дико взвыв мотором, «рено» выкарабкался и заковылял — протектор в протектор.
Вдали, из-за лысой березовой рощицы, показалось несколько ветх их крыш. Зава ли ха. У крайнего дома стоял брошенный джип, — далее проехать можно было разве что на гусеничном тракторе.
Ксюша оглядела посапывающую малышку. Вопросительно посмотрела на Анхеля
— Не будем будить. Она сегодня уж натерпелась, — глаза Анхеля непримиримо сузились.
Выбравшись наружу, Анхель увяз в жидкой грязи. Сделал знак спутнице ждать в машине.
— Я с тобой, — упрямо отчеканила та. — Хватит мне и одного Павла.
Поняв, что она не отступится, Анхель обошел капот и подхватил ойкнувшую Ксюшу на руки.
Так, с ношей на руках, с хлюпаньем выдирая ноги из жижы, побрел к дому.
Ксюша, замерев, сладостно прижалась к его груди, вслушиваясь в гулкие, бесстрастные удары сердца.
Вид у дома был нежилой, хотя внутри угадывался свет. Посреди составленного из длинных кривых жердей забора постанывала на ветру незапертая калитка. В такт ей скрипела распахнутая дверь в домишко, — со свежим следом от выдернутой вместе с накладным замком скобы.
— У него, наверное, топор, — робко подсказала Ксюша.
Анхель бережно спустил ее с рук и первым шагнул в темный стылый коридор. Ощупывая стены, добрался до косяка, потянул дверную ручку.
Непротопленная, с обвисшими лоскутами обоев комнатенка скупо освещалась тусклой лампочкой. Завалящее, брошенное прежними хозяевами имущество — панцирная, с прогнутой сеткой кровать, старый фанерный сундучок, трюмо без зеркала, — было сдвину то со своих мест и, судя по виду, подвергнуто тщательному осмотру.
Посреди комнаты торчала поднятая крышка люка в подпол. И оттуда, как из танковой башни, с фонарем в руке настороженно выглядывал Евгений Сапега.
— В подполе тоже не нашел? — с издевкой поинтересовался Анхель.
— В смысле что? — пролепетал тот.
Ксюша подалась вперед.
— Как ты мог так с девочкой?! — выкрикнула она.
— Так я ее с Оленькой оставил. Захлебнулась вдруг ни с того ни с сего, — скорбно сообщил Женя. — Вот и оставил, чтоб помогли. А сам в скорую позвонил. И сюда. Чтоб, значит, до ночи посмотреть. Обещал ведь тебе… — поняв, что несет полную околесицу, он сбился. — А что? Неужто?.. Не спасли?!
Он выбрался из подпола — с топором в руке:
— Вот ведь жалость какая. Из-за какой-то ерунды и… На тебе, не спасли. Всё-таки медицина у нас — никуда не годная.
Сапега прервался. Из прихожей донеслось топотание ножек.
Глаза его в ужасе расширились. Рот перекосило. Топор выпал.
Ксюша обернулась. В дверях стояла перепачканная Рашья.
— Чего вы меня все бросили? — поморгав глазенками, пожаловалась она.
— Спасли, как видишь, на твое горе! — процедила Ксюша.
Сапега с усилием сглотнул.
— Почему — горе? Так даже лучше, — пролепетал он. Спохватился. — Пацанка, что ли, чего наговорила? Так она еще в машине не в себе была. Я, как закашлялась, перевернуть пытался, чтоб, значит, наружу вышло. А она меня чуть ли не за убийцу приняла. Может, почудилось что?
Неприязненное молчание давило на него.
— Да ты чего на меня зекаешь, Ксюха?! Или тоже вслед за карапузом крыша поехала? Я тут ей помочь пытаюсь, и мне же еще на орехи… Да пошли вы после этого!
Он сделал движение к выходу.
— А Пашу зачем убил? — вырвалось из подрагивающих Ксюшиных губ.
Сапега замер. Посерел.
— Как это? Ты это чего это? — голос его забулькал обиженно. — Не оговорите и не докажете.
— Разве надо доказывать? — гулкий голос до физической боли сотряс Женины барабанные перепонки.
Всё это время Сапега ускользал от требовательного взора Анхеля, инстинктивно ощущая исходящую от него угрозу.
— Ты еще меня тут сверлить будешь! — отводя глаза, задиристо выкрикнул он. — Нашелся тоже. Я сам чемпион школы погляделкам. Так что или отвернись, или втюхну так, что мало не покажется.
Но воли не поддаться властному велению в нем не осталось. Он всё-таки поднял глаза.
Горячий, как пучок лазера, взгляд пронзил Женю, легко, будто консервную банку, вскрыл черепную коробку, прожег мозг, извлекая потаенное, и, буравя внутренности, устремился в сердцу. Кольнул испытующе и выжидающе замер.
Всё это произошло моментально. Сапега вдруг понял, что его убивают.
— Я не хотел! — обращаясь к Ксюше, бессвязно забормотал он. — Не хотел Пашку убивать! Веришь? Сколько мог, не хотел! Но — долги! Потом — он-то за свою долю какой куш огреб. А мы с Мазиным — голый васер. И кредит этот два миллиона… — он потряс сжатой рукой. — Главное ведь как специально — и получен, и обналичен. Бери не хочу. А вместо этого бандитам отдавать! Я ведь и с Павлом встретился, — не чтоб убить. Думал, может, всё-таки уломаю… Но он же упертый.
— Угу! А гантелю приготовил, как аргумент, — Ксюша жестко усмехнулась.
— Сам не рад, что польстился, — Женя покаянно ударил себя кулаком в грудь. — Сколько прошло, а по ночам в поту вскакиваю. Не знаю, отмолю ли.
— Сюда пошарить, видно, тоже в поту заскочил, — Ксюша кивнула на сваленные топор, лом, лопату.
Сапега вновь ощутил в себе беспощадный корежащий луч и — сначала смутно, потом яснее — разглядел за ним какой-то стылый, склизкий тоннель, в который — он это чувствовал — его начало засасывать, будто в жерло кратера. В тоннеле этом Женя различил что-то, что заполнило его нестерпимой, парализующей жутью. Лицо Сапеги сделалось мелованным. Из него словно отжали жизнь.
— Стало быть, пора? — через силу выдохнул он.
— Пора, — бесстрастно подтвердил Анхель. И тут же почувствовал быстрые, легкие прикосновения к затылку, — похоже, Анхэ изо всех сил пытался достучаться и предотвратить новое, вовсе неслыханное преступление — ангел-хранитель готов был взвалить на себя миссию черного ангела смерти.
На этот раз он добился своего, — Анхель опамятовал.
Сапегу чуть отпустило. Сила луча, втягивающего его в мертвое пространство, ослабла. Это был шанс.
— Отпустите! Прямо отсюда к следователю. Отсижу! Только чтоб здесь! Не там! — искательно забормотал Женя. Он вспомнил ощущение сырого тоннеля. В ту же секунду организм непроизвольно выбросил горячую струю мочи. Отчаянным усилием он попытался удержаться, но не смог. Лишь беспомощно уставился на туфлю крокодиловой кожи, по которой из-под брючины стекала предательская струйка.
По помещению потянулся тяжелый запах. Анхель брезгливо отодвинулся.
Сапега шагнул к спасительному выходу. Ксюша, не столь снисходительная, заступила убийце путь, намереваясь залепить на прощанье пощечину, и — замерла с поднятой рукой.
Смоляная, отлаченная Женина шевелюра подернулась пеплом седины, на холеном лице проступили глубокие морщины. За несколько минут ухоженный красавчик постарел лет на пятнадцать. Должно быть, на те годы, на которые подтянуло его к зловещему тоннелю.
Потрясенная Ксюша отступила.
Сапега, покачиваясь, бросился к спасительной двери. Едва не сбил с ног затихшую малышку. Отпрянул. Вгляделся, выискивая в невинных детских чертах что-то ему одному ведомое, дико хихикнул и, не оборачиваясь, выбежал.
Из прихожей послышался звук упавшего таза, заливистый хохот. Чавканье удаляющихся неверных шагов.
— А у меня вдруг всё вспомнилось, — с тихой радостью произнесла Рашья. — И дом этот тоже… Погодите! — она подбежала к углу печки и принялась давить на нее слабой ручкой. Догадавшийся Анхель подхватил топор и обухом ударил по тому же месту. Сразу два кирпича провалились внутрь. Протиснув руку в нишу, он извлек наружу пачку обернутых скотчем акций, — тот самый клад, схороненный Павлом Игумновым.
— Это тебе, Ксюха-рассюха, — важно объявила девочка.
От этого «Ксюха-рассюха» сердце Ксюши занялось. Она кинулась было к Рашье, но замерла, остановленная поднятым пальцем Анхеля.
Присев перед девочкой на корточки он взял ее за ручки.
— Вот и слава богу, — ласково произнес он. — Значит, больше кошмары тебя мучить не будут. И ты вернешься к маме. Ты ведь хочешь к маме?
Рашья расслабилась. Охотно закивала.
— Стало быть, завтра и вернешься. И всё будет как прежде.
— Всё-всё?
Он кивнул.
— А как же Ксюша? — Рашья вдруг испугалась. — Я не хочу, чтоб ее не было. Ксюша хорошая.
— Ксюша будет к тебе иногда приходить, — успокоил ее Анхель. — Во снах. Хороших и добрых снах. И когда ты ее будешь видеть даже через много лет, ты, может, не вспомнишь, кто она. Но тебе будет тепло и радостно.
— Правда? — грустно уточнила девочка.
— Правда, — заверил Анхель. — А сейчас мы уберем всё, что тебя мучило.
Он потянулся к детской головке, утопил ее в ладонях и, вздохнув глубоко, нежно поцеловал в лобик.
— Вот и всё. Свершилось.
Ксюша, запоздало спохватившаяся, наклонилась к Рашье.
— Спасибо, солнышко. Я тебе так благодарна, — зашептала она. И — осеклась.
Малышка непонимающе улыбалась. Ксюша перевела взгляд на Анхеля.
— Кончено. Она больше не помнит тебя, — с грустью объяснил он. — Завтра я отвезу ее к родителям.
На улице стемнело. Темный джип по-прежнему в одиночестве стоял на том же месте.
С трудом развернувшись, «ренушка», выстригая дорогу фарами, потихоньку потрусила по наезженной колее. За околицей в свет фар угодила покачивающаяся мужская фигура. Заметив машину, мужчина вытянулся в струнку, отдал честь, повернулся через левое плечо и, гукая филином, замаршировал к лес у.
— Господи! Да он же сошел с ума… — выдохнула Ксюша.
— Это его судьба, — безразлично отреагировал Анхель.
— Но разве судьба не предначертана?
— Есть лишь границы. А дальше — каждый отмеряет по себе.
Еще в дороге Ксюше припомнилась мысль, пришедшая в голову несколько дней назад. Тогда она ее испугалась, как надвигающегося безумия. Но теперь та догадка уже не казалась столь невероятной. Дома она уложила спящую Рашью в постель. Сняв с нее одежду, тщательно оглядела голое тельце, отыскивая родимые пятна и почти не сомневаясь, где именно их найдет. Всё так и оказалось, — родинки на теле девочки росли на тех самых местах, куда Павла Игумнова поражали орудия убийц. Две крупные родинки на животе и груди дополнялись огромным родимым пятном на затылке, под волосиками, — сюда Сапега нанес роковой удар гантелей.
Ксюша оглаживала детское тельце, опустошенная открытием, которое только что сделала. Почувствовала рядом дыхание. От двери за ней наблюдал Анхель.
— Значит, всё-таки человек после смерти живет другой жизнью? — тяжко выдохнула Ксюша.
— Не человек. Душа, то есть сгусток накопленной энергии, продолжает свое совершенствование, — неохотно пояснил Анхель. — Со временем, пройдя стадии очищения, она может стать ангелом-хранителем.
— Это Сапегина-то?! — вскричала Ксюша. — Да его в чистилище пустить, и то много чести!
— А кто тебе сказал, что земля не есть это самое чистилище? — скорбно пробормотал Анхель.
В его голубых глазищах билась непередаваемая тоска, причину которой Ксюша легко угадала. Потому что такая же тоска поселилась в ней самой. Сердечко ее взорвалось, и будто разом затопило разделяющие их шлюзы.
Она бросилась к Анхелю:
— Скажи, ты вернешься ко мне? Вернешься? Я ведь теперь не смогу без тебя. Просто — не смогу. И знаю, что ты — тоже. Ответь же!
Анхель колебался.
— Пожалуйста! — Ксюша умоляюще прижалась к нему. — Пообещай, что вернешься!
— Да, — едва слышно, будто стараясь, чтоб его не расслышал кто-то посторонний, пообещал он.
Когда на следующее утро Ксюша проснулась, ни Анхеля, ни его пятилетней подружки в доме не было. Как не бывало.
Эпизод 5. Апрель 2008 года
Понурившись, стоял я перед Председателем совета.
— Мною совершен тяжкий проступок, — признал я. — Не сумел предотвратить покушение на доверенную мне подопечную. А после, вопреки запрету, использовал высшие возможности для возвращения ее к жизни.
— Это так, — согласился Председатель. — Но сделано это было не из корысти. Не из страха перед наказанием. А из любви к ребенку.
— Я едва не лишил жизни человека, — напомнил я. — И значит, заслужил наказание в виде свержения на землю.
— В самом деле, — Председатель нахмурился. — Карать Ангелам-хранителям не дозволено категорически. Это был бы тяжкий, непоправимый проступок. По счастью, ты его не совершил.
Повелительным жестом он пресек мою попытку возразить.
— Задание, полученное тобою, было труднейшим. И всё-таки ты сумел его выполнить. Благодаря тебе удалось сохранить одну из плодороднейших ветвей. Уверен, Ангельский совет признает миссию успешной и снисходительно отнесется к допущенным промахам. Можешь быть свободен!
Я не уходил.
— Что-то еще?
— Да. Мой друг Анхэ часто пеняет мне на несобранность и несоблюдение инструкций. Он прав, и мне в самом деле не хватает организованности. Несколько раз я ставил своих хранимых в опасное положение. Мне не суждено стать таким образцовым Ангелом-хранителем, как Анхэ.
— Я знаю, почему твои подопечные оказывались в этом положении! — в голосе Председателя угадывался сдерживаемый гнев. — Как раз от чрезмерного умения организовать. Развелись тут экспериментаторы — многостаночники.
Избегая его взгляда, я поспешил отвести глаза.
— Задача Совета — находить применение лучшим качествам каждого. Твой друг Анхэ (в слове «друг» мне почудилась ирония) — действительно чрезвычайно организован и скрупулезно изучил нормативную базу. Поэтому Совет назначил его в канцелярию. Полагаю, на этой должности сии навыки будут востребованы к общей пользе. Но Ангел-хранитель — это не бухгалтер. Организованность может быть приобретена с опытом. Но есть качество, без которого он немыслим, — любовь к своему хранимому. Как в тебе.
Поняв, что аудиенция вот-вот прервется, я решился.
— Но я как раз люблю! И прошу отпустить меня на землю! — выкрикнул я, в ужасе ожидая немедленной кары.
— Вот как? — Председатель с интересом вгляделся. — Стало быть, ты так полюбил Ксюшу, что готов ради нее стать смертным?
Я вздрогнул, — обо мне знали гораздо больше, чем я предполагал. Отныне скрывать было нечего.
— Да, — подтвердил я.
— Ради жалких тридцати — сорока отведенных вам лет готов отказаться от бессмертия и обречь себя на вековые круги созревания, да еще с риском, что душа может погибнуть?
— Я люблю ее, — упрямо пробормотал я.
— Как раз об этом я и говорил, — от Председателя повеяло сочувственным теплом. — Любовь — главное, что орошает жизнь. Она одна помогает безошибочно отделить дурное от доброго. Пока она главенствует в мире, цивилизация защищена от вырождения. И прививать это чувство людям, из поколения в поколение, есть главнейшая наша обязанность.
— Стало быть… можно?
— Нет! — жестко, заставив меня отшатнуться, отказал Председатель. — Мы не для того взращивали элитное зерно, чтобы вновь швырнуть его в землю. Твоя миссия определена!
— Но Ксюша! — вскричал я в полном отчаянии. — Я ведь обещал вернуться!
— Это обещание ты выполнишь! — объявил Председатель и, заканчивая аудиенцию, затворил уста мятежному ангелу. То есть мне.
Эпизод 6. Декабрь 2008 года
Ксюша, с усилием неся перед собой раздавшийся живот, вышла на крыльцо женской консультации, жадно глотнула морозного воздуха. Снизу, лихо прыгая по обледеневшим ступеням, взбежала Татьяна.
— Что?! — еще на бегу выкрикнула она.
— Говорят, последняя неделя, — счастливо объявила Ксюша. — Я уж не надеялась. Все врачи в один голос… Да и сейчас… На твоих ведь глазах. Почти весь срок на сохранении. Но теперь уж, слава богу.
— Славить будем, когда родишь! — Татьяна сплюнула через плечо. — А сейчас отвезу тебя домой. И там присмотрю.
— Как же магазин?
Недавно Ксюша открыла парфюмерный магазин в самом центре, на Кирова. И Татьяна стала в нем директором.
— Ничего с твоим магазином не сделается, — отрубила Татьяна. — Девки у меня вышколены. Денек без присмотра обойдутся. А вот ребенком рисковать мы не можем. Подожди, скажу водителю подогнать твою машину и вместе спустим тебя по ступеням. Где, кстати, этот охламон?
Метрах в пятидесяти Ксюшин персональный шофер, небрежно облокотившись на джип, болтал с какой-то смазливой девчонкой.
— Только не вздумай без нас спускаться! Гололед-то какой! — Татьяна сбежала с крыльца. Обернулась предупреждающе и — застыла с вытянутым лицом.
Ксюша переступила ногами, сапожок поехал на льду, ухватиться за поручень она не успела, и теперь, увлекаемая тяжелым животом, летела вниз по ступеням, мелко семеня запаздывающими ногами, прямо на выпирающий штырь арматуры. Краем глаза отметила лицо подруги с выпученными от ужаса глазами. Последним усилием Ксюша обхватила руками плод, бессмысленно пытаясь защитить его.
Внезапно ее бросило в сторону, пронесло в сантиметрах от рокового выступа, развернуло на сто восемьдесят градусов, так что рука сама нашла спасительный поручень, в который вцепилась. Вопреки законам физики сила инерции разом иссякла, и Ксюша обнаружила себя стоящей на собственных ногах и совершенно невредимой.
Ошарашенная, не веря в спасение, она бессмысленно озиралась, когда почувствовала легонькое, успокаивающее щекотание за ушком.
Ксюша задохнулась.
— Ты, — догадалась она. — Ты всё-таки вернулся.
Подлетела Татьяна.
— Что? Где? — она принялась судорожно ощупывать Ксюшин живот. — Немедленно назад в консультацию. Заново покажемся врачам. Вдруг опять станет плохо.
— Не станет, — Ксюша мягко отстранилась. Улыбнулась печально. — Теперь всё будет хорошо. Обязательно хорошо.
Она разрыдалась.
Как умереть легко (детективная повесть в двух частях)
Часть 1. Фосфорные спички
1.
Что такое супружество? Когда по учащенному дыханию жены ты безошибочно определяешь, о чем пойдет речь и с какой целью заводится разговор. А по морщинке на переносице догадываешься, что она пытается от тебя скрыть.
Когда жена на кухне подняла зазвонившую трубку и не сразу ответила, Заманский напрягся от нехорошего предчувствия. Когда она сдавленным голосом произнесла: «Витя, возьми! Это из России», — он понял, что случилось несчастье. А когда прибавила: «Лёвушка звонит», — сердце Заманского сжалось.
С Лёвушкиным отцом, Зиновием Иосифовичем Плескачом, он в последний раз общался по скайпу два месяца назад. За год до того внезапно умерла жена Зиновия, Лидушка, — во сне оторвался тромб. Смерть ее обрушилась на Зиновия, будто цунами на сонный пляж. Известный тульский антиквар, по-еврейски умудренный, устойчивый к ударам судьбы, впал в глубочайшую депрессию.
Заманский на похороны не успевал и добрался до России лишь на сорок дней, — и то по настоянию Лёвушки, напуганного беспробудной скорбью, в которую погрузился отец.
Заманский и сам не на шутку перепугался, когда в аэропорту вместо полнокровного пятидесятилетнего сибарита с неизменной ироничной складочкой возле губы встретил его поникший, осунувшийся подстарок. Натужная улыбочка на изможденном лице казалась наспех приклеенной.
Зиновий привез друга в свой стилизованный под замок коттедж, стены и лестничные проемы которого оказались увешаны фотографиями и портретами покойной. Со скорбным видом провел Зиновий гостя по этажам. Заводил в гостиную, показывал на китайскую вазу: «Эту вещь Лидушка особенно ценила», — и по ложбинкам впалых щек стекали слезинки. Садились за стол, он оглядывал приготовленные приборы, возмущенно хватал вилку: «Как можно! Это ж ее любимая!» И спешил переложить в отдельное, потаенное место.
— Видишь, как оно перевернулось! — простонал он.
Заманский увидел, — Зиновий Плескач превратил собственный дом в пантеон, в котором медленно угасал, вяло барахтаясь в сладкой патоке воспоминаний.
— Значит, так, немедленно выбираемся из этой клейкой паутины, — рубанул наутро Заманский. — Хочешь — ко мне в Иерусалим. Антиквару там раздолье. Нет, двинь в кругосветное путешествие эдак на полгодика. Лучшего лекарства от хандры человечество не придумало.
Плескач вяло соглашался. И продолжал соглашаться последующие месяцы, что общались они по скайпу. Но все усилия Заманского вывести друга из состояния апатии оставались тщетны.
После смерти жены Зиновий разошелся с многолетним партнером по бизнесу, оставив ему общий магазин; в комплексе «ИнтерСити» купил под антикварный салон двухсотметровое помещение, расставил по стеллажам экспонаты и часами просиживал в разлапистом, времен Георга Второго, кресле. Разглядывал альбомы или переводил оцепенелый взгляд с бронзовых канделябров на торшеры в стиле рококо, со столового серебра на голландскую акварель. Зачастую там же и ночевал. Особенно по будням, когда не ждал приезда сына.
Лёвушка по окончании политехнического университета поступил в аспирантуру МГУ, осел в Москве, в квартире, купленной для него родителями. А в Тулу приезжал на выходные поддержать безутешного отца. К антикварному делу совершенно равнодушный, он грезил необыкновенными научными изысканиями — с Нобелевской премией на выходе. Отец, мечтавший о продолжателе династии, увлечение сына не понимал и не принимал категорически, оценивая едва ли не как предательство.
Как-то в разговоре с Заманским он обмолвился, что из-за Лёвушкиного отступничества жизнь окончательно оскудела, и он всё чаще обращается к мыслям о смерти.
— О чем ты? — возмутился Заманский. — Станет сын антикваром — не станет, но без тебя ему в жизни придется совсем худо. Сам же плакался, что в двадцать пять он всё тот же неприспособленный домашний ребёнок. Да если бросишь его одного на этом свете без опоры, как думаешь, какими звездюлями тебя Лидушка на небесах встретит?
Заманский обратил разговор в шутку. Но страх за друга поселился в нем нешуточный. Он связался с Лёвушкой и принялся уламывать ради отца вернуться на время в Тулу и хотя бы попробовать вникнуть в антикварное дело. А там, чем черт не шутит…
Лёвушка полагал, что черт уже подшутил над их семьей, и подшутил жестоко. Но всё-таки, сам ли или поддавшись на уговоры Заманского, перебрался в Тулу. Возвращение сына, и, главное, согласие его перенять отцовскую профессию, подействовало на Зиновия самым целительным образом. Он воспрял духом, заговорил о совместных семейных проектах, расхваливал смышленого, на лету схватывающего Лёвушку. Мечтал, как станет потихоньку передавать наследнику наработанные связи. Даже поведал, что поддался на уговоры сына поездить по миру, и на днях они вдвоем улетают в тур по Италии. «Особенно жду не дождусь Флоренции. Представляешь, галерея Уффици — своими глазами?!» В надтреснутом голосе его Заманский расслышал хорошо знакомые по прежним временам нетерпеливые звонкие нотки. Казалось, кризис миновал. И вдруг — этот звонок.
Заманский безысходно поднял трубку:
— Отец? — бросил он в пустоту.
— Да, — глухо ответил Лёвушка.
— Сердце? Лёвушка замешкался.
— Не понял? Сердце? Инсульт?! Ну!..
— Сам, — прошелестело издалека. — Покончил с собой. Отравился коллекционными спичками.
Лёвушка подождал, выжидая реакции собеседника. Заманский молчал, подавленный.
— Хотим похоронить как можно быстрее, желательно завтра. Папа сутки пролежал на жаре в салоне, — пояснил Лёвушка. — Впрочем, сейчас уточню… Да, следователь не возражает. Дядя Вить, может, хотя бы на девять дней успеете? В Тель-Авиве же проблем с билетами нет, — голос его просел.
— Вылечу, как только смогу, — пообещал Заманский, разъединяясь. Он так и не выбрался на помощь к живому. Оставалось воздать почести умершему.
— Что, господин следователь, помчишься дело расследовать? Застоялся за пять лет, — жена распахнула платяной шкаф и, полная сарказма, постучала по тремпелю, на котором побрякивал медальками парадный мундир полковника юстиции.
Намек был прозрачен: в прежние времена Заманский под видом оперативных дежурств и засад не раз и не два исчезал из дома на несколько суток.
— Да нет никакого дела! — буркнул он. — Зиновий сам… свел счеты с жизнью.
Сконфуженная жена задвинула мундир на место.
— Значит, не смог-таки без нее, — завистливо рассудила она.
В глазах читался упрек: ты-то, случись что со мной, небось, живо отхватишь бойкую бабенку, да и заживешь в свое удовольствие.
— Вешаться бы точно не стал, — подтвердил ее худшие опасения Заманский.
Не в силах снести такую обиду, жена вспылила.
— Прям завтра и полетишь? Уж забыл, что обещал Аську свозить на Мертвое море.
Она ткнула пальцем на комнату, в которой отсыпалась дочь.
— Мертвое море может подождать! — огрызнулся Заманский.
— Это мертвец может подождать!
— Никто ждать не будет, — на пороге своей спаленки в пижаме потягивалась со сна дочь. Девчушка, которую пять лет назад ввезли они в Израиль шустрым пятнадцатилетним огоньком, вытянулась и обратилась в стройную, много выше приземистых родителей, рыжеволосую деву. Только-только отслужила она в Израильской армии. Впереди ожидали каникулы и — мамины кнедлики.
Так полагал Заманский. Своенравная Аська рассудила иначе.
— Я лечу с тобой в Тулу, — объявила она отцу. — Пора побывать на исторической родине. Заодно одноклассниц бывших повидаю.
Ссылки на мрачный повод поездки действия на упрямую Аську не возымели. Да и жена тут же поддержала ее. Присутствие дочери было для нее гарантией, что, оказавшись за две с половиной тысячи километров от дома, блудливый муж будет, хоть под каким-то, но присмотром.
2.
Долговязый следователь Лукинов, примостившись за ломберным, восемнадцатого века, столиком, корпел над протоколом осмотра места происшествия. Краем уха прислушивался к телефонному разговору, что вел сын покойного, двадцатипятилетний очкарик Лев Плескач. Длинный и нескладный, как пожарная кишка. Дождался, когда он разъединится.
— Не с Заманским, часом, разговаривал? — полюбопытствовал Лукинов. Лёвушка, несколько удивленный, кивнул.
— Приезжает, стал быть?
— Они с папой друзьями были.
— Что ж? Имеет право. Граница пока не на замке, — непонятно констатировал Лукинов. В следующую секунду, ощутив приближение рвотных потуг, нашлепнул на нос влажный платок.
За прошедшие жаркие сутки тело самоубийцы подверглось стремительному разрушению. Несмотря на распахнутые окна, в антикварном салоне стоял сладковатый запах разлагающейся плоти.
Понятые — секретарши из соседнего офиса — жались к входной двери, поближе к коридору, где можно было глотнуть свежего воздуха.
Казалось, от смрада страдал и сам покойник, утонувший в георгианском кресле. Редкие волосы слиплись на округлом черепе кружочками лука на промасленной сковороде. Правая рука вцепилась в львиную морду на поручне, свесившаяся левая уперлась в застекленный журнальный столик, на котором меж бокалом виски и блюдцем с салями и баклажанами валялась красочная старинная коробка с длиннющими, размером с карандаш, спичками.
Судмедэксперт Брусничко, массивный, бородатый, потряхивая седыми патлами, увлеченно копался пинцетом в распахнутом, будто топка, рту покойного.
В углу обширного салона пухлотелый эксперт-криминалист Родиченков водил кисточкой по подоконнику. Вроде бы в поисках отпечатков пальцев. Но на самом деле кисточкой махал совершенно механически, не глядя, — будто двор подметал. Затуманенный взгляд Родиченкова метался по стеллажам меж пузатыми надраенными самоварами, потрескавшимися иконами в тусклых окладах, старинными картинами в богатых, орехового дерева, рамах. Особенно внимание его привлекала расставленная на отдельном стеллаже экзотическая коллекция нэцке, изображавших сцены совокупления. На округлой физиономии криминалиста блуждала предвкушающая улыбка.
Подметивший это Лукинов обеспокоенно нахмурился: тридцатилетний капитан полиции уже дважды попадался на мелких кражах с места происшествия.
— Много пальчиков наснимал? — прикрикнул Лукинов, возвращая криминалиста к действительности.
Родиченков неохотно отвлекся от созерцания чужого богатства.
— Откуда здесь посторонним пальчикам взяться? Только реактивы изводить. Кто в эдакий бункер, кроме своих, проникнет?
Он принялся закручивать и метать в пузатый портфель разбросанные по подоконнику баночки, ухитряясь не побить одну о другую.
— Вот почему так по жизни? Одним всё, а другие — склянки вонючие на себе таскают, — пожаловался Родиченков. — Да еще от такого богатства и — чтоб добровольно концы отдать! Уму непостижимо.
— Уж ты бы нашел, как распорядиться, — не отрываясь от работы, уел его Брусничко.
— Чего хитрого? — замечтавшийся Родиченков даже не заметил издевки. — Распродать на барахолке, и до конца жизни живи-припевай.
— Кто б сомневался, — хмыкнул Лукинов. — Панорамный снимок не забудь сделать, — напомнил он.
— Как раз собирался, — соврал Родиченков; с кряхтением извлек из баула фотоаппарат.
В салон, перемигнувшись с симпатичными понятыми, вошел длинноногий опер из местного райотдела. Молча протянул следователю набросанную от руки справку. Не дожидаясь вопроса, отрицательно мотнул головой. Лукинов по косой проглядел справку. Опрошены соседи по этажу, уборщицы, ночные сторожа. Осмотрен журнал на вахте. Прокручена видеозапись на входе в подъезд. Все входившие и выходившие в вечернее время идентифицированы как сотрудники магазинов и офисов на нижних этажах. Никого, кто гипотетически мог бы оказаться посетителем антикварного салона, среди них не выявлено.
Самого Плескача в последний раз видел вахтер четвертого подъезда. С его слов, Зиновий Плескач вместе с сыном вошел в здание восьмого июня, в районе десяти часов утра. В потоке людей прошли к лифту. Младший Плескач через час вышел из здания, сел на стоянке у подъезда в свой внедорожник и уехал. Старший до конца дежурства, а именно — до восьми утра девятого июня, не спускался. Вахтер совершенно этому не удивился, — все знали, что Плескач нередко ночует у себя наверху.
Лукинов кивком отпустил опера. Для очевидного самоубийства работу тот проделал вполне качественную. Да и остальным пора сворачиваться, пока от трупного дурмана сами не окочурились.
Он заставил себя вернуться к протоколу осмотра места происшествия, который из-за духоты давался с трудом.
— Так, — забормотал Лукинов, перечитывая написанное. — Стало быть, прямоугольное помещение 200 квадратов; стальная дверь со сложной системой запоров без признаков внешних повреждений. Четыре окна размером…, витые решетки, запертые изнутри. Система сигнализации не нарушена. Видимых следов проникновения нет. Внешний порядок в салоне не нарушен. Со слов сына и компаньона покойного, все предметы антиквариата на месте.
На лист бумаги плюхнулась и растеклась жирная капля пота. Лукинов досадливо отер лоб.
— Подтверждаешь, стал быть, что из ценностей ничего не пропало? — уточнил он у Лёвушки.
— Визуально как будто всё на месте. Но у папы для меня был приготовлен подробный список. Вот! — Лёвушка, торопясь, извлек из секретера свернутую, стилизованную под свиток длинную опись антиквариата. — Всё требовал, чтоб я его чуть не наизусть выучил. Получается, — готовился.
Плескач-младший взрыднул.
— Ну, будет, будет. Все равно не вернешь, — неловко утешил Лукинов. — Давай коротко пробежимся по твоим показаниям.
Он извлек заполненный протокол допроса потерпевшего.
— Стал быть, восьмого утром выехал в Белёв в командировку. В течение дня и вечера отец не отвечал на звонки.
— Был вне зоны действия сети, — подправил Лёвушка.
Лукинов, не возражая, внес поправку.
— Сам не звонил, — продолжил он скороговоркой. — К ночи обеспокоился, поскольку отец после смерти матери легко впадал в депрессию. Прервав дела, под утро девятого выехал в Тулу.
— Перед этим среди ночи позвонил нашей уборщице, — напомнил Лёвушка. — Она ждет под дверью.
— Да, да, — согласился Лукинов. — Едва въехав в Тулу, — сразу в салон. В восемь утра, открыв, обнаружил тело отца. Рядом коллекционную коробку с фосфорными спичками девятнадцатого века. Всё так?
Лёвушка подтверждающе кивнул.
— Подписывай. Внизу. «С моих слов записано верно, мною прочитано». Поскольку самоубийство сомнений не вызывает и заявлений о пропаже ценностей не поступило, салон опечатывать не буду. После нашего ухода запрешь дверь, решетки, поставишь опять на сигнализацию. И можешь заниматься похоронами. А дня через два заедешь, подробно передопрошу… Что-то не так? — встревожился он.
Лёвушкины губы задрожали. Зрачки от ужаса расширились. Следуя его взгляду, Лукинов увидел, что Брусничко, сопя, навалился на мертвое тело, вжал его коленом в кресло, и со скрипом и скрежетом орудует во рту покойника увесистым скальпелем. Ухватистые руки хирурга ходили рычагами.
— Отставить! — рявкнул следователь. Брусничко оглянулся недоуменно. Наткнулся на ошарашенное, готовое взорваться воплем лицо сына, на глазах которого глумились над телом отца.
Лёвушка, обхватив пальцами виски, выбежал из комнаты.
— Палыч! Мозги иногда включать надо! — жестко выговорил медику Лукинов.
— Да у него одного жевательного зуба нет. Туда спичка угодила, — без инструмента не вытащишь.
— А в морге это сделать было нельзя? Ты б еще при сыне грудину ему пилить начал.
— Увлекся, — скупо повинился судмедэксперт.
С площадки этажа донесся хрипловатый басок. Лукинов раздосадованно поморщился, — он надеялся закончить до появления начальства.
В салон вошел руководитель следственного управления области Геннадий Иванович Куличенок. Человек без шеи. Лысый череп мыслителя казался вколоченным прямо в крутые плечи.
— За лифтом еврейчонок рыдает. Сын, что ли? — обратился он к Лукинову.
Тот хмуро кивнул.
— Что ж… Его дело — рыдать, а наше дело — закрыть дело, — нехитро скаламбурил Куличенок. Прошелся вдоль стеллажей. Остановился перед коллекцией эротических нэцке.
— Ишь, каковы, — подивился он. — Совокупляются прилюдно. В прежние времена автора за порнуху бы посадили. А ныне: на тебе — искусство! На такое искусство мы сами большие искусствоведы.
Куличенок, пребывавший в хорошем настроении, сально гоготнул.
— Между прочим, больших денег стоит, — Лукинов в списке отчеркнул нужную строку, показал шефу.
— Иди ты! — поразился Куличенок. — За что только люди готовы платить.
Не без усилия отвел взгляд от фривольных фигурок.
— Ну что, Лукинов? Похоже, картина ясная? Самоубийство?
— В хрустальной чистоте, — подтвердил следователь.
Из дальнего угла донеслось язвительное кхеканье Родиченкова. На него удивленно обернулись.
— Говорят, Заманский прилетает, — Родиченков, добившийся всеобщего внимания, повел пухлым плечиком. — Как бы он это самоубийство наизнанку в убийство не перелицевал.
Как все бездельники, Родиченков, вроде, не прислушиваясь, слышал всё, что говорится другими.
— Как Заманский? Почему?! Откуда? — Куличенок, дотоле благодушный, всполошился.
— Ну, приезжает! Что с того? — Лукинов неприязненно зыркнул на болтуна. — Заманский — друг покойного. И приезжает на похороны. Только и всего.
— Вот как, — Куличенок озабоченно поскреб лысину. — Так точно, что отравился фосфорными спичками? — По-иному, требовательно обратился он к Брусничко. — Вдруг напутали?
Брусничко насупился. Патологоанатом с тридцатилетним стажем, он имел репутацию профессионала вдумчивого и глубокого. Больше того, история самоубийств была его страстью. Говорят, старый циник не засыпал, не почитав на ночь «Анализ соматической патологии при завершенных суицидах». Или хотя бы, — не полистав картинки. Но и своенравием славился непомерным. Попытка поставить под сомнение сделанное им заключение выводила Брусничко из себя. Особенно, если исходила от человека, по его мнению, мало смыслящего. Отложив пинцет, он демонстративно оглядел начальника следствия.
— Я к тому, что больно способ чудной, — теряясь под насмешливым взглядом, объяснился Куличенок. — Это ж надо, — спички фосфорные раздобыл. Будто никаких других путей, чтоб в мир иной уйти, не существует.
— Живут не как все. И даже в мир иной не по-людски уходят, — поддакнул Родиченков.
— Ишь ты, — «не как все». Суетимся, собственного прошлого не ведая, — назидательно произнес Брусничко. — Вот и изумляемся всякий раз, когда с необычным сталкиваемся. А это необычное, к вашему сведению, в девятнадцатом веке, пока не появились серные спички, чуть ли не основным способом самоубийств слыло. Особенно среди молодежи, — на почве любовных психозов. Страшная штука была. Те, кто на их производстве работал, поголовно, говорят, от некроза челюстей умирали… Видали, какие звери? Разгрызи головку и — привет.
— Он вынул из коробки здоровенную спичку, продемонстрировал:
— Одной такой за глаза бы хватило. А он аж три штуки для верности запихал.
— Так, может, всё-таки насильно? — вновь вскинулся Куличенок.
Нижняя губа Брусничко оскорбленно наползла на верхнюю.
— Будя воздух-то молотить, — не считаясь с начальственным авторитетом, рубанул он. — Сам подойди глянь, если чего понимаешь. Ты попробуй такую махину взрослому мужику меж зубов запихать, и чтоб бесследно? А тут ни пятнышка, ни ссадинки, ни гематоминки ни на шее, ни на теле, ни на запястьях. Конечно, в морге с лупой прошарю. Но и без того очевидно, что всё сам проделал. Самоубийство как конфетка. Аж в оберточке… Несите в труповозку.
Он разрешающе кивнул мнущимся санитарам с носилками. Потянул с рук перчатки, — свою работу он закончил.
Куличенок успокоился, — хоть и сварлив по-стариковски патологоанатом, зато дотошен. Заключению его можно было смело довериться, — за тридцать лет ни одного прокола.
И всё-таки весть о приезде бывшего «важняка» лишила начальника следственного управления равновесия. В дверях приостановился. Не повернув головы, погрозил толстым пальцем в сторону Лукинова.
— Заманскому ни под каким предлогом, никакой информации! Приехал хоронить, вот пусть и хоронит!
Он вышел.
— Пять лет прошло, а до сих пор дрейфит, — ухмыльнулся Брусничко.
— Станешь дрейфить, когда с такой сволотой, как Заманский, столкнешься, — нежданно-негаданно вступился за начальника следствия Родиченков. — Хоть меня возьми. Сколько из меня этот жидяра при осмотрах места происшествия крови попил! Чуть не так, начальству стучал. А не так, по-евонному, всякий раз выходило. Вроде, стараешься. А у него всё претензии. И то, что в иудейство свое отбыл, так по мне и слава богу. Был бы патриот, разве б слинял? А так: раз Родина по фигу, то и катись. Невелика потеря.
Лукинов и Брусничко недобро переглянулись. Медик разлапистой походкой подошел к криминалисту. Ухватив за пухлое плечо, рывком развернул.
— В хлебальник хошь? — задушевно поинтересовался он.
— С чего это? — Родиченков перетрусил. О могучей силе старого врача рассказывали притчи.
— С того, что патриот. Нынче что ни бездельник, то обязательно патриот. Штучных профессионалов выживают, а раздолбаи вроде тебя тихой сапой до пенсии проваландаются.
Не сдержавшись, тряхнул так, что Родиченков клацнул зубами.
— Покалечишь, облом! — закричал тот в страхе. — Гляди, а то могу и рапорт!
Кое-как вывернулся, обернулся за подмогой к Лукинову.
— Не видел и не слышал, — отрубил тот неприязненно. — И вообще, забирай вещдоки и чтоб к завтрему все следы были обработаны. А то я тебя похлеще Заманского отбуцкаю.
Родиченков нащупал портфель, с оскорбленным видом ретировался к лифту. Дождался, когда раскроются створки.
— Надо же. Вроде, не евреи. А как нерусские! — почувствовав себя в безопасности, выкрикнул он, уже через закрывающуюся дверь.
Из опустевшего коридора донесся всхлип. Лукинов вышел.
На табуреточке под дверью сидела, сгорбившись, ширококостная молодая женщина. Угрюмое выражение некрасивого лица и черный, накинутый на голову платок придавали ей скорбный, монашеский облик.
— Ах, да! С тобой еще! — спохватился следователь. — Валентина Матюхина? Ничего нового не скажешь?
— Он всё для меня, для малыша моего… — не поднимая головы, выдохнула та. — И платил… Я на основной работе меньше получала.
— Ладно. Запиши координаты и — свободна. Понадобишься — вызову, — Лукинов отпустил удрученную уборщицу.
Вернувшись, увидел, что Брусничко извлек из баула трехсотграммовую флягу со спиртом, разлил спиртное по золоченым коллекционным стопкам.
— Работу, можно сказать, закончили, — он протянул стопку следователю. — Осталось вскрыть, сактировать и — в архив. Тут даже Заманскому не над чем будет поурчать. За него?
— За него, — охотно согласился Лукинов. Выпил, продышался.
— Я, Палыч, мудрые слова недавно услышал: историю пишут победители.
Брусничко недоуменно отер бороду.
— Это я к тому делу скинхедов. Куличенок напортачил так, что поганой метлой гнать надо было, а его — в начальники подняли. А лучшего следака, который загубленное дело вытянул и раскрыл, из органов выдавили. И фамилию Заманского если и поминают, то ругательно. А случись наоборот, и окажись тогда наверху Заманский…
— А мог оказаться наверху? — усмехнулся, наливая по второй, Брусничко.
Лукинов сбился. Вопрос оказался в самую точку, будто игла в нерв угодила.
3.
Самолет летел в ночи. Дремали укрытые пледами пассажиры. Кто-то храпел — с посвистом и бульканьем. Отгородившись от внешнего мира наушниками, безмятежно подмурлыкивала плейеру Аська. Потом и она, ткнувшись головой в отцовское плечо, засопела. А вот к Заманскому сон не шел.
Еще пять лет назад он совершенно не помышлял об увольнении из органов и уж тем более — об отъезде из России. Всё произошло в одночасье.
В Привокзальном районе, в Нижней Китаевке, ночью, на стройке, ударом ножа был убит молодой узбек-гастарбайтер Хикмат Усманов. Страдающая бессонницей старушка видела, как в час ночи сосед по дому Бароничев в возбужденном состоянии выбежал из подъезда и пошел в сторону стройки, а полчаса спустя вернулся обратно. Была допрошена тридцатилетняя сожительница Бароничева, которая призналась, что состояла с Усмановым в интимной связи, о чем сожитель узнал и угрожал ей и любовнику расправой. Сам пятидесятилетний Иссак Бароничев подтвердил, что действительно после очередной ссоры с сожительницей вышел на улицу и минут сорок отсутствовал в квартире. Но ходил не на стройку, а в продуктовую палатку за ней, где можно было в ночное время купить выпивку. Причастность свою к убийству отрицал категорически. На молокозаводе, где Бароничев работал завпроизводством, его характеризовали, как спокойного, бесконфликтного человека. Изъятый в доме Бароничевых нож к раневому каналу убитого не подошел. Других доказательств вины не было. Тем не менее Бароничев был арестован. Областным судом признан виновным в убийстве и осужден к десяти годам лишения свободы. Следователь Куличенок за оперативное раскрытие неочевидного тяжкого преступления был поощрен и повышен в должности.
Два года спустя в производстве следователя по особо важным делам Заманского оказалось уголовное дело по осквернению могил на мусульманском кладбище. Группа скинхедов валила и разбивала ломами памятники. Зачинщики были арестованы. В ходе расследования двое из них среди прочего признались в убийстве Усманова — из националистических побуждений.
Меж тем невиновный человек вот уж два года отбывал наказание за преступление, которого не совершал.
Заманского пригласил к себе курирующий вице-губернатор, посетовал на верхоглядство и разгильдяйство Куличенка, который за допущенный ляп будет строго наказан. Но, доверительно объяснил он, самому Заманскому необходимо понять, что случившееся бросает тень не только на халтурщика Куличенка, но на репутацию областных правоохранительных органов в целом. Потому к Заманскому есть приватная, пустяковая просьбишка: эпизод с убийством Усманова из обвинения скинхедов аккуратненько исключить. Им и без убийства мало не покажется. С Бароничевым же будет решен вопрос об условно-досрочном освобождении, после чего его втихую выпустят на свободу. Надеюсь, нет возражений?
Заманский энергично потер подбородок, что делал в минуты чрезвычайного возбуждения, не попрощавшись, покинул здание администрации. После чего приложил все усилия, чтобы добиться оправдания Бароничева. Цели он достиг: приговор с шумным скандалом — через Москву — был отменен, невиновный освобожден.
Но закончить дело скинхедов Заманскому не довелось. По указанию руководства, оно было передано Куличенку — должно быть, в качестве наказания.
Заманский, к тому времени увлеченно работавший над раскрытием теракта на железной дороге, не слишком огорчился, тем более, что расследование по скинхедам было по сути закончено. Оставалось составить обвинительное заключение.
Через три месяца был оглашен приговор областного суда, — всем подсудимым, включая убийц Усманова, — по три года лишения свободы. Вот тут Заманского, что называется, зацепило. Он отправился к прокурору области, поддерживавшему обвинение в суде. Они были знакомы лет двадцать, приятельствовали, по молодости гуляли в общих компаниях и дотоле, казалось, оставались единомышленниками. Но в этот раз разговор вышел скомканным. На вопрос Заманского, почему по тяжкому, опаснейшему преступлению, за которое тихий обыватель был осужден к десяти годам, здесь, при групповом, на националистической почве, убийстве запрошен столь смехотворный срок, прокурор нахмурился, попытался отшутиться: больно, мол, родители убедительно просят. Увидел, что скользкая шутка не воспринята. Насупился. Наконец, у него раздраженно сорвалось с языка: «Да чего там? Ну, переборщили пацаны. Ты ж что хотел, то сделал. Своего отбил так, что всей области мало не показалось. Я не в обиде: понимаю и даже уважаю, — за единоплеменника встал. Здесь-то чего за этого снулого узбечонка хлопочешь? Не еврей же!»
Сказано это было с простодушной доверительностью, как говорят меж своими. Заманский разом понял: в стране не просто сгустился воздух, о чем говорили все вокруг. Произошли тектонические сдвиги. Сместились пласты. И места среди них для себя Заманский больше не видел. Он подал в отставку и в тот же год с семьей выехал в Израиль.
4.
Едва пересекли границу России, началась болтанка. Будто неприветливая Родина пыталась завернуть перебежчика.
Но зато когда, покружив и дважды ухнув в воздушные ямы, всё-таки приземлились, Шереметьево показалось Заманскому родней родного.
Прилетели сразу два рейса. В зоне погранконтроля образовался с десяток очередей. Клубясь и извиваясь, они едва продвигались к окошечкам. Прошел слух, что четыре из шести пропускных пунктов закроют. Давление в котле тут же поднялось. Задние принялись поджимать передних. Наиболее ретивые поперли без очереди. Послышались раздраженные крики, детский плач, пьяные матюги. Как водится, зачалась драка. Но отгороженные стеклом невозмутимые погранцы всё с той же неспешностью принимали паспорта и цепким взглядом изучали каждого. В родной отчизне ничто не менялось, — собственные граждане, возвращающиеся на Родину, по-прежнему находились под подозрением.
Зато немногочисленные иностранцы беспрепятственно протекали через изолированный коридор к отдельному, гостеприимному окошку.
Ладная девчушка в сержантских погонах приняла от Заманских паспорта, ловко раскрыла их на нужной странице, впечатала сочные визы. Расплылась в радушной улыбке.
— Рада приветствовать вас на территории России!
— Слышал, папка? Нам снова рады. Ради одного этого стоило сменить гражданство, — прокомментировала ехидная Аська.
В зал прилета отец с дочерью вышли, еще покачиваясь после болтанки. Заманский усомнился, распознает ли Аська среди встречающих Лёвушку. Когда-то, школьницей, Аська за ним хвостиком бегала. Всё пыталась обратить на себя внимание. Но тот, на пять лет старше, только отмахивался от нескладного подростка.
Аська, сощурившись, вглядывалась в лица встречающих.
— Бери выше, — подсказал дочери Заманский. — Он за эти годы сантиметров на двадцать вымахал.
— Случаем, не тот птеродактиль? — глазастая Аська ткнула в толпу, над которой покачивалась аккуратно подстриженная, в очочках голова.
— Ты только ему подобное не брякни. Это с виду фитиль. А на деле папин-мамин баловень. И сейчас, когда ни мамы, ни папы вдруг не стало, ему худо.
— Ладно, не совсем дура.
— Не совсем, — согласился отец.
Аська фыркнула оскорбленно.
Заманский поднял палец. Лёвушка выпростал вверх руку и радостно замахал в ответ. Зажатая в ладони барсетка болталась над головами, будто яблоко на длиннющей, подсушенной ветке.
Едва Заманские выбрались на свободное место, Лёвушка подбежал и, изогнувшись, припал на плечо приземистого Заманского. Выглядел он потерянным. Даже не сразу заметил поджидающую девушку.
— Моя дочь Ася, — представил Заманский. — Не помните друг друга?
Лёвушка невнимательно кивнул.
— Два дня как похоронил, — голос его булькнул. — Как он сам завещал, — с мамой в одной могиле.
Заманский потрепал склонившуюся стриженую голову. Стало заметно, как трудно дается сиротство этому двадцатипятилетнему дылде.
На автостоянке их поджидал могучий «рэндж ровер». Заманский заметил, что большинство машин по соседству тоже относились к внедорожникам и кроссоверам. Кажется, все россияне из тех, что посостоятельней, стремились хотя бы на лишние сантиметры оторваться от родимой земли.
Едва тронулись, Аську на заднем сидении сморило, — подложив под голову подушечку, забралась с ногами и затихла.
Заманского же сон по-прежнему не брал, — слишком велико оказалось возбуждение, да и о многом хотелось расспросить за два часа, что занимала дорога до Тулы. Лёвушка отвечал на расспросы охотно. Необходимость пересказывать обстоятельства происшедшей трагедии как будто облегчала его страдание.
Когда Лёвушка вернулся из Москвы в отчий дом, отец заметно взбодрился, принялся вовлекать сына в антикварное дело. Завалил книгами по искусству, потихоньку принялся сводить с клиентурой. Сам Зиновий начинал с «окучки» — скупки по деревням старинных самоваров, которые после, дома, разбирал до винтика, реставрировал и выставлял по московским салонам. Со временем стал считаться одним из первых «самоварщиков» России. И даже спустя два десятка лет именно самовары составляли цвет разросшейся его коллекции.
С этого же, по воле отца, начал и Лёвушка. Несколько раз съездил в район Белёва. Останавливался в гостинице. Днем мотался по деревням, к вечеру возвращался в райцентр. Получалось удачно. Отец оставался доволен. Восьмого июня, в день трагедии, как раз отправился в очередную поездку.
Отцу позвонил по приезде в Белёв, но телефон оказался «вне зоны действия сети». Особенно не взволновался, так как означало это то же, что и прежде: когда сына не было в городе, Зиновий часто оставался ночевать в салоне, в кухоньке, на узеньком канапе. Дозвониться туда было невозможно, — звукоизолирующие стены экранируют и поглощают сигнал.
— А если отец сам хотел с тобой поговорить? — уточнил Заманский.
— Выходил в коридор, к лифту. Там связь брала.
День прошел в хлопотах. Но к вечеру спохватился, что отец, вопреки обыкновению, ни разу не вышел на связь. Принялся названивать. Увы! Аппарат устойчиво оставался вне зоны действия сети. К полуночи попытался заснуть, но не смог, — заволновался всерьез. На всякий случай позвонил соседке по коттеджному поселку, надежной женщине, которая присматривала за их домом в отсутствие хозяев. Та сходила, через десять минут подтвердила, что коттедж пуст.
Позвонил Валентине, уборщице в салоне. Раз в неделю мыла и чистила полы, стены и мебель. Всё, кроме экспонатов, за которыми ухаживал сам отец. Ключей от салона она не имела. Потому убиралась в присутствии либо Зиновия, либо Лёвушки. Всего ключей от салона было три комплекта. Третий, контрольный, хранился во вневедомственной охране, на пульте.
— В общем, — продолжил Лёвушка. — Валентина должна была восьмого убираться в салоне, но приболел сынишка — он у нее под Узловой, у родителей, и она накануне, с папиного разрешения, укатила к ним в деревню. Туда ей и дозвонился. Хотя после моего звонка тоже обеспокоилась. Через час перезвонила сама. Сказала, что первой электричкой выезжает в Тулу. Рано утром вновь звонок от нее, уже из Тулы. Говорит, вместе с вахтером барабанят в дверь салона. Достучаться не могут. Папины телефоны по-прежнему не отвечают. Я перезвонил на пульт. Подтвердили, что объект с охраны снят.
Тут уж ждать было нечего. Вскочил в джип и — погнал по трассе. Хорошо, что раннее утро, — шоссе полупустое. Как идиот, набирал папин номер, всё заклинал: «Ответь!». Не ответил, конечно. Когда примчался, Валентина так и ждала под дверью, прикорнув на табурете. Как только отпер салон, в нос шибануло. Дальше — знаете.
— Что-то необычное, как открыл дверь, показалось?
— Ещё бы, — Лёвушка шумно задышал. — Папа мёртвый. Что уж необычней.
С заднего сидения сочувственно хмыкнули, — Аська, оказывается, уже не спала и прислушивалась.
Заманский, в котором пробудился следователь, принялся расспрашивать в подробностях.
Лёвушка, хоть и через силу, но отвечал обстоятельно: про виски, про спички, про заветренную салями и баклажаны на тарелочке, тронутые плесенью. Что, где, положение рук, головы. Даже о том, как патологоанатом выковыривал спички.
— Ты раньше эти спички видел? — следователь внутри Заманского всё не хотел утихомириться.
— Понимаете, папа для меня опись экспонатов приготовил. Хотел, чтоб изучил. Так вот, спичек в том списке не было.
— Что это значит?
Узенькое Лёвушкино плечо недоуменно поползло вверх.
— Либо папа их уже кому-то пообещал, либо не рассматривал как антикварную ценность. Хотя спички эти, как выяснилось, редкость необычайная.
Вопросы Заманского иссякли. Все обстоятельства, подробно описанные Лёвушкой, с несомненностью свидетельствовали, — Зиновий Плескач в самом деле покончил с собой.
— …Но почему?! — с неистовостью выкрикнул Заманский. Так что Лёвушка едва не выпустил на скорости руль. Машину «болтануло». Подскочила на заднем сидении перепуганная Аська.
— Так мама! — неуверенно напомнил Лёвушка.
— Год! — Заманский потряс пальцем. — Такие вещи делаются быстро или не делаются вовсе. Если б сразу после ее смерти или, допустим, на поминках, ну — срыв на эмоциях! Но ведь перетерпел. Да! Последний год общаться с твоим отцом даже по скайпу было удовольствием сомнительным. Будто с сомнамбулой. Все попытки расшевелить впустую! Но у него оставался ты. Как якорь, что удерживал на грунте. А после того как ты вернулся, да еще компаньоном, он и вовсе ожил. И — на тебе… Я ж его уломал съездить за границу! — припомнил он. — Он мне обещал!
— Ездили! — подтвердил Лёвушка. — Двухнедельный тур по Италии. Папа сам выбрал, чтоб Рим, Флоренция, Венеция. Автобусная экскурсия.
— И что?
— Да так, — Лёвушка замялся. — Сначала будто взбодрился. А вернулись домой, опять та же хандра. И вот… — Лёвушка тяжко вздохнул, скрывая смущение.
За смущением этим Заманский угадал какую-то недосказанность.
— Стало быть, ты окончательно убедился, что вся коллекция в сохранности? — уточнил он.
Лёвушка кивнул.
— Когда звонил вам, еще не был уверен. А после прошелся по описи. Ну, разве какой-то мелочи тыщ на пятьдесят долларов не достает. Да и они, скорее, по магазинам расставлены… Нет, банкротом папа, если вы об этом, точно не был. Наоборот, можно сказать, процветал. Так что из-за денег покончить с собой не мог.
Вот уж о чем Заманский совершенно не думал. Трепетного отношения к деньгам в Плескаче не было ни в далекой молодости, когда подрабатывал извозом, ни позже, когда погрузился в бизнес. На его глазах Зиновий трижды терял нажитое, и даже близкие друзья об этом не догадывались. Лишь разбогатев вновь, задним числом подшучивал над своей незадачливостью. Еврей, научившийся вставать после самого жестокого падения, отряхиваться и продолжать путь, не станет из-за денег сводить счеты с жизнью.
Но какая-то причина должна быть!
— Кстати, ты ведь теперь у нас богатый наследник, — припомнил Заманский. — Какие планы насчет коллекции? Или всё-таки почувствовал вкус к отцовской профессии?
— Папа очень, очень хотел, чтобы я перенял его дело. И, поверьте, я старался.
Лёвушка отчего-то зыркнул через плечо и понизил голос.
— Говорят, девять дней души бродят среди близких, а мне не хотелось бы огорчать папу.
Аська всхрюкнула. Лёвушка скосился с укоризной.
— Ну, какой я антиквар? — умоляюще произнес он.
— Стало быть, будешь распродавать?
Лёвушка мелко закивал, будто признаваясь в чем-то непристойном.
С шоссе на Косую Гору свернули на гравийную дорогу, ведущую к коттеджному поселку. Попетляв, уткнулись в высоченный кирпичный забор, за которым в кромешной тьме угадывался домина с башенками на макушке, — замок, о котором всю жизнь мечтал Зиновий Плескач. Строил под будущих внуков, под друзей, что станут собираться под его крышей. Кажется, совсем недавно сам Заманский дневал и ночевал здесь. Бывало, не один. И покрывали его не только хозяин, но и радушная жена его, Лидушка. И вот земля пару раз крутнулась вокруг солнца, и обоих уж нет.
Лёвушка дважды нажал на пульт. Распахнулись ворота, заиграли веселые фонарики у бассейна, заискрились лампочки на серебристых елях, забликовали огромные мозаичные окна. Открылся въезд в подземный гараж.
Коттедж ожил. Поднимались по парадной лестнице. Как и год назад, со всех пролетов и стен гостей встречали размноженные портреты и фотографии умершей Лидии. Подле, вдоль плинтусов, стояли наготове фото самого Зиновия. Семейный пантеон расширялся.
В гостевой комнате на верхнем, четвертом этаже, где Лёвушка приготовил ужин, не чокаясь, выпили по рюмке виски
— Как же я рад, дядя Вить, что вы приехали, — стесняясь, признался Лёвушка.
Заманский, дотянувшись, потрепал его по волосам.
Сейчас, забравшись с ногами в кресло, скрадывавшее рост, потерянный Лёвушка в этих гулких метражах казался ребенком, брошенным родителями и отчаянно пытающимся не выказать испуга. Даже ехидна Аська поглядывала на него с сочувствием.
5.
На следующее утро Заманский, взяв ключи от машины Зиновия, отправился на кладбище. Лёвушка вызвался сопровождать. Но Заманский попросил его провезти по Туле Аську, чтоб помочь немного освоиться в городе, из которого та была увезена школьницей. А к обеду предложил встретиться у антикварного салона. Лёвушка неохотно согласился.
Дождливым будничным утром на Смоленском кладбище было пусто. У центрального входа, обычно забитого посетителями, примостились на скамеечке бок о бок две укутанные в дождевики цветочницы, да на крыльце ритуальной мастерской меж мраморных заготовок почесывался мужик в несвежей голубой майке. Задрав к небу острый небритый кадык, он с видимым удовольствием слизывал с губ дождевые капли. На автостоянке мокла одинокая старенькая «шевроле» с московскими номерами.
Похороны жены не просто на престижном кладбище, а на центральной, «козырной» аллее, меж героями Чечни, цыганским бароном и застреленным вице-мэром, несомненно, обошлись Зиновию в увесистую копеечку. Но, как выяснилось, и здесь ловкий бизнесмен не переплатил. Теперь вот и сам упокоился подле своей Лидушки, уже на халяву.
Заманский аж головой мотнул, отгоняя недобрые мысли. Оказывается, он всерьез злился на умершего без спросу товарища.
Безлюдной выглядела и территория кладбища. Может, оттого, едва Заманский прошел через ворота, глаза сами выхватили единственную фигуру, — навстречу неспешно, погруженная в свои мысли, шла холеная, лет под сорок женщина в легком кожаном пальто с длиннющим, перехваченным на шее шарфом.
Замшевые сапожки ее, несмотря на дождь, не были покрыты грязью. Значит, с центральной, асфальтированной аллеи она не сходила. Заманский окинул «центровые» захоронения, хорошо видимые от входа. На единственном холме, заваленном подвядшими охапками цветов, желтой заплаткой выделялся положенный сверху свежий букетик с неразмокшим целлофаном. Незнакомка, несомненно, приезжала на могилу Плескача.
Желая разглядеть ее получше, Заманский остановился. Собрался заговорить. Но женщина ускорила шаг и, слегка отвернувшись, прошла мимо, обдав его терпким ароматом духов.
Завелся двигатель. «Шевроле» отъехал со стоянки.
Заманский подошел к могиле. С увеличенной фотографии разглядывал его с укором Зиновий Плескач.
— Опоздал я, — повинился Заманский. — Не успел… Как же ты так, Зинка?! Ведь слабаком-то не был. Еще и Лёвушку своего ненаглядного на произвол судьбы бросил. Ответь одно, — почему?!
Не ответил ему друг. Только въедался взглядом и бередил душу.
Разыскивая на забитой парковке «ИнтерСити», куда бы ткнуться, Заманский заметил Лёвушкин внедорожник, который как раз заруливал на одно из огороженных мест — для своих.
Лёвушка махнул рукой и, сняв цепь, освободил место по соседству.
— Это папино! — объяснился он. — Асю я оставил на Гоголевской, сказала, что дальше сама доберется. В какую она у вас, однако, бедовую девку превратилась!
По его восхищенному тону Заманский угадал, что в списке Аськиных почитателей добавился еще один. Угадал и посочувствовал. Поклонники своенравной дочери легкой жизни не ведали.
Четвертый подъезд, как и всё многоэтажное здание Делового центра, будто улей сотами, было начинено бесчисленными магазинчиками и офисами.
На входе у вертушки подремывал вахтер из отставников. Людские ручейки беспрепятственно втекали и вытекали мимо.
Бездеятельность секьюрити компенсировалась наличием камер слежения.
Многие здесь знали друг друга. С Лёвушкой здоровались. Щебечущая у лифта девичья группка при виде его зашепталась. Кто-то скороговоркой пробормотал слова соболезнования. Остальные подпустили на румяные личики скорби.
Объемистый лифт трудился вовсю. Надсадно постанывая, останавливался на каждом этаже. Будто насос, выдыхал приехавших, и тут же засасывал следующую партию. На седьмом лифт опустел. На восьмом вышли последние пассажиры — Заманский с Лёвушкой. В пустынный коридор.
Заманский удивленно огляделся.
— Это этаж не для чужих, — объяснил Лёвушка. — Все площади выкуплены в собственность. В основном под склады… Папа же салон под широкую публику не планировал. А эксклюзивные заказчики, наоборот, уединенность ценили.
— И много их было, эксклюзивных?
— Папа говорил, что эксклюзива много не бывает. На то он и эксклюзив.
Перед стальной дверью в начале длинного коридора Лёвушка принялся манипулировать засовами, по привычке закрывая замковые коды спиной.
Налег плечом. Тяжеленная сталь легко подалась.
Несмотря на распахнутые окна, внутри всё еще ощущался кисло-сладкий трупный запах.
Пока Лёвушка снимал помещение с сигнализации, Заманский прошелся вдоль стеллажей, заставленных экспонатами.
Приподнялся на цыпочки, заглянул на верхний стеллаж, выискивая следы снятых предметов. Но по стеклу уже прошлись влажной тряпкой.
— Это я пыль протер, — объяснился Лёвушка. — Здесь стояла коллекция нэцке. Перед вашим приездом я ее как раз продал папиному бывшему партнеру Порехину.
Изогнувшись, он покопался в ящике кряжистого, обтянутого бильярдным сукном стола, выудил скрепленные, испещренные галочками списки. Одну из ксерокопий передал Заманскому.
— Это и есть папина опись. Всё сошлось. Если хотите, можем еще раз вместе перепроверить. Но это на сутки работы.
Заманский отмахнулся, заглянул в бытовой закуток, где на шести метрах втиснули холодильник, электроплитку, шкаф для посуды и узенькое канапе. Холодильник оказался пустым и идеально чистым.
— Неужто продуктов вообще здесь не держали? — удивился он.
— Были, конечно, — подтвердил Лёвушка. — Я их после папиной смерти сгреб. Следователя спросил. Он ответил: «Чего уж теперь? В дерьме жить?» Вот и выкинул.
Дотошный визитер скрупулезно обшаривал салон. Сунул нос в кастрюльки, повертел сковороду.
Приподнял корзину для мусора, затянутую изнутри чистым пакетом.
Осмотрел роковое кресло, так и стоявшее посреди зала по соседству с журнальным столиком. Он поймал себя на том, что, несмотря на очевидность самоубийства, по привычке всё перепроверять выискивает следы чужого присутствия. Их не было.
Зиновий покончил с собой. И это больше не обсуждается. Но вот почему?
Можно, конечно, переговорить с Лукиновым. Но на этот вопрос Лукинов ответа ему не даст. Лукинов — неплохой следователь. Даже очень неплохой. Но для него история закончилась, как только версия самоубийства, подтвержденная совокупностью доказательств, сложилась в пазл. Повод для самоубийства тоже выглядит достаточно очевидным, — депрессия после смерти жены. Но даже если толчком послужило что-то иное, для следователя это уже не принципиально. По той ли, другой причине, но человек добровольно ушел из жизни. Стало быть, состава преступления не усматривается, и можно смело прекращать уголовное дело. Что Лукинов, скорей всего, уже сделал.
А вот его, Заманского, эта история не отпустит, пока не разберется, что именно подтолкнуло руку Зиновия к злополучным спичкам.
— Крепко отец на тебя напирал, чтоб в свою веру обратить? — поинтересовался Заманский у Лёвушки. — Я-то помню, что антикваром ты, можно сказать, против собственной воли стал, — чтоб отца из психологической ямы вытащить.
Лёвушка замялся.
— Вы ж знаете папу. Коли на чем зациклится, то будет сверлить, пока дырку не просверлит. Переубедить невозможно. Но у нас была изначальная договоренность. Если не втянусь, то он меня опять отпустит в аспирантуру. Он сам предложил, чтоб всё по-честному!
— Восьмого с отцом именно об этом разговаривали?! — прозорливо догадался Заманский.
Лёвушка нехотя кивнул.
— Мне накануне научный руководитель позвонил. Появилась возможность под мою тему гранд пробить, с поездкой на годовую стажировку в Штаты. У них там такая аппаратура, что нам не снилось. И к тому же как раз полгода подошли, о которых мы с папой договаривались.
— И всё это ты вывалил отцу. И что он? Поднял шум?
Лёвушка вздохнул подтверждающе:
— Велел в Белёве поправить голову и больше с глупостями его не донимать. Сказал, что таких как я, будущих неудачников, в науке — не перечесть. А антиквары — интеллектуальная элита. В общем, как обычно.
— Выходит, перед твоим отъездом в Белёв вы с отцом повздорили. Потому он и не звонил. Потому и ты не дергался. Знал, что отец сердится. Так?
Лёвушка втянул голову в плечи.
— Так не мог он из-за этого?.. Ты ведь из-под него главную мечту выбил.
— Не-ет! — перебил Лёвушка с горячностью, подтвердившей: мысль эта не отпускает его самого. — Я ж окончательно не отказал. Только на обсуждение. Да и папа, мне кажется, про себя начал смиряться. Клянусь, дядя Вить, не из-за меня он! — Лёвушка приложил руки к груди.
— Ну нет, так нет, — отступился Заманский. Петляющий стиль его не изменился. Как прежде на допросах, он подбирался к главному, а потом вдруг, сбивая подследственного, на время переключался на другое. — Будем считать, с местом происшествия ознакомился.
Напоследок еще раз цепким взглядом пробежал по салону, стараясь накрепко запомнить детали.
У подъезда поинтересовался планами Лёвушки на остаток дня. Лёвушка смутился.
— Да вот, Асю обещал провести по достопримечательностям. Всё-таки по законам гостеприимства… — он сбился. — Или не надо?
— Отчего же? Валяйте, — разрешил Заманский. — Хоть что-то по законам.
Расстались до вечера.
6.
Заманский шел по центру Тулы, где прежде не мог пройти сотни метров, чтоб не наткнуться на знакомого. Ныне, неузнанный, прогулялся по бульварам, пересек центр, оставив в стороне РОВД, в котором пять лет назад был завсегдатаем. Неподалеку, на Фрунзе, разместили после создания Следственный комитет по Тульской области. Поколебался, не завернуть ли к Лукинову. Но придется говорить о Зиновии, а обсуждать болезненную тему с людьми, безразличными к его смерти, не хотелось.
Мысленно он прокручивал последний разговор с Лёвушкой. Когда тот вскрикнул, что отец покончил с собой не из-за него, Заманский укрепился в предположении, что сын догадывается об истинной причине. Но отчего-то молчит.
Заманский очутился на улице Пирогова. Спроси, почему ноги понесли именно в эту сторону, он бы не ответил. Просто шел на автопилоте. Но, видно, автопилот, который у людей называется интуицией, способен подменять отключившийся разум, — через пару сотен метров Заманский обнаружил себя перед знакомой вывеской «Антиквариат».
На высоком крыльце перед распахнутой дверью в магазин скучающе налег на перила многолетний компаньон Зиновия Плескача рыжеволосый Петюня Порехин. Сорокапятилетний Петюня, кажется, не изменился. В неизменной клетчатой фланельке, с округлыми, налитыми румянцем щеками он всё еще выглядел на бойкие тридцать пять.
Петюня, в свою очередь, всмотрелся, оторвался от перил и с видом совершенного радушия раскинул руки навстречу нежданному гостю.
— Виктор Григорьевич! Смотрю и млею. Вы ли?
Заманскому почудилось, что всё повторится как много раз прежде. Он обменяется приветствиями с Петюней, войдет в прохладный магазинчик, из подсобки выскочит Зиновий. Они включат кофеварку, и Зиновий, в котором причудливо уживались мудрость и наивность, напустится на друга с очередной завиральной концепцией преобразования российской экономики.
— На могилку Осича, поди, приехали? — догадался Петюня.
Заманский кивнул.
— Был, как же. Знатные похороны, — Петюня с чувством причмокнул. — Это любой себе пожелает. Такие похороны — помереть не жаль. Шутка ли — вице-губернатор почтил. И даже чего-то прочувственное выступил. Не, у Осича, как ни поверни, жизнь удалась. И распорядился ею, как захотел. Захотел свести счеты, свел влегкую. Конечно, лучше бы попозже. Но тут уж кому как подопрет. Не бывает, чтоб сплошная лафа.
Из магазина вышла аккуратная старушка с потертой хозяйственной сумкой, в которую она на ходу укладывала что-то, завернутое в тряпицу.
— Не надумала? — неприветливо произнес Петюня — в своей манере тыкать всякому, кого не почитал за начальство или за нужного человека.
— Подожду, пожалуй, — старушка виновато улыбнулась. — Всё-таки — мужнина память.
— Ну и дура! После спохватишься, но такой цены уж не дам. Тут подметки рвать надо, а она старье жалеет.
— Подожду всё-таки, — старушка поспешно, будто боясь поддаться соблазну, спустилась с крыльца и завернула за угол.
— Шляется мелюзга. Только работать отвлекают, — не регулируя тембр, резанул Петюня. — Зайдите, Виктор Григорьевич. Посидите, как бывало, в подсобочке. Раньше всё нас о следственных делах просвещали. А сейчас, может, про израильское житье-бытьё расскажете. Камилавку-то ещё не купили? — Петюня сочно хохотнул.
Заманский зашел в магазин и, пораженный, остановился. Из подсобки на звук шагов высунулся рыжий и конопатый Петюня. Тот же самый, только еще помолодевший. Заманский даже оглянулся через плечо.
— Савка! Сын, — представил Петюня.
Савка изобразил подобие улыбки, зыркнул по пустому салону. Оборотился к отцу:
— Чего? Отпустил?!
— Куда она денется? Пенсия кончится и — как миленькая… Пусть еще чуток подумает.
— А если денется?! И чего там думать? Уйдут часы. «Буре», между прочим. Ну? Батянь, разреши. Догоню — ошкурю!
— Ладно, валяй, — стесняясь Заманского, разрешил отец. — Только чтоб без экстремизма!
Последнее предупреждение кануло в пустоту. Нетерпеливый Савка уже перемахнул через прилавок, следом — через перила. И — был таков.
— Молодая поросль. На ходу подметки рвут, — сконфуженно прокомментировал Порехин-старший.
Заманский сдержал улыбку, — именно так говаривал Зиновий Плескач о самом Петюне.
Удивительный это был симбиоз. Хамоватый Петюня Порехин, по виду, — прораб со стройплощадки, и ироничный, вдумчивый интеллектуал Зиновий Плескач. С момента открытия магазина странному союзу предрекали быстрый разрыв. Но проходили годы, а магазинчик «Антиквариат» всё так же распахивал по утрам свои двери. На крыльце неизменно шебуршил нетерпеливый Петюня — паук, радушно приглашающий мошек заглянуть в паутинку.
А в глубине с чашечкой кофе и тонким разговором отборную клиентуру встречал Зиновий Плескач.
— А чего? Я об Осиче и сейчас жалею, — разгадал мысли Заманского Петюня.
— По правде, всегда удивлялся, как вы столько лет вместе продержались.
— В смысле лаковая туфля да валенок? — Петюня необидчиво хохотнул. — Это меня так ловко валенком Циридис определил… Грек. Вице-президент Ассоциации антикваров, — пояснил он. — Да многие меня за прилипалу держали. А на самом деле мы классной командой были. Он по интеллигенции да по начальству специализировался. А я шелупонь подгребал. Локомотивом, понятно, Осич пер. Но и я со временем обуркался. Главное, чтоб обид не было, каждый свою роль понимать должен. А я понимал, что по сравнению с ним, — чмо болотное. Потому у нас и консенсус установился.
Осич, он любые объемы поднимал. Смотришь, приходит клиент с таким закидоном, что ни один из нас слыхом не слыхивал. Я, конечно, сразу в отказ. Мол, здесь тебе, дядя, не проханже. Гуляй по другому адресу. А Осич, у того чутье на завлекалово. Туда-сюда, баранки к чаю. Что думаете о падении Доу Джонса? А новый фаюмский портрет в Пушкинском музее успели повидать? Клиент аж медом истекает. А по вашему вопросу, кстати, телефончик или и-мэйл оставьте. Я, мол, пока пробью. Через неделю гляжу: Осич с ним лопочет так, будто всю жизнь из этой темы не вылезал. Отсюда и уровень. Аж из Москвы к нему барахлишко на оценку привозили. И оценка эта заместо экспертизы шла, — Плескач сказал! Это, я вам скажу, особое клеймо.
— Вы ж сразу после Лидиной смерти разбежались? — припомнил Заманский.
— И это хреново. У него фишка появилась — чтоб сына в дело подтянуть. Под это он и салон в «ИнтерСити» откупил. И со мной из-за этого по бизнесу разошелся. Чтоб Лёвку, значит, взамен. А какой из Лёвки антиквар? Наше дело зубастое. А из него за версту ботаник прет. Я-то Осича отговаривал. Да и — чего врать? — страшно было. За ним-то куда как надежно.
Еще б не надежно. Порехин всё норовил словчить, из-за чего возникали конфликты то с налоговиками, то с экономической безопасностью. Нашкодив, Петюня прятался, а разруливать ситуацию предоставлял партнеру. Не раз приходилось выручать друга и Заманскому. Впрочем, когда жизнь заставила, Петюня и сам научился находить «коны» во власть. По информации Заманского, даже сошелся с начальником следственного комитета Куличенком. Якобы на почве увлечения нумизматикой. Хотя, сколько помнил Заманский, из всех денежных знаков Куличенок предпочитал те, что печатал Центробанк.
— После Лидиной смерти часто виделись? — спросил Заманский.
— А то. Приходил, сидел. Садился в «лапу», — кресло у нас стояло разлапистое, восемнадцатого века. Всё никак не продавалось. После в салон свой перетащил. Вот в нем и сидел. Совсем переменился, — обмякнет и часами молчит. Распугивал клиентов унылым видом. Но — не гнать же. Тоже с понятием. Да и разошлись по-честному.
— Полностью?
— Ну, не сразу, — Петюня замялся. — Что-то на реализации, по запасникам. Не кусок баранины — пополам не разрубишь. Но потихоньку рассчитывались. Проблем не возникало. Да и Осич, надо признать, не шкурничал. А уж как жену похоронил, будто по фигу метель стало.
Заманский отвел глаза, чтоб не выдать плещущегося в глазах вопроса: сколько на этом разделе ухватил лишнего оборотистый Петюня.
— Да не больно наварил, — всё-таки при внешней простоватости Петюня был тонким психологом. Без этого не стал бы успешным антикваром. — Кстати, после-то, как сына из Москвы заманул, Осич вроде как оправился. Даже коллекции подбирать начал. Я ж ему и спички эти треклятые под заказ уступил.
— Как спички?! — ахнул Заманский.
— Так мои же. В Алексине у одной старухи отшкурил. Да и отшкурил-то так, на всякий случай. По иконам крутился. Руку за образа. И вдруг — нате! Гляжу — длиннющие, головка — как набалдашник. А картинка на коробке — мама дорогая! Может, сто лет там пролежали. Прихватил! Всё искал, куда сплавить. И тут Осич, — мол, уступи: появился клиент в эту тему. Поломался для виду. Но не чужие. Если в этом навстречу не идти… Правда, и он, не скупясь, взамен пару своих фирменных самоваров выставил. Так что в накладе не остался.
— Может, догадываешься, кто клиент? — Заманский заволновался. — Мало ли? В разговоре упомянул?
— Чего клиент? — не сразу понял Петюня. — Да какое там! Сам он клиентом и оказался. Это я уж после по факту въехал, что под себя брал. Вместо самострела. А о клиенте наверняка для отвода глаз запустил. Хотя и настоящий заказчик появился. Осич пару раз вскользь проговорился.
— Кто?!
Петюня осклабился.
— Кто ж скажет? Тут у каждого свои концы. И ты и от других прячешь. Ну, у Осича, понятно, клиентура не чета моей была. Если только Циридис подскажет — может, последний заказ Осич как раз с его подачи получил? Они ж меж собой вась-вась были.
Говоря, Петюня достал из ящика пачку визиток, шустро, будто карточную колоду, перетасовал. Отобрал нужную, с золотым тиснением, передал Заманскому.
— От Осича осталось. На обороте личный мобильник Циридиса, — для самых близких. Хотя вряд ли захочет влезать, — Петюня раздумчиво причмокнул. — Если и знает что, смолчит. Больно мудёр.
— Сам же говоришь — «вась-вась».
— Живого подпирал. А самоубийство, да еще хрен знает почему, — спокойней в сторонке отмолчаться.
— Стало быть, тоже не веришь, что из-за жены помереть надумал?
— Полагаю, всё-таки из-за сына, — предположил Петюня с важностью. — Уж очень мечтал Лёвушке своему дело передать. Да, видно, дошло наконец, что тот по другой теме. Вот и захандрил заново.
Из-за угла вынырнул Савка с тряпицей подмышкой.
— А ты говорил! Еще на десяток баксов уронил, — торжествующе уел он отца и скрылся с добычей в подсобке.
Заманский протянул руку для прощания.
— Кстати, — Петюня придержал его ладонь. — Я тут до вашего приезда у Лёвки нэцке прикупил. Давно на них любовался, да Осич не отдавал. Так вот передайте Лёвке: если и дальше отцовскую коллекцию распродавать надумает, я бы поучаствовал.
7.
Ужинали втроем в коттедже.
Аська вполне освоилась на новом месте и вовсю насмешничала над кротким хозяином. Заманский поразился, как многого достигла юная обольстительница за столь короткое время.
Лёвушка, при встрече в аэропорту безысходно мрачный, оттаял, млел под градом подначек и охотно улыбался остротам, на вкус Заманского, не слишком удачным. Увлеченный гостьей, Лёвушка не сразу расслышал, о чем спрашивает Заманский. А спрашивал тот, не собирал ли отец перед смертью коллекцию под заказ.
Лёвушка с усилием припомнил, что в последний месяц отец и впрямь несколько раз обмолвился о каком-то крупном заказе. Но подробностей в голове не отложилось.
Заманский положил перед ним опись антиквариата, рядом ручку.
— Отметь предметы, что добавились за последнее время, — потребовал он.
Лёвушка неуверенно поставил пару галочек. Но из кухоньки донесся голос напевающей Аськи, притягивавший его, как пение сирен — Одиссея. С виноватой гримасой он отодвинул список.
— Да не очень помню я, дядя Вить! Были и были.
— Ну, а заказчиков хотя бы можешь вспомнить? — настаивал Заманский. — С кем-то отец тебя знакомил.
— Хотел, да. Но как-то всё не доходило.
Он исподволь скосился в сторону кухни. О чем можно говорить с юнцом, в глазах которого плещется Эрос?
Заманский отпустил страдальца. Прошел в кабинет Зиновия, повертел полученную от Порехина визитку Циридиса, набрал телефон для своих. Долго играла мелодия «Сиртаки», — видно, номера, с которых могут звонить, были наперечет. И теперь владелец, глядя на дисплей, соображал, от кого может исходить непонятный звонок.
Наконец установилось соединение. И — выжидательное молчание. Следовало поторопиться.
— Прошу прощения за поздний звонок, господин Циридис. Моя фамилия — Заманский — вряд ли вам что-то скажет…
— Нэ скажет! — подтвердил настороженный мужской голос с теплым гортанным акцентом.
— Я — друг Зиновия Плескача. Мобильный этот, написанный от руки, как раз считал с его визитки.
— Да! Огромная жалость, — скорбно произнес Циридис. — Плескач в нашем деле — фигура серьезная. А уж среди самоварщиков — из первых. Венок от Ассоциации направили.
— Бог с ней, с Ассоциацией. Мне важно, что вы лично были дружны с Зиновием, — Заманский постарался сбить опасливого собеседника с официально-отстраненного тона. Упреждая вопрос, пояснил. — Узнал об этом от его бывшего компаньона. От него же, — что вы помогали Зиновию с клиентурой.
— Порехину-то почем знать? — раздраженно отреагировал Циридис. — Этому пустобреху крепко повезло, что Плескачу на хвост сел. Тот его на приличные деньги вытащил. И вообще — не понимаю цель разговора.
— Я, видите ли, в прошлой жизни следователь. Пытаюсь для себя уяснить…
— Самоубийство вызывает сомнения? — Циридис насторожился.
— Не само по себе. Его причина. Уверен, что подтолкнуть Зиновия к тому, чтоб отравиться, могло что-то чрезвычайное. Возможно, связанное с работой. Но сам я от вашего антикварного мира далек и без опытного лоцмана запутаюсь. Готов подъехать, куда скажете.
На той стороне установилось выжидательное молчание.
— Не представляю, чем смогу помочь. — Порехин оказался прав: опасливый грек попытался увильнуть от разговора. — К тому же у меня очень плотный график.
— У вас график, у меня, — с негодованием перебил Заманский. — Потому что живые. А вот Зиновию спешить больше некуда. Отстрадался.
— Отстрадался, — согласился Циридис с новой, заинтересованной интонацией. — Так о чем хотите говорить?
— О дружбе, — брякнул Заманский. — О той, что после смерти сохраняется.
Циридис хмыкнул.
— Завтра улетаю в Лондон на Сотсби. Но с девяти до одиннадцати буду в офисе. Если успеваете, предупрежу секретаршу.
— До встречи, — не дал ему передумать Заманский.
В девять утра, бросив машину у метро на окраине Москвы, Заманский добрался до Пушкинской.
— Вы — из Тулы? — уточнила пожилая секретарша и, игнорируя прочих дожидающихся приема, приоткрыла перед ним дверь.
Навстречу Заманскому поднялся облысевший пятидесятилетний грек с лохматыми нависающими кустами бровей. По застывшей маске доброжелательности на мясистом горбоносом лице было заметно: хозяин кабинета уже сожалеет о том, что согласился на встречу. Потому Заманский с места в карьер приступил к главному.
— Оказывается, фосфорные спички Плескачу уступил как раз Порехин, — объявил он. — Тот ему сказал, будто собирает коллекцию под заказ. Правда, сам Порехин уверен, что насчет коллекции Зиновий придумал для отвода глаз. Но и в разговоре с сыном Зиновий упоминал о каком-то крупном заказе.
— Это что-то меняет? — бровяные кусты Циридиса сдвинулись в сплошной кустарник, выдав раздражение. — Или — само убийство всё-таки под сомнением?
Взгляд его выжидающе сверкнул.
— Да самоубийство, конечно, — неохотно признал Заманский. — Отравление белым фосфором без признаков насилия. Тут и обсуждать нечего. Но остается вопрос вопросов: почему? Одно дело человек заблаговременно готовится к уходу в мир иной. Совсем другое — если решение импульсивное. Разные мотивы. Я, правда, последний раз общался с Зиновием два месяца назад. Но даже тогда показалось, что он оживает. Видите, на заказ подрядился. И вдруг в одночасье всё порушил. Сын у него после смерти жены и вовсе свет в окошке был. Так даже записки не оставил.
Циридис как бы ненароком скользнул взглядом по напольным, в золоченом корпусе, часам.
— Положим, я и сам не верю в самоубийство из-за жены, — признался он. — Но раз Зиновий не оставил записки, значит, хотел, чтоб другие так думали. И не друзьям в этом ковыряться. — Он протянул руку для прощального рукопожатия.
Но не для того Заманский отмахал под двести километров, чтоб покорно убраться восвояси. Он придержал руку, пригнулся голова к голове.
— Пойми ты! Мы с Зиновием дружбаны с детства, — произнес он проникновенно. — Это ж всегда был жизнелюбивый сибарит. Всё прикидываю, как он сидит один в своем салоне, как пьет виски. Со спичками вприкусочку. И — не сходится! Только если решение внезапное. Но тогда к этому кто-то подтолкнул. Потому и важно разобраться, покупались ли спички для коллекции, а в порыве использовались как способ самоубийства, или изначально — чтоб свести счеты с жизнью.
— Нэ вижу разницы, — буркнул Циридис.
— Разница пресущественная. Чтоб человека на тот свет отправить, не обязательно пистолет к виску приставлять. Можно каким-то страшным известием оглоушить. Может, сидит где-то сейчас, стервец, да посмеивается своей ловкости. Неужто спустим?
Конечно, действуя в лоб, Заманский рисковал. Ведь сам Циридис мог оказаться той самой тайной причиной гибели Зиновия.
— Чем я-то могу?.. — Циридис с усилием высвободил ладонь.
— Не выходит из головы этот заказ. Лёвушка отцовских клиентов, кроме «самоварников», не знает. А вы в центре этого мира. Всё про всех знаете. Вас уважают, считаются.
Циридис остался бесстрастным. Но какой южанин равнодушен к лести? Щеки его заалели.
— Опись при вас? — он протянул руку, в которую Заманский вложил ксерокопию акта.
Они уселись в кресла у журнального столика.
Циридис, придавив двумя пальцами список, неспешно двинулся вниз по тексту. Затем раскрепил листы, разложил перед собой. Подключились другие пальцы на обеих руках, и он уже принялся перебирать ими, перебегая с листа на листок, будто наигрывающий гамму пианист. Темп всё ускорялся. И по тому, как бегло перемещались пальцы с букинистических книг на бронзу, с картин на фарфор, с монет на иконы, с часов на царские ордена, Заманский увидел, что, во-первых, с салоном Плескача хозяин прекрасно знаком; во-вторых, перепрыгивая вроде бессистемно от одной номенклатуры к другой, нацеленно ищет подтверждение какой-то своей догадке.
Не долистав до конца, Циридис принялся озабоченно выбивать чечетку подушечками пальцев. Брови сдвинулись, лицо побагровело. Хитроумный грек нашел разгадку, — понял Заманский, — и разгадка эта его напугала. Теперь было важно, захочет ли ею поделиться.
— Что-то неприятное?
Циридис задумчиво кивнул. Медленно пожевал сочными губами.
— Если я прав, коллекцию Плескачу поручили собрать очень дорогую и очень… специфическую. Подобные коллекционеры — тоже надо понимать — люди закрытые.
Заманский недоуменно вскинул подбородок.
— Высокопоставленные из новых, — в голосе Циридиса, дотоле благодушном, пробурилось внезапное ожесточение. — Халявные деньги обрушились как лавина. У людей головы посносило. Не знают, куда распихать, чтоб подороже. Многие в антиквариат вкладываются. Но так, чтоб об этом никто не знал. Порядок цен в десятках миллионов. А это, попади в руки недруга, — существенный компромат. Они ж там меж собой, как в серпентарии. Захочет ли такой человек выйти из тени? А контакт — это всегда опасность… Так что неудачный вопрос дорого стоит. Бывает, и жизни.
— Я не боюсь! — заверил Заманский.
Циридис поморщился:
— С вас-то что за спрос? В ответе кто свел.
Страх его навел Заманского на новую мысль.
— Полагаете, что-то могло не заладиться с заказом, и Зиновий из-за этого?..
— Нэ утверждаю. Но если что-то пошло не так? Или о заказе кто-то ненужный пронюхал и надо спрятать концы?
— Вы прямо как о братках, — недоверчиво хмыкнул Заманский.
— С братками как раз проще, — холодно объяснился Циридис. — А здесь, если что втемяшится: задолжал — отвечай всем имуществом и всем коленом. Может, Зиновий таким путем сына из-под удара выводил?
Заманского перетряхнуло.
— Это я так — с перебором, — оборвал себя Циридис. — Но прощупать попробую. В память Зиновия. Конечно, такие вещи быстро не делаются. Не меньше недели для согласования потребуется. Это еще, если сумею до Лондона связаться. Так что… номерок оставьте.
На границе Тульской области Заманского догнал звонок.
— Виктор Григорьевич! — послышался женский голос. — Господин Циридис просит вас срочно подъехать. Он перенес вылет и будет ждать вас в офисе до семнадцати часов.
Еще не разъединившись, Заманский пересек сплошную полосу и, развернувшись на Москву, резко нажал на акселератор. Времени, чтоб успеть, оставалось всего ничего.
Он опоздал на полчаса, но Циридис дождался. Знакомым жестом пригласил за тот же столик, на сей раз накрытый. На стекле стояли ваза с фруктами и бутылка армянского коньяка.
Циридис неверной рукой разлил по рюмочкам. Выпил мелкими глоточками, как делают малопьющие люди в состоянии возбуждения. Выказывая расположение, самолично положил на блюдо Заманского кисть пунцового винограда.
— Разговор состоялся, — объявил он, пытаясь за рублеными фразами скрыть волнение. — От контакта с вами человек отказался. Но в остальном — встреча поразительная. Заказ, как и думал, серьезный, денежный. Спички — часть общей тематической коллекции… Не в том суть, — перебил он себя. — За неделю до смерти Зиновий подъезжал к нему на виллу отчитаться о том, что успел сделать. Так вот клиента встреча очень насторожила.
Заманский понятливо закивал.
— Как раз наоборот! — воскликнул Циридис. Губы его, полные и сочные, как раскрытая устрица, подрагивали. — Во-первых, Плескач предъявил спички и предложил их забрать! Понимаете? Он не держался за них! Это клиент отказался. Заявил, что примет всё целиком. А главное, выглядел Зиновий оживленным и! — Циридис торжественно поднял толстый, в массивном перстне, палец, — праздничным. Восторженно рассказывал о загранпоездке по Италии. Бурлил планами. Стихи читал.
Заманский вытаращился.
— Свои! — добил его Циридис. — Вы слышали, чтоб мудрый Зиновий читал стихи? Может, прежде писал?
Заманский лишь мотнул короткой шеей, — об одном ли и том же человеке они говорили?
— Читал! А потом и вовсе проговорился, что в поездке влюбился в гидшу. Не другу! Просто деловому клиенту. То есть его распирало! Представляете? Сидит высокопоставленный чиновник, у которого день поминутно расписан, и выслушивает восторги пятидесятилетнего сбрендившего антиквара. Даже, говорит, закралось подозрение, не подсел ли тот на наркотики или транквилизаторы. Потому и на встречу со мной согласился, не откладывая. Он ведь даже не знал о смерти Плескача. Но что точно: менее всего Зиновий был похож на человека, надумавшего свести счеты с опостылевшей жизнью.
— Что это значит?
— Вот и мне интересно. Похоже, вы были правы, и что-то переменилось совершенно внезапно, — Циридис поднялся. — Во всяком случае, главное — заказчик к смерти Зиновия отношения не имеет! — повторил он с нескрываемым облегчением. — Так что — ищите в другом месте. Нагадаете что, поделитесь.
Заманский выхватил листочек, наскоро написал: «шевроле», ниже номер, что запомнил на Смоленском кладбище; в нетерпении протянул хозяину кабинета:
— Пробей!.. Установить владельца можешь? А скорее, — владелицы.
Циридис потянулся к телефону.
Через десять минут в лифте, спеленутый набившимися людьми, Заманский в нетерпении теребил в кармане адрес владельца автомашины. Та оказалась зарегистрирована на ОАО «Мегаполис экспресс».
8.
Туристическая компания «Мегаполис экспресс» располагалась на первом этаже высотного здания на Якиманке.
Заманского проводили в отдел, занимающийся континентальной Европой. В кабинете на пять столов клиентов не было. Но было шумно. Демонстрировались обновки. Кудрявая девчушка, водрузив ногу на стул, критически разглядывала ажурные колготки.
На скрип двери все обернулись. Девчушка поспешно одернула юбочку. Правда, по наблюдению Заманского, юбчонка от этого длинней не стала.
— Девочки! Помогите, красавицы, — когда нужно, Заманский умел растечься обаянием. — Мне нужно увидеть гида, что в прошлом месяце возила группу по маршруту Рим — Венеция.
Едва договорив, он разглядел ту, которую встретил на Смоленском кладбище. Среди молоденьких сослуживиц, скорее раздетых, чем одетых, она выделялась ладным на ней клетчатым костюмом.
Женщина тоже узнала его.
— Пойдемте в комнату переговоров, — поспешно, под любопытствующими взглядами, она вывела Заманского в коридор, провела в остекленное помещеньице с круглым столом, заваленным рекламными проспектами.
— Вы, видимо, друг, что из Израиля? Мне Зиновий вас именно таким описал.
— Что ж тогда на кладбище не признали?
— Не хотелось ни с кем общаться! Заговори вы со мной, верите, убежала бы.
Заманский поверил: и сейчас она говорила каким — то затертым, лишенным интонаций голосом, как говорят безмерно утомленные люди. Просто отсюда бежать некуда.
— Судя по встрече на кладбище, мы оба опоздали на похороны, — посетовал Заманский.
— Почти так. Десятого пыталась дозвониться Зиновию. Потом набрала сына, Лёву. От него и узнала. Может, и успела бы. Но Лёва просил не приезжать. Настоятельно просил.
Заманский не скрыл удивления.
Она присмотрелась к собеседнику.
— Зиновий вам вообще что-нибудь обо мне рассказывал? — произнесла она с внезапной догадкой.
Увидела, что нет. Хмыкнула озадаченно.
— Тогда представляюсь. Зовут меня Елена.
— Елена Прекрасная. Овладевшая сердцем…
— Елена, приносящая несчастье! — раздраженно оборвала она витиеватый комплимент. Извиняясь за резкий тон, примирительно приподняла руку. Сдвинула к центру стола кипу буклетов, освободив место для пепельницы. — А я ведь еще на кладбище поняла, что вы меня найдете. Зиновий говорил, вы — в прошлом следователь.
— Да, — подтвердил Заманский. — Но почему я должен был обязательно вас разыскивать?
— Да потому что, если б не я, Зиновий был бы жив!
Похоже, физиономия Заманского вытянулась. Елена горько усмехнулась.
— Поразительно, — произнесла она. — И то, что случилось. И то, что всё это уместилось в какие-то три недели.
Она закурила, прикрыла припухлые веки.
В тот раз Елена повезла очередную группу по Италии. В сущности это была последняя поездка. Всё больше времени отнимал фонд борьбы с детской онкологией, с которым после смерти ребенка активно сотрудничала.
Программа стандартная: Рим — Флоренция — Венеция. Забитый до отказа туристический автобус. На одном из задних кресел оказались Плескачи: отец с сыном. Поначалу больше внимания привлекал сын: длинный, несуразный, мягко улыбчивый, — такой ребенок-переросток. Старший же, напротив, производил впечатление тягостное. Сидел, ссутулившись. Погруженный в себя. Будто между ним и действительностью установилась пленка, через которую с трудом пробивались голоса.
Во время вводной экскурсии вдруг раздраженно пошутил. Потом еще раз перебил гида. Так что сыну пришлось успокаивать. Елена еще подумала, что с этим ершистым дедком натерпится. Узнав, что он владелец антикварного магазина, даже окрестила про себя менялой.
— Знала бы я, насколько и как именно натерплюсь от этого менялы, — хмыкнула она.
Разместились в Риме, в дорожном отеле. Поздно вечером Елена спустилась в ресторанчик. Рассчитывала, что измотанные туристы к этому времени завалятся спать и можно будет перекусить в одиночестве. Она почти угадала, — один всё-таки не спал. У барной стойки сидел старший Плескач и угрюмо крутил на просвет бокал с плещущимся на дне коньяком. Хотела уйти, но передумала. Если назревает конфликт, лучше попытаться погасить его в зародыше. К тому же Плескач был трезв. Потому решилась подсесть.
Он махнул бармену принести еще коньяку.
— Только плачу сама, — предупредила Елена.
— Эва, как напугал, — Плескач мягко улыбнулся, сделавшись похожим на своего сына. — Не надо мне было ехать. Лёвушка настоял. Да и друзья достали. Поезжай, мол. Заграница лечит. Поразительно: все всё за других знают. Послушался — поехал. Теперь вам ни за что ни про что досталось. Вы не обижайтесь на меня за сегодняшнее. Небось, всяких чудиков повидали. Так уж перетерпите. Хотя гид вы на самом деле замечательный.
— Вы хоть что-то слышали? — не поверила Елена.
Он кивнул:
— Да. В конце стал слушать. И даже увлекся. Вы, правда, умница. А насчет меня, — обещаю впредь не допекать. В крайнем случае, если уж вовсе станет невмоготу, сяду на самолет да улечу в свою берлогу. Лады?
В сущности, разговор можно было закончить, — Елена поняла, что с этой стороны неприятностей больше не будет. Но — он поднял глаза. Такие больнющие! И она не удержалась — спросила:
— Что у вас случилось?
Елена прервала рассказ, загасила сигарету, тут же закурила следующую. В упор глянула на Заманского:
— У вас бывали чирьи?
— Что? — оторопел тот.
— Чирьи. Перезревшие. Набухшие. С головкой. Зудят непрестанно. Вдруг нажал — и брызнул гной.
— У Зиновия так и было? — догадался Заманский.
— Именно такая ассоциация мне и пришла в голову, когда он начал говорить. Не говорить — выплескиваться. Будто трубу под давлением прорвало.
Говорил о покойной жене. Какие-то мелочи, которые только для двоих, да и попробуй еще вспомнить. А тут всё подпирало и требовало выхода. И о своей вине перед покойной. Вообще-то обычный разговор мужиков, что на старой беде пытаются закадрить новую пассию. Но здесь всё было с такой натуральной экспрессией, болью. Потом так и оказалось, — год в себе копил. К тому же мне всё это было близко. Я ведь за пять лет до того малыша потеряла. Вот под минуту — утешить, что ли, захотелось или в свою очередь выплеснуться? — рассказала. Даже не заметила, что говорю уже я, а он как-то затих и неотрывно смотрит.
Спохватилась:
— Что-то не так?
— Какая вы, оказывается, — выдохнул он.
Разошлись в два ночи.
На следующее утро, когда Елена зашла в автобус, семейство Плескачей сидело на ближайшем к гиду сидении (потом узнала, что семейной паре, с которой поменялся местами, Плескач — старший компенсировал стоимость поездки). И Зиновий так открыто, заговорщически улыбается, что все туристы вокруг нехорошо переглянулись. Дальше — хуже. На глазах у всех принялся ухаживать за гидом, как ухаживают за своей девушкой.
Если при выходе из автобуса моросил дождь, бросался открыть над гидом зонтик. Во время обедов норовил подхватить поднос, сесть поближе. На экскурсиях не отходил ни на шаг. Поразительно, но пятидесятилетний мужчина повел себя как старшеклассник в состоянии первой влюбленности. По ночам писал восторженные стихи, а утром спешил подсунуть их под дверь номера возлюбленной.
Он был настолько распахнут в своей влюбленности, что остаться незамеченным такое не могло. В группе его прозвали Крейзи Антиквар. Но больше всего преображение Плескача потрясло его сына. Воспитанный в почтении к родителям, он не решался бросить отцу публичный упрек. Но от этого страдал еще сильнее. Во время поездки сидел, отвернувшись к окну, всем своим видом выказывая неодобрение происшедшей в отце перемене. Изредка, когда оживление отца зашкаливало, бросал недобрые взгляды на Елену, кажется, совершенно уверенный, что меж гидом и его отцом установилась интимная близость. Хотя вся близость стихами и ограничивалась.
Во Флоренции у Елены заболело горло. Зиновий вызвался подменить ее на экскурсии. И рассказывал так увлеченно, с таким знанием деталей, что не только туристы, — сама Елена боялась пропустить малейшее слово. Какой там антиквар-меняла? Искусствовед высочайшего уровня!
Так что, поначалу измотанная назойливым ухаживанием, к концу поездки Елена сама ощутила признаки влюбленности. Должно быть, поэтому в аэропорту на просьбу Зиновия о встрече отделалась обещанием как-нибудь увидеться.
Срок «как-нибудь» для влюбленного Плескача оказался вполне конкретным. Уже на следующее утро он появился в офисе компании, попросил ее спуститься вниз. У подъезда стоял новенький кроссовер.
«Твоя!» — объявил с торжеством. Принялся совать ключи, документы. Увидев прикушенную губу ее, начал уверять, что от чистого сердца, безвозмездно. Что ничего за это не требует. Просто его подарок чудесному гиду.
— Какое же разочарование меня охватило! — Елена покачала головой. — За эти итальянские дни и впрямь уверилась, что в меня влюбился необыкновенный человек. А получилось, что сам он купчишка-меняла, и я для него та же проститутка. Только цена дороже. В общем, выплеснулась от души. Сказала, что у нас в фонде десяток больных лейкемией детей в очереди на операцию. Их мамы молятся на какого-нибудь доброго дядю, что расщедрится и спасет их дитятко. А в это время безумные антиквары, которым некуда девать деньги, мечут их в дорогие машины, чтоб бабу в койку затащить… И тут глаза у него радостно расширились, будто внезапно решилась недающаяся задачка. «Сколько нужно?! — закричал он. — Миллиона долларов для начала хватит?»
— Верите, у меня испарина по лбу пошла. Ведь не шутит. «Пару недель можно подождать?» — «Господи! Годами ждем». — «Тогда я побежал, чтоб не терять времени! Машину-то заберите. Хотя бы для вашего фонда». Я отказалась. Уехал, огорченный. Признаться, не знала, что думать. Больно крутые перепады. Через два дня позвонил, встретились в ресторане. Сказал, что запустил процесс. И в течение двух недель деньги будут непременно. И всё в деталях, заинтересованно. «Но я вам лично ничем не обязана», — подстраховалась я на всякий случай.
Ответил он, по-моему, пронзительно:
— Поймите, со смертью жены я перестал понимать, для чего жить. И тут встреча с вами. Должно быть, душа за этот года истосковалась, и — всё совпало, так что влюбился я в вас и впрямь неистово. И, если смогу, добьюсь. Но деньги на больных детей — это совсем другое. Это как начать жить заново. Потому что всему, что делаешь, — иная цена.
За эти дни мы встречались еще трижды. Он очень красиво ухаживал. Стихи, само собой. Много своих. Слабенькие, на мой, да на любой, вкус. Но по содержанию такие необычные образы, мысли удивительные. Что-то вроде философских эссе. А главное, я поняла, что никакой это не псих. Просто ранимый, беззащитный человек, которого несчастье сбросило с наезженной колеи и лишило прежних стимулов. А после нашей встречи вновь возникла тяга к жизни. И всё то, что обычно прячется внутри, устремилось наружу. Уверял, что я обязательно полюблю его, что его страсти нельзя не ответить, и будем счастливы. Я и сама стала подумывать, что, быть может, и впрямь появился мужчина, с которым смогу что-то выстроить. Знаете хорошо известное: женщина любит ушами. Так и есть. На третий день — а я знала, что, проводив меня, мчится по ночной трассе в свою Тулу, чтоб следующим вечером вернуться, — оставила его у себя. И двое суток были наши! Мне показалось, что во мне зарождается то, о чем уж не мечтала: новая судьба.
Она уныло выдохнула.
— А затем этот треклятый телефонный звонок! Он заговорил виновато, сбивчиво, что с деньгами затягивают, но он всё порешает. Должно быть, вот это новоязовое «порешаю» и вывело меня из себя. Решила, что все обещания были враньем, чтоб затащить очередную дуру в койку. Что и удалось. Да еще, доверившись, я запустила на одну из пациенток больничный процесс, и девочку уже в Москву привезли. В общем, в сердцах брякнула что-то о пустобрехах, бросила трубку. На следующий день опомнилась, позвонила. Но — телефон не отвечал. А потом вместо отца ответил Лёвушка. От него и узнала, что Зиновий отравился.
В горле у нее клокотнуло. Заманский потянулся к минералке на подоконнике, но Елена жестом остановила.
— Как же я не подумала, насколько в нем все шлюзы открыты! Что он без кожи живет. Едва-едва нарастать начала.
— Значит, полагаете, из-за вас? — уточнил Заманский.
Горькая усмешка Елены была ему ответом.
— Может, и ситуация с сыном усугубила, — предположила она. — Зиновий как-то пригласил в ресторан. Я пришла, а он с Лёвой. Он-то хотел нас сблизить. А получилось, — хуже некуда. Тот тоже не ожидал, — лицо перекосило.
— Как думаете, Лев знал о деньгах, что обещал вам отец?
— Наверняка, — она повела округлым плечом. — Зиновий всегда с гордостью упоминал его как своего компаньона и наследника, из которого вырастит настоящего антиквара. Полагаю, у них не было денежных тайн. К тому же за столом он напрямую заговорил, что собирает деньги для фонда.
— И как отреагировал сын?
— Смолчал. Но так, что лучше б высказался. Прошелся по мне взглядом, будто наждаком. Не думала, что домашний ребенок, каким он мне казался, так умеет. Да и в фонд он, как я поняла, ни в какой не поверил. Если б не для детишек, сама б отказалась.
— После смерти Зиновия не пытались сыну об этих деньгах напомнить?
— С чего бы? — Елена удивилась. — Во-первых, это была воля Зиновия, а не сына. Если б посчитал нужным, завещал бы исполнить.
Заманский согласно кивнул, — и сам об этом подумал.
Елена поднялась, подняв тем и собеседника. Собралась выйти, но не смогла, слишком клокотало внутри.
— Как же так бывает! — простонала она. — Пять лет не живешь — пребываешь в безысходности. Вдруг — вспышка, озарение, провидение новой жизни. И тут же опять исчезает. А ты остаешься в своей унылости. Потому что к тебе с распахнутым сердцем и содранной кожей… А ты, почитающая себя за утонченную натуру, на поверку оказалась дура из дур.
В горле ее заклокотало. С усилием перевела дыхание. Приостановилась в дверях.
— Может, помните у Гёте знаменитое? Что было сначала — «слово» или «дело»? Так вот, слово и есть дело. Страшное по своим последствиям… Теперь с этим жить! Знаете, как Зиновий о себе острил? Дожитие мое! Вот и я отныне в дожитии.
Спохватившись, вытащила из сумочки визитку, положила на край стола. Коротко кивнув, вышла.
9.
К коттеджу Плескачей Заманский подъехал к двум ночи.
Дом был темен. Лишь в холле верхнего, гостевого этажа угадывался приглушенный свет.
Зиновий был хорошим хозяином, — даже половицы под ногами не заскрипели. Потому на гостевой этаж Заманский поднялся незамеченным и неуслышанным.
Ася и Лёвушка, забравшись с ногами в одно кресло и тесно прижавшись друг к другу, склонились над планшетником. На журнальном столике стояла початая бутылка «Киндзмараули». При виде внезапно возникшего отца Аська отпрянула в сторону, Лёвушка змеиным движением вспрыгнул на подлокотник. Щеки обоих алели.
Аська первая взяла себя в руки.
— Ну, ты даешь, Зеленый, — скрывая смущение, она постучала по часикам. — В твоем возрасте по ночам отсыпаться надо, а не по трассе гонять.
— Иногда и проехаться небесполезно, — хмурый Заманский открыл бар, плеснул себе с полстакана виски, махнул залпом. Ася и Лёвушка озадаченно переглянулись.
— Ты не ложилась, волнуясь за меня? Теперь можешь ложиться, — предложил он дочери.
— Как скажете, — обиженная Аська вспорхнула из кресла. — Ужин, кстати, в гостиной. Два раза грела. Спрашивается, чего ради?
Начал подниматься Лёвушка.
— А ты задержись, — остановил его Заманский. — Разговор предстоит… Только с ним! — поторопил он дочь.
— Какие мы умеем прокурорские интонации подпускать, — Аська, презрительно пофыркивая, удалилась.
Лёвушка проводил взглядом покачивающиеся бедра, сглотнул.
— Дядя Вить! Вы не подумайте насчет Аси чего плохого…
— Почему сам не рассказал?! — резко перебил Заманский.
Лёвушка, всё понявший, съжился.
— Значит, всё-таки виделись с этой?
Лицо его, обычно по-детски доверчивое, приобрело неприятное, озлобленное выражение.
— Не знаю, что она вам наговорила. Но она стерва. Присосалась к папе из-за денег.
— Почему знаешь, что из-за денег?
— А из-за чего еще?! Холеная, вся из себя фифа. И — к старику! Просто так, что ли?
— Кем-кем, но стариком твой отец не был! — возразил Заманский.
— Так это каким вы его помните! А за последний год, — волосы пучками, щеки синюшные, обвисли, голос охрипший! И вдруг — здрасте, любовь! Ночью проснешься. А он не спит. Что-то бормочет возбужденно. Утром стихи мне читает. «Как думаешь, — ей понравится?» А мне? На мамины фото смотреть перестал. Будто и не было. Я папу сколько умолял. А он как зомбированный… Из-за нее наверняка и с собой покончил. Седьмого, накануне, из Москвы вернулся, белый весь.
— Почему не рассказал?! — упрямо повторил Заманский.
— Потому и не рассказал! — выкрикнул на нерве Лёвушка. Вспомнил об Аське, зажал рукой рот. Зашептал. — Не хотел, чтоб папино имя с грязью мешали. Так — умер и умер. Все знают, что тосковал по маме. Все сочувствуют. Вроде Тристана и Изольды. А если как на самом деле? Это ж позору на весь город. Втрескался в первую же подвернувшуюся сучку. Его и так в тургруппе знаете как называли? Крейзи Антиквар. Это папу-то! Мудрейшего из мудрых. Думаете, не больно? Но там хоть земляков не было. А если здесь дознаются, как машины к ногам кидал, лишь бы дала. От такого позора — самому в петлю впору.
— Мне надо было рассказать! — отчеканил Заманский. — Что за деньги отец собирался передать в детский онкологический фонд?
Лёвушка смешался.
— Ты знаешь про это? — поднажал Заманский.
— С него могло статься.
— Но ты знаешь?!
— Папа говорил, — неохотно подтвердил он.
— Ты же уверял, что все вещи на месте.
— Так и есть!
Заманский поцокал насмешливо.
— Да я правду говорю! — взмолился Лёвушка. — Папа упомянул только, что у него должны появиться деньги. А я не уточнял. Если начистоту, мы после Италии не очень общались. Всё больше стихи писал, — не удержался он. — До этого попросил у него пятьдесят тысяч долларов на дефицитный прибор. Я ж диссер не забрасывал. Не насовсем. В долг хотя бы! «Нету, — отвечает. — Всё в деле». И так сухо. Вроде, мое дело — не дело. А для этой аж лимон нашел! Мне потому и больно. Я, когда в Белёв уезжал, он накричал. Так кричал! — Лёвушка зажмурился.
— Хотя бы после смерти не пытался уточнить, о каких деньгах речь? Ведь где бы ни были, — это часть твоего наследства.
Лёвушка энергично замотал головой. Слишком энергично, на взгляд Заманского.
— Лёва! — решился он. — Ты ведь первым тогда в салон зашел, когда никого еще не было. Точно, что отец не оставил никакой записки? — подождал ответа, но не дождался. — Ладно, ступай спать. Скоро рассвет. А наутро у меня, похоже, много работы.
Повернулся выйти.
— Дядя Витя, — остановил его голос Лёвушки. — Прошу вас. Не надо никому насчет папы и этой… Пусть всё как есть.
— Спокойной ночи, — скупо пожелал Заманский.
Он уже знал, что сам до утра не заснет. Что-то в этой смерти не сходилось. Что-то брезжило совсем рядом. Вот-вот ухватишь. Только надо попробовать зайти с другой стороны. Перебрать заново факты, как перебирают в поисках причины поломки двигатель автомобиля.
Заманский всё лежал в темноте с закрытыми глазами, подложив руки под голову. Наконец задремал.
В семь утра, будто по звонку, глаза его распахнулись. Сомнения сложились в версию. Он вскочил и заходил по комнате, в нетерпении подгоняя стрелку будильника.
10.
Брусничко обедал на рабочем месте, в морге при горбольнице. Прямо в халате, в котором проводил вскрытие. Единственно, кинул на спинку стула резиновый фартук. Надо было бы добросить его до раковины, тем более что с краю подкапывало. Но вставать было лень. И Брусничко продолжал меланхолически поглядывать на разрастающееся бурое пятно на линолеуме.
Непривычная к мертвечинке молодежь в лице стажера и двух санитарок умчалась в больничную столовую. Он же, по обыкновению, подкатил к дивану каталку для трупов, накинул поверх клеенки заветную скатерку, расставил на ней принесенные из дома разогретые судки, с удовольствием обнюхал. Из увесистой, прикрытой резиновой пробкой колбы отлил в стакан спирта. Оттягивая сладкий миг возлияния, оглядел на просвет.
Задняя дверь морга, прикрытая на наброшенный изнутри крюк, от сильного толчка с лязгом распахнулась.
— Ничто не меняется. Так и не починили, — пробурчал знакомый голос, при звуках которого Брусничко начал подниматься. В предбанник через служебный вход вошел Заманский.
— Ах ты, дружище-раздружище! — массивный судмедэксперт облапил приземистого гостя, оглядел с высоты собственного роста. — Вижу, прежнего чутья не утратил. Точнехонько к стакашку спикировал. Присоединяйся! — широким гостеприимным жестом повел в сторону каталки.
На ощупь подлил спирту во второй стакан. Заманский заколебался, — стакан был в липких потеках.
— Избаловались, Ваше благородие! — подметил Брусничко. — Пей смело. Спирт всё обеззаразит, — приподнял свой стакашек. — Ну-с, как в старые добрые времена.
Чокнулись. Выпили. Брусничко — с наслаждением, Заманский — через силу. Еще не поставив стакан, потянулся к алюминиевой кружке с водой.
Брусничко, не запивая, зачерпнул лапой квашеной капусты, бросил в запрокинутую щербатую пасть. Несколько капустин повисли на бороде.
— Соболезную, — прорычал он. — Сам едва не каждый год друзей на небеса провожаю. Сперва самолично полосую. После провожаю. И твоего полосовал.
Заманский перевернул кисть ладонью кверху.
Брусничко, не вставая, дотянулся до стеллажа, из папки с копиями актов вскрытия безошибочно вытянул нужную, передал Заманскому.
— Вообще-то не положено, но для тебя заначил. Знал, что появишься.
Приподнял склянку со спиртом:
— Ну что, как обычно, — между первой и второй перерывчик небольшой?
Но Заманский, нацепив на кончик носа очочки, уже углубился в чтение.
Брусничко налил себе, тяпнул. Обнаружив на бороде прилипшую капустину, ею же и закусил.
— Муха не подкопается, — благодушно заверил он. — Помня тебя как зануду, всё перепроверил. Лично три спичечных головки из зубов выковырял… На самом деле он в себя лошадиную дозу вкачал. Видно, чтоб не передумать. Еще позавидовал, — красивое самоубийство. Принялядку, выпил, закусил баклажанами с салями. Прям римский патриций.
— Обломки сохранил или Лукинову переправил? — Заманский снял очки, задумчиво потер переносицу.
— Ему-то зачем? У него аж полкоробка изъято. Себе на память оставил. Тоже, знаешь, коллекцию веду, вроде кунсткамеры. Не каждый день такие фордебобели обнаруживаются.
Заманский, будто что-то припомнив, вновь потянул к себе акт. Брусничко кольнуло нехорошее предчувствие.
— К чему насчет обломков спросил? — забеспокоился он. Уж очень не понравилась ему появившаяся складка на переносице гостя, — по прежним временам верный признак, что следователь по особо важным делам Заманский обнаружил что-то, что прошляпили другие.
Заманский поднял колбу, разлил остатки спирта.
— Не тяни, Христа ради! — взмолился Брусничко.
— Вот ты пишешь в заключении, что в желудке вместе с фосфором кашица…
— Баклажаны с маслом. По баклажанам я тоже на всякий случай перестраховался. То, что оставалось на блюде, отправил на экспертизу. Чисто. Без примесей.
— То, что на блюде, — без примесей, — согласился Заманский. — А то, что в желудке, было изначально отравлено… Подменили, понимаешь? Отравили, а потом блюдце помыли да для нас с тобой чистеньких баклажанов положили.
Брусничко насупился.
— Ты ври, да не завирайся! Совсем старика Палыча за неумеху держишь. Я голову даю, — в желудке белый фосфор! От него и смерть наступила.
— Наверняка фосфор! — согласился Заманский. — Только не из спичек. Зачем Зиновию понадобилось спички в зубы всовывать?
— А чтоб наверняка. У него снизу одного зуба не было. Вот туда и напихал. Одна сволочь глубоко засела.
— Глубоко засела, — задумчиво повторил Заманский. Вытащил из кармана коробок, протянул пару спичек эксперту. — На! Воткни себе поглубже.
— С какого рожна?.. — отстранился Брусничко.
— Вот и покойный мазохистом не был. Положим, решил покончить с собой. Но зачем же спички в собственные десны чуть не вколачивать? Облизал, погрыз ядку для верности. И — выше крыши.
— Ты хочешь сказать?.. — от внезапной догадки Брусничко вспотел.
— Отправь спички на химию, Паша. Яда на них не обнаружат, — Заманский выдохнул, судорожными глотками допил. Забегал рукой по столу в поисках кружки с водой.
Брусничко, вцепившись в подлокотники, подался вперед.
— Я, Паша, и сам поначалу на этот трюк купился. А с утра, прежде чем к тебе ехать, два часа в медицинской библиотеке просидел. Оказывается, чтоб фосфор сохранил свои ядовитые свойства, спички эти надо было держать в банке со специальным раствором. А на воздухе, да еще за сто пятьдесят лет, — наши обычные серные и то опасней для здоровья.
— Но тогда!..
— Его отравили, Паша. Как раз белым фосфором. А фосфорные спички для прикрытия. Потому и напиханы меж зубов, чтоб патологоанатом, не дай бог, по разгильдяйству не проглядел.
— Блин! — медведем взревел Брусничко. — Да ведь баклажаны на масле — лучшее прикрытие для яда. Отбивают запах!
— А зачем нужно отбивать запах, если ты этот яд добровольно принимаешь?
— Как же я лажанулся! — запричитал Брусничко.
В сердцах смел судки. С жалобным звоном железо задребезжало о стены.
— Теперь выметут на пенсион. Давно меня этот подсиживал! — он ткнул в сторону шляпы на вешалке. — Всё по начальству суетился. Только зацепиться, кроме как за возраст, было не за что. Сам знаешь, никогда никаких проколов. Самые сложные экспертизы мои были. А тут! Как только откроется, что я лажанулся и убийство не разглядел, — приходи, кума, любоваться! Пинком под зад.
Заманский меж тем в третий раз с удрученным видом вчитался в заключение.
— А ты не открывай, — предложил он.
— Как это?
— Да так. Кроме нас с тобой, никто не знает. Вот и не сообщай. По крайней мере, до моей отмашки.
— Это ж вроде как убийство покрыть, — осторожно напомнил Брусничко.
— Но ведь для всех-то как было самоубийство, так и останется.
— Чего-то я тебя не пойму? Сам раскрываешь, и сам же вроде как покрываешь… — Брусничко пытливо вскинулся. — Ты на кого думаешь-то?
Вгляделся в пасмурного приятеля. Догадавшись, замотал ошарашенно головой.
— Ну, если на самом деле так, то это прям Шекспир какой-то, — пробормотал он. Поскреб бороду. — Стало быть, предлагаешь затихарить? А он там, на небесах, тебе ай-я-яй не скажет?
— О нем и думаю. Так что?
— Ну, если тебе по фигу метель, так мне-то и вовсе… В конце концов все мы рождаемся, чтоб умереть. А тем ли, иным способом… Одним убийством больше, одним меньше, — тьфу по сравнению с вечностью.
Подведя такую немудрящую идеологическую базу под банальную фальсификацию, старый циник оттопырил средний палец и показал его шляпе.
Часть 2. Счет к оплате
11.
Во второй половине дня Заманский позвонил Лёвушке и предложил срочно приехать в коттедж.
— Но у меня переговоры, — смешался тот.
— Встреча со мной для тебя важнее. Жду немедленно.
— Раз настаиваете, — услышал он неуверенное.
В коттедже Лёвушка появился в сопровождении Аськи. Должно быть, с нею и переговоры вел.
— Ты нам все планы обломал, — заявила с порога Аська. — Как раз уболтала Лёвку отвезти меня в Свято-Никольский женский монастырь. Мало ли, думаю, как жизнь сложится. Присмотрюсь заранее.
— Ступай, собирайся, — приказал дочери Заманский. — Жизнь сложилась так, что мы отсюда уезжаем.
Ася переглянулась с растерявшимся хозяином.
— С чего вдруг? Мы ж на неделю планировали. И билеты еще не заказывали.
— Ступай к себе! — не терпящим возражения голосом потребовал Заманский. — А я пока с этим господином переговорю.
Лёвушка съежился.
— Пап! Ты чо вдруг? — поразилась Аська. — То весь из себя пушистый, а то какую-то жуткую нюню изображаешь?
Уловила умоляющий Лёвушкин взгляд.
— А вот не уйду! — дерзко возразила она. — Ты с ним вчера без меня так переговорил, что я его полдня отпаивала. А теперь — здрасте, опять сначала. Говори при мне. Чтоб без недомолвок.
В сущности, дочерино упрямство могло оказаться кстати. Нельзя было не заметить, что Аське младший Плескач приглянулся. И даже к лучшему, что суровое объяснение произойдет при ней, — если что, не останется иллюзий и недомолвок.
— Что ж, поприсутствуй, — согласился Заманский. — Но, если встрянешь в разговор, выставлю прямо за холку.
Аська демонстративно пересела на ручку кресла, в котором сгорбился Лёвушка.
Заманский подступился с расспросами: как питались с отцом? Кто готовил?
Лёвушка, ждавший совсем другого, тем не менее, хоть и недоумевая, ответил обстоятельно. Отец после маминой смерти, бывало, забывал поесть. Потому, уезжая в Москву, Лёвушка всякий раз забивал холодильник. Когда возвращался, половина продуктов оставалась — стухшими.
— А когда вы стали вместе работать, и ты уезжал в командировку? — продолжал наседать Заманский.
— То же самое.
— Готовил в коттедже или в салоне?
— Обычно в коттедже. Но в салоне обязательно что-то оставлял. Папа без меня чаще там ночевал, чем дома.
— Баклажаны, что в желудке отца обнаружены, тоже ты готовил?
— Ну да. Папа очень любил баклажаны. Еще со времен мамы. Она и меня их готовить научила, — подтвердил Лёвушка — с непроходящим удивлением.
— Ещё раз спрашиваю: на кухне, кроме тебя и его, кто-то мог хозяйничать?
Лёвушка переглянулся с Аськой.
— Дядя Вить! — взмолился он. — К чему вы всё это?
— К тому, что твой отец, Зиновий Иосифович Плескач, был убит! — впившись цепким взглядом в Лёвушку, отчеканил Заманский.
Лёвушка посерел. Аська вскрикнула.
— Отравлен белым фосфором, — уточнил Заманский.
— Так спички же! — напомнил Лёвушка.
— Спички — прикрытие. Они уж лет сто безвредны. Яд был подмешан в баклажаны… А ты не знал? — снасмешничал Заманский.
Лёвушка обмер. Машинально отер пот со лба.
— Дядя Вить, что вы так смотрите? Вы на меня, что ли?.. — выдохнул он.
Беспомощно глянул на Аську.
— Представляешь! Кажется, он решил… Будто я папу!
— Пап! Ты чо, сбрендил? Если прикол, то лажовый, — Аська, не стесняясь, постучала пальцем по виску.
Нетерпеливым жестом Заманский заставил дочь замолчать.
— Тогда оправдайся, — потребовал он. — Где ты находился с восьмого вечера до девятого утра?
— В Белёве, — нервно ответил Лёвушка.
— С какого времени и где именно?
— Пожалуйста! В четыре состоялась последняя встреча с поставщиком. Погулял и — в гостиницу.
— От Белёва до Тулы сто пятнадцать километров. За семь-восемь часов можно обернуться. Потому повторяю вопрос! Кто в Белёве может подтвердить, что с вечера восьмого по утро девятое ты безвылазно был там?
Лёвушка скосился на впившуюся в него взглядом Асю. Отрицательно мотнул шеей.
— Я связался с Белёвом. Там начальником мой бывший ученик, — сообщил Заманский. — Они опросили сотрудников гостиницы. Ключ от номера провисел до утра на доске. Со слов дежурной по этажу, находилась безотлучно на рабочем месте. Утром сдала пост. Категорически утверждает, что господин Плескач в ее смену на этаже не появлялся… Ну же! — потребовал он. — Опровергай! Может, хоть кто-то тебя видел?! Пусть не в гостинице.
Лёвушкины плечи обмякли.
— Стало быть, алиби нет, — констатировал — для дочери — Заманский.
— Папа! — Аська всё-таки вмешалась. — Но если бы Лёва появился в это время в «ИнтерСити», его бы увидел охранник или камера сняла… Ведь так?! — обратилась она к Лёвушке. Но тот лишь сильнее сжался.
— Что отмалчиваешься, урод?! — выпалила она в сердцах. — Он же тебя в страшном заподозрил!
— Нечего ему сказать, — ответил за Лёвушку Заманский. — Меж подъездами сквозные проходы. Чтоб попасть в салон, вовсе не обязательно проходить именно через свой подъезд. К тому же у постоянных посетителей есть ключи от задних дверей, где камер вообще нет. Открывай любую и проходи, никем незамеченный. На этаже все офисы закрываются к семи вечера. Уборщицы приходят после семи утра. То есть с семи вечера до семи утра проходишь бесконтрольно. Времени уйма.
— Да что вы на меня танком наезжаете?! И так тошно, — взрыднул Лёвушка. — Мало ли народу, из своих, в папином салоне бывало? И кто угодно мог зайти с бутылкой, подмешать что-то в эти баклажаны злосчастные.
— Зиновий был малопьющим и уж точно не хлестал с кем попало! — сурово напомнил Заманский.
— Так это прежде, при маме, было! — страдающе вскрикнул Лёвушка. — А последнее время не раз, возвращаясь, и бутылки пустые видел, и следы посиделок.
— Допустим, что так, — согласился Заманский. — Но ты должен понимать, что из всего мутного списка главным подозреваемым становишься ты сам. Отравить Зиновия мог либо тот, кому он открыл, — а пускал он только своих, — либо тот, у кого был ключ. И — в любом случае тот, кто знал о существовании спичек, и в ком достало фантазии, чтоб придумать экзотическое самоубийство.
— Но я-то не знал!.. — Лёвушка, наткнувшись на прищуренный взгляд Заманского, осекся.
— Конечно, теоретически можно допустить, что не знал, забыть, что во время убийства отца сам ты таинственным образом дематериализовался, — отреагировал Заманский с той насмешливой интонацией, что всегда сбивала с толку самых упертых подозреваемых. — Всё можно. Но — как говорят, — ищи мотив.
— Какой же нужен мотив, чтоб родного отца на тот свет отправить! — пылко вступилась Аська.
— Самый что ни на есть прямой! Наследство!
Заманский только что не прожигал Плескача-младшего взглядом.
— И не в день отъезда вы поссорились. Все последние дни ссорились, и преизрядно. Потому что отец тебе ультиматум выдвинул: коллекцию, если откажешься продолжить его дело, передаст в Союз антикваров для реализации в пользу детского онкологического фонда…
— Как же, — фонда! — огрызнулся Лёвушка, внезапно сделавшись похожим на большую крыску. — Сказал бы сразу, что для этой!.. Да, угрожал! И я сразу ему ответил, чтоб делал со своей коллекцией, что хочет! Хоть под блузку этой… — он осекся. — А мою душу отпустил на покаяние.
— Ой ли! — не поверил Заманский. — Ты ведь у него деньги на свои опыты просил. А коллекция по ценности, на минуточку, многократно перевешивала и коттедж, и наличность. Тем паче из наличности, как выяснилось, миллион долларов отец тоже планировал отдать фонду. Тут и босяком можно остаться. Вот и мотив!
— Как хотите, — устало возразил Лёвушка. — Другого сказать нечего.
— Я всё-таки надеялся, что защитишься… Не хотел думать… — тяжко произнес Заманский.
Аська вскинула на отца больные глаза.
— Что ж, подведем итог. Дело свершилось злое и противоестественное. Но отец любил тебя пылко. В чем точно уверен, что даже сейчас, глядя на нас с высоты, не хотел бы видеть тебя в тюрьме. И быть посему. Об истинной причине смерти Зиновия знаем только я да патологоанатом. Патологоанатом, тот будет молчать. Мы с Асей, само собой, немедленно съедем. А ты… живи как сможешь!
Лёвушка, будто заржавелый складной нож, разогнулся.
На неверных ногах принялся спускаться по лестнице.
— Лёвка! — окликнула Ася. Хотела побежать следом, но отец силой усадил ее на место.
— Чего уж теперь?
Внизу хлопнула входная дверь, донесся звук гаражных запоров.
— Он же разобьется! — Аська зарыдала.
— Мне жаль, доча! Честное слово, — лучше б не приезжал. — Заманский огладил Асину копну волос.
Ася вырвалась.
— Этого не может быть! — выкрикнула она.
— Но ты ж сама слышала.
— Плевать! О ссорах с отцом он мне рассказывал. Не тебе — мне. Тот его достал этим антикварством. Они на полгода договорились попробовать, а когда увидел, что Лёвушка не готов, стал этим наследством шантажировать. Просто заколебал! Нельзя человека через колено.
— Доча! Хоть ты-то не трави душу! — простонал Заманский.
— Но он и другое вспоминал! — страстно выкрикнула Аська. — Как папа в детстве, чуть приступ астмы, хватал его в охапку в машину, и через город сквозь пробки пробивался к экстрасенсу, что приступы снимал. А после ночами у кроватки дежурил. И так до четырнадцати лет. Вот скажи как следователь: станет убийца обременять себя такими воспоминаниями? Наоборот ведь, постарается вывернуть всё плохое наружу, чтоб самооправдаться. Неужто способен в такое поверить?!
— Способен — не способен, — страстная Аськина убежденность смутила Заманского. — Собирайся, доченька. Мне и самому тошно.
Аська еще долго рыдала. И со сборами закопалась. Может, дожидалась возвращения хозяина, чтоб объясниться? Заманский ее не подгонял. Спустя два часа отец с дочерью всё еще не выехали из угрюмой обители.
— У тебя мобильник на нижнем этаже разрывается! — раздраженно крикнула ушастая Аська.
Заманский неспешно дошел до телефона, — в надежде, что умолкнет. Когда собирался в Россию, в нетерпении высчитывал дни до встречи со старыми друзьями. Но сначала было некогда, а после того, как вскрылась ужасающая правда об убийстве Зиновия собственным сыном, желание общаться с кем бы то ни было иссякло.
— Слушаю, — выдохнул он.
— Здравствуйте, бывший важный, а ныне хоть и бывший, но наиважнейший следователь Заманский, — донесся до него хрипловатый голос, — ёрнические интонации Лукинова он и спустя пять лет распознал безошибочно.
— Здравствуйте, бывший стажер, а ныне следователь по особо важным делам Лукинов, — ответил он в тон.
— Я всегда говорил, что с твоим отъездом в следственном комитете драйв пропал, — сообщил Лукинов. — Не вернись ты, так бы и затихарилось, что Зиновий Плескач убит.
Заманский непроизвольно икнул. Лукинов расхохотался.
— Не Брусничко, — ответил он на незаданный вопрос. — Этот старый лепило до второго пришествия бы не сознался, что лажанулся… Явился Лев Плескач. Он и рассказал об убийстве.
— Плескач арестован? — сдавленным голосом произнес Заманский.
Из своей светелки выскочила Аська и замерла с выпученными глазами.
— С чего бы? — деланно удивился Лукинов.
— Явился-то с повинной?
— Окстись! У Плескача алиби.
— Как алиби? — поразился Заманский. — Я ж это алиби из него клещами вытягивал.
— То-то, что клещами. Да еще в присутствии юной барышни, в которую малый, похоже, втюхался. Может, потому и говорить с тобой не захотел. Утратили вы, уважаемый бигбосс, прежнюю хватку. А с людьми нынче надо помягше. И на жизнь глядеть потоньше, — продолжал куражиться Лукинов. Поняв, что перебарщивает, посерьезнел. — Лев Плескач сутки с восьмого на девятое провел в Белёве в частном доме у разведенки, к которой ездит пару раз в месяц. Отец его в Туле так зажал контролем, что парню даже по бабам приходилось втихаря, за сто двадцать километров гонять. Информация перепроверена и подтверждена соседями. Пять человек видело. И даже есть, которые слышали. Старуха-соседка. Стены-то бумажные. Готова, говорят, перечислить, сколько раз кончили.
— Где он? — перебил Заманский весельчака.
— Плескач, что ли? — вроде, не сразу понял Лукинов. — Допросил в качестве потерпевшего и собираюсь отпустить. А вот вам за «темноту» огромаднейшее спасибо. Я уж Куличенку доложил, что у нас «висяк» нежданно-негаданно образовался. Так тот, как узнал, кто нам его привез, так, веришь, пятнами пошел.
— Верю, — не усомнился Заманский.
На самом деле Лукинов сделикатничал. Узнав, что факт убийства выявлен Заманским, начальник следственного комитета процедил сквозь зубы: «Всё-таки иудейские корни — как их ни прячь — наружу прут. Не поленился из Тель-Авива приехать, чтоб следственным органам подлянку бросить».
— Подъехал бы, Григорьич. Заварил кашу, так, может, и расхлебать поможешь?
— Подъеду, — пообещал Заманский. — А пока подзови Плескача к телефону.
— Которого из двух? — не удержался-таки от ёрничества Лукинов.
Всё это время Заманский стоял, загородившись локтем от огненного взгляда дочери.
— Вот ведь какая штука приключилась: Лёвушка сам к следователю явился, — произнес он.
— И?!..
— Проверили. Оказалось, сутки с восьмого на девятое он в самом деле провел в Белёве.
— Т-ты!..Я ж убеждала, — Аська подскочила к отцу, в сердцах постучала сжатыми кулачками ему по груди. — Как же ты теперь ему в глаза?..
— Не знаю, доча, — Заманский опустился на стул, прикидывая, как будет извиняться.
— Слушаю, — донесся Лёвушкин голос.
— Ты чего вытворяешь? Тут Аська с ума сходит, — буркнул Заманский.
— Вы ей не сказали? — настороженно уточнил Лёвушка.
— Нет, конечно. Передаю трубку.
Дочь жадно выхватила мобильник, убежала в соседнюю комнату. Вернулась счастливая.
— Я его здесь дождусь! — объявила она. Снисходительно оглядела отца. — Ну что, съел?! Жопа ты железная, папка!
— Похоже на то, — согласился Заманский, ничуть не обидевшись. Он и сам не мог понять, как ему втемяшилось в голову возвести страшный поклеп на кроткого Лёвушку.
12.
— Великому сенсею! Наше гип-гип! — Лукинов вскинул руку в пионерском приветствии. За столом напротив над листом бумаги склонился унылый Брусничко. При виде Заманского изобразил вялый жест, — то ли приветствия, то ли укоризны. Опершись на стол, с усилием поднялся.
— Оставайтесь на месте, гражданин Брусничко, — осадил его Лукинов. — Ты у меня отсюда не уйдешь, лепило, пока в подробностях свой прокол не опишешь.
— И как это вышло? — в сотый, должно быть, раз сокрушился старый эксперт.
— Вот посажу за ложное заключение, живо сообразишь, как портачить, — пригрозил следователь.
— На себя погляди, Пинкертон хренов! — огрызнулся Брусничко. Выволочки, да еще прилюдной, не терпел.
Размашисто подмахнул текст с показаниями и шаркающей походкой двинулся к двери. Крупная фигура его, едва вмещающаяся в дверной косяк, со спины выглядела неожиданно рыхлой. Изобразив общий разудалый привет, Брусничко удалился.
— Переживает, — заметил Лукинов.
— Стареет, — с горечью подправил Заманский.
Лукинов согласно кивнул.
— Зря я напустился на деда, — пожалел он. — По сути, все мы в этом деле с ног до головы обделались. Больно гладкое самоубийство получалось. А ныне — ситуация аховая. Единственный идеальный подозреваемый, у которого сходятся и мотив, и возможность беспрепятственного проникновения в помещение, имеет безупречное алиби.
— Значит, у кого-то должен быть другой мотив!
— Какой?! — Лукинов подхватил файлик с описью коллекции, с чувством потряс в воздухе. — Кому нужно было это «мочилово», если ничего не похищено? Всё до последней монетки и статуэтки на месте!
— Но подо что-то Зиновий брал две недели, чтоб собрать деньги, — напомнил Заманский. — Значит, всё-таки откуда-то их ждал. Вот тебе и пазлик!
— Будет тебе, Григорьич! Нет никакого пазла! — Лукинов досадливо поморщился. — Лёвка мне про эту гидшу рассказал. Скорей всего, как он сам думает, так и было: понравилась баба, вот и хлестанулся, чтоб склеить в койку. Извиняемся, — обаять.
Заманский поморщился. Да и трепачом Зиновий не был.
— Надо искать деньги, — повторил он. — Найдем деньги, найдем мотив. Найдем мотив, найдем убийцу.
От двери донеслось скептическое кхеканье. Вошедший незаметно Куличенок завистливо почмокал:
— Счастливые вы, отставники, люди. Времени как грязи. Что нам лишние месяц-другой? О таком понятии как прокурорские сроки и думать забыл? — с натужной улыбкой он протянул Заманскому руку, которую тот без охоты пожал. — В бумажках копаться — это долгонький путь. А для меня, практика, ключевое здесь, что доступ в салон имели только близкие. Посему очерчиваем круг знакомых и компаньонов. Кто, где и с кем был восьмого. Начнем с самых ближних и двинемся в глубь, пока не выйдем на подозреваемого. А как выйдем на того, что без алиби, — тогда и мотивчик выскочит. Тем паче Лукинов с помощью сына покойного предварительный список набросал. Так, Лукинов?
Следователь скупо кивнул.
— Вот таким, стало быть, ходом и пойдем, — определился Куличенок. С язвительной улыбкой оборотился к Заманскому. — А ты отдыхай, гость заморский. Свое дело сделал, — работенку нам подбросил.
Довольный собой, собрался удалиться.
— Геннадий Иванович, — задержал его Лукинов. — Считаю, нам надо привлечь Виктора Григорьевича к расследованию.
Куличенок насупился негодующе.
— Погиб его друг, — напомнил Лукинов. — И, сколько помню, не в правилах Виктора Григорьевича отступаться, не закончив расследования. Глупо получится, если…
Лукинов намеренно не договорил, но сметливый Куличенок намек понял. Он уже получил выволочку от руководства и стал предметом насмешек в администрации, — пенсионер, прогуливаясь по скверам, походя обнаружил убийство, не замеченное огромным следственным аппаратом. И если он — в пику органам — еще и убийцу установит, так тут одним позором не отделаешься. Можно и кресло потерять.
— Что ж, — буркнул он. — Раз сам не умеешь работать, давай, привлекай — под твою ответственность. Естественно, без официального оформления.
На том и порешили: Лукинов работает «по людям», Заманский берет на себя поиск «мифического» миллиона долларов.
Лукинов был следователем дотошным, напористым. К тому же, уязвленный допущенной в начале расследования промашкой, в дело впился бульдожьей хваткой. Перерыл записные книжки, переписку в интернете, расшифровал распечатку телефонных переговоров и электронных контактов. В результате родился длинный список фигурантов, по которому он азартно двинулся, отбрасывая одну фамилию за другой. Но по мере того, как список сокращался, всё пасмурней становился Лукинов.
Не слишком преуспел в поисках денег и Заманский. Он рьяно взялся за изучение найденных контрактов индивидуального предпринимателя Плескача. Перепроверил счета. Денежки на них подкапывали. Но долларового лимона близко не было.
Оставался еще вариант, что платежи проводились через офшорные, недоступные фискальному аппарату счета. Привлеченный к розыску документов Лёвушка обнаружил в гараже, на отдельной полке, под ворохом бумаг папку Кипрской офшорной компании, бенефициарами которой значились Плескачи — старший и младший. По телефону связались с адвокатом — секретарем компании. Увы! Компания оказалась пустышкой. Вот уж три года на единственном активном счете значилась сумма в пределах двадцати тысяч евро, предназначенная для оплаты услуг аудита и секретаря.
Стало очевидно то, что можно было предвидеть изначально, — как и все российские предприниматели, Плескач, таясь от алчности государства, основные расчеты проводил кэшем.
Но откуда взяться крупной наличности, если вся антикварная номенклатура налицо? Увесистым пакетом котирующихся акций, который мог бы быть быстро реализован, Зиновий Плескач, как выяснилось, тоже не владел. Быть может, Зиновий выставил на продажу какую-то недвижимость, приобретенную без ведома близких? Выглядело это предположение достаточно надуманным. Приобрести что-то, скажем, за границей, Зиновий мог, — не его одного в этой стране свербила мысль о том, что с Родины с ее разгорающимся антисемитизмом однажды придется эвакуироваться. Но чтобы такой новостью он не поделился с женой и с сыном, — это уж было вовсе не похоже на Зиновия, несшего каждую веточку в семейное гнездышко.
Оставалась еще одна версия: в поисках «быстрых» денег Плескач мог попытаться получить банковский кредит.
Заманский отправился в Областной банк регионального развития, где много лет обслуживался Зиновий Плескач. Сначала как совладелец ЗАО «Антиквар», затем — как индивидуальный предприниматель.
Ему не пришлось даже предъявлять соответствующую доверенность. Возле поста охраны его встретил старый знакомый — вице-президент Константин Фетисов.
Свою банковскую деятельность Фетисов начинал в инвестиционном управлении «Менатепа», и в середине двухтысячных прошлое едва не аукнулось ему. Как и многих сотрудников Ходорковского, Фетисова примеряли на хищения.
Примеряли топорно. Словно двоечники, которым учитель подсказал решение, подгоняли доказательства под готовое обвинение. Просто брали зафиксированные в банковских приказах должностные полномочия каждого и, не мудрствуя лукаво, переписывали в текст обвинения как эпизоды хищения. Фетисову повезло больше, чем другим. Среди привлеченных в бригаду региональных следователей оказался Заманский, который уголовное преследование в отношении молодого инвестиционщика быстренько прекратил, а самому ему посоветовал затаиться где-нибудь в глубинке. Фетисов последовал совету и уехал в Тулу. Впрочем, треволнения даром для него не прошли. Вместо худого и смешливого мальчишки, каким Фетисова запомнил Заманский, встретил его сухопарый, неулыбчивый банкир.
Подхватив гостя под руку, Фетисов провел его в свой уставленный букетами кабинет и только здесь, один на один, принялся горячо трясти руку.
— Вчера сорокалетие отметил, — кивнул он на цветы. — А ведь, если б не вы, Виктор Григорьевич, ныне на зоне бы отмечал. Так что — ваш вечный должник.
Сменил тон на деловой:
— Чем могу?
О смерти Зиновия Плескача Фетисов, естественно, слышал, тем более что и Плескач, и его бывший компаньон Порехин числились по разряду вип-клиентов, курировал которых как раз вице-президент.
Хотя в привилегированном банковском списке оба оставались скорее в силу сложившихся личных отношений, — обороты по счетам были практически нулевыми.
— Мы с Зиновием Иосифовичем лет пять назад сдружились. Заводной человек, он и меня в коллекционирование вовлек, — признался Фетисов. — С его подачи монеты собираю. Увлекательнейшее оказалось дело! Особенно если подбирать по годам чеканки. А коллекционеры, с которыми он меня свел! Поразительные, совсем иного калибра люди. В общем, сам превратился в страстного нумизмата. Раньше голову на работе не разгибал. А ныне тороплю выходной, чтоб в Москву, на Таганку, к своим. — Фетисов сладко зажмурился.
Вопрос, не обращался ли Плескач за крупным кредитом, вице-президента озадачил, — с чего бы? Антиквары свои проблемы без банков решают. Чтоб не светиться. Правда, припомнил он, не так давно неожиданно обратился за кредитом Порехин. Но это было уж после того, как Плескач вышел из его бизнеса.
— На какую сумму? — невнимательно поинтересовался Заманский.
Фетисов щелкнул по клавише, скосился на экран.
— Вообще-то это конфиденциальная информация, прямого отношения к счетам Плескача не имеющая, — вроде как заколебался он. — Но кредит всё равно взят не был. Так что… — он склонился. — Да, точно: тридцать три миллиона рублей плюс-минус копейки.
От предчувствия удачи у Заманского заныли зубы, — по курсу получался как раз искомый миллион долларов.
— На что брался?
— На пополнение оборотных средств. Обычная формулировка, когда хотят замутить истинную цель. Но мы не вникали. Кредит планировался под залог недвижимости с двухсотпроцентным запасом, так что банковских рисков не было.
— Почему ж не выдали?! — Заманский едва удерживал волнение.
— Порехин сам отозвал заявку. Вроде как пропала необходимость.
— Когда это было? Когда?!
Фетисов наконец ощутил его нетерпение.
— Черт! Всыпят мне за утечку информации, — посетовал он.
— Не всыпят! Сегодня же получите официальный запрос по уголовному делу, — успокоил Заманский.
— Другому бы отказал, — Фетисов в полоборота повернул экран монитора.
Заявка на кредит поступила в банк спустя неделю после возвращения Плескача из Италии. Кредитное дело было почти полностью оформлено, осуществлены необходимые проверки, осталось провести решение через кредитный комитет, что выглядело формальностью. Но одиннадцатого июня, через два дня после гибели Плескача, Порехин заявку внезапно отозвал.
Это уже было горячо. Заманский ощутил зуд, как всегда, когда вставал на след.
Прямо из кабинета Фетисова он позвонил Лукинову, потребовал бросать все дела и ехать в Региональный банк.
Разъединившись, зашагал по кабинету под удивленным взглядом Фетисова.
— Понимаешь, какая штука, Костя, — объяснился Заманский. — Незадолго до смерти Плескач как раз ждал откуда-то миллион долларов. А тут… Или совпадение?!
— Тогда наверняка те самые, — с внезапной уверенностью подтвердил вице-президент. — Видимо, Порехин решил срочно рассчитаться с компаньоном.
— Так они ж год как разошлись, — напомнил Заманский.
— В антикварном деле, бывает, годами расходятся. А уж у них объем выставленного на продажу был немалый.
— Но чтоб на миллион? — усомнился Заманский.
— Что миллион? Наверняка много больше, — Фетисов, удивленный наивностью следователя, снисходительно улыбнулся. — Я едва не каждую неделю по московским комиссионкам да антикварным салонам мотаюсь. Так вот редкий салон, где до сих пор их общие вещи не расставлены. Проедьте — сами убедитесь. А поройтесь в интернете по сайтам крупных аукционов. Во многих обнаружите. А там любая вещица в сотнях тысяч пляшет.
— Но, если так, должны быть хоть какие-то следы?! Договор между ними! Или хотя бы плохонький акт! — воскликнул Заманский. — А мы все углы перерыли — ни-че-го! Не может же такая сумма — и чтоб нигде не зафиксирована!
— Нигде не может! — хладнокровно согласился банкир. — А где-то обязательно!
Он склонился над селектором:
— Я спущусь в депозитарий. В кабинете мой личный гость. Принесите пока кофе и… да, да, весь набор!
Вице-президент, довольный тем, что может отслужить человеку, которому был обязан, вышел с предвкушающей улыбкой.
Следом появился дышащий нетерпением Лукинов. У самого Лукинова дела шли неважно. Монотонно, одну за другой, перебирал он кандидатуры из списка и — одну за другой отметал. Просвета не виделось. Находка Заманского обрадовала его необычайно, потому что, во-первых, забрезжила перспектива раскрытия «висяка», и, во-вторых, если восторжествует версия Заманского, то это будет такая пика нелюбимому начальнику… Лукинов аж зажмурился.
Заманский едва успел пересказать коллеге услышанное от вице-президента, как вернулся сам Фетисов с толстым журналом подмышкой. С видом триумфатора раскрыл его перед следователями.
— Вот, полюбуйтесь, как я и думал. Банковская ячейка заложена в прошлом году. Условия вскрытия — совместно Порехин и Плескач. Ячейка узенькая. Деньги не уместятся, — он почти вплотную сблизил два пальца. — А вот ценный документ припрятать — лучше не бывает. Полагаю, это то, что вы ищете.
— А один без другого может вынуть? — быстро среагировал Заманский.
— Такая оговорка есть, — подтвердил Фетисов. — По истечении трех лет, если до того ни один не потребовал досрочного расторжения.
Лукинов напрягся, соображая.
— Это значит, — со скрытым торжеством разъяснил ему Заманский. — Что, поскольку Плескач умер, через пару лет Порехин вынет втихаря документы, уничтожит и концов не останется. Будто и не было долга.
Лукинов жадной рукой потянулся к журналу. Фетисов, дотоле доброжелательный, построжел.
— Сначала — прошу предъявить официальное постановление по уголовному делу, — напомнил он.
Заманский согласно кивнул, придержал горящего нетерпением приятеля:
— Ну, что? Вернемся в прокуратуру? Оформишь честь по чести, изымем содержимое ячейки и назавтра вызовем Порехина?
— Еще чего! Время терять, — с негодованием отмел предложение Лукинов. Он только что не перебирал каблуками. — Прямо в магазине тепленьким возьмем, чтоб не успел очухаться. А бумаги от нас и так не уйдут.
13.
За час до закрытия магазина Петюня Порехин в вечной фланельке, облокотившись на перила крыльца, оглядывал переулок. Только привычного хищнического азарта ни в позе, ни во взгляде Заманский не заметил. Напротив, малиновый румянец полинял, да и сами наливные щечки одрябли, будто прихваченные внезапным морозцем. Глубокая, как ров, морщина прорезала гладкий, безмятежный лоб. Всего за несколько дней моложавый Петюня резко сдал. Тяжкая дума грызла изнутри преуспевающего антиквара.
— А, господа следователи, — вяло поприветствовал он подошедших. — Наслышан, Виктор Григорьевич, как вы измышлённое самоубийство вскрыли. Это вы ловкий молодец.
— Надо поговорить, — Заманский, безразличный к лести, жестом предложил зайти в магазин. Не спрашивая, прикрыл дверь, перевернул табличку надписью «закрыто» наружу, заглянул в подсобку, убеждаясь, что пуста. Лукинов с той же целью прошелся по торговому залу.
Порехин, примостившись на поручне плетеного кресла-качалки, безучастно наблюдал за суетящимися следователями.
— Вы уж лучше прямо говорите, с чем пришли. Может, и так подскажу, — предложил он.
— Мы из банка… Оказывается, меж вами и Плескачом большие деньги оставались, — Заманский решил сократить дистанцию допроса.
Порехин прикрыл глаза.
— И документы по депозитарию тоже видели! — напористо добил его Лукинов.
— Вскрыли, что ли?
— Пока нет. Но вскроем.
— Что ж тогда воду в ступе толочь? — Петюня усмехнулся. — У нас с Осичем, когда разбегались, порядка семи миллионов баксов общака оставалось. За год на миллион распродали. Я свою долю в офшор забрасывал, Осич — в новье вкладывался. Оставалось на круг где-то по три лимона. После Италии Осич предложил отдать ему разом лимон, а остальное тогда — мое. Дураком надо быть, чтоб не согласиться. Под это и кредит оформлял.
— Но не оформил.
— Так Осич к верхним людям ушел. Лимон после этого стал ни к чему.
— Но ты и про остальные деньги не обмолвился. Решил «заиграть»?! — рубанул Лукинов.
Похоже, угодил в точку, — Петюня запунцовел.
— Скажу, что нет, — кто поверит? — процедил он. — Получается, хотел.
— Почему ж сам Зиновий никому об этих деньгах не рассказывал? — спросил Заманский.
— А с какого перепугу? Меньше болтаешь, меньше внимания привлечешь. Товар, считай, — неучтенка.
— Кто-то, кроме вас двоих, об этой договоренности знал? — поднажал Заманский.
— Н-нет! — Заманскому почудилось, что Петюня споткнулся. Но в следующее мгновение голос Порехина окреп. — Кто ж о таких вещах говорит! Это между двумя. Потому и акт составили в одном экземпляре и — в ячейку. С одной стороны, — чтоб без обмана. Ну, и третий не доберется.
— И еще удобство, — ехидно продолжил за него Лукинов. — Если один вдруг в мертвых окажется, другому всё достанется!
— Вот вы с какого боку подбираетесь, — не слишком удивился Порехин. — Так сразу и понял. Только тут вы промазали. Я всю неделю в Москве проторчал. На выставке антиквариата в Доме художников на Крымском валу от и до. У нас там стенд был. С утра до вечера на глазах. Да и по вечерам, считай, до ночи на людях. В Тулу вернулся к похоронам. Так что заворачивайте свой подкоп в другое место… Да, впрочем, чего вам на слово? Сейчас визиток насобираю, — захотите, поспрошайте. — Он вышел в подсобку.
Заманский обескураженно закрутил лобастой головой, — надежная, казалось, ниточка оборвалась.
Лукинов, сам огорченный, сочувствующе потрепал его по плечу.
— Что ж, Григорьич, ты всё, что наметил, сделал. Даже деньги, в которые никто не верил, нашел. А то, что денежки эти оказались с убийством не связанные, так на то и версии, чтоб не все верные были, — как умел, утешил он. — Будем считать, что эту тему до донышка вычерпали.
С пачкой визиток вернулся Порехин, передал их Заманскому. Сокрушенно скривился:
— Мне, Виктор Григорьевич, без убийства позору хватит. На всю Тулу ославлюсь. Да что Тула? Вся антикварная Россия не спустит. В нашем деле многое на добром слове держится. А я, выходит, жлобом обернулся.
Резко затрезвонил мобильник в кармане Лукинова.
— Куличенок звонит! — определился следователь. — Как чувствует, если где прокол… Слушаю, Геннадий Иванович.
Через десяток секунд выражение досады на его лице сменилось нетерпением и азартом.
— Понял, понял. Буду немедленно… — Лукинов отсоединился. Зачем-то показал отключенный мобильник Заманскому. — Вот ведь какое дело. Пришла установка на Валентину Матюхину — ту, что уборщицей в салоне. Уборщица-то эта, оказывается, с высшим образованием. И самое интересное: знаешь, какое у нее основное место работы? — он выдержал интригующую паузу. — Лаборанткой в химлаборатории политеха!.. Если фосфор не оттуда, можете меня самого травануть.
Из груди Порехина вырвался тоскливый, звериный стон.
— Говори! — мгновенно насел Заманский. — Что так напугало?
Порехин слегка пришел в себя.
— Лёвка, похоже, доигрался! — объяснился он. — Он же за нее хлопотал, чтоб взять в магазин на подработку. Вот и схлопотал. Если и впрямь она Осича траванула, получается, Лёвка собственному отцу подсуропил.
— А могла? — впился в него Лукинов. Но Порехин уже окончательно оправился.
— Могла — не могла, не знаю. Напраслину возводить не стану, — хмуро отрезал он. — Только я сразу был против, чтоб ее брать. Чернавку эту грёбаную — любой подтвердит — на дух не переносил! Вроде, не урод девка. Но вечно смурная, будто монашка. Не люблю угрюмых. Смешливые, они всегда понятней. Даже если подлец с веселинкой, так и то лучше. Хоть сразу виден. А эта! Зайдет в магазин и — брр делается… — он передернул плечами. — Когда Зиновий ее с собой забрал, — такое облегчение испытал!
Он намекающе подошел к входной двери. Дождался, пока следом поднимутся визитеры.
— Кстати, насчет Лёвки, чтоб знали. Деньги эти, отцову долю, — верну по-честному. До копья! — с силой заверил он на прощанье.
Вечером Заманский подробно, не раскрывая причины интереса, порасспрашивал у Лёвушки о Валентине Матюхиной. Откуда взялась? С чего решил похлопотать за нее?
Оказалось, Матюхина — бывшая Лёвушкина однокурсница.
— Амур, поди?
Лёвушка так искренне удивился, что необходимость копать в этом направлении отпала.
— Какой там амур! Несчастная, в сущности, девчонка, — объяснился он. — Из тех, что рождены для материнства, но чаще остаются незамужними. И не сказать, чтоб с изъяном. Лицо-то, хоть мужиковатое, но правильное. Только вот неулыбчивая, нелюдимая. Однокурсников сторонилась. Ну, и ее, правда сказать, обходили. И вдруг на втором курсе забеременела, родила. Весь курс отпал. Но от кого, так и не дознались. Молчунья. Задалась целью вуз закончить, а с ребенком на руках куда? Отвезла его к родителям, под Узловую. А сама заметалась в поисках заработка. Каждую заработанную денежку — малышу. Понятно, все старались ей пособить с халтурой. Папа с дядей Петей, тогдашним компаньоном, как раз подбирали уборщицу в магазин. Я попросил за нее. Подошла. Аккуратная, честная, не нытик. Платили прилично. Прижилась. Когда папа с дядей Петей разошлись по бизнесу, папа взял ее к себе. Больше, чтоб не бросать. В салоне и так всегда вылизано было.
— А где у нее основное место работы? — как бы невзначай спросил Заманский.
— Н-не помню, — Лёвушка напрягся. — Где-то, говорили, в политехе. А вот где? Если хотите, позвоню нашим. Может, кто в курсе?
— Могла она отца отравить?
Лёвушка аж язык прикусил.
— Как это?.. Да и зачем? Ей же папа, считай, ни за что по пятьсот баксов платил. Это вроде как сук под собой рубить.
Заманский озадаченно закивал: в самом деле — зачем?
14.
На следующее утро сразу две опергруппы параллельно выехали на тульскую квартиру, неподалеку от Политехнического университета, где Валентина Матюхина снимала комнату, и в деревню Высокуши под Узловой, по адресу ее родителей.
На съемной квартире в Туле Матюхину не застали. Не нашли ее и на работе. Как выяснилось, сразу после похорон Плескача Матюхина взяла отпуск за свой счет и уехала.
Более удачливой оказалась группа, выехавшая в район Узловой. Самой Валентины в деревне Высокуши, где проживали родители и сынишка, не оказалось, — с утра уехала на станцию, в аптеку, за лекарством.
Мать Валентины утверждала, что в ночь с восьмого на девятое июня дочка гостила у них, спала в комнате вместе с ребенком. И только под утро, после внезапного ночного звонка на мобильный телефон, сказала: «Там что-то случилось», — и выехала на первой электричке в Тулу.
Водитель рейсового автобуса на Узловую, проезжающего через Высокуши, подтвердил, что Валентина Матюхина действительно изредка ездила на его автобусе до станции. Но никогда этого не было на первом, пятичасовом рейсе.
Следовательно, если Матюхина, как утверждала мать, в самом деле выехала в Тулу рано утром, то должна была воспользоваться услугами кого-то из деревенских шофёров. Чаще всего подвозил ее Иван Бакушев, бывший одноклассник по сельской школе. Он и впрямь, как оказалось, подвез старую приятельницу до станции. Но было это не девятого утром, а накануне, восьмого, в четыре вечера.
Самое же главное, — мать, не посвященная в планы Валентины, упорно настаивала на показаниях, о которых, похоже, с дочерью сговорились заранее. Зато, стремясь уверить полицейских в полной своей откровенности, в подробностях рассказывала о вещах, как ей казалось, для дочери благоприятных. О болезненном внуке, которому нужны деньги на дорогостоящие лекарства. О том, какая чудная мать ее дочь, всякую копейку несшая родителям для внука. Даже обновку на себя не купит, чтоб не тратиться. Старье донашивает. Она охотно показала одежду и обувь, что дочь держала у родителей. На обшлаге рукава мохеровой кофты и на подкладке дамской сумки обнаружили следы белого фосфора.
Через полчаса участковый остановил рейсовый автобус, в котором возвращалась со станции Валентина Матюхина, и, пересадив в полицейскую машину, повез в Тулу, в следственный комитет.
За это время Лукинов успел побывать в лаборатории. Сослуживцы относительно происхождения обнаруженного у Матюхиной фосфора ничего существенного не пояснили. На официальные вопросы отвечали уклончиво. Но в разговорах «не под запись» намекнули, что, в сущности, лаборант при известной ловкости имеет доступ к любому из реактивов. Даже к тому, с которым не работает.
Когда Лукинов вернулся в следственный комитет, доставленная Матюхина уже дожидалась его в коридоре. В состоянии озлобленном.
Валентину ввели в кабинет.
— Вы что вытворяете?! — закричала она с порога низким голосом. — Я ж неделю назад с вами в салоне виделась. Чего тогда не допросили? А теперь нате — втемяшилось. Аж машину за сто километров сгонять не пожалели. У меня сын больной. Мне денно и нощно думать надо, как на ноги его поднять! Даже лекарства завезти не дали. Сейчас, наверное, бегает, — куда мамка подевалась.
— Присаживайся, «мать Тереза», — любезно перебил ее следователь.
— Да я у вас уж два часа в машине просидела и час под дверью сижу, — огрызнулась Матюхина.
— Пока не сидишь. Но сядешь! И — накрепко! — пообещал Лукинов. — И чем дальше будешь завираться, тем глубже!.. Так что не будем терять времени — кайся, — разрешил он милостиво.
Матюхина возмутилась:
— Гляньте, какой поп выискался! Не в чем мне перед вами каяться.
— А вот и проверим, — из папки с уголовным делом Лукинов вытянул верхний лист. Пробежал глазами. — В комнате, где живешь у родителей, на обшлаге твоей кофты обнаружен белый фосфор. Откуда?
На лице Валентины промелькнуло тревожное выражение. Но, впрочем, она достаточно уверенно объяснилась: следы, несомненно, из лаборатории. Реактивы хранятся в запертых спецшкафах. Хотя сама с белым фосфором не работает, но могло случайно попасть при общении с коллегами. Неужто не понятно?
— Как не понять? — закивал следователь. — Пришла на работу. Надела халат и пошла по лаборатории гулять. А там порошок горстями рассыпают. Бывает.
Матюхина, распознав насмешку, набычилась.
— Могу вовсе не говорить.
— Могла бы, — кротко согласился Лукинов. — А вот про другое сказать придется. Каким образом тот же фосфор оказался у тебя на подкладке дамской сумки. Или с сумой по лаборатории пошла?!
— Какой сумки? — сбилась подозреваемая.
— Той самой, что в шкафу на третьей полке! — Лукинов обежал стол, уселся с другой стороны вплотную к подозреваемой. От благодушия его не осталось и следа. — Ты ведь с ней ездила восьмого июня в Тулу!
— Это… после звонка Лёвушки?
— Не после. А на самом деле — накануне. Так с ней?.. Твоя мать подтвердила, что с ней, — сообщил он, не давая заново завраться.
— Ну, может…
— А на чем, кстати, ехала?
— Я уж говорила, — утром на рейсовом, — неуверенно произнесла Матюхина.
— Это как же ты так ловко обернулась, если Ванька Бакушев тебя накануне, восьмого, в четыре вечера на станцию отвозил? А назад ни он, ни рейсовый не забирал… Или врут, стервецы?
Матюхина смотрела на следователя расширенными глазами, провела языком по губам, слизнув остатки помады.
— На самом деле, когда Лев Плескач тебе звонил, ты уже была в Туле, — участливо подсказал следователь. — Так? Нет?
Матюхина заколебалась.
— Так — не так. Вам-то какая разница? — буркнула она. — И чего вам этот фосфор дался? Ну, допустим, взяла немного. Признаю. Что с того? Нате — судите! — Она сорвалась на крик.
Лукинов не обрывал. Матюхина бурлила, негодовала, он благосклонно кивал головой. Давая подозреваемой выплеснуться. Раскрыл уголовное дело и углубился в него. Через пятнадцать минут выкрики сделались беспорядочными. Умудренный следователь понял, что подозреваемая выдохлась.
— Ну так как, готова покаяться? — напомнил он.
— Вы вообще хоть что-то слушали?! — обиделась Валентина. — Я уж вам призналась, что взяла на работе немножко порошка. Для чего? Хотела фейерверк ребенку смастерить. Устраивает?
— Буде ваньку валять! — Лукинов, дотоле благодушный, пристукнул по столу. — От белого фосфора погиб Зиновий Плескач.
— Так спичками отравился! — напомнила Матюхина.
— Не спичками, а порошком из твоей лаборатории! И не отравился, а был отравлен. Как говорится, — почувствуйте разницу… А то ты не знала!
Жестом пастыря с амвона Лукинов ткнул в пол, будто огненным перстом прожигал грешнице дорогу в преисподнюю. Матюхина помертвела.
— Может, ошиблись? — прохрипела она.
Лукинов хмыкнул:
— Понимаем-с. Была уверена, что не догадаемся. Ан догадались. Потому на всё, что ты тут наговорила, — наплевать и забыть. Рассказывай, как отравила своего работодателя.
Матюхина обхватила голову руками, всхлипнула тихонько, и, будто первая капля вызвала ливень, зарыдала в голос — басом.
— Достоверно играешь, — уважительно подметил Лукинов. Дождался, когда всхлипы сделались глуше. — А теперь давай облегчимся по пунктам: когда на самом деле приехала в Тулу, под каким предлогом пришла в салон, как подмешала, как отравила.
— Господи! Да зачем же мне его травить-то было?!
— А вот это ты и расскажи. Чтоб и я, и все остальные поняли.
— Додумались, в чем обвинить. Только и делу меня — людей травить, — сорвалась Матюхина. — Не на кого свалить, так нашли побеззащитней. Думаете, прокуроров на вас нет?
Следователь расхохотался.
Слезы на лице подозреваемой высохли. Глаза потухли, отчего лицо сделалось угрюмым.
— Не стану я вам ничего говорить, — объявила она. — Вообще не стану. Думайте что хотите.
Она сгорбилась, уткнулась взглядом в пол.
Как ни бился Лукинов, как ни подступался с неопровержимыми уликами, упрямая женщина так и не произнесла больше ни слова, и просидела в той же безысходной позе, не реагируя ни на угрозы, ни на уговоры.
В конце дня Матюхина была арестована.
15.
На следующий день в следственном изоляторе подозреваемую передопросил сам Куличенок. И к вечеру вернулся с признанием. Показания подозреваемой состояли из трех предложений: «Признаю, что отравила. Сделала это из личных неприязненных побуждений. Как мать малолетнего ребенка прошу о снисхождении».
Заманский, просмотрев куцый протокол, пренебрежительно откинул его в сторону:
— Узнаю лаконичный стиль товарища Куличенка.
— Да. Не густо, — согласился Лукинов. — Но не всё сразу, — раскрутим потихоньку. Хотя она и без признания вся в уликах. Не понятно, правда, почему убила. Отправим, конечно, на психиатрическую экспертизу, но… ищи то, что хотят скрыть. Насчет ребенка, что поднимает изо всех сил, — правда. Пацан слабенький. Я побывал в поликлинике. У мальчишки открылся туберкулез. Нужны витамины, лекарства, прочая дорогостоящая бодяга. А кардинально — надо срочно на полгодика везти в горный санаторий. Это вообще запредельный для них порядок цифр. А мать она оглашенная. Фанатичка. Такая, если заинтересовать, на всё пойдет.
Лукинов не договорил, но Заманский услышал. Если в действиях Матюхиной не обнаружится прямой мотив, то основной становится версия заказного убийства. А стало быть, вновь на первый план выходит Лёвушка Плескач. Уже в качестве заказчика. Потому что для Лукинова и любого другого на его месте именно Плескач-младший выглядел идеальным организатором преступления.
— Куличенок настаивает на прежней версии, — об убийстве Плескача сыном, — подтвердил худшие его опасения Лукинов. — Только теперь чужими руками.
— О Лёвушке думать забудь! — энергично отмел предположение Заманский.
Лукинов смолчал, — позой напоминая, кто первым заподозрил младшего Плескача.
— Потому и не хочу больше лажануться! И тебе не дам, — страстно, но неубедительно объяснился Заманский.
— Вера в человека — это хорошо. Это звонко, — оценил горячность товарища Лукинов. — Мне и самому парнишка показался симпатичным. Но мы следаки. И если отвлечься от симпатий и допустить, что Плескач-младший — не робкий Лёвушка, каким хочет казаться, а тайный волчара, то всё сходится. Исполнитель — бывшая однокурсница из химлаборатории, которую когда-то сам внедрил и которая явно нуждается…Да и повод налицо.
— Что еще за повод?! Куличенок чего-нибудь нафантазировал? — огрызнулся Заманский, больше всего опасаясь, как бы дотошный Лукинов не прознал про ссору отца и сына. И — будто накаркал.
Оказалось, Лукинов заново передопросил всех арендаторов с восьмого этажа. И — кто ищет, тот обрящет — обнаружил ранее не опрошенного соседа, вернувшегося из отпуска.
— Так вот, — Лукинов со значением побарабанил пальцами по обложке уголовного дела. — Восьмого утром человечек этот проходил по коридору мимо салона Плескачей. Дверь у них сейфовая — сам видел. Обычно наглухо заперта, а тут кто-то не додавил и — осталась приоткрытой.
— Ну?!
— Он слышал возбужденные голоса отца и сына. С его слов, Зиновий истошно кричал, как человек, выведенный из себя. Грозил, что лишит наследства.
— А что сын?
— Это он не разобрал. Огрызался глухо. Но главное-то он расслышал!
— Мало ли какой отец сыну в сердцах не грозит! — вяло возразил Заманский.
— Может, и так. Только Лев Плескач об этой ссоре не упомянул. А разговор-то всё переворачивает. Тут не просто мотив — чистый огурчик! В общем, Куличенок настаивает на аресте Льва Плескача как организатора убийства. Он убежден, что в СИЗО додавит его очными ставками и расколет обоих — и убийцу, и заказчика.
— Этот, да. Этот расколет, — неприязненно процедил Заманский. — Этот, если надо, кролика расколет, что тот по пьянке медведя удавил. А ты сам?! Неужто поверил?
— Знаешь, Григорьич, — Лукинов виновато вздохнул, — похоже, в этот раз Куличенок прав. Всё на младшем Плескаче сходится.
Это Заманский и сам видел.
— К тому же, если я не выполню указание начальника следствия, Куличенок заберет дело к своему производству и арестует без меня. Честно говоря, только и ищет повод лавры на себя перетянуть. Тем более, когда осталось, считай, дырку для ордена просверлить. Не каждый раз такое звонкое убийство раскрыть удается. Представляешь, какой общественный резонанс? Еврей-сын коварно убивает еврея-отца из-за мошны. По нынешним временам, — в самый цвет. — Он зло сцыкнул.
Заманскому сделалось скверно. Зная цепкость Лукинова, можно было не сомневаться, что дело вскоре обрастет множеством косвенных улик против младшего Плескача. И если даже сомнение поселится в Лукинове, то это чувство неведомо его начальнику. Лукинов прав: шанс раскрутить резонансное дело Куличенок не упустит, а значит, из этой паутины Лёвушке выбраться не удастся. И всё это случилось усилиями самого Заманского. Мало того, что он не оказался рядом с другом, нуждавшимся в его помощи, и друг погиб. Так после его гибели прилетел за тысячи километров, не пожалев времени и денег, — и для чего? Получается, чтоб безвинно засадить в тюрьму его любимого сына. Вот уж удружил, так удружил.
— Дай мне пару дней, — попросил Заманский.
Лукинов нахмурился.
— Ты моей интуиции еще веришь? Так вот, Лёвушка к убийству отца не причастен!
На лице Лукинова появилась кислая мина.
— Хотя бы день!..
Лукинов безнадежно вздохнул. Отказать Заманскому он не мог. Когда-то, стажером, он потерял портфель с уголовным делом. Наутро явился с повинной к шефу-наставнику. И Заманский, славившийся поразительной памятью, никому не сказав, за два дня восстановил утраченные материалы.
— Что ж, — буркнул Лукинов. — Впереди выходные. Смоюсь втихаря на фазенду. Хотя, конечно, после наполучаю полной мерой… Если что, вот мой резервный телефон. На твой звонок отвечу.
Заманский неловко улыбнулся. Улыбка эта Лукинову решительно не понравилась.
— Имей в виду, если подозреваемый сбежит, меня уволят, — скупо напомнил он.
Заманский, подхватив барсетку, заспешил к выходу.
— Я на Узловую, — бросил он на ходу.
Его нагнал унылый голос Лукинова.
— Когда меня вызвездят с работы, приеду к тебе в Израиль, — трудоустроишь евреем.
Заманский с притворной бодростью взметнул кулак.
…Он едва успел отпрыгнуть в сторону. Дверь распахнулась от сильного толчка снаружи. В проеме, тяжело дыша, опиралась на деревянную клюку костистая женщина лет пятидесяти с морщинистым скуластым лицом. Мокрая косынка сползла с головы и едва держалась на плече старенького пальто. Но женщина этого не замечала.
— Кто здесь?.. Мне к следователю надо, — низким прерывающимся голосом объявила она. Блуждающим взглядом оглядела обоих мужчин. Определила в Лукинове, сидящем за столом, главного. — Валька, она что, впрямь?.. Позвонили, будто в тюрьме…
Следователи переглянулись: нетрудно было догадаться, что перед ними стояла мать Валентины Матюхиной.
— Надо же. А я как раз к вам собирался, — обрадованный Заманский подхватил стул, усадил на него потрясенную женщину.
Та неловко, опираясь на клюку, сползла на сидение:
— Так за что?!
Лукинов заглянул в бумаги.
— Вы Анна Геннадьевна Матюхина? — уточнил он.
— Давай уж: Нюра, — поправила визитерша. — Всю жизнь в Нюрах прожила, обвыклась.
— Ваша дочь арестована за убийство антиквара Зиновия Плескача.
— Как это за убийство?.. — губастый Нюрин рот в поисках глотка воздуха широко раскрылся, глаза налились кровью. — Вы что ж это: если власть, так всё можно? Управы уж нет? У девки дите больное в доме, без мамки не засыпает, а вы ее, безвинную… Списать, что ль, больше не на кого?! Да я по всем прокурорам пройду!..
— Ваша дочь сама призналась в убийстве, — Лукинов положил на стол протокол допроса подозреваемого. Перевернув, отчеркнул пальцем строчки признания.
Нюра непонимающе посмотрела на следователя, прищурившись, склонилась над текстом. Тяжко разогнулась.
— Без очков я… Ой, дурища девка! Ой, дурища! — запричитала она. — Головой в омут!.. Или, може, пытали?
Лукинов хладнокровно заверил, что ни пыток, ни насилия не было.
— Тогда чего ж на себя наговорила?
Нюра поскребла голову.
— Валька не убивала, — объявила она решительно. — Можете мне поверить.
Лукинов усмехнулся:
— Какая ж вам вера, если вы, чтоб дочь выгородить, соврали, будто она ночевала у вас, когда на самом деле она была в Туле?
— Так я разе про убийство соврала? Кто ж тогда такое мог подумать?.. Это всё из-за пачкуна.
Следователи выжидательно подсели поближе. Нюра заколебалась:
— Вкрутит мне после Валька, что без разрешения… Ну, да не о том нынче страх. Пачкун — это ейный городской хахель.
Она еще раз прервалась. Задумчиво огладила распухшее колено правой, выставленной вперед ноги. Наконец решилась.
Через год после поступления в политехнический университет Валентина забеременела. Как ни настаивала мать, как ни грозила отходить дрыном, имени отца ребенка дочь не назвала. Объявила только, что тот ни в чем не виноват, вроде, как сама напросилась, и даже забеременела помимо его воли. Поэтому, мол, никаких претензий. Так и родила матерью-одиночкой. А после растила у родителей недоношенного, болезненного сына. При этом денег вечно не хватало, дочь в поисках заработка сбивалась с ног. А таинственный отец, которого Нюра иначе как пачкун не величала, — мало что ни разу не удосужился приехать глянуть на дитё, так и материально не помогал. При этом и с дочерью не порвал. Как у них ныне говорят, — дружат. И, видать, что прилипла к нему накрепко: тот свистнет по телефону — эта всё бросает и бежит. Изредка Нюра подступалась к дочери с разговорами об алиментах. Но всякий раз дело оборачивалось криком. Де — не твоего ума, сама всё знаю! Лучше его в мире нет. Будешь лезть, заберу ребенка, уйду из дома. Отступалась, конечно. Видела, что дочь полностью под влиянием пачкуна. Сначала думала, что такой же бедный студент, как и дочь. Но потом, когда туберкулез обнаружили и без денег совсем зарез стало, — взяла грех на душу, порылась втайне от дочери в ее записях, нашла бывших подружек по общежитию, повидалась. Они-то пачкуна и обнаружили. Действительно, оказался ихний бывший однокурсник. Только никакой не бедный, а, наоборот, из богатеев. Отец — антиквар.
Заманский помертвел.
— Лев Плескач? — подсказал Лукинов.
Нюра сбилась.
— Отчего Плескач? Плескач — это ж который покойник. Порехин егонная фамилия. Савелий. Они его все Савкой зовут.
— Не путаешь? — Лукинов нахмурился.
— Чай, не поленом ушибленная, — обиделась Нюра.
— Почему на него думаешь?
— А тут и думать нечего. Я ж с ним перевидалась. Пачкун завилял, что вроде как женатый. Но я пригрозила, что если на дите не поможет, так на весь свет ославлю. Он тут же на попятный, что вроде вот-вот появятся деньги и тогда заплатит. Валька после сильно на меня истерила, — де — как посмела. Но вскоре и впрямь позвонил ей, вызвал в город. Сказал, будто раздобыл деньги на пацана.
— Значит, считаешь, что дочь отравила Плескача по указке Савелия? — подсказал Лукинов.
— С чего это?! — Нюра возмутилась. — Ты как себе это представляешь? Валька, конечно, оглашенная, не без того, — такая уж наша карельская порода. Поленом в сердцах зашибить может. Но чтоб вот так втихую… Говорю же, наговаривает на себя, пачкуна прикрывает. Может, оттого, что денег на ребенка обещал, а может, из жалости. Присохла к нему, дурища, уж так присохла! А я с дитем, получается, страдай!
Она подобрала губы, требовательно посмотрела на Лукинова.
— Вот что, везите меня к ней. Вам, може, по упрямству не скажет. А я ее, профуру, так отхожу, что враз поумнеет.
Она погрозила клюкой.
Следователи переглянулись, и, не сговариваясь, согласно кивнули.
16.
Но выйти из здания следственного комитета тотчас не удалось.
В вестибюле, у застекленной входной двери, столпилось несколько чинов в полицейской и прокурорской форме. Они явно что-то пережидали. Нетерпеливый Заманский сначала решил, что на улице хлещет дождь. Но, когда протолкался вперед, остановился, пораженный. По Фрунзе, разлившись во всю уличную ширину, шествовала молодежная группа в пять-шесть десятков человек. День выдался ветреный и дождливый. Но большинство шли, по пояс обнаженные, с майками, завязанными на бедрах, крепко впечатывая в мокрый асфальт микропоры высоких шнурованных ботинок.
Впереди шествовало двое накачанных бритоголовых молодцев лет по двадцать пять в кожаных, инкрустированных металлом безрукавках — с татуированными бицепсами. То и дело один из них взметал к небу сжатый кулак, и шедшее следом пятнадцати-семнадцатилетнее пацаньё восторженно, надрывая глотки, стремясь перекричать друг друга, скандировало: «Спа-ар-так — это Я! Спартак — это МЫ! Спартак — это лучшие люди страны!» Вновь взлетал вверх кулак — на этот раз в кожаной перчатке, и те же глотки исступленно орали: «Россия — для русских!»
Упоенные собственной молодой безнаказанной удалью, они с вызовом поглядывали на здание следственного комитета. Многие, различив силуэты в форме, с гоготом поднимали вверх оттопыренный средний палец. Один-двое, подзадоривая друг друга, подбежали к ограде в поисках камней для метания. Но тут из двора напротив вышли трое таджиков в строительных комбинезонах.
— Братва! Азики! — раздался захлебывающийся мальчишеский голос.
Посеревшие таджики, развернувшись, бросились в глубь двора. За ними с охотничьим улюлюканьем припустило человек десять.
Остальные, по знаку лидеров, продолжили шествие и через минуту скрылись на проспекте, откуда еще долго доносились азартные выкрики.
Лишь после этого полковники и подполковники спустились с крыльца и, неловко отводя взгляды друг от друга, разошлись по своим делам.
— Ишь, как! — Нюра озадаченно хмыкнула. — Похоже, вас самих в оборотку взяли.
Заманский усмехнулся — мудрая женщина точно угадала подоплеку. Снисходительная прокуратура и впрямь приложила руку к появлению дикого воинства. Вожак в кожаных перчатках был скинхедом, убившим Хикмата Усманова.
В следственный изолятор поехали на машине Заманского. По дороге Заманский при Лукинове позвонил Лёвушке. Включив внешнюю связь, спросил, как давно он знаком с Савелием Порехиным и что может о нем рассказать.
— Савка, что ли? — удивился вопросу Лёвушка. Но, привыкнув к неожиданным вопросам Заманского, ответить постарался обстоятельно. Учились на одном факультете, но через полтора года Савелий Порехин неожиданно перевелся в другой вуз. Поговаривали, — что-то связанное с женитьбой. Признаться, о нем не жалели, — редчайший паскудник и жлобина.
В устах воспитанного Лёвушки «паскудник» и «жлобина» звучали трехэтажным матом.
— Жлобина — это не перебор? — нарочито — для Лукинова — поднажал Заманский. — Может, преувеличиваешь?
— Если только преуменьшаю, — буркнул Лёвушка. — Вы-то его отца знаете. Савке ни в чем отказа не было. А вот скидываемся в общаге на какую-нибудь посиделку, старается увильнуть, чтоб на халяву. Напомнишь, похихикает и — вроде как шутка. В теннис играть начали. Собираемся на корте, Савка приходит без мячей. Стоит, ждет, когда другие вынут. А сам только с Доминиканы прилетел. Это ж поездка от пяти тысяч долларов по минимуму. И на стапятидесятирублевых мячах экономит. Где что плохо лежит, он тут же подсуетится. Он даже девчонок отбирал поплоше, чтоб без претензий и не тратиться… Знаете, дядя Вить, — спохватившись, оборвал себя Лёвушка. — Похоже, я в сердцах перегнул. Неловко наговаривать на общего знакомого, да еще за спиной. А хорошего о нем не скажу. Так что, если хотите подробней, однокурсников наших порасспрашивайте, — телефоны я вам дам.
Заманский скосился на Лукинова, — тот внимательно слушал.
— А тебе известно, — произнес Заманский, стараясь говорить отчетливо, — что Савелий — отец ребенка Валентины Матюхиной?
На том конце установилось озадаченное молчание.
— Не шутите? — выдавил наконец из себя Лёвушка. Понял, что нет. — Такого даже я представить не мог. Она ж на его глазах металась в поисках денег на ребенка. На его же ребенка!.. — У Лёвушки сбилось дыхание.
— И как ты это объясняешь? — нажал Заманский.
— Это пусть психиатры объясняют! Понимаете, дядя Вить, есть такая порода, — сто миллионов имеют. И всё равно за один удавятся. Так вот это Савка!
Последняя фраза получилась снайперски точной. Именно миллион оказался ценой жизни Зиновия Плескача.
— А я вам чего говорила, — пачкун и есть, — прокомментировала с заднего сидения Нюра.
В той части СИЗО, где находились следственные кабинеты, стояла тихая прохлада. До конца месяца, когда следователи штурмуют сроки и сутками допрашивают подследственных, оставалась еще неделя. Да и рабочий день далеко перевалил через экватор. Кто и был с утра, разбежались. Так что кабинеты пустовали.
Пока оформлялись, пока один за другим перед ними отпирали и следом запирали тюремные засовы, Нюра зябко ежилась, опасливо косилась на строгих прапорщиков за стеклом, вздрагивала от щелкающих звуков за спиной.
— Будто корову кнутом, — прокомментировала она.
В отведенной для допроса комнате Нюра огладила решетку на окне, сокрушенно лизнула ржавый след на пальце:
— Вон где, стало быть, довелось побывать. Страшно-то как.
Из коридора донеслись гулкие шаги. Шаги замерли у двери. Нюра, переменившись в лице, начала непроизвольно приподниматься.
— Лицом к стене! — раздалась команда. В кабинет заглянул полнокровный прапорщик.
— Арестованная Матюхина для допроса доставлена! — доложил он.
Лукинов кивнул. Прапорщик шагнул в сторону.
В кабинет вошла сгорбившаяся Валентина. За сутки, проведенные в заключении, задиристость сошла с нее, как облезает непрочный загар под первым нажимом пемзы.
— Мама! — вскрикнула она при виде Нюры.
Та покачалась, придерживаясь за стол, оттолкнулась и без клюки, приволакивая ногу, шагнула к дочери. Обхватила ее широкими, как лопаты, руками.
— Бедная ты моя! — вскрикнула она.
— Мама! Рыжик, он как?
— А как думаешь, без мамки?
Обе, обнявшись, зарыдали в голос.
Из протокола допроса Валентины Матюхиной:
«Савелий Порехин — мой первый и единственный любовник и отец моего ребенка, с которым до последнего времени продолжала поддерживать интимные отношения. По требованию Савелия, который, как оказалось, женат, наши отношения мы скрывали.
Ребенка я родила вопреки желанию Савелия, поэтому претензий по усыновлению и уходу за дитём к нему не имела, хотя сильно его любила. Денег на содержание сына от него никогда не получала, и сам он не предлагал. В мае у сына обнаружилась начальная стадия туберкулеза. Ребенка необходимо было на полгода отправить в горный детский санаторий, на что требовались деньги, для нашей семьи огромные. Моя мать, Анна Геннадьевна, без моего ведома разыскала Савелия и потребовала у него тридцать тысяч долларов (это цена лечения, нам объявленная). Савелий очень рассердился, но пообещал деньги найти. В начале июня Савелий попросил у меня достать из лаборатории белого фосфора. Я испугалась, так как белый фосфор очень ядовит. Но Савелий объяснил, что фосфор нужен его знакомому для опытов: якобы, хочет сделать елочную хлопушку наподобие гранаты. Этот человек, со слов Савелия, обещал дать ему денег, часть которых он передаст на сына. Привыкнув во всем доверять Савелию, переспрашивать не стала. При удобном случае я похитила фосфор и отвезла его в сумочке в Лихославль.
Восьмого июня, с обеда, я собиралась в Тулу, так как по графику должна была вечером убираться у Плескачей. Ключей не имела, но знала, что, раз Лёва уехал в Белёв, его отец наверняка в салоне.
В Туле, на вокзале, меня встретил Савелий, которому я передала фосфор. Мне пора было ехать в салон, Савелий вызвался поехать вместе со мной. Сказал, что ему надо повидаться с Зиновием Иосифовичем.
До того я Савелия в салоне у Плескачей ни разу не видела.
В «ИнтерСити» мы, по настоянию Савелия, вошли незамеченными через служебный вход, ключ от которого у меня был. Зиновий Иосифович открыл мне дверь. Увидев Савелия, удивился. Но тот объяснил, что пришел по поручению отца, который просил передать, что через два дня деньги будут. Плескач очень обрадовался. Савелий сказал, что такой повод положено отметить. Тем более сам он хочет сосредоточиться на скупке самоваров и нуждается в советах знатока. После чего достал бутылку коньяка, разлил.
Я собралась начать уборку, но Савелий отозвал меня и попросил уйти, чтоб они могли поговорить вдвоем. Сказал, что приедет ко мне следом и останется на ночь. После этого я, с разрешения Зиновия Иосифовича, уехала к себе и стала ждать Савелия.
Через три часа приехал Савелий, крайне взволнованный. Он сказал, что произошло несчастье. Плескач, выпив, впал в депрессию, заплакал, начал вспоминать покойную жену, заявил, что жизнь без нее утратила смысл. Послал еще за коньяком, а так как был уже пьян, даже отдал ключи от всех дверей. Поиски хорошего коньяка затянулись. А когда вернулся в салон, увидел, что Плескач мертв. Во рту его были обломки коллекционных фосфорных спичек.
Савелий потребовал, чтоб я немедленно возвращалась в деревню и никому не рассказывала, что была в салоне, иначе нас обоих могут заподозрить, потому что спички Плескачу продал отец Савелия. Но ехать я не могла, так как меня всю трясло. Савелий остался со мной до утра.
Когда позвонил Лёвушка Плескач, я на самом деле была не в Высокушах, а в тульской квартире.
Вопрос следователя: «Неужели вы не догадались, что Плескач был отравлен тем фосфором, что вы передали Савелию Порехину?»
Ответ: «Сначала именно этого я и испугалась. Но Савелий убедил меня, что это совпадение. А потом в салоне, в моем присутствии, врач при осмотре тела определил, что смерть наступила от фосфорных спичек. Все с ним согласились, и я успокоилась».
Лукинов вслух перечитал написанное, посмотрел на арестованную. Та утвердительно кивнула, потянулась подписать.
— Зачем же вы в прошлый раз признались в убийстве? — спросил он строго.
Валентина смутилась.
— Так ваш этот… Подпиши, говорит, пока. Мы тебя до суда к ребенку отпустим. А там, мол, потихоньку разберемся. А я так по Рыжику соскучилась!
Следователи недобро переглянулись.
— С Савелием Порехиным после этого виделись? — уточнил Заманский.
— Нет. Правда, как-то позвонил и подтвердил, что вскоре найдет деньги, что мне обещал. Но не тридцать тысяч — это непомерно много — а пятнадцать.
— От прохиндей! — не удержался Заманский. Неожиданная догадка мелькнула у него, — вспомнился ужас Петюни, когда тот услышал, что отравительницей может быть Валентина Матюхина. — Скажите, отец Савелия знал о ваших с ним отношениях?
— Да, — выдохнула Валентина. — Он нас как-то застал в магазине. Пришел неожиданно… Уж так он меня по-всякому!
— А о том, что у вас сын от Савелия, вы ему говорили?
Валентина отрицательно мотнула головой.
— Если только сам Савелий отцу признался.
Она нашла взглядом мать, которая сидела тут же и во время рассказа без устали причитала.
— Говори до конца! — потребовала Нюра.
— Позавчера он приезжал, прямо в Высокуши, — неохотно сообщила Валентина.
— Машина пребольшущая, прям — сарай, — вмешалась Нюра. — А вышел, — гляжу, лица на мужике нет. Думала, не из больницы ли.
Лукинов нетерпеливым движением осек ее, вновь обернулся к младшей Матюхоной:
— Рассказывай.
— Сначала сына моего захотел посмотреть. Всё вертел и так и эдак. Потом отвел меня в сторону. Потребовал рассказать, что на самом деле было. Я ему как вам: что было, то и рассказала. Правда, тогда еще не знала, что Зиновий Иосифович… ну, не сам отравился. Но тот, по-моему, и без меня всё понял. Потому что сперва зубами заскрипел, процедил, что породил гаденыша. А после тут же, где стоял, на скамейку по бревнам осел. Голова откинулась, лицо налилось, белки красные. Мы перепугались, мама за фельдшером побежала. Думали — скорую придется. А когда она еще с Узловой-то… Но — отошел, слава богу.
Валентина неуверенно скосилась на мать.
— Всё, доча, до исподнего! — потребовала та.
— В общем, когда оправился, велел мне вместе с мамой собираться с ребенком на полгода в санаторий. Он сам его нашел, оплатил, и там как будто нас ждут. Только… — Валя поколебалась. — Потребовал, чтоб завтра же с утра уезжали.
— А мы вот прособирались, клуши, — посетовала Нюра. — На огороде то-сё. А то б сейчас уж…
Она с беспокойством заметила, что следователь нажал на кнопку вызова.
— Вы ее-то, Вальку, рази не прямо сейчас отпустите? Дите-то ждет.
— Не всё сразу, вот разберемся малек, — хмуро пообещал Лукинов.
Заманский, избегая молящего Валиного взгляда, отвел глаза.
17.
Из следственного изолятора Лукинов с Заманским только что не выбежали и быстрым шагом устремились к внедорожнику, — торопились до конца рабочего дня перехватить Савелия Порехина в магазине, — было чрезвычайно важно закрепить показания Матюхиной.
Увы! Окна магазина оказались задраены жалюзи. На запертой двери наспех было приторочено скотчем рукописное объявление — «Продается». Мобильные телефоны обоих Порехиных оказались отключенными.
Установили по адресному местожительство. Оказалось, отец и сын проживали по одному адресу: в коттеджном поселке близ вокзала.
Домчались — уже в сумерках. Коттедж был погружен во мглу. От соседей узнали, что Порехины всем семейством еще позавчера отъехали куда-то за границу. Впрочем, старший Порехин как будто задержался в городе. Но где именно находится и приедет ли ночевать, не знал никто.
— Дёру, стал быть, решил дать Савушка! — констатировал Лукинов, уже в машине, — Заманский взялся подвезти его до работы. — За границей думает отсидеться. Ну, и хрен с ним!
Он широко, от души зевнул.
— Никуда не денется. Объявим в международный розыск. И папашу его хитромудрого разыщем. Может, еще и самого за укрывательство отбуцкаем.
Машина прижалась к ограде. Впереди стоял припаркованный огромный «хаммер» Петюни Порехина.
— О! На ловца и зверь, — обрадовался Лукинов.
Он полез из машины. Но Заманский, придержав, показал ему на крыльцо Следственного комитета: из здания как раз выходил Петр Порехин — под руку с Куличенком.
Лукинов посерел.
— А вот это уже поворотец. Похоже, Порехин за подмогой прискакал, — процедил он озадаченно. — Ты погляди на них: прям шерочка с машерочкой. Не зря, видать, говорили, что Порехин Куличенка на прокорм взял.
Поджав губы, он полез из машины.
Петюня, увидев спешащего к ним Лукинова, переменился в лице.
Но Куличенок коротким кивком отпустил его, а сам шагнул к следователю и, подхватив под локоть, повлек в здание прокуратуры, на ходу что-то настойчиво выговаривая.
Заманский распахнул дверцу, прижав ее к ограде, так что спешивший к «хаммеру» Порехин поневоле остановился. Разглядел за рулем Заманского.
— Вы, Григорьич? — выдохнул он. Заманский поразился, как сильно сдал Порехин даже по сравнению с последней их встречей.
Щеки обвисли брылями, воспаленные глаза слезились, голова непроизвольно подергивалась. Даже вечная фланелька — будто надетая с чужого плеча. Перед Заманским стоял тяжело больной человек. За какую-то неделю цветущий Порехин превратился в собственные руины.
— А мы тебя как раз искали, чтобы допросить, — объяснился Заманский.
— Уже допрошен, — Порехин кивнул на окна кабинета Куличенка.
— Сына за границей, конечно, спрятал? — Заманский прищурился. — Бесполезные это хлопоты. Его завтра же в международный розыск объявят.
— А может, и не объявят, — Петюня мрачно усмехнулся. Со стоном выдохнул. — Хотите, Григорьич, как на духу? Официально не скажу, а так, чтоб вы один знали: я б этого паскудника сам сдал, к чертовой матери. Потому что мало — свою! он мою жизнь в сортир спустил! Это ж он меня подбил, чтоб долю Зиновия после его смерти затихарить. Мол, Лёвка лох, а другие знать не знают. Я и повелся. А оказалось, целую партию разыграл, на три хода вперед. Сам же убил, зная, что отец-скряга наживку заглотит. Но из-за чего всё?! Еще бы понял, если хотя б из-за десятки, а из-за грёбаного лимона!..
Петюня быстро, коротко задышал, — похоже, его начала мучить одышка. Заманский про себя подметил: в страстном, обличительном этом монологе прозвучало многое: сожаление о собственной корысти, досада на сына-убийцу. Не нашлось разве что места сочувствию убиенному компаньону.
— Сдал бы! — Петюня отдышался. — Но… Жена моя только сыночком и дышит. А она едва после криза выходилась. О бабке его, моей матери, если узнает, вообще разговора нет, — та уж лет пять на честном слове доживает. Да и внукам каково расти при отце-убийце? Так что — прощайте, Григорьич.
— У тебя еще внук есть, — напомнил Заманский.
— Обо всех позабочусь, — прохрипел Петюня. Протиснулся мимо распахнутой дверцы.
Заманский, озадаченный путаной этой исповедью, смотрел ему вслед, пока могучий «хаммер» не вырулил на дорогу.
На другой день, когда Заманский как раз рассказывал Лёвушке об обстоятельствах убийства его отца, в коттедж Плескачей ввалился угрюмый Лукинов.
Произошло то, чего он опасался: уголовное дело по факту убийства Зиновия Плескача начальник следственного управления у Лукинова изъял и принял к своему производству. Лукинов пригрозил, что не позволит покрыть настоящего убийцу и напишет рапорт с требованием объявить подозреваемого Савелия Плескача в розыск. Но в то же утро Куличенок в следственном изоляторе провел очную ставку между Валентиной Матюхиной и Плескачом-старшим. Как именно проходила очная ставка, неизвестно: посторонних при этом не было. Но в ходе ее Матюхина вновь изменила показания, признавшись в отравлении Зиновия Плескача. Причем, в отличии от первого протокола допроса, в деталях описала механизм преступления. Целью отравления Матюхина назвала желание похитить коллекционные монеты и нэцке, чтобы потом их продать и выручить деньги на лечение сына. Не украла, так как после убийства ей послышались шаги на лестнице. Испугавшись, убежала через черный ход. Что же касается Савелия Порехина, то последнего она оговорила, так как, будучи отцом ее ребенка, Савелий отказывался давать деньги на его содержание и лечение.
— Складный сочинитель господин Куличенок, — Заманский брезгливо поморщился. — И рассчитано безупречно. Ни одной прямой улики против Савелия Порехина нет, ни одного свидетеля, кто хотя бы видел его в эти часы…
— Один есть, — ехидно подправил его Лукинов. — Петр Порехин подтвердил, что как раз в эти часы сын заезжал к нему в Москву на выставку.
— А поскольку подозрение основывалось на показаниях Матюхиной, которая от них отказалась… — протянул Заманский.
— Уголовное преследование против Савелия Порехина будет немедленно прекращено, — закончил за него Лукинов.
— И никаких шансов до него дотянуться, — Заманский скрежетнул зубами. Кровожадно насупился. — Разве что самого фосфором накормить.
— И без того изнутри сгниет, — мрачно предрек Лукинов.
Лёвушка, дотоле слушавший, будто окаменелый, недоуменно вмешался:
— Но, позвольте, зачем же Валентине-то на себя наговаривать? Ведь это ж — тюрьма!
— Догадаться нетрудно, — едва не в унисон ответили оба следователя. Заманский жестом предоставил право ответа Лукинову.
— Наверняка Петр Порехин принял на себя содержание внука, — разъяснил тот.
Запутавшийся Лёвушка недоуменно замотал головой.
— Так, может, в самом деле убийца — Валентина? Не станет же следователь заведомо невиновного сажать.
Лукинов с Заманским переглянулись с тонкой язвительностью.
Ответы на все вопросы были получены позже, когда объединенное семейство Заманских — Плескачей уже обустроилось по соседству в пригороде Иерусалима.
Сначала пришел и-мэйл от адвоката, представлявшего Лёвушкины интересы в уголовном процессе: Тульским областным судом Валентина Матюхина признана виновной в убийстве Зиновия Иосифовича Плескача. В судебном заседании подсудимая вину признала полностью. С учетом смягчающих обстоятельств: наличие малолетнего ребенка, установленные судебно-психиатрической экспертизой отклонения в психике, — Матюхина осуждена к шести годам лишения свободы.
Спустя короткое время с Заманским по скайпу связался вице-президент Регионального банка Фетисов, конфиденциально сообщивший, что в банке на имя Валентины Матюхиной открыт счет, на который положены триста тысяч евро. Доверенность на пользование счетом выдана ее матери, Анне Геннадьевне.
Ответ на последний вопрос был получен спустя еще полгода.
Вице-президент Ассоциации антикваров Василис Циридис, распродававший, по просьбе Лёвушки, плескачовскую коллекцию, вместе с очередным отчетом прислал информацию с сайта одного из аукционов. Самая высокая цена была предложена за уникальную коллекцию эротических нэцке, выставленную на продажу малоизвестным тульским собирателем Геннадием Куличенком.
Зачеркнутому — верить (мистический рассказ)
Долго ты еще собираешься с ним нянчиться? — недоумевали другие. — Давно пора бросить.
— Но он же талантлив, — возражал Он. — В нем дар художника. И потом — слышали бы вы его мечтания в отрочестве.
— Хорош отрок. Под сорок дитяте. К этому времени, если б чего было, давно б состоялось. Хоть что-то доброе от него видели? К тому ж богохульник.
— Это да, — вздыхал Он. Но — тут же приободрялся. — Зато не лицемерит. Просто ему надо уверовать. А вот когда уверует, тогда и добро пойдет.
— Ну и карауль свое дитятко. И так из-за него по всем показателям скатился. А нам со всяким шлаком возиться некогда. Извини, брат, но это поточное производство!
Резвясь и шумно дурачась, остальные взмыли вверх и полетели дальше.
1.
Осначев пробудился, недоуменно стряхивая с себя привязавшееся бестолковое сновидение. Скосился на раскинувшихся подле двух подружек, длинные ноги которых выдавались за край кровати. Судя по их сплетенным позам и слипшимся волосам, они продолжали ублажать друг друга и после того, как сам он отключился.
Вид их, вчера возбуждавший, вызвал тошноту, перешедшую в спазм. Так что он едва добежал до раковины, над которой завис, безуспешно содрогаясь, — несмотря на позывы, рвоты не было. Пытаясь освободиться от перекрывшей горло слизи он зарычал надсадно, и — исторгнул влажный комок. В кровавых разводах.
— Ну вот, еще и глотку разодрал, — с горечью констатировал Осначев. Похоже, бронхит, обострившийся на горнолыжном курорте в Давосе, приклеился накрепко.
«Надо бы заскочить к эскулапам», — одеваясь, мимоходом подумал Осначев, понимая, что никуда он, конечно, не заскочит: плотный график, как обычно, расписан на неделю вперед.
Кинув на ходу в рот тостик с заветренной икрой, он вышел на площадку, где при его появлении поднялись четыре вооруженных человека — двое «личников» из персональной охраны и секьюрити, отвечающие за безопасность квартиры.
— Там это, — Осначев прокашлялся. — Вызовите горничную… Ну, и вообще, чтоб вычистить.
На лице молоденького охранника промелькнула маслянистая улыбочка, заставившая Осначева нахмуриться.
— Уволен, — неприязненно отчеканил он.
Уловив движение шефа, один из охранников перехватил оружие и первым шагнул во внутренний дворик, где парили на морозе «мерседес» и джип охраны.
Из «мерседеса» навстречу Осначеву выбрался худощавый человек — в прошлом друг осначевского детства Аркаша, а ныне — первый вице-президент компании Аркадий Фринштейн.
— Добренькое вам утречко, командор, — с обычной бодрой иронией поздоровался он, с дурашливым поклонцем распахи вая дверцу машины.
Вслед за Осначевым он втиснулся на заднее сидение, отгороженное от водителя пуленепробиваемым стеклом, и без паузы залепил:
— Всё-таки ты скотина.
— Опять, что ли, вчера чего отчебучил? — догадался Осначев.
— Не опять, а снова. Ну, то, что надрался, так к этому привыкли. К тому же не ты один. В этом клубе к часу ночи вообще ни одной трезвой рожи не оставалось.
— Кроме тебя, конечно?
— Кто-то должен блюсти.
— И чего соблюл? — предвидя неприятные для себя откровения, Осначев потянулся за носовым платком, — опять начались рвотные позывы. Платка в кармане не оказалось.
— Самое хреновое — это когда тусовка меж собой мешается! — с чувством объявил Аркадий. — По мне — бизнес так бизнес, эстрада с эстрадой. Чтоб все ранжированно. Можно, конечно, иногда для разнообразия бизнес с эстрадой в одну калабашку слепить — очень даже остренько получается. Но когда сюда приправляют политиков, особенно из Думы, — это всё равно что в солянку вместо почек гнилой свинины накидать.
Представив солянку, воняющую гнилым мясом, Осначев закашлялся и поспешно подставил к губам ладонь.
— Эк как тебя трясет-то, — заметил Аркадий.
— Не тяни. Говори, с кем я в этот раз схлестнулся. Надеюсь, не из единороссов?
— Не надейся. Как раз тот самый, которому в прошлом году на лапу дали. Ну, помнишь, когда по заводу решалось, — даже один на один осторожный Фринштейн старался не называть фамилии. — А теперь он, говорят, будет наш тендер по нефтянке разруливать. Короче, начал он пьяный вещать что-то про слово божие, про всеобщее покаяние.
— О-о!
— То-то, что «о». Нет, чтоб мимо ушей пропустить, как другие. Но ты разве отмолчишься? Проехался по нему, как джип по пашне. Так даванул, что у мужика глаза рачьими сделались. Ушел не попрощавшись.
— Э! Да и поделом, — внезапно обозлился Осначев. — Пусть хоть иногда о себе правду услышат. Перевертыши! Вчера за коммунистическое завтра к стенке ставили, а сегодня так за царствие господнее стоят, что скоро, глядишь, попов вздергивать начнут за недостаток веры. Ладно, не переживай, помиримся, — отстегнем чуток на восстановление поруганной чести. И — опять ручным станет.
— Допустим! Но вот за каким ты на сцену полез Бога топтать? Такую бучу заварил! Нет Бога, и всё тут! Все, понятно, за Бога горой встали. А ты свое гнешь.
— И что? — заинтересовался Осначев.
— Да ничего! Идиот ты всё-таки! Начал требовать, чтоб Бог в подтверждение своего существования тут же тебя и испепелил.
— Только-то? Я-то и впрямь думал, что серьезное. А это! Не робей, Аркаша, было б кому, уж кого-кого, а нас с тобой черти бы первых прибрали.
— Не кощунствуй, — опасливо буркнул Аркадий.
— Что слышу я? Никак еще один уверовавший. Вот не замечал, — несмотря на скверное самочувствие, Осначев развеселился. — Ты ж как будто атеист.
— Атеист! А только глупо в грозу под дерево в чистом поле лезть — молнию-то и накличешь.
— От кого ж накличешь, если некому?
— Может, и некому. А может, и есть, — Фринштейн незаметно сплюнул. — Не глупей нас с тобой за тысячелетия люди перебывали и — верили. Значит, есть во что. Если не в деда с бородой, так в высший разум. Ходить по церквям или не ходить — это дело хозяйское. Но если уж погряз в безбожии, так — чтоб втихую.
— Глупости всё это и самомнение. Нету, увы, ничего. Перекантовался на этом свете и — в перегной. Вот и вся наша с тобой конструктивная функция.
— Перестань! — нервно оборвал Аркадий. — Вечно ты всё как-то… безразмерно. А жить надо всё равно по заповедям. Чтоб добро сеять. Мы, к примеру, на последнем правлении приняли решение выделить средства на ремонт подшефного детского дома. Вчера я подготовил платежку. И вдруг узнаю, что денег нет. Ты их куда-то завернул.
— Да. Пропелен внезапно подошел. Надо было срочно выкупать, — безразлично припомнил Осначев. — А насчет детдома — тем кварталом из доходов проплатим. Столько лет ждали, еще подождут. Он поколебался:
— Жене моей звонил?
— А? Да, конечно. Сказал, что ты срочно улетел на переговоры в Тюмень — туда и обратно.
— Поверила?
— Догадайся с трех раз.
— М-да. Пора с гулькой завязывать и — в работу, в работу! — Осначев энергично пошлепал себя по щекам. — Сейчас все силы в кулак — на тендер по нефтянке. Обязаны выиграть. Без этого холдингу нашему не быть. А уж когда новым месторождением прирастем, тогда на досуге и о заповедях поразмышляем.
Осначев задумчиво почесал подбородок. Неделю назад начальник службы безопасности доложил ему, что Фринштейна пытается подкупить «Сигнефть» — основной конкурент на нефтяном тендере. Осначев приказал эту информацию держать втайне. Он ждал, что Аркадий сам расскажет о сделанном предложении. Но время шло, и подозрения крепли.
— О «Сигнефти» что нового слышно? На контакт не выходят? — будто между делом полюбопытствовал Осначев.
— Затихли. Может, передумали участвовать. Знают, что с тобой связываться себе дороже, — хмыкнул Аркадий. Заботливо пригляделся к закашлявшемуся шефу. — Э, да ты не болен ли, друже? У нас, если помнишь, на двенадцать пресс-конференция на телевидении назначена. Не перенести ли, пока не поздно?
— Еще чего? — Осначев недоуменно отер испарину со лба, провел пальцем по слезящимся глазам, — бронхит вцепился всерьез.
— Вот что, — он выглянул в окно. — Мы сейчас мимо института пульманологии проезжать будем, дай команду заехать. У меня здесь старый дружок по комсомолу рулит. Забегу, чтоб взбодрил: грелку или пилюлю какую-нибудь. Оставишь при мне «мерс» и пару охранял. А сам дуй в Останкино — разогреешь пока прессу. Главный посыл, который доведешь громогласно: компания стремится получить месторождение, чтобы обеспечить налоги и увеличить рабочие места для туземцев… в смысле — местного населения.
— Так мы ж, наоборот, собираемся сокращать.
— А вот это ты объявишь на следующей пресс-конференции, — после того как тендер выиграем. Политика, понимаешь! — Осначев, довольный собственной остротой, расхохотался.
2.
…— Ба! Какие люди, — главный врач института пульманологии, не веря собственным глазам, поднялся навстречу олигарху. — Вот уж подлинно: тыща лет, тыща зим.
Какое-то время они постояли, не размыкая рукопожатия, с интересом рассматривая друг друга. Когда-то в прежние времена они сидели в обкоме комсомола в соседних кабинетах.
— Какой ты, однако, стал, — главврач замешкался, выискивая наименее обидное определение. И — нашелся. — Осанистый.
Он сделал приглашающий жест, склонился над селектором:
— Ко мне не пускать.
— И так не пустят, — успокоил Осначев. — Там, в приемной, моя охрана.
— А выпустят?
— Это смотря по результату, — Осначев хохотнул. Но — не рассчитал сил и зашелся в захлебывающемся кашле. — Вот ведь привязалась зараза. Главное, не вовремя.
— А когда оно вовремя-то бывает?
— Твоя правда, — признал Осначев. — Жизнь, старик, это такая, доложу тебе, суета. Веришь? Секунды свободной нет.
— Как не верить? Пытался в свое время к тебе пробиться. Но — холуи твои стеной встали. Капле не просочиться.
— Жаль, не знал, — притворно огорчился Осначев. «Тоже мне — стена». Он с раздражением подумал о разгильдяе-помощнике, всё время впихивающем в график необязательные, тягостные встречи с просителями. «На лапу, что ль, стервец берет за доступ к телу?». — И с чем ко мне рвался?
— Да как обычно. Аппаратура износилась… — главврач насупился. В прошлом завотделом здравоохранения ЦК комсомола, просить он так и не научился.
— Ладно, составь смету, — неохотно предложил Осначев. — Только чтоб в пределах.
Он вновь закашлялся.
— Давно? — в лице главврача появилась безмятежность, привычно скрывающая профессиональный интерес, — теперь он не к гостю присматривался — исподволь изучал пациента.
— Враг мой личный — хронический бронхит — достал. Будь другом, напичкай по-быстрому какой-никакой гадостью. А то мне через пару часов на телевидении выступать.
Главврач поморщился:
— Привык, гляжу, всех «строить». Для начала рентген сделаем.
— Да я тебе и без рентгена скажу. У меня этот бронхит восемь лет. Можно сказать, сроднились. Периодически обостряется.
— И давно обострился?
— Недели с две. Вообще-то года три не возникал. Я его, заразу, холодной водичкой, теннисом гоняю. Уж и думать забыл. А тут вдруг… Пытался назад загнать. Так ведь уперся.
— И всё-таки на рентген. Для начала надо исключить воспаление легких. Потом поглядим. Двести одиннадцатый кабинет. Лаборант Андрей. Пока идешь, я ему позвоню.
Он заметил легкое недоумение.
— Или провожатых дать?
— Обойдусь! Даже охрану тебе оставлю, — Осначев нарочито бодро вскочил. «Мог бы и сам проводить. Невелика птица».
Он шел по обшарпанному коридору, среди понурых людей в затертых больничных халатах, всё более раздражаясь на самого себя за бездарную трату времени. Нетерпеливо застучал в дверь с броской табличкой «Лаборатория». После паузы еще. И еще.
Лишь секунд через двадцать дверь изнутри открылась, и оттуда выглянул крупный, лет тридцати толстяк с молочно-белым мальчишеским лицом — будто плавленый сырок, заветренный от времени.
— Чего барабанишь? — неприветливо поинтересовался толстяк.
— Андрей?
— Ну.
— Вам звонили насчет снимка легких.
— С улицы, что ли? — Андрей что-то посоображал, оценивая посетителя. — Можно. Но это будет стоить.
— У меня мало времени, а стало быть, много денег. Куда идти? — стервенея, как всякий раз, когда сталкивался с вымогательством, Осначев нетерпеливо отодвинул медлительного толстяка и шагнул внутрь сумеречного, пропитанного сыростью куба. Огромное, метров на шестьдесят помещение без окон было до гула пусто. Лишь посередине затерялись рентгеновский аппарат и рядом — покрытая клеенкой длинная скамья, над которой задумчиво зависла громоздкая камера. Единственный источник света находился у входа, — застекленный отсек с компьютером и экраном.
— Чего ждешь? Раздевайся до пояса, — поторопил Андрей, кивнув на неприметный стул.
Через минуту, смущаясь рыхлеющего тела и потряхиваясь от внезапного озноба, Осначев подошел к рентгеновскому аппарату.
— Встал, — бодро скомандовал Андрей. — Голову вверх… Не надо! На цыпочки не надо. Сам опущу. Во! Теперь руки в боки и локтями к экрану. Всё. Замри и жди.
Он удалился в «стекляшку», откуда послышалось значительное:
— Вдохнули! И не дышим!
Осначев вдохнул холодного воздуха и затих, с трудом сдерживаясь, чтоб не закашляться.
— Снято, — услышал он, когда удерживать дыхание стало невозможным. — Отдышись.
Лаборант уткнулся в экран компьютера.
Осначев, не получивший команды одеваться, накинул рубаху и, взглянув на часы, заходил возбужденно. График летел к черту! И добро бы из-за дела. Минута на счету, а тут с собственными бронхами не разберешься. А, не дай бог, если подтвердится воспаление! Нет, что угодно: колоться, греться, светиться. Но — чтоб на работе.
Он набрал мобильный своего помощника:
— Новости?
— Почти по плану, — голос на другом конце из вальяжного сделался рапортующим. — Сдвинул директора металлургического на вечер, как вы приказали. Остальное, если до трех успеете, пока в графике. Да! Опять Ремейко приезжал. Завтра у них освящение храма, что мы спонсировали. Будут люди из мэрии. Очень просил быть лично.
— Сам съездишь, — перебил Осначев. — С попами кадить — это твоя нагрузка.
Он подошел к стеклянному закутку.
— Что раскопал, мыслитель?
— Ты на учете-то давно? — не отрываясь от экрана, поинтересовался Андрей.
— По поводу чего? — язвительно уточнил Осначев. Небрежная, сверху вниз, манера «закормленного» лаборантика общаться с пациентами ему осточертела.
— Понятно чего — туберкулеза, — так же раздраженно отреагировал Андрей. Не дождавшись ответа, он обернулся, увидел перед собой ошеломленные глаза. — Да ты чего, мужик, не знал разве? Ну, ты даешь. Вот же — открытая форма. Раз сектор, и потом — здесь. И пазухи какие! Даже не этого года. Глянь-ка сюда, как запущено. Считай, половина правого легкого. Ты чего молчишь-то? Проверялся когда в последний раз?
— Лет пять, — выдохнул Осначев.
— С такой-то дыхалкой! Погоди, ты вообще здесь как оказался? От кого?
— От главврача. Я ж говорил — он должен был позвонить.
— Да? Может, и звонил. Я, наверное, выходил, — Андрей, теряясь, присмотрелся к посеревшему пациенту. — Вы вот чего. Вы кончайте эти… нервы. Медицина сейчас многое может. Тут загадывать нельзя. Смотря какое лечение. Опять же организм важен. Бывает, полгодика в санатории и — зарубцовывается.
— Где?!
— Лучше в горах. Ну, а уж на самый край — у нас в институте хирургия очень сильная. Правда, у вас на стволе еще какое-то затемнение…
— А точно, что?.. — слово «туберкулез» Осначев произнести не решился.
— Да можете мне поверить. Я на этом десять лет сижу. Туберкулез, как собака колбасу, чую. Рентгенологи и те советоваться прибегают.
Андрей спохватился:
— Но вообще-то всякое бывает. Тут безапелляционно нельзя.
Вот чего: давайте-ка мы вас для надежности еще на томографе прокатаем.
Он взял за руку сделавшегося вялым пациента, подвел к высоченной скамье, помог вскарабкаться, уложил, приговаривая:
— Вот и лежите. Вот и глянем. Вот, может, и обойдется.
Убежал в клетушку.
— Вдохнуть и не дышать, — вновь послышалось оттуда.
Осначев подавленно смотрел вверх на нависшую квадратную камеру, вздрогнувшую и поползшую, словно судьба, вдоль его тела, оказавшегося вдруг таким хрупким и уязвимым.
— Вы одевайтесь. А я пока с врачами переброшусь! — крикнул Андрей.
Цокнул замок. Осначев остался один.
Сраженный известием о туберкулезе, Осначев заторможенно одевался. Майку, показавшуюся несвежей, бросил в урну. Натянул рубаху. Попытался было надеть галстук, но, рванув, пихнул в карман. Накинул пиджак.
Пиджаки он не любил.
«Ничего! В санатории можно будет и в джемпере. Погоди, погоди. Что же этот лаборантишка еще сболтнул?». До Осначева дошел вдруг смысл растерянной фразы: «На стволе какое-то затемнение». Затемнение — это же рак! То есть даже не туберкулез. Это просто конец всему.
Он обессиленно опустился на край кушетки. Страх, до того тупо обволакивавший его бодрый, начиненный целями и задачами мозг, ворвался внутрь и вымел сквозняком всё, без чего еще десять минут назад не мыслил он своего существования. Среди всей махины неотложных, размеченных на неделю дел не обнаруживал он теперь ни одного, которое не могло бы — лучше ли, хуже — разрешиться без него. Да и сама неотложность, пропущенная через рентген, виделась ныне кажущейся, суетной.
Не в силах бездеятельно выжидать, он вскочил и забегал внутри куба — гулкого и зловещего, будто морг. Морг! На Осначева обрушился ужас.
Он застыл, воровато огляделся, убеждаясь, что никого, кроме него, в огромном пространстве больше нет. Затем отбежал в самый дальний, плесневелый угол куба, прижался так, чтоб видеть входную дверь, и, презирая себя, зашептал быстро и сумбурно:
— Господи! Или как там тебя. Если ты только есть, каким бы ты ни был, — СПАСИ! Ведь никогда ничего не просил. Обрати всё в шутку и — уверую! Никому не скажу. Но мы-то с тобой знать будем. Да и тебе, согласись, куда круче обрести одного закоренелого грешника, чем сотню ханжей да побирушек. Помоги! Я ж не тупой и твой сигнал понял. Да, моя проблема: забыл в суете, для чего всё начинал. Но — теперь отработаю. Неужто и впрямь настолько во мне изверился? Были ж задатки! До сих пор на картины свои прежние гляну, и, веришь, — мучаюсь. Давай еще разок попробуем. Доведем до конца: для чего создал меня, то и должно состояться. А то, что дерзил, так от глупости. Ты ведь и сам, как понимаю, не без юмора: вон чего наваял! Тысячелетиями разгрести не могут. Да, был жестковат с конкурентами, каюсь. Но ведь не тебе говорить, без жесткости мир не создашь. Опять же — насчет милосердия! Обещаю — отстегну без жлобства. Не на попов, конечно! Ты ж их, вралей, наверное, сам терпеть не можешь. Но — на бедноту: детские дома, беженцев, больницу ту же. Да что там?! Фонд на собственные бабки организую. А сам — за живопись засяду. А? Сговорились, нет? Урыть-то меня всегда успеешь! Ну, что отмалчиваешься? На колени перед тобой, что ли, прикажешь?
Замок в двери вновь цокнул. В куб быстро вошел главврач, за ним поспешал ссутулившийся — явно после выволочки — лаборант.
— В угол забился! Эвон как придурок наш тебя застращал, — главврач подхватил покрытого испариной Осначева под локоть, бодро увлек в стекляшку, где Андрей поспешно прилеплял прежние и свежие снимки.
— Пошел вон, — прорычал главврач. Дождавшись, когда за перетрусившим лаборантом защелкнется дверь, он склонился над экраном.
— Ну, что тебе сказать, дед? — главврач положил руку на колено всевластному олигарху, с тайным удовлетворением ощутив беспрерывную пульсацию. — Скажу по-мужски — хреново. На рентгене девяносто процентов — туберкулез правого легкого. Но вот на томограмме кой-какие сомнения. Хотя, конечно, приятного и там и там мало.
Опытным глазом он заметил, что пациент находится на грани срыва, и шумно приободрился:
— Всё равно лечится. Непросто — но лечится. А может, и вообще еще пневмония окажется. Есть такой шансик. Фон у тебя нехарактерный для верхних сегментов. Можно, конечно, сразу ко мне по туберкулезу класть, но — давай не будем суетиться и снимем все сомнения. Да тебе и некогда, — не удержавшись, подколол он. — Десять деньков проколем от души клофораном. Он и от того, и от другого годится. А там и поглядим, куда вынесет.
— Послушай. А не может это быть… — Осначев постарался придать взгляду и осанке твердости. Поколебался, решаясь, — онкология? Этот твой затемнение на стволе нашел.
— Чего?! — расхохотался главврач, быстро отводя глаза. — Нашел диагноста. Ты б еще с нашей уборщицей проконсультировался. Ты меня слушай. Я всё-таки докторскую по раку легких защищал. Так что — не принимай в голову. И вообще — у нас всё лечится.
— Кроме того, что не лечится, — мрачно пошутил Осначев.
— Видишь, сам всё понимаешь. Так что забирай из приемной своих дуболомов и — двигай. Да! Но питаться из отдельной посуды.
— Ты вот чего, — в дверях Осначев задержался. — Смету представь на полную реконструкцию. То есть… вообще на всё! Не стесняясь.
— М-да, — пробормотал вслед ему ошарашенный главврач. — Подлинно: науку питают несчастья. Успеть бы.
Отгоняя от себя скверные, недостойные врача мысли, трижды сплюнул через плечо.
3.
Осначев плюхнулся в «мерседес».
— На телевидение? — для проформы уточнил водитель.
— Домой, на Рублевку.
Шофер переглянулся с изумленным охранником, лихо развернул на месте тяжелую махину, включил сирену и на глазах у постового рванул под «кирпич».
С дороги Осначев набрал помощника.
— Всё готово, — доложил тот. — Фринштейн на телевидении. Ждут вас. Когда?..
— Не дождутся. Еду домой. Передашь, что у меня воспаление легких. Десять дней придется отлежаться.
— А… тендер?
— Всё на Фринштейне. И еще — проконтролируй, чтоб немедленно были отправлены подписанные деньги на детский дом.
Пресекая возражения, обрубил:
— Сегодня же изыскать!.. Меня чтоб не дергать!
Но «дернули» его прежде, чем добрался до дома. Позвонил взволнованный начальник службы безопасности.
— Мне передали: вы оставили хозяйство на Фринштейне. Но я же докладывал! Помяните мое слово: он «сдаст» тендер. «Засветит» нашу заявку и произойдет непоправимое — мы останемся без нефтяного ресурса!
— И только-то? — даже на расстоянии Осначев ощутил отвисшую челюсть собеседника. — Ничего. Бог не выдаст.
С мягким отстраненным выражением он откинулся на спинку сидения, — как же хотелось, чтоб и впрямь не выдал.
4.
— Ты?! Среди дня? — пораженная жена скосилась на напольные, восемнадцатого века, часы. — Так! Дай сама догадаюсь. Все-таки побывал в больнице! Что-то серьезное?
— Придется тебя огорчить: воспаление легких. Приговорен к десяти дням домашнего ареста. Отдаюсь на поток, так сказать, и разграбление. Сама и колоть будешь. Так что поизгаляешься по полной программе — за все свои обиды.
— Ну, ничего, воспаление легких — это не край света. Хоть отвлечешься ненадолго от своей суеты, — жена сочувственно сморщила нос, неумело сдерживая радость: в последние годы видела мужа урывками, больше — на официальных приемах.
— Надеюсь — ненадолго, — Осначев мрачно подмигнул своему отражению в зеркале. — Только это… мне отдельную посуду. Пневмония пневмонией, но — для чистоты, так сказать, эксперимента. И вот что, пожалуй…
С забытой нежностью он провел рукой по ее крашеным волосам:
— Будь добра, достань-ка там из загашников мои «недописки». Ну, ты помнишь. Холсты-то еще не перевелись в доме? Всё одно время терять.
Стесняясь расспросов, он поспешил скрыться в мансарде. «Значит, что-то серьезное», — безошибочно догадалась жена.
5.
— Да ты, похоже, в рубашке родился, — главврач, как заведенный, переводил взгляд с прежнего снимка на новый, не в силах осмыслить то, что видел. — Чисто! Все затемнения ушли. Выходит, всё-таки было воспаление. М-да, редчайший случай. Сейчас, задним числом, могу признаться, что мысленно тебя похоронил, — затемнение на стволе настолько было явно выраженным. Скажи кто другой, не поверил бы.
Будто избавляясь от наваждения, он протянул снимки порозовевшему Осначеву.
— Да и так как-то… посвежел. На диване валялся?
— Писал. Не поверишь, опять за картины взялся.
— Потянуло-таки?
— Не то слово. Правда, сначала тяжко — мазок пропал. Это ж как у вас — каждодневный труд надобен. Но теперь рука вспомнила, — втянулся. Думаю даже на выставку заявиться. Только сначала с накопившимися делами разгребусь… О, черт!
Он скосился на настольный календарь, схватился за телефон, сноровисто набрал номер:
— Что с завтрашним тендером?!
— Так вы вроде выключились, — начальник безопасности обиженно перевел дыхание. — К вечеру везем заявку. Но — я докладывал — нашу сумму Фринштейн «засветил». Так что результат, считайте, заранее известен.
— Кроме тебя кто насчет Фринштейна знает?
— Никто. Вы ж запретили…
— Отличненько! — напористо перебил Осначев. — Что и требовалось доказать. Вот теперь мы им, звездюкам, покажем ху есть ху. О звонке никому ни слова и — живо ко мне. Настоящую сумму пропишу и вручу лично тебе — вместе с полномочиями. Сдашь за десять минут до конца срока. Они меня похоронили? Тем лучше. Оказывается, с того света действовать сподручней.
Он бросил на рычаг трубку, торжествующе глянул на стоящего выжидательно главврача:
— Вот так-то, эскулап! Нас ждут великие дела. Ну, будь!
— Так это… — растерялся главврач.
— Ах да, — шагнувший к двери Осначев вернулся, сжал ладонь прежнего приятеля. — Спасибо тебе за хлопоты… Это что?
Он недоуменно скосился на папочку, которую главврач принялся неловко ему всовывать.
— Ты ж сам предложил. Насчет реконструкции. Мы тут за эти дни технико-экономическое обоснование подготовили. Чтоб не думал, что с потолка.
— А! Да, да. Давай, раз обещал. Прикину, чем можно помочь. Хотя сейчас такие расходы предстоят — мало не покажется.
Нетерпеливо махнув рукой, Осначев устремился к выходу.
В кабинет к главврачу вбежал дожидавшийся в приемной зам.
— Что?! Когда деньги дадут?
— Ты врачебные заповеди хорошо помнишь? — тихо поинтересовался тот.
— Ну?
— Так я тебе еще одну добавлю. Не спеши вылечивать богатеев.
6.
Банкет по случаю выигрыша тендера был организован в «Рэдиссон Славянской» с размахом.
Торжествующий нефтяной магнат снисходительно принимал поздравления, не прекращая давать интервью для завтрашнего «Коммерсанта»:
— Социальные программы — вещь, конечно, замечательная. Мы от них не отказываемся. Но есть и жесткая целесообразность. Раз мы стали сырьевой державой, то иного пути, как расширять бизнес, у нас нет. Я уже дал команду саккумулировать финансовые потоки на приобретение одного из газовых месторождений в Астраханской пойме.
Освободившись, он подозвал начальника охраны.
— Так что будем делать с Фринштейном? — убедившись, что никого нет рядом, спросил тот. — Может, просто пинком под зад?
— Хорошо бы. Но нельзя, — Осначев сокрушенно вздохнул. — О предательстве Фринштейна уже знают. Простить — значит, других поощрить.
— Тогда?.
— А что в войну с перебежчиками делали?
— Понял.
К концу вечера нетрезвый Осначев встрял в беседу двух священников, затеявших обсуждать чудесные обстоятельства, при которых император Константин спустя три столетия обнаружил колыбель, в коей вскормили младенца Христа.
— Да чего вы тут воду в ступе толчете, святые отцы?! — рявкнул он. — Тоже мне — таинство! Надо было обнаружить — и обнаружил! Я так думаю, букву «Х» нацарапанную узрел и сразу понял — «Христос»!
Упившийся олигарх осел на руки подоспевшего охранника.
— Ну что, сердобольный наш, убедился, наконец, что здесь толку не будет? Ты только вглядись в эту образину! И это, по-твоему, элитный образец? — язвили над ним. — Чудик! Сколько ж можно время впустую терять? Пора, наконец, план наверстывать.
— Да! — уныло согласился Он. — Пожалуй, вы правы: не случилось.
Затем перевел взгляд на раскинувшегося на постели мужчину, тяжелое смрадное дыхание которого заполнило комнату.
— Увы! — добрый ангел-хранитель, прощаясь, провел крылом над спящим, отчего на лице того вдруг выступило на секунду детское, наивное выражение, и с печальным криком отлетел.
7.
…— А вот самый свежий и самый, надо признать, уникальный в моей практике случай, — главврач развесил снимки. — Помните, конечно, в прошлом месяце скоропостижно скончался олигарх Осначев?
Студенческая аудитория заинтересованно зашумела.
— Так вот, обратите внимание. На левом снимке, сделанном за месяц до смерти, всё чисто. Можно сказать, безукоризненно. А вот это — через две недели. Вглядитесь — сплошная саркома. Будто не опухоль, а пожар полыхнул.
— И чем это можно объяснить? — поинтересовались из зала.
— Не знаю. С позиций чистой науки необъяснимо. Должно быть, просто истек его срок.
Скептические возгласы были ему ответом, — молодость не приемлет неопределенности.
04.01.2006
Охота на буйволов (рассказ)
Самолет из Джорджии прилетел полупустым. Среди пассажиров их не было.
Полосухин озадаченно разглядывал табло прилетов. Скверно получилось — еще не познакомившись с будущим работодателем, успел невольно проштрафиться. Но ошибиться он не мог: следующий рейс лишь через три часа. Должно быть, планы изменились. «Однако, если не прилетят, придется возвращать деньги», — сообразил он с неприязнью. Расставаться с тем, что уже считал своим, совершенно не хотелось.
Мобильник на поясе завибрировал.
— Может, объясните, почему нас с мужем никто не встречает? — произнес раздраженный женский голос.
Полосухин подошел к барьеру, глянул в нижний зал и сразу увидел этих двоих меж пассажирами, прибывшими из Кейптауна.
Поджарая жгучая брюнетка в джинсиках на бедрах с прижатым к уху телефоном хмуро озиралась вокруг. Лобастый пятидесятилетний мужчина в брезентовых шортах и шелковой, навыпуск пятнистой рубахе расслабленно опирался на заваленную чемоданами каталку.
— Уже подхожу, — Полосухин сбежал по лестнице, перемахивая через ступеньки.
— Мне передали, что вы прилетите из Найсны, — объяснился он, переводя сбившееся дыхание.
— Всё в порядке, Евгений Николаевич, — мужчина с успокаивающей улыбкой протянул руку. — Я — Дубицкий. Вчера нам с женой организовали чудную прощальную рыбалку в Кейптауне. Оттуда и вылетели. Похоже, вас забыли предупредить. — Он укоризненно глянул на смурную супругу.
— Ноу проблем. Машина на стоянке, — Полосухин изобразил радушный жест.
— Что ж, хорошо хоть не забыли прислать водителя, — женщина, подхватив мужа под руку, двинулась к выходу.
Полосухину предлагалось катить багаж следом.
Дубицкий высвободился. Отстранил Полосухина от каталки.
— Она раздражена с дороги, — мягко извинился он. — Попали в болтанку, вот, похоже, в голове еще не улеглось… Аннушка, — придержал он жену. — Я говорил тебе: банк планирует открыть в ЮАР представительство. Возможно, возглавит его как раз Евгений Николаевич. Нам его рекомендовала русскоязычная община Йоханнесбурга. Он любезно согласился встретить нас и отвезти на сафари. Так что прошу, как говорится, любить и жаловать.
На лице супруги проступила кислая улыбка:
— Анна Игоревна, — она протянула руку кистью вверх, — то ли для пожатия, то ли для поцелуя. Полосухин избрал среднее: изогнувшись, потряс кончики пальцев.
Хмыкнув, Анна Игоревна отправилась дальше. Туфельки ее напористо зацокали по кафелю.
Следом, держась за каталку, потянулись Полосухин с Дубицким.
— Я благодарен одному из крупнейших банков России за то, что остановились на моей кандидатуре, — поспешил воспользоваться моментом Полосухин. — И хочу заверить вас, Анатолий Павлович…
— Да, мне о вас хорошо отзывались, — мягко перебил Дубицкий. — У нас еще будет случай поговорить детально. Но одно непременное условие: все ваши действия как нашего представителя только во благо банка. Любой конфликт интересов, любая информация, что вы используете имя банка для решения собственных финансовых проблем, — и мы расстаемся. Безупречная лояльность служащих, — такова наша философия. Надеюсь, здесь у нас единая позиция?
— Само собой, — подтвердил, слегка запнувшись, Полосухин.
Они выбрались из здания аэропорта и подкатили багаж к автостоянке, где Полосухин притормозил каталку возле юркого «рено».
При виде малолитражки Анна Игоревна недоуменно фыркнула.
— По-твоему, это уровень приема? — уела она мужа. — Что теперь скажешь?
— То же, что и в Москве перед вылетом. Не стоит, если едешь на неделю, тащить пять чемоданов тряпок. По чемодану на день — всё-таки перебор.
— У тебя всегда я виновата, — насупилась Анна Игоревна.
— Я же предупреждала из Москвы, что понадобится большая машина, — выговорила она Полосухину, усаживаясь на переднее пассажирское сидение.
Полосухин и впрямь выглядел смущенным.
— В последнюю минуту сломался джип, — соврал он. — Пришлось ехать на своей.
Полосухин чувствовал себя скверно. Проклятье бедности. Привычка экономить на всем въелась до печенок и теперь может выйти боком. Он скосился на гостей. Да нет, вроде, по счастью, не заподозрили.
Полностью вещи в багажник не вместились. Один, самый большой чемодан втиснули в салон, так что Дубицкому пришлось примоститься боком, поджав ноги.
— Мы не опоздаем на сафари? — Анна Игоревна постучала по золотым часикам, то ли напоминая о времени, то ли демонстрируя дорогущую модель. — Спрашиваю, потому что с организацией у вас, похоже, проблемы.
— Успеем, — заверил, трогаясь с места, Полосухин.
На самом деле они сильно запаздывали. Потому Полосухин гнал от Йоханнесбурга, не считаясь с дорожными знаками. Стоял погожий январский денек. Горячее солнце лупило в лобовое стекло, изношенный кондиционер в салоне жужжал, потрескивая. Шоссе мягко перекатывало с холма на холм. Внезапно за поворотом в солнечных лучах что-то блеснуло.
— Не полицейский ли радар? — предположил Дубицкий.
Зыркнув на спидометр, Полосухин запоздало ударил по тормозам.
— Господи! Сделай так, чтоб это оказался негр, — пробормотал он.
Анатолий Павлович понимающе засмеялся.
После падения режима апартеида Южная Африка совершенно переменилась. Негры, дотоле затюканные, бесправные, заполонили стены колледжей, вузов, элитных учреждений. И прежде всего, хлынули в закрытые сферы, составлявшие гордость страны: в полицию и медицину. То есть туда, где, по мнению чернокожего населения, можно было заработать хорошие деньги. «Заработать» понималось как возможность брать взятки. Результат не замедлил сказаться. Медицина, прославленная во времена Кристиана Барнарда, стремительно деградировала. Полиция ЮАР, по уровню неподкупности превосходившая знаменитых английских бобби, с появлением чернокожих полицейских откатилась во вторую сотню.
«Лишь бы негр», — заклинали автонарушители, завидев полицейскую машину. «Лишь бы не негр», — молились по дороге в больницу.
Взращенный в СССР в духе интернационализма, Дубицкий стал замечать в себе ростки расизма. Гнобил себя за это.
Но в начале девяностых в России повторилось то же самое. Перестроечная пена выбросила на поверхность неприметных прежде людей, не привычных к тяжкому труду, но желающих всего и сразу. И эти новые принялись взахлеб расхапывать нажитое другими и проталкиваться на «доходные» места. Расизм оказался ни при чем. Люмпен любого цвета кожи вел себя одинаково.
Машина взлетела на следующий пригорок, и у Полосухина отлегло, — полицеских на дороге не оказалось. Зато внизу под ними сочным букетом полыхал на солнце развлекательный центр Сан-Сити. Стилизованные под замки корпуса едва проглядывали меж свезенной со всего света буйной тропической растительностью.
«Ренушка» рванула с холма. Крики попугаев и птичий клекот ворвались в салон.
— Может, завернем на пару дней? — Анна Игоревна ткнула пальчиком в сторону въездных ворот. Но безотказный обычно муж напоминающе постучал по барсетке с авиабилетами, — времени на Сан-Сити не оставалось. Кое-как удалось урвать сутки на сафари. А уже на следующий день он должен вылететь в Москву, чтоб успеть в Центробанк, на совещание по кредитной политике.
Не въезжая на территорию комплекса, машина свернула и, будто по серпантину, покатила под уклон вдоль витой, чугунного литья ограды. Через полкилометра спуска дорога вильнула вправо и, прорезав пышные кусты кипарисов, уперлась в деревянный шлагбаум. Праздничное буйство красок исчезло как не бывало. Впереди, сколько видел взгляд, простиралось выгоревшее плато с редкими низкими деревцами на пожухлой, вытоптанной траве.
Анатолий Павлович с наслаждением втянул ноздрями новые запахи.
— Вот это и есть савана! — сообщил он жене. Та разочарованно кивнула, с сожалением скосившись на кипарисы.
Впрочем, через секунду внимание ее переключилось.
Перед шлагбаумом стоял помятый, облупленный джип чероки — с брезентовой крышей, с покоцанными боковыми стеклами. Внутри, навалившись на руль, дремал негр-водитель. Может, оттого джип показался Анатолию Павловичу потрепанным штурмовиком, застывшим перед очередным боевым вылетом.
— Мы что, дальше на этом убоище поедем? — уничижительно обратилась Анна Игоревна к Полосухину. — Где остальные машины?
Других машин не было. Зато слева, за мелким кустарником, открылось хлипкое дощатое помещеньице, живо напоминавшее дачные времянки советских шестидесятых. На крылечке крупная негритянка, обильная плоть которой выпирала из-под блузки, оживленно беседовала с девчушкой с облупленным носиком и выгоревшими на солнце русыми волосами. Беседа выглядела миролюбивой, но небезопасной для девушки, стоявшей на ступеньку ниже. Темпераментная негритянка горой нависала над хрупкой собеседницей. Казалось, еще движение, и могучие груди ее водрузятся на девичьи плечики и подломят их.
Впрочем, несмотря на оживленную артикуляцию, голосов их не было слышно. Все звуки с легкостью забивал заливистый, с привизгом голос, разносившийся от края поляны. Высоченный курчавый парень с грузной, пошедшей вширь фигурой, разговаривал сразу по двум мобильникам. Похоже, он проводил селекторное совещание, потому что по очереди подносил телефоны к уху, выговаривал абоненту, а другой, свободной в этот момент трубкой, решительно рубил воздух.
— Мне всё едино, как вы это сделаете!.. — объявил он во всеуслышание. — Что ж, что директор департамента?! Банковские директора тоже не по воздуху летают. Где-то живут. С кем-то общаются. Узнай фамилию. Заплати людям, выйди на домашний адрес, вотрись в доверие. Жену какую-нибудь зачуханную соблазни, наконец! Не умеешь, так просто подкарауль у подъезда да бухнись на колени. Так, мол, и так, родненький благодетель! Губят на корню хорошее дело… — он поднес ко рту одновременно оба аппарата. — Кто бил себя в грудь, что в банке всё схвачено? Вот теперь и отрабатывайте, обормоты! Или я вас обоих обработаю так, что мало не покажется. Бабло получать было не внапряг… Мне нужен этот кредит, а как вы его выбьете, — ваши проблемы!
Обернувшись, он заметил, наконец, вновь подъехавших и поспешил прервать разговор.
— Это называется — от чего уехали, к тому и приехали, — констатировал озадаченный Анатолий Павлович.
Жена его понимающе засмеялась. Захваченная новой догадкой, обернулась на джип.
— Так мы что, еще и не одни едем? — насторожилась она.
Полосухин, достав квитанцию, подошел к негритянке. Меж ними возникла легкая перепалка. Полосухин упрекал, женщина вяло отбивалась.
Вернулся он смущенный. Оказывается, они всё-таки опоздали, так же как и другая пара. И стоящий джип — дежурный, специально чтобы довезти отставших туристов до места охоты. Но зато! — Полосухин приободрился. — На базе дожидается персональный внедорожник с кондиционером, в котором с утра они и выедут на сафари в полной изоляции. Никакой коммуналки! Всего пару часов неудобств.
Анна Игоревна фыркнула.
— Что ж, сами виноваты, — Дубицкий с усилием выпростал из машины затекшие ноги, достал из багажника дорожную сумку, — остальной багаж оставался с Полосухиным. — Значит, договорились, после сафари встречаете на этом месте.
Прежде чем вылезти вслед за мужем, Анна Игоревна задержалась.
— Встретите на нормальной машине! — отчеканила она.
Полосухин позеленел.
Негритянка меж тем распахнула перед туристами дверцу джипа.
Сидение рядом с водителем предназначалось для сопровождающего. Пассажирам были отведены два ряда — каждый из трех посадочных мест. При этом проникнуть на заднее сиденье можно было, лишь откинув крайнее кресло впереди.
Когда Анна Игоревна подошла к джипу, на переднем из двух рядов стояла женская джинсовая сумка. Девчушка, ее обладательница, отошла в сторону, давая возможность попутчикам пролезть назад.
Анна Игоревна рассудила иначе. Ничтоже сумняшеся перекинула чужую сумку на последний ряд и уселась на освободившееся место.
— Толя! — обратилась она к мужу, — пропусти сначала ребят. Потом устраивайся рядом со мной.
Даже привыкший к жениной безапелляционности Анатолий Павлович смешался, обернулся к застывшей девчушке.
— Ничего, ничего! Я как раз люблю сзади, — растерянно пролепетала та.
— А с какого, собственно, перепуга мы должны пересаживаться? — к джипу подошел ее спутник. Не остывший еще от горячей телефонной конференции. — Мы как будто раньше вас заняли места.
— Потому что вас к нам подсадили, — снизошла до объяснения Анна Игоревна. — И потом, надеюсь, вы не намерены воевать из-за места с женщиной.
— А я здесь с кем?! — парень начал пунцоветь. — И кого, интересно, к кому подсадили?
Девушка поспешно огладила его плечо:
— Лешенька, пожалуйста. Мне взаправду, — сзади даже удобней.
Гнев Лешеньки перекинулся на спутницу.
— Да тебя хоть в багажник запихни. Тихой сапой, чтоб ни с кем ни гугу! Одно слово — Юлька-дулька! Только я-то не привык, чтоб меня за багаж держали.
Анатолий Павлович заметил, что белесые Юлины реснички обиженно задрожали.
— Из-за чего конфликт? — вмешался он. — Мы с Алексеем уступим передние места женщинам, а сами заберемся назад. Думаю, это будет справедливое решение.
Задиристый Лешенька негодующе зыркнул на попутчика, но — что-то заставило опамятовать.
— Чего уж? Сидайте, плиз. Как там в песне? Старикам везде у нас почет, — вслед за подругой он втиснулся назад. — Но имейте в виду, — завтра махнемся.
Анна Игоревна, знавшая, что назавтра их разведут по разным машинам, благоразумно смолчала.
Из будки с карабином в руке вышел рейнджер. В коричневой рубахе и мягких сапогах, фетровой, с загнутыми полями шляпе, с морщинистым, сожженным на солнце лицом. Концы пшеничных усов обвисали, скобкой закрывая узкую полоску рта. Казалось, время отступило на столетие, и перед ними предстал бур, вышедший поквитаться с англичанами за сожженную ферму. От него веяло привычкой к опасности.
Рейнджер уселся рядом с водителем, приставил карабин к сапогу, приподнял шляпу. Взгляд его с удовольствием задержался на русых Юлиных волосах, на личике, бледном и обгорелом, будто луковичная кожурка.
— Хэлло. Надеюсь, господа, наша прогулка окажется приятной, — шутливо обратился он на английском языке, одновременно убеждаясь, что его понимают.
Юля зашептала на ухо спутнику.
— Оружие вам раздадут завтра утром, перед охотой, — сообщил рейнджер. — До ранчо мы едем по территории, где хищников не будет.
— А если нарвемся на какого-нибудь заблудшего? — пошутил Леша и, единственный, загоготал. Юля неохотно перевела.
— Пока я рядом, бояться нечего! — рейнджер демонстративно передернул затвор карабина, заставив пассажиров уважительно поежиться.
Хотел продолжить в том же, шутливом духе, но один из двух Лешиных телефонов затрезвонил. Леша схватил его и тут же, перебив звонившего, заливисто закричал:
— А мне плевать, твою мать! Вывернись, но сделай! Нам без этого кредита полный облом. Если надо, раком по ихнему банку ползи, голову под залог клади!.. Хотя кому твоя башка нужна?..
Юля заметила, что попутчики брезгливо переглянулись.
— Леша! — она настойчиво тряхнула его за локоть.
— Короче, чтоб без базара! Добейся и перезвони! — Леша отсоединился, надсадно задышал.
Анна Игоревна демонстративно прочистила уши.
— Повезло нам с компанией. Это вы всю дорогу так собираетесь? — она показала на мобильники.
— За компанию извиняйте. Я не набивался, — огрызнулся Леша. Замолчал. Но изнутри распирало, — не привык, когда последнее слово остается за другим.
— Придется потерпеть. Я, видите ли, бизнесмен, — объявил он, обращаясь отчего-то к Дубицкому. Оборотился к Анне Игоревне. — Может, слышали, мадам? Есть такая профессия — бизнесом заниматься. Скоро ее совсем на нет изведут. Но пока еще есть кое-где кое-что! И это не от девяти до шести по трудовому кодексу, а круглосуточно. Потому что, если хоть на час отключусь, то пролечу, как фанера над Парижем.
— О профессии слышала, — не задержалась с ехидным ответом Анна Игоревна. — Только, если ничто, кроме денег, не интересно, зачем ехать на край света, чтобы отравлять жизнь другим?
Не дав попутчику ответить, высунулась в окно:
— Мы поедем наконец? — попеняла она отправляющей.
Негритянка подняла шлагбаум и энергично замахала, будто кондуктор на Диком Западе, отправляющий в опасное путешествие почтовый дилижанс.
Джип неспешно кандыбал по пыльной, ухабистой дороге. Похоже, савана давненько не ведала дождей. Сколько мог выхватить глаз, кругом желтела пожухлая трава с кустарником в низинах и чахлыми, оплетенными лианами деревцами.
Возле дороги бродили, поклевывая, длинноногие птицы.
— Какие маленькие цапельки! — умилилась Юля.
— Да будет вам, милочка. Обычные ибисы, — снисходительно подправила ее Анна Игоревна. — В Сиднее мы на них нагляделись. Помнишь, Толя? Мы в тот раз в Австралию через Японию летели. Так вот их там помоечниками зовут. Вроде наших ворон.
— Но ведь не наши, — мягко подправил жену Анатолий Павлович.
Анна Игоревна хотела огрызнуться, но глазенки Юли вновь округлились.
— Глядите, матрасики! — по-девчоночьи вскрикнула она. У дороги прогуливалось семейство зебр.
— О! Где вы, мои буйство глаз и половодье чувств? — иронически продекламировала Анна Игоревна. Но, поскольку все отвлеклись на зебр, она и сама принялась их разглядывать.
Одно впечатление сменяло другое. Туристы жадно крутили головами. То справа, то слева доносились восклицания, и остальные бросались на звук от окна к окну.
Восторг охватил всех. Даже неуемный бизнесмен Леша на время поставил телефоны на вибрацию и обменивался впечатлениями с Анатолием Павловичем. Со всем непонятным обращались к рейнджеру, и тот, захваченный общим воодушевлением, охотно разъяснял.
Разительная перемена произошла с Анной Игоревной. Перестав думать, как выглядит со стороны, она прижала кулачки к груди. Рот в изумлении приоткрылся. Из-под облика манерной, язвительной дамы проступила восторженная девчонка, какой она была до того, как муж стал первым вице-президентом крупнейшего банка. Губы Дубицкого тронула нежная улыбка, — такой он ее по-прежнему любил.
— Погляди, Толечка, на этих красавиц, — выдохнула она.
В лучах солнца золотилось стадо антилоп.
— Это как раз те, в кого ты завтра собираешься стрелять, — напомнил муж.
Анна Игоревна помрачнела. Беспардонный Леша на заднем сидении загоготал.
— Вам, мадам, прежде-то убивать доводилось? — поддел он.
Презрительное молчание было ему ответом.
— В первый раз, — ответил за нее муж. — В Подмосковье на охоту как-то брал с собой. Так даже по зайцу, как дошло, не выстрелила. А тут вдруг кровожадность обуяла, — на антилоп захотелось.
— То русский заяц, а то чужеземная антилопа, — отбрила жена.
— Ой, кто это?! — Юля со страхом ткнула пальчиком в высокий кустарник, над которым раскачивалась неведомая ушастая голова. — Может, змеища?
Загадка разрешилась, как только проехали кустарник. Голова, как оказалось, принадлежала жирафу. Расставив ноги он флегматично срывал побеги с верхнего, недоступного другим животным яруса.
Энтузиазм не угасал. По просьбе туристов, машина то и дело останавливалась. Выскакивали фотографировать диковинных зверей и себя — на их фоне.
Внезапно водитель ударил по тормозам.
Пассажиры, в предвкушении чего-то новенького, полезли было из машины, но рейнджер предостерегающе поднял руку и постучал по лобовому стеклу.
Сначала показалось, что поперек дороги упало бревно. Ну, упало и упало. Считай, тот же «лежачий полицейский». Подкатил да переехал.
— По тормозам-то зачем со всей дури лупить? — озвучил общее недоумение Леша.
Рейнджер скупо улыбнулся в пшеничные усы, призывая к вниманию.
Всё-таки человеческий глаз — механизм вторичный. Видит то, что подсказывает ему мозг. Мозг увидел бревно. А что еще должен был увидеть российский мозг на пропыленной грунтовой дороге? Но с чего тогда поднял руку рейнджер и отчего машина остановилась, не подъезжая вплотную? И откуда вообще свалилось бревно посреди голой саваны? Не зверье же приволокло.
И тогда только, приглядевшись, распознали в бревне здоровенного, метра на три, крокодила.
— Откуда он взялся?! — загалдели туристы. Рейнджер с важностью показал далеко вперед, на низину.
Джип потихоньку объехал по дерновине перегороженный участок. Еще долго пассажиры оглядывались назад. Но почему крокодил прополз от воды по растрескавшейся почве добрые пару километров, куда следовал, так и осталось невыясненным.
Приблизились к воде. Это оказались заболоченные, поросшие осокой озерца, усеянные горбатыми кочками. Что за кочки? Хотели спросить у рейнджера, но тут догадалась Юля.
— Ой! Это ж балдеющие бегемотики! — в девчачьем восторге захлопала она в ладоши.
Принялись стрелять фотоаппаратами прямо из окон. «От бедра», — сформулировал Леша. Стремясь сгладить первое, неблагоприятное впечатление, он изо всех сил острил и оказывал попутчикам мелкие услуги.
Вскоре открылось новое невиданное зрелище — слева от дороги паслись несколько носорогов.
Туристы с фотоаппаратами и камерами посыпали из машины прежде, чем она остановилась.
— Внимание! От джипа не отходить, — предупредил рейнджер.
Но вошедшая в раж Анна Игоревна с камерой наизготовку уже устремилась к стаду. Предупреждение она то ли не расслышала, то ли проигнорировала.
— Аларм! Стоять! — истошно гаркнул зацепившийся за ремень безопасности рейнджер. Анатолий Павлович, распознавший в голосе его нешуточный испуг, побежал за женой. Но Леша опередил. С неожиданной в грузном теле реакцией стартанул с места, в несколько прыжков нагнал беглянку и, ухватив за локоть, отдернул назад.
От подобного панибратства Анну Игоревну перекорежило.
— Что вы себе позволяете? — прошипела она. — У вас есть девочка для путешествий. Вот с ней и извольте подобным образом обращаться.
Леша не сразу понял. А когда понял, вспыхнул:
— Ты-то за кого себя держишь? Австралия через Японию! Сиднеи-хренеи! Легко умничать, когда другие для тебя бабок наскирдовали. За километр видно, что приживалка при мужике, а гонору, будто и впрямь чего-то сама по себе стоишь!
Теперь запунцовела самолюбивая Анна Игоревна. Набрала воздуху достойно ответить. Но подоспел Анатолий Павлович, а следом разгоряченный рейнджер. От вальяжности его не осталось и следа.
— Шестьдесят метров, мадам! — выкрикнул он. Опасливо скосился на стадо. Несколько успокоенный, дождался, когда подойдет Юля, носком сапога провел по песку. — Шестьдесят метров — его демаркационная линия. Мирный вид носорогов обманчив. Особенно для простодушных зевак, не знающих носорожьих повадок (Анна Игоревна фыркнула). На самом деле это чрезвычайно опасные, непредсказуемые существа.
Рассказ рейнджера, воодушевленного жадным вниманием светловолосой Юли, сделался вдохновенным.
— Глаз носорога устроен таким образом, что мысленно очерчивает расстояние, которое полагает своей территорией. Если ты находишься хотя бы на метр дальше, носорог не обращает на тебя внимания. Ты для него не существуешь. Но вот ты сделал еще шаг и неведомо для себя переступил демаркационную линию. И носорог получает мозговой импульс. Он не угрожает, не совершает отпугивающих маневров. Просто разворачивается и молча, без объявления войны атакует. И ему всё равно, кто перед ним. Рассвирепевший носорог не ведает чувства опасности. Он разгоняется, набирая ход. И дай тебе бог успеть заскочить в машину. Хотя и это не всегда спасает. Носорожий рог, даром, что полый, запросто пробивает железные боковины машины. При случае может и перевернуть.
Что-то в поведении носорогов рейнджера насторожило.
— В машину! — потребовал он и подкинул карабин, как бы готовясь прикрывать отход группы.
— Стращают детскими страшилками, лишь бы туристов привадить! — уязвленная Анна Игоревна с неохотой повиновалась.
Леша озадаченно проводил ее глазами.
— Рождаются же такие грымзы, — процедил он в никуда. — Другая бы поблагодарила.
— Спасибо.
Леша вздрогнул. Возле него незаметно оказался Анатолий Павлович. Леша — что на него было непохоже, — смутился:
— Извини, конечно, отец. Не хотел обидеть. Но, похоже, баба твоя без тормозов.
— А сам?
— При чем тут я? — Леша удивился, сообразил. — А, ты про то, что матерился в машине. Это да, это неправ. Понимаешь, — попал я крепко. Со дня на день дело, можно сказать, жизни решается. Вот нерв и разгулялся.
— Нервы нервами, но реакция будь здоров, — Анатолий Павлович кивнул на носорожье стадо.
— Это от спорта осталось. Я ж в недавнем прошлом кролист-международник. На Олимпиаду отбирался. А кролисту без скорости нельзя. Таких, как я, два-три на сотню было.
— А сейчас?
В руке Леши завибрировал мобильник. Он одним глазом, будто на активированную гранату, глянул на дисплей, шумно выдохнул.
— А сейчас, похоже, полная задница… Ну, чем порадуешь? — прорычал он в трубку и отошел в сторону.
Вслед за женщинами Дубицкий вернулся в салон. С улицы донеслась порция раскаленного мата.
— Уфф! — Анна Игоревна демонстративно помахала перед собой ручкой.
— Послушай, детка! — обратилась она к Юле. — Я понимаю: у каждого свой хлеб, кому-то и в эскорте приходится ездить. Но — какие ж деньги надо, чтоб такое мурло терпеть?
— Аня! — резко осадил жену Анатолий Павлович. Даже в полутьме было заметно, что Юлино личико пошло пятнами.
— Да я не с тем, чтоб обидеть, — как могла, оправдалась Анна Игоревна. — Тем более, ты, вроде, и за переводчика. Просто уточнить — давно с ним? Месяц-два? Или только на поездку?
— Со школы, — сухо ответила Юля.
Оплошавшая Анна Игоревна, чтоб загладить бестактность, присвистнула:
— И столько лет терпишь?
— Терплю третий год! — к удивлению остальных, ответила Юля.
— То есть вы муж и жена?
— Сожители, — неохотно уточнила Юля.
В салоне установилось неловкое молчание.
— Он за мной после школы долго ходил. Всё добивался.
Вернулся пасмурный Леша, буркнул что-то на вопрос подруги. Та зашептала увещевающе.
— Да ты-то хоть заглохни, подпевала! — рявкнул Леша, так что Юля отшатнулась, вжалась в противоположную дверцу.
— Добился! — констатировала Анна Игоревна.
До фермы, где путешественников ждал ужин и ночлег, оставалось с час езды.
Какое-то время еще подталкивали друг друга, хватались за видеокамеры и мобильники. Но незаметно пресытились всеми этими зебрами, антилопами, носорогами. Принялись позевывать, клевать носами. Даже рейнджер, склонившись к карабину, мерно покачивался в такт движению.
— Пора бы и поесть. Где ж ваша база? — напомнила о себе Анна Игоревна. Рейнджер встряхнулся, непонимающе огляделся. Что-то гортанно бросил водителю. Тот остановил машину, виновато развел руками.
— Никак заблукали, — сообразил Леша.
Рейнджер вытянул карту.
— Неопытный водитель. Не на ту дорогу свернул, — объяснился он, шаря по карте фонариком.
Вновь затрезвонил мобильник.
— Какая еще справка? — в своей нахрапистой манере перебил невидимого собеседника Леша. — И что?..
Он загородил рукой мобильник. Обернулся к подруге.
— Справку для банка о платежеспособности ты писала? Откуда взялась цифра о задолженности перед стеклозаводом?
— Так из баланса, — Юля испуганно сглотнула.
— Из какого баланса, дура?! — рявкнул Леша. — Это ж долгосрочная, а не срочная к взысканию. А нам из-за этого кредит завернули. Ну, если у самой извилин не хватает, посоветовалась бы лишний раз!
Заметил осуждающие взгляды.
— Осуждатели собрались, — зло бросил он. — Непиететно себя веду, видите ли! Вот такие осуждатели и есть самый тухляк. Только чтоб, не дай бог, их спокой не задели. Кто-то на жилах дело делает, а как дело бабками обрастает, тут же находятся любители нахаляву его заглотить. И ни один осуждатель против не пикнет. Потому что всем вокруг по барабану!.. Выпусти, отец, чтоб не при вас! — потребовал он у Дубицкого. — Один черт, пока этот Сусанин разберется…
Он выбрался из машины, с силой захлопнул дверцу снаружи и, отойдя на несколько метров, возобновил телефонное общение.
— Хочешь совета? — произнесла Анна Игоревна. Не дождавшись согласия, потребовала. — Брось его к черту! Вернешься и — тут же, не раздумывая… Или опять, скажешь, я не права? — она заметила негодующий жест мужа.
— Вечно ты с полоборота! — не сдержался Анатолий Павлович. — Это ж чужая жизнь! Двое годами разобраться не могут. А тебе пяти минут хватает.
— Вообще-то со школы у меня другой был, — Юля, хоть и не отошедшая от обиды, благодарно кивнула. — Даже свадьбу назначили. Но Лешка — он чистый носорог. Если чего решил, всех растолкает. Вот и растолкал. У меня мама, сестренка. Всё для них делал. Сестренка больная, так единственную машину продал, чтоб ей на операцию. До ночи у подъезда с цветами караулил. Я с другим гуляю. А он — с цветами. Так потихоньку и захомутал… — она сглотнула. — Это уж потом, как деньги повалили, ему крышу снесло. И со мной, похоже, уверовал, что навеки вечные. Может, и впрямь уйду. Только сначала с кредитом этим треклятущим, дай бог, проскочим… Не бросать же в беде.
— В беде?! Это у такого-то хряка! — съязвила Анна Игоревна. — Да он, как печка, пышет самодовольством.
— Зачем так? Вы ж не знаете! — вступилась Юля. Смутилась внимательного взгляда Дубицкого.
— Но ведь в самом деле не знаете! Леша — это правда, невыдержанный. И самомнения вагон. Зато и страдает. Но по сути-то… Они с другом хорошие деньги заработали. Могли бы отстроиться по жизни небедно. Но вложили всё в «просевший» завод. Реально просевший. Там двести человек народу. На собрании все двести чуть не на колени встали, чтоб согласились. Мол, семьи, дети голодные. Лешка повелся. Он такой! Шашку наголо и — вперед. Пять лет надрывались. Перезанимали, чтоб зарплаты платить, модернизировать. И — подняли. Вопреки всему. А теперь, когда пошла прибыль, на завод положили глаз… В общем, губернатор наш. Его из Москвы посадили со своей командой. Все голодные до чужого. Москвичи, словом! Ну, и стали нагибать, чтоб отдать за бесценок. Леша уперся. А те, которых спас, первыми отступились, — акции свои слили. Вот и обложили. Да так ловко… Налоговая, экономическая полиция отовсюду. Если не перекредитуется, начнут банкротить. А в городе у нас, сами понимаете, всё сплетено. Банки дружно отказали, хотя до того — ни одной просрочки…Последняя надежда остается на Москву, на Внешторгбанк. Вот и психует.
Муж и жена переглянулись.
— Почему именно ВТБ? — осторожно поинтересовался Анатолий Павлович.
Юля вяло повела плечиком:
— Лешин приятель из Москвы организовал. Деньги за посредничество взял. Я сама обналичивала.
— Кидала, конечно? — Анна Игоревна понимающе усмехнулась.
— Да, вроде, нет. Свел с каким-то банковским представителем. Всё согласовали. Тот пообещал вывести на первого вице. Как его? — она напряглась. — Дубровский, что ли? Нет, Дубровский у Пушкина. Во! Дубицкий. Не знаете, есть такой?.. И вдруг накануне Леша объявил, что на сафари едем. Мол, всё само собой решится. Я согласилась. Он же совсем бешеным стал. На людей кидаться начал. Думала, и впрямь без него обойдется. А теперь сами слышали: бумажки не так составлены, хотя я всё по ихним же формам…
Дубицкий еще раз переглянулся с женой. Анна Игоревна поняла мужа.
— А здесь, в ЮАР, кому-то платили? — мимоходом, вроде чтоб поддержать разговор, полюбопытствовала она.
— Здесь? — Юля пожала плечиками. — Кондукторше этой сто долларов, так и не поняла за что… Да, еще вчера Леша куда-то уходил, а по возвращении велел вписать в расходы пятьсот долларов. Я ж семейный бюджет веду. А больше…
Вернулся Леша. Багровый, тяжело дышащий, втиснулся на заднее сидение. Откинувшись, прикрыл глаза.
Машина вновь тронулась.
— Что? — среди полного молчания осторожно поинтересовалась Юля.
— Завтра по-любому возвращаемся.
Вдруг хихикнул:
— Ты вон меня прикалывала, что оружейный склад в подполе развел, а, глядишь, пригодится. Обмотаюсь гранатами, как матрос Железняк. И — буром сквозь погонял к губернаторишке. Или подписывай «отказник», или вместе к верхним людям… Чтоб без проблем! — процедил он мечтательно.
— И окружающим бы легче стало, — не удержалась Анна Игоревна.
Дорога всех укатала. Разговоры смолкли. К тому же начало смеркаться. Пассажиры вновь задремали.
Очнулись от сильного бокового толчка. Машина едва двигалась. Приглушенный свет фар скупо выхватывал местность. Движок работал чуть слышно. Рейнджер, буквально воткнувшись в лобовое стекло, вглядывался в темноту. Вокруг стоял неясный, пугающий гул и интенсивное шуршание, будто терли друг о друга листы наждачной бумаги. По салону распространялся острый, неприятный запах.
Машину вдруг с силой качнуло, так что левые колеса на секунду оторвались от земли. Перепуганные путешественники прижались к окнам, принялись вглядываться в густеющие сумерки. И — разглядели. Слева и справа от джипа угадывались массивные силуэты.
— Что это?! — просевшим со страху голосом произнесла Анна Игоревна.
Рейнджер, предупреждая возгласы, вскинул руку. Обернулся. На глазах у него оказался прибор ночного видения.
— Буйволы, — шепотом пояснил он.
Оказалось, их угораздило вклиниться на пути огромного стада.
— Может, тихонько подать задом? — предложил Леша.
Но сам же безнадежно махнул рукой: джип застрял накрепко, — кругом, сколько выхватывал глаз, колыхались коровьи туши. Внезапно гул и шуршание прекратились. Стадо, как по команде, остановилось. В сумерках стало видно, как вперед вышел огромный, матерый самец («Вожак», — шепотом пояснил рейнджер) и принялся принюхиваться.
— Чего это он? — прошептала Анна Игоревна.
Рейнджер стянул со лба прибор ночного видения и пустил по кругу. Впереди, метрах в двухстах, в ночи горели различимые через прибор огоньки.
— Львы, — тихонько пояснил рейнджер. — Не меньше тридцати штук. Ждут, когда буйволы подойдут поближе.
— И что тогда? — пискнула Юля.
— Тогда и кредитом можно не заморачиваться, — нервно пошутил Леша.
Вожак меж тем продолжал принюхиваться, шумно работая широкими ноздрями. И хотя прямой угрозы не замечал — львы укрылись с подветренной стороны — что-то его смущало. По его знаку двое рослых буйволов (как объяснил рейнджер — адъютантов) выдвинулись из стада и углубились во тьму, выглядывая опасность.
— Щас львы на них кинутся, — тихонько ахнула Анна Игоревна.
Рейнджер отрицательно покачал головой. Склонился к пассажирам и, прикрыв рот руками, зашептал:
— Дураков нет. Лев при нападении прыгает сверху, стараясь перебить хребет. Перебить же хребет взрослым буйволам, да и коровам он не может. К тому же раненый буйвол запросто пока лечит нападающего. Поэтому задача львов добраться до самочек и молодняка. А задача вожака — их защитить.
Словно подтверждая его слова, стадо принялось быстро и бесшумно перестраиваться: молодых самок и телят загнали в середку. Крупные коровы расположились вокруг них. А еще шире — по краям колонны, встали матерые буйволы.
Вернулись адъютанты. Судя по всему, ничего не унюхав. И всё-таки вожак продолжал колебаться. Что-то смущало его.
— Может, посигналим да объедем? — не выдержала Анна Игоревна. — Мы не Маугли. И это не наши разборки. Сколько ждать будем?
— Сколько потребуется, чтоб живыми выбраться, — злым, придушенным голосом рубанул рейнджер. Получилось чрезмерно резко. Он показал на сгорбившегося водителя. От природы черный, как вар, тот сделался серым. — Вы что, до сих пор не поняли? Если львы кинутся, и стадо побежит, нас так втопчут, что потом отскабливать от земли придется.
Звук сминаемого железа заставил пассажиров отшатнуться от окон, — кто-то из буйволов притерся к дверце. Ужас охватил путешественников. До сих пор они представлялись себе зрителями, которым повезло наблюдать опасные звериные игры, оставаясь защищенными металлическим коробом.
И вдруг в одночасье до всех дошло, что за тоненькими листиками железа, сминаемого даже при легком прикосновении, они были не в большей безопасности, чем если бы бродили посреди стада.
Анна Игоревна придвинулась к мужу, с силой прижалась, непрестанно подрагивая.
— Лешенька, нас убьют? — послышалось Дубицкому. Он скосился назад.
Леша, обхватив Юлю, без усилия приподнял и уложил на сидение, а сам навис сверху, прикрыв собой.
— Да ты чего, в натуре, дуреха? — бормотал он. — Разве я кому дам тебя тронуть? Даже в голове не держи.
Рейнджер, не стесняясь, погрозил кулаком.
Прошел час, другой. Спасаясь от нестерпимого животного запаха, сидели, прикрыв носы и рты платками либо обмотавшись шарфами, и с надеждой посматривали на вожака. Вожак стоял, недвижимый. Глаза львов горели впереди, — засада не снималась. Все выжидали. В свете подфарников прошмыгнула какая-то пигалица на тоненьких ножках.
— Шакал, — угадал Анатолий Павлович.
Шакал подкатился к вожаку, постоял рядом, в свою очередь, принюхался и — бочком-бочком — исчез в темноте.
Вожак, упершись в землю, продолжал вслушиваться. Стадо послушно выжидало.
— Поверни, поверни, — заклинал взмокший от пота рейнджер.
Будто услышав его, а скорее, следуя подсказке шакала, вожак подал знак. Стадо задышало, зашуршало, развернулось, и, обтекая машину, походной колонной тронулось вспять.
Саванна быстро опустела. В салоне облегченно задышали.
— Так мы что, живы? Тогда немедленно откройте этот сортир, — Анна Игоревна, как и все, измаявшаяся, потянулась распахнуть дверцу.
— Сидеть! — рявкнул рейнджер. — Вы что, о львах забыли?!
Он перевел дыхание.
— На машину лев не кинется. Она — абстракция. А вот если выйти, отделиться, то вы для него становитесь вроде обезьяны. Недавно двух японских туристов загрызли, — для убедительности припугнул он.
— Так откуда ж львы? — Анна Игоревна, не любящая попадать впросак, нахмурилась. — Буйволы-то ушли.
— А вы гляньте, — рейнджер протянул ей прибор ночного видения. Впрочем, и без прибора стали различимы подошедшие новые, гибкие тени. Львы, раздраженные неудачей, двинулись вслед за стадом, рассчитывая опередить его, чтобы найти место для новой засады.
Рейнджер, приоткрыв стекло, напряженно вслушивался. Наконец откинулся.
— Пронесло! — выдохнул он. — Думал уж, не выкарабкаемся.
Анна Игоревна закрутила руками, призывая мужа выпустить ее наружу. Но уже в следующее мгновение сползла меж сиденьями, где ее и вывернуло.
— С воскрешением! — съехидничал Леша. Просевшим, впрочем, голосом.
Через полчаса добрались до фермы.
— На охоту встаем в шесть утра, — деловито объявил рейнджер.
Первой слабо пискнула Юля. Следом нервным смехом зашлась Анна Игоревна. Перебивая ее, загоготал Леша. Дубицкий поначалу сдержался, но смех заразителен, — вскоре его голос присоединился к остальным. А когда уж почти иссякли, прыснул и рейнджер.
На другое утро на той же машине вернулись в Сан-Сити. Обратную дорогу Леша угрюмо сидел, приобняв Юлю. В салоне было непривычно тихо, — отключенные бизнес-телефоны беспомощно торчали из барсетки. Дубицкий и Анна Игоревна пытались его поначалу растормошить, со смехом вспоминая о вчерашнем кошмаре, но тот в ответ едва кивал, — из хлопотливого здоровяка словно откачали воздух.
На полпути рейнджер объявил зеленую остановку.
— Если есть желание, можете отдышаться… Кому надо, мужчины направо, женщины налево. Обещаю не подглядывать, — пошутил он.
Притомившиеся пассажиры полезли наружу.
Анна Игоревна с Юлей, оглядевшись, укрылись в мелком кустарничке слева от дороги.
Дубицкий отошел в сторонку, потужился, — разросшаяся предстательная железа всё больше отравляла жизнь. Беззастенчивый Леша пристроился подле, с любопытством скосился.
— Что? Не журчит? — заметил он.
Анатолий Павлович покраснел, поспешил застегнуться.
— Ничего, отец! Главное, чтоб стоял, — как умел, извинился Леша.
Дубицкий выжидал, не сомневаясь, что последует дальше, — разговор, ради которого попутчик затеял эту поездку. Но Леша, прикусив губу, молчал.
— Мне казалось, вы хотите ко мне с чем-то обратиться, — подсказал Дубицкий.
Леша хмыкнул:
— Хотел. Еще как хотел. Аж до Африки дохотел! — подтвердил он со злым смешком.
— Ну так?.. — поторопил Дубицкий.
— Раздумал. Думал-думал и… Решил, что не хрен своими проблемами других грузить. Да еще с подходцами. В общем, не принимай в голову, отец! Как-нибудь перемужествуем. Пошли на посадку! Похоже, Сусанин торопит.
Рейнджер и впрямь напоминающе махал им рукой.
Стараясь выглядеть бодро, Леша зашагал к машине. Изумленный Дубицкий озадаченно почесал подбородок и двинулся следом.
У шлагбаума путешественников дожидались две машины: такси и крутой внедорожник, возле которого нервно курил Полосухин.
Леша, первым выбравшись из машины, помахал прощально рукой и зашагал к такси.
Юля подбежала попрощаться к Дубицкому.
— Как вы на меня вышли? — спросил тот.
Юля непонимающе заморгала.
— Я — Дубицкий! — произнес Анатолий Павлович. Юлины глазенки округлились. — Тот самый. И ваш друг знал об этом.
— Леша?! — выдохнула девушка.
— Потому вы и здесь.
Юля стояла потерянная.
— Как же это? — пролепетала она. — Чтоб Леша?.. Не сердитесь, пожалуйста. Наверное, его вконец допекло.
— Держите! — Анатолий Павлович протянул ей листок. — Это телефон моего помощника. Он в курсе, ждет. Как прилетите, оформляйте кредит. Я по возвращении подпишу.
— Так это!.. — Юля вспыхнула восторженно, завертелась юлой. — Леша! Леша!..
— В такси по дороге скажете, — остановил ее Дубицкий. — Удачи.
Юля приподнялась на цыпочки, чмокнула Дубицкого в щеку, восторженно чмокнула подошедшую Анну Игоревну и вприпрыжку припустила к такси.
Анна Игоревна обняла мужа за талию.
— Аж светится, — констатировала она. — Вот ты меня ругал, что вечно вмешиваюсь, а, оказывается, он еще в машине… после того… попросил ее замуж
Мысли ее переменились.
— Скажи, когда ты догадался? Еще до того, как эта девочка в машине проболталась?
Морщинки у глаз Дубицкого сошлись в улыбку.
— Так когда?
— Да, считай, сразу, как разговор о кредите услышал. Я, видишь ли, вышел из того счастливого возраста, когда верят в случайности.
— И всё-таки решил помочь? Это после того, что он творил по дороге? Но почему?
— Потому что буйвол, — непонятно объяснился Дубицкий.
Улыбка стерлась с его лица. Анна Игоревна проследила за направлением взгляда. За шлагбаумом Леша, прежде чем влезть в такси, остановился возле Полосухина, что-то коротко шепнул на ухо, после чего тот на глазах будто съежился.
— Неужели этот? — поняла Анна Игоревна.
— Неделю назад он летал в Москву на предварительное собеседование. Похоже, кто-то из тех, кто знал, что полечу сюда, предложил подзаработать… Не устаю поражаться русскому человеку, — Дубицкий озадаченно причмокнул. — Человек десять лет прожил за границей. Проверяли. Хорошие рекомендации. Год добивался этого места. И было чего добиваться: десять тысяч баксов — стартовая зарплата. Это без бонусов. Для него сразу другой уровень жизни. И первое, что делает, — «разводится» на жалкие пятьсот долларов. Гены, что ли, у нас, русских, такие?
— А вот согласись, наконец, что в людях я разбираюсь глубже тебя. Вот сразу в аэропорту не понравился. Как увидела, — сразу!
— В этот раз ты оказалась права, — признал Дубицкий.
— Я всегда права! — безапелляционно отрубила Анна Игоревна.
Дубицкий ласково потрепал жену по волосам. В отношении его к норовистой супруге снисходительная насмешливость причудливо перемежалась с обожанием.
Примечания
1
Здесь и далее по тексту стихи поэта Евгения Артюхова.
(обратно)
![Константинов крест [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/538791/primary-large.jpg)



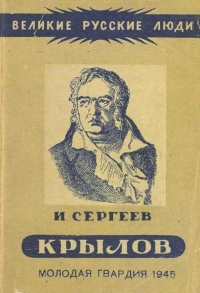

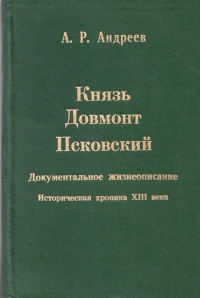
Комментарии к книге «Константинов крест [сборник]», Семён Александрович Данилюк
Всего 0 комментариев