Вержилио Феррейра Утраченное утро жизни
Слово переводчика
С Вержилио Феррейрой — крупнейшим прозаиком португальской литературы XX века, писателем с мировым именем, произведения которого удостоены международных и национальных премий, таких как «Премия Камоэнса», «Фемина», «Эуропалия», — а сегодня уже известным и нашему русскому читателю: в нашей стране были изданы его романы «Явление», «И вот уже тень» («Художественная литература», 1980 г.), «Краткая радость», «Знамение — знак», рассказы («Радуга», серия «Мастера современной прозы», 1986 г.), «Во имя земли» («Б.С.Г. — Пресс», 2003 г.) — я познакомилась в 1978 году в Португалии, куда приехала на стажировку в Лиссабонский Университет. В тот год я переводила роман «Явление», и у меня к Вержилио было много вопросов по тексту, который дышал ароматом португальской земли, ее историей, реалиями и изобиловал языковыми трудностями интеллектуального романа.
Наша встреча произошла без каких-либо сложностей: я позвонила Вержилио, сказала, кто я, в какой гостинице остановилась. Он тут же, точно давно ждал меня, приехал. Все было просто, непринужденно, как между старыми добрыми друзьями: договорились поработать у него дома.
И вот, когда мы с Вержилио, сидя в его лиссабонской квартире, разбирали непонятые мною кусочки текста, он неожиданно принял решение показать мне место действия романа: древний город Эвору, его собор, храм Дианы — и дать мне подышать воздухом лицея, где учительствовал герой романа, а когда-то и сам Вержилио. «Едем завтра же, рано утром, пока не очень жарко», — сказал он.
Из Лиссабона мы действительно выехали очень рано, выпили кофе в маленьком пригородном кафе и двинулись дальше. Миновав мост через реку Тежо у городка Вила-Франка-де-Шира, мы спустя какое-то время оказались среди моря хлебов, сохнувших под палящим солнцем провинции Алентежо — португальской житницы. Был конец июля, жара стояла адова, плотная, недвижная, но обычная для этих мест. «Будет легче, если сбросить туфли», — сказала мне Режина, супруга Вержилио, — и тут же подала мне пример, которому я не преминула последовать. И так мы ехали навстречу накатывающим на машину волнам солнечного света. В надежде на встречный ветерок Вержилио увеличивал скорость, но густой воздух только обжигал наши лица, а на обочинах дороги сочувственно провожали нас парализованные солнцем деревья, прятавшиеся в их кронах птицы, и тысячами мелких солнц вспыхивали желтые кусты душистого португальского дрока. И вот на холме показался город Эвора.
В Эвору — этот город с запутанной, как старые силки, сетью улиц, руинами, полуразрушенными арками, молящимися фигурками святых в нишах и потаенными глазницами готических окон — мы въехали в полдень. Поднялись по улице к холму Святого Франциска, потом повернули к площади, на которой высятся уцелевшие колонны храма Дианы — молчаливого образа ушедших веков, какое-то время постояли, вслушиваясь в шелест листвы древнего, давно уже несуществующего здесь леса, и пошли по торопливо бегущим вниз улочкам к лицею. Лицей был пуст — каникулы, но служитель, узнав Вержилио, тут же с большим почтением провел нас во внутренний дворик, показал аудитории и то, что меня интересовало, и то, на что хотел обратить мое внимание Вержилио. Да о подобном я, как и любой другой переводчик, только мечтать могла! Весь день мы провели в Эворе. Бродили вдоль средневековых стен и под аркадами древнего города, стояли под молчаливыми сводами главного нефа Собора и сидели на его пустующих скамьях, а когда начало темнеть, поднялись на вершину Сан-Бенто, чтобы посмотреть на искрящийся, словно бриллиантовая брошь, город, и двинулись в обратный путь в Лиссабон.
Так началось наше знакомство и большая дружба с Вержилио Феррейрой, поддерживаемая частой перепиской, но, к сожалению, редкими встречами.
Москву Вержилио Феррейра посетил дважды. Первый раз — в 1981 году проездом на конгресс «Международной ассоциации литературных критиков», проходивший в Алма-Ате, сумев на обратном пути получить гонорар за изданный в «Художественной литературе» роман «Явление», который тут же истратил в одном из московских универмагов, потом побывал в Кремле на его Соборной площади и в Архангельской соборе, где шла служба, к которой, как и ко всему в соборе, остался равнодушным. Муж мой, художник, сопровождавший нас по Кремлю, удивился. А я нет! Ведь Вержилио окончил семинарию убежденным атеистом и в своей повести «Утраченное утро жизни», которую я сегодня предлагаю читателю, ничего о ней не рассказывая, ничему не давая оценки и целиком и полностью полагаясь на здравомыслящего и вдумчивого читателя, рассказал о загубленных в ее стенах мальчишеских жизнях и душах. Помню, как в Эворе у храма святого Франциска он подвел меня к каменной чаше с водой и сказал: «Нет, нет, Лилиана, не для того, чтобы осенить себя крестом, а чтобы стало прохладнее. В Португалии уже никто не верит в Бога. Всемогущий бог — это человек!».
Второй раз он посетил Москву в 1987 году в составе группы деятелей культуры, сопровождавших президента Португальской республики доктора Марио Соареша. Я преподнесла Вержилио том его произведений, изданный в «Радуге» в серии «Мастера современной прозы». Он очень обрадовался, но сказал мне, что устал. Никак не думала, что эта наша встреча с Вержилио окажется последней, тем более что предполагалась моя новая поездка в Португалию. Но человек предполагает, а Бог… Так вот, в 1996 году Вержилио Феррейра ушел из жизни, оставив потомкам десятки романов, повестей, рассказов, эссе и философских раздумий о ЧЕЛОВЕКЕ — величайшем творении природы, всемогущем боге, способном творить чудеса.
Феррейра исследует явление человека в мир, краткую радость его пребывания на земле, ради которой он существует: любит, рожает детей, трудится, создавая непреходящие ценности, и, наконец, его уход в небытие, процесс расставания с бренной оболочкой.
В книге «Мысль» Вержилио Феррейра так сформулировал свою писательскую задачу: «Я пишу для того, чтобы запечатлеть действительность, людей, их место в мире и их время, и чтобы оправдать ожидания читателей, которые надеются, что написанное мною пробудит их неясное самосознание. Я пишу, чтобы воскрешать в памяти и фиксировать проделанный путь, увиденные земли, людей и все пережитое. Ведь написанное может быть узнано только потому, что в нем отражается самое главное и последнее из того, что связывает нас с миром…»
Лилиана Бреверн
I
Я сел в поезд после того, как на станции Кастаньейра меня крепко обнял Кальяу. Это он привез меня на станцию, привез на повозке, запряженной волами доны Эстефании, в доме которой и была определена моя судьба. Чтобы увидеть, как я буду уезжать, мать пришла к церкви с утра пораньше, но, чувствуя мою отчужденность, точно я был арестован, и уже не принадлежал к ее миру, со мной не разговаривала. Дона же Эстефания, храня серьезность до последней минуты и свысока поглядывая на мать, сказала мне, что такова воля Господа, и исчезла. Кальяу, оставшись со мной в повозке наедине, погрузился в величественную тишину утра. Время от времени он выходил из задумчивости, которая не мешала ему быть предельно внимательным к дороге и всему окружавшему, и заговаривал со мной о земле, семенах или в очередной раз спрашивал, когда отходит мой поезд.
— В девять, — отвечал я.
— Как раз поспеем.
И опять умолкал, продолжая сидеть на краю повозки со спущенными ногами и кутаться в плащ.
Однако вскоре опять заговаривал:
— Счастливый! Вот я в поезде ни разу не ездил. Видеть видел, три раза. Но ездить не ездил. Счастливый!
С полей поднимался утренний туман и постепенно окутывал гору. Сжавшись от холода, уперев подбородок в колени и положив рядом с собой мешок с одеждой, я чувствовал себя почти счастливым, однако чувство это было тревожным и каким-то непонятным. Меня все время охватывала радостная дрожь при мысли об отъезде, о перемене в моей жизни и возвещавших эту мою новую жизнь маленьких вещах: костюме, который я надел в день отъезда, и мешочке с провизией, данном мне в дорогу. Окруженный этими химерами, я тоже молчал, словно это самое молчание способно было защитить меня от всего, что мне угрожало. Ведь в это утро все мне казалось незнакомым и все пугало меня: и неподвижно высившаяся гора, и призрачная фигура Кальяу, и волы, такие необычные в своей кротости, точно тащили они эту повозку уже много долгих веков…
В конце концов мы приехали за полчаса до прибытия поезда. Пользуясь неожиданно выпавшим нам временем, мы с Кальяу стали рассматривать рельсы, потом стоявшие на запасных путях вагоны и сцепления. Каким же чудом мне казалось все это, и как странно, что Кальяу видел все это только три раза.
— Это еще что, — сказал он мне спокойной. — Ты ведь знаешь Фелисию? Так вот она старше меня, а поезда вообще никогда не видела.
— Но это же так близко от нас! — воскликнул я потрясенный.
Однако сказанное мною нисколько не смутило Кальяу, потому что он, без сомнения, считал, что видеть поезд не самое главное в жизни.
Совсем скоро на платформе появился человек в форменной одежде и подал сигнал о прибытии поезда. И вдруг из двух рядом стоявших скал, точно из преисподней, вылетел в клубах дыма и со страшным ревом поезд. Я испугался. Испугался до смерти, увидев первый раз в жизни поезд — это огромное и непостижимое чудовище, слишком большое для меня. И страстно захотел остаться. Но было поздно: все, что я сделал за последние месяцы, и все, что сделала дона Эстефания, было сделано с одной-единственной целью — уехать. Поэтому с горечью и душившими меня слезами я спокойно позволил Кальяу обнять себя. Потом, вырвавшись из его объятий, пошел среди тучи тюков и корзин к вагону третьего класса. Вошел в вагон, закрыл дверь, услышал последнее «прощай» Кальяу и почувствовал, что теперь могу плакать сколько угодно. Но плакать, если сказать правду, мне не хотелось. Однако внезапно лишенный детства, оглушенный тоской и одиночеством, я понял, что все мое нутро плачет. И тут неожиданно для себя я открыл существование прошлого. И это прошлое было возвышавшейся на востоке большой горой, горячим дыханием утраченной материнской любви и своеобразным цветком теперь уже улетучившейся былой радости. Посмотрев на все это своими мокрыми от слез глазами, я сказал своему прошлому: прощай.
— Ты скоро встретишься с коллегами, — сказала, прощаясь со мной, и видя мою тревогу, дона Эстефания.
И действительно, совсем скоро в вагон вошли двое в черной одежде. Видя прикованные к нам взгляды сидевших в вагоне пассажиров, мы сбились в кучку. Это меня несколько приободрило. Но сколь тяжело было ловить злые усмешки едущих в третьем классе пассажиров и их взгляды, которые впивались в меня, словно хищные клыки диких зверей. А один тип, вошедший с ватагой новобранцев, похоже решил укусить побольнее. И громко крикнул:
— Попик! Попик!
Я промолчал. Мы все трое переглянулись, ища друг у друга поддержку, но тут же поняли, что она ничего нам не даст. Вот тогда во мне первый раз в жизни вспыхнула ненависть, я замкнулся в своей бессильной ненависти и понял смысл отчаяния и смерти. И первый раз в жизни определил дистанцию между собой и миром, который теперь всегда будет меня сторониться. Зачумленные, молчаливые, мы, задыхаясь от стыда, сидели и просили мира улыбками, адресованными кровожадной банде, ненавидевшей каждого из нас неизвестно в чем виновного. Надеясь втайне, что на остановках поезда к нам прибудет пополнение, я подходил к окну, вглядываясь в толпу на перронах. И не обманулся в своих ожиданиях. На одном из бурливших перронов я увидел еще одного в черном.
— Сюда! — закричал я. — Сюда!
Еще один. Поскольку это был не новичок, а семинарист, то его жизненный опыт тут же нас приободрил. Каждый из нас с покорностью и радостью назвал свое имя, не спрашивая его. Чуть позже на пустынной станции я увидел еще одного в черном.
— Сюда! — закричал я громче прежнего.
Нас стало пятеро. Это уже что-то. Но я продолжал пополнять ряды нашего войска, все время поглядывая в окно, и набрал еще семерых. Теперь можно было и вздохнуть. И я без страха взглянул на новобранцев, которые, как мне показалось, сдали свои боевые позиции и разве что иногда постреливали в нас глазами.
И все же я не успокоился окончательно. Ведь мой взгляд, смело брошенный на новобранцев, был вызван страхом, который владел всем моим насторожившимся существом, после того, что я услышал. (И теперь, обращаясь к памяти последних двадцати лет, я все время спрашиваю себя, что же, кроме страха, вошло в мою жизнь за эти годы, какой другой голос-вестник, кроме голоса той ночи, взывал к будущему.)
Сидевший рядом с нами семинарист давил нас, новичков, своим опытом:
— Вы познакомитесь с отцом Лино и латынью. За каждую ошибку в склонении — четыре удара линейкой по рукам.
— Что такое склонение? — спросил я.
— Скоро узнаешь. Шесть падежей.
— Что такое падежи?
— Скоро узнаешь. Именительный, родительный и так далее. Скоро узнаешь…
Однако, несмотря на все услышанное, я, надеясь на поддержку этого парня, чувствовал себя почти спокойно. Забыл свою деревню, гору и прощание с Кальяу. Открыл мешок с провизией и поел. Поел с таким аппетитом, какого никогда больше не испытал в своей жизни, точно он был вызван услышанными новостями и увиденными новыми пейзажами. Все мое детское существо с жадностью входило в новый для меня мир, несущий новые ощущения. Я вроде бы заново рождался…
В какой-то момент, когда я уже не думал о пополнении наших рядов новыми семинаристами, в вагон вошли еще четверо в черных одеждах. Все они были старше нас. И вагон огласился приветственными криками. Я бросил взгляд на новобранцев и увидел их занятыми собой и пейзажем, который мелькал за окнами и на который они иногда указывали пальцами. Теперь перевес был на нашей стороне. Сидящие вокруг нас семинаристы расспрашивали друг друга о проведенных каникулах. Потом перешли к знакомству с нами, новичками, чтобы мы сразу и навсегда почувствовали себя коллегами.
— А как зовут тебя? — обратились они ко мне.
— Антонио дос Сантос Лопес.
И тут же краска стыда залила мое лицо от сознания, что они поймут, что имя это, употребляемое только в официальных случаях, слишком длинно для меня, как платье с чужого плеча. И тут один из семинаристов со стажем поднес палец ко лбу, стараясь что-то припомнить.
— Антонио Лопес?
— Антонио дос Сантос Лопес.
Вскинув победно вверх руки, он сказал:
— Тогда ты — Борральо.
И я был, был Борральо. Я не хотел знать, почему эта участь меня настигла в поезде, и молча страдал. В первые месяцы моего пребывания в семинарии мое законное имя взывало к справедливости. Но напрасно. Оно было побеждено, и семинаристы, особенно когда секретничали и хотели меня обидеть, называли меня только Борральо. Естественно, ничего обидного в самом этом имени не было, оно было заурядное. Но, как всякое чужое, оскорбляло меня, потому что наше имя — тоже мы.
Я обратил внимание, что один из четверых, севших на последней остановке, все время молчит. Сосредоточенный, с двумя шапками на голове (старая была надета поверх новой ради ее сохранности) он вроде бы обдумывал какой-то преступный план, неотступно и упорно взвешивал обиды и горел ненавистью. С лицом землистого цвета, мужественным лицом крестьянина и крепкими грубыми руками, он, отрешившись от нас, напряженно думал. Почему он молчал?
— Гама, почему ты молчишь? — спросил один из семинаристов, подумав то же, что и я.
Гама. С того самого дня, с десяти часов пятницы, седьмого октября, я никогда о нем не забывал. И спустя годы всегда, когда я думаю о семинарии или вижу ее во сне (это случается часто), образ Гамы заполняет собой и мой сон, и мои мысли, всему придавая смысл.
— Ты что, онемел? — настаивал все тот же семинарист.
Гама молчал. Он сидел прямо, и на его мужественном лице четко печаталась обдумываемая им месть. Придя к какому-то заключению, привыкшая, без сомнения, понимать друг друга без слов семинарская братия переглянулась, предчувствуя неотвратимую беду.
Когда мы прибыли в Гуарду, на платформе было черным-черно от одетых в черное семинаристов. Потерявшись среди вновь прибывших, я опять почувствовал себя в одиночестве. Кое-кто из сидевших с нами тут же отошел от нас и примкнул к вновь вошедшим, а тот, кто остался, был покорен судьбе и молчал. И я снова впал в тоскливое состояние. Однако отдаться печали, которую уже не мог рассеять монотонный пейзаж, не успел, потому что попал в руки старших семинаристов, которые принялись надо мной издеваться:
— Новичок! А ну-ка встань, новичок!
Высокий молодец с характерным для здорового парня цветом лица решил просто так, от скуки поиграть в свою значительность и, отстранив других, спросил:
— Откуда, новичок?
Я сразу запомнил этого парня с широким лицом, и его имя — Перес, которое будет связано с моей историей.
— Я из Кастаньейры, — ответил я.
Позже, когда я ехал в Лиссабон, я говорил, что я из Бейры[1], а когда во Францию или Америку, то из Португалии или Европы, облегчая другим таким образом видение удаляющейся географической карты. Однако Перес собирался узнать не только это, но Гама, оборвав его на полуслове, отчего я пришел в ужас, заявил, что я под его защитой. Какое-то время они пререкались, но потом разошлись.
— Спасибо, — поблагодарил я.
— Он у нас фигура, — заявил Гама.
И замолчал. Это слово, произнесенное с характерной для священников мягкостью, могло нести в себе любой яд, мне следовало это знать.
Путешествие приближалось к концу. На станции Ковильян подошло последнее подкрепление. Однако никакого ликования оно у нас не вызвало. Нас, оробевших, подавленных ожиданием неотвратимого будущего, уже здесь настигала плотная давящая тень семинарии. А к вечеру, когда стемнело, мы прибыли на станцию Белая крепость, и черный поток семинаристов хлынул на привокзальную площадь. Две запряженные волами повозки были тут же нагружены нашими мешками, и с ударами хлыста отца Томаса и хлопка в ладоши все мы двинулись вперед по дороге. Угрюмые, мы шли кружными дорогами города, точно спасались бегством от совершенного нами темного преступления, шли, переговариваясь шепотом, точно читали молитву, и враждебно поглядывали по сторонам чуждого нам мира. Погруженный в ночь, затерявшийся в потоке черных фигур, которые теперь двигались чуть ли не бегом по опустевшим полям, я обливался потом от усталости и мучительного беспокойства. Я никого не знал. И никто не знал меня. И даже те, с кем я познакомился в вагоне, теперь шли в компании своих друзей. Вокруг себя я слышал неясный шум голосов, но за этим шумом и отдельными четкими словами, мне казалось, стояла наша общая судьба, крепко пожимавшая нам руки. В какой-то момент шум голосов почти стих, он стал глухим молчанием сердец. Удрученный и нерешительный, я оглянулся назад, посмотрел по сторонам и вперед. Со всех четырех сторон меня окружала невозмутимо спокойная ночь. Когда же дорога пошла под откос, молча и грозно во тьме ожидания стал вырастать из-под земли огромный силуэт семинарии.
— Пришли, — послышалось со всех сторон.
И тут после долгого путешествия в ночи, я, ощутив полное одиночество, увидел перед собой огромное здание семинарии, и из моей груди вырвался стон такой глубокой боли по далекой моей деревне, что его услышал только я один.
II
Огромное здание семинарии вместе с дорогой, идущей вокруг него, стало медленно поворачиваться и следить за нами с высоты своего мрачного спокойствия сотней своих глаз окон. И следило до тех пор, пока не поглотило нас всех, подошедших к широкой пасти его двери, которая тут же захлопнулась, сжав свои челюсти. В молчаливой толпе семинаристов я стал подниматься по широкой лестнице, наверху которой стоял невозмутимый священник со спрятанными в рукавах сутаны руками и распределял каждое отделение по соответствующим спальням. Увидел я и стоявших вдоль стен коридора молчаливых и спокойных отцов-надзирателей. И в их пугающем мрачном взгляде почувствовал еще более мрачное величие абстрактного страха. Я оказался в третьем отделении среди самых маленьких с местом в спальне, которая находилась в конце коридора. И очень скорбел, что меня разделили с Гамой, который после трех лет обучения должен был находиться во втором отделении. Однако, поскольку его спальня находилась рядом с моей, я мог довольно часто видеть его, когда он шел в свою спальню и подбадривающе поглядывал на нас, охваченных страхом и тревогой. На переменах мы часто встречались в пустых коридорах, и я укрепился в своем подозрении, что в нем закипает ненависть, о которой расскажу позже.
После того, как каждому из нас была отведена кровать, мы вернулись в вестибюль, чтобы получить свой багаж. Первенство в получении багажа мы должны были уступить старшим семинаристам, потому что только они имели силу и опыт по отыскиванию своих вещей в общем беспорядке. Я подошел к оставшимся вещам одним из последних. Свой мешок с вещами, грязный, разорванный у горловины, не раз отброшенный ногами и руками, я нашел за скамьей. Закинул его за спину и понес, полный тоски от неожиданно вспыхнувшей любви к его братскому голосу, с каких это пор? Я знал, что после пребывания в часовне мы должны были каким-то странным образом лечь в кровать и раздеться, а потом заснуть. Но в тот момент я, усталый и измученный, ни о чем не задумываясь, внял великому зову тишины и ночи. Закрыл глаза. И уснул.
* * *
Оставшаяся на свободе моя родная деревня вдруг зазеленела, горы покрылись цветущим дроком… и тут громкий звон колокольчика разбудил меня.
— Benedicamus Domino[2], — возвестил отец Томас спящему залу.
— Deo gratias[3], — ответили старшие семинаристы, послушные привычке.
Я открыл глаза и увидел большую спальню, уже освещенную неумолимыми ацетиленовыми рожками. Семинаристы в спешке, стыдясь друг друга, натягивали брюки под одеялом. Я с трудом нащупал каждую брючину, но штаны надел задом наперед, а когда попытался перевернуть их, то правая нога выскочила из-под одеяла. И это тотчас было замечено отцом Томасом, который не замедлил указать мне на мой грех:
— Ведите себя благовоспитанно, мальчик.
И тут вся спальня принялась надо мной смеяться. Некоторые, стараясь сдержать смех, затыкали рот рукой. Другие от удовольствия просто заходились в смехе.
Умывался я последним: старшие отталкивали меня локтями и проходили вперед. Поэтому в строй я встал тоже последним, на ходу завязывая галстук, когда все уже меня ждали.
Несколько коротких хлопков, и цепочка семинаристов потянулась к часовне. В часовне, разбившись на две группы и образовав две шеренги, мы выстроились у скамей без спинок, соблюдая имеющиеся между нами промежутки. Звук колокольчика поверг нас всех на колени. Так, поставленный на колени и побежденный, я стал вспоминать мою прошлую жизнь.
Уставший от молитв, которыми старший из семинаристов испытывал наше терпение, и чувствуя боль в коленях, стоявших на каменных плитах, я устремил свой взгляд в окно на стену каштанов, очередь в уборные, что находились напротив, и сидящих на корточках у оросительного канала семинаристов. И тут же был крепко схвачен за ухо кем-то, кто повернул мою голову вначале направо, потом налево и так несколько раз, пока, наконец, не вернул ее в положение, приличествующее случаю. Однако больше всего меня пугало вездесущее присутствие надзирателя, его бестелесное явление в огромной нескончаемой ночи, не производящее ни малейшего шума. Спустя годы я научился смирять эти молчаливые, неподвижные, таившиеся в темноте и угрожавшие нам страхи, которые подстерегали нас на лестницах и в темных коридорах.
Наконец утренние молитвы были закончены. Прозвенел первый колокольчик, разрешавший нам подняться с колен. Потом — второй, принуждавший сесть. И в часовню вошел священник, чтобы с нами медитировать. Он был небольшого роста, белокурый, с негромким голосом, застревавшим в его зубах, и двумя голубыми бусинками за стеклами толстых очков. Это, как я узнал позже, и был тот роковой отец Лино. Он поднял на лоб очки и сказал: «О призвании к священству». Первый пункт медитации: «Много званых, но мало избранных». И долго с утра пораньше жесткой щеткой божественных замыслов выметал отец Лино из голов семинаристов остатки воспоминаний о последних каникулах. Когда чтение было закончено, все тут же засунули правую руку под левую подмышку и, положив отягощенную знаниями голову на левую руку, отдыхали. Растерянно взглянув на них, я сделал то же самое. И принялся смотреть на свои грязные колени, на испорченную складку на моих новых брюках, на ботинки, испачканные в грязи, и ждать в согласии со всеми, что будет дальше.
Стояла тишина. Переварив первый пункт медитации, отец Лино приступил к чтению второго. Не знаю, сколько все это длилось. Знаю только, что за это время я успел пробежаться по своей деревне и еще раз после того, как Кальяу обнял меня на станции, проделать свое долгое путешествие. Наконец с медитацией было покончено. Отец Лино спустился с возвышения и, бросая быстрые взгляды то в одну, то в другую сторону, громко, так, что эхо разнесло его слова по часовне, сказал:
— Сеньор Фиэл: так о чем же шла речь в первом пункте медитации?
О небо! Но ведь и в первом и во втором пункте для меня речь шла только о моей деревне, о Кальяу, о моей несчастной жизни. Между тем Фиэл с опущенными долу глазами говорил невероятные вещи о тайной воле Всевышнего. Согласно тому, что он говорил, Всемогущий Господь много раньше, чем я стал карабкаться на окружавшие деревню горы, а мой отец сломал ногу в каменоломне, определил мою судьбу, призвав меня к себе на службу. В это Фиэл верил, но, к несчастью, не умел объяснить почему. И выходило, что независимо от наших желаний и наших намерений, Божественное провидение лепило нашу судьбу по собственному разумению. Похоже, отец Лино был согласен с тем, что говорил Фиэл, потому что молчал. Потом приказал Фиэлу сесть, и я услышал его голос около себя, он спрашивал другого семинариста:
— Сеньор Амаранте: о чем говорит второй пункт медитации?
Третьим отвечал на вопрос старший из семинаристов. Я вздохнул с облегчением и стал ждать, что последует дальше. Дальше началась месса и следом причастие для двенадцати человек. И наконец, кофе. Я умирал от голода.
III
Мы разошлись по спальням, чтобы застелить кровати и надеть клетчатые блузы. В бесконечной дали над зелено-красной землей уже вставало солнце, и до нашего слуха доносились удары работавшего неподалеку бочара, которого мне никогда не забыть. Сквозь широкие окна без ставен в спальню проникал свет, рассеивая тени страха. Но даже с исчезновением теней просторный зал, в котором находилась наша спальня, соединявшаяся со спальней второго отделения, был слишком велик для меня, такого маленького. Из окна были видны стройные стволы каштанов, печально поднимавшихся по склону холма в холодной тишине утра. На площади, что была напротив, лежали два дворовых сторожевых пса, и один слуга раскалывал на дрова пень. А дальше, дальше гудел маленький паровозик, пробуждая спящее утро. Отец Томас хлопнул в ладоши. Мы быстро встали по двое и двинулись по коридору, спустились по широкой парадной лестнице, прошли зал для занятий и оказались в трапезной. Здесь нас разместили за мраморными столами, стоявшими в шесть рядов, и опять мы молились. Я оказался в середине первого ряда, лицом к стене. Таким образом, за моей спиной сидели двести семинаристов. Я ощущал их волнение, слышал звон их посуды, но во плоти их не видел. А потому конкретными, телесными, ощутимыми в первый год моего пребывания в семинарии были лишь те, кто сидел со мной рядом, да отцы-надзиратели, которые, выходя из своей трапезной, проходили вдоль стены, ковыряя зубочисткой в зубах. Несколько обеспокоенный, я посмотрел на тех, кого мог видеть, однако ни один не удостоил меня ответным взглядом. Каждый старательно разрезал свой ломоть хлеба, а те, кто постарше, уже ели. Только в мягком братском взгляде Гауденсио, с которым мы еще и словом не обмолвились, я встретил полное взаимопонимание. Боже! Как же мы с ним были уродливы! Это было первое, что отметили мои глаза, кстати, позже я убедился, что и глаза надзирателей, ведь и они делили нас на красивых и уродливых.
Это объяснялось тем, что большинство из нас было из крестьян. Грубо сколоченные, обструганные садовым ножом и жарившиеся из поколения в поколение на солнцепеке, мы несли на своих лицах печать проклятия. Как правило, низкорослые, пахнувшие землей, с грубыми, толстыми, похожими на оглобли руками. Были среди нас и высокие, ширококостные с впалой грудью. Одни — большеголовые, наголо бритые. Другие — с редкими, падающими на плечи прядями волос, с испуганным звериным взглядом убитого быка, несчастные и невежественные. Я смотрел на них, как на братьев по страданию.
— Куда вы смотрите? — И тут же за вопросом следовал подзатыльник.
Когда на столах ничего не осталось, отец-надзиратель хлопнул в ладоши. И мы опять молились. Потом отправились в зал для занятий, где нас рассадили по партам. Я оказался между Гауденсио и Флорентино. Кроме этого за каждым закрепили место в аудитории, раздали молитвенники и Res Romanae[4], объявили четыре перемены для всех и три долгие молитвы в часовне, не считая других мелких, читаемых в течение дня. В десять вечера, побежденные, измученные усталостью и тревогой, мы легли в кровати, чтобы снять с себя брюки и спать.
Но я не уснул. И довольно долго бодрствовал в ночи один без какой-либо надежды уснуть. Отец Томас, погасив свет, посидел еще какое-то время, как бог темноты на своем возвышении, и ушел в свою комнату, которая чем-то напоминала прямоугольную ширму, погасил свечу и тоже лег спать. В воцарившейся тишине разве что время от времени у ограды выли большие собаки, выли в сторону темного леса, да возвещал о себе гудками мчавшийся по проходившей рядом дороге автомобиль. Предоставленный обступающему меня со всех сторон пространству и неясному завтра, я смотрел с беспокойством на сон своих товарищей, и очень скоро все вокруг обрело знак смерти. Тогда еще сильнее, чем прежде, в глубинах моего жалкого существа возникло страстное желание плакать. Но я поборол его, да, поборол! И сказал себе самому: «Не смей плакать! Посмотри, способен ли ты выдержать, может, способен?» Но это было для меня слишком трудно. И я пообещал десять тостанов[5] святому Антонио, покровителю моей деревни, если я выдержу. Но я не выдержал. Огромный зал спальни подавлял меня, во мраке ночи лаяли собаки, я был один как перст в целом мире. В памяти возникали картинки утраченного детства: усталое лицо матери и мягкий свет, которого никогда больше не будет. И такая тяжкая тоска овладела моей душой, что я горько заплакал, благо ночь была моей сестрой, а я — ее братом и мы были наедине и держались за руки. И вдруг, плача, я вспомнил о мешочке с фигами, которые мать сунула мне на прощание. Я поискал его среди вещей, достал фиги. И вкус их усладил мою душу, оживил умершую ласку прошлого, и мне показалось, что у моей кровати сидит мать и вокруг меня наша деревня.
IV
Играли мы наверху на лесной поляне, откуда хорошо было видно отделяющее нас от мира пространство. Глядя на долину, мы справа видели холмы Гардуньи, слева — оправленный в горы Ковильян и прямо — пустынные места, с которых до нас время от времени доносился прощальный свисток паровоза.
Инстинктивно я потянулся к Гауденсио, и не только потому, что мы оказались с ним рядом в зале для занятий, но и потому, что он, как и я, был беден и беззащитен. На второй день нашего пребывания в семинарии старшие семинаристы, словно сорвавшиеся с цепи псы, стали разыскивать его во время перемены, чтобы учинить дознание: «Где он?», «Как его зовут?», «Что сделал его отец?»
Это было жестоко. Его терзали вопросами весь день.
После учиненного допроса Гауденсио исчез. Я долго искал его в лесу и наконец нашел: он, задумчивый и одинокий, сидел, прислонившись к стволу каштана. Я сел рядом, и, сидя рядом, мы молчали. Сильно пахло прелым листом, что возвещало приход бесцветной усталой осени. Застывшие, точно замершие на холме, тонкие каштаны удрученно сбрасывали свои пожелтевшие листья. На влажном ярко-синем небе задумчивое солнце, как старый, сидящий в кресле инвалид, у которого нет никаких надежд на завтра, сторожило безо всякого интереса конец дня. А в долину, как в могилу, спускался густой туман, который, точно саваном, навсегда укрывал память о лете. Я посмотрел на Гауденсио, горечь в его глазах не исчезла. Тогда я молча взял его за руку — мне показалось, что так мы защищены от злобы людей и всего того, что нам угрожает в жизни, надежнее. Но тут же заметил, что Гауденсио, не обращая на меня внимания, безутешно плачет: по его лицу катились крупные горькие слезы. Я с силой сжал его руку, умоляя:
— Не плачь, Гауденсио.
— Я хочу уехать, — сказал он мне, полностью сознавая, что это невозможно.
Я хорошо понимал, что он предоставлял мне право быть сильнее его только потому, что он плакал, а я нет. И тогда я сказал:
— Тоска пройдет, ты увидишь, это только вначале.
— Это почему же мальчик плачет? — вдруг услышали мы у себя за спиной.
От неожиданности мы обернулись. Перед нами, как вестник бедствия, стоял отец Канелас со свистком в руке. Сразив меня своей храбростью, Гауденсио повернул к нему свое широкое мокрое лицо и сказал:
— Я хочу уехать.
— После перемены придешь ко мне. А сейчас будьте добры идти играть, как все.
На разбитой среди каштанов площадке с утрамбованной красной землей бегали семинаристы, они играли во флажки и поднимали штангу. Мы побежали к ним, но тут по свистку отца-надзирателя перемена кончилась. И Гауденсио пошел к Канеласу. Вернулся он от него совсем иным и больше не говорил о своем желании уехать из семинарии. И не отвечал на мои вопросы.
На урок, который начался после перемены, неожиданно, к изумлению стоящего на кафедре бедного отца Питы, пожаловал пунктуальный и тощий, как бесплодная истина, отец Мартинс и поразил нас странным приказом:
— Все те, у кого имеются съестные припасы, какие бы они ни были, будьте добры пойти за ними и сдать их немедленно.
Съестные припасы, отец? Я был потрясен услышанным. Семинаристы переглядывались, тщетно ища поддержки. Но ничего не поделаешь, друзья. Я смотрю то на одного, то на другого, явно медля. Потом под пристальным взглядом отца Мартинса и выпученных глаз отца Питы с подозрением оглядываюсь назад. Гауденсио, который, вернувшись от отца Канеласа попробовал мои фиги, и теперь смотрит на меня, объятый ужасом. Повинуясь тысячелетнему инстинкту покорности, я уже было собирался подняться, как вдруг случайно увидел пристально смотревшего на меня и старавшегося внушить мне смелость Гаму. Неожиданно объявившаяся во мне храбрость пригвоздила меня к стулу.
— Не отдам, — сказал я Гауденсио уголком рта.
Угрожающе спокойно Гама продолжал сверлить меня взглядом и улыбаться.
Появились двое слуг, принесших и поставивших в конце зала две плетеные корзины. И тут же в эти самые корзины посыпались из наших рук остатки прекрасного мира, который для всех нас, похоже, перестал существовать. И сыпались до тех пор, пока каждый не очистил свою совесть и с печальной, еще детской верой не вернулся наконец к своему месту. И тут меня снова, точно ветер, подхватила и понесла радость того, кто способен в минуты жизни трудные противостоять насилию. И я, бросая вызов общей трусости, повторил перепуганному насмерть Гауденсио:
— Фиги — мои! Не отдам.
Да, фиги были моими, они утешали меня долгими бессонными ночами, отвлекали от воя собак, возвращали в родную деревню. Они были моими, это точно, как и то, что я был еще жив…
К вечеру, после чтения молитв по третьему десятку ректор прочел нам проповедь. Вошел он в часовню незамеченным через главную дверь, помолился и встал перед главным алтарем. Он был невысокого роста, не груб и не агрессивен. Говорил мягко, спокойно, чуть в нос. И, как мне было известно, никогда никого из семинаристов жестоко не наказывал. И все же по прошествии стольких лет он вспоминается мне как символ совершенного страха. А все потому, что ощущавшаяся в нем сила, вызывавшая чудовищный ужас, ничего не имела общего ни с подстерегавшими нас тенями отцов-надзирателей, ни тем более с возможными муками. Страх, который внушал он нам, не был страхом, внушаемым ни колдуном, ни тем более палачом. Его террор был безмолвным. Поэтому самым страшным было услышать: «Идите в кабинет ректора». Непререкаемая власть абсолютного сеньора была столь очевидна, что оспаривать ее было равносильно откровенному богохульству, а его слова, отделенные друг от друга паузами, как пропастями, имели предупредительное значение для всех и оставляли после себя открытое пространство безумия. То, что он говорил, значения большого не имело, но в сказанном ощущалось такое могущество, которое все мы должны были принимать за величие и чудо, как слова пророков.
Это был первый раз, когда я его слышал. И тут же почувствовал себя в его власти. Между тем ничего нового им сказано не было. Из первого пункта медитации нам уже все было известно о божественных замыслах. Но теперь к тому же было и присутствие этого человека, присутствие, говорившее нам то, что он, с пренебрежением относящийся к словам, глава всему и определен здесь судьбой, о чем свидетельствовала серьезность его лица от вечности. В моем мешочке еще оставались фиги, напоминавшие мне о детстве и моей деревне. Но в этот момент, глядя в лучившееся лицо ректора, который изъяснялся невероятно мягкими словами, я смутно почувствовал, не знаю, как это выразить, что моя судьба непоправима. Когда тайком я ел фиги, не смиряя своей гордыни, я еще мог заблуждаться, считая себя хозяином своей судьбы, но теперь ясно понял, что моя судьба и судьба всех нас безраздельно в его руках.
И вот в тот вечер, когда нам разрешили написать письмо домой, я все, как есть, ничего не утаивая, рассказал своей матери. Рассказал, от чего страдал, рассказал об ужасе моего одиночества и о большой тоске по деревне. И закончил тем, что объявил о своем желании уехать из семинарии. Я закрыл письмо, хорошенько его заклеил, а чтобы быть уверенным, что никто его не вскроет, налепил сверху марки. После занятий, но перед вечерней молитвой мы отдавали свои письма отцу Мартинсу. Но, посмотрев на мое письмо, отец Мартинс холодно и жестко заявил мне:
— Все письма сдаются открытыми. Разве вам не известен устав семинарии?
Открытыми? Я отдернул руку и сжал в ней свое преступное письмо. Но что же делать? Ведь отдать его открытым значило признать себя виновным. А написать новое не было времени. В смущении я двинулся к своей парте, стал перебирать бумаги, попытался засунуть письмо в карман. Однако злой и прямолинейный отец Мартинс окликнул меня:
— Так вы не даете свое письмо?
Обескураженный, я онемел. Двенадцать пар глаз впились в меня алчно, предвкушая скандал, который обещает развлечь их. Как я возненавидел отца Мартинса, своих коллег, жизнь! Боже, возненавидел все, что мог! Но моя ненависть, как всегда, была печальной. Отец Мартинс протянул руку:
— Разрешите посмотреть ваше письмо.
Но я его уже протягивал, страстно желая освободиться от греха, признавая, что это грех. Я поднимаюсь по ступеням кафедры, словно на эшафот, и отдаю позорящее меня письмо. И тут все входит в свою обычную колею: мы строимся, поднимаемся в часовню на вечернюю молитву и поверку совести и ложимся спать. Но я, промучившись всю ночь страхами, засыпаю только под утро.
V
Все утро следующего дня я прождал, что меня вот-вот вызовут к ректору. И каждую минуту, едва черная сутана ко мне приближалась, думал: «Боже, уже». Но нет. И все же в конце перемены высокий, чуть сутулящийся отец Алвес положил мне на плечо свою широкую руку и сказал:
— Идите, сеньор, к ректору. — И тут же, притянув меня к себе и понимающе заглядывая в глаза, спросил: — Что же это ты, сын мой, сделал?
Я посмотрел без страха в лицо этому доброму человеку, который обращался ко мне, как к сыну, и доверительно сказал:
— Написал в письме, что хочу обратно домой.
— Ба! Детские глупости! — воскликнул он сам себе.
Я посмотрел на него, устыдившись его восклицания. Но тут один из семинаристов отвлек его из-за возникшего между семинаристами спора о штанге, и я остался один. Чтобы избавиться от одиночества, я бросился вниз по склону и на середине пути столкнулся с Гамой, который шел вверх. Он шел медленно, печатая каждый шаг, но с осторожностью, точно опасался в любой момент оказаться в ловушке.
— Куда это ты? — спросил он меня, не оборачиваясь.
Я остановился, посмотрел по сторонам.
— К сеньору ректору.
— Не бойся! — подбодрил он меня. — Как-нибудь…
— Что как-нибудь?
— Молчи. Никому ни слова. Никому ничего не рассказывай!
Что не рассказывать-то? Но Гама уже шел дальше, его обросшая голова была втянута в плечи, крупные руки висели по обе стороны туловища. На какое-то время я остановился, чтобы взглянуть на высившийся передо мной холм, но проходившие мимо семинаристы уже стали обращать на меня внимание и оборачиваться, и я снова пустился в путь. Миновал вереницу уборных, где у каждой кабинки стоял семинарист, прошел мимо забора, возле которого колол дрова один из работников, и не в пример обыкновению не позавидовал ему, как это делал обычно каждый раз, проходя мимо. Теперь, когда я уже находился в длинных семинарских коридорах, я сдерживал шаг. На меня давила тишина огромного здания, сковывал холод высоких потолков, тяжесть огромных нависающих балок. Повернув направо, я пошел по маленькой темной лестнице, что вела к спальням первого отделения и в часовню. В темноте спальни за ширмой один святой отец и трое старых ведьм считали грязное постельное белье. Теперь, проходя по спальне, я в достаточно широкую щель приоткрытых темных окон видел задушевное недвижное сияние этого вялого осеннего утра. В спальне пахло только что постеленным свежим бельем, начищенными ботинками и удивительным, едва ощутимым ароматом красной земли и солнца, находившихся далеко за пределами больших приоткрытых окон. Там был разлит покой, покой далекий и счастливый, свет спокойной невинности, переливающийся всеми цветами радуги, в гармонии с привычными уху звуками, что напоминало мне кротость спокойно уснувшего счастливого ребенка. Однако все это было открыто мною только теперь в тревоге и одиночестве, среди строго стоявших кроватей, под потолком с нависавшими балками, и в тишине коридоров.
Кабинет ректора находился рядом с часовней прямо посередине узкого коридора. У двери я остановился, взволнованный, сжавшийся от страха. Какое-то время постоял, не зная, что делать, затаив дыхание и слыша стук своего сердца, который напоминал мне стук часов, стоящих в пустой комнате. Потом поднял руку, чтобы постучать в дверь. Но страх заставил меня опустить руку. Наконец, осторожно, чтобы не пробудить вновь фурию страха, я постучал. И тут же, словно все это время меня здесь ждали, услышал голос ректора, нарушившего тишину словом:
— Войдите.
Поборов страх, я вошел. Закрыл за собой дверь и замер, словно пригвожденный к полу, один на один с ректором.
— Садитесь, — приказал он мне.
Я сел, убитый резкостью его тона. Однако ректор, читавший какой-то толстый том, на какое-то время предоставил меня самому себе. И я смог прийти в себя. Оглядел кабинет, он был светлый и аккуратно прибранный; сквозь приоткрытую дверь я увидел внутреннюю комнату, белоснежное покрывало на кровати, услышал песню бочара, который пел, работая под солнцем. И в этой интимной обстановке, среди неожиданного откровения окружающих вещей, я вдруг доверчиво поднял свой горестный взгляд на сидевшего напротив человека, втайне надеясь, что он добр и гуманен. Его глаза за стеклами больших круглых очков были опущены, он был спокоен и поглощен чтением, и я без страха наблюдал за ним долгое время. Безграничное желание покоя и нежности пришло ко мне откуда-то изнутри, как приходит ласковый сон на наш покрытый испариной лоб. Между тем ректор, придав лицу геометрическую четкость, отчего лицо его стало квадратным, бросил на меня, когда я снова укрылся в своем страхе, быстрый взгляд, словно ударил кием по бильярдному шару.
— Вам известно, почему вы здесь?
Охваченный страхом, я молчал. Глаза ничего не видели, руки висели, как плети, во рту пересохло. Ректор повторил свой вопрос, произнося слова по слогам. И я ответил:
— Да, да, сеньор ректор. Не знаю, нет, сеньор ректор.
Мы оба молчали, стараясь оценить мною сказанное.
— Так на чем мы остановимся? Знаете или не знаете?
— Думаю, из-за письма, но точно не знаю.
Ректор молчал, дав моим словам расползтись в тишине дома, вытечь из себя самих, лишить себя смысла. А я, которому больше нечего было сказать, уставился в пол и стал ждать, что будет дальше.
— Мальчик не чувствует себя хорошо в семинарии?
Мне представился благоприятный случай. Я недоверчивый, несчастный, подавленный одиночеством, жаждал мира. С комком в горле я сказал:
— Чувствую, сеньор ректор. Чувствую себя очень хорошо в семинарии.
— Тогда почему же пишете, что хотите домой? С вами плохо обращаются?
— Нет, хорошо, сеньор ректор. Со мной очень хорошо обращаются.
— Сеньоры отцы-надзиратели не друзья вам?
— Друзья, сеньор ректор, они мои большие друзья.
— Вы не сошлись с коллегами?
— Сошелся, сеньор ректор. Но… Но иногда я очень скучаю…
Глупость моего поражения привела меня в отчаяние, мне захотелось плакать. Но я собрал все силы своего тщедушного тела, чтобы не расплакаться, и, вонзив ногти в ладони рук, сдержался. Ректор, похоже, заметил мою борьбу и, ослабив натянутые было поводья, разъяснял мне теперь очень уклончиво о высочайшем благодеянии Бога, который обратил на меня свой милосердный взгляд, о священническом сане, о покровительстве доны Эстефании, этой набожной сеньоры, которая спасла меня от столь обычной судьбы подобных мне людей. И, возводя глаза к потолку, где должен был присутствовать Бог, или сокрушенно закатывая их, он начал повествование моей печальной истории, которую я с большим вниманием слушал, потому что, как оказалось, я ничего подобного не знал. Отец мой умер, мать была бедной женщиной, и я барахтался в грязи моей судьбы, да, это так. Но то было детство, мое детство, и ничье больше. Между тем ректор раскрывал мне ожидавшее меня будущее: голод, усталость, мрак и гибель. И все это сообщалось холодным, бесстрастным голосом — стерильным инструментом пытки и истины. В какой-то миг тишины, ласки солнца и радовавшего душу стука бочара я поднялся со стула. И почувствовал, не знаю, как объяснить это, но почувствовал, что бочар, солнце и все то, что было миром, порочно и принадлежит греху и грязи.
Из ректората я вернулся побежденным, но полным благодарности, потому что хоть и велико было мое преступление, но ректор меня не наказал. Поэтому мне, втайне гордому, что из серьезной опасности я вышел целым и невредимым, захотелось вдруг громко кричать о доброте ректора и о величии Господа Бога.
И я написал своей матери, хваля семинарию и восхваляя будущее служителя Божьего.
VI
Тишина.
День обычный, как все, длинный и глубоко печальный, как вечера приговоренного к смерти больного. Для меня самым долгим и одиноким, естественно, был час сумерек. Час сумерек и еще другой час, час последних занятий и изнеможения от усталости. И все же, как я сейчас вспоминаю, особенно тяжелыми были для меня сами сумерки. Сколько же раз мне хотелось умереть! Исчезнуть, когда утомленное солнце скользило по потолку зала и из фантастического далека доносились отдельные короткие звуки уходящего дня. Да, я готов был умереть, потому что безысходность была очевидна. Огромные окна зала до половины были закрашены белой краской, и только верхняя часть их позволяла видеть простор пустого неба. Время от времени по идущей напротив дороге несся, точно ветер, испуганный автомобиль. Я слышал шум его мотора еще издалека, потом он нарастал с каждой минутой, врывался на миг в наши живущие в страхе души и постепенно стихал у линии горизонта. То же, что находилось за матовыми стеклами окон, растворялось в синем небе и рыжей нереальной пыли. И это было тем, что запало в мою память, и тем, что она хранила.
Но к вечеру, когда шло последнее занятие, воцарялась полная тишина. Никаких уличных шумов слышно не было. А если вдруг и возникал какой-то, то мы его с жизнью никак не связывали, ведь кругом было темным-темно. За высокими окнами была ночь и смерть…
Тогда я уходил в себя. Прямо напротив, стоя за кафедрой, отец-надзиратель недвижно молился по требнику. Вокруг меня, как спереди, так и сзади, сидели немые, подавленные семинаристы, пребывавшие в состоянии вечного страха и ожидания. Неясный шелест переворачиваемых страниц, случайное шуршание ног заполняют все пространство между высокими деревянными пилястрами, поддерживающими потолок, давят на утомленное внимание каждого, усыпляют тех, кто учит географию по открытому атласу. Зеленоватое пламя от рожков с ацетиленом чуть слышно посвистывает, тик-так вечного движения часов оглашает печальную пустыню тишины.
И вот во время одного из таких занятий дверь вдруг распахивается и одержимый отец Томас быстро входит в зал. Как два огромных черных крыла, развевались полы его облачения. Скуластое, достаточно крупное лицо и длинные мощные руки помогали его быстрой широкой поступи. Ярость и решительность с очевидностью говорили за то, что он движим желанием наказать одного из нас. Кого же? Отец Томас приближается. Какую-то секунду смотрит в сторону, проходит по третьему ряду, и я думаю: «Бедный Лоуренсо. Ты разговаривал с Семедо». Но отец Томас не останавливается. Теперь он смотрит налево, или мне кажется, что смотрит, и я дрожу за Фабиана, который, похоже, спит. О, небо! Он идет ко мне! Еще два ряда, один! Но что я сделал, что сделал! Господь милостивый! Матерь скорбящая! Дай силы и мужество! Только бы не заплакать! Только бы не навернулась слеза побежденного! Можешь бить, святой отец, сколько пожелаешь. Я стерплю. Я был невнимателен. Боже, это точно так. Но, бросив на меня быстрый взгляд, отец Томас проходит мимо, Святая Барбара, он позади меня. Я не хочу оглядываться. И спустя минуту звук удара линейкой раздается на весь зал. И следом окрик:
— На колени!
Затаив дыхание, я вижу, как мимо меня идет, горько плача, сжавшийся от страха, окровавленный Валерио с открытой книгой в руке. И слышу, как он встает на колени на цементном полу и стоит перед нами в назидание всем нам весь остаток занятия. Тишина воцарилась снова. Потихонечку вновь, словно умыв руки, пошли часы, пошли отсчитывать время долгой пустыни ночи. Только тут я вспомнил об имеющемся в каждой двери глазке, в который наши святые отцы подглядывали за нами.
VII
Спустя какое-то время все мы были разбиты на две команды. Именно в тот вечер и была сделана эта фотография, которую я сейчас держу в руках и рассматриваю с большой грустью. Болезненные, бедные, приехавшие издалека и часто по воле тех, кто жил в роскоши и богатстве.
Мой дорогой Гауденсио мертв. Вот он на фотографии в первом ряду, лицо круглое, полное, а глаза голодные, горячечные от постоянного желания есть… Как сейчас вижу тебя, вижу тебя. Вижу твои жесткие всклоченные, как у несчастного безумца, волосы. А вот сангвиник Валерио, бедный, он такой толстый и такой печальный. А вот и Палмейро, Фабиан, Семедо. И я, узнавший цену хлеба еще в доме доны Эстефании. Здесь мы все несчастные, мрачные, с постоянным страхом в душе. Какая-то сила обнаруживает себя в наших крепких руках и узловатых пальцах, доставшихся нам в наследство от предшествующих поколений. Но сила эта проявляет себя лишь здесь и здесь же себя исчерпывает, явно как деревенщина, смущаясь во враждебном ему городе. Здесь мы все, как есть невежественные, и звезда наша тому свидетель.
Так вот в тот день, о котором я стал рассказывать, мы разбились на две команды. Естественно, мы пошли на это с полным доверием, как шли на все, что нам, безоружным, предлагалось. Гауденсио был первым учеником в классе Лино. Как сейчас помню квадратное лицо отца Лино, его глухую речь, словно его слова, боясь выйти наружу, прятались где-то за зубами, и острый взгляд его маленьких голубых глаз. Речь шла о создании двух армий, войск, наконец, команд. Два генерала, возглавляющие две армии, были избраны тайным голосованием. Совершенно ясно, что в генералы должны бы были быть избраны лучшие из лучших в знании латыни. И тогда бы ими стали Гауденсио и Лоуренсо. Однако оказалось, что кое-что в них — ранняя полнота, смуглый цвет лица и плебейский вид, как и крепкое телосложение, — не всех устраивало, чернило и умаляло их знания. И выгодно противопоставляло им Амилкара, сына военного Республиканской армии, и Адолфо, сына хозяина магазина. И в их устах латинские правила и исключения были исключительно правильными и блестящими, и даже если ошибочными, то простительно ошибочными. Тогда как у всех остальных наука была непоколебима и груба. А вот у них, у Амилкара и Адолфо, легкими и изящными были даже глупости. Нам на них никто не указал, и мы прекрасно знали, что не они достойны того, чтобы возглавлять команду. Однако голос нашей покорности тут же сказал свое слово. И все мы как один проголосовали за Амилкара и Адолфо. А того, кто проголосовал против, так же дружно осмеяли. Смеялся даже отец Лино, показав нам свои мелкие зубы. Не смеялся только ты, Гауденсио. И не смеялся потому, что именно ты проголосовал против.
Потом избранные генералы выбрали для своей армии святого покровителя. Амилкар — Святого Луиса, этого сладкого святого с исходящим от его одежд ароматом, как говорил Гама, и к которому он, Гама, не испытывал ни малейшего почтения. Адолфо выбрал Святого Антонио, крестьянина. Вот из-за Святого Антонио я и хотел отдать предпочтение его команде.
Итак, препоручив себя избранному Святому, каждый генерал стал собирать свое войско. Первый начал Амилкар:
— Бригадным генералом будет Гауденсио.
— А я выбираю Лоуренсо.
— Полковником — Фабиан.
— А у меня — Семедо.
Я стал интересоваться своей судьбой. Какая же честь выпадет на мою долю? Какой я займу пост? Амилкар и Адолфо, взвешивая знания каждого, подбирали всех остальных. Когда же дело дошло до выбора капралов, они почти не задумывались. И очень скоро каждый из нас уже принадлежал к той или иной армии. Я, как второй солдат, попал в армию Адолфо следом за Таваресом, который был первым, и пробыл в солдатах весь год. Казначеем — пост казначея был последним — стали Палмейро и Флорентино. И опять мы все смеялись, на этот раз жестоко над судьбой этих двоих. Флорентино, который имел привычку весь сжиматься, точно его щекотали, покраснел и затряс головой и, гримасничая, уставился в пол. Отец Лино своим глухим голосом объяснил нам, как будут действовать армии.
— Каждый ученик, который хочет получить чин выше, чем имеет, должен вызвать на состязание того, кто уже имеет этот чин в его войске. Высший чин вызывать на состязание низшего не может. Но может вызывать того, кто с ним в одинаковом чине в войске противника. Святой, покровительствующий войску, будет меняться для той армии, которая сделает меньше ошибок.
Объяснение было путаным, и отец Лино объяснил еще раз, приводя примеры:
— Возьмем Флорентино, он — казначей. Так вот он может вызывать на состязание всех своих коллег из своего войска. А также казначея другого войска. Таварес, являющийся первым солдатом может вызывать сержантов, лейтенанта, капитана и даже генерала своего войска, чтобы подняться вверх по служебной лестнице, но только не низшего чина. Может он состязаться и с теми же чинами другой армии. И обязательно должен вестись подсчет допущенных ошибок. А в конце недели армия победителей будет выбирать нового покровителя. Списки всех пунктов, по которым будут состязаться желающие, должны быть сданы в письменном виде перед уроком.
Так мы оказались под знаком войны… На следующий день стол отца Лино был завален сданными листками.
И это для всех нас оказалось настоящим сюрпризом. Каждый, конечно, знал о себе, о своем желании победить, что, возможно, и было своеобразным проявлением какой-то мести, но о такой обеспокоенности мы даже не предполагали.
И я в первый же день тоже решил бросить вызов противнику. Сам отец Лино был в замешательстве от такого нашего пыла. После затянувшейся минуты молчания, он решил наугад вытащить две бумажки, оставив в стороне все остальные. Так кому же выпадет счастье? Мучительное беспокойство не покидало каждого из нас. Отец Лино вытащил первый листок и отложил в сторону. Потом — второй, и положил его к первому. Потом сгреб со стола все остальные и засунул в карман сутаны. И развернул первый листок. Я вздрогнул. А вдруг кто-нибудь решил бросить вызов мне? А вдруг отец Лино вытащил мой листок? Но тут отец Лино произнес своим язвительным голосом:
— Жоан Палмейра вызывает на состязание противника из другого войска.
Оба они были казначеями. Хохот, раздавшийся со всех сторон, обрушился на головы обоих гладиаторов. Нелюдимый, все время вздрагивающий Флорентино, точно кто-то его подкалывал, вышел на поле битвы весь красный от смущения. Однако непреклонного Палмейро, одержимого заранее выработанным планом, это нисколько не смутило. И когда оба противника заняли свои позиции, отец Лино дал сигнал к бою. У большой грифельной доски с мелом в руке стоял еще один ученик, готовый тут же записывать ошибки каждого состязавшегося. Палмейро пошел в наступление. С целью ошеломить и деморализовать противника сразу Палмейро открыл плотный огонь теми исключениями из правил, что в большом томе грамматики даны мелким шрифтом:
— Дательный падеж множественного числа от filia[6].
— Filias. Нет, нет filiis.
— Filiabus, — точно дубинкой оглушил его Палмейро.
Не показать свою симпатию к несчастному Флорентино, избиваемому безжалостным Палмейро, мне было очень трудно. Я ведь презирал его за вечные ужимки, сладкое выражение лица, которое у него появлялось в часовне, и всегда инстинктивно подозревал его в предательстве (к несчастью, подозрение подтвердилось). Но сейчас к измотанному вопросами и насмешками Флорентино моя душа потянулась, потянулась к посрамленному отсутствием знаний правил и исключений. И я страдал вместе с ним, отдавая ему всю ту нежность, которую я мог найти в своем бедном сердце…
Между тем внушавший ужас Палмейро, не смущаясь и не испытывая жалости, продолжал лупить своего противника изо всех сил. А несчастный, беспомощный и удрученный Флорентино, слушая сыпавшиеся на него вопросы, даже не пытался отвечать на них. А на грифельной доске неумолимо росло количество глупых ответов несчастного побежденного. Никто из присутствовавших уже не смеялся, потому что происходившее походило на убийство. Наконец, отец Лино положил конец избиению и предложил Флорентино отыграться. Однако Флорентино после небольшого колебания отказался, сказав, что не помнит то, что хотел спросить.
— Ничего-ничего? — спросил отец Лино надтреснутым голосом.
— Ничего, — ответил Флорентино, вскинув на него мученический взгляд.
— В таком случае прошу садиться.
И развернув другую бумажку, объявил следующую пару состязавшихся. Я же, переполненный состраданием к Флорентино, лицо которого пылало от стыда, плохо слушал тех, кто теперь был на поле битвы. К тому же это сражение было неинтересным: Невес из моей команды вызвал на бой своего противника. Оба несли чушь. И были прерваны отцом Лино. Все смеялись, и очень скоро все закончилось.
С того самого дня все мы почувствовали себя еще более одинокими. Одиночество, правда, было несколько необычным и очень беспокойным. Теперь между нами встала стена взаимного недоверия, рос страх перед поражением, унижением и алчностью триумфатора. Да, маленькая детская война со своими жестокостями! Конечно, степень боли была не сравнима с характером этой боли. Однако боль — это то, что ты чувствуешь, и ничто другое. Теперь я окончательно отказываюсь от своего заблуждения судить с позиции взрослого человека о степени тяжести детского горя. Потому что каждый момент прожитой мною жизни был для меня по-своему таким же сложным, как если бы я так никогда и не повзрослел, ведь только чужое детство, когда ты сам уже не ребенок, ничтожно и наивно.
Так, в памяти моей четко встает мрачная фигура Палмейро, несчастная фигура одиноко бродящего на переменах Флорентино, и тоскливое выражение лица каждого из нас при угрожающей вести, что кто-то подготовил бой против кого-то. Каждого? Нет, дорогой Гауденсио, твое лицо всегда было спокойным.
Между тем Палмейро не унимался. Настойчивый, ядовитый, коварный, он готовился, не имея ни единого поражения, к новым победам. Мы наблюдали его на всех уроках, он был прилежен и, закрыв глаза, долбил наизусть правила и исключения, выписывая наиболее сложные и готовя защиту. Настойчиво овладевая знаниями, он собирался вызвать на дуэль двух солдат, стоявших выше его, а то и второго, а может, и первого капрала. Поскольку я был из другой армии, я мог не волноваться. А те, что были под покровительством Святого Луиса, тряслись от страха. Считалось, что Палмейро прекрасно знал всю грамматику. Да мог ли знать ее лучше сам отец Лино? А потому я нисколько не удивился бы, если Палмейров место капрала или солдата победил старшего офицера. И было очевидно, что Таборда, который был в моей команде и добивался дружбы с Палмейро, подбивал его вызвать на бой Фабиана, полковника, или даже Амилкара, генерала. Но Палмейро был благоразумен. Он стремился, печатая каждый свой шаг, подняться вверх, но не спешил. И прежде всего победил бедного Тавейру, который был вторым солдатом, моим противником в другой команде. И с тем же жестоким упорством, с которым уничтожил Флорентино, схватился с Тавейрой и деморализовал его. И тот покатался вниз и дошел до казначея. О подвигах Палмейро и его жестокости поговаривали во всех отделениях. А Таборда не давал ему успокоиться и только подначивал.
А тут в один из тех редких дней, когда боев не было, отец Лино вызвал Гауденсио отвечать урок. И Гауденсио по только ему одному известным причинам не ответил ни на один его вопрос. Палмейро был вне себя от радости. А Таборда спокойно, но угрожающе назойливо нашептывал ему:
— Сегодня или никогда! Сегодня или никогда!..
Палмейро просто заболел. Однако пример его подвигов был у всех перед глазами. И теперь мало кто вызывал на бой своих прямых противников с тем, чтобы продвинуться на следующую должность.
И вдруг бомба взорвалась. То был печальный день конца ноября. Как сейчас помню, шел дождь, поливая большие стекла окон, помню красноватую грязь по обочинам дороги и переменки без солнца под навесом. Отец Лино развернул записку. И глядя на Палмейро с изумлением, медленно прочел:
— Жоан Палмейро хочет вызвать на бой своего генерала.
Генерала? Так не Гауденсио? Мы все переглянулись. Я презирал Амилкара из-за того, что он пресмыкался перед надзирателями, носил берет, разделенный на дольки желтой веревкой, и еще потому, что был сыном военного, что он всегда подчеркивал. Но пожелал ему победы, потому что уж очень хотел поражения Палмейро. Бой был спорным и тяжелым. И не потому, что Палмейро ошибался в грамматике, а потому, что теперь было необходимо знать не только грамматику, но и уметь переводить, демонстрировать ум и сообразительность, чего как раз у Палмейро и не было. Но как бы там ни было, Палмейро все же победил. В этот же день на последнем уроке я передал записку Гауденсио:
— Ты за кого? Вызови Палмейро! Покажи ему где раки зимуют.
Однако, чуя опасность, Палмейро теперь искал дружбу с Гауденсио. Что-то в их отношениях мне показалось странным. И вот на одном вечернем занятии Гауденсио передал мне записку:
— Завтра.
Поражение Амилкара взволновало все три отделения. Таборда же смотрел на Палмейро с гордостью создателя. И вот теперь вызов Гауденсио снова взволновал всю семинарию. Спокойно направив огонь на самое уязвимое место Палмейро — разум, Гауденсио вынудил его думать о переводе, объяснении падежей, толковании слов. И Палмейро был побежден.
Тут армия Святого Луиса впала в мстительное неистовство. Амилкар набросился на Палмейро и, не отпуская, держал его в черном теле. Потом на помощь пришла вся армия, и Палмейро, теряя должность за должностью, летел вниз, пересчитав все ступеньки и покрыв себя позором на всю оставшуюся жизнь в семинарии.
VIII
Наконец наступило время каникул. Как же долго я ждал их. У парты, чуть в стороне, так, чтобы ничто не закрывало, я прикрепил календарь на декабрь и каждый день на последнем уроке пришпоривал время, обрывая листок с завтрашним числом календаря, а иногда и послезавтрашним. Однако, несмотря на все мои старания, каждый следующий день имел двадцать четыре часа ожидания. Частенько в воображении я превращал дни в часы, минуты и секунды. И, мучимый тоской, внимательно следил за каждой уходящей секундой и, обливаясь потом, делал для себя открытие, что те немногие дни, что оставались до каникул, были огромной горой времени. Уже лежавший на грязных дорогах иней и покрывало тумана в долине напоминали мне, сжимая горло, зиму в моей родной деревне — свободном горном хребте моего детства. И вот как-то на уроке по духовному чтению вместо трех абзацев «Правила» один ученик прочел нам «Советы на каникулы». И ярость свободы, чудовищная потребность бежать обожгли мне все мое существо. И я поверил в реальность существующего снаружи мира, в реальность бочара, поездов и расстояний. A-а, сколь ужасно ожидание! И все же в одно темное утро мы наконец грузим наши чемоданы и мешки на подводу, запряженную волами, и двигаемся в путь. В одно мгновение проходящая напротив семинарии дорога становится черным-черна от идущих по ней семинаристов. Теперь мы не идем отделениями, теперь запрещавшаяся правилами дружба обнаруживает себя: Гама очень скоро присоединяется ко мне вместе с Гауденсио, который не едет с нами на поезде, а, дойдя до поселка, садится в грузовичок, везущий его в деревню. Как только я ступил за порог семинарии, мне страстно захотелось издать победный клич, который огласил бы все тайники моего страха. И голос мой почти дошел до горла, но пальцы коснулись губ. Удивительная сила, исходившая из огромного семинарского здания, несколько пар глаз оставшихся в нем отцов-надзирателей и моя вековая покорность остудили мой жаркий порыв, как и согревавшую его надежду. Так, когда я шел мимо дорожки, ведущей к бочару, и увидел дом и сад, спавшие глубоким сном, я без удивления отметил, что все это находилось бесконечно далеко. Помню, что, проходя не раз мимо бочара, я сомневался в его существовании и желал потрогать его своими собственными руками, чтобы удостовериться, что он действительно существует. Так когда-то поступили жители моей деревни, сбежавшиеся посмотреть на упавший самолет и радовавшиеся представившейся возможности удостовериться в существовании самолетов и в том, что в них летают люди. Но теперь, когда мне такая возможность представилась, я даже не попытался ею воспользоваться. Как видно, разделявшее меня и этого человека расстояние было непреодолимым. То была четкая осторожность по отношению к прошлому и сверх того своеобразное отношение к мужчинам, женщинам и всему тому, чем для меня теперь являлся мир.
Когда мы прибыли в поселок, ночь окончательно уступила место утру. Холодная дымка тумана тихо поднималась к ласковому небу. А приятное тепло, как теплое дыхание, ощущалось во всем, что нас окружало. Чемоданы и мешки уже стояли на земле. Взяв свои вещи, Гауденсио с нами попрощался.
— Пиши, — бросил он.
— Хорошо, Гауденсио. Напишу.
Тут Гама предложил мне следовать за ним. И я пошел, согнувшись под тяжестью мешка, до вагона третьего класса. Но как только багаж был разложен и мы сели, Гама погрузился в глубокое молчание, точно отдыха и забвения требовала его ненависть, и молчал все время. Я не мешал ему и, открыв складной нож, тут же принялся за данный нам в дорогу семинарский завтрак. Луч солнца заглянул в вагон, как заглядывает в дверь стоящий на пороге ребенок, и заскользил по потолку. Вокруг нас царило оживление: кто-то размещал вещи, кто-то, прощаясь, обнимался. А на станционной платформе среди суматохи черных семинаристских одежд отец Томас, как арестованный преступник, чувствовал свою злобность никчемной. Ощущая в своей душе созвучность происходящему, я успокоился. И вдруг Гама сказал:
— Если хочешь, можешь съесть и мой завтрак, вот он.
— Нет, не хочу, спасибо. А почему ты сам не ешь?
Гама пожал плечами и ничего не ответил. Поезд вот-вот должен был тронуться, и семинаристы прилипли к стеклам окон. Послышался сигнал к отправлению, паровоз дал прощальный гудок и рванулся вперед. Отъезжавшие семинаристы распрощались с остававшимися в поселке, со станцией и с самими собой, точно уезжали навсегда. Теперь поезд ехал, за окном мелькали станции Алкария, Ковильян, Велмонте… Тут один из семинаристов попросил меня посмотреть на станционных часах, который час. Я пошел, но никаких часов на станции не оказалось, и все весело смеялись надо мной и моей доверчивостью.
Гама сидел молча, на его правой щеке красовался синяк, большие руки сжимали ручку зонта, на голове были надеты две шапки. Вид его говорил, что он готов постоять за себя в любую минуту. И веря в эту самую его готовность, я почувствовал его своим братом.
Почти на каждой станции наш поезд оставлял группы семинаристов. И я видел их шедших по платформам, прихрамывавших под грузом багажа и тревожно озиравшихся по сторонам враждебного им мира. Они коротко махали нам издали, боясь, как видно, перед окружающими обнаружить общность нашей судьбы. Помню, как на станции Ковильян один тип в джинсах огласил перрон, как ворона, карканьем:
— Кар-кар! Кар-кар!
Какой-то святой отец, спокойно сходивший на этой станции, тут же шмыгнул куда-то в сторону и исчез. А три семинариста, красные от стыда, быстро распростились и, опустив головы, устремились к выходу. Ярость залила мне краской лицо не хуже алкоголя. И в сердцах я подумал: «Зови вороной своего дедушку». Однако брошенное оскорбление и возникшая тут же обида не дали мне даже открыть рта. Да и окружавшие нас люди спокойно улыбались, относясь снисходительно к детским шуткам. А униженные черным цветом своей одежды семинаристы выглядели несчастными жертвами, но не людей, а своей судьбы. И все же я испытал бесконечную жалость к своим коллегам, провожая их взглядом, пока они выходили со станции, пока видел улыбки людей и пока помнил все это. Нет, я не был знаком с этими семинаристами, однако неожиданно испытанная солидарность завладела моим сердцем, как нерушимый союз проказы или преступления: кровное родство нашей общей судьбы связало нас навсегда…
Именно это, к своему изумлению, мы с Гамой обнаружили, обедая в одном из пансионов Гуарды. Через мою деревню и недалеко от деревни Гамы была проложена дорога, по которой ходили машины. Выйдя из поезда, мы шли по дороге в город. Гама знал дешевый пансион, находившийся около казармы, и мы пошли туда, чтобы перекусить. Так вот, когда мы развернули салфетки, один достаточно толстый субъект, который уже, как видно, поел и хорошо выпил, пристал к нам с вопросами: семинаристы ли мы, сколько нам лет и чему нас обучают в семинарии. И так далее и тому подобное. Гама отвечал нехотя. Я же, одержимый желанием мирного сосуществования с окружающими, старался ответить на все адресованные нам вопросы как можно полнее. Каждый мой ответ субъект встречал молча, продолжая жевать с чуть прикрытыми глазами. И постепенно аромат дружелюбия наполнил мою душу нежностью. И я, жаждущий согласия, смотрел на незнакомца, не обращая внимания на его опухшее мясистое и гнусное лицо. И даже отважился на вопрос:
— А вы, сеньор, откуда будете?
Однако грубый субъект принялся за фрукты и оставил мой вопрос без ответа. Растерявшись от такого пренебрежения, я посмотрел на Гаму, ища у него поддержки. Гама по своему обыкновению молчал. Тогда меня охватил такой стыд, что я совсем смешался. С пустыми руками и обидой в сердце я краснел и улыбался от жалости к себе и позора. И, склонившись над тарелкой, от злости и усталости съел все подчистую. Тут за столом появились новые сотрапезники, и теперь уже незнакомый субъект разговаривал с ними. Показывая на нас пальцем, он не стесняясь, говорил им:
— Вот, обратите внимание, и в нашем веке возможны подобные вещи. Два парня, ну вот, как, к примеру, эти, содержатся в семинарии, как в тюрьме.
Бандит. От ярости у меня застучало в голове. Я положил вилку и посмотрел на субъекта с затаенной злобой, слишком большой для моего маленького существа. И, почувствовав в нем врага, которого давно искал, чтобы излить свою ненависть, спросил:
— Кто это вам сказал, сеньор, что семинария — это тюрьма? Там все хорошо. И если мы учимся в семинарии, то только потому, что хотим этого. Скажи, Гама, ты в семинарии по желанию или нет?
— По желанию, — нехотя проворчал мой друг.
Но ни субъекта, ни его собеседников нимало не смутило мое заявление, и, видя, что я злюсь, они только улыбались. Я же, хоть и был взволнован и расстроен, чувствовал удовлетворение. А насытившийся субъект продолжал свою атаку, но уже с другой стороны:
— Вот кого учат на посланников Божьих. Представляете? А ведь святой отец — посланник Бога. Вот такие-то и норовят быть выше Бога.
Я тут же ответил вопросом: а разве министр может быть выше президента республики? Тут все вокруг улыбнулись моей находчивости. Мы гордо расплатились и вышли на улицу с высоко поднятой головой. Но, вновь оказавшись затерянным на улице равнодушного к нам города, я тут же почувствовал, что происшедшая в пансионе сцена была не иначе как подстроенной дьяволом, нашедшим приют в моей душе. Потому что я, именно я желал бы объявить, что семинария не что иное, как тюрьма, и что посланник Божий чаще всего выше президента и о многом другом, о чем хотелось кричать, чтобы ясно стало всем, что детство мое предано. Но ничего этого не сказал. И, снова испугавшись, почувствовал, что наше общее несчастье было необоримо, как проклятие крови.
И мы пошли бродить по улицам до того часа, когда должна была подойти машина. Помню хорошо, с какой симпатией смотрел я на угрюмые дома города, изъеденные старостью, покосившиеся и ведущие вечный разговор с улицей. На углах улиц поджидал нас холодный декабрьский ветер и продувал насквозь. Огромная тысячелетняя рука, распластанная, морщинистая и черная, казалось, парила в небе, как крылья огромного стервятника. А я внимал окружающей нас тишине и медленно опускавшимся сумеркам, которые вначале смутно, а потом все яснее рождали во мне страх перед смертью, и сердце мое замирало от тревоги.
Наконец, я и Гама оказались у небольшого магазинчика, намереваясь в нем что-нибудь купить. Здесь мы встретили своих коллег, которые уже приобрели кое-что из продаваемых товаров. Я попросил Гаму подсказать мне, какие купить сладости для моих братьев. Но Гама посоветовал обратиться к продавцу кондитерских изделий. Когда же все покупки были сделаны, весь городок обойден, и у нас до отхода машины оставался час времени, Гама повел меня в укромное место в кустарнике с таким серьезным видом, что я понял: меня ждал доверительный разговор. И испугался. Готов ли я к этому самому доверительному разговору с Гамой?
Мы уселись в небольшой ямке, прямо на солнце, защищенные от ветра и каких-либо воспоминаний. Вот тут-то не без страха Гама спросил меня:
— Лопес! Ты… тебе нравится в семинарии?
Я задрожал. Поскольку я очень уважал Гаму и очень ему верил, ответ мой, который я теперь, после разговора с ректором, дал ему, был огромен, как жизнь. Какое-то время я помолчал, как бы оценивая то расстояние, которое должны были преодолеть сказанные мною слова, и робко сказал:
— Нет, Гама, мне совсем не нравится в семинарии.
— Как и мне, — воскликнул он дерзко.
Но тут же с грустью заметил, что мать его мечтает, чтобы он стал священником.
— Я еще раз хочу попытаться, попытаться объяснить ей, что у меня нет призвания. Но если она меня заставит после каникул вернуться в семинарию, тогда я…
Он резко, точно на краю обрыва, остановился, глядя на меня чуть ли не с ненавистью, словно на это признание вынудил его я. Но я все же спросил его:
— Тогда что, Гама?
— Ничего.
У него была идея, которую он вынашивал в своем сердце, надеясь, что она защитит его от горечи жизни. И я почувствовал, что ему было необходимо высказаться, разделить с кем-то тяжесть своей мечты. Но и одновременно понял, что я слишком мал и могу навредить ему и потерять его. И не настаивал. Взглянул на его искаженное от злобы лицо, на его большие руки, опирающиеся на ручку зонта, и молча, от всего сердца посочувствовал ему.
В четыре часа вечера машина, шедшая в мою деревню, должна была отойти от станции. Это был старый открытый грузовичок со скамейками от борта до борта. Поскольку желавших ехать всегда хватало, запаздывавшим приходилось садиться между скамейками на свои вещи или просто на пол. Я и Гама уселись на первую скамейку — рядом с кабиной водителя. И мы, как серьезные мужчины, молчали, пока машина спускалась в долину Мондего. Дорога, прижимаясь к горе, шла вниз серпантином. А внизу, в долине, вставшие на колени жалкие деревушки молились на окружавшие их и угрожавшие им горы, по которым я так томился вековой тоской. Я знал, что за горами моя деревня, и потому смотрел на них с благодарностью. Солнце быстро садилось, и повернутый к нам склон горы очень скоро стал темен и огромен. Однако шедшие от подножья вверх узкие, петляющие от усталости и тоски тропинки были еще видны, и мне казалось, что, достигнув высшей точки, они не спускаются по ту сторону горы, а поднимаются в самое небо… Время от времени огибая гору, грузовичок оказывался на краю пропасти, рискуя стать частью этого величия и вечности. Инстинктивно я выбрасывал вперед руку, заставляя какое-то время ее парить над долиной, словно хотел как можно дальше отодвинуться от открытого пространства или, приветствуя наступление вечера, который теперь опускаясь на печальные деревни, на смиренный покой дымящихся очагов, чертил великий знак креста в твердой уверенности скорого пришествия ночи.
Наконец глазам нашим открылось плоскогорье. Гама, все так же молча, собрал свои вещи — мешок и пакеты. Потом протянул мне руку и тихо сказал:
— Так, Лопес, если мы больше не увидимся…
Я побоялся ему ответить: что будет, то будет. Но вдруг, увидев Гаму, как бы по другую сторону от себя, я от неожиданного стыда ощутив боль в желудке, как улитка, ушел в себя. Если Гама уйдет из семинарии, он автоматически перейдет в лагерь врагов и станет одним из тех, кто оскорбляет нас, называя воронами и попами, и я должен буду защищаться от него, кипя ненавистью или выказывая безразличие. Чувствуя это, я чувствовал и то, что теряю своего лучшего друга. Я сжал руку Гамы, а Гама — мою, крепко, точно нас должна была разлучить смерть. Наконец наш грузовичок остановился, чтобы Гама мог сойти. Это произошло на одном из поворотов в Селорико, где у дороги, идущей в Транкозо, его ждала укутанная в шаль девушка и ослик. Гама спрыгнул, поднял мешок и зашагал прочь. Еще я увидел, как он обнял девушку, без сомнения — это была его сестра — и привязал мешок к седлу ослика.
Грузовичок постепенно пустел, пассажиры один за другим сходили, кто около деревень, кто около идущих к ним дорог. Наконец я остался один. Спускалась ночь, холодная, недвижная, звездная. Когда же грузовичок оказался на повороте дороги, о котором я так долго мечтал, потому что именно с него была видна моя земля, я пал духом перед спустившейся ночью и моей беззащитностью. Страх парализовал меня, страх или нахлынувшее ко всему вокруг безразличие.
IX
Я спрыгнул с грузовичка и огляделся в надежде увидеть того, кто встречал меня. И увидел мать, обеспокоенную, одетую в черное. Я бросился к ней, как к единственному прибежищу. Она молчала. Потом быстро поцеловала и глухим надтреснутым голосом сказала:
— Вон сеньора. Посмотри, вон сеньора.
Но сеньора дона Эстефания уже была рядом, ее голос сек мои уши:
— Мальчик! Пошли!
Служанка взяла на голову мой мешок, и мы с сеньорой пошли вслед за ней. Сделав несколько шагов, я обернулся, чтобы посмотреть на оставшуюся стоять мать. Но кругом была непроглядная ночь. Мрачные, укутанные в плащи мужики то и дело обгоняли нас, стуча по дороге деревянными башмаками. С покрытых снегами гор дул сильный холодный ветер и подмораживал мое лицо. Я хотел спросить мать о Жоакиме, о Марсии, я ведь был полон надежд на каникулы в кругу семьи, а оказался снова один, да еще во власти строгой доны Эстефании. Будучи замужем за капитаном казармы и имея шестерых детей, дона Эстефания была строгой, набожной и бесчеловечной, как высохшая старая дева. Жила она на краю поселка в старом особняке недалеко от церковного двора. Длинный темный коридор, шедший по всему дому, доходил до моей комнаты, которая находилась рядом с кухней. Это была маленькая, выкрашенная в желтый цвет комната с зарешеченным окном, начинавшимся у пола и выходившим в большой сад, заросший деревьями. Я разобрал свои вещи, вымылся и пошел поздороваться с сеньором капитаном и всеми детьми. Они задавали мне вопросы, о чем хотели, а дона Эстефания все время следила за мной, сложив на груди руки, и, как только вопросы закончились, приказала идти ужинать.
— Этот год еще поешь на кухне. Следующий будешь есть с нами за одним столом. Будущий посланник Божий должен уметь общаться со всеми слоями общества.
Эту сложную фразу она произнесла на одном дыхании, и, когда закончила, я пошел есть. Между тем есть на кухне мне было больше по душе. К тому же моя сестра, работавшая у доны Эстефании служанкой, за столом не прислуживала. И мне было куда приятнее быть на кухне. Ведь на кухне я знал почти всех слуг — и Кальяу, и Жоану, и Каролину, хотя Каролина в доме начала работать недавно. Жоане, должно быть, было лет тридцать, в дом ее взяли лет шести-семи, вот и выходило, как говорила хозяйка, что ей тридцать. Каролина была взята относительно недавно, и положение ее в доме было особое, так как она пришлась по вкусу сеньору капитану. По меньшей мере по вкусу. Так думал я, сидя на кухне, где был под защитой.
Я поел, две служанки стояли около и смотрели мне в рот. Потом попытался читать вечерние молитвы, но вскоре лег спать. А когда погасил керосиновую лампу, ночь и ветер вошли в мою комнату. В полной тишине я слышал нарастающий шум со стороны реки, которая протекала рядом. И долго лежал, не смыкая глаз, без сна. В сгущавшейся темноте ветер крепчал, кружил вокруг дома и обрушивался на него, как морская волна на скалистый берег. Разверстая пасть горы оповещала округу о грядущих ужасах. И в этот момент я представил, что огромная потная и холодная рука вот-вот ляжет на мое лицо. И ужаснувшись, нырнул под одеяло. Мне живо вспомнились старые картинки, показывая которые дона Эстефания развлекала меня и воспитывала. То были наводящие ужас образы косоглазых чертей с сернистыми глазами, изображение всех мук ада и смеющегося оскала зубов… Чтобы мне был понятен смысл этих картинок и я привык пребывать в постоянном страхе, дона Эстефания еще и рассказывала мне о тех, кому уготован был ад, запугивала меня спускающимися сумерками и обступающими со всех сторон ночными тенями. И сейчас, слыша доносившийся с горы и обрушивавшийся на крышу дома ветер, я особенно отчетливо все это вспомнил. И, придя в ужас, сел на кровати и стал искать на столе спички. Но не нашел. Снова лег, прислушиваясь к каждому звуку и стараясь распознать каждую тень в отдельности и все вместе. И в изнеможении задремал. Но вскоре же, хотя еще не брезжило утро, услышал хлестнувший меня, словно бич, голос:
— Пора вставать.
Я открыл заспанные глаза и на пороге двери увидел скелет доны Эстефании, державший в руке керосиновую лампу. Желтоватый свет освещал ее изъеденное добродетелью и злобой лицо. Удостоверившись, что я узнал ее и услышал, она приблизилась к столику, зажгла стоящую на нем керосиновую лампу, поправила одеяло и вышла, не сказав ни слова. За окном светлело, и постепенно вещи в комнате стали принимать свои привычные очертания. Проникавший в окна свет и спертый воздух в комнате создавали впечатление, что я нахожусь под грязным стеклянным колпаком. Еще темные, но уже просыпавшиеся углы смотрели на меня мрачно, и мне казалось, что, подобно насекомым, привлеченным светом керосиновой лампы, тянули они ко мне свои мохнатые крючковатые лапы. Я быстро вскочил, умылся и оделся. И пошел по длинному коридору, освещенному керосиновой лампой. Дом, наслаждаясь тишиной, спал глубоким сном. Однако дона Эстефания уже в мантилье и с четками в руках ждала меня у темного проема двери. И, приказав мне идти вперед, пошла сзади, чтобы следить за каждым моим движением. Так мы пересекли церковный двор и оказались у входа в церковь. На чисто выметенном и казавшемся бесплодным небе еще поблескивали звезды, как поблескивают осколки стекла на высокой недосягаемой стене.
Когда же мы наконец вошли в церковь, на меня пахнуло холодом и сыростью катакомб. Стены, раскинутые руки Христа и сводчатый потолок, казалось, хранили погребальную тишину. И у каждого алтаря теплилась медная лампада, скорбно молящаяся в неподвижном времени явлению святых. Поскольку приор еще не появился, я, оповестив Бога о своем приходе, сел на скамью, отдавшись печали окружавшей меня сырой тишины, подобной тишине, предшествовавшей зарождению жизни. Время от времени слышалось шуршание теней, в боковые двери входила то одна, то другая святоша, проскальзывала через один из темных проходов и, найдя укромный угол, вставала на колени. И скоро темные пятна стоявших на коленях святош обступили меня со всех сторон, а часы колокольни стали отбивать свое древнее время упрямым железом. От черного помета одиноких жаб и крыльев летучих мышей у меня увлажнился рот, начались позывы к рвоте, а бой огромных часов сбивал ритм сердца. Обеспокоенный задержкой приора, я оглянулся, услышав новый шум шагов. Однако дона Эстефания тут же мягко, но настойчиво вернула мою голову в прежнее положение, требуя порядка. Наконец святой отец появился. Широкий в плечах, грузный, еще более мрачный, чем стоявшие на коленях святоши, он тут же начал читать долгую, нескончаемую молитву, в то время когда уже из-за гор вставало утро, заглядывало в овраги и, еще холодное, принялось смотреть в холодные окна церкви. Тут же летучие мыши стали покидать церковные своды, и страх исчез из тишины приделов. Медитация была на исходе, как и длинная цепь бесконечных молитв святым, которых приор, казалось, знал по жизни, и месса — все шло к причастию. А поскольку я держал в руках чашу с облатками, то мне открылись рты всех святош. И я смог увидеть язык доны Эстефании, он был пористый, обрезанный, как некоторые фотографии, с углов и обложенный белым налетом, с глубокой продольной складкой. Перед облаткой он плотски дрожал. Так вдруг мне открылось нечто необычное в этом открытом рте с высунутым языком наружу. Ведь дону Эстефанию, особенно во время моей учебы в семинарии, я всегда видел с каменным, костлявым и ожесточенным лицом. А здесь, как у зубного врача, с широко открытым ртом. Наконец рот закрылся, руки легли на грудь, и вся суровость и непреклонность вернулась к ней полностью. Это я заметил, когда она вошла в ризницу, чтобы обменяться соображениями с приором о моем режиме каникул. Я, естественно, при сем присутствовал как обвиняемый, не смея открыть рта, хотя решалась моя судьба.
— Да, да… — говорил приор, тяжело и запинаясь. — А он здоров? И может рано быть в церкви?
— Здоров? Что за вопрос, сеньор приор! О каком здоровье мы говорим, если всего лишь нужно встать рано и прийти в церковь? Я ему уже сказала: пока он в моем доме, он должен быть каждый день на утренней молитве, медитации, мессе и на чтении молитв по четкам.
— Да… на вечерней молитве, и на поверке совести, и на духовном чтении.
А как же иначе? Для чего же я здесь стою с вытянутыми по швам руками и одетый во все черное? Все, что мне полагалось покорно и послушно выслушать, я выслушал, молча и глядя на них обоих. Яркое зимнее солнце теперь освещало весь церковный двор. Я видел, как его золотистые нити отважно тянулись к решетке ризницы. Дона Эстефания задала еще один вопрос:
— А как считает ваше преподобие, может ли он навещать мать?
— Да, конечно… мать — это всегда…
Тут дона Эстефания открыла такой огонь по моим братьям, сестрам и матери, что я был тут же лишен этой возможности.
— Ведь эти люди, ваше преподобие, способны подавать дурные примеры. А мать если захочет увидеть его, то может сама прийти в мой дом.
— Ну что же, если так, то так…
И мать пришла как-то вечером, молчаливая, чисто одетая, униженно прося позвать меня, служителя Божьего. И смотрела на меня издали, не двигаясь с места и не пытаясь до меня дотронуться, и только произнесла «мой сын». Я же чувствовал на себе казнящий взгляд доны Эстефании, которая, стоя чуть поодаль, присутствовала при нашем свидании. Но, повинуясь внезапному чувству, я разорвал путы страха и бросился в объятия матери. И тут же дона Эстефания прервала нашу встречу:
— Нет, нет. Только не здесь. Сцены, подобные этим, ни под каким видом… Если хотите, идите на кухню.
И мать с мокрыми от слез глазами решительно сказала:
— Ах, моя сеньора, не стоит. Не стоит, я уже ухожу, ухожу.
Освободившись от ее объятий, я взял ее руки в свои и, глядя ей в глаза, почувствовал, что ее кровь вновь питает мои вены и возвращается в ее, словно я вновь в ее чреве.
В этот же вечер, получив разрешение на прогулку перед ужином, я тайком бросился домой. Именно в этот час моя мать, братья и мой дядя имели обыкновение шумно и весело ужинать. Однако, как только я вошел, шум и веселье стихли: моя черная одежда, похоже, убила их радость. Молчаливые, несколько удивленные и подозрительные, они смотрели на меня, видя во мне чужого и богатого. И тут же моя мать громко прикрикнула на моего брата Жоакима, чтобы он уступил мне место. Вытерев передником скамью, она с униженной улыбкой предложила мне сесть. Потом повернулась к моему дяде и упрекнула его, что он ест, не сняв берета. И мою сестру, которая резала хлеб для всех, сказав, что она должна помыть руки, чтобы я это видел. Когда же наконец материнские указания были выполнены, все вдруг разом замолчали. Такое неожиданно пристальное внимание к моей персоне не только возвеличивало меня и смущало, но и ввергало в одиночество, как если бы однажды я был коронован как победитель, но в разоренном государстве среди ночных призраков ненависти и презрения. Потому что вокруг себя я чувствовал ненависть и презрение, восседая на треногой скамье, как на несправедливом троне. Опасаясь с моей стороны любого предательства, все теперь ели медленно, утоляя аппетит и бросая на меня беглые взгляды, как сидящие в засаде полицейские. Но, бедные люди, какой яд мог быть в моих венах, кроме нашей общей судьбы, которую я впитал с молоком моей матери? И вот высокая глухая стена, сложенная из больших черных камней, стала воздвигаться передо мной и расти, доходя до самой высокой звезды моей печали. И росла за толстыми прутьями решетки на окнах ризницы, на которую смотрели мои родные, сделанные из того же теста, что и я. И все же какое-то время спустя они обрели себя и успокоились. Я же продолжал быть перед ними с чистыми помыслами и открытой душой, о чем говорил мой безобидный и добродушный взгляд. Именно поэтому мой дядя (дядя Горра) громко сказал, подстегивая свою храбрость:
— Подбрось-ка еще фасоли, сестра!
И протянул моей матери свою миску, не выпуская ее из рук. Я вздрогнул и испуганно стал глядеть на беспросветный голод этих огромных челюстей, больших, широко раскрытых глаз, смотрящих из-под гривы волос и очень напоминающих две норы, заросшие колючим кустарником. Неожиданная смелость дяди и его ревущий голос тут же пробудил у всех желание победить меня. И каждый стал рассказывать о самых разных вещах, мне совершенно незнакомых. Брат мой говорил о фабрике, дядя — о Ковильяне, а мои младшие братья об улице, где они обычно играли. Когда же я увидел, что меня оставили в покое, я позвал самого маленького и дал ему кулек со сластями, который купил в Гордунье.
— Это не только тебе. Это всем, — сказал я очень серьезно, помня о своей важной миссии семинариста.
Но стоило мне выпустить из своих рук кулек, как тут же поднялся адский крик, потому что каждый требовал справедливого раздела. И среди этого гама на мою голову, подобно ударам дубинки, обрушилась брань, мешавшаяся с общим шумом. И мать, выбиваясь из сил, начала раздавать направо и налево оплеухи, пока наконец не восстановила порядок. Вот тут-то моему дяде и представилась возможность меня расспросить о жизни в семинарии. И в первую очередь, раз уж я его племянник, узнать, воспользовавшись представившимся случаем, из первых уст, что же говорит священник по-латыни, служа мессу. И я сказал ему, что латынь — это очень трудный язык, в языке шесть падежей, и потому с точностью я не могу сказать, о чем говорится на мессе. Дядя мой, казалось, был удовлетворен ответом на первый вопрос и перешел ко второму, когда все замолчали. Теперь он желал знать, сколько зарабатывает за свой труд святой отец и может ли он когда-нибудь стать моим ризничим. Мой брат Жоаким пошел дальше, его интересовало конкретно:
— Ты ризничий? И ты ничему не учился, чтобы прислуживать на мессе. А только тому, чтобы есть сыр и пить вино из чаши.
— Ну и обман, да за такое надо дать по морде! — излил душу беспросветный голод моего дяди.
Все громко рассмеялись, и даже мать, она, как я почувствовал, вдруг от меня отдалилась. Между тем дядя, выпив последний стакан вина, посмотрел на меня с глубоким состраданием и сказал, тронув самое больное место моей судьбы:
— Но даже с сыром и всем прочим ничего тебе, человече, не светит! Ведь ты даже не сможешь иметь бабу.
— Сейчас же замолчи, галисиец! Не смей ему говорить такие вещи, — запротестовала мать.
Но все снова громко засмеялись, и моя мать тоже. И тут я услышал и многое другое, приправленное ругательствами, которые сыпались на меня, как затрещины. Тогда, отчаявшись, я сказал себе самому: прощайте, родные, — и снова замкнулся в себе. Однако меня не оставляли взгляды каждого, и они подкусывали основание моего трона исподтишка и в открытую, а я истекал кровью от неожиданно вспыхнувшей жажды мести.
— Ну я пойду, — сказал я наконец, вставая.
— Уже уходишь, сын? — спросила, гладя меня по голове, мать.
— Пора. В доме доны Эстефании не знают, что я здесь.
— Тогда с Богом, иди. И не обращай внимания на то, что болтают эти галисийцы, хуже их я еще не видела.
Когда я вышел, на мир опускалась холодная и спокойная ночь, и снизошедший на меня новый, влажный от нежности покой, как тишина после плача, мягко окутал мои одинокие шаги. В спокойствии ночи, как в последнем приюте, мне показалось, что каждая часть моего страдающего тела исчезает в воздухе и что моя усталость поднимается высоко, как дым, до высоких звезд и там рассеивается. Вздымавшаяся на востоке гора звала меня своим, только ей присущим голосом и взглядом, который на нас смотрит и видит насквозь. Я шел медленно, шел, опустив голову, весь во власти своего безропотного отчаяния. И чувствовал себя одиноким и опустошенным, без каких-либо воспоминаний о чем бы то ни было. Потому что даже образ моей матери теперь, после взрывов ее хохота отступил куда-то далеко, исчез, как отражение лица в зеркале воды, неожиданно разбитое на тысячи кусочков брошенным в него камнем.
Когда я подходил к дому доны Эстефании, звонили к вечерней молитве, но я не вошел в церковь. А когда шел по двору и собирался открыть дверь, из другой двери вышла Мариазинья — дочь доны Эстефании в сопровождении служанки. Это была единственная девочка в доме. Ей исполнилось десять лет. И хотя формы ее уже круглились, во всем остальном (как я признаю теперь по прошествии стольких лет) она была еще ребенком. Одной из ее детских забав было вопрошать меня, когда же я буду служить мессу. И дона Эстефания, которая никак не хотела лишать такого удовольствия дочь, учила меня отвечать ей исчерпывающе точно, но с нежностью, свойственной цветку лилии, стоявшему на алтаре непорочной девы. И даже придумала точный ответ:
— Если она опять тебя спросит, когда же ты будешь служить мессу, ответь ей: тогда, когда того пожелает наш Господь Бог.
Так я и отвечал ей по меньшей мере раз сто. Она подскакивала ко мне, хлопая в ладоши в коридоре, или бежала в сад, или кричала мне из внутреннего двора, а то и из окна сверху, когда видела меня, еще до поступления в семинарию, катающим коляску с одним из ее братьев. И всякий раз я с жалкой улыбкой отвечал:
— Это будет, когда того захочет Бог.
Но на этот раз, о небо! Я возвращался в дом таким одиноким и таким грустным. Зачем ты обижаешь меня, счастливая девочка? Я слышу твой вопрос затылком и остаюсь душевно глухим. У меня болит горло, сдавленное железными руками, в животе крутит, в глазах мутнеет. Боже милостивый, ведь я в такой грусти и усталости! Почему же на мою голову еще одно презрение? Под ударом вопроса я резко останавливаюсь. Но молчу. Между тем счастливая девочка продолжает свое издевательское развлечение и, конечно, было бы хорошо, если бы я пустил слюну от умиления… Но, когда я уже открываю дверь, она снова меня атакует. И тут величайшее смятение чувств заставляет меня потерять человеческий облик, опуститься до экскрементов животных, коими покрыты плиты двора… И я неожиданно быстро отвечаю. Злокачественная ярость бешеных собак вошла в мою душу, искусала мою трусость, заставив ее кровоточить. Я повернулся, глаза мои были закрыты, рот и ноздри горели огнем. И, плача от отчаяния в этот бесконечный для меня миг, я, мучающийся адом и галлюцинациями, выкрикнул ей ужасающую непристойность.
И тут же вокруг меня воцарилась абсолютная тишина, сопутствующая катастрофам. Я боялся открыть глаза, увидеть пепел руин. И стоя так оглушенный своим надменным грехом и глядя в землю, ожидал, что небо и земля меня уничтожат и это будет справедливо. Но, поскольку проклятие не свершилось, я вскоре поднял отяжелевшие глаза. И — о чудо! — никого рядом со мной не было, никто меня не слышал, никто.
* * *
День за днем уходили каникулы. Пришла Рождественская ночь, геометрически четкая и чистая, как большой черный хрусталь. Подоспел день января, свежий первозданный, пришли волхвы со своими магическими пророчествами. Здесь, в этой пустой комнате, где я пишу эти строки, все вспоминается мне с большим волнением. К испытанной некогда боли примешивается постоянная неизбывная тоска, едва ли связанная с тем или иным конкретным моментом, потому что теперь, когда я оживляю прошлое, все окутывает удивительный ореол. Вспоминая прошлое, я вспоминаю отдельные моменты: бегущий по стеклам окон дождь или то холодное утро в церкви. Но что было конкретно тогда, что тогда меня так взволновало? Вот почему я ворошу свою память той далекой Рождественской ночи, в которую все же, знаю, я страдал от усталости и тоски. Так, чуть ли не с угрызениями совести я слышу неясный зов голосов в нефе церкви и вспоминаю жуткий холод заморозков, сидя около воображаемого мною камина. В далекой белизне для меня снова рождается чистая песнь, рождается и поднимается по долгой кривой неба, подобно солнцу, которое раскрывается веером над тишиной земли. Оцепенение тумана рассеивается в хрустальном пространстве. Вспоминаю горячий ужин в полночь, белый и процеженный холод, который коснулся моего лица, когда я распахнул окно, вспоминаю большой костер из дров упавшего сухого дерева, который высоко вверх поднимался на церковном дворе. Потом память выхватывает отдельные моменты прошлого, пугающие, как внезапное нападение из-за угла. Неожиданно слышу в печальной бесплодности коротких зимних ночей стук деревянных башмаков возвращающихся с полей крестьян, звонко отдающийся от каменных плит церковного двора, или покашливание тех, кто в суровых сумерках встает до рассвета, вспоминаю еще плохо различимые фигуры движущихся людей, остановившихся на обочине дороги, и смотревших на гору, и ведущих немой разговор со временем; вспоминаю тонкую пыль инея на темных дорожках, безмятежную радость чистого утра, летящую к солнцу, и ветры, приходящие с горного хребта, покрытого черным плащом ночи, неожиданно разоряющие деревню. Но вдруг нечто конкретное сменяется нечетким размытым, воспоминания ускользают, и я вновь погружаюсь в ярость одиночества.
Странная это вещь — воспоминания: все, что когда-то меня оскорбляло, оскорбляет и сейчас, все, над чем я смеялся, смешит и сегодня, и из прошлого, реально не существующего, поднимается густой туман, который вызывает волнение, оно не грустное и не веселое, но волнует. И сегодня мне больно так же, как раньше, но не потому, что я воскрешаю боль в памяти, а потому, что эту боль помню.
В один из коротких зимних дней я, совершенно беззащитный, встретился с моими бывшими деревенскими одноклассниками. Поскольку дом доны Эстефании стоял на окраине деревни, я частенько выходил со двора, который был обнесен колючей проволокой, с задов и тут же оказывался на дорожках, ведущих в горы. Буквально накануне я после разговора с Каролиной испытал потрясение, от которого долго не мог избавиться потом, даже вернувшись в семинарию. Я ведь смутно, но начинал чувствовать зов плоти. И, когда мой дядя Горра выразил сожаление, что, будучи священником, я не смогу иметь женщину, я тут же понял, что он имел в виду. Однако с момента моего пребывания в доме доны Эстефании, а затем и когда я начал учиться в семинарии, я постиг и то, что всякий зов плоти позорен.
Однако, именно потому, что я был одет в черное, все и подтрунивали надо мною, подло подвигая меня к запретной черте. Я же даже не мог себе представить, что подобное может случиться, и свято в это верил. Хотя когда еще учился в начальной школе, то не раз слышал, как некоторые мальчишки отпускали проходившим мимо девчонкам такие шуточки, на которые те даже не могли ответить. И вот как-то в эти зимние каникулы из нижней части дома с охапкой дров вышла Каролина, а Кальяу, изловчившись, схватил ее за недозволенные места, произнеся два запретных слова. Каролина, придя в ярость, тут же ответила:
— Иди вымой свой старый кувшин.
— Так ты хочешь узнать, стар ли я на самом деле? — засмеявшись, спросил Кальяу.
Каролина умолкла. И вот накануне моей встречи со старыми друзьями она поступила со мной так же, как с ней Кальяу. Подав мне суп, она скрестила руки на своей мощной груди и, стоя так, смотрела, как я ем. А я каждый раз, поднимая голову, видел эти ее мощные груди, которые бросались мне в глаза и, казалось, жгли руки. Замешательство мое Каролина тут же заметила. И, играя со мной, точно женщиной был я, а не она, наклонилась ко мне и заговорщически прошептала:
— Ну как, нравятся, а?
На следующий день, как я уже сказал, я встретился на горе со своими бывшими деревенскими одноклассниками. Сидя в укрытии в глубокой задумчивости, я, когда они нашли меня в соснах, с испугом взглянул на них. И инстинктивно почувствовал, что сейчас между нами возникнет ужасающая война, потому что понимал, что роскошная одежда, которая на мне была надета — сапоги и черное платье, — не что иное, как предательство нашей бывшей детской дружбы. Вокруг меня угрюмо шумели ветви сосен, а я вроде бы сидел внутри огромного кратера вулкана, который вот-вот начнет действовать. Оценив свою беззащитность, я молчал, будто набрав в рот воды, и ждал. Перейра и Карапинья, изменив направление, двинулись прямо на меня. Они шли босоногие, чуть прикрытые рваной одеждой, подпоясанной веревкой, и, естественно, с ножом. Но не дойдя до меня метров десять, остановились, глядя на меня тоже со страхом.
— Выходит, ты, Тоньо[7], тоже ходишь в заросли кустарника? — спросил Карапинья, смеясь.
— Нет, просто вышел прогуляться, — ответил я, прячась за показной серьезностью.
— Теперь он в кустарник не ходит, — опередил Карапинью Перейра.
Я терпел. Без сомнения, у них для меня было припасено нечто большее, чем оскорбления, и я выжидал. Они бросились на землю, подперли голову руками и уставились на меня. Чувство старой дружбы взяло верх над моим страхом и отчаянием: мне немедленно захотелось сбросить сапоги, разорвать мою одежду и пойти с ними вместе по дороге нашей общей судьбы.
Однако раньше, чем я почувствовал и собрался признать в них братьев, Карапинья прижал меня к стенке.
— Так сколько тебе осталось до того, как станешь священником?
— Много, — ответил я спокойно.
Тут Перейра, словно вспомнив что-то важное, вскочил на ноги, подошел ко мне вплотную, присел на корточки и сказал мне прямо в лицо:
— Эй, а в семинарии вы тоже говорите эти самые слова…
И сказал все, что ему хотелось.
При первом же слове я вскочил на ноги. И, покраснев от прилива крови к лицу, молча повернулся к нему спиной и пошел прочь. Тут же вскочил на ноги и Перейра и, обернувшись к Карапинье, зло смеясь, сказал:
— Говорят, Карапинья, говорят. Скажи, Тоньо! Скажи, чтобы мы услышали. Ну хотя бы шепотом, мы никому не скажем.
И повторил те слова.
Я, точно под моими ногами горела земля, бросился бежать с горы. Но Перейра, продолжая богохульствовать, бросился за мной.
Как обезумевший и подстегиваемый криками Перейры, я бежал не останавливаясь. Бежал, перепрыгивал через камни, два раза падал, разбил руки и лицо. Но Перейра не отставал, преследуя меня словами:
— Ну скажи со мной вместе, Тоньо! Скажи! Только одно слово! Только одно!
И так продолжалось до тех пор, пока я наконец, потный, грязный, истекающий кровью от мук, не свалился в кусты дрока и не спрятался в них. Крики Перейры, как собачий лай, продолжали разноситься по горе. А я, как преследуемое собакой животное, затаился в кустах и ждал, пока опасность минует. Когда же наконец Перейра отстал, я уткнулся лицом в землю и заплакал. В кустах я пролежал довольно долго, поливая слезами и соплями землю моего унижения. И огромное желание отречения и забвения упало на меня, как могильная плита. На поля, отягощенная тенями и ветром, спускалась ночь. И, цепенея от тишины, я почувствовал себя почти хорошо, точно мое тело, мои кости и моя неожиданно свернувшаяся кровь слились со всем миром, стали родными братьями кустов дрока, камней и ночи…
* * *
До конца каникул оставались считанные дни. Исполнив обязанности семинариста, я уходил к себе в комнату, или усаживался в укромном углу сада и смотрел на берег реки и погоду, и терпеливо сносил насмешки младших детей доны Эстефании. Однако при любых обстоятельствах мои глаза с печалью прощались с дорогами в гору, с несчастным трупом моего умершего детства.
И вот однажды, видя меня таким печальным и одержимым дьяволом одиночества, дона Эстефания призвала меня в кабинет. О чем пойдет речь, я не мог себе даже представить, но в торжественности приглашения почувствовал особую значимость. Я был во власти своих дум о прошлом, о происшедшем во время каникул и о будущем, когда Каролина постучала ко мне в дверь, чтобы сообщить о желании сеньоры со мной побеседовать. Подойдя к двери и найдя ее открытой, я не увидел сеньоры. И тут же понял, что мне предоставлялась возможность побыть какое-то время наедине со своим страхом. Я вошел. Боже правый, что она хотела? Однако, безумно усталый, отступил перед пыткой мучительного вопроса. В окна кабинета заглядывала темнота спускавшегося вечера. Сейчас, когда пишу эти строки, я ощущаю почти физически агонию того дня. Сквозь высокие окна, глядящие на юг и восток, вижу спускающийся с горы густой туман, он спокоен, тих, отягощен вечностью. Совсем скоро ведущие в гору дороги, лес и одиноко стоящие дома растворятся, исчезнут с лица земли. И я, маленький, съежившийся, чувствую себя зачарованным окутывающей землю мглой. Неожиданно окруженный обступившей меня со всех сторон астральной глухотой, я почувствовал, не знаю, как выразить, что я один во всем мире и что каким-то образом преступление моих деревенских одноклассников, презрение дочери доны Эстефании, холод моей зимы были из давно ушедшего времени и погребены в море густого тумана. Мои глаза всматривались в темноту кабинета, уши полнились шумом мертвых присутствий. Я ждал довольно долго, порабощенный своим страхом и зачарованностью, как когда-то со страхом и зачарованностью слушал истории о ведьмах и волках.
Наконец желтое пятно света появилось в конце коридора, стало приближаться, и дона Эстефания вошла в кабинет с керосиновой лампой в руке. Не говоря мне ни слова, она поставила ее посередине стола, закрыла дверь и села. Руки ее лежали на коленях и напоминали двух мертвых пауков, крепко вцепившихся в последнем бою друг в друга.
— Садись, — сказала она мне.
Я, чтобы защититься от надвигающейся угрозы, сел поодаль.
— Нет, нет, садись ближе. Вот здесь, — потребовала она.
Я встал, но, подвинувшись, все-таки остался в тени.
— Нет, нет, садись к свету, чтобы я могла тебя видеть.
Мне ничего не оставалось, как повиноваться. И мое лицо целиком оказалось в полосе света. Тогда, потирая руки, дона Эстефания начала:
— Я, Антонио, заметила, что последние дни ты очень печален.
— Нет, нет, сеньора, — возразил я.
Сухая, пунктуальная, невозмутимая дона Эстефания повторила:
— Последние дни ты очень печален, я это хорошо вижу. С одной стороны вроде бы так и должно быть: каникулы заканчиваются, тебе предстоит расставание с нами и родными местами…
Она замолчала. О Господи! В конце-то концов я имел право быть печальным. Имел право быть печальным и был печален до конца…
— Однако печаль печали рознь. Так вот твоя — особая. Твоя печаль от лукавого. Он взял над тобой верх и сделал твою душу черной.
Возможно. Возможно, и от лукавого. Возможно, что моя жизнь была в его руках изначально.
— За Господа мы ничего решать не можем, во всем Его воля, — продолжала дона Эстефания, подняв брови и прикрывая благомыслящие глаза.
Я молчал. Молчал как немой. И ждал, ждал не знаю какого фантастического чуда, но ждал. Был сосредоточен до предела, неотрывно смотрел на худое, изъеденное холодной рассудительностью лицо доны Эстефании. А она продолжала говорить, чеканя каждый звук:
— В наш дом ты вошел во славу Божию, и для тебя и меня это большая честь. Пути Господни неисповедимы, и мы не вправе пытаться их изменить. «Много званых, но мало избранных», — сказал Бог. Судьба позвала тебя на путь служителя Божьего. И быть тебе им или нет, волен решать только Он.
И снова замолчала. Со всех сторон нас окружала влажная и ужасающе темная ночь. Но внутри меня вдруг вспыхнул живой свет, который согрел меня. То была затеплившаяся надежда, слабая, но бесконечно жгучая, как раскаленная добела стальная нить. Ну уж хоть бы сказала эта женщина все сразу! Но нет, теперь она говорила медленнее, пуская в ход хитрые уловки, словно желала настигнуть меня там, где я и не ожидал:
— Сколько раз мы себя обманываем! Считаем, что слышим глас Божий, а Бог молчит. Но ведь может статься, что мы и не услышим Бога вовсе, потому что у нас в ушах стоит дьявольский шум. Прежде чем позвать тебя сюда, я молила Господа вразумить меня. Однако я не уверена, что Божье милосердие бесконечно и Он меня услышал. Потому что бывают дни, когда я сама себя вопрошаю, а есть ли у тебя призвание к служению Господу.
Мучительная тоска внезапно сжала все мои внутренности. У меня болели почки, живот, в горле вставал ком, в ушах звенело. И тут дона Эстефания подняла свои глаза и с нежностью посмотрела на меня:
— Что ты об этом думаешь, Антонио? Без сомнения, ты еще ребенок и искренне скажешь, что думаешь. Обо всем этом я уже говорила с сеньором приором, и его мнение следующее: ты должен этот вопрос задать себе сам. Ты представляешь мое огорчение, если вдруг божественное провидение тебя минует. Жизнь священника, конечно, сплошное самопожертвование. Но ведь священник как бы второй Христос, и нет в мире другой такой славы, которая могла бы сравниться с этой. Ты еще ребенок, но все услышанное можешь понять. Как ты думаешь? Есть у тебя призвание или нет?
От ярости у меня перехватило дыхание. И я уже открыл рот, чтобы дать ответ. Однако, испугавшись моей порывистости, дона Эстефания вскинула руку и прикрыла мой рот.
— Осторожно! Осторожно, не торопись дать ответ! Подумай! Попроси Господа вразумить тебя! Если хочешь, я даже выйду, оставив тебя одного, чтобы ты подумал хорошенько.
Но я боялся, очень боялся, что представившаяся вдруг мне возможность от меня ускользнет. И, собрав все силы, бледный от решимости, твердо сказал:
— У меня нет призвания!
— Что? Как? Нет призвания?
Сказанное, точно клубы серы и пепла от дьявольского взрыва, мгновенно окутали и отделили нас друг от друга. И только спустя время, когда ярость улеглась, мы стали способны видеть что-либо. Я взглянул на натянутую, как струна, не дышащую от изумления дону Эстефанию. Онемевшая, застывшая, она, казалось, сверлила меня своими злыми глазами. Губы были сжаты, ноздри раздувались, лицо испускало расходящуюся во все стороны злость. И я, беззащитный в осаде ночи и висящей угрозы, почувствовал, что никто и даже я сам ничего не значу. Глухим пророческим голосом дона Эстефания сказала:
— Несчастный! Жалкий человек, какая судьба тебя ожидает! Оборванный, голодный, ты будешь грызть камни, если захочешь есть. — И добавила еще решительнее и с издевкой: — Он, видите ли, не имеет призвания! Твое призвание кормить блох и вшей. Ишь лорд выискался. У него нет призвания стать священником. Он предпочитает стать доктором[8]. Мать отправит его в Коимбрский университет. — И тут же разразилась громкими криками: — Тогда — на улицу, если нет призвания. Убирайся к голодающим Борральо! И ешь землю! Здесь, в моем доме, ни часа больше! Вон!
И фурией вылетела, унося с собой керосиновую лампу. В глазах у меня замелькали черные мошки, и в меня вонзились железные зубы страдания. Я страдал, очень страдал. Наконец пришла ночь и укрыла меня, оставшегося наедине с самим собой. Не знаю, сколько я просидел в тишине и темноте, но вдруг снова услышал шум шагов, открывание и закрывание дверей и отдельные доносившиеся до меня слова. Я хотел встать, привести в порядок свои вещи, просить прощения у доны Эстефании и продолжать жить. Теперь из той глины, которой я стал, каждый мог лепить все, что ему заблагорассудится. Поэтому, когда в конце коридора вновь замаячил желтый огонек керосиновой лампы и стал увеличиваться в размерах по мере приближения ко мне, сердце мое почти радостно забилось от сознания, что я кому-то нужен. Это могла быть Каролина с моими собранными вещами, вполне возможно, что она, а почему нет? или бедный сеньор капитан, всегда в шутливом расположении духа, а может, и Мариазинья, чтобы со мной попрощаться. Однако, к моему ужасу, с керосиновой лампой в руке передо мной возникла снова дона Эстефания. И, сев на стул, уже мягко, снизойдя к моей бедности, заявила:
— Ну, Антонио, я надеюсь, что с помощью Божьей ты имел время поразмыслить над нашим с тобой разговором. И как, тебе все еще кажется, что ты не имеешь призвания?
— Имею, сеньора.
— A-а? Имеешь? Подумай, что говоришь! Если не имеешь, то тебя никто не принуждает возвращаться в семинарию. Без призвания никогда! Так у тебя действительно есть призвание?
— Да, сеньора, есть.
При этих словах дона Эстефания глубоко вздохнула, ее глаза, лицо и вдруг раскрывшийся кулак говорили за то, что ярость ее покинула. Потом, подняв глаза, она потихоньку стала приходить в себя и посмотрела на меня с нежностью, которая мне была неведома.
— Хорошо, сын мой. Благодари Господа, что Он оградил тебя от искушения. Иди и проси Его, чтобы Он всегда защищал тебя от ловушек дьявола. И молись за меня, которой ты причинил такую боль.
Я встал, почти счастливый. Дона Эстефания окликнула меня:
— Скажи Каролине, что сегодня ты будешь обедать с нами в столовой.
X
И снова холодным туманным утром я отбыл в семинарию. Хорошо помню влажную, залитую дождем землю, голые стволы деревьев, мокнущие под дождем фантастические фигуры людей, от одежды которых шел пар, и стук деревянных башмаков по каменным плитам. Хорошо помню этот незначительный нереальный час с бродящими в густом тумане фигурами, которые сходились друг с другом, расходились, исчезали, потом снова появлялись у выходящих на площадь улиц, темных, как само время, чтобы потом совсем исчезнуть в неясности мира. На этот раз дона Эстефания провожать меня не пришла. Пришел я один в глубоко, до самых ушей, надетой шапке с жестким чемоданом в руках. Родственников моих тоже не было, не знаю почему. Я был один на один со своей судьбой, которая повелевала уезжать. К счастью, открытый грузовичок с сиденьями от борта до борта, на котором я приехал на каникулы, был заменен пристойным грузовичком с крытым верхом и мягкими сиденьями. Я сел впереди около окна и сказал «прощай» исчезнувшей в небе горе и скрытым туманом деревьям. И только тут, дыша сырым спертым воздухом машины и слыша тарахтение мотора, я вспомнил и Гаму и дружеское лицо Гауденсио, которому так и не написал. И хотя семинария уже не была мне чужой и я ехал в нее без прежнего страха, возможная утрата доброго Гамы очень серьезно меня печалила. Никогда больше я не увижу его в коридорах, на переменах, в зале для занятий. Эти мысли одолевали меня, пока мы ехали мимо затерянных в это роковое утро деревень, у которых и выходили погруженные в себя люди и исчезали в огромном пространстве печали. И вдруг на повороте за Селорико я увидел выплывшую из тумана фигурку старого осла и стоящих рядом с ним мужчину и женщину. Иступленная радость, словно вино, обожгла мое нутро. Как сумасшедший я побежал к дверце машины и закричал в предрассветное утро:
— Гама! Я здесь!
Господи, это был он! Но Гама, не глядя на меня, взял свой багаж из рук сестры и, поднявшись в машину, сел рядом.
— Гама! — шептал я, задыхаясь от счастья. — Так ты… Ты возвращаешься? Не бросаешь семинарию?
— Как видишь, — ответил он хрипло. — Но только они во мне обманываются.
Тут я рассказал Гаме о своей стычке с доной Эстефанией, понимая, что именно это особенно нас сблизит. Он повернул ко мне свою тяжелую голову и улыбнулся. И я почувствовал себя еще счастливее, будто теперь нас с ним от холода укрывало одно общее одеяло. И в темной атмосфере братства Гама, как пророк, поведал мне о возможном чуде:
— Ты никому не скажешь о том, что услышишь? Поклянись, что нет!
— Клянусь, Гама. Клянусь, что никому ничего не скажу.
— Ну слушай! Точно клянешься?
— Клянусь прахом отца.
— Хорошо. Так я тебе скажу, что через месяц ты оставишь семинарию.
— Как это?
— Не спрашивай больше ничего, потому что я не могу все сказать. Но я тебе обещаю, через месяц, не больше…
Он не закончил фразу. То был секрет, страшный секрет, который давно его мучил и вдруг вот так вышел наружу. Я попытался додумать сказанное, но не смог. Наш грузовичок уже хрипел на подъеме к Гуарде, а мы, целиком беззащитные, теряли самих себя среди сосредоточенного спокойствия пассажиров, уже зависших в машине над лежащей внизу длинной долиной. Мелкий моросящий дождик теперь бил в переднее стекло и стекал по нему и боковым стеклам. Наконец, взяв крутой подъем, словно взойдя на Голгофу, грузовичок открыл двери — и быстро выбросил нас на Соборную площадь. Дикий необузданный ветер скакал по улицам, кружил по площади, разгонял дождевые тучи. Унылый, оставленный всеми пассажирами, разбежавшимися от дождя кто куда, я смотрел вокруг себя, точно находился в астральной бесконечности…
Но Гама уже раскрыл свой зонтик с массивной ручкой и взял меня под свою защиту.
— Где будем есть?
— У меня еда с собой, — ответил мне Гама. — Но мы можем пойти куда хочешь.
Я испугался, что он меня снова потянет в пансион, как в прошлый раз, но Гама успокоил меня:
— У меня идея пойти на станцию. Там есть чистый магазинчик, там и поедим.
Мы сели в другой грузовичок и спустились к станции. У Гамы был ржаной хлеб, колбаса, маслины и сухие фиги. Я старался освоиться, взял два стакана белого вина. Потом, поев, так как Гама был вынужден навестить живущего здесь односельчанина, для которого привез творог, я остался один. И стоя у окна, стал глядеть на улицу, убивая время. По идущей напротив и утопающей в грязи дороге время от времени, спасаясь от дождя, пробегал застигнутый потоками воды прохожий или, штурмуя непогоду, проезжал автомобиль с опущенными стеклами. Потом все стихало и наступала тишина, удушливая и влажная, как продолжительный холодный пот. На фасадах домов появились мокрые пятна, бегущие по грязи машины рычали, от моего горячего дыхания запотело стекло, и все исчезло из моего поля зрения. Продрогший от сырости, с холодными ногами и в мокром пальто, я, как мог, превозмогал усталость, отрешившись от всего на свете. Наконец вернулся Гама. Брюки его были закатаны до завязок подштанников, месившие грязь сапоги — все в глине. Между тем, несмотря на непогоду, на станцию пребывали семинаристы, кто на осле, кто пешком, а кто и на попутных машинах.
— Поезд должен быть в три часа, — напомнил мне Гама. — У нас в распоряжении еще час, но, думаю, нам лучше двигаться.
И мы пошли. Купили билеты, перенесли багаж на платформу и стали ждать. Теперь все мы, одетые в черное, были объединены одной единой судьбой. Но даже среди всех нас я всегда чувствовал себя одиноким. Сидя на скамье, я стал встречать и провожать глазами приходившие и уходившие поезда, отвечая прощанием на их прощальные гудки. Наконец подошел наш поезд. Мы заполнили третий класс, пачкая все вокруг налипшей на сапоги грязью. Громкие крики и беготня сотрясали вагон. Это была чисто внешняя веселость, похожая на гримасу нашей несчастной судьбы. Но очень скоро тишина, как улыбка согласия, спустилась на всех нас, и каждый ушел в себя. И вот рывками поезд тронулся в путь и повез нас в темноту вечера, окутанного ветром и дымом. За спущенными стеклами окон на всем пространстве лежавших вокруг полей шел нескончаемый дождь. И очень скоро в вагоне зажглись тусклые масляные светильники и пришла ночь, накрывшая все вокруг черным капюшоном и истекавшая проливным дождем. Мрачная темная тишина с дождем, вздрагиванием поезда на рельсах, бегущих в бесконечную даль, и нашей беззащитностью обступила нас со всех сторон. Лишь время от времени на пустынных станциях кто-то входил, ища свободное место, да холодный сырой ветер врывался внутрь вагона. Однако вагон был полон, и дверь тут же закрывалась, и все мы снова погружались в атмосферу спертого нашим дыханием воздуха, освещенную светом масляных светильников, очень напоминавших те, что сопровождают группу заключенных… С приближением семинарии память угрожающе оживала, но, уставшие от поезда и от не оставлявших нас воспоминаний о проведенных дома каникулах, мы почти желали, чтобы пытка скорее кончилась. И когда мы прибыли на станцию Белая крепость, то все поголовно без единого протеста в душах вышли покорно на платформу. От станции до семинарии предстояло преодолеть несколько километров пути. Дождь и густой туман встретили нас и здесь. Пережидать смысла не было, так как непогода преследовала нас с утра. Разбившись на группки, мы все-таки обсуждали, что делать, когда наконец отец Томас с непокрытой головой, двинувшись навстречу дождю и ветру, крикнул нам, воодушевляя колеблющихся:
— Не сахарные, не растаете!
И тут же черная толпа из двухсот семинаристов двинулась в ночь. Мы шли, сбившись в кучу, с опущенными головами и молчаливой решительностью, оставляя позади себя на дороге месиво черной грязи. Поскольку все жители поселка от дождя прятались в домах, мы, как огромный эскадрон теней, уверенно шли по молчаливым улицам, то сворачивающим в сторону, то прямым и темным. В домах уже начинали зажигать свет, и наконец ночь всей своей тяжестью упала на нас. Свободные целиком и полностью от угроз окружающего мира, самые старшие семинаристы ускоряли шаг. С завернутыми вверх штанинами, объединившиеся и задыхавшиеся, мы все пошли быстрее, встав в ряд по четверо, четверкой черных священников. Однако мы, младшие, не успевали за старшими и все время сбивались с шага и отставали. Я обливался холодным потом, ноги мои разъезжались на грязной дороге. Гама все время подбадривал меня, поддерживая за руку, и сберегал мои силы. Так я шел, чуть ли не ползком, через ночь и непогоду, затерянный среди подобных себе. Когда же мы наконец подошли к огромному семинарскому зданию, которое поджидало нас всегда на повороте, нам, испытывавшим глубокую усталость, все равно было кому или чему себя вручать — Богу или дьяволу, жизни или смерти. И тут я, совершенно отчаявшись, сказал Гаме «прощай», никак не думая, что никогда больше, вплоть до сегодняшнего дня, не буду с ним беседовать.
XI
Началась снова семинарская жизнь. И вот когда, проснувшись на рассвете после возвращения в семинарию, я открыл глаза и подумал, что впереди до следующих каникул еще три долгих месяца в ее холодных гулких коридорах и залах, меня охватило отчаяние. Я испытал острое чувство, что мою только что завоеванную на рождественских каникулах свободу у меня просто украли, едва я забылся беззащитным сном. Теперь мне даже было трудно себе представить, что после ужасающе долгих девяноста дней вновь наступят каникулы. Я так ждал Рождества и жил одной-единственной целью. Где же теперь взять силы, чтобы поверить в новую цель?
Однако этот период или, как мы говорили, новая эпоха перевернула меня так, что я постоянно пребывал в лихорадочном состоянии. Хорошо помню, как в первый же вечер за ужином я, обернувшись назад, обнаружил два пустующих места за столом первого отделения. На столе стояли никем не тронутые тарелки, что всех нас очень взволновало. И наш сдавленный голос из уст в уста стал петь хвалу этим двоим семинаристам, которые не вернулись после каникул. В темной ярости крови, в мгновение триумфа жизни над смертью мы признали их героями, поняв, что они оставили семинарию и будут жить, как бесстрашные люди. В час обеда, хоть мне и грозило наказание, я все же посмел оглянуться. Но именно в этот самый момент надзиратель приказал семинаристам раздвинуться и сесть свободнее, чтобы пустующих мест не было. А слуга унес лишние тарелки, устранив тем самым причину нашего беспокойства.
Однако этим же вечером и в зале для занятий первого отделения я заметил две пустующие парты, живо напомнившие о триумфаторах. И я долго не мог оторвать от них слепнувшие от соблазна глаза. Лиц героев я не мог вспомнить, однако тень их отсутствия заполняла весь зал целиком. Я смотрел в раскрытую перед собой книгу, но не видел в ней ничего, кроме греховных парт, таких отталкивающих и притягивающих своей заразой и одновременно смело бросавших вызов небу своим ужасным примером храбрости. Какое я испытывал желание потрогать их своими руками, почувствовать реальность бегства их хозяев и совершить самоубийство, провалившись в бездну греха! Другие семинаристы, ослепленные тем же соблазном, тоже поворачивались, склонялись над бездной, но в страхе отшатывались.
Поэтому толстый отец Рапозо был вынужден оставить пост надзирателя и надавать пощечин одному семинаристу, чтобы отбить желание у всех остальных с восторгом взирать на пустующие парты. Когда же на перемене вечером я вошел в зал для занятий, зачем не помню, то увидел задыхавшегося от труда отца-надзирателя, который передвигал парты и приводил все в надлежащий порядок. Глядя на эту работу по воздвижению ограды у пропасти, дабы избежать новых самоубийств, я в нерешительности остановился в дверях. И стоял до тех пор, пока не услышал громкий окрик, потрясший все вокруг:
— Что тебе здесь нужно?
Я ответил, что мне было нужно, так же громко и продолжал стоять не двигаясь.
— Так бери все, что нужно, и немедленно на перемену.
И когда мы после звонка вернулись в зал, кровь тех, кто покончил с собой, как с будущим священником, уже была смыта. И отец Рапозо тем, кто остался без мест, указал новые места, и жизнь продолжилась снова.
Однако, несмотря на все усилия, подавить яростное стремление к свободе и задуть вспыхнувший огонек надежды было невозможно. В открытую о дезертирах не говорил никто, считая, что они преступники и могут запятнать всех нас. Но втайне каждый черпал из этого свежего источника силы, вдохновляясь их мужеством. Теперь мы знаем их имена и откуда они родом, как и причину их бегства. От Таборды я узнал также, что еще месяц назад перед самыми каникулами между ними и ректором был разговор и договоренность, что после каникул они в семинарию не возвращаются. И от них потребовали согласия держать это в полной тайне, чтобы никто больше не пытался последовать их примеру.
Между тем восемь дней спустя все мы были призваны в часовню на проповедь ректора. Необычное движение святых отцов по коридорам, их тайные, еле слышные разговоры привели меня в беспокойное состояние духа. С тоской в сердце я стал искать Гаму. Его нигде не было. Потянув за блузу Гауденсио, я спросил его:
— Ты видел Гаму?
— Не видел. Молчи.
— Но что происходит?
— Не знаю. Молчи.
Возбужденные, окруженные особо пристальными взглядами отцов-надзирателей, мы вошли в часовню не очень стройными рядами, но спешно. Властвовать над двумястами сердец, охваченных волнением, было невозможно, поскольку, подавленные серьезностью момента, сверлением наших затылков взорами просвещенных отцов, мы теперь обменивались быстрыми взглядами, с большой тревогой что-то предчувствуя. Наконец пришел ректор. Мы встали со скамей и опустились на колени. Прослушав вводную молитву, мы снова сели. Стоя, с пылающим лицом и мечущими молнии глазами, ректор, не произнося ни слова, оглядел нас, пронзая насквозь каждого, чтобы слова, которые он следом скажет, дошли до мозга наших костей. И когда его взгляд атаковал меня, я почувствовал пронзившую меня шпагу, которая, войдя в меня, обожгла мои внутренности и заставила их гореть… Внимание всех было приковано к ректору, и он сказал:
— Это с каких же пор дом Бога стал тюрьмой для семинаристов?
Извергая ярость, он расстреливал каждого глазами, чтобы разгромить нас прежде, чем возникнет даже намек на сопротивление. И все мы, съежившиеся от неожиданности, ушли в свой страх.
— И когда же это духовенство исповедовало насилие? Христос сказал: «Иго мое благо…»
И бледный, сдерживая гнев, стал громко и долго говорить о фальшивом и истинном призвании, о единственной славе быть alter ego[9] Христа на земле и о жалкой и пустой сущности окружающего мира. Без сомнения, в миру тоже можно достичь спасения души. Но сколько там подстерегает опасностей! Сколько бед и невзгод надо победить! A-а, как заблуждаются те несчастные семинаристы, которые, не гнушаясь дьявольским воображением, смотрят на мирские радости! Тем не менее он, воздев по-библейски палец, признает, что для некоторых из нас было бы вполне справедливо осуществление своей великой мечты жизни. Но услышали ли они глас Божий в своем смирении? Посоветовались ли с духовным наставником? Мучились ли, наказуемые молитвой и раскаянием? Вот когда все это будет выяснено, волю Всевышнего можно считать исполненной.
Однако среди вас есть несчастные, которых дьявол лишил рассудка и которые предпочли преступление и были заклеймены железом позора.
— Потому что изгнание из семинарии, — ректор ручался небесами, — это несмываемое пятно на всю жизнь. Какая боль! Какой не имеющий имени позор услышать однажды брошенные вам в лицо кровавые слова: «Был исключен! Он был исключен из семинарии».
На какое-то мгновение он замолчал, чтобы мы все хорошенько представили себе то, как нас покроет черный позор. Потом, прикрыв глаза и несколько утишив эмоции, призвал нас помолиться Пресвятой Деве с верой и смирением, прося ее защитить нас от изощренных приемов дьявола. Перепуганные насмерть, мы все бухнулись на колени и с покорными лицами, сокрушенные и униженные, принялись молиться, поминая Господа, молиться и молиться. Теперь я ясно видел ту опасность, которой подверг себя на каникулах, объявив так необдуманно доне Эстефании, что не имею призвания.
Однако, как только мы покинули часовню и пошли на перемену, я пришел в замешательство. Почему в такой ярости был ректор? Почему так взволнованы были отцы-надзиратели? Все происшедшее скорее всего мог объяснить Гама. С Гамой мы встретились в пустом коридоре. Как всегда спокойно, Гама сказал:
— Ты не знаешь, что произошло? Только то, что два семинариста сбежали из семинарии сегодня ночью. Но утром их поймали на станции. Привезли обратно, заперли каждого в отдельной комнате. И теперь будут выгонять из семинарии.
— Их будут выгонять, Гама?
— Естественно, будут выгонять. Ну и что? Или ты действительно думаешь, что это самое пятно что-то значит? Этот тип, ректор, — дурак! И вся его болтовня только для того, чтобы нас запутать. Я знаю многих, кого изгнали, и никого это сегодня не волнует. Ослы все они, и ничего этим не добьются. Но однажды, однажды…
Но он не закончил. И пошел по коридору сильный, твердый в своих тайных намерениях и уверенный в своей правоте. На ближайшей перемене мы узнали все подробности бегства и пленения беглецов по их возвращении. Ветреной ночью два семинариста второго отделения перемахнули через решетку окна, находившегося у самой земли. Пригнувшись, обогнули справа ту часть дома, где находилась кухня, и по дорожке, что идет вдоль здания, вышли на дорогу. И в этот момент залаяли собаки, оповестив служителя о беспорядке. Однако, соскочив с кровати, он ничего не увидел. Оказавшись на дороге, семинаристы бегом пустились на станцию Белая крепость, но в поселок вошли спокойным шагом. Оба они должны были ехать на север и долго бродили вокруг станции. И тут в поселок за покупками пожаловал один из слуг семинарии и их увидел, а возможно, кто-то на них ему указал. Он тут же отправил в семинарию уведомление и вошел в контакт с начальником станции. Беглецов схватили и доставили обратно на повозке. Знаю, что все утро их допрашивали, а отец Томас, который страдал печенью, отечески лупил их. Два дня они сидели под замком, а когда приехали их родственники, то и они соответственно задали им трепку. Из их парт, находящихся в зале, были изъяты учебники, как и форма второго отделения. Благодаря чьей-то, не помню чьей, измене я узнал, в каких комнатах они были заперты. Комнаты оказались рядом с моей спальней, и, проходя мимо них, я потел от страха. Один из отцов церкви, насупленный и молчаливый, все время курсировал по коридору. Мне вспомнился чистый взгляд одного из беглецов, и холодок страха и восторга пробежал по мне, точно случившееся с ним было моим собственным приключением. Они были схвачены, изолированы, заперты, как в тюрьме, в двух отдельных комнатах, их принуждали повиниться, но они держались. Держались и после того, как отец Томас надавал им пощечин. Окружив ненавистью и презрением, их посадили на тюремную похлебку. Прошла ночь, пришел день и снова ночь. На следующий день прибыли их родители, жаждущие алтарного сыра, который вдруг неожиданно мог пройти мимо их открытого рта. И ярость их неутоленного голода вместе с возмущением святых отцов церкви вырвали удвоенными побоями и пощечинами душераздирающие крики у этих несчастных. Я знаю, что один из них, тот, лицо которого я так и не вспомнил, получив от отца удар ножом, бросился на колени перед ректором, моля о прощении.
— Никогда! — в ярости закричал ректор. — Пусть это послужит в назидание всем. Никогда! Теперь следуйте по избранному вами пути.
И к счастью, мой друг, которого я не помню. К счастью! Следуй дорогой свободы с поднятой вверх головой. Какое имеет значение, что ты страдаешь, что грызешь камень твоей суровой судьбы? Она твоя, друг. Принадлежит тебе, как твои кости и внутренности. И надо смело встретить ее. Разве она того не стоит?
И вот спустя месяц случилось самое невероятное событие этой истории, которую я рассказываю. То было время, когда вся семинария жила в страхе, потому что до нас дошли слухи, что Черная Рука — один известный бандит из Бейры, объявился теперь в ее окрестностях, грабя и убивая. Гвардия прочесывала заросли кустарника, обследовала деревни, устраивала засады на дорогах. Но схватить Черную Руку никак не могла, хоть и шла по следу его преступлений. Однако несколько недель спустя известия о подвигах преступника стали приходить уже из отдаленных районов местности, а потом и вовсе прекратились. Многие считали, что, должно быть, он арестован или убит в перестрелке а, может быть, скрылся в Испании. И все начали забывать о Черной Руке и его преступлениях, когда как-то утром Гауденсио принес невероятное известие:
— Только никому не говори. Это рассказал Амилкар, а ему сказал отец Канелас. Так вот: Черная Рука подбросил в вестибюль письмо, в котором сообщает, что как-нибудь подожжет семинарию.
— Подожжет семинарию? Но как это может быть, если Черная Рука умер? Не умер? Если не умер, то скрылся. Все же это знают.
— А я тебе говорю, что не умер и не скрылся. Это же сказал сам отец Канелас. Но никому не говори.
Я молчал, ничего не понимая. И хотя я считал услышанное невероятным, эту ночь я провел без сна, правда, накануне я хорошо выспался. Шли дни, а семинария и не думала гореть. И я забыл о сказанном Гауденсио и опять стал спать спокойно. И вдруг дней десять спустя я проснулся в три часа ночи от тревожных криков, возгласов надзирателей, беготни по спальням и тревожных ударов колокола. В коридоре появился отец Томас с развевающимися полами облачения, крича во все спальни:
— Воды! Несите воды! Берите лейки! Там, внизу! Скорее, скорее!
Я поднялся, ничего не понимая, и босиком бросился за лейкой. И тут увидел бегущих со всех сторону обезумевших людей, которые сталкивались друг с другом и проливали воду. Как сейчас вижу отца Питу, согнувшегося под тяжестью ведра, отца Мартинса с кувшином в каждой руке и отца Алвеса с воздетой вверх рукой, требующего тишины. Пожар оказался пустяковым, и никем не поддерживаемый огонь очень скоро был потушен. Однако надо было остановить поднятую суматоху. И отец Томас тут же, вскинув руки с пустыми лейками, крикнул:
— Все. Кончено! Больше воды не нужно!
Однако кое-кто еще по инерции и из страха нес воду, не слыша его слов. И тут отец Томас вторично призвал всех остановиться, так как пожар потушен. И мы снова легли в кровати, но никто из нас не спал.
Я же, отделавшись от страха, весь остаток ночи воображал огромное здание семинарии, пожранное огнем, и наше неожиданное избавление от несчастного детства, которым мы обязаны были Черной Руке. И даже видел почти реально, как неизвестно откуда возникший огонь, крадучись по полу, поднимается вверх к огромным балкам потолков и, как чума, пожирает все здание.
Охваченный мучительным, но сладостным беспокойством, я уже видел, как сотня глаз огромных семинарских окон загорается ярким пламенем, видел беспомощное отчаяние надзирателей и наше беспорядочное бегство в темную ночь, а спустя какое-то время обратившееся в руины, лежащее, как труп с раскинутыми руками, здание, которое попирал огромный сапог. И вдруг вселяющая надежду картинка исчезла: большие колонны так же, как и прежде, возносились вверх к темному потолку, спальня полнилась ночными тенями, а у забора, как обычно, лаяли собаки, разрывая мне внутренности. И тут я возненавидел Черную Руку за его тупость и стал мысленно внушать ему всевозможные способы, как действительно сжечь все здание дотла, и молил его, молил его вернуться более мстительным, чем прежде.
О Боже, и он вернулся! Восемь дней спустя было подброшено новое письмо с угрозами. А в нем предупреждение, что на этот раз все будет много серьезнее. Однако пятнадцать дней прошли спокойно. И вот однажды вечером, в час ужина обезумевший отец Лино нарушил тишину трапезной криком:
— Огонь!
Мгновение, и все повскакивали со своих мест, я вскочил тоже и бросился бежать, горя надеждой. Однако на этот раз, поскольку все были на ногах, огонь только вспыхнул и тут же был обращен в дым. Придя в уныние от такого финала, мы вернулись к столам и закончили наш ужин. Но спустя несколько дней мы все снова были встревожены, но совсем не новым подброшенным письмом с угрозами, а тем печальным известием, что Черная Рука погиб. Из верных источников семинарии стало известно, что охотившаяся за преступником гвардия настигла его в одной шахте. Преследуемый силами гвардии, Черная Рука укрылся в первом подвернувшемся ему убежище и отстреливался от обрушившейся на него картечи. И вдруг перестал отстреливаться. Солдаты приблизились к его укрытию и вскоре по сухому щелчку курка поняли, что его боеприпасы подмокли в воде шахты. И ликвидировали его.
И вот уже после смерти Черной Руки в семинарию вновь было подброшено письмо, в котором советовалось ректору «распустить семинаристов дней на восемь, самое большее», так как в эти дни семинария взлетит в воздух. Мы переживали тревожные дни. И по моей просьбе Гауденсио старался получить разъяснения у Амилкара, но так и не получил. Я попытался найти Гаму, чтобы расспросить его, но так и не нашел. А когда в зале для занятий ловил его взгляд, лицо его ничего, кроме презрения, не выражало. Восемь дней были на исходе, а семинария продолжала стоять целехонька, как была. Все надзиратели и слуги были начеку и вынюхивали по всем углам опасность, желая ее обнаружить. А в вестибюле с пистолетом наготове, как стало известно позже, все ночи дежурил отец Томас, выжидая, когда подбросят новое письмо. И вот на двенадцатый день глухой стон изумления и печали обежал нас всех на переменке:
— Его поймали! Поймали! Поймал отец Томас.
— Его поймали, Гауденсио, — сказал я, увидев его выходящим из уборной. — Но кто он, никто не знает.
— Знают, — заявил Гауденсио, с дрожью в голосе и оглядываясь по сторонам.
— Кто же это? Кто? Скажи мне. Скажи, я никому не скажу.
Тогда бледный Гауденсио с влажными глазами и мрачным видом назвал того, кого я подозревал с самого начала.
— Это был Гама.
* * *
Гама. Это был он. Ранним сумрачным утром его, заклейменного проклятием, изгнали из семинарии. После трех дней заточения его посадил в поезд один из слуг. Все три дня отец Томас допрашивал его с пристрастием. Но я знаю, что Гама, непреклонный, как его ненависть, выстоял. Отец Томас желал знать сообщников, потому что считал, что гнев и смелость одного Гамы не могли совершить подобное. Он же, сжав зубы, был настроен решительно и молчал как рыба. Осатанев от стойкости ребенка, отец Томас принялся избивать его. Беззащитный, окруженный враждебностью Гама защищался только своим гневом. И высоко держа голову и глядя прямо в лицо мучителя, вынес разнузданное издевательство надзирателя. Встретивший подобное сопротивление отец Томас вышел из карцера с ревом от приступа печени. Как сейчас слышу разрывающие тишину коридора ужасающие вопли. Я как раз в это время шел купить карандаш в лавку отца Питы. Однако, к сожалению, нет на свете таких печеночных болей, нет таких зуботычин и проклятий, от которых бы рухнули стены этой непобедимой крепости. На допрос были вызваны все семинаристы его отделения и отделения младших. Кто помогал Гаме? С кем он вынашивал планы? Но никто из них ничего не знал. Гама действовал в одиночку без чьей-либо помощи, полагаясь во всем на справедливость своей ненависти.
* * *
С горечью вспоминаю, какая необитаемая пустыня обступила меня со всех сторон. Вспоминаю одиночество и страх. Потому, что моя дружба с Гамой явно теперь мне угрожала. Между тем изгнания из семинарии, пусть даже таким же образом, я не боялся. Но то, что меня привлекут к ответу, меня пугало. Потом страх прошел. Но одиночество осталось. Я почувствовал, что остался без защиты, но все же втайне завидовал своему другу, который пусть даже так, но смог освободиться от того, что его мучило. Теперь на меня часто накатывали усталость и отчаяние.
И, пользуясь этой моей усталостью, мною завладевал демон одиночества, с которым теперь я свел знакомство. Он подступал ко мне осторожно с печальными и мутными глазами и лил на лоб густое теплое масло. В другой раз садился напротив, упирался подбородком в кисти рук и молча всматривался в мое лицо. Или, глядя на меня тяжелым взглядом, безжалостно мял в своих железных руках мое бедное сердце, пока не превращал его в кровавое месиво и не бросал за спину, не отводя от меня взгляда. Я страдал, исходил в слезах, но он не оставлял меня, получая свое порочное удовольствие. Часто, стараясь включиться в шумную радость переменки, я забывал о нем и как помешанный кричал от неожиданно охватившей меня радости. Но тут же вскоре в разгар веселья видел своего демона. Он стоял спиной ко мне у каштанового дерева и был совершенно уверен, что я тут же пойду его искать. И я, почувствовав тяжесть в груди, действительно, бросив играть и бегать, уходил в свое одиночество. Мой спутник осторожно брал меня за руку, или засовывал мне в глаза свои длинные искривленные пальцы, или выглядывал из-за сбросивших листву каштанов, стоящих на красноватой мерзлой земле.
— Что ты здесь делаешь, мальчик? Иди играй с другими детьми.
Я оборачивался и тут же видел перед собой надзирателя. И в изнеможении шел к играющим, так и не в состоянии отвести глаз от демона моего одиночества.
Никаких жизненных планов у меня не было. И я не знал, стану ли я священником или покину семинарию. Единственное, в чем я был твердо уверен, — это то, что я был клубком чувств, сотканным из мечтаний и беспокойств. И что была моя далекая деревня, объемный груз времени и неожиданно и непонятно почему возникавшее воспоминание о грудях Каролины или белом лице Мариазиньи. Случалось, что посредине ночи я вдруг просыпался с горечью во рту и потными горячими ладонями рук от охватывающего меня ужаса и подкатывающей тошноты. В другой раз на уроке у меня в животе поднималась тепловатая неожиданная волна. Я пребывал в волнении, никак не мог успокоиться или впадал в глубокое длительное молчание. Закрывал глаза и, наверное, без сопротивления согласился бы, чтобы меня убили.
Так много ночей подряд я, оставленный всеми уснувшими, бодрствовал, ожидая не прихода светлого утра и не вечного сна, а абсолютной пустоты для не существующего больше прошлого и не собирающегося существовать будущего. Отец Томас гасил ацетиленовые светильники, потом, как тень, прохаживался вдоль длинного коридора и, наконец, шел спать сам. Холодная луна заглядывала в огромные окна и преображала все вокруг своим призрачным светом. А я, сидя на кровати, находил своего демона одиночества. Но я уже не обращал на него никакого внимания, привыкнув к нему и даже желая его присутствия. Я забывал его и его фосфоресцирующие зеленые глаза. И не боясь приподнимался на кровати, окруженный спокойно посапывавшими коллегами, напоминавшими мне мертвых, но дышащих, и смотрел через окно на молчаливый забор, полнящийся тенями, на необитаемую часть леса, который поднимался медленно вверх по горе. Испуганные луной и лающие на нее собаки теперь спали, убаюканные общим покоем природы. Долгое время я пребывал в неизбежной тишине, пробирающем душу страхе и был узником своей завороженности. Смотрел на отведенное для переменок место, где под навесом все мы в минуты отдыха пережидали дождь, на пустынные тропинки, на которых я все же нет-нет да и замечал призрачные дневные тени. Четкая неподвижность превращала все вокруг в сталактиты, как это происходит в сталактитовых пещерах, чуть освещенных мерцающим светом. И так до тех пор, пока, усталый, я не забирался под одеяло и не закрывал глаза, ожидая, что что-нибудь случится и меня найдут.
XII
Придерживаться хронологии в моем повествовании практически невозможно. Ну что сказать еще об этом первом годе моего пребывания в семинарии? А потому я буду рассказывать свою историю, минуя те или иные события.
И если я не заблуждаюсь, то я сейчас расскажу о том, что происходило, когда я находился на втором году обучения.
Как видно, мое нездоровье теперь для всех стало очевидным, и это тут же озаботило наших отцов-надзирателей. И в один из вечеров на мне задержал свой взгляд дольше обычного отец Алвес. И явно поняв мое беспокойство, пригласил меня, как только я смогу, зайти к нему в комнату.
Взволнованный его человеческой добротой, я с благодарностью посмотрел на него. Он был высокого роста и, как все высокие, горбился, походка была спокойной и величественной. Мягкий, как сознающий свою силу человек, он был терпим к нашему детству и с нами вместе частенько смеялся обезоруживающим наивным смехом. Не знаю, может, по прошествии стольких лет я в своих воспоминаниях несколько изменяю его образ. Однако, когда я вспоминаю то сумрачное время, образ этого доброго человека, без сомнения, трогает меня, напоминая мне моего умершего отца. Я помню хорошо холодного агрессивного отца Лино, тучную тень отца Томаса, то и дело курсировавшего по коридорам, женскую нервозность отца Фиальо, толстого Рапозо, нудного отца Мартинса, меланхоличного Питу, Силвейру, Канеласа и ректора. Просматриваю эту длинную галерею кривых, раздраженных, желчных образов, и только в конце ее для меня возникает освещенный спокойным светом стрельчатого свода образ отца Алвеса, такого правдивого и человечного, который сумел быть правдивым и человечным даже там. И, будучи именно таким, он, как я считаю сегодня, не понимал до конца окружавшей его действительности. Как у любого другого, у отца Алвеса была своя легенда. Совсем иная, чем у отца Лино. У отца Лино она была ядовитой и мстительной, а у отца Алвеса — мужественной и славной. Он говорил о долгих похождениях в Лиссабоне, о зловещих Африках, о революционной ярости и, наконец, в час усталости об умиротворяющей ночи духовенства. И я никогда не выяснял, что здесь было правдой, а что нет. Однако меня нисколько не удивило бы, если во всем этом хоть какая-то правда, но оказалась, потому что взгляд этого человека, сильные и спокойные руки, как и его отчуждение гиганта, было результатом усталости от всех дорог жизни.
И я пошел к доброму человеку во время занятий того зимнего вечера. Комната его находилась в здании медпункта, который примыкал к спальне первого отделения. Мне предстояло пройти темный вестибюль с висящим вверху между пилястрами колокольчиком, подняться по черной и узкой лестнице и в конце своеобразного коридора найти его комнату. Мое одинокое путешествие в тот поздний час по зданию семинарии удивило отца Лино, который со мной столкнулся.
— Я иду к сеньору отцу Алвесу, — объяснил я. — Он пригласил меня к себе.
Пристально посмотрев на меня, отец Лино не сказал ни слова и пошел дальше. Другая встреча с другим надзирателем, который, услышав мои шаги, тут же остановился, предстояла мне в коридоре наверху. Но тот, увидев мой испуг, ничего не спросил меня. Я постучал в дверь, отец Алвес пригласил войти. Он сидел за столом, ноги его были укутаны половиком, керосиновая лампа освещала лежавшую на столе открытую книгу. Тени блуждали по углам комнаты. А на противоположной белой стене, освещенной светом лампы, печаталась большая тень от его головы и туловища. Бледный, падающий кружком на стол свет создавал доверительную обстановку в этом тихом уголке большого дома, населенного двумястами семинаристами. Поэтому меня не удивил его затуманенный взгляд и звук его утробного голоса, когда он пригласил меня сесть подле себя. Я осторожно сел. И он, повернувшись ко мне на стуле, чтобы видеть меня перед собой, спросил:
— Так почему ты такой печальный?
И я, так же тихо, как он, поддавшись царящей сосредоточенности, ответил:
— Я не печальный, сеньор отец Алвес. Совсем не печальный.
— Почему, сын мой, ты говоришь мне неправду? Сколько тебе лет?
— В июле будет четырнадцать.
Лицо его тут же выразило озабоченность.
— Четырнадцать! Так ты уже мужчина. Время бежит, а мы не замечаем его и отстаем. Вот тут-то и настигают нас опасности и большие, исключительные опасности. Мир и твои мечтания! Сколько раз ты думал: вот придет день, и мир откроется и выйдет мне навстречу. Выйдет, невероятно огромный от гордости и слепоты. Какая невероятная слепота! Какая гордость! О-о, великое, пожирающее нас пламя! А потом? Потом… пепел и ничего больше, сын мой. Тебе уже это известно. Пепел и ничего больше. А ты говорил с духовным наставником?
— Нет, не говорил, отец Алвес.
И о чем я должен был говорить? Отец Алвес с полными ужаса глазами, с воздетыми вверх угрожающими руками говорил о непонятных вещах, мутно намекая на то, что я уже мужчина, но я его не понимал. В некотором замешательстве, не решаясь сказать то, что собирался, он положил на мое плечо свою спокойную и широкую руку и решительно произнес:
— Ты должен поговорить с ним. Да, поговорить с духовным наставником.
* * *
Духовный наставник вызвал меня сам. Это был человек крепкого крестьянского сложения с густыми, коротко стриженными волосами, прижатыми к черепу надетым колпаком. Он усадил меня с собой рядом, положив свою горячую руку на мою шею. От тяжелой мягкой руки, которая согревала мне затылок, меня стало мутить. А когда он заговорил со мной, обдавая меня дурным запахом изо рта, я пришел в отчаяние. Но на все его многочисленные вопросы я, согласно своему разумению, отвечал ему «да» или «нет», и он наконец сжато и четко дал мне некоторые советы:
— Молиться, чтобы отогнать дурные мысли. Не держать руки в карманах. Ни на что не облокачиваться. При необходимости искать неудобных положений. В кровати держать руки поверх одеяла. И не трогать тело руками. Занять себя учебой и благочестивыми помыслами. Не спать в узкой одежде, носить свободные кальсоны.
Как все это было непонятно! Но измученный дурным запахом из его рта, горячей рукой, лежащей на моей шее, я и не пытался понять смысл сказанных им слов, разве что потом… Потом, когда я попытался их понять, от вихря нахлынувших мыслей я потерял голову. Мне было известно с детства слишком многое. Но сколько же всего я еще не знал!
Я рассказал Гауденсио о своих разговорах с отцами церкви. И тут он мне поведал все, что знал о таинстве жизни. Мы разговаривали с ним наедине на прогулках или в зале для занятий, и мое сердце сжималось от страха и потрясений. Я чувствовал, не знаю, как это сказать, чувствовал, что весь мир и вся жизнь, мое прошлое и мое будущее были невероятным обманом. Гауденсио рассказывал мне все, что знал о взрослых. И когда однажды на прогулке мы были замыкающими нашего отделения, я поведал своему другу о тоске и беспокойстве своего тела, он ответил мне:
— Это потому, что ты уже мужчина. Проверь себя.
Проверить. Я вспотел от волнения, низвергнутый в раздумья и ад. Отец Мартинс, который следил за нами, подошел и строго предупредил:
— Частные разговоры запрещены.
И мы, гордые своим секретом, смешались с другими такими же, как мы. А Флорентино, уже давно уязвленный нашим шептанием в зале занятий, пронзил меня острым взглядом, который, казалось, увидел мой грех. Возвращаясь в семинарию, мы должны были пройти по поселку, а потому остановились, чтобы привести себя в порядок и молча, как предписывал устав, миновать его. Чтобы посмотреть на нас, к дверям домов и на улицу высыпали старики, женщины и дети. И как с той, так и с другой стороны — с нашей по отношению к ним, с их по отношению к нам — ничего, кроме взаимного недоверия и отвращения, не просматривалось. А все потому, что их мы воспринимали из плоти, крови, пота и греха, а они встречали нас, идущих строем, зло и враждебно, нас и нашу черную одежду, а возможно, и чувствуя нашу неприязнь к ним. Мы шли по улицам поселка под скрещенными над нами, точно шпаги, взглядами. Я всегда страдал от казни молчанием нас, обреченных и приговоренных соблюдать устав и побежденных бесчестьем. Но в этот день я смело глядел на людей моего края и встретился с обращенным на меня девичьим взглядом. Девушка была бледная, непричесанная и такая юная! Сколько же раз атакуемый яростью своими бессонными ночами, я вспоминал ее! И вспоминаю даже сегодня, неподвижно стоящую, нетронутую, как утраченную память утраченного благословения.
Именно в этот день перед вечерней переменой ко мне подошел отец Мартинс и, стоя в проходе между партами, сказал:
— Задержитесь на своем месте, когда начнется перемена. И скажите то же самое своему соседу.
На меня разом уставились двести пар любопытных глаз. Гауденсио на месте не было. Но когда он подошел, я рассказал ему о происшедшем. И, когда началась перемена, мы с ним, стоя около своих парт, дожидались своей участи. А проходившие мимо нас однокашники поглядывали на нас с нескрываемым любопытством и жаждой мести. Боже, и какой жаждой!
Очень скоро появился отец Мартинс. Как всегда с висящими, как плети, руками, что было для него привычным, прямой, как шпага, и тут же объявил нам:
— Гауденсио остается на своей парте и садится сюда. А Лопес садится на другую парту и по другую сторону.
Все приказанное мы выполнили быстро, заливаясь краской от тысячи подозрительных взглядов, однако страх нам не позволил осмыслить происходящее. И только вечером, когда я себя увидел между Флорентино и Таваресом, я осознал, что Гауденсио никогда больше не будет моим соседом. Неожиданно придя в ярость, я, толкнув локтем Флорентино, процедил сквозь зубы:
— Это все ты, негодяй. Предал нас, Иуда.
Флорентино поежился от моих слов, но ничего не ответил. Потом я повернулся к Таваресу. И уже спокойно, вынужденный необходимостью, по-дружески сказал ему:
— О, Таварес!
Но Таварес, побледнев, сжав губы и ханжески опустив голову, даже не пошевелился.
Я уперся локтями в парту, подпер голову и застыл, вслушиваясь в бегущее время.
* * *
— «Проверь себя», — звучат в моей памяти слова Гауденсио.
Но я боялся всего, что меня ожидало: и возможной правды, и лжи. Особенно угнетал меня предрекаемый пророками вечный божественный гнев. Так началась игра моего демона тела со мной. Этот демон не имел ничего общего с демоном одиночества, он был хитер и почти всегда обнаруживал себя, когда дело было сделано. У него были живые пальцы в каждой точке моего тела и тепловатое дыхание ванной. Он, тихо выдерживая непонятные паузы, шептал мне в ухо. В тишине долгих ночей, проводимых много без сна, и особенно по утрам, когда я рано просыпался, он подвигал меня на то, в чем я не мог себе дать даже отчета. Жег меня изнутри живым пламенем, похожим на пламя спиртовки. Внутренний озноб ломал мне ногти рук и ног, укрепляя меня в печали, натравливал меня на меня самого. Я глотал слюну, поступавшую в желудок, начинал болеть затылок, и тогда я думал: «Послушай, несчастный, подожди! Ты умрешь, помни это! Умрешь! С тобой случится такое, что ты не вынесешь и умрешь. И пойдешь в ад на веки вечные».
Тогда я с силой выпрямлялся, и все во мне рычало от отчаяния. Однако образ ада пугал меня совсем не из-за адского огня или серы, как и не из-за косоглазых дьяволов, а из-за удручающей огромности вечности. Сколько раз для того, чтобы осмыслить ее, я принимался воображать ужасающую протяженность времени, как например, число лет в километр длиной в маленьких арабских цифрах. Так вот: это ничего не имело общего с вечностью. Потому что вечность было это и еще раз это, и всегда больше, чем это. И когда я уставал от воображаемых больших чисел, представить себе вечность не мог все равно. Потому что вечность была всегда, всегда и всегда, и еще сто лет, и еще миллион лет, всегда еще миллионы лет, и перед лицом всех этих лет пустое пространство необъятности только отсюда и начиналось, чтобы я начинал подсчет. Как мог я рисковать? И осмеливаться грешить против неприкосновенной тайны, чистоты, священного чуда моего тела? Потому что я чувствовал, что этот грех — самое большое преступление. Я прекрасно понимал, что убийство, воровство, как и богохульство, — грех. Но то был грех, о котором можно было говорить открыто. Вор и убийца греховны, как никто другой. Богохульство же — грех, который ложится только на себя самого и, возможно, вызывается безумием или яростью. Но вот грех тела затрагивает самое сокровенное человека и пачкает его целиком, покрывает позором.
Так шла моя борьба с самим собой несколько дней. Но однажды, когда ко мне никак не шел сон и мною вдруг овладело такое сильное беспокойство, я неожиданно для себя понял, что прежде, чем совершить грех, я уже согрешил в мыслях. И задрожал всем телом. Как же теперь мне заснуть? Я знал много трагических историй грешников, к которым смерть подкрадывалась именно во сне и забирала их. И я решил, что ради того, чтобы не умереть, теперь надо не смыкать глаз всю ночь. Утром же я пойду на исповедь и избавлюсь от греха. И тут вдруг меня осенила мысль, что если я уже согрешил в мыслях, то могу идти до конца в своем грехе, чтобы понести наказание за все сразу. И, одержимый грехом, я совершил грех и иссяк…
Однако тут же еще настойчивее возник передо мной образ смерти, и сердце мое захолонуло. Я ее видел перед собой, она неумолимо приближалась к моей кровати. И вдруг, не знаю, как это произошло, о Господи, не знаю, и никогда не узнаю, во мне взыграла гордость, ужасающая гордость грешника с уготованным ему адом. И, словно помешанный, я поднял к небу злые глаза и смело призвал ее: «Приди! Я не стану просить прощения у Господа, мне не за что просить прощения, и я не прошу». Я весь горел огнем: кости, внутренности… «Вот он я, вот, приходи!» И так же неожиданно был оглушен, смущен, напуган своим гордо брошенным смерти вызовом, и встал перед собой на колени и мучился, и мучился. Я не знал, что же такое скрывается за моим беспокойством, какая обида приводит мои нервы и кровь в замешательство, но знал, что все это слишком тяжко и мрачно при моей усталости. И я, несчастный, заплакал в тишине ночи, ощущая свое одиночество и бессилие. Наконец, забыл о смерти и заснул.
Утром, с пробуждением сознания, я быстро стряхнул сон и вдруг обнаружил, о Господи, обнаружил, что я жив. Я совершил грех, уснул с содеянным грехом и не умер. Я был жив, двигал ногами и руками и видел, видел своими собственными глазами спавших в спальне семинаристов и тени бодрствовавших в коридоре отцов-надзирателей. И новая радость захватила меня: я победил смерть и ад.
Но если я их победил, если день пришел ко мне и больше не несет мне опасности…
Медленно и спокойно я ощупываю всего себя до самой интимной части тела. Голова моя пухнет, кроваво-красный пар распирает ее изнутри. Горящий факел излучает тепло у ногтей рук и ног… и стремительно… бесшумно… к неведомой цели… И совсем скоро угасающий образ случившегося плавает в чистой воде памяти. Потом исчезает, потом возвращается. И наконец, исчезает окончательно, но оставляет — о, Господи! — оставляет живое, живое, живое присутствие, подобное язве, которая остается после клеймения раскаленным железом. И внезапно все, все во мне снова накалено до предела. Пронзительно кричит мой мозг, крик простреливает голову от уха до уха, и удар кулаком сшибает с ног окончательно. Я покорно сгибаюсь и долго пребываю в этом состоянии, забыв о жизни и обо всем на свете.
Что же произошло? И я смотрю окрест себя и вижу со всех сторон обломки огромных поверженных призраков и лежащий в руинах дворец моего детства. Но я жив, о смерть, жив, как победитель. А сколько идолов и обманов катила на меня буря. Однако, видя их поверженными, я чувствую, как во мне просыпается мое новое осознание своей силы и величия.
XIII
Между тем, как все теперь было непросто! После двух или трех исповедей, на срочность которых меня толкнул страх, я стал спокойнее и освоился со своим преступлением. Исповедник слушал меня без тревоги и по поводу моего страха, и по поводу моих потрясений, и это вселяло в меня мужество рассказывать, ничего не боясь. Теперь для меня стало просто прийти на исповедь и говорить о моем грехе четко и спокойно. Отец Силвейра слушал меня, снова объяснял мне технику противостояния страстям и с миром отпускал. Однако никакая сила и никакая хитрость не могли обезоружить мощь моего плебейского тела. И, исчерпав все рецепты, отец Силвейра дал мне «научную» книгу. Я прочел ее с жадностью. Видя мой интерес, он снабдил меня еще двумя книгами. Я и их прочел с тем же жадным интересом. Мой голод познания был чист и решителен, но чужд любым ухищрениям. Мое беспокойство определял мой возраст, его голос был абсолютным голосом земли. И мое неустанное возбуждение пожирало меня теперь все время. Или ввергало в воспоминания: я неотступно видел глаза той девушки, которая смотрела на меня, когда мы строем проходили через поселок, либо нежную Мариазинью, а в особые моменты и Каролину. Между тем из моей далекой пустыни, где я пребывал, все это виделось мне очень далеким и недостижимым. И я в своем полном одиночестве мог только жить воспоминаниями и их постижением. Жизнь. Сколь она разнообразна и одинакова. Непобедимое целомудрие гораздо сильнее страха, телесного наказания и дьявольских заклинаний. И только в абсолютном одиночестве, наедине с самим собой я все это вспоминаю и осмысливаю. И тут снова вижу безысходность от усталости, проклятий, ненависти и бешенства. Снова вижу одного из своих коллег на занятиях по португальскому языку, приподнявшего красную крышку преподавательского стола и тут же побледневшего от неожиданно взбунтовавшейся крови и отхлынувшей от лица при виде абсолютно голых, белых деревянных ножек стола. Вспоминаю я и себя, увидевшего голые ножки, и свою боль в боку, высохший рот, и подогнувшиеся было колени, и свою просьбу, обращенную к отцу Пите о разрешении выйти из класса по большой нужде… Вспоминаю все, и это все как бы возвращает меня в мое несчастное детство и осуждает на муки.
* * *
И тут в моих воспоминаниях идет мне навстречу Перес, о котором я уже говорил в самом начале. Он идет гордый, ликующий во главе громко играющего оркестра. Да, да, в семинарии был оркестр, чтобы хоть как-то скрасить нашу невеселую жизнь, только это было невозможно. Сейчас я вспоминаю этот оркестр, как набор старых ржавых, изъеденных временем медных инструментов и дудок, прошлое которого казалось загадочным. На самом же деле скромными услугами этого усталого оркестра, о котором рассказывали из поколения в поколение, пользовались в старые добрые времена на процессиях в поселке.
— Да, играл на процессиях, — подтверждал наивный и грустный маэстро отец Кунья. — Фаустино играл на корнете, на кларнете — Ребело, ну и все прочие. А вот на барабане, — сказал отец Кунья специально для Переса, — барабан — это серьезный инструмент. Сегодня…
И вот однажды Амилкар, который играл на маленьком барабане, вышел из оркестра. И отец Алвес, возможно вспомнив о моих потрясениях и веря, что оркестр меня развлечет, предложил маэстро взять меня вместо Амилкара. На барабане играл Перес. Другой семинарист моего отделения бил в тарелки. И был еще один барабан, но маленький. Перес возглавлял оркестр, и это давало ему право считать себя главным. Но я ненавидел этого выскочку с того самого черного дня пятницы в октябре месяце, когда он пытался меня, как новичка, обидеть, а добрый Гама взял меня под свою защиту. Как сейчас вижу его, он стоит неподвижно, высокий, красный, аскетичный и завистливый. В часовне или трапезной он всегда стоял или сидел с опущенными глазами, как бы погруженный в свои думы, с покорно согнутой спиной. По субботним вечерам в зал для занятий приходил к нам один священник с большой раскрытой книгой и за такой сокрушенный вид ставил отметки и давал премии. Надо сказать, что почти все мы старались изобразить на своем лице эту самую покорность. Великолепно помню этих покорно стоящих на коленях семинаристов и бледность их лиц.
Вырванные из своей среды, мы были отравлены ядом тоскливой инфантильности, который иссушал нас, высасывая энергию, еще свидетельствовавшую о нашем родстве с землей. По нашим повисшим, невероятно крупным рукам, по нескладным ногам разливалась кромешная усталость, сгибавшая и пугавшая нас. Очень хорошо помню этот обезоруживавший нас ужас, потому что, хоть и меня тоже гнул страх, я все же в особые минуты жизни от ярости и храбрости разгибал спину. (И как я за то благодарю тебя, о Господи, благодарю, что у меня уже нет страха. Как благодарю, возвращаясь к тому времени, когда Ты просвещал меня!) Разгибал и держал ее прямо, когда отец Лино лупил меня, о чем я еще расскажу. Держал прямо, когда отец Томас высмеял мое сочинение по португальскому, потому что описание весеннего утра я начал следующими словами: «Еще до восхода солнца люди шли на работу…» Тогда как идеальным сочинением он считал сочинение Амилкара: «Как святая облатка, из вазы гор встает солнце, изливая свои золотые лучи, а птички, перелетая с ветки на ветку, исходят в сладких трелях».
A-а, исчадие ада! Я-то знал, что такое ваза с облатками, как и глагол «изливать», знал, почему и для чего Амилкару нужны были эти самые «трели». Знал точно, понимал до мозга костей, что все это невероятно глупо. И поэтому стерпел насмешку отца Томаса, который в своих проповедях любил употреблять так называемые трудные слова. А поскольку я стерпел, отец Томас спросил меня, намекая на мою статность, уж не проглотил ли я палку от щетки… Тут же на меня посыпался град насмешек. Я, склонив голову, опустил глаза, и отец Томас успокоился, возможно, потому, что ему показалось, что я и спину, и душу склонил тоже.
Так вот, как я рассказывал, Перес бил в большой барабан, а рядом с ним в маленький — я. Мы все знали, что Амилкар ушел из оркестра, потому что был слаб здоровьем, о чем свидетельствовал получаемый им завтрак: сырые яйца натощак. Я заменил его, потому что был здоров. Надо сказать, что встретил меня Перес неожиданно радушно. Но поскольку он был из другого отделения (из первого), мы, естественно, разговаривать не имели права. И все же нам случалось обойти этот запрет. И на репетициях, или когда мы настраивали инструменты, и даже на прогулках Перес говорил мне, что помнит мою деревню, мучается в семинарии, а спустя время и многое другое о себе самом. И я довольно быстро изменил о нем свое мнение, особенно когда однажды он предложил мне santinho[10]. Однако совсем скоро он стал атаковать семинарский устав, спрашивая меня, как я отношусь к разделению нас всех на отделения. У нас в первом отделении был один Пайва, а другой Пайва — его брат учился в третьем отделении, так вот они могли разговаривать только во время каникул.
Я был согласен с Пересом, что это плохо. Тогда же он продолжил разговор и сказал, что хорошо знает семью Амилкара, а его самого чуть ли не с рождения, и что они чуть ли не из одной деревни и во время каникул постоянно общаются. И, как я знал, частенько разговаривали в семинарии.
— Так вот за этим разговором нас и застукали и выгнали его из оркестра.
— Выгнали из-за разговора? А не потому, что он слаб здоровьем?
Нет, конечно, он нездоров. И он, Перес, не раз ему говорил, чтобы он не усердствовал. Будь осторожен. Берегись. Нет, нездоров, это точно, и игра на барабане его изматывала.
— Но его заменили не только поэтому. А еще и потому, что мы разговаривали.
— Не имеют права, — сказал я, поддерживая его. Перес, весь красный, возбужденно продолжал говорить об отце Канеласе, который их и застукал, а стоило ли ему это делать, когда всем известно, что он протежировал Амилкару.
Перес не унимался. И постепенно перевел разговор на свою мечту, которую он утратил. Теперь он говорил о земле, о какой-то нереальной Дулсе, вроде бы обучавшей его катехизису, и о страсти, которая походила на мою пылкую тоску.
И однажды уже запросто объявил мне:
— Тут у меня есть книги и журналы. В одном из них голая женщина. Я никому их не показывал. Но тебе покажу, если хочешь. Только тебе.
От бросившейся мне в лицо крови я молчал. Покосился на Переса, посмотрел на регента и почувствовал, что моя голова пошла кругом.
— Не хочу, — ответил я наконец, объятый ужасом.
Но Перес не отставал. Видя мою растерянность, он с удовольствием стал говорить о своих победах и настоящем опыте.
— Врешь! Болтун! Все врешь, — закричал я, оглушенный услышанным.
— Вру? Так я тебе принесу журналы, и ты увидишь, вру я или не вру.
— Не хочу!
— А я принесу. А сейчас скажу: моя женщина — та самая, что в этих журналах. — И, сказав кое-что еще, поверг меня в ужас.
Я был уничтожен его доводами и не мог соображать.
Все это произошло на репетиции в четверг. А в субботу Перес, тронув меня за локоть, сказал, что у него все с собой.
К несчастью, когда я уже собирался взять у него принесенную контрабанду, около нас возник отец Мартинс.
— А ну-ка дайте сюда…
Перес, вспыхнув, отступил. Но отец Мартинс громко потребовал:
— Дайте сюда немедленно!
Все участники оркестра, обалдев от такой неожиданности, уставились на нас. Отец Мартинс взял сверток и поспешно ушел, оставив нас онемевшими.
В тот же день Перес исчез из оркестра, из зала для занятий, отовсюду. Позже мы узнали, что он был изгнан из семинарии.
И вот однажды утром все три отделения были выстроены во дворе, где обычно проходили переменки. Отец Томас сказал мне с явно свирепым видом, чтобы я пошел и принес зеленую ленточку, полученную мною в награду за тринадцать баллов по поведению. Я не понял, зачем это, но выполнил приказ и теперь держал ее в кармане. Стоя в строю, я ждал самого страшного, что могло произойти. Нас построили, как перед сражением, а перед нами встал отец Томас, готовый командовать. И, очень бледный от преследовавших его печеночных болей, приказал:
— Антонио дос Сантос Лопес, два шага вперед.
Строй замер в безмолвии. И разве что не была слышна барабанная дробь, чтобы совершаемое походило на казнь. Утро было прекрасное, тихое. Морская голубизна неба казалась влажной и гладкой, как лицо юной девы. Лишь легкий ветерок шевелил листву тонких каштанов. Мир так был прекрасен и покоен, что утратить его было особенно больно. Увидев меня перед строем, лишенного моральной и физической поддержки товарищей, отец Томас приказал:
— Надеть ленточку!
Я вынул ленточку из кармана и надел ее на шею. Медленной, но твердой поступью отец Томас пошел на меня. Лица его я не видел, но видел безжалостно приближающиеся ко мне сапоги и подол черной сутаны. От пролетевшей мимо птицы к моим ногам, медленно покачиваясь, упало перо. Я тяжело дышал, не зная, что должно произойти, но, что бы ни произошло, меня теперь уже не слишком заботило, будь что будет, даже если меня убьют. Около меня отец Томас остановился. И в это чистое весеннее утро двести семинаристов, онемев, замерли в ожидании. Я увидел медленно поднимающуюся руку отца Томаса, которая замерла на высоте висящей на ленточке медали. Потом обе руки взялись за ленточку, застыли на какое-то время в таком положении, чтобы я ощутил свои последние минуты жизни, и грубым рывком сорвали ее с моей шеи. И с обрывком ленточки опустились вниз.
XIV
Какое-то время в семинарии никто не говорил ни обо мне, ни о Пересе. Отметки по поведению за эту неделю у меня упали, по всей видимости, из-за моего преступления. Вот теперь я начал восставать против совершившейся несправедливости. Почему не наказали Амилкара? Он был застигнут за разговором с Пересом, и ему за это ничего не было. Именно эти слова я сказал отцу Алвесу, когда однажды тот увидел меня грустным и гуляющим в полном одиночестве.
— Но ты же прекрасно знаешь, что ты взрослее Амилкара, ты уже мужчина. А он — ребенок. И с ним Перес только разговаривал. Именно то, что ты старше, и сыграло свою роль в наказании. И все же с тобой не произошло то, что произошло с Пересом.
— Но я же не хотел видеть журнал. Я не хотел. Перес попросил меня подойти, но я не знал зачем.
Отец Алвес умолк. Положил мне на плечо руку и, подбадривая, сказал:
— Все это пройдет. Ты должен для себя извлечь урок и ждать, когда время залечит рану.
Я ничего не ответил. Внутренний голос кричал от отчаяния: «Я уйду из семинарии, уйду, уйду». Это же самое я и сказал чуть позже Гауденсио:
— Я хочу уйти из семинарии, Гауденсио. Даже если мне грозит смерть.
— Послушай, Лопес, — попросил он меня. — Не делай это сразу. Пусть хоть этот год пройдет.
— Еще год? Нет, Гауденсио, я уйду. Два года я терпел. Больше терпеть не могу.
— Послушай, через год… Не говори никому ничего, но через год я уйду вместе с тобой.
* * *
Между тем очень скоро подошли пасхальные каникулы, и все это само собой забылось. Передо мной снова возник образ моей деревни, моей горы, моей былой свободы. Три месяца, проведенные в семинарии, приглушили остроту впечатлений от тех неприятностей, которые на меня обрушились в мой первый приезд домой. Впрочем, я теперь все больше и больше жил своим воображением. И произошло это, потому что я обнаружил, сколь груба и чудовищна действительность. Ведь она ничего не имела общего с моей фантазией, и я не знал почему. Похоже, меня всегда окружало много всего такого, о чем я даже не предполагал, и все это было гораздо значительнее, чем я мог вообразить. Таким образом, я сам и все то, что я избрал для себя, не имели того большого значения, которое я им придавал. Сталкиваясь с действительностью, я обнаруживал, что вокруг меня все живет своей жизнью, в которую я никак не включен. Именно это я и увидел на пасхальных каникулах. Как только грузовичок въехал в деревню, я тут же почувствовал и в тишине улиц, и в озабоченных своими судьбами людях полное равнодушие к моей обеспокоенной личности. Я, радостный, желающий общения, смотрел в окошко машины, а всем это было безразлично, никто не обращал на меня никакого внимания. В этот раз со мной в грузовичке ехало несколько семинаристов, ранее пользовавшихся поездом. И я обратился к ним, делясь своей радостью:
— Вот и моя земля!
Но когда мы наконец приехали, в окошко грузовичка просунулась большая лохматая голова и громко крикнула:
— Эй, Тоньо, разрази тебя гром, а я так думал, что ты больше никогда не приедешь!
Это был мой дядя Горра, о Господи, какое тупое животное! Я почувствовал себя схваченным за шиворот и выставленным на посмешище моим коллегам. И они, одетые в черное, тут же прикрывая рты и переглядываясь, прыснули со смеху. Пристыженный и одинокий среди своих, я быстро собрал свои вещи. И тут же серьезная дона Эстефания, появившаяся в проеме открытой дверцы, крикнула:
— Мальчик, идем!
Каролина взяла мой чемодан и пошла вперед. Я, не глядя на моего дядю, который тут же исчез, последовал за доной Эстефанией. Вечер спешил нам навстречу и застал нас на пустынных каменных плитах церковного двора, где я сумел успокоиться. Слыша постукивание каблуков сеньоры, которая шла рядом, я, поскольку мы с ней не разговаривали, почти забыл о ней. Наконец, мы пришли. И дона Эстефания прежде, чем пригласить меня к столу, повела здороваться со всеми обитателями дома. Сеньор капитан, опустив газету, спросил меня об отметках, Зезинья, который в первый мой приезд почти не общался со мной, заговорил о своих игрушках, а Мариазинья, как всегда, по привычке спросила меня, когда я буду служить мессу, и выбежала из комнаты. Самый старший сын, проходивший курс медицинских наук в Коимбрском университете, на этот раз проводил каникулы дома. На рождественские каникулы он не приехал, думаю, из-за экзаменов, которые шли в январе месяце. И вот теперь я побаивался встречи с ним. Дона Эстефания потащила меня к нему и постучала в дверь его комнаты. Но доктор Алберто с раздражением гнусаво ответил ей, что войти нельзя.
— Но здесь Антонио, — настаивала мать, — он только что приехал из семинарии.
— О, Господи, какая тоска! Не могу!
Тогда дона Эстефания, несколько нерешительно взглянув на меня, сказала:
— Придешь к столу. Приведешь себя в порядок и придешь ужинать.
В моей комнате было спокойно и тихо. Кровать застелена свежим бельем, никаких надзирателей за пределами комнаты, никаких занятий, никакого распорядка, и я почувствовал себя счастливым. Бросился на кровать и закрыл глаза. Керосиновая лампа с чистым стеклом нашептывала мне что-то ласковое, бледные стены смотрели с чуть усталой улыбкой, шум шагов в коридоре создавал кажущуюся безопасность. Забывшись, я отдыхал душой и телом в тишине и покое. Очнулся я, когда дона Эстефания постучала мне в дверь:
— Антонио, пора садиться за стол.
Я умылся, причесался, одернул полы пиджака. Однако, когда пришел в столовую, там еще никого не было. Несколько смутившись, я стоял у своего места. Между тем очень скоро пришли все, за исключением доктора Алберто. Дона Эстефания пошла за ним, но скоро вернулась и сказала:
— Он сейчас подойдет, начинаем есть.
Но он пришел, когда суп уже был съеден. Увидев его входящим, я заколебался, не зная, что должен делать: продолжать сидеть или встать и идти ему навстречу. Все ждали, что будет дальше. Я, готовый встать, чуть отодвинул стул и вынул салфетку. Но доктор, не обратив на меня никакого внимания, лениво пошел к своему месту и сел. От всеобщего молчания я чувствовал себя беспокойно. Наконец, развертывая салфетку, доктор Алберто спросил меня, на меня не глядя:
— Так значит, каникулы? А каковы отметки?
Я тут же ответил, что имею тринадцать по латыни, двенадцать по португальскому и одиннадцать по географии. Но доктор Алберто переменил тему разговора, обратившись к матери:
— Так что на ужин?
— То, что ты любишь. Сейчас увидишь свой любимый картофель…
— Картофель?.. Что это за суп? Каролина! Унеси все это!
— Но ты должен поесть, сын.
— Нет, нет. Унеси, — настаивал он решительно, потеряв всякий аппетит.
Поскольку все меня забыли, я осмелился взглянуть на доктора Алберто. Он был в домашнем голубом халате, казался очень маленького роста и выглядел значительно старше своих лет, а из-за густой бороды и косящего глаза, о котором я не помнил, слишком мрачным.
— Ну так какие отметки? — спросил он снова, погруженный в свои мысли, наполняя бокал.
— Тринадцать по латыни, двенадцать по португальскому и одиннадцать…
— Тринадцать. Прекрасно. Уже знаешь, как вижу, rosa, rosae[11] и dominus, domini[12]…
Я улыбнулся. Я знал и rosa, rosae, и dominus, domini, и многое другое.
— Прекрасно, прекрасно. Мама, дверь… пожалуйста, я не выношу сквозняка.
Дона Эстефания поспешно встала и пошла закрывать дверь. И снова за столом воцарилась тишина. Сеньор капитан казался отрешенным от всего окружающего. По обыкновению он держал перед собой раскрытую книгу. Удивительно покорная дона Эстефания постоянно посматривала на старшего сына и ждала от него очередных приказов. Что же касается маленьких, которые какое-то время были в замешательстве от моего присутствия, то они теперь со мной разговаривали и заполняли все вокруг своей веселостью. Это позволило мне почувствовать себя более раскованным, но не забытым, как если бы кто-то, читавший меня, как книгу, отчеркнул ногтем то место, на котором остановился. А потому, когда какое-то слово пролетало мимо меня, я обращал на него свое настороженное внимание. Потом перестал обращать, потому что слова летели через стол, сталкивались друг с другом и разлетались в разные стороны и ни одно не было адресовано лично мне. Говорили об учебе доктора, о чем-то расспрашивали младших. Но все это меня не касалось, а разговор обо мне как бы был отложен про запас. И все же взгляды каждого нет-нет да, останавливались на моем лице, и я чувствовал, что говорящие, без сомнения, рассчитывали на то, что я, имеющий уши, да услышу. К счастью, я занимал место на одном из концов овального стола, и стоявшая посередине керосиновая лампа с фарфоровым абажуром закрывала меня, оставляя в тени. Каролина пришла, чтобы сменить тарелки, и опять ушла на кухню.
Доктор снова приступил ко мне с вопросом:
— Так, Антонио, значит, у тебя тринадцать по латыни…
— Да, сеньор доктор, тринадцать.
И тут же взгляды всех устремились ко мне и взяли меня в окружение. Я пришел в замешательство, потому что вопрос прозвучал в тот самый момент, когда я расправлялся с куском утки. И говорил себе: «Вспомни, вспомни хорошенько, как тебя учили обращаться с ножом и вилкой на уроках хорошего тона». Естественно, когда отец Рапозо меня вызвал к доске, я ответил на все вопросы без запинки: как кладут нож и вилку? Нужно ли разрезать все мясо сразу или по мере надобности? Как едят утку? «Священник по роду своей деятельности должен уметь общаться со всеми слоями общества. И должен знать правила приличия». Да, отец Рапозо. Но если мне дали утку впервые и из-за голода я ее не узнаю? Вот тут-то я и запутался с ножом и вилкой. Нож в левой, вилка в правой. Нет, нож в правой. Но я должен обменять их, потому что левой у меня ничего не получается. Меняю их снова. Пожалуй, надо нарезать все сразу. Нож со звоном падает на тарелку. Глаза всех жадно впиваются в меня, ждут. «Разговаривайте, ну же, разговаривайте и оставьте меня в покое!» Но все замерли и молчат.
— Так, тринадцать по латыни.
Нож попадает на жилу, и мясо подскакивает и падает на стол. Взгляды, точно рой пчел, набрасываются на меня и жалят мое лицо. Покраснев, я ножом поднимаю кусок мяса со стола, но жирное пятно остается на скатерти. В отчаянии я смотрю на дону Эстефанию, дона Эстефания таращит на меня глаза, но на ее лице они как два темных колодца. Все поели. У всех на тарелках лежат скрещенные вилки и ножи, и каждый смотрит на меня с укоризной. Я весь горю, как в огне, рот, живот, внутренности. Голода как не бывало, я его не чувствую: он сгорел, точно после алкоголя. И все же алчно смотрю на лежащий на моей тарелке кусок утки, но вынужден от него отказаться. И складываю нож и вилку и жду заслуженного наказания, которое тут же на меня обрушивается:
— Конечно, у вас в семинарии нет урока хорошего тона?
— Есть, сеньора дона Эстефания. У меня четырнадцать по правилам хорошего тона. Меня вызывали, и я не раз отвечал все прекрасно. Сеньор отец Рапозо очень требователен. И я знаю все: и как в письмах выражать соболезнование, и как едят утку, и многое другое.
Бог мой. Мои слова били мою голову. А на скатерти, как свидетельство моих познаний, красовалось жирное пятно, и сотня судей выносили мне приговор, а защитника не было. Но вдруг доктор Алберто переменил тему разговора:
— Послушай-ка, ты, у которого тринадцать по латыни, ты должен ее неплохо знать. Тогда скажи мне вот что: какое дополнение требует глагол utor[13]?
Я не знал. Моего ответа ждали все, молча. Я посмотрел на каждого из них и в последнюю очередь на моего палача. В руке у него была сигара, локти лежали на столе, он ждал. Косящий глаз делал его взгляд рассеянным, что создавало впечатление, что доктор атакует меня со всех сторон. Чувствуя враждебность, я сдался.
— Глагола utor я не знаю.
— Требует творительного падежа. Ничего-то ты не знаешь.
И встал.
Покраснев до корней волос, я сидел и слушал звук его шагов, удалявшихся по коридору.
* * *
Приведя меня в замешательство, доктор одновременно и вызвал во мне горячее любопытство к своей персоне. До сих пор я ни разу не был в его комнате и только как-то, когда представился случай, заглянул в оставленную им открытой дверь. И с некоторым страхом увидел его книги, стоящие на этажерке, и рабочий стол и вообразил себе его беспорядочную жизнь, обязательно порочную и грязную от греховности. Его вечно утомленный вид и густой запах табачного дыма, который окутывал все вокруг серой мерзкой пеленой, вызывали у меня отвращение и тошноту. И все же, прежде отвращения, тошноты и даже страха этот самый человек с оплывшей жиром шеей пробудил во мне жадный интерес к своей жизни. В тишине комнаты я почти задыхался от ярости. Она сжимала мне горло при воспоминании о моем позоре за обедом, незнании глагола utor и полной победе Алберто надо мной, беспомощным. Моя жалкая плоть, подобно плоти раненого зверя, рыча, взывала к звездам. И я с бесконечной высоты своей скорби ощущал свое падение. Между тем тень от грязи и порока лежала на всем, что было вокруг меня живым и плодородным. Теперь мои жаждущие правды глаза доискивались до всего, раскрывали секрет каждого. Комната доктора Алберто дышит распутством: нить порочных ночей с размалеванными голыми женщинами явно тянется из Коимбры. Как зубная боль, мучает мою память похотливая Каролина. Почему-то незамужней представляется мне жестокая дона Эстефания, а Мариазинья кажется беззащитной, плачущей и униженной. Преступный и порочный круг сжимается, нанося мне удары и обжигая, словно пары уксуса. Голова моя болит, я обливаюсь потом, и толпа демонов одолевает меня своими воплями. Ложь, о Господи, все, все ложь. Нет благопристойности в длинных юбках и опущенных веках. Есть только гнетущее беспокойство от плотского удовольствия и головокружения, от падения в глубину омута. И туда катится весь мир, чистота детей, взрослых мужчин и благочестивых женщин. Как это возможно? Как это возможно? Я завидую бездумью своего одержимого тела и плачу, как пленник в одиночестве своего наказания. Чувствую боль в пальцах ног, точно у меня вырывают ногти, в искривленных и раздробленных плоскогубцами зубах. У меня горит желудок от ядовитого кома. И голова с побагровевшим лицом склоняется до моего собственного навоза. О Господи, Господи, где же спасение? Где та вода, которая отмоет меня до чистоты того существа, каким родила меня мать? Почему, о Боже, возможно, чтобы преступление рождала моя собственная отравленная кровь? И под всей тошнотой жизни, подобно роднику, который бьет из-под земли, утоляя жажду и творя плодородие, крылась бы подлинная истина!
И теперь, изгнанный миром, я почувствовал себя подавленным, как никогда прежде. Все, что было во мне от самопожертвования, разрушалось глубиной недоверия и обиды, сплавляясь с моей робкой ненавистью. Глаза горели, но при малейшем намеке на шум взгляд их поспешно скрывался в своей берлоге. И как никогда меня угнетало унижение, заставлявшее меня сгибаться до земли. А окружавший меня и мое мучительное беспокойство разреженный воздух казался настоящей стеной. Теперь мне трудно было выносить взгляды кого бы то ни было, и особенно Каролины и Мариазиньи. И даже уединение моей комнаты, где к моим услугам был весь мир, как и грубость Каролины, которая меня ужасно подавляла. А вот с Мариазиньей было иначе: мягкость ее лица соответствовала робости моей мечты, и оно отзывалось на мой зов и всегда оставалось чистым после всего того, что без всяких слов рождало мое бессовестное воображение.
И вот однажды со мной приключилась чрезвычайная неприятность, которая потрясла меня до крайности. Я с доной Эстефанией пошел в церковь на чтение молитв по третьему десятку четок, сеньор приор уже был на третьем чуде (очень хорошо помню, что этот день был посвящен славным чудесам), когда я вдруг почувствовал сильные боли в животе. Это были даже не боли, а, скорее, подкатывавшая и с каждой минутой усиливавшаяся тошнота. Как правило, со мной такое случалось, когда я долго стоял на коленях. На этот раз я был близок к обмороку. И хотя я присел на скамью, облегчения я не почувствовал. Видя все это, сеньор приор тут же отправил меня домой. Проходя мимо доны Эстефании, я объяснил ей, что со мной приключилось. Однако она явно усомнилась в истинности сказанного, но я, имея разрешение приора, незамедлительно вышел из церкви. Жоана, которая тоже пришла в церковь послушать о чудесах Всевышнего, увидев меня в моем состоянии, замахала мне рукой, желая помочь. Я замахал ей в ответ, давая понять, что ничего не нужно. Войдя в дом, я пошел по коридору, в конце которого, как я уже говорил, рядом с кухней находилась моя комната. И вот, когда я открыл дверь и луч света проник из коридора в комнату, я остолбенел, увидев ужасающую сцену: оглохшие от страсти Каролина и доктор не сразу услышали скрип двери и увидели мое присутствие, а когда услышали и увидели, то Каролина, оттолкнув доктора, села на кровати, стараясь сохранить равновесие и приводя себя в порядок. Я тут же захлопнул дверь и как оглашенный бросился бежать в ночной сад.
Темнота множила стоящие стеной деревья, которые, казалось, наступали на меня с ревом и мрачными лицами. Но я все время бежал, бежал, натыкаясь на клумбы и пугаясь самого себя, бежал до тех пор, пока не бросился на стоявшую у пруда скамью. И здесь, скрытый влажными тенями, дрожащий от душевных мук, остался сидеть до тех пор, пока меня не успокоил доносившийся с реки шум. Когда же я пришел в себя и обнаружил себя самого, лишенного даже своей печали, я испугался. В черном небе, точно знамение, шевелились ветви деревьев, вздувшаяся река, похожая на огромную змею, на глазах увеличивалась и беспокойно уползала. Беспомощный, я поднялся, огляделся и пошел к дому. Когда я появился на кухне, Каролина, стоя ко мне спиной, хладнокровно что-то мешала в кастрюле. Поразительно, но она не сбежала от стыда на край света и не набросила на шею веревку. А может, о Боже, может, жизнь, которую вокруг меня вели все, была иной и все, что в ней происходило, было для них простым и естественным? Робкий и ослепленный, я искоса взглянул на нее, на пышные формы ее бедер, легко колыхавшиеся, когда она чистила кастрюлю, и снова, не зная почему, почувствовал себя несчастным. У меня складывалось впечатление, что жизнь с самого начала надо мной глумилась, и я вдруг оказался в центре большого круга и увидел тянувшиеся ко мне миллионы рук, тянувшиеся и указывавшие на меня узловатыми пальцами. Я вошел в свою комнату и заперся изнутри. Горела керосиновая лампа, но фитиль был сильно прикручен. Я оставил ее горящей и лег на кровать. И тут же заметил, что перина все еще хранила формы тела Каролины. И тут вдруг присутствие греха, след которого еще хранила моя кровать и аромат которого плавал в комнате, и белизна тела Каролины, не шедшая у меня из памяти, лишили меня разума, и я услышал нетерпеливое ржание коней моей крови. Злая ярость с продолговатыми сомкнутыми глазами сдавила мое горло и с криком сбросила меня с неба на землю. И я застыл, стоя на коленях на моей кровати, ошеломленный падением, усталостью и тишиной.
И тут кто-то постучал в дверь, постучал трижды, отрывисто. Я соскочил с кровати и пошел открывать.
— Это так ты болеешь?
— Да, да, сеньора дона Эстефания, мне было плохо.
— Не ври! — закричала она, дрожа от злости и почти визжа. — Не ври! Совсем недавно я наведывалась к тебе в комнату, и тебя не было. Каролина! — крикнула она в ее сторону. — Где, как ты думаешь, был он?
— Я не знаю. Я видела, как он шел из сада…
Я метнул взгляд в Каролину. Но она с тем же спокойствием продолжала:
— Видела, шел из сада. А вот что он там делал, не знаю.
— Слышишь? — воскликнула сеньора, обращаясь ко мне. — Я не выношу лжи! Изволь знать: не выношу! Так ты был или не был в саду?
Я опустил свои уставшие глаза. Но в этот самый момент услышал за своей спиной голос доктора Алберто:
— Это я, мама, велел ему пойти в сад. Он жаловался на голову, и я сказал, чтобы он пошел в сад.
Дона Эстефания умолкла, испытывая неловкость, но тут же взглянула на сына и спросила:
— Тогда почему же ты не сказал мне об этом сразу, когда я тебе рассказала о случившемся в церкви?
— Потому что я не придал этому никакого значения. А теперь вот вижу, что зря. Но именно я сказал ему, чтобы он побыл на воздухе.
* * *
Несколько дней спустя я вернулся в семинарию. Но теперь я вез с собой целый воз демонов, которые мучили мою душу и тело. С опущенной головой, плечами и впалой грудью я, как никогда раньше, видел, что мир враждебен. Алчная худоба лица и всего моего иссохшего тела, казалось, постоянно кричала о моей внутренней тревоге. Любой обращенный на меня взгляд повергал меня в трепет, особенно женский. И не то чтобы меня волновал жар их тел, а скорее приводила в ужас их независимость. Я понимал, что любовь — это борьба, но понимал и то, что, будучи служителем Божьим, я не буду иметь права бороться. Внезапные порывы ярости иногда позволяли мне победить мое уныние. И, отдаваясь им, как наказанию, я чувствовал, что стоит только разжать кулак и я получу свою мечту — свободу. Однако силы покидали меня слишком быстро. И я впадал в усталость и ощущал себя на обочине дороги, говоря взглядом: прощай, жизнь. Так медленно все от меня отдалялось и покидало меня навсегда, но теперь меня пугала даже власть над самим собой, и я испытывал странное удовольствие не от завоевания жизни, а только от желания иметь это удовольствие. Ничто не доставляло мне радости: ни хлеб, который я ел, ни тепло моего тела, ни проклятия, которые обжигали мой рот. Поэтому я замкнулся в своем отречении, сел в грузовичок и сказал еще раз: прощай, деревня! Очень хорошо помню это четко очерченное холодное мартовское утро. Непрекращавшийся ветер выкристаллизовывал все вокруг, подметал песок на дороге. На ветвях голых деревьев уже проклевывались почки, ручейки звенели, как серебряные монеты холодной чеканки, стальная хитрость распускала все по нитке до очевидности. Хорошо помню это утро и то, как я, ощутив его ясность, вдруг, не знаю, как объяснить, почувствовал наконец, как легко и прекрасно быть живым. Между тем очень скоро все было смято глухим шумом колес машины. И снова я увидел себя одиноким, растворенным в долгом отсутствии. Неподвижность всего, что находилось внутри машины, за окнами которой быстро и непрерывно появлялись и исчезали деревья, дороги, жалкие домишки, что выскакивали на дорогу, создавала странное ощущение подвешенности во времени, которое испытываешь, находясь в темном лифте. И получалось так: что бы ни мелькало за окном машины, все уносило частичку моего внимания и оставляло меня пустым и растерянным. Толчея на коротких остановках на какой-то миг меня собирала. Но тут же, как только машина опять трогалась, я опять терял себя. И так до поворота на Селорико, где мной целиком завладели воспоминания о Гаме, который, казалось, вошел в машину, как это бывало раньше, и сел рядом. Крепкого телосложения, сумрачный Гама имел вид пленника. На нем все еще была семинаристская одежда, он ее, должно быть, донашивал, скорее всего именно так, и хотя галстук был красный или желтый, выглядел побежденным. Окруженный презрением и страхом, он чувствовал себя плохо и казался несчастным от обретенной им свободы, точно он ее не заслуживал. Мы долго разговаривали, с грустью перебирая прошлое, чувствуя себя по уши в грязи. Но потом машина стала брать подъем на Гуарду, и взгляд мой затерялся в больших пограничных горах, за которыми уже не было видно моей родной деревни. В этот самый момент и исчез из моих воспоминаний Гама. Однако я все же проделал тот же путь, как это бывало с Гамой: поел на станции и поздоровался с коллегами, когда сел в поезд. Однако никто не спросил меня о Гаме. Ни через год, ни позже, ни теперь. Никто никогда не вспомнил его храбрость. А между тем я уверен, что именно Гама назвал их жизнь не иначе, как тяжким крестом.
XV
Скоро летние вечера под вечным небом стали опять удлиняться. И даже такая малость принесла мне столько нового и прекрасного, что я почувствовал себя почти спокойно. Теперь ночь была короткой, издалека приходил аромат созидания новой жизни, а утра — светлые, вселявшие надежду. Очень хорошо помню рождение дня по ту сторону больших семинарских окон, возвещавшее начало утренних молитв и ощущение своей энергии в утренней свежести. Помню хорошо и спад летнего зноя и, наконец, покой после захода солнца.
Когда пришел май месяц, нами снова овладел странный подъем жизненных сил и стремление к свободе с присущим восторгом и нежностью. В маленьком семинарском дворе снова благоухали фиалки, окрестные поля оделись в цвет надежды, а с приходом сумерек в жарком воздухе чувствовалось эхо короткого летнего дня. Вечер посвящался поклонению месяцу Девы Марии с подношением ей цветов, огней и гимнов. Это поклонение было красивым, литературным, как и Рождество, елей которого мы частенько использовали в наших сочинениях. Помню так же ясно, как печалились мы, когда наступал последний день поклонения и мы читали молитву «Прощай». Ореол очарования, далекая нежность рассеивались в воздухе и исчезали. И мы ощущали себя одинокими на пустынной горе, с грустью прощавшимися не знаю с какой иллюзией, но мягкой и молчаливой.
Когда же приходила июньская жара, мы молились по четкам на открытом воздухе, встав по четверо в ряд и образовав длинную колонну где-нибудь под тонкими каштанами, где обычно проходили переменки, или на вершине холма, подставляя лицо вечернему ветру. День, задыхаясь от усталости, медленно клонился к вечеру. Больше всего мне нравилось молиться, стоя на горе и охватывая взглядом всю долину и белую наготу семинарского здания, одиноко стоящего там внизу. И мне казалось, не знаю, как сказать, что все во мне молилось совсем не небу, которое всегда одинаково далеко, а печали вечера, который приносил мне отчаяние. Мрачные каденции возносились столбом вверх, парили какое-то время и потом рассеивались ветром. Подхваченный ими, я, паря над большим пространством, как и звук колокола, который я уже не слышал, тоже рассеивался… Или поспешно, если вдруг в этот час внизу проходил поезд и давал веселый гудок, уходил с ним, держась за его руку, пока в очередной раз не возвращался перепуганный незнакомыми землями. Следом за мной неслись весомые и плотные молитвы, затмевавшие небо. А вверху, в небе, закрывались два умиротворенных глаза и две большие руки простирались над землей. И темнота спускалась на мир, как божественный дар. Тогда мы осеняли себя крестом и спускались с гор. Я искал глазами Гауденсио, но мы почти не беседовали, так как дневная усталость не позволяла нам даже открыть рта.
* * *
И вот один из летних дней нам предстояло провести на природе. Такой день распорядком предусматривался раз в году, что и делало его особенно желанным. Из стен семинарии мы возбужденные выходили рано утром, обедали на свежем воздухе и возвращались к ужину. И это было большой радостью, хоть и утомительной, но она нас очищала целиком и полностью.
И на этот раз мы, как обычно, отправились на рассвете и несколько часов шли пешком по дороге и горным тропинкам. Каждое отделение следовало своим путем к определенному часу и месту, где все мы должны были встретиться и пообедать. Естественно, я хорошо помню, какое удовольствие благодаря Таваресу я получил в тот день на свежем воздухе. Но и дорого заплатил за это полученное удовольствие, о чем и хочу рассказать. Но прежде несколько слов о самом Таваресе. Как я уже говорил, Таварес теперь сидел в зале для занятий рядом со мной, это после того, как на первом году обучения его пересадили на место Гауденсио. И хотя питать к нему отвращение я стал именно с этого дня, презирал я его уже давно. Помнится, как однажды Гауденсио вполне справедливо пожелал узнать, почему же я так не люблю Тавареса.
— Если он тебе никогда ничего не сделал плохого! — спросил он.
Да, не сделал. И все же мое отношение к нему было искренним и чистым. И презирал я его по определенным соображениям, но не знал, как объяснить.
— Он — выскочка, — коротко бросил я Гауденсио, сочтя, что это что-то объясняет.
Таварес был образцовым семинаристом, дисциплинированным дальше некуда. Среди образцовых семинаристов мы различали два типа: один — сухо пунктуальный, а другой, по выражению Гамы, — ханжеский или медовый. Первый подчинялся семинарскому распорядку по-военному. Вот отец Мартинс, похоже, был именно таким семинаристом. У таких жизнь и поведение заключены в строгие рамки, они, как правило, краснощекие и работают синхронно, как заведенные машины. А вот ханжи всегда держат голову чуть склоненной набок, обкусывают карандаши зубами, всегда бледны или белы, как ангелы или лилии. И естественно, почитают святого Луиса Гонзагу. И те, и другие одинаково фанатичны в отношении исполнения распорядка. Особенно (так я думаю сегодня) меня в Таваресе отталкивало то, что он был образцовым семинаристом без основания. Нет, я не считаю, что он был настоящим лицемером. Как и не думаю, что свои обязанности семинариста он осознавал больше, чем другие. Однако между его дисциплинированностью и доводами рассудка, к ней побуждавшими, была определенная дистанция. Он вроде бы был формалистом поведения. Думаю, что у него в роду был священник. И вполне возможно, что он постиг манеру поведения будущего священника гораздо раньше, чем мы. Других доводов, чтобы питать к нему отвращение, у меня не было. А вот то, что его поведение нас оскорбляет, и чересчур, я бесспорно чувствовал. Позже, когда его посадили со мной рядом, я его возненавидел еще больше, потому что его непреклонность сделала мою жизнь еще труднее. В действительности же в течение всего года Таварес ни разу не открыл рта, чтобы что-то сказать мне, и ничего не сделал, чтобы привлечь мое внимание к чему-либо.
Именно поэтому я и отомстил ему на прогулке. Таварес и ему подобные на переменках и отдыхе, как правило, чувствовали себя не в своей тарелке. Их царством была тишина и дисциплина. Вне тишины и дисциплины они терялись, так как техника радости не была ими освоена. (Спустя время эти образцовые семинаристы отработали и свое поведение на отдыхе.) Таварес и на этот раз шел, испытывая определенную неловкость и ни с кем не разговаривая, разве что иногда с Палмейро. Однако всеобщая радость была так велика, что превысила добродетель Тавареса. И тут отец Мартинс, похоже, ненавидевший Тавареса как соперника, решил пощекотать его:
— А почему мальчик не радуется, как другие дети?
Таварес, уязвленный, съежился.
— Я радуюсь, сеньор отец Мартинс.
— Тогда бегай и прыгай, как другие!
Таварес смутился и побежал так неуклюже, что на повороте у него упал пояс от блузы. Поскольку это увидел только я, я быстро поднял его и сунул в карман.
— А где пояс? — спросил отец Мартинс, всегда требовательный к опрятности в одежде.
В замешательстве Таварес ощупал блузу. Он не знал. Без сомнения, потерял. Между тем пояс на блузе был строго необходимой деталью одежды семинариста, так как не носил пояса в семинарии только обслуживающий персонал. А потому внешний вид Тавареса, развевающиеся полы его блузы если и шокировали нас, то совсем не из-за строгого соблюдения семинарского устава, а потому что он напоминал нам слугу. И все мы от души хохотали, уж очень у него был смешной вид. Никогда я не видел его таким бледным, с мукой в глазах, не знающим, куда деть руки, и одетым как слуга, который вот-вот начнет мыть посуду или чистить лошадь. И особенно потому, что он был вынужден быть таким. Похоже, именно поэтому и ради соблюдения приличия отец-надзиратель решительно приказал:
— Если вы потеряли пояс, то подвяжите блузу чем угодно.
Я же и дал Таваресу бечевку. И хотя не знал, что можно сделать с его поясом, все же сохранил его.
Спустя какое-то время, напрыгавшись, набегавшись и изголодавшись, мы расположились на участке под большими деревьями. Двое слуг сняли с повозки две большие кастрюли с едой, которая очень скоро нас успокоила. О нашей свободе вовсю стрекотали сверчки, а с голубого неба и верхушек деревьев слетал ветерок, принося нам свое теплое задушевное дыхание. Так отдыхали мы до тех пор, пока отец-надзиратель не приказал нам встать. И тут же на месте, где мы сидели, все пришло в движение и все вокруг огласилось нашими криками. Вот когда я вспомнил о поясе Тавареса и нашел ему применение. Незаметно булавкой я приколол пояс к его блузе. И тут же все семинаристы обнаружили неописуемо смешной, волочащийся по земле хвост Тавареса. Добродетель была поругана. Это было дьявольски злое и остроумное изобретение, очень напоминавшее пытки, описанные в трактатах о святых. Все это мы почувствовали сразу, но, не зная, что делать, разразились диким хохотом. Между тем отец Мартинс решил узнать имя автора насмешки и с выразительной серьезностью, хлопнув в ладоши, спросил:
— И у кого же был пояс?
Он задавал этот вопрос трижды. Но все молчали. Радость от совершенного мною поступка наполняла мою душу, и я был горд собой.
Вечером во время общей поверки совести на меня снизошло наказание: до меня долетел первый вопрос, произнесенный набожным семинаристом-чтецом.
— Как я прошел свою последнюю поверку совести?
Молчание. Опустив опиравшиеся на ладони рук головы, семинаристы устало думали. Я вспоминал прогулку на воздухе, дороги, по которым мы ходили, деревни, встречавшиеся нам на пути, и чувствовал счастливую усталость.
— С благочестием ли я молился? — настаивал все тот же вопрошавший голос.
Долгое молчание царило над двумястами головами семинаристов.
— Уважителен ли я был к старшим?
И опять тяжкая тишина. Вдруг в моей памяти всплыл образ Тавареса с хвостом. Это была жалкая фигура, печальная в своем новом качестве животного и согбенная, точно хвост был тяжелым. И вдруг порыв смеха свел мышцы моего живота, горла и щек. Я яростно стал бить себя за это глупое веселье, но, как ни старался, оно не отступало. И снова мое тело напряглось от подкатывавшего смеха. Я сжал зубы, обозвал себя идиотом, сообщил себе обо всех ожидавших меня наказаниях и ужасе. И приступ хохота вроде бы отступил, убоявшись моих угроз, и я надеялся, что успокоюсь.
И вот, когда я меньше всего ждал того, он снова начался, схватил меня за горло, и я стал задыхаться, как бык, бьющий копытом, и кусал язык, губы, красный от напряжения и ярости. И вдруг в самый острый момент борьбы с самим собой в полной тишине раздался взрыв моего сумасшедшего хохота (еще одно ужасное проявление моей жалкой натуры), он достиг потолка и пола. И хотя мне не хотелось верить в то, что он прозвучал, прозвучал он громко как внутри часовни, так и вне ее, и тут же со всех сторон послышались отрывистые смешки. И в то же мгновение в мое тело вроде бы вонзились ножи. И я почувствовал себя всеми покинутым, потому что каждый, стараясь развеять сомнения, говорил:
— Это он! Это он!
Боже жертвенный, это был я. Это был я, и не было мне прощения. Да я и не просил его. И готов был понести заслуженное наказание. Между тем, как только кончился молебен, отец-надзиратель пожелал узнать, кто смеялся.
— Он! — объявил Таборда, обрекая меня на казнь. И тут же все, в предвкушении казни, меня окружили.
— Это он! Это он!
Но отец-надзиратель, видя мое смущение и беззащитность, не наказал меня.
И мы разошлись по своим спальням. Однако я все еще видел своих коллег, которые продолжали смеяться и, разговаривая друг с другом, показывали на меня издали пальцами. Обвинения меня оглушали, позор повергал ниц. И снова я нутром почувствовал висящее надо мной проклятие. Отец Томас положил конец болтовне и усмешкам. Но все равно даже в полной тишине я слышал обвинявшие меня слова:
— Это он! Это он!
Уснул я только под утро. Следующий день я не играл и не шутил ни с кем. Ко мне подошел Гауденсио и сказал мне:
— Зачем ты придаешь всему этому такое значение?
Между тем, предлагая мне подумать о значительности того, что было значительно, сам Гауденсио был так же печален, как и я. Сколько еще всяких маленьких бед нас тогда одолевало! Ошибки при чтении, строгое замечание, сделанное громким голосом, грехи нашей грубой натуры… Но как сегодня я считаю: «В Риме будь римлянином», и это не правило, а неизбежность.
Два дня спустя я стоял у двери в уборную по большой нужде и вдруг увидел идущего прямо на меня Таборду. И вот мы оказались один на один. Тут жажда мести охватила меня. А уж когда он решил опередить меня и сделал шаг ко мне, я бросил ему в лицо:
— Христопродавец! Галисиец! Христопродавец!
— Послушай, ты, скажи только еще одно слово, и я тебе выбью все зубы, — заорал Таборда.
Я обезумел. Бросился к нему, преградил путь. Одной рукой схватил его, а другой стал бить кулаком. От неожиданности он почти не защищался. Наконец, получив удар в живот, Таборда согнулся от боли и жалобно заплакал. И тут замаячила фигура отца Лино, который возвращался с прогулки и медленно направлялся к нам. Я оставил Таборду и, замирая от страха, стал ждать своей участи. Отец Лино умерил шаг, но продолжал идти на нас угрожающе. У Таборды была разбита губа, кровила щека, и он не переставая плакал. Отец-надзиратель внимательно осмотрел его лицо. Я затаив дыхание ждал его дальнейших действий. Наконец он вынес приговор:
— Вы идете к сеньору отцу Томасу, чтобы он вам оказал медицинскую помощь. Что же касается вас, то мы еще поговорим.
И ушел. Появились семинаристы, которые с испугом посматривали то на разбитое лицо Таборды, то на мое — гневное, но уже в «наморднике». Я пошел в уборную и пробыл там бесконечно долго. У меня было такое чувство, что я оставлен и раем, и адом, и ни Бог, и ни дьявол не желали мне ни в чем помочь. Одиночество показалось мне таким огромным и таким необитаемым, что не шло ни в какое сравнение с одиночеством моих греховных кризисов. Я не был способен ни думать, ни искать какого-либо выхода из создавшегося положения, кроме как сидеть в уборной и не выходить оттуда или бежать и кончать жизнь самоубийством. Теперь мне, безмерно усталому, полному ненависти и презрения, было тошно от себя самого. Я посмотрел на свои испачканные кровью руки и испытал позыв к рвоте. У меня было такое чувство, будто я был одним из тех, кто смотрел на меня с отвращением. Возможно, именно поэтому я и не плакал. И, понимая, что от судьбы не уйти, вышел из своего укрытия и отдался в руки палача.
Когда я вошел в зал для занятий, то увидел во взгляде каждого огромное любопытство и ожидание. Ясно было, что меня здесь давно ждали, потому что Таборда, лицо которого было в кровоподтеках и зеленке, уже вернулся из медпункта. Но именно его-то я тогда и не увидел. А увидел двести пар глаз, встревоженно на меня глядевших. Отец Алвес был на кафедре и тоже смотрел на меня с мучительным беспокойством. И тут, когда я уже направился к своему месту, я чуть было ни столкнулся с идущим ко мне отцом Лино и понял, что он ждал меня здесь с момента случившегося. Но поскольку он ничего не говорил мне, я отступил, давая ему дорогу. Но он остановился прямо передо мной. И гнусавым голосом, чеканя слоги, громко сказал:
— Идите в мою комнату за палматорией[14].
Отрешенный от всего происходившего, я вышел из зала и таким себя почувствовал усталым, что темнота коридоров показалась мне большой лаской. Шел я медленно и вспоминал прошлое, точно постарел в одно мгновение. Потом образ отца Лино стал подгонять меня и стер все воспоминания. Однако все же я вспомнил, как называли этого человека: наполовину служитель Бога, а наполовину служитель ведьм и дьявола. Рассказывали, что отец Лино очень часто днем, а то и ночью пускался по дорогам в горы, чтобы побродить в одиночестве. Жил он замкнуто, испытывая приступы острой и мрачной ярости. Маленький и белый, сухой от желчи и печали, он зверски наказывал нас, похоже, получая от этого порочное удовольствие. Со святостью во грехе он, следуя своей несладкой судьбе, никогда не смеялся и очень редко разговаривал. Но всегда стоял за суровую дисциплину во всем, и все мы чувствовали, что в каждой его косточке, в каждом нервном волокне тек холод яда. И все же этого странного человека мы не понимали и ждали, что будем отмщенными, поскольку знали все истории, связанные с отцом Лино. Мы даже знали, что в далеком прошлом в семинарии был один храбрый семинарист, который сумел не только противостоять отцу Лино, но и подчинить его себе. Только вот когда это было? И какой семинарист? Мы не знали. Но на какие только мифы не подвигала нашу фантазию наша боль?! Поэтому, идя по коридору, я думал о воображаемом герое, который мог бы отомстить за всех нас этой чуме…
Комната отца Лино находилась при спальне первого отделения. Дверь, когда я подошел к ней, была приоткрыта. Однако войдя, я ее закрыл, точно боясь шедшего за мной преследователя, и хотел побыть один какое-то время в этот тихий вечер, который я видел за окном. Косые лучи заходящего солнца освещали кроны деревьев, росших в саду, и вершины холмов, хранящих молчание. В свежем, чуть колышимом ветром воздухе к распахнутому небу неслись удары бочара. Глядя на все это и слушая, я замер перед окном, вознося безнадежную молитву. Потом взял палматорию и спустился вниз. Всеобщее беспокойство зала было вызвано беспокойством отца Лино, который с нетерпением поджидал меня у двери, прямой, маленький, белокурый и голубой, как преступная чистота. Не отводя от меня глаз, он взял из моих рук палматорию и приказал мне занять место в центре пустовавшего пространства, чтобы все могли получить удовольствие от спектакля. Я взглянул на отца Алвеса. Отец Алвес стоял на кафедре бледный и неподвижный. И отец Лино начал:
— Знаете ли вы, почему будете наказаны?
— Да, сеньор отец Лино, знаю.
— Объявите о своем поступке во всеуслышание.
— Я побил Таборду.
— Почему?
— Потому…
— Отвечайте, — настаивал отец Лино своим режущим, как нож, голосом.
— Потому, что я назвал его христопродавцем, а он ответил, что выбьет мне зубы.
— Таборда, — вызвал его отец Лино.
Таборда поднялся и подошел к нам. И сказал:
— Я ничего ему не говорил. Он назвал меня христопродавцем и начал бить.
Я запротестовал. Но как доказать? И умолк.
— Просите прощения, — приказал отец Лино холодно.
Это было слишком. Я стоял и молчал.
— Просите прощения!
— Простите, сеньор отец Лино.
— На колени!
Никакой другой возможности у меня не было. И я встал на колени и попросил прощения.
— Можете встать.
Он повернулся к Таборде:
— Можете сесть.
Я стоял один. Один, никого кругом. Отец Лино приготовил палматорию.
— Вытяните руку.
И я подумал: «Он же будет изо всех сил бить по моим рукам во имя Господа!» Но я достаточно силен, чтобы выстоять. И вытянул руку.
— Ближе.
Я сделал то, что он требовал. В зале стояла гробовая тишина. Кто-то, насвистывая, прошел мимо окна. Солнце, прощаясь, медленно спускалось с неба. Все находилось на своих местах. Отец Лино освободил руку и принял удобное положение. С уверенностью он поднял вверх палматорию и, чуть повернув ее, с силой нанес первый удар. Огонь тут же обжег мои пальцы, и я почувствовал, что кисть руки разбита. Но тут боль поползла к плечу. Однако прежде, чем я ощутил ее в полную силу, палматория вновь обожгла мою руку. Эхо вторило ее жестким ударам. Теперь мне показалось, что новая вспыхнувшая боль была более сильной, когда палматория вторично опустилась на руку.
— Другую руку!
Я не закрывал глаз, похоже, благодаря неведомой мне доныне внутренней силе, и даже не заплакал. И протянул вторую. Рукав сутаны отца Лино от наносимых рукой ударов упал. Он отбросил его и снова поднял вверх палматорию. Моя правая рука возвращалась к жизни, но была тяжелой и болела. И тут же сухой удар палматории разбил мою левую руку. Один за другим следовавшие удары только подчеркивали царившую тишину. Вокруг не было никого: только я и моя боль. Острая боль начала было подниматься вверх к левому плечу, когда новый удар обжег кисть снова. «Можешь бить меня, святой отец, сколько захочешь. Я выдержу. Бей, бей! Еще раз бей». И он бил. Наконец устал. Тут я взглянул на отца Алвеса. Стоя на кафедре, он был бледен как смерть.
— Час на коленях, — приказал отец Лино.
Я опустился на колени. Руки мои повисли, как плети. И так целый час я был предметом насмешек со стороны своих коллег и себя самого. Потом спустя какое-то время все обо мне забыли и, сидя за партами, листали свои книги. И все же время от времени я ловил на себе молчаливый и сострадательный взгляд отца Алвеса.
XVI
Через несколько дней у нас был экзамен. Я готовился к нему, как мог тщательно, не преследуя никакой цели. Усталость от всего отвращала меня от жизни, и даже с Гауденсио я разговаривал очень редко. Однако мой уход в себя снова привлек внимание отцов-надзирателей, и я вынужден был вести себя разумно. Потому что самым желанным грехом, как и самым преследуемым в семинарии, как я уже говорил, был грех одиночества. И как только один из нас отдалялся от всех остальных и уходил в себя, бдительность святых отцов тут же себя обнаруживала и они прилагали все усилия, чтобы вернуть нас обществу себе подобных. Старшим хорошо было известно, что давление извне загоняет нас каждого в глубь себя. Как и известно то, что открытие нас самих себе самим было чудесным открытием нашей силы, о которой мы и не подозревали, силы и свободы. Здесь, в нашей личной свободе, никакие мечты не отрицали зова нашей судьбы. Потому-то нас оттуда и изгоняли. Но возникала опасность, что, будучи изгнанными, мы, объединив свои, сообщенные друг другу свободы, окажемся еще сильнее. Так нас вынуждали интегрироваться в геометрическую солидарность, шумную и внешне декоративную, как изразцы. Но как бы то ни было, время от времени тайно я продолжал общаться с Гауденсио. Я ему верил, верил без каких-либо заверений, и вера эта была более подлинной и искренней, чем наш детский наивный взгляд. Поэтому как-то на вечерней переменке я сказал ему:
— Гауденсио, теперь, после больших каникул, что бы ни случилось, я покину семинарию.
— Я тоже, — поспешил меня заверить Гауденсио, волнуясь.
— И очень может быть, что не приеду на «Retiro»[15]. B середине каникул, если, конечно, не будет настаивать мать.
Тут Гауденсио вдруг посмотрел на меня серьезно и спросил:
— Тогда почему же ты, если собираешься оставить семинарию, так старательно учишься и хорошо ведешь себя?
Я не знал. Но ощущал какое-то новое спокойствие, как некую конечную истину. И мне казалось, что если я не буду вести себя хорошо, то вызову гнев Божий, который, похоже, согласен с моим решением. Вот потому-то я тщательно готовился к экзаменам, зная, что потом, потом все будет хорошо и навсегда. Я приеду домой и скажу матери:
— Мама, я не хочу быть священником.
Она, возможно, засмеется и, радостно всплеснув руками, скажет:
— Смотрите-ка, он не хочет быть священником! Но, если ты не хочешь быть священником, сын, оставайся дома.
Я тут же сниму черный галстук, стану ходить в рубашке, валяться, как животное, на земле, наслаждаясь своей свободой.
Несколько дней спустя все экзамены были сданы. Однако отъезд на каникулы на этот раз был для меня необычным. Семинаристы уезжали на каникулы не все сразу, а группами, по мере того, как сдавали экзамены. Я уехал одним из первых. Передо мной уехал Таварес, у которого было двенадцать по латыни и географии, одиннадцать по португальскому, потом Таборда, у которого было одиннадцать по всем трем предметам, и Палмейра, у которого одиннадцать по португальскому и географии, а латынь была перенесена на более поздний срок.
И вот ранним утром я отправился к себе в деревню, а Гауденсио остался. Очень хорошо помню это свободное и прекрасное утро, встававшее над Гуардой и горной цепью Ковильяна. Проводить нас, меня и нескольких семинаристов из другого отделения, вышел один из священников. Какое-то время он смотрел нам вслед. Однако очень скоро поворот дороги освободил нас от соглядатая. И опять я почувствовал чрезмерный прилив сил, словно вдруг оказался богатым и не знал, что делать со своим богатством. Поскольку шедшие со мной семинаристы были из другого отделения и я не знал их, то оказался один и сам себе хозяин, и получалось, что я вроде бы и с семинарией, и без нее, а потому более свободный. Дорога, по которой я столько раз ходил в строгом семинарском строю, теперь под моими свободными ногами бежала мне навстречу, как близкий и заждавшийся меня друг. Я посмотрел на встречавшие меня по-братски деревья. Остановился около одного, пробежал по его морщинистой коре взглядом и был взволнован, почувствовав его близким моей судьбе и судьбе деревьев моей далекой земли. Утро медленно раскрывало веер солнечного света по всему горизонту, поглядывая на мир с необозримой высоты неба. Огромная триумфальная арка поднималась от края и до края, и я, молчаливый и удостоенный этой чести, проходил под этим готовым обрушиться сводом. По стечению обстоятельств никто из семинаристов в поезд со мной не сел. Поэтому мне показалось, что все движение на станции было из-за меня, и это меня смущало. Но в вагоне третьего класса ехала группа крестьян с открытыми корзинами на коленях, из которых они доставали еду и ели. И я нашел себе прибежище в укромном углу около окна и сел там. А вечером, уже на машине добрался до своей деревни.
Первые два дня, имея за плечами два семинарских года и сданные экзамены, я чувствовал свою значительность и даже как бы ею кичился. Дона Эстефания вела себя со мной вполне корректно, дети ее улыбались мне и разговаривали со мной с опаской, а мои родные смотрели на меня с умилением. И по всему этому мне казалось, что новизна моего появления и мое недолгое здесь присутствие давали мне право держаться с достоинством. Однако очень скоро все пошло по-старому, и я снова почувствовал себя одиноким и обиженным. Мариазинья вновь спрашивала меня, когда же я буду служить мессу, сеньор капитан посылал отнести на почту письма, а дядя Горра опять принялся причитать по поводу того, что, будучи священником, я не смогу иметь женщину. Однако больше всего меня мучила жестокость доктора Алберто, который вскоре тоже приехал на каникулы. Помню, как, ожидая его прибытия, все мы спустились вниз и ждали его у двери. Из повозки он вышел с обычным утомленным видом, косящим и стреляющим по сторонам глазом, и желтыми порочными руками. Поцеловал родителей, сестру и братьев, а увидев меня, поднял вверх палец и бросил:
— Привет, отец.
Дона Эстефания мягко улыбнулась шутке, а я покраснел.
Теперь в долгие августовские сиесты доктор Алберто призывал меня часто в свою комнату и, вытягиваясь на кровати, принимался со мною беседовать. Несколько раз предлагал мне вопрос для обдумывания и почти тут же засыпал. В основном ему нравилось со мной беседовать о церкви и священниках, которых я всегда с жаром защищал. А когда он пресыщался всем этим, то закуривал сигару и хрипло говорил, почти приказывая:
— Все. Поди поразмысли хорошенько.
И я уходил, не сказав ни слова. Но это не досаждало мне, так как доктор всегда обращался со мной бесцеремонно.
Однако чуть позже, по мере того как им завладевала скука, он, зная, что мои возможности отвечать на его вопросы исчерпаны, принимался надо мной издеваться:
— А вот что бы ты сделал, если бы нашел в своей комнате Каролину?
Ярость поднималась во мне, и грубость просилась на язык: «Взял бы!» Однако муть в голове и смятение чувств меня охватывали всего целиком, и я уходил из его комнаты. Чувствуя себя во власти всех и каждого, я считал себя побежденным насмешками и несправедливостью. Свойственный мне страх зажимал меня, а отвращение ко всему отравляло душу. С тайной злобой и полным яда стеклянным взглядом доктор Алберто радостно подшучивал надо мной:
— Тут говорят, что ты стреляешь за девицами. Они как-нибудь донесут на тебя епископу.
«Я убью его! Убью!» Мертвенно-бледный, я чувствовал, что истерзан и сгораю в пламени, которое сжигает каждый мой нерв… И холодно отвечал:
— Сеньор доктор, оставьте меня!
И вот однажды вечером я пошел к своим и говорил с матерью. Я хотел покончить разом со всем и обрести силу, которую у меня украли.
— Мама! Я не вернусь в семинарию!
В доме, кроме нас с матерью, никого не было. Дядя Горра по делам уехал из деревни, братья были на работе или где-то еще. Вечер стоял теплый, обласканная теплом земля бесшумно бурлила. Услышав сказанное, мать замерла и не произносила ни слова, масса ее тела как бы окаменела. Похоже, ее поразили не только слова, но и я сам, она явно испытывала передо мной робость. И, покорная, но с большой внутренней силой этой покорности, она заговорила со мной о голоде своих снов, как о величии Бога:
— Послушай, сын, однажды твой отец стал говорить о будущем твоих братьев. И сказал: «Парни есть парни, они в жизни пристроятся, а вот их сестры…» Он так никогда не говорил, но болезнь его, видать, оглупила. Потом он умер. И тут на днях твой дядя тоже сказал: «Когда Антонио станет священником, сестры, что помоложе, смогут быть при нем». Я никогда о том не думала, а услышала и обрадовалась, так обрадовалась! Почему же ты теперь не хочешь быть священником? Ты же все время писал, что ты всем доволен…
В раскрытые окна я видел скрученные от ярости злаковые поля, несшие на своем хребте проклятие жары. Огромный глаз смотрел на них с неба, смотрел не мигая, тишина вибрировала, как натянутая струна. Мать говорила, и от каждого ее слова, похожего на погребальную ласку, меня бросало в пот. У меня болело все тело, затылок пылал от жара.
— Почему ты не хочешь возвращаться в семинарию?
Я попытался объяснить, но мать заговорила еще тверже, затыкая мне рот. И я умолк.
— Что ты знаешь о жизни? — продолжала она, воодушевленная моим молчанием. — Всю свою жизнь я была голодной рабочей сукой. И если бы ты стал священником, я бы имела счастливую старость. А твоим братьям и сестрам было бы на кого положиться. Я не хочу об этом думать, но приходится. А что теперь?
И снова мой взгляд устремился к окну, мой мозг пульсировал.
— Я же вижу, вижу, что это хорошая судьба, — продолжала мать избивать меня словами, пользуясь моим молчанием. — Теперь вот и у Борральо сын — священник! И зимой он может есть сыр! Общаться со святошами. Я уже думала, что и я, что и меня ждет…
— Но ведь священником становится тот, у кого к тому призвание.
— Что это ты говоришь? Не говори мне по-латыни, я ее не понимаю.
Рогатая ярость разрывала мой живот на части. Бледный и измученный разговором, я позволил богохульству сорваться с языка:
— Я хочу быть мужчиной! Хочу иметь женщину!
— Ну так найди ее! — тут же сказала мать.
Ошеломленный, я замолчал. И мать, подумав о том, что сказала, замолчала тоже. Залетевшая было в окно муха отвлекла на какое-то время наше внимание своим жужжанием. Мы помолчали, сидя друг подле друга, оставаясь каждый при своем мнении с печальной уверенностью, что проблема не имеет решения. Я посмотрел на уставшую от волнения мать, на ее прямой молящий взгляд, и все это вызвало у меня одно единственное желание — умереть. И долгое время черная птица, махая своими крылами, летала вокруг нас, пытаясь нас примерить. Лицо моей матери выражало такую горечь, такое немое отчаяние. Тогда, переполненный состраданием, я подошел к ней, обнял и заплакал на ее плече. И все мое существо, не произнося ни слова, кричало: «О Боже! Как же я несчастен!»
— Ладно, — прошептала мать, притянув мою голову. — Иди-ка ты с Богом к сеньоре. Послушай, может, там что придумают.
Я ушел. Шум работ на полях, теперь уже оставленных солнцем, слышался на многие километры. Дующий с неба и с горы свободный ветер поднимался из глубины времен, кружил вихрем в небесной лазури и замирал где-то там, откуда должна была прийти ночь. Потерянный, я долго смотрел на вздымавшуюся гору с жадной и суровой любовью, как маленький загнанный зверь… Как никогда прежде плохо соображавший от усталости и оцепенения, я поднялся на самую высокую скалу и там в полном одиночестве простоял, открытый ночи и тишине, не помню сколько времени.
Итак, все для меня кончилось. А потому, когда пробил час Retiro, я поехал на встречу с коллегами. И теперь в группе семинаристов, которая пополнялась по дороге, печальным был только я один. Ведь Retiro было рассчитано на три дня — три дня молитв и спокойствия. А после семидесяти двух часов, отданных благочестивым упражнениям, каникулы продолжались, и все возвращались в свои дома наслаждаться сентябрьским покоем. И таким образом короткое жертвоприношение лишь увеличивало удовольствие, которое ждало всех по возвращении домой. Не ждало оно только меня. Да, да, я, как и все, возвращался домой на каникулы, но никогда к миру и надежде или хотя бы к мятежу в моей душе. Для меня все было утрачено, и я, уже будучи в вагоне, все время думал: пусть придет смерть, или пусть я буду в семинарии пленником, или отец Лино отобьет мне обе руки — мне все равно. А Гауденсио? — неожиданно вспомнил я. Кто победит у него: он или мать? И тут, спрыгнув с поезда, я увидел Гауденсио, протягивающего мне руку:
— Ну как каникулы?
— Гауденсио! Так ты…
И мы оба почувствовали облегчение и, возможно, оба молча, из трусости обвиняли друг друга. Я рассчитывал на храбрость своего друга, чтобы мучить себя самого ее отсутствием, он, без сомнения, на то же самое во мне. Однако мы оба оказались беззащитными и побежденными и теперь пытались найти друг друга в печальном взгляде, которым обменивались. Я не хотел знать, как произошло с ним это несчастье, как и он не спросил меня о моем. Примкнув к остальным семинаристам, мы один подле другого зашагали вперед по дороге в жаркую ночь.
XVII
Три дня прошли в беспрерывных молитвах, долгих часах молчания под сенью каштанов или в зале, общих исповедях, причастиях, благочестивых проповедях. Наконец, мука кончилась, из наших уст вырвался крик свободы, и мы вернулись к каникулам. Так, постепенно я, истерзанный установленным в семинарии порядком, привык к принятой здесь манере поведения. Сентябрь и его покой промчались галопом. Теперь деревня стояла в золотом уборе, а налетавший время от времени холодный ветерок уже свидетельствовал о набегах зимы. И вот одним сумрачным утром я опять отбыл в семинарию. И пожалуй, первый раз за эти годы мне показалось, что никто не обратил внимания на мой отъезд, потому что всем это было безразлично, точно я давно умер. Я сел в машину до Гуарды, в Гуарде в поезд и, наконец, вышел у Белой крепости, где поджидала нас ночь. В первый же день мы тайно подсчитали количество семинаристов, не вернувшихся в семинарию после каникул: Пирес из второго отделения, Соарес и Фернандо из первого и братья Са — из третьего. Потом все началось снова.
Теперь я был во втором отделении, как и Гауденсио. И поскольку мне поддержки было ждать неоткуда, чтобы противостоять своей судьбе, я решил работать в полном согласии с уставом. Менялся я постепенно, автоматически следуя дисциплине, и мои отметки по поведению поползли вверх, сделав меня примерным семинаристом. Начались занятия в аудиториях, подул ветер и пошел дождь, опять завыли собаки. Совсем скоро сбросили листву каштаны и удлинилась за счет утренних и вечерних часов ночь. Грязь покрыла дороги и семинарский двор, декабрьские ветры принесли заморозки, а потом время остановило свой бег. Последовали дни за днями и месяцы за месяцами, набегая один за другим, и я стал участником всего происходившего, но в то же время выросшим, как дерево на краю дороги. Много воды утекло с тех пор, и я определенно изменился, но в чем, сказать трудно. Припоминаю, как одно время все мы загорелись странным желанием носить очки и, как рассказывали, Палмейро носил их даже на каникулах, но не потому, что плохо видел, а из желания плохо видеть, чтобы в дальнейшем в них была потребность, что реально и случилось. Вспоминаю «Литературные конкурсы», которые проводились еженедельно и на которых декламировались стихи, а старшие семинаристы читали доклады по истории, объявляя их перед началом: «По документам золотых страниц нашей истории». Вспоминаю, с каким старанием Палмейро переписывал из словаря трудные слова, согласно понятию отца Томаса, чтобы лучше выучить, как они пишутся, вспоминаю и прически, которые разрешалось носить: под ежика или на косой пробор с зачесом на правую сторону. Вспоминаю и недозволенные разговоры о пороке одиночества, и невероятные истории, которые рассказывал Карвальо, полнокровный и импульсивный, грехи которого были почти «простительными», и легенду об одном Себастьяне, который во время поездок в Лиссабон познавал женщин во плоти.
Так я прожил год, пережив безумие, грустную мечту и тайное преступление. Прожил, вылепив себя смиренным, увидел себя отстраненным и от себя самого, и от жизни, которой не имел. Но в долгой дружбе с Гауденсио я все-таки чувствовал, что что-то человеческое во мне осталось. Настойчиво, но спокойно Гауденсио время от времени рассказывал мне о его земле, скромной профессии его отца и своих надеждах, когда станет взрослым.
— Клянусь, Лопес, что, когда подрасту, даже если мать будет против, уйду из семинарии, сбегу. У меня в Лиссабоне живет дядя, и он меня приглашает к себе: «Можешь приехать, когда захочешь». Он очень нас любит. Одна моя сестра живет у него почти постоянно.
Я слушал его, но как в это поверить? У меня уже не было никакой надежды и никакого желания. Да и никакой любящей души.
В другой раз Гауденсио рассказывал что-нибудь о священниках, а одним летним вечером, когда мы поднимались на холм, остановился и спросил меня:
— А ты никогда не думал: «А что, если Бога не существует?»
Я ничего не ответил, но посмотрел на Гауденсио с ужасом. Я мог понять все: недостатки семинарского устава, возможность интимного греха и даже разговоры, порочащие священников. Однако усомниться в существовании Бога мне казалось куда большим чудом, чем поверить в Его существование. В действительности же ужас заключался совсем не в том, что это было сказано Гауденсио, а в том, что вполне могло быть сказано и мной. Ведь эта мысль приходила мне в голову неоднократно. Это было явно искушение, и, дрожа от страха, я боролся с ним, как мог. Ведь если Бог не существует… Я тогда еще не представлял всех последствий, которые могли обрушиться на мир, лишенный божества. Но явно чувствовал, что вся сложная машина, которая обрабатывала мое детство, за которым Бог следил своим неусыпным оком, рухнула бы сама собой. И усомниться в существовании Бога значило нанести чрезмерное оскорбление, равносильное несостоявшемуся заговору убить правителя. И Гауденсио безумно храбр, потому что если храбрость не измеряется силой, то измеряется страхом, который придает силу, а Бог — это чистый ужас. Поэтому я смотрел на своего друга ослепленный и дрожащий от страха.
— Что такое ты говоришь?
Он, похоже, испугался тоже, но совсем не потому, что сказал, а потому, что увидел меня испуганным. Но я боялся за него, поскольку предчувствовал в тот великий летний вечер нависшую над нами обоими страшную и неотвратимую угрозу божественного гнева. Гауденсио пытался подбодрить меня:
— Не пугайся. Я же не сказал, что Бога нет. Я сказал только: «А что, если Бога не существует?» Ничего в этих словах плохого нет.
Но я боялся, или мне это казалось. И не отделался от страха ни на следующий, ни во все последовавшие дни. И тогда Гауденсио сказал мне:
— Извини меня за мою откровенность.
Вернулись экзамены, каникулы, насмешки моей деревни, казнившей меня каждый приезд. Вернулось все, и я во всем, что связывало меня с жизнью, увидел обычную истину: все было, как должно было быть. На эти каникулы Гауденсио не поехал и я тоже, так как утраченное детство вернуть было невозможно.
Опять было Retiro, опять был тихий сентябрь и октябрь. Потом пришла зима. В эту зиму одна из двух огромных собак сдохла, попав под машину, а всегда напивавшийся слуга Раваско, весь грязный и замерзший, был найден мертвым на дороге. И кроме всего этого и дружбы Гауденсио, которая меня поддерживала в моем несчастье, не было ничего, что бы мне еще запомнилось.
Но пришло и другое время. И снова я пережил удар судьбы. Однако кроме отчаяния он принес мне и храбрость, которой у меня не было раньше, чтобы покончить со всем сразу. И на следующих каникулах, как я расскажу дальше, дрожа от гнева и радости, я поступил как настоящий мужчина и ушел из семинарии.
XVIII
Сухой февральский ветер всегда приносил в семинарию болезни и дурные предзнаменования. Это был свистящий и опасный ветер, поднимавший дыбом волосы, шумный, насмешливый и частенько дувший при солнце, но пронизывавший насквозь до костей. Помню хорошо его вцеплявшиеся в тебя железные когти, его четкое присутствие, чистое до голубизны, резкое, колючее. Белый и острый в заморозки, он был изощренно коварен, проникая в любую щель длинных коридоров и залов.
Таким образом, когда в тот год среди семинаристов начался грипп, никто не удивился. Но однажды на занятиях по португальскому языку отец Томас спросил:
— Сколько человек отсутствует?
Мы принялись считать. Отсутствовало десять. И в изумлении переглянулись, поняв только сейчас, что десять больных из тридцати, которые должны были присутствовать в аудитории, это уже много. Однако позже в зале для занятий мы заметили, что пустуют парты во всех отделениях. Между тем вскоре заболело еще несколько семинаристов. Я видел, как, заболевая, они уходили из зала, и ждал своей очереди. Потому что быть больным, даже принимая слабительное, было счастьем: ты не шел ни на молитвы, ни в аудитории, весь день разговаривал со своими соседями, ел после приема слабительного все то, что ели надзиратели, и выздоравливал. Однако я был крепкого телосложения и, похоже, ждал напрасно.
— Сколько отсутствует сегодня?
— Тринадцать.
Заболели Фабиан, Валерио, Гауденсио. Теперь отцы-надзиратели забили тревогу. И действительно, через восемь, девять дней заболело два десятка семинаристов. Все в изоляторе не помещались, и многие заболевшие оставались в спальнях. Строгий семинарский устав смягчился: уроки шли не всегда, разговаривали везде и всюду. Мои коллеги по залу для занятий заболели все, в столовой тоже было много пустующих мест, слуги ходили по коридорам, разнося бульоны и лекарства. При первых симптомах лихорадки отцы-надзиратели ослабляли вожжи науки и отправляли нас в кровати. Я, всегда стойкий к холоду и болезням, начинал впадать в отчаяние. Зависть ко всем болеющим была во мне столь сильна, что как-то утром я пожаловался на недомогание.
— Идите в кровать немедленно.
Я пошел. Эпидемия продолжалась. Что ни час, вокруг меня больными занимались все новые и новые койки, и, похоже, не оставалось другого средства, как закрыть семинарию. И тут я тяжко раскаялся, что сказал отцам неправду, потому что лежание в кровати среди больных и запах болезни сделали свое дело и я действительно почувствовал себя плохо. И вот как-то утром первые выздоровевшие семинаристы отбыли домой. Теперь в семинарии оставались лишь те, кто продолжал болеть, и в огромных помещениях было пусто и ужасно, как никогда. Скоро к остававшимся в семинарии больным приехали родственники, привезя на машинах то, что было возможно. Поскольку мое состояние тяжелым не было, меня очень скоро оставили без внимания. А поэтому я наблюдал за всем, что происходило вокруг, с праздным интересом. К тому же долгое лежание в кровати лишило меня сна, что вынуждало меня вслушиваться в завывание ветра и в фантастическое движение в семинарии, которое не прекращалось ни днем, ни ночью. Встревоженные сообщениями об эпидемии родственники прибывали из отдаленных районов где-то на рассвете и громко стучали во все двери. Дежурный надзиратель в накинутом на плечи одеяле шел открывать дверь. Другие надзиратели и слуги ухаживали за все время стонущими тяжелобольными. Между тем поправлявшиеся семинаристы говорили всем и всему вокруг «прощай», и уезжали домой. Я тоже чувствовал себя лучше, но дона Эстефания мне не писала, а у меня не было денег на дорогу. Скоро в семинарии остались только тяжелобольные да тени, бродившие в пустых залах. Две лампадки, стоящие по углам спальни, казалось сосредоточенно молились, возвещая смерть. Удушливая тишина, отягощенная запахом пота, наполняла длинный зал, поднималась вверх к потолку по колоннам. Пугаясь теней, я тревожно вслушивался в ночные шумы, в тяжелое дыхание болезни, в шаги в коридоре, в дребезжание от ветра оконных стекол… И подолгу ждал, что вернется утро и заглянет в высокие и пустые окна. И наконец оно вернулось, медленно отпугивая ночь, рассеивая свет лампадок и заполняя все своим светом. Гауденсио лежал на кровати, стоящей прямо напротив со стороны умывальников. И когда пришло утро, мы помахали друг другу.
Однако на другое утро ему стало хуже. Я поднял руку и помахал ему, но он только смотрел на меня и все.
— Тебе хуже? — спросил я.
Он покачал головой. Потом начался день, длинная тусклая череда часов, гулких, как эхо в гроте. Поскольку меня не лихорадило, отец Томас приказал мне:
— Вставайте, вставайте, сеньор! Вы, похоже, не без лени.
Приказ меня не огорчил. Я встал, подошел к Гауденсио, который тяжело дышал, лежа с закрытыми глазами. И подумал: «Ему плохо, о, Господи, ему очень плохо». Потом побродил по коридорам и залам со странным чувством гостя и забыл страхи прошедшего дня. Устав семинарии не действовал, всем правила суматоха персонала вокруг тяжелобольных. Я поел в спальне, один постоял в часовне, даже постоял у окна и посмотрел на проходившую мимо дорогу и лежавшие вокруг поля, чего нам никогда прежде не разрешалось делать. И под вечер, когда возвращался в спальню, столкнулся с бегущими в тревоге слугами и отцами-надзирателями. Огляделся, чтобы понять происходящее. И понял тогда, когда увидел кровать Гауденсио пустой.
Потом, когда суматоха и переполох улеглись, спальня и коридоры были пусты и немы, точно после ограбления, со всех сторон стала наступать ночь и тишина дома показалась мне особенно глубокой. Я встал с кровати и один, согбенный и беспокойный, пошел посмотреть залы. Нигде никого не было — пусто, как никогда. В спальне третьего отделения пламя двух ацетиленовых горелок слабо освещало эту тишину. Я проследовал дальше мелкими шажками. Но ни одной тени не появилось ни в коридоре, ведущем к лестнице, ни в молельню. Разве что на всех углах горели горелки на стеклянных подставках. И вдруг, затерянный среди теней, я вздрогнул от страха и остановился. Яростно вслушивался я в самые далекие шумы. Но слышал только удары своего сердца. Темная масса ночи наполняла все вокруг, сосредоточивалась под потолком. Снаружи возле ограды завыла собака, и холодный ужас заставил меня спрятать лицо в своих изможденных руках. Я побежал к полуоткрытой двери в молельню и заглянул внутрь. Никого. Только вверху трепетало пламя зажженной лампады. И неожиданно подумал: «Если Гауденсио плохо, о Господи, яви свое могущество и спаси его». Но тут же испугался, нет, не брошенного вызова Богу, а того, что этот вызов может сказаться на болезни друга. И, погрузившись в ужас и одиночество, замер, не зная, что делать, и стал смотреть в окно на утопавшую в темноте изгородь, лес, гору, холодное небо, утыканное звездами. Чистая гармония смерти оплетала ночь железными нитями, объединяя все вокруг плотной сетью. А вдалеке возникали одетые туманом белые призраки, которые с восторгом присутствовали при исполнении судьбы. Пещерный холод сковал мне кости, глубокое забвение сплавило меня с неподвижно лучившейся смертью, и все во мне замерло. Но резкий шум вернул меня к действительности. Я вышел через верхнюю дверь и дошел до конца коридора. Язычок пламени лампадки потрескивал. Здесь начиналась другая спальня, отделенная от коридора фанерой. Стоя, я вглядывался в этот извилистый коридор, который вел к медицинскому пункту, где я надеялся что-нибудь узнать о Гауденсио. Но и здесь, как во всем доме, стояла та же глубокая тишина. Как вдруг один из слуг, спотыкаясь, бросился бежать как сумасшедший. Мохнатая рука сжала мне сердце. На той же скорости слуга сбежал вниз по лестнице и скрылся со своей тревогой в ночи. Потом я услышал его шаги на первом этаже, и опять все стихло. Потом он вновь появился на лестнице и пошел к медицинскому пункту. Какое-то время я ждал, что последует дальше. И вот, наконец, в конце коридора заклубились тени. Я смотрел на них, не отрываясь. Это шли отцы-надзиратели, шли медленно прямо на меня, я скрылся в спальне. И вновь возникло движение, отец Пита прошел рядом с моей кроватью. Я приблизился к нему с уверенностью в сердце.
— Сеньор отец! Как чувствует себя Гауденсио?
Отец Пита посмотрел на меня долгим и тяжелым взглядом, от которого у меня захолонуло сердце. Потом, взяв себя в руки, он молча перекрестился.
— Умер! — закричал я как безумный.
— Тихо, кругом больные, — сказал он мне.
— Умер?! — спросил я как в бреду.
— Он уже пред Господом, — подтвердил отец Пита. — Умер!
Я, оглушенный, застыл на месте, глядя на священника, на ночные тени, и наконец понял, что в мире есть смерть. И тихо повторил: «Умер, умер».
Тут я залился слезами и отдался горю по хорошему другу и его неосуществленной мечте, в то время как отец Пита попросил меня не шуметь и перекрестился еще раз.
XIX
Ректор с трудом, но все же разрешил мне пойти на похороны. Как видно, счел, что перед моим большим горем семинарский устав был слишком мал, и, не найдя противовеса моим чувствам, уступил. Итак, суровым ветреным утром шесть слуг, все время меняясь, несли гроб по каменной дороге в находившуюся рядом деревню. За гробом шли отец Мартинс и я. А за нами небольшая группка родственников, одетых в черное, которых я увидел у дверей семинарии, и среди них смуглая девушка лет тринадцати с красивыми большими глазами, возможно сестра Гауденсио, которая жила в Лиссабоне. Ветер надувал белую холщовую блузу священника и развеивал латынь, которой тот безостановочно сыпал. Пробиравший до костей холод и невероятная тоска сгибали нас перед зимой и смертью, и ледяное отчаяние усугубляло мою тяжкую усталость… Довольно долго я шел, скользя на камнях, побежденный этим чистым утром, открытым и бесплодным, как проклятие. Время от времени процессия останавливалась. Отец Мартинс принимался молиться глухим голосом, и немая молитва поднималась вверх к небу, уносимая ветром. Потом шествие возобновлялось, и по дороге слышался стук сапог, терявшийся в беззащитности утра. Рядом с гробом и белым лицом Гауденсио, которое я видел в часовне, все, и я тоже, казалось, торжественно двигалось к смерти. И все же в это солнечное и ветреное утро я был почти спокоен и тих, мысленно находясь в темном спокойствии вечности…
Но как только мы пришли в деревню и вошли в церковь, глухой шум сумерек напугал меня. Обязанностью священников было препроводить усопшего в лучший мир, и они, стоя в две шеренги, были уже готовы приступить к заупокойной молитве. А потому, как только гроб с телом моего друга был поставлен на катафалк, началось скорбное пение. Теперь стоявшие по обе стороны гроба священники попеременно мрачными голосами перебрасывали псалмы над усопшим. А мне казалось, что все мы идем в такт плачу по бесконечной пустыне к недвижному пепельному часу, сопровождаемые строгим всевидящим оком. За моей спиной не кончалось тяжкое пение. Туча стервятников, медленно взмахивая крыльями, провожала нас, скользя по небу, довольно долго. Время от времени я оглядывался и никого кроме себя, покинутого и священниками, и птицами смерти, не находил. Но скорбный плач, подгоняемый ветром, все время вился в пепельном просторе пустыни. Ноги мои потрескались и кровили от непрекращавшегося шествия. А надо мной в лучившемся застывшем небе четко вырисовывалось лицо всех ужасов моего детства. Потом от сильной усталости ноги мои налились свинцом, по лицу струился пот. Но неизменно за моей спиной взмывал в небо огромный и священный призрак скорбного пения.
И вдруг полная тишина. Я посмотрел вокруг себя — каменная земля, темная тяжесть неба, и задрожал. И тут пение возобновилось. Теперь оно было еще страшнее, и я знал, что оно говорило о гневе Господнем, огне и пепле в день Страшного Суда. Со всех сторон в головокружительную вышину поднимались четыре огненных столба. И тут я заметил, что окружен толпой демонов. Они были зеленые и красные и каркали, как вороны, или завывали, как бушующий океан. Четкая язвительность была в их взглядах и веселая, нетерпеливая жестокость — на острие каждого их зуба. С грязных ногтей их длинных и костлявых пальцев сходила на меня приторная алчность, а от волосатых и дымившихся тел пахло сумеречным пороком и горячим навозом… И, как высокие волны, накатывали на меня сзади страшные угрожающие голоса. Создавалось такое впечатление, что во исполнение ужасных пророчеств вся земля была в языках пламени.
С последней угрозой гимны наконец смолкли, с тем, чтобы никогда больше не возобновиться. Изумленный тишиной, я потихоньку вышел из оцепенения, поднял глаза к небу: заполняя церковный свод, его величество Бог, чуть прикрыв глаза, растворялся и парил в небесно-голубой лазури.
«Я жив, жив, только Гауденсио умер». И снова во мне возродилась надежда, и, согнувшись под всей тяжестью черноты смерти, я пошел туда, где еще было солнце живых и порыв радости и правды в горячей крови. Тут все кончилось. Три священника прочли последнюю молитву, Гауденсио был снят с трона и брошен в землю, а я вернулся в семинарию, как бы очищенный и заново рожденный.
XX
И вот, оказавшись перед лицом случившегося и своей непреклонной решимости и хорошо понимая, что, какие бы я ни предпринимал действия, теперь они будут только моими, я пришел к окончательному решению, что должен бежать из семинарии. Между тем после неожиданных каникул вернулись семинаристы, вернулись занятия и устав. До Пасхи оставался один месяц, и я как никогда верил в то, что он для меня в семинарии будет последним. Но я и представить себе не мог, что принесу в жизнь такое животное желание завоевать ее и такую большую человеческую память об умершем друге.
Однако восемь дней спустя после возобновления занятий произошел неожиданный эпизод, который несколько спутал мои воспоминания о Гауденсио. Случилось это, когда мы вернулись в аудиторию после переменки и вдруг увидели на стене что-то, что было прикрыто черным полотном. Все мы сели, однако несколькими минутами позже отец Томас приказал нам встать. И пока мы, стоя, ждали, открылась одна из дверей и вошел ректор. Он поднялся на кафедру и медленно, мрачным голосом стал говорить. Рассказал о жестоких днях эпидемии, о высоких божественных замыслах и, наконец, вознес хвалу добродетелям Гауденсио:
— Любовь к дисциплине, любовь и уважение к старшим, живая вера, которая его вдохновляла, делали из него образцового семинариста, подававшего всем пример. Однако неисповедимые пути Господа не позволили Гауденсио достичь священнического сана, что было его самой горячей мечтой. А раз так пожелал Господь, будем подражать примеру жизни Гауденсио, красоте его души, которой можно было только восхищаться, когда он был с нами. Гауденсио сейчас пред Богом. Попросим же его, чтобы он помолился за нас перед Господом, и позаботимся о том, чтобы уподобиться ему и его добродетели и любви к Христу. Мы уверены, что лучшей формой уважения его памяти будет четкое выполнение нашего долга, как выполнил он свой. Самым большим его желанием было достойно подготовиться к духовному сану и видеть во всех коллегах такое же страстное желание. Так выполним же наш долг, обновляя наши благочестивые намерения, укрепляя нашу веру и нашу любовь к Господу.
Потом, когда ректор закончил свою речь, кто-то сдернул черное полотно, и серьезное лицо Гауденсио взглянуло на нас со стены с неожиданным выражением всего того, о чем говорил нам ректор.
Я почувствовал себя преданным. Мне вдруг показалось, что Гауденсио перешел на их сторону и теперь принадлежал к той большой машине, которая последнее время нас перемалывала. И тут я вспомнил всю нашу жизнь, прожитую с ним в семинарии: наши прогулки по полю, наши разговоры, наши планы на спасение. Точно пораженный молнией, я опустился на стул и заговорил сам с собой:
— Как такое может быть, Гауденсио, друг? Я ведь тебя хорошо помню. Ты хотел сбежать из семинарии. Хотел. Я тебя помню хорошо! Вечером, когда мы поднимались в горы, ты спросил меня: «А что, если Бог не существует?» Как же это может быть, чтобы ты лгал теперь своим незнакомым мне выражением лица? Как же это может быть, если ты жил и надеялся на лучшее? Кричу я тебе молча и взываю к тебе, утраченному другу. Да, я тебя хорошо помню. Разве не ты надеялся на радость бытия и будущее? Я уйду из семинарии, друг, уйду отсюда. Я больше не могу выносить все это. Еще недавно был ты, был Гама, и вы оба помогали мне быть храбрым. Но теперь я один на один со своей храбростью. Это я знаю твердо и обещаю тебе, что стану победителем. И твоя дружба поможет мне в этой борьбе за свободу. А когда твой портрет попадет со стены в мусорный ящик, ты снова будешь со мной, мой товарищ, мой дорогой брат. И печальными вечерами я снова услышу твой вопрос: «А что, если Бога не существует?»
Я замолчал. Мои ногти впились в мое тело, зубы были стиснуты от ярости. И тут я поднял глаза и, когда снова посмотрел на Гауденсио, увидел в его глазах чуть заметную усмешку и в первый раз почувствовал братскую поддержку того, кто был по ту сторону жизни, но протягивал мне руку.
* * *
Пасхальные каникулы были короткими, и я должен был решиться и сделать шаг к намеченной цели. Дона Эстефания, чувствуя мою перемену и встречая мой твердый решительный взгляд, разговаривать со мной с прежней властностью не отваживалась. Моя уставшая от нужды мать обращалась со мной крайне осторожно и ласково. А я все время не переставая говорил себе:
— Ты должен, должен оставить семинарию. Кому как не тебе решать, как жить? Ведь мы один раз живем на свете! Так что и быть тому, чего не миновать.
И все же колебался. Перед глазами стояла мать с ее страстной мечтой о сытом будущем. И так до тех пор, пока судьба сама не подвела меня к принятию решения.
Накануне своего дня рождения доктор Алберто решил, что на этот раз будет его праздновать. И скорее всего потому, что в деревню он наезжал редко, а этот год обучения в Коимбре был, если я не ошибаюсь, последним. Вечером был устроен большой праздничный ужин, а когда стемнело, стали запускать ракеты, шутихи и воздушный шар. Однако прежде чем обо всем рассказать, я должен заметить, что не уверен, желал ли я, чтобы все случилось так, как случилось. Помню, что в этот день я был дома с матерью. Спустившийся весенний вечер был вселяющим надежду и сияющим от молодости солнца. Сидя на пороге дома, я смотрел на трогательную доверчивость птиц, греющихся на солнышке, и на всеобщую радость с ее спокойной и твердой уверенностью. Загоревшись энтузиазмом и отдавшись энергии окружающего, я почти не вспоминал о назначенной мне судьбе. И в этот самый момент услышал шаги матери и ее глухой смиренный голос:
— Что с тобой, сын?
Я повернулся и поглядел внимательно и долго в ее глаза.
— Со мной ничего, мама.
Тогда она села около меня и взяла мои руки в свои:
— Мой бедный сын. Мой бедный сын всегда такой печальный! Жить совсем не просто! Иногда я думаю, сколько же выпало страданий на мою долю. И на долю твоего отца. И на долю всех бедных людей. И говорю, а не лучше ли было тебе умереть во младенчестве, когда ты с братьями шел гулять на улицу, где ехали и ехали машины, но никто из вас под колеса не попал. — Она остановилась, испугавшись сказанного, и решила оправдаться: — Я не должна была это говорить, да простит меня Бог. Но чувствую нутром, что, может, и неплохо сказать это.
И как никогда раньше, мне показалось, что моя мать хотела бороться с силой большей, чем наша, но моя судьба была для нее безнадежной. И потому выходило, что я должен был стать священником, а она должна этого желать, и только машина, под которую я не попал, могла бы это предотвратить. Но теперь делать нечего. Я знал — не знаю, как объяснить, — знал, что мать моя сожалела, и очень, что сам я себя спасти не смогу. Ничего не поделаешь. Вот почему я почувствовал, что расстояние, которое мне предстояло преодолеть, если я хочу быть хозяином своего будущего, огромно. Однако именно в это время все внутри меня бунтовало, и сильнее, чем когда-либо. И я сказал себе: «Ты должен убежать, должен победить. Ведь никому тебя не жалко. Надо со всем порвать. Избавиться от чумы, от позора, от экскрементов. Я должен победить».
Как я выполню свою клятву, я не знал. Но был абсолютно в том уверен.
И ни часа, ни минуты, ни секунды не было, чтобы данный мной обет теперь был отвергнут. А потому в течение праздничного ужина я с полным безразличием относился ко всему, что слышал, как если бы был побежден раньше, чем убит. Ядовитый доктор Алберто с железной жестокостью продолжал посмеиваться надо мной и моей судьбой. Я же только зло поглядывал на него и молчал.
— Оставь его, — наконец сказала дона Эстефания, видя мое возмущение.
К ночи во дворе мы устроили так называемый деревенский праздник. Вначале запустили воздушный шар из пятидесяти долек. Он весь был в синюю и белую клеточку. За ним тянулся светящийся хвост из огней ракет которые я подпалил, и они одна за другой загорались в небе, освещая ночь. Потом мы запускали ракеты и шутихи. Однако дона Эстефания криком запретила детям играть с огнем:
— Не трогайте это! Не бросайте ракеты, они могут обжечь вас! Пусть это сделает Антонио.
Мне дали шутиху, я поджег фитиль. Раздавшийся оглушительный взрыв вызвал всеобщую панику. Но шутиха все-таки поднялась и сгорела в воздухе далеко от перепуганной насмерть доны Эстефании.
Потом мне дали бенгальский огонь, который загорелся таким красивым синим светом, что все сожалели, когда он погас. И потому что он был таким красивым, один из сыновей доны Эстефании захотел поджечь еще один, но сам. Однако дона Эстефания отлупила его по щекам и, чтобы покончить с доводами, произнесла:
— Я же сказала, ты можешь обжечься. Это сделает Антонио!
Да, конечно, моя плоть могла гореть. И гнев вспыхнул в каждой клеточке этой моей плоти. И я решил испытать ведьму, которая презирала мою жизнь, мою смерть и казнь моей плоти. Я взял ракету, поднес огонь к фитилю и ждал. Огонь шел по фитилю едва заметно, но с головокружительной быстротой приближался к заряду с порохом. Внутри меня был раскаленный железный стержень, глаза жег кислый запах огня. Затерянный в неожиданно воцарившейся вокруг тишине, я был один на один с собой и миром. Однако в самый последний момент перед взрывом, в ту самую минуту, когда все должно было произойти, я инстинктивно бросил ракету. А может, я не бросал ракету? Может, у меня было только желание ее бросить? Но как бы то ни было взрыв прогремел, и я остался без двух пальцев на правой руке. Мои барабанные перепонки лопались от кричавших вокруг людей, пришедших в ужас от моей жестокости. Но от боли я заплакал только ночью, окруженный любовью далеких звезд и тишины.
XXI
Совсем мало осталось рассказывать. Я, как и думал, ушел из семинарии, не знаю, потому ли, что стал калекой, или потому, что всеми было признано, что у меня нет призвания. И неожиданно увидел себя перед необъятностью жизни, которую надо было завоевывать. Для моих сил это был слишком большой труд, и даже теперь я не знаю, довел ли я его до конца. Очень может быть, что когда-нибудь я расскажу и о том, как я ее завоевывал, и о том, что случилось с Семедо, и Фабианом, и другими моими коллегами, которые тоже ушли из семинарии, и как они встретили открывшуюся им жизнь. Но на сегодня моя история окончена. И стоит разве что рассказать еще об одном коротком эпизоде, только потому что он мне кажется невероятным и завершающим сегодняшний день.
Моя мать, как известно, решила остаток жизни дожить в компании с Кальяу. По этому поводу у всех были разные мнения, но я с тех пор, как помню себя, всегда считал мать правой во всех ее решениях. И, как опять же известно, мы все спустя некоторое время переехали жить в Лиссабон, где вскоре я и окунулся в открывшуюся мне жизнь, твердо веря, что никогда больше не буду желать себе смерти. Да, вначале был яд, который отравлял и иссушал душу, настороженная враждебность и ненависть к чистоте жизни. Очень мучительно я открывал для себя женщину, и не в зове сна, не в зове особой нежности, а скорее в жадности двух сжатых кулаков. И то, что я открыл в ней, стало для меня самым сокровенным, включая даже то, что со времен семинарии хранила моя память о ее греховности и порочности.
Работал я трудно, вначале посыльным в магазине, потом кассиром в магазине галантерейных товаров и, наконец, через посредничество одного литературного журнала устроился в канцелярию его владельца.
И вот как-то, проходя по Байше одним субботним вечером, я на противоположном тротуаре увидел идущую мне навстречу красивую девушку, которую никогда раньше не видел, но которую, как это ни странно, знал, и давно. Прямая и гибкая, как сильное спокойное желание, она была одета во все серое. Теплая влажность наполняла округлые изгибы ее тела, и мягкая алчность сквозила в ее чудесном взгляде. В каждом шаге, который она делала, присутствовала гармония, она улыбалась чему-то влажными, косо поставленными глазами, и мягкий аромат совершенства и дароприношения медленно исходил от ее протянутых рук. Я испуганно остановился, исполненный надежды, которую, казалось, потерял. Почему и откуда я знаю эту неожиданно обнаруженную мной женщину и с каких пор?
Так я следовал за ней не один раз, боясь взглянуть ей в глаза и заговорить с ней. Вообразить, что она ждала меня так же, как я ее, было невозможно, потому что я хорошо знаю, что я ее любил давно. Сколько пересекается судеб в этом большом городе, подчас так и не складывающихся!
И вот однажды я был потрясен открытием: я наконец знаю, кто она. Но как сказать ей это? Как заранее согласиться с возможным разочарованием? Потому что я знаю ее с той самой минуты, с того самого времени, когда Гауденсио мне говорил о ней, с того самого часа, в который я навсегда расстался с моим другом. Но как узнать, несмотря на мой страх, что надежда меня не обманывает?
Поэтому я опасливо умолкаю, погруженный в свою мечту. Не знаю, каким будет наше завтра, но знаю точно, что у меня достанет смелости заговорить с ней. И с волнением в крови чувствую, что с ее приходом ко мне придет и победа над моим страхом, моей ненавистью, моей усталостью и моим зловещим отчаянием.
Именно поэтому в этот обнаженный для меня час ночи, в который я пишу, затерянный среди далеких шумов города, меня утешает и радует мысль, что непобедимый зов жизни мною все-таки был услышан и не утрачен с утраченным утром жизни.
Эвора, 8 марта 1953 года
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Бейра — одна из португальских провинций.
(обратно)2
Возблагодарим Господа (лат.).
(обратно)3
Хвала Богу (лат.).
(обратно)4
История римлян (лат.).
(обратно)5
Тостан — старая мелкая португальская монета.
(обратно)6
Дочь (лат.).
(обратно)7
Тоньо — уменьшительное от Антонио.
(обратно)8
Доктором в Португалии называют человека, получившего высшее образование.
(обратно)9
Второе я (лат.).
(обратно)10
Маленькая фигурка святого (порт.).
(обратно)11
Роза, розы (лат.).
(обратно)12
Господин, господина (лат.).
(обратно)13
Употреблять, пользоваться чем-нибудь (лат.).
(обратно)14
Палматория — линейка, которой били по рукам провинившихся учеников.
(обратно)15
Уединение (португ.) — временное возвращение в семинарию для чтения молитв.
(обратно)




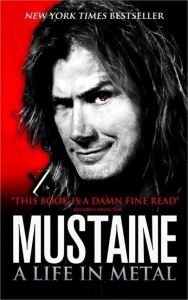
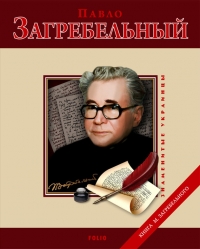

Комментарии к книге «Утраченное утро жизни», Вержилио Феррейра
Всего 0 комментариев