А. Е. Куланов Роман Ким
Никогда барды и менестрели не будут слагать од о нас, и ни один пес не будет знать о деяниях наших. Таков удел наш. Во мраке творим дела и во мраке растворимся, как призраки.
P. Н. Ким. По прочтении сжечь…чем глубже я проникал в дело, тем более каким-то колдовским образом передо мною суживался и темнел коридор прошлого, и тщетно я шарил в углах с фонарем в руках. Ткань дела рвалась и рассыпалась в моих руках, я изнемог под бременем недостоверных фактов, косвенных улик, предположений, сомнительных данных…
М. А. Булгаков. МольерОТ АВТОРА
В 1990-х годах были опубликованы мемуары бывшего генерала госбезопасности П. А. Судоплатова, в которых есть небольшой фрагмент, посвященный оценке работы Рихарда Зорге. Для тех, кто «не в курсе», сразу надо отметить, что Судоплатов и Зорге служили в разных ведомствах: первый в НКВД, второй был агентом военной разведки. Судоплатов назвал работу разведчика из конкурирующей организации героической, но отметил, что одна из главных заслуг, приписываемых Зорге, — вовремя переданная информация о том, что Япония не вступит в войну до конца 1941 года, преувеличена. «Дивизии с Дальнего Востока перебросили под Москву в октябре 1941 года лишь потому, что у Сталина не имелось других готовых к боям резервных боевых соединений, — писал отставной генерал. — Если же информация Зорге при этом и учитывалась, то не играла существенной роли в принимаемом решении. Сообщения о том, что японцы не намерены воевать с нами, регулярно поступали с 1941 по 1945 год от наших проверенных агентов, занимавших должности советника японского посольства в Москве и начальника службы жандармерии Квантунской армии, который передавал нам документальные данные о дислокации японских соединений в Маньчжурии. Кроме всего прочего, нам удалось расшифровать переписку японского посольства в Москве с Токио, из которой следовало, что вторжение в СССР в октябре 1941 года Японией не планировалось»[1].
Долгие годы этому загадочному комментарию о вскрытых шифрах, агентах в посольстве и военной жандармерии кэмпэйтай никто не давал объяснения: как удалось завербовать таких агентов? Кто этим занимался? Кто раскрыл дипломатический код? Тот, кто сделал это, по справедливости должен был быть и награжден, как Зорге — звездой Героя Советского Союза? Почему же мы его (или их) не знаем? Потому что эти операции были и остаются совершенно секретными и простым людям о них знать не положено. Зорге провалился (не по своей вине) и стал знаменит. Следовательно, разведчики из НКВД не провалились. И всё же, кто они (или он), ведь прошло так много лет? Ответа на эти вопросы пришлось бы ждать еще долго, если бы не стечение обстоятельств.
Примерно тогда же, когда П. А. Судоплатов писал свои воспоминания, преподаватель японского языка в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М. В. Ломоносова Валентина Федоровна Кирилленко рассказала своему студенту Алексею Горбылеву о загадочном японоведе — Романе Николаевиче Киме.
Биография Кима была широко известна: популярный в послевоенные годы писатель, автор «шпионских» детективов, родился в 1899 году во Владивостоке, до революции учился в японском элитном колледже. У себя на родине окончил Восточный институт, служил в разведке. Был репрессирован, приговорен к расстрелу, но в последний момент помилован. После войны стал знаменитым писателем, славу которому принесли повести «По прочтении сжечь», «Тетрадь, найденная в Сунчоне», «Кобра под подушкой» и другие. Но Валентина Федоровна, служившая после войны в органах госбезопасности, могла кое-что добавить к официальной биографии: «Во-первых, Роман Ким происходил из княжеской корейской семьи. Во-вторых, воспитывался в Японии в семье хранителя императорской библиотеки. В 1920–30-х годах он был сотрудником Иностранного отдела ОГПУ. Затем, как многие, оказался репрессирован, сидел в одной тюрьме с Николаем Иосифовичем Конрадом. В-третьих, после войны Ким привлекался КГБ к работе по “японской линии”, в частности, при выемке документов из посольства Японии для срочного перевода. Владел он японским языком хорошо, но не блестяще: например, не брался переводить синхронно кинофильмы. Владел английским и, наверное, другими европейскими языками. Любил этим козырнуть, например, при посторонних любил говорить по телефону, меняя языки. Всегда шикарно и исключительно опрятно одевался. Читал лекции в обществе “Знание”. Имел огромную эрудицию»[2].
Через много лет А. М. Горбылев, сам ставший преподавателем в ИСАА и историком ниндзюцу, передал рассказы своего сэнсэя автору этой книги с настоятельной просьбой разобраться в подлинной биографии Романа Кима, за что я ему искренне благодарен. Поводом для моего расследования стала не только информация о корейском княжеском происхождении Кима и императорской библиотеке, но и то, что он первым в нашей стране (и, во всяком случае, одним из первых неяпонцев) написал об искусстве ниндзя в своем приложении «Ноги к змее» к книге Б. А. Пильняка «Корни японского солнца», изданной в 1927 году. Такое сочетание весьма необычной биографии, службы в разведке и познаний в области ниндзюцу, не могло не интриговать.
Шаг за шагом, из множества источников, крупных и мелких обрывков информации, восстанавливалась биография Романа Кима — как собирается из тысяч мелких пазлов одна большая картина. Увы, «рисунок» на многих таких пазлах уже стерт временем или еще закрыт грифом секретности, а потому общее полотно жизни нашего героя часто приходилось сшивать вручную из малопонятных «лоскутков» — неподтвержденных сообщений, противоречивых устных рассказов, догадок, составляя даже не картину, а версию картины. Версий этих множество, какие-то из них выглядят вполне убедительно, а некоторые рассыпаются прямо в руках, как если бы вы попытались поднять картину, сложенную из этих самых пазлов и не наклеенную еще на подкладку из документов. Тех, кто ждет от этой книги четкой, на все сто процентов доказанной документами истории, придется разочаровать: реальность «дела Кима» такова, что при его рассмотрении приходится учитывать любые гипотезы, включая совершенно невероятные на первый взгляд конспирологические теории — их нельзя отбросить, потому что пока еще в каждой из них есть как минимум один аргумент, подтверждающий их истинность.
При анализе всех этих версий, гипотез, теорий со временем стало понятно, что именно Роман Ким мог бы претендовать на то, чтобы поделить с Зорге славу человека, которому обязаны жизнью сотни тысяч людей в битве под Москвой. Может быть, именно на его счет стоит записать подвиги разведки НКВД, о которой писал Судоплатов? Правда, Ким служил не в разведке, а в контрразведке. К тому же в 1941 году он был репрессирован по обвинению в шпионаже в пользу Японии, чудом избежал смерти и сидел в тюрьме. Как мог он спасать в это время Москву? Впрочем, и Зорге в это время тоже сидел в тюрьме, но в японской — как советский шпион.
Постепенно на свет были извлечены и другие эпизоды из жизни P. Н. Кима — славные, такие как предупреждение военных конфликтов, разоблачения японских шпионов и вербовка ценных агентов, несомненная помощь в победе на поле брани (пусть сам он в это время находился за тысячи километров от схватки), и, скажем так, неоднозначные, когда Роман Ким показывал себя в роли стопроцентного человека-«продукта» своего сурового времени, фанатичного чекиста, чем вызвал у многих сегодняшних критиков негодование и презрение. Казалось бы, надо поставить себя на его место, и многое станет понятно, но… Особенности биографии этого человека таковы, что само это «место» всё время ускользает от нас. Ким предстает перед нами то как корейский патриот, то как советский чекист, а иногда единственным логичным объяснением его поступков может быть только работа на японскую разведку. Причем нередко все три эти позиции возникают одновременно. Порою его действия выглядели спонтанными, и их можно объяснить подвижной психикой и повышенной эмоциональностью нашего героя (например, женитьба на дочери классового врага или неоднократные потери служебного удостоверения сотрудника ОГПУ, эпизод с забытым фотоаппаратом). А иногда кажется, что смысл появляется только в том случае, если мы смиримся с мыслью, что Роман Ким все-таки был настоящим ниндзя. Как иначе объяснить то, что на протяжении нескольких лет он, заполняя анкеты, запутывал данные о себе (даже писал, что у него не сын, а дочь), как будто предвидел, что однажды ему понадобится биография, в которой не смогут разобраться следователи НКВД?
Эта книга не дает ответов на слишком многие поставленные вопросы, за что автор приносит извинения читателям, но записывает себе в актив то, что эти вопросы вообще возникли, и надеется, что ответы на них будут найдены в будущем. Это первое, составленное на основе обширного массива документов жизнеописание Романа Николаевича Кима. В нем за нагромождением фактов в одних эпизодах следуют провалы в других — ничего не поделаешь — автору важно было собрать всё, что известно об этом человеке. Кроме того, возможно, некоторые из описываемых событий читателям окажется трудно понять без дополнительных объяснений. К сожалению, в ограниченном объеме одной книги невозможно рассказать обо всем, нельзя воссоздать исторический фон, без знания которого многое из того, что происходило с Романом Кимом и вокруг него, может остаться недопонятым и недооцененным. Такие важные события, как Русско-японская война 1904–1905 годов, ход Великой Отечественной войны и войны советско-японской, сталинские репрессии и хрущевская «оттепель», пришлись на жизнь одного поколения, к которому принадлежал и Роман Николаевич Ким. Рассматривать его биографию вне отрыва от этих событий невозможно по определению, а потому читателю, собирающемуся разобраться в хитросплетениях судьбы «ниндзя с Лубянки», необходимо владеть информацией об ушедшей эпохе. По счастью, литература на эту тему обширна и разнообразна.
Касаясь же таких технических моментов, как написание иностранных имен и фамилий, а также транслитерация корейских и японских слов, автор должен указать, что в японских и корейских именах фамилия пишется первой, имя — вторым, и в японских — оба не склоняются, а в корейских склоняется только имя (стоящее последним), например, «вспоминая Ан Чжун Гына», но «вспоминая Сугиура Рюкити». Японские фамилии, имена и названия приводятся в соответствии с так называемой «поливановской» транслитерацией, то есть «Сугиура Рюкити», а не «Рюкичи Сугиура», где «Сугиура» — фамилия, за исключением тех случаев, где прямо цитируются документы или имеют место сложившиеся в написании названия (например, Йокогама, а не правильное — Ёкохама). Особый случай — «транслитерация по Киму» — будет разъяснен непосредственно в книге.
В связи с тем, что аналогичной единой транслитерации корейских слов в русском языке не существует, автор столкнулся с серьезной проблемой. Например, корейское имя героя книги может быть записано как Ким Кирьон, Ким Гирён, Ким Ки Рьон и т. д. Имя одного из современников героя в разных источниках на русском языке фигурирует как Ан Чжунгын, Ан Чжун Гын, Ан Чунгын, Ан Джунгын и Ан Джун Гын. В целях унификации автор принял решение писать корейские имена по одному из имеющихся образцов, принятому в Институте Дальнего Востока РАН, то есть в разбивке по иероглифам (Ги Рён или Чжун Гын). Исключение — имя корейского короля (вана), которое в большинстве случаев приводится как Коджон.
В блоке приложений приведены наименее известные первоисточники, использованные для данной книги: мемуары, справки, анкеты и другие документы. На воспоминания современников Кима о нем, работы, посвященные истории Кореи, событиям на советском Дальнем Востоке, другие документы, ранее публиковавшиеся в открытой печати, в том числе в Интернете, даются ссылки.
Разумеется, биографическую книгу о жизни такого замечательного человека, как Роман Николаевич Ким, невозможно написать в одиночку (иначе это будет не слишком хорошая, односторонняя книга) и без опоры на опыт предшественников. Поэтому совершенно необходимо назвать тех людей, кто лично знал P. Н. Кима и оставил о нем ценные сведения: Кимура Хироси, М. С. Цын, Л. И. Славина, В. И. Ардаматского, Ю. С. Семенова и других, чьи воспоминания обильно цитируются и приводятся в приложениях, и современников автора, помогавших ему в его увлекательном труде: написании документального детектива о мастере детективов по имени Роман Николаевич Ким.
Само по себе историческое изыскание, часто превращавшееся в настоящее журналистское расследование, началось с получения информации от дальневосточного историка спецслужб А. М. Буякова, первым написавшего чекистскую биографию нашего героя в одной из своих работ[3], и я очень благодарен коллеге из Владивостока за помощь, поддержку в работе, присланные бесценные архивные материалы и дружбу, которой очень дорожу.
Следующими публикациями о Романе Киме стали главы в моих книгах «В тени Восходящего солнца» и «Шпионский Токио» (М., 2014), в которых я впервые обратился к судьбе этого человека. В первой из них соответствующий раздел назывался «Крестный отец Штирлица», еще через год под этим же названием вышла повесть И. В. Просветова, подготовленная в основном по материалам только что рассекреченных следственных дел P. Н. Кима, хранящихся в Центральном архиве ФСБ России, а также по литературным архивам. И. В. Просветову удалось увидеть многое из того, что доныне сокрыто, и в настоящей работе там, где ознакомление с подлинными документами оказалось невозможным, делается ссылка на его книгу.
Однако следственные дела граждан, арестованных в эпоху сталинских репрессий, — далеко не самый надежный и отнюдь не полный источник для восстановления их истинных биографий. На следствии люди часто говорят то, что им выгодно, или то, что от них требует следователь, а чаще всего — мешанину из того и другого. Большую помощь в работе над начальным — японским этапом жизни Романа Кима, в выяснении судьбы его родителей оказал японовед В. А. Бушмакин. Он заметил ряд ошибок, вызванных в том числе неправильным пониманием корейских и японских иероглифов, в противоречивой статье японского русиста Кимура Хироси, бывшей долгие годы единственным альтернативным источником знаний о жизни P. Н. Кима, а также в моих книгах «В тени Восходящего солнца» и «Шпионский Токио». Исправив эти ошибки, найдя и переведя на русский язык обширный пласт архивных данных о нашем герое, В. А. Бушмакин тоже внес вклад в изучение прихотливого жизненного пути Романа Кима, за что я также весьма признателен.
Неоценим вклад в подготовку данного издания японских русистов Миямото Татиэ и Мурано Кацуаки, а также американского советолога японского происхождения Куромия Хироаки, предоставивших мне большой список материалов, связанных с биографиями близких Роману Киму людей. Сотрудники, пожелавшие укрыться за аббревиатурами А., Б. и В., также приняли важнейшее участие в подготовке данного издания — своими воспоминаниями, предоставленными ценными документами и точными и четкими экспертными суждениями на специальные темы.
Особую благодарность я выражаю первому редактору книги М. Н. Бересневой, высказавшей ряд важных и точных замечаний, позволивших сделать представляемую работу существенно лучше, уточнить и исправить ряд спорных моментов.
Кроме того, целый ряд моих корреспондентов оказал помощь в поиске интересных сведений, данных, в переводах документов и статей с различных языков на русский, в выражении экспертного мнения, в поддержке исторических изысканий автора. Очень признателен всем им: А. Д. Арабаджиеву, К. В. Асмолову, П. Д. Белику, И. А. Беляеву, Г. Б. Брылевскому, Ю. В. Ванину, А. В. Власкину, P. С. Демидову, А. А. Долину, М. К. Залесской, А. В. Кальчевой, Г. А. и Е. А. Ким, Ким Ён Уну, Ким Хон Чжуну, А. А. Кириченко, А. С. Колесникову, Ф. В. Кубасову, С. Ю. Лановенко, А. Н. Мельникову, Э. В. Молодяковой, С. Б. Прудовскому, Саканака Норио, Д. М. Сокову, А. В. Федорову, Е. А. Черданцевой и всем тем, кого автор по оплошности забыл здесь упомянуть!
Александр Куланов
Москва
Глава 1 МИН, ВАН И ЯНБАН
…В смене династий останется вечным закон: Власть сохранить, несомненно, труднее, чем взять. Из головастика вырастет новый дракон — Старому сын или внук, или сват, или зять… Александр Долин. Властители КореиЖизненный путь Романа Николаевича Кима на многих своих изгибах укрыт от нескромных взоров исследователей темными, белыми, а порой и кровавыми пятнами. Это относится не только к той части его биографии, что утаивается от нас осознанно и еще долго будет оставаться засекреченной в силу специфики его службы в советской контрразведке, хотя эти «эпизоды» насчитывают многие, многие годы. Нам не много известно и о его гражданской жизни, особенно в те отрезки времени, что выпали из пристального внимания органов или о которых чекисты знали со слов самого Кима, не упустившего возможность немного пофантазировать, поиграть в конструктор собственной биографии, — так пропали еще несколько вех жизненного пути загадочного корейца. По сути мы не знаем главного: почему Роман Ким стал тем, кем стал. И речь идет не о том, что он был писателем, скрывавшим свое чекистское прошлое, а до того чекистом, таившим тягу к занятиям литературой, нет. По большому счету мы не знаем предыстории его жизни, не ведаем доподлинно причин, событий и тех связей между ними, что ввергли корейского мальчика в пучину противостояния трех стран, которым в своем не самом счастливом детстве он принадлежал в равной мере: Корее, Японии и России. Нам до сих пор точно неизвестно, что заставило отца нашего героя послать сына учиться за границу в семилетнем возрасте, а значит, мы не знаем, каковы были исторические причины того, что Роман Николаевич Ким стал настоящим советским ниндзя — поклонником японской культуры и тайным непримиримым, яростным и опаснейшим врагом японской политики. Чтобы разобраться в этом, нам придется отмотать ленту истории на много десятилетий назад и выяснить, кем были родители Романа Кима и почему они выбрали для своего сына такое будущее.
Сведения о детстве будущего писателя нередко выглядят запутанными и противоречащими друг другу — настолько, что некоторые историки вообще не рассматривают «корейскую предысторию» Романа Кима, считая ее слишком фантастичной и невероятной. У нас нет ответа на вопрос, почему так получилось: по случайности или по умыслу нашего героя. Ясно только, что начало автобиографии Роман Николаевич реконструировал сам, основываясь только на рассказах отца — Николая Николаевича Кима, так как мать — Надежда Тимофеевна Мин[4] умерла в Корее, когда Роман был еще маленьким и жил в Японии.
Что же такого удивительного поведал о своей семье Роман Ким и почему в эти рассказы не хотят верить серьезные ученые? Пожалуй, одно из самых характерных воспоминаний — В. Ф. Кирилленко приведено в предисловии. Мы еще убедимся, что многое в этих рассказах неверно, заведомо искажено самим Кимом, но сейчас, пока мы собираемся установить его происхождение, для нас главное вот это: «…происходил из княжеской корейской семьи». Арестованный в 1937 году Роман Ким сообщил эту, явно невыгодную для него информацию о своем социальном происхождении в своих первых показаниях: «…мать — корейская дворянка»[5], а вскоре еще уточнил: «…сестра королевы Мин»[6]. Сестра королевы, по нашим представлениям, принцесса. Значит, Роман Ким — корейский принц? Его высочество Роман Николаевич? В это действительно трудно поверить, и большинство ученых не верят. Особый скептицизм вызывает корейско-японское прошлое Кима у историков-корееведов. Доводы этих специалистов просты и понятны: нет документов — нет биографии, нет человека. Во всяком случае, того человека, которого мы изучаем. Известно, что у королевы Мин не было родных сестер, а вот что касается двоюродных, троюродных и других… Один из ученых, рассуждая об этом, указал на некоторые особенности корейского менталитета, упомянув о том, что в Корее есть только один клан Мин, происходящий из деревни Нынхёлли уезда Ёчжу провинции Кёнгидо[7], к которому Ким, судя по всему, и относил свою мать, указывая на то, что она была дворянкой из рода Мин: «Однако большинство представителей этого клана говорили, что они в родстве с убиенной королевой. Кланы — очень большие группы, и тут родство может быть даже в 20–30-м колене, но это не тот тип родства, который привычен русским. Это, скорее, принадлежность к клану». Чтобы разобраться в этом и понять, почему так осторожны корееведы в определении степени принадлежности Кима к королевскому роду, стоит совершить небольшой экскурс в корейскую генеалогическую систему — без сомнения, одну из самых сложных и запутанных в мире.
Начнем с начала. Во-первых, никто не подвергает сомнению, что мать Романа Кима происходила из дворян. Следует иметь в виду при этом, что корейское дворянство (служилое и гражданское) называется янбан и делится на шесть типов в зависимости от происхождения, близости к королевской семье, способа получения дворянства и места жительства[8]. Понять из имеющихся у нас материалов, к какому из указанных «подклассов» принадлежал род Кима, увы, невозможно. Кроме того, под самим словом «род» корейцы понимают общность «тонбон-тонсон», то есть «одинаковое происхождение — одинаковая фамилия». Структура принадлежности к роду очень сложная, зависящая от многих тонкостей и условий, выполнение которых должно быть обязательным и непременным. Особенно это важно в связи с тем, что в описываемые нами времена, то есть в конце XIX — начале XX века, в Корее существовал институт наложничества, и у мужчин из сословия янбан могла быть не только законная жена чончхо, но и несколько наложниц, которые тоже между собой делились на «добрых» и «презренных» наложниц — янчхоп и чхончхоп[9]. Положение детей, рожденных от жен и наложниц или, наоборот, усыновленных, разительно отличалось, что неудивительно. Быть сестрой или братом кого-то в Корее времен династии Чосон не значило почти ничего. Важно другое: какой вы брат или какая сестра, от кого и кем рождены и как ваше родство определяется в строгой официальной генеалогии. Мать Кима вполне могла быть сестрой королевы Мин, однако степень этого сестринского родства нам неизвестна. Если так, то принадлежность хотя и к единственному в Корее, в отличие от многих других фамилий, роду Мин мало что говорит нам о конкретном человеке: матери Романа Кима. А что еще нам о ней известно?
Почти ничего, за исключением одного — ее образования. Литературовед Кимура Хироси, хорошо знавший Романа Кима, написал о нем большую статью, к которой мы еще не раз будем обращаться[10]. Она полна как ценными сведениями, так и неточностями, но основным источником того и другого, очевидно, стал сам Роман Ким, его рассказы. В этой статье упоминается, что мать Кима «окончила католический женский колледж в Пекине и хорошо говорила по-французски». Надо отметить, что и этот факт вызывает сомнения у некоторых корееведов. Дело в том, что у российских специалистов по Корее данных о женском, в том числе религиозном, образовании тех лет крайне мало, а о женщине из семьи Мин, судя по рассказам ее сына, оказавшейся едва ли не первой кореянкой, учившейся в европейской школе, нет вовсе. И это несмотря на то, что в династии Мин действительно было немало католиков, и на то, что в Китае существовали женские католические школы — известный миссионер Элия Бриджмен основал аж три. А Бриджмен являлся не единственным проповедником католицизма в Китае. Эмигрировав в Россию, Кимы приняли православие, а значит, где-то в Приморье, в одной из православных церквей или в одном из архивов должны были остаться записи о переходе матери Кима из католичества в православную веру. То, что они пока не найдены, отнюдь не означает, что их не существует. Просто ученые данной темой пока еще не занимались. Тем удивительнее категоричный вывод, который делает историк-кореевед, оспаривавший в беседе со мной каждый пункт биографии Романа Николаевича, но пожелавший при этом остаться неизвестным: «Ваш Роман Ким, возможно, боялся слишком завраться (исторические нестыковки могут быть замечены) и привязывал себя к тем событиям корейской истории, которые были реальны и придавали ему вес, ибо это всё были значительные события». То есть японо-корейская «смута», о которой рассказывал Роман Ким, была точно, но вот «был ли мальчик?»[11]. Точнее, девочка — родственница корейской королевы Мин, родившая в 1899 году во Владивостоке сына, который до самой своей смерти рассказывал близким знакомым о своем монаршем происхождении. Рассказывал — со слов своего отца.
А что мы знаем о нем — о Николае Николаевиче Киме, то есть о Ким Бён Хаке или, как писал его имя сын, о Ким Пенхаке? Не будет преувеличением сказать, что отец Романа Кима был не менее примечательной личностью, чем его сын, ведь даже по сравнению с засекреченной на долгие годы подлинной биографией Романа Николаевича судьба Николая Николаевича выглядит еще более загадочной.
Нам неизвестно, когда и где он родился, но, зная, что закончил свой земной путь Николай Николаевич Ким в 1928 или 1929 году, а средняя продолжительность жизни на Дальнем Востоке для обеспеченных людей в то время составляла около семидесяти лет, можем предположить, что появился на свет Ким Бён Хак в середине XIX века, около 1860 года, и, разумеется, в Корее. В автобиографии, сохранившейся в следственном деле, Роман Ким оставляет для нас важные сведения: «Отец после падения партии русофилов был сослан на север Кореи, в город Пукчён (Пукчон), где был простым рыбаком около 10 лет. Из Пукчена эмигрировал в Россию, во Владивосток»[12]. При кажущейся незначительности фразы, на самом деле она очень интересна, потому что дает нам ниточку для расследования. Что за «партия русофилов» была в Корее и какое падение она пережила на рубеже 1880–1890-х годов, в результате которого один из ее членов оказался в северокорейской глуши (посмотрите на карту) в качестве простого рыбака? Чтобы разобраться в этом, снова обратимся к истории Кореи.
К середине XIX века это было унитарное, но слабое государство, даже по меркам Востока чересчур перегруженное феодальными ограничениями, ритуалами и обычаями, неукоснительное соблюдение которых было не просто законодательно закреплено, но канонизировано и освящено тысячелетней историей корейского народа. К тому же Корея тех времен чрезвычайно сильно зависела от воли своего сильного соседа — Китая. Правящий монарх — ван династии Чосон был фактически данником китайских императоров, но при этом стремился выглядеть в глазах собственных подданных истинным потомком Неба — могущественным, грозным и справедливым. В китайских же традициях его сравнивали с непобедимым, пусть и мифическим, драконом. В 1864 году таким «драконом» стал Ли Мён Бок (1852–1919), принявший, в соответствии с традицией, новое имя — Коджон (Кочжон) и оставивший страну под управлением регента — своего отца Ли Ха Ына, носившего титул Тэвонгун (Великий принц). Сложности в корейской системе наследования привели к тому, что, хотя сам Тэвонгун в силу деталей его происхождения не мог претендовать на титул вана, его сын был этого достоин. Коджон виделся Тэвонгуну слабым правителем (и это соответствовало действительности), а значит, настоящим драконом в этой ситуации выступал отец, а не коронованный сын. Для полного соблюдения протокола оставалось только женить Коджона на какой-нибудь традиционно смиренной, как и подобает настоящей дворянке, девушке из приличной аристократической семьи.
Это произошло через два года, когда жена Тэвонгуна обратила внимание Великого принца на красивую, прекрасно образованную, но небогатую и без особых претензий и перспектив сироту-родственницу, живущую по соседству — Мин Мён Сок[13]. В 1866 году состоялась свадьба вана Коджона и принцессы Мин, а еще через восемь лет, в 1874 году, Тэвонгун вынужден был отдать бразды правления своему сыну. К этому его принудили успешные интриги молодой королевы, которая, выйдя замуж, сумела со временем не только очаровать мужа как женщина, отвадив его от многочисленных наложниц, но и, расставив три десятка своих родственников на ключевые посты в государстве, фактически принять на себя управление государством.
Однако власть перешла формально в руки вана Коджона, а на деле — королеве Мин, в самое неудачное время, какое только можно себе представить. В эпоху создания новых империй Дальний Восток переживал невиданный доселе натиск «европейских хищников» — цивилизованные «орлы», «медведи», «львы» и даже «петухи» не прочь были хорошенько потрепать выдыхающихся тысячелетних «драконов». Сильнейшие державы Старого Света и Америки настойчиво стучали в закрытые, но ветхие ворота Китая, Японии и Кореи. Последняя успешно отразила попытки открыть корейские порты для свободной торговли, предпринятые Францией и Соединенными Штатами в 1866 и 1871 годах соответственно, но в 1875 году к берегам полуострова подошел хотя и старый, заклятый, но неожиданный враг — Япония. Эта страна сама только что, всего несколько лет назад, находилась на грани того, чтобы стать колонией Америки. Еще не до конца разобравшись с собственной буржуазной революцией Мэйдзи и гражданской войной, Япония уже сама искала жертву послабее в надежде показать силу и вступить в мировой имперский клуб. Взоры взбудораженных революцией и войной самураев обратились на ближайшего соседа — вожделенную добычу на протяжении многих веков. Хотя идея нападения на Корею и была отклонена японским правительством, в следующее десятилетие Корея подписала сразу несколько неравноправных договоров с Японией, странами Европы и США, оказавшись в фокусе притязаний их всех. Вану, а значит, королеве Мин, которая, уже не стесняясь, правила страной, пришлось определяться, к чьей помощи склониться в случае начала большой войны.
Выбор оказался непростой, и к решению вопроса королева подошла со всем тщанием. По примеру вражеской Японии, совсем недавно предпринявшей аналогичные шаги, корейское правительство разослало группы молодых аристократов во все развитые страны мира с целью ознакомления с западным образом жизни, системами правления, экономикой, военными отраслями и всем, что хотя бы теоретически могло помочь в строительстве новой — уже не самоизолировавшейся, а саморазвивающейся новой Кореи. В этом смысле пример Японии был особенно соблазнителен: опыт страны, чудом избежавшей колонизации и в последний момент на ходу запрыгнувшей в уходящий трамвай империалистического прогресса, мог пригодиться и Корее. Курировать отношения с Японией в области обмена на уровне «народной дипломатии» взял на себя некий Ким Ок Кюн (1851–1893) — представитель богатой и аристократической ветви многочисленной и чрезвычайно разнородной фамилии Кимов. С февраля 1882-го по май 1884 года этот человек совершил три поездки в Японию, во время которых находился в стране вероятного противника и учителя своей родины по нескольку месяцев[14]. Учитывая, что при дворе вана Коджона Ким Ок Кюн занимал важный пост заместителя министра финансов, неудивительно, что в Японии он одновременно (и безрезультатно) пытался решить некоторые финансовые вопросы с одним из крупных государственных деятелей Японии маркизом Иноуэ. Японцы пообещали Киму крупную сумму в случае, если ему удастся продвинуться в осуществлении в Корее реформ по модернизации общества, но денег так и не дали. И всё же, кажется, основное внимание Ким Ок Кюна было приковано к одной из самых влиятельных, как сегодня сказали бы, культовых, персон постреволюционной, мэйдзийской, Японии. Собеседником Кима стал Фукудзава Юкити (1835–1901) — крупнейший японский политический деятель либерального толка, философ-западник, чей портрет ныне знаком каждому японцу, ибо красуется на крупнейшей японской купюре — 10 000 йен. Фукудзава сам когда-то находился в положении Кима, совершая турне по Америке и Европе в составе делегации еще старой, феодальной Японии. Именно Фукудзава еще в 1858 году, за десять лет до Реставрации Мэйдзи — японской буржуазной революции, основал в Токио колледж, вскоре трансформировавшийся в университет Кэйо — старейший и один из трех престижнейших вузов Японии.
В 1882 году Ким Ок Кюн пять месяцев прожил в доме Фукудзава в Токио, а затем еще полгода тесно общался с японским просветителем, переводя на корейский язык его программу модернизации Кореи. Полностью принимая идеи японской модернизации для Кореи, Ким Ок Кюн договорился с Фукудзава о приеме в Кэйо дзюку — так тогда назывался будущий университет Кэйо — корейских студентов, которые после получения образования должны были стать проводниками японской политики у себя на родине. Уже в 1883 году первые 40 будущих реформаторов прибыли на учебу в Кэйо[15], а Ким Ок Кюн продолжил поездки в Токио.
Ким Ок Кюн был не только талантливым аристократом-«прогрессистом», как иногда называют его в литературе, но и по-восточному гибким и хитрым политиком. Нет сомнений, что конечной целью его реформ было преобразование Кореи в современное государство по японской модели, то есть с более самостоятельным монархом во главе. Таким монархом, новым ваном, подобным, по степени своего влияния и популярности в народе, японскому императору Мэйдзи, Ким Ок Кюн видел себя самого. Отец вана — Тэвонгун в свое время отстранил от власти в стране род так называемых андонгских Кимов, к которым относился Ок Кюн. Теперь должно было настать время реванша. Учитывая сложность положения Кореи — ее зависимость от дряхлеющего на глазах Китая и географическое положение на перекрестке интересов, прежде всего Японии и России, Ким Ок Кюн продумывал все возможные варианты развития корейской политики в случае своей победы. На сближение с Китаем ориентировался двор во главе с королевой Мин и ваном Коджоном, слывшим убежденным антияпонистом. Молодой и талантливый «прогрессист» Ким Ок Кюн не верил ни в слабеющий Китай, ни в далекую Америку. Он склонялся к выбору между близкими антагонистами — Россией и Японией, пытаясь из них выбрать основную и запасную цели новой — своей корейской политики. Именно поэтому целый ряд исследователей указывают на стремление Кима установить тесные контакты не только с влиятельными фигурами японского истеблишмента, но и с российскими дипломатами и чиновниками[16]. Разумеется, от каждой из сторон Ким предпочитал скрывать контакты с противником, уверяя и русских, и японцев в исключительных симпатиях и уважении к России и Японии соответственно. С некоторой натяжкой, но имея в виду именно эти намерения Кима, его даже можно называть главой «русофильской партии» в Корее, и, возможно, именно это и имел в виду Роман Ким, когда говорил, что его отец принадлежит к такой группировке. С натяжкой, ибо Ким Ок Кюн преследовал в первую очередь свои интересы, стремясь заручиться поддержкой у любых мало-мальски влиятельных сил, способных оказать давление на Сеул в его личных целях и сделать его «новым драконом». Ярким свидетельством такой «всеядной» политики может служить факт тесных отношений «прогрессиста» и, принимая во внимание его дружбу с Фукудзава, либерала Ким Ок Кюна с консерватором и реакционером, одним из «отцов японского национализма» Тояма Мицуру. Мы еще поговорим подробно об этой фигуре, а пока просто запомним: среди активных контактов Ким Ок Кюна в Японии, совершившего с февраля 1882-го по май 1884 года три длительных вояжа туда, были либерал-западник Фукудзава Юкити и националист-консерватор Тояма Мицуру[17]. Однако в 1884 году всё резко изменилось.
Королева Мин осталась недовольна результатами вояжей Ким Ок Кюна. Во всяком случае, теми, которые «прогрессист» счел нужными доложить. Деньги из Японии не пришли, а вот крен Кима в сторону Токио стал очевиден. В октябре того же года королева «закрутила гайки». Представители группировки Кима утратили право передавать вану письма, некоторые были удалены со своих постов, самого Кима отправили в провинцию. Наоборот, в отношении Китая королева продемонстрировала всяческое благоволение вплоть до рассмотрения законопроекта о переходе корейцев на ношение китайской национальной одежды (который, впрочем, не был принят). Ким, понимая, кто при дворе главный, решился на мятеж против королевы, но… предварительно встретился с королем — ваном Коджоном и попросил его одобрить план переворота. О реакции монарха на предложение говорят разное, но, так или иначе, 4 декабря начался мятеж. Заговорщики смогли добиться некоторого успеха, уничтожив физически почти всех представителей клана Мин, находившихся у власти (не посягнули лишь на королеву), и сформировали свое правительство. На этом их победы закончились. Народ, разочарованный и оскорбленный таким очевидным попиранием лежащих в основе корейской морали конфуцианских норм, осведомленный о симпатии Ким Ок Кюна к издревле ненавистным японцам, мятеж не поддержал. Китайцы выступили на стороне королевы Мин, подняв по тревоге находившийся в Сеуле свой воинский контингент. Японцы же побоялись вооруженного столкновения и предпочли уйти до поры до времени в тень. Через 48 часов после начала мятеж был подавлен. Большинство мятежников казнили или выслали из страны. Сам Ким Ок Кюн бежал в Японию, где находился под охраной людей Тояма Мицуру, но в 1886 году был выслан и оттуда[18]. Несколько лет мятежник скитался по материковой Азии, пока в 1893 году не был, по подсказке японцев, найден в Шанхае корейским правительственным агентом и застрелен. Труп Ким Ок Кюна четвертовали в Сеуле, а затем развесили части его тела в разных районах города. Это была унизительная, позорная казнь, хорошо иллюстрирующая отношение не только двора, но и значительной части корейцев к изменнику. Несостоявшемуся дракону отсекли голову в буквальном смысле.
Вот о каком «мятеже русофильской партии», скорее всего, рассказывал Роман Ким, зная о нем, очевидно, со слов отца. Если принять на веру, что матерью Романа была родственница королевы Мин, а отцом незначительный чиновник из финансового ведомства Ким Ок Кюна (имени Ким Бён Хака нет среди известных списков мятежников), становится понятным и выбор наказания. Молодая супружеская пара была отправлена в ссылку в глухую северную провинцию, в рыбацкий городок, скорее даже деревню, Пукчён, где Ким Бён Хак стал простым рыбаком. С учетом нравов тех лет, получается, что жена из рода Мин спасла жизнь своему мужу из рода Ким, которого легко могли обезглавить, как рядового и не заслуживающего подробного судебного разбирательства мятежника. Неизвестно, чем бы закончилось их существование в корейской глубинке, если бы десятилетие спустя колесо истории не повернулось еще раз.
Глава 2 КРОВЬ, МЕСТЬ И ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА
Эх, как по обширным равнинам Маньчжурии С востока Азиатского материка Да начинаем мы поход от Желтого моря, От береговых утесов, о которые бьются волны. Идем мы на далекий север, за триста pu, Чтобы донести туда восточно- азиатскую культуру! Дои Бансуй. Песня отдельного защитного отряда[19]Смешение разных политических идей и сил вокруг сторонников и противников королевы Мин неожиданным образом заставило говорить о себе 8 октября 1895 года. На рассвете группа японцев, вооруженных мечами, совершила во дворце Кёнбоккун то, о чем не могли даже помыслить воспитанные в духе конфуцианской преданности своим «драконам» рядовые корейцы. Иностранные боевики — их часто неправильно называют наемниками, а они таковыми не являлись, — ворвались прямо в спальню королевы и зарубили ее мечами.
Штурм дворца произошел на глазах у сотен свидетелей, одним из которых был русский архитектор Афанасий Иванович Середин-Сабатин (1860–1921). Талантливый градостроитель, Афанасий Иванович сыграл в Сеуле ту же роль, что англичанин Джошуа Кондер в Токио, застроив в 1883–1904 годах азиатскую столицу зданиями в так называемом колониальном, азиатском и европейском стилях, включая целые комплексы дворцовых сооружений. Свидетельства русского придворного архитектора[20] вкупе с рассказом самого вана Коджона, оставшегося в живых и скрывавшегося, кстати говоря, после резни в русском консульстве, а также показания самих убийц позволяют воссоздать картину произошедшего. Хотя эти данные во многом и противоречат друг другу, можно резюмировать, что в атаке на дворец приняли участие около пятидесяти японцев, вооруженных винтовками, группа японцев в кимоно и без каких-либо знаков различия — собственно террористов, и около двухсот — трехсот корейских военных, обученных и руководимых японцами. Примерно столько же солдат корейской гвардии, возглавляемых восемью офицерами, сразу же после начала штурма побросали оружие и амуницию и разбежались кто куда.
Русский консул Карл фон Вебер доносил в Санкт-Петербург: «Король… сообщил, что на его глазах японцы Окамото (бывший советник при корейском военном министерстве), Судзуки и Ватанабэ ворвались во внутренние покои дворца с обнаженными саблями и первые двое схватили королеву. Здесь он лишился сознания и больше ничего не помнит. Наследный принц видел затем, как королева бросилась бежать, а оба упомянутые японца за нею, но он полагает, что королеве удалось спастись». Не удалось. Наследный принц, в свою очередь, поведал, что «когда разъяренные японцы ворвались в помещение (где находилась правительница), они кричали: “Где королева?”, навстречу им бросился министр двора. Подняв руки, он умолял о пощаде, но палачи ударили его саблями и ринулись дальше на поиски королевы, которая в это время бежала в сопровождении фрейлины по длинному коридору. Японцы кинулись за ней, настигнув, повалили ее на пол, нанеся тут же несколько сабельных ударов. Смерть была мгновенной. Одна из фрейлин покрыла лицо покойницы платком». Японец Тэрасаки Ясукити, находившийся «по ту сторону баррикад», рассказал другую историю и с другими действующими лицами: «Накамура Тадэо, Фудзикацу Акира и я ворвались во внутреннюю комнату королевы, хотя король останавливал нас. Там находились 20–30 придворных дам. Выбросив их всех во двор, мы заглянули под одеяло, там лежала дама. Хотя она была одета, как все другие придворные дамы, но ее облик отличался аристократичностью. Мы решили, что это королева Мин. Мы схватили ее за волосы, но она по-прежнему держалась достойно… Я ударил ее ножом и повалил на пол»[21].
Несмотря на то что у исследователей — а это преступление, естественно, привлекло к себе их внимание — возникает масса вопросов и сомнений в правдивости этих и других показаний, одно можно утверждать точно: великая корейская королева Мин была убита около пяти часов утра 8 октября 1895 года, и убита японцами. Путаные сообщения корейской стороны позволяют строить версии о том, что преступление произошло если не с одобрения, то, по крайней мере, с ведома вана Коджона и группы придворных и гвардейцев, однако вся история семейной жизни короля Кореи свидетельствует о том, что он не просто находился под каблуком царственной супруги, но искренне и горячо любил ее. Впрочем…
В этой истории есть и еще одна интрига. Жену вана Коджона в Корее не зря ныне называют Великой королевой: эта поистине незаурядная женщина была хитрым политиком и прозорливым человеком. Она прекрасно понимала, что в тех условиях, в которых она оказалась по прихоти судьбы, но — в значительно большей степени — по своей собственной воле, ее жизнь стоит не слишком дорого. Возможно, поэтому королева Мин не просто не любила фотографироваться, а запрещала фиксировать свое лицо на фотопластинах или на картинах художников[22]. В октябре 1895 года такая предосторожность лишь ненадолго отсрочила ее гибель. Убийцам был незнаком ее облик, значит, либо ее кто-то выдал — вольно или невольно, либо она сама выдала себя — поведением или одеждой.
И всё же некоторые историки считают, что как минимум один снимок королевы Мин сохранился. Глядя сегодня на лицо, запечатленное на выцветшей фотографии, и сравнивая его с изображениями юного Ромы Кима, невольно вспоминаешь цитату из советской киноклассики: «Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ!» Но, конечно, сходство образов на старых портретах не может служить доказательством родства в реальной жизни, а данные о близких королевы Мин, как мы помним, также расплывчаты, как и ее облик на старом дагеротипе. Но вот что интересно: по рассказам Романа Кима, его родители переехали в Россию после примерно десятилетней ссылки, ставшей наказанием за участие отца в мятеже Ким Ок Кюна. Мятеж состоялся в декабре 1884 года. Значит, судили и наказывали бунтовщиков зимой 1884/85 года. Добавим десять лет и получим роковой 1895-й — год убийства королевы. К сожалению, мы не знаем, когда точно это произошло — до или после нападения японцев на дворец Кёнбоккун. Не знаем, от кого именно бежали Ким Бён Хак и его жена. От японцев, которые могли расправиться не только с королевой, но и с ее близкими и не очень близкими родственниками? Или от корейцев, которые знали что-то о роли этой семьи в организации убийства? По целому ряду причин первый довод выглядит убедительнее. Во-первых, маловероятно, чтобы из далекой рыбацкой деревушки родственница королевы и ее муж, сосланный как раз за оппозицию к Мин, могли принимать участие в сеульской политике и дворцовых интригах. Во-вторых, сам Ким Бён Хак, как бывший единомышленник Ким Ок Кюна, принадлежал либо к русофильской, либо, наоборот, к прояпонской «партии». В таком случае он не должен был представлять интереса для японцев — в отличие от Мин, которые ориентировались на Китай. Стоит вспомнить в связи с этим, что в том же 1895 году триумфом Токио закончилась Японо-китайская война. В этом смысле убийство королевы в Сеуле можно считать «зачисткой» политического поля в сфере жизненных интересов Японии. И попасть под эту карательную операцию скорее мог не Ким Бён Хак, а его жена из клана Мин — ей действительно было чего бояться и от кого бежать. В-третьих, вся дальнейшая известная нам биография Ким Бён Хака, ставшего вскоре в России Николаем Николаевичем, свидетельствует о том, что целью его жизни стала борьба с Японией. И руководили им не только политические пристрастия, не только патриотические чувства и ненависть к оккупантам Кореи — японцам (были на полуострове и те, кто приветствовал их), но и кровная месть за родственницу — реалия тех лет для Корейского полуострова. Но от кого конкретно бежал Ким Бён Хак с женой в русский город Владивосток, кому он потом мстил и кто же все-таки убил королеву Мин?
Разумеется, столь громкое преступление немедленно привлекло к себе внимание если не всего мира, то всей Азии точно. Вскоре после убийства, в декабре 1895 года, в Сеуле состоялся суд над людьми, которые, по всеобщему признанию, никакого отношения к смерти королевы Мин не имели. Еще через месяц, в январе 1896 года, уже японский суд в Хиросиме установил имена 56 заговорщиков, но… признал их всех невиновными. Организатором убийства был объявлен отставной генерал и бывший директор придворного колледжа Гакусюин, действующий член верхней палаты японского парламента, посланник Японии в Корее виконт Миура Горо. Но, конечно, сам генерал не бегал, размахивая мечом, по покоям корейской королевы. Для этого нашлись другие люди. Историки уверены, что террористический акт по устранению слишком уверенной в себе и открыто ориентирующейся в последние годы правления не на Японию, а на Китай и Россию королевы совершили члены самого известного в Японии тайного общества — Гэнъёся и его «дочернего предприятия» — Тэннюкё (Общество небесного переселения), созданного специально для осуществления разведывательно-диверсионной деятельности на территории Кореи. Но что такое эти японские тайные общества и как они связаны с судьбами Николая, а тем более еще не родившегося в 1895 году Романа Кима? И связаны ли вообще?
Как мы помним, в начале 1880-х годов в Токио Ким Ок Кюн встречался не только с основателем университета Кэйо и светочем либеральной мысли Японии Фукудзава Юкити, но и с его противоположностью в политическом мире Японии — ультранационалистом Тояма Мицуру. Пришло время рассказать об этом человеке, ибо его влияние на судьбу нашего героя оказалось хотя и опосредованно, но исключительно велико.
Тояма — один из самых знаковых и загадочных героев японской истории рубежа XIX–XX веков, позднее получивший прозвища «гуру японского национализма» и «босса боссов японской мафии», родился в 1855 году в городе Фукуока на острове Кюсю. Многие самураи с Кюсю, в том числе из Фукуоки, прославились своим горячим и напористым характером, вспыльчивостью, непокорностью, революционностью, но одновременно пытливым умом и способностью к обучению. Тояма Мицуру еще в молодости попал в тюрьму за участие в антиправительственном восстании и заговоре, результатом которого стало убийство крупнейшего японского политика Окубо Тосимити (события, описанные в романе Бориса Акунина «Алмазная колесница»). В 1881 году Тояма был освобожден, по мнению ряда историков, стараниями военного министра, создателя армии и полиции, одного из самых влиятельных людей в новой Японии — генерала Ямагата Аритомо. Доподлинно неизвестно, что заставило Ямагата пойти на это, но в традициях самурайской верности Тояма стал преданным другом генерала на долгие годы. Пока Ямагата поднимался по официальной карьерной лестнице, шаг за шагом реформируя страну по западному образцу, но с сохранением японского воинственного духа, последовательно занимая при этом посты министра внутренних дел и премьер-министра, становясь сначала графом, а затем герцогом и маршалом, Тояма, как мог, помогал ему, держась за фалды своего благодетеля. Воинственная патриотическая риторика, милая сердцу сотен тысяч бывших самураев, оставшихся в результате реформ буржуазной революции без рисового пайка и с нереализованными амбициями, привлекла их на сторону фукуокского пассионария. Очень скоро в распоряжении Тояма оказалась настоящая тайная армия, сформированная из числа бывших самураев и их наследников, скрепленная ультранационалистическими идеями и организационно оформленная в несколько тайных обществ. В некоторые моменты японской истории это буйное войско оказывалось не менее влиятельной силой, чем армия официальная.
Ямагата Аритомо носил почетнейший в империи титул гэнро и входил в число девяти высших сановников империи — неофициальных советников императора. Тояма же называли «народным гэнро». Говорили, что многие японцы «могли не знать имя премьер-министра, но были обязаны знать и помнить имя благородного Тояма»[23]. Это несмотря на то, что, по меткому выражению американского японоведа Хью Байеса, проверенных фактов биографии этого пассионария японского национализма так мало, что складывается парадоксальная ситуация: «Вам говорят, что это великий человек, но даже самые преданные его ученики не могут сказать, чем он велик; они уверяют, что он совершил великие дела для страны, но никто не объяснит внятно, какие именно»[24]. Несомненно одно: именно Тояма Мицуру стал инициатором создания многочисленных тайных националистических обществ Японии, основав в 1881 году, вскоре после своего освобождения, первое и очень влиятельное — Общество Черного океана, Гэнъёся.
Основным направлением деятельности Гэнъёся стало осуществление идеи паназиатизма в форме строительства новой азиатской империи путем завоевания ближайших материковых территорий — Кореи, Маньчжурии, а также Тайваня. Бывшие самураи наиболее воинственных кланов должны были сыграть в этом процессе важную роль, начиная с раскачивания японского общественного мнения и заканчивая практикой шпионажа и диверсий на материке. Поэтому мечтающий увидеть Корею под сенью японского меча Тояма искал любые способы ослабить правление корейской монархической династии, в которой всё большую роль играла смотрящая в сторону Пекина и Петербурга королева Мин. В свою очередь, корейский оппозиционный политик, понимающий, что его страна находится, как между молотом и наковальней, между растущими мировыми империями, пытался нащупать неформальные контакты с представителями разных политических течений Японии. Ким Ок Кюн зондировал возможности сотрудничества, пытался понять, кто может помочь в реализации личных амбиций, а оппоненты искали способы его использования. Когда же мятеж 1884 года провалился, именно Тояма Мицуру предоставил укрытие беглому мятежнику на первое время — пока власти Японии не решили, что этот отработанный человеческий материал им больше не нужен.
Десятилетие спустя набравшее силу Гэнъёся и функционировавшее как его «корейский филиал» общество Тэннюкё ликвидировали королеву Мин без всякого мятежа и опираясь на свои собственные силы. План спецоперации разработал Миура Горо. Убивали — члены Гэнъёся. Упомянутым в отчете Середина-Сабатина одетым по европейской моде японцем, командовавшим боевиками Гэнъёся, но спасшим во время покушения русского архитектора, по всей вероятности, являлся Адати Кэндзо, ставший позже министром внутренних дел Японии (сам Миура дослужился до поста члена Тайного совета). Среди террористов, размахивавших мечами во дворце корейской королевы, числились японские журналисты и дипломаты, врачи и юристы. Все — члены Гэнъёся, в том числе будущий посол в Бразилии Сугимура Фукаси и майор Окамото Рюносукэ — выпускник Кэйо, ученик Фукудзава Юкити, владевший корейским языком. Не у тех ли сорока студентов из Кореи, которых привез в Кэйо Ким Ок Кюн, он ему научился?
Глядя сегодня на групповой снимок убийц королевы Мин, понимаешь, что столетие с небольшим назад быть членом тайного националистического общества, обагрять свои мечи кровью его противников, убивать внутренних и внешних противников было совсем не зазорно для японских чиновников и даже дипломатов. Более того, интересы этих обществ, в том числе шпионаж, террор и диверсии, они порой считали более важными для себя, чем непосредственные служебные обязанности. Не случайно убийц установил и судил японский, а не корейский суд. Судил и оправдал всех — за недоказанностью. Оправдание стало стартовой командой для нового этапа деятельности тайных обществ, которые начали плодиться на почве грез о завоевании Восточной Азии как грибы после дождя. Советские разведчики О. Танин и Е. Иоган писали позже: «…Если просто сложить цифры количества членов всех этих организаций, как они фигурируют в их официальных отчетах, то получается совершенно фантастическая картина, и сумма членов всех этих организаций будет превосходить число всего взрослого мужского населения собственно Японии»[25]. Новым оплотом самурайского национализма стало основанное учеником и другом Тояма, фанатичным русофобом и разведчиком-энтузиастом Утида Рёхэй Общество реки Амур — Кокурюкай. По-китайски Амур называется Рекой Черного дракона, а потому и название Кокурюкай часто переводят как Общество Черного дракона. Уже даже по названию можно было понять, что основные интересы Кокурюкай лежали в областях, примыкающих к бассейну Амура — с обоих его берегов (Гэнъёся — Общество Черного океана получило название от пролива, разделяющего Корею и Японию). С направленным на Корею Тэннюкё мы уже знакомы, а для работы по «просвещению китайского населения», то есть для пропаганды японской культуры среди китайцев (не только в Китае) и формирования из них прояпонски настроенной «пятой колонны» не без помощи хорошо известного нам Тояма, было создано Восточноазиатское общество общей культуры — Тоадобункай. Китай и по количеству населения, и по значимости существенно превосходил Корею и Россию, а потому для его «просвещения» в рамках Тоадобункай был учрежден специальный «институт» — Тоадобунсёин. Главой учреждения в 1902 году стал некто Сугиура Дзюго (Сигэтакэ). Еще полвека спустя Роман Ким прямо назовет институт Тоадобунсёин разведывательным органом Японии в Шанхае, ведущим в то время работу против красного подполья[26].
Сугиура Дзюго родился в 1855 году в самурайской семье в небольшом городке Оцу близ Киото, в том самом месте, где в 1891 году японский полицейский Цуда Сандзо совершит покушение на русского цесаревича Николая Александровича. С ранних лет выказав склонности к изучению гуманитарных наук, за первейшую среди которых в Японии почиталась конфуцианская философия (страсть к ней мальчику привил отец), Сугиура в возрасте пятнадцати лет переехал для получения образования в Токио. В школе Кэйсэй он изучал также физику, химию и сельское хозяйство и, как один из самых перспективных ученых-аграриев, в 1876 году был отправлен на стажировку в Англию, откуда вернулся только в мае 1880 года. На родине, испытав свои силы в самых разных областях науки и в сфере новой японской бюрократии, Сугиура нашел себя в преподавании. Спустя два года он основал школу английского языка в Токио, вскоре взявшую на себя функции колледжа, готовящего к поступлению в самый престижный университет страны — Токийский императорский. Но просветительская деятельность в Японии тех лет, где всё еще продолжалась начатая в Реставрацию Мэйдзи борьба за умы, не могла не носить политического характера. И если Фукудзава Юкити во время своей поездки по миру стал убежденным западником, то его коллега Сугиура Дзюго уже в 1888 году вместе со своим единомышленником Миякэ Сэцурэй создал «Общество правильного образования» — Сэйкёся, положившее во главу угла идеологию «чистого», уникально японского, национализма — кокусуй. Несколько лет спустя воодушевленный идеями Сугиуры Тояма Мицуру приложил руку к созданию националистического общества Кокусуйкай.
Еще позже, в 1908 году, когда влияние западников в Японии после смерти Фукудзава и победы в Русско-японской войне быстро сходило на нет, Сугиура стал авторитетнейшим ученым-националистом и вошел в руководство нового тайного общества — Ронинкай, объединявшего тех, кому были близки ностальгические воспоминания о лихих рубаках — ронинах, то есть самураях, остававшихся по разным причинам без хозяина и надеявшихся в снискании пропитания только на свои силы и на свои клинки. Общество ставило основной задачей осуществление пропагандистских и разведывательно-диверсионных акций в Монголии и Маньчжурии, то есть примерно то же самое, что и все остальные. Однако особого успеха Ронинкай не стяжало и вскоре само собой исчезло, но всё же… Основал это общество уже знакомый нам Утида Рёхэй. Помимо Утида и Сугиура в руководство Роникай вошли Тояма Мицуру (куда без него!), Одзаки Юкио — министр юстиции, прозванный «Отцом японской конституции» и… Миура Горо — организатор убийства королевы Мин.
Сегодня, наверное, многим покажется это удивительным, но на самом деле нет ничего особенно странного в том, что королеву убивали дипломаты и журналисты, а министры и конфуцианские наставники образовывали тайные общества в компании с настоящими ронинами. Они по-разному видели детали обновления и расширения японской империи, но всех их объединяло чувство собственной принадлежности к богом избранному народу, способному и обязанному подчинить себе как минимум всю восточную Азию. Как заметил японский ученый Саканака Норио, «вообще-то, Сугиура Дзюго считается сторонником Кокусуй-сюги, а Тояма и Утида — паназиатизма. Между ними, конечно, существуют некоторые идейные различия, но, так или иначе, все они — ультраправые»[27].
Теперь, зная всё это, становятся понятнее причины ухода будущих родителей Романа Кима от карающих мечей японских ронинов во Владивосток. Ким Бён Хак и его жена знали, что их будут искать, и знали, кто этим будет заниматься. Для Ким Бён Хака и его жены бегство в Россию было шансом на спасение, хотя и там им пришлось столкнуться с бывшими ронинами.
В столице русского Приморья японские тайные общества действовали более тонко, чем, например, в Корее. Глава Кокурюкай Утида Рёхэй не раз посещал Владивосток именно в это время. Будучи наследником клановой школы боевых искусств Утида-рю, в 1896 году он открыл первую в России школу дзюдзюцу — именно во Владивостоке, при японском храме Урадзио Хонгандзи. При этом же святилище действовал своеобразный «профсоюз» японских проституток — Урадзио Акэбонокай (Общество утренней зари)[28]. Таких японок в городе было немало, и представители всех тайных обществ, какие только могли заинтересоваться бурно развивающейся русской морской крепостью, активно сотрудничали с «гейшами». Помимо японцев, в городе постоянно проживали, создавая национальные «слободки», корейцы и китайцы. Их всех тоже надо было «просвещать». Неудивительно поэтому, что вскоре в городе появился эмиссар Тоадобункай по имени Сасамори Гисукэ (1845–1915). Этого известного путешественника, специалиста в вопросах сельского хозяйства и чиновника рекомендовал в Тоадобункай его земляк Куга Кацуната — общественный деятель правого толка, близко знакомый с Сугиура Дзюго. Первым, кого Сасамори навестил, прибыв в 1899 году во Владивосток, был человек с той же фамилией — Сугиура, только с другим именем — Рюкити[29]. Русские также назвали его Тацукити или Тацукигу. Для японцев, особенно для тех японцев, которые точно знали, к кому надо обращаться во Владивостоке, чтобы решить самые сложные проблемы, Сугиура Рюкити был важной персоной. Он представлял в этом городе организацию, основные усилия которой были направлены на «просвещение» корейцев и китайцев, — Тоадобункай. Ту самую, во главе которой стоял Сугиура Дзюго. Более того, когда в 1893 году знаменитый, как это ни парадоксально звучит, японский разведчик полковник Фукусима Ясумаса прибыл во Владивосток в конце своего феерического «разведывательного турне», в ходе которого он преодолел верхом на коне расстояние от Берлина до Квантуна, в приморской столице его встречал именно Сугиура Рюкити — как резидент резидента[30]. Полковник далее направлялся в Маньчжурию, там вскоре ожидались важные события, и ему наверняка могла понадобиться помощь специалистов из тайных обществ, в том числе из Тоадобункай.
Для русских же Сугиура Рюкити был (и остается поныне) одним из самых известных иностранцев во Владивостоке. В 1897 году он унаследовал дело своего приемного отца и стал владельцем крупной экспортно-импортной компании «Сугиура сётэн», купцом 1-й гильдии. Его важнейшим торговым партнером и настоящим другом стал эмигрант из Кореи Ким Бён Хак, больше известный в Приморье как уважаемый торговец и промышленник Николай Николаевич Ким.
Глава 3 КИРПИЧ В ДЕЛО НЕЗАВИСИМОСТИ
Кто меня упрекнет, если поеду в Россию, Чтобы вместе с восставшими сражаться И в бою погибнуть?! Исикава Такубоку[31]Если верить записям в метрической книге Успенского собора Владивостока, Роман Николаевич Ким родился в этом городе 1 августа (по старому стилю) 1899 года в собственном доме своего отца в Корейской слободке. В статье Кимура Хироси указана другая дата: 20 июля, но мы будем придерживаться данных, известных нам по сохранившимся документам. В соответствии со статусом Николая Николаевича — крупного промышленника и уважаемого купца, младенца крестили в приморском кафедральном соборе — храме Успения Пресвятой Богородицы, что на главной улице города — Светланской[32].
Сам по себе факт крещения корейского ребенка в Успенском соборе выглядит сегодня весьма значительным — все-таки главный собор города, но, как город, Владивосток ко времени рождения Ромы Кима существовал всего-навсего 19 лет и попросту еще не успел обзавестись золотыми куполами на православных храмах, характерными для большой России. Похоже, что к лету 1899 года крестить корейца из хорошей, богатой семьи было больше негде, кроме как либо на Светланской, либо в одной из полковых часовень. Но вот интересная деталь: крестными родителями Ромы Кима стал Иван Романович Баженов, полковник, присяжный поверенный Владивостокского окружного суда, и дочь статского советника (то есть «гражданского» полковника) немка Мария Михайловна Эверсман. Достойные крестные для новорожденного корейского мальчика, родители которого прибыли невесть откуда, да и вообще с учетом того, что корейское население приморской столицы не относилось к сливкам ее общества.
До появления на берегах бухты Золотой Рог русской крепости корейцы здесь постоянно не жили. Первые переселенцы появились только в 1864 году, а с 1869-го, когда в Корее случился очередной неурожай, за которым последовал страшный голод, народ потянулся на север непрерывным потоком. К концу 1870-х годов во Владивостоке появилась уже обширная корейская слобода на специально выделенном за пределами города участке на Первой речке. «Корейка», как сразу прозвали местные жители этот пригород, не была, конечно, престижным районом, скорее наоборот. Уполномоченный Министерства иностранных дел в Амурской экспедиции В. В. Граве описывал «Корейку» времен Николая Кима так: «Внешний вид этого квартала ужасен — узкие, грязные улицы, преобладают маленькие дома корейского типа, построенные внутри дворов с глинобитными стенами. Кое-где попадаются дома русского типа, принадлежащие более зажиточным корейцам. Санитарное состояние слободки так же ужасно, как и китайской части города, что совершенно необъяснимо, так как корейцы по натуре чистоплотны и внутренность их жилищ в деревнях поражает своей аккуратностью…»[33] Писатель Н. Г. Гарин-Михайловский, побывавший тогда в дальневосточном форпосте империи, так описывал его население: «Китайцы подвижны, в коротких синих кофтах, таких же широких штанах, завязанных у ступни, на ногах туфли, подбитые в два ряда толстым войлоком… Китайская толпа оживлена, несутся гортанные звуки. Длинные косы всегда черных, жестких и прямых волос спускаются почти до земли. У кого волос не хватает, тот приплетает ленту…
Японки низкорослы, мясисты, с лицом без всякого выражения… Не крупнее и мужское поколение японцев, в своих европейских костюмах, шляпах котелком, из-под которых торчат черные, жесткие, как хвост лошади, волосы. Много японок в их халатах-платьях в обтяжку, с открытой шеей, широчайшим бантом сзади, без шляпы, в своей прическе, которую делает японка раз на всю неделю, смазывая волосы каким-то твердеющим веществом. Ходят они на неустойчивых деревянных подставках…
Корейцы — противоположность китайцу: такой же костюм, но белый. Движения апатичны и спокойны… Он курит свою маленькую трубку, или, вернее, держит во рту длинный, в аршин, чубучок с коротенькой трубочкой и степенно идет. Шляпы нет — на голове его пышная и затейливая прическа, кончающаяся на макушке, так же как и модная дамская, пучком закрученных волос, продетых цветной булавкой… Очень жидкая, в несколько волосков, бородка, такие же усы… За сановитой важностью и видимым равнодушием прячут они свое смущение, а может быть, и страх»[34].
Корейцев действительно считали более чистоплотными, чем китайцев, и даже называли «журавлями» за белый цвет их повседневных одежд, намекая на то, что китайцы предпочитали описанный Гариным-Михайловским немаркий темно-синий. Но у корейцев во Владивостоке срабатывала психология временщиков, как сказали бы сегодня, гастарбайтеров. За малым исключением, никто из них не планировал оставаться здесь надолго. Наоборот, приезжая лишь на заработки или спасаясь от голода, они всегда имели в голове «сверхзадачу»: заработать и вернуться домой. Отсюда и пренебрежение к быту, к санитарно-гигиеническим нормам, даже к жилищам, в которых они обитали. Это были низенькие, холодные, ужасного качества избушки-мазанки в национальном стиле, мало похожие на нормальное человеческое жилье, построенные в хаотическом беспорядке — первую улицу в «Корейке» проложили только в начале XX века! И, само собой разумеется, никто из прибывающих в Приморье корейцев не ехал сюда в надежде открыть свое дело, разбогатеть или хотя бы жить здесь достаточно долго для того, чтобы прилично выучить русский язык. Да и как разбогатеть, если, не имея ничего, кроме собственных рук, спины и ног, и уж тем паче не помышляя о каком-то мифическом «стартовом капитале», владивостокские корейцы брались за самые грязные и низкооплачиваемые работы, от которых отказывались более брезгливые и ленивые китайцы. Не помышлял никто, кроме нескольких семей, в том числе Николая Николаевича Кима и его жены Надежды Тимофеевны Мин.
На допросе в НКВД Роман Ким рассказал следователю то, что тот вряд ли понял: Ким Бён Хак стал Николаем Кимом не только в попытке скрыться от японцев, которые теоретически могли уничтожить весь клан Мин. Неясно, когда точно, но примерно в то же самое время, когда люди из Гэнъёся убили Великую королеву, ее муж — пророссийски настроенный ван Коджон принял решение о выводе крупных капиталов из Кореи в русское Приморье. Цель очевидна: создание внешней финансовой базы для борьбы против японцев. Не исключено, что к этому решению его подтолкнул кто-то со стороны, возможно даже со стороны российского генерального консульства в Сеуле, где скрывался король после убийства жены, а может быть, это было инициативой группы решительно настроенных корейцев, мечтавших о мести японцам. В том числе и мести кровной. Конечно, это представляется сегодня совершенно конспирологическими измышлениями, но как иначе объяснить чудесное одномоментное превращение бедного ссыльного из рыбацкой деревушки Пукчён Ким Бён Хака в уважаемого купца 2-й гильдии Николая Николаевича Кима, специализирующегося на строительных подрядах, имеющего обширные связи среди местных российских чиновников — как гражданских, так и военных, и тесно сотрудничающего с иностранными предпринимателями, обосновавшимися во Владивостоке?
Неизвестно, заинтересовались ли происхождением капиталов внезапно прибывшего корейского богатея российская полиция и администрация военного порта и крепости Владивосток. Скорее всего, нет: богат, и слава богу, не всё же нищим «журавлям» прилетать на приморские стройки и бойни. Зато с высокой степенью вероятности можно утверждать, что этим заинтересовались японские разведчики, в том числе работавшие в Корее и Приморье как эмиссары тайных националистических обществ и успешно использующие патриотические чувства своих земляков — японских предпринимателей.
Японская диаспора Владивостока начала XX века составляла разнородную, но очень важную и заметную прослойку в городе — около 2300 человек при общей численности населения около 40 тысяч, то есть около пяти процентов жителей, хотя это число довольно сильно колебалось в связи с миграциями сезонных рабочих. С 1895 года японская диаспора была объединена в Общество земляков — Дохокай (с 1902-го — Урадзио Кёрюминкай, то есть Общество японцев, проживающих во Владивостоке)[35]. Действительные члены этой организации делились на 14 групп, среди которых были владельцы торговых домов, врачи, часовщики и ювелиры, прачки, содержатели и персонал публичных домов (проститутки составляли едва ли не самую многочисленную прослойку диаспоры), представители различных профессий сферы обслуживания. Подчинялось Общество японскому консулу, платило ежемесячные взносы по плавающей шкале — в зависимости от доходов, что делало их больше похожими на налоги, имело свою школу и специальный Японский клуб на Пекинской улице, как место общения соотечественников. Нетрудно догадаться, что русские жители Владивостока на Общество смотрели косо, вполне справедливо предполагая, что одной из целей его создания была организация более четкого и строгого учета приморских японцев, в том числе и с целью получения от них разведывательной информации, ибо многие были вовлечены в строительство Владивостокской крепости и обслуживание военных городков. Наибольший же вес в этой организации имели представители консульства и фактические спонсоры Общества — японские коммерсанты. К 1895 году в городе работали 12 японских магазинов 2-го разряда, 32 — 3-го и десятки мелких лавочек[36]. Но особое место занимал гигант, стоявший в одном ряду со знаменитыми «Чуриным и К°», «Кунстом и Альберсом», «Лангелитье и К°» и «Тун ли» — японская компания «Сугиура сётэн».
Предыстория появления на владивостокском рынке крупнейшего игрока из Японии восходит к 1880 году. Компанией, названной так по фамилии ее владельца — Сугиура Хисато, скончавшегося в 1897 году, к 1895 году руководил его приемный сын — Сугиура Тацукити, ставший в городе одним из немногих иностранцев — купцов 1-й гильдии. Компания Сугиура, размещавшаяся в собственном доме на Пекинской улице, занималась оптовой торговлей одеждой и хозяйственными товарами, имела собственную банкирскую контору, морской отдел, выступавший в Приморье агентом сразу нескольких японских пароходств, функционировала как представитель морского страхового общества «Ниппон кайдзё хогэн кайся» и наоборот — представляла в Японии московское товарищество мануфактур Н. Н. Коншина[37]. Но, похоже, это было не всё. Роман Ким не раз указывал в анкетах, что он является приемным сыном Сугиура Рюкити — главы компаний «Тайсё йоко» и «Хаяси йоко». Во владивостокских газетах можно найти рекламные объявления «Конторы торгового дома “Хаяси-Иоко”, размещавшейся на Светланской улице, 13, в здании гостиницы “Золотой рог”». Как мы уже знаем, Сугиура Тацукити и Сугиура Рюкити — это один и тот же человек, представитель Тоадобункай в Приморье.
Известно, что в 1908 году торговый дом «Сугиура сётэн» обанкротился, что могло быть связано с результатами Русско-японской войны, из-за которой вся торговля прекратилась, японская диаспора покинула Приморье, а отношение русских к японцам резко испортилось, что создало крайне неблагоприятный климат для бизнеса и инвестиций. Не исключено, однако, что на самом деле Сугиура в некоторой степени сгустил краски, по каким-то иным причинам решив покинуть Владивосток и перебраться в 1908 году в русский же Харбин. Формально покинув Приморье, он на самом деле лишь диверсифицировал бизнес и сохранил свое присутствие не только во Владивостоке. При этом о самом Сугиура Рюкити (будем дальше называть его этим именем, употреблявшимся Романом Кимом) не известно почти ничего, за исключением того, что он родился в июне 1868 года в Токио в районе Усигомэ (запомните это название!) и, до того, как стать приемным сыном основателя «Сугиура сётэн», носил другие фамилии: Кубота и… Хаяси[38]. Это еще один довод в пользу того, что Хаяси Рюкити и Сугиура Тацукити — один и тот же человек, и этот человек был исключительно влиятельной фигурой во Владивостоке, по крайней мере до Русско-японской войны, то есть до 1904 года.
Не случайно поэтому и Николай Ким с его непонятно откуда взявшимися немалыми капиталами проявил интерес к деятельности крупнейшего японского предпринимателя. У самого Кима был не только собственный дом в непрестижной «Корейке». Воспоминания Романа Кима позволяют нам предположить, что это была не обычная корейская мазанка, а значительно более престижное жилье: «Дом моего отца представлял собой своеобразный салон, который привлекал к себе (обычно по субботам) всю местную знать, иностранцев, военные власти (военных инженеров, офицерство)…»[39] Основой бизнеса бывшего представителя янбан была торговля. Николай Николаевич сумел получить «госзаказ» — для нужд русской армии он импортировал говядину из Кореи, фрахтуя для этого в том числе и японские суда — возможно, как раз с помощью Сугиура Рюкити. Например, в 1901 году компания Кима открыла регулярное торговое пароходное сообщение по линии Сонджин (ныне Кимчхэк) — Вонсан — Владивосток, арендовав для этого японский пароход «Косё-мару» водоизмещением 348 тонн. За тот год только говядины из Кореи было вывезено 1622 туши, но уже в следующем году это начинание пришлось бросить из-за внезапной эпидемии, сделавшей поставки мяса невозможными. Ким передал бизнес своему земляку и компаньону по имени Чхве (Цой) Бон Чжун (1859–1917)[40], а сам арендовал у городской управы участок земли в три десятины и выстроил на нем кирпичный заводик, получив подряд на строительство следующей очереди укреплений владивостокской крепости[41]. Русские военные и городская управа передали Киму часть подрядов на жилое и дорожное строительство, в зданиях Кима снимали офисы Осакская пароходная компания и японский банк «18», зашедший в Россию через Корею и называвшийся во Владивостоке банком «Мацуда». Размах деятельности и дворянское, пусть и корейское, происхождение способствовали тому, что Николай Николаевич Ким, значившийся в различных справочниках то мещанином, то купцом (он и был им — 2-й гильдии), приобрел заметное влияние в городе и стал единственным корейцем Владивостока, имевшим право голоса на выборах гласных городской думы[42]. Фактически Сугиура Рюкити, с одной стороны, и Николай Ким — с другой, представляли собой бизнес-элиту японской и корейской диаспор во Владивостоке соответственно. Вполне естественно, что у них были общие деловые интересы и, вероятно, они внимательно изучали друг друга.
Интерес Кима к японцу понятен: нет сомнений в том, что с самого своего прибытия в Россию Ким Бён Хак включился в деятельность местного антияпонского подполья. Реальные результаты этого движения стали заметны только после Русско-японской войны. Для того чтобы реализовать амбициозные проекты по освобождению Кореи сначала от засилья Японии, а потом и вовсе от японской оккупации, корейским патриотам во Владивостоке предстояло пройти длинный путь, приложить массу усилий для оформления стихийного недовольства мигрантов в движение сопротивления. Судя по всему, Николай Ким с самого начала играл в этом процессе роль «денежного мешка», точнее, инвестиционной компании, которая, используя финансы, выведенные после убийства королевы Мин из Кореи, успешно вкладывала их в коммерческие проекты, а полученную прибыль направляла не только на развитие бизнеса, но и на оказание помощи сопротивлению. После Русско-японской войны и оккупации Кореи приоритеты немедленно поменялись и основная масса денег пошла на борьбу с японцами. В таком случае, для Николая Кима Сугиура Рюкити мог являться не только отличным торговым партнером, но и ценным источником информации об экономической и политической ситуации в Японии. А главное, благодаря ему Ким мог заводить знакомства не только с представителями японской диаспоры во Владивостоке, но и с японцами — влиятельными жителями архипелага. И тут, конечно, нельзя не попытаться решить еще одну загадку, связанную с фамилией Сугиура.
В 1902 году, когда во Владивостоке, в сотрудничестве с Сугиура Рюкити, начала восходить звезда купца Николая Кима, в Токио быстро набирал политический вес ставший директором Тоадобунсёин теоретик японского национализма Сугиура Дзюго. Существовала ли какая-либо связь между людьми с одинаковой фамилией: Сугиура Дзюго (Сигэтакэ) и Сугиура Рюкити (Тацукити)? Ее безуспешно пытался обнаружить еще Кимура Хироси, работавший над биографией Романа Кима несколько лет. Увы, необходимо признать: тайна остается неразгаданной и сегодня. Молчат архивы, молчат мемуаристы, историки, нет данных о Сугиура Рюкити в книгах о Сугиура Дзюго и ничего не знают о нем в музее знаменитого националиста… Впрочем, нет, как раз историки, точнее, один японский историк попытался выяснить, есть ли что-то общее между этими людьми. Писатель Оно Каору, автор книги «Убийство Ито Хиробуми — истинный преступник сокрыт во мраке», приложил немало усилий при изучении биографии Николая Кима и уверен, что между Сугиура Дзюго и Сугиура Рюкити существовала тесная связь. И этой связью был сын Николая Николаевича Кима — Роман.
В 1937 году, будучи арестован по обвинению в шпионаже, Роман Ким рассказал следователю, что документы на его поступление в школу Ётися при университете Кэйо помогали оформлять Сугиура Рюкити и Ватанабэ Риэ. В японском архиве сохранился отдельный доклад по Ким Бён Хаку от Каваками Тосихико, чиновника по внешней торговле во Владивостоке от 20 сентября 1906 года. В нем упоминается, что Ким Бён Хак советовался с Каваками по поводу отправки ребенка в Японию на учебу. Кто эти трое: Сугиура, Ватанабэ, Каваками? И почему они оказали содействие корейскому купцу в его личном деле?
О Ватанабэ Риэ, к сожалению, тоже известно очень немного, хотя столетие назад его фамилия была знакома всякому интеллигентному жителю русского Приморья. Ватанабэ Риэ впервые приехал на службу во Владивостокское консульство в качестве стажера Министерства иностранных дел еще в 1896 году, то есть предположительно одновременно с отцом Романа Кима, и уже тогда был зафиксирован русской полицией как разведчик, агент японского Генерального штаба[43]. В 1903 году он занял должность рядового чиновника консульства — секретаря коммерческого агента Каваками, но уже в следующем году покинул ее в связи с начавшейся войной и убыл в действующую армию в качестве военного переводчика. В апреле 1908 года он вернулся во Владивосток и проработал в городе до 1911 года, снова попав в поле зрения русской контрразведки: «Господин Ватанабэ… проводил сбор политической, экономической информации о Приморье, т. е. иными словами, вел разведывательную деятельность во Владивостоке, прикрываясь дипломатической крышей». Одновременно, как пишет о нем историк спецслужб А. М. Буяков, «Ватанабэ Риэ был душой местной японской диаспоры. Молодой, начитанный человек, знающий прекрасно русскую литературу и историю, довольно часто выступал с лекциями и беседами среди посетителей японского клуба, расположенного в банковском доме Сугиура во Владивостоке. Поддерживал он связи не только с соотечественниками, но и, в первую очередь, с владивостокской элитой, черпая из этой среды важную информацию в интересах японского правительства»[44]. К этому стоит добавить, что владельцем дома, где собирался местный бомонд и который арендовала банковская контора Сугиура, был Николай Ким.
В 1913–1917 годах Ватанабэ служил в Москве, в 1918-м стал вице-консулом в советской столице. В 1920–1924-м, а затем с 1925 по 1929 год он был консулом и генеральным консулом Японии во Владивостоке. Последний свой срок в Советской России Ватанабэ Риэ прослужил в качестве генконсула Японии во Владивостоке с ноября 1933-го по март 1936 года[45]. Этот человек провел в нашей стране в общей сложности около трех десятилетий, и большую часть этого времени — во Владивостоке. Нет сомнений, что он отлично знал Россию, русских, Приморье с его многонациональным и сложным укладом жизни, хорошо был осведомлен о жизни национальных диаспор, как нет сомнений и в том, что он являлся патриотом Японии, отдавшим всю жизнь работе на свою разведку. С влиятельным и информированным корейцем Николаем Кимом его связывали не вполне ясные отношения, которые Роман Николаевич на допросе сформулировал так: «Несомненно, что отец мой… представлял для Ватанабэ, ведшего разведывательную работу, такую фигуру, при помощи которой он мог выполнять поставленные перед ним японской разведкой задачи… В доме моего отца Ватанабэ мог завязывать нужные ему связи, черпать интересующие его сведения и намечать надлежащие объекты для вербовок. Я лично не знал, был ли мой отец завербован Ватанабэ или каким-либо другим лицом, занимавшимся разведывательной деятельностью в пользу Японии»[46]. Признание, с учетом времени и обстановки, в которой оно сделано, неоднозначное, к нему стоит относиться с большой осторожностью, но вряд ли следует совсем сбрасывать со счетов.
Бывший шеф Ватанабэ — Каваками Тосицунэ (Тосихико) окончил Токийский институт иностранных языков, став дипломированным русистом. Служил в МИД Японии, а с 1891-го до сентября 1904 года являлся японским коммерческим агентом во Владивостоке и внес особый вклад в эвакуацию японской диаспоры, когда началась война[47]. В мае 1903 года, в связи с целенаправленной подготовкой Японии к войне против России, 3-й (разведывательный) отдел Морского генерального штаба (МГШ) Японии возложил на Каваками функции своего резидента во Владивостоке: «Считаю целесообразным полностью возложить сбор сведений о русском флоте и армии во Владивостоке и другой информации военного характера на коммерческого агента и его подчиненных… полагаю необходимым установить прямую связь между коммерческим агентством и соответствующим отделом Морского генерального штаба». В сжатые сроки все вопросы по взаимодействию были согласованы, и начальник МГШ 27 мая 1903 года издал директиву: «Наблюдение за обстановкой во Владивостоке возлагается на коммерческое агентство, которое, используя специальный телеграфный код, должно незамедлительно доносить о всех событиях на этом направлении. Капитаны наших пароходов, курсирующих между Владивостоком и японскими портами, обязаны представлять доклад об обстановке каждый раз по возвращении в Японию»[48]. В марте 1906 года Каваками вернулся во Владивосток, а через полгода к нему обратился Николай Ким.
Таким образом, «крестными отцами» операции по отправке в Японию маленького Ромы Кима стали представитель националистического общества Сугиура Рюкити, агент Генерального штаба Ватанабэ Риэ и резидент военно-морской разведки Японии во Владивостоке Каваками Тосихико.
К сожалению, письмо от Каваками на имя виконта Хаяси о том, что в Японию отправляется семилетний Роман Ким, не столько объясняет, сколько еще больше запутывает ситуацию[49]. Каваками пишет, что Николай Ким живет во Владивостоке около четверти века, то есть примерно с 1881 или 1882 года. Это объясняет знание Кимом русского языка, обычаев и способов обогащения, но в корне расходится с версией его сына Романа о ссылке родителей в Пукчён, их участии в деятельности «русофильской партии» в Сеуле, бегстве после 1895 года в Россию — со всеми без исключения данными, которыми мы оперируем, составляя официальную биографию Романа Николаевича Кима. Кроме того, в этом письме есть еще одна загадка. Зачем, собственно, коммерческому агенту и агенту военно-морской разведки Японии понадобилось в довольно путаном письме на имя министра иностранных дел своей страны сообщать о столь откровенно малозначащем для межгосударственных отношений событии, как посылка семилетнего корейца на учебу в Японскую школу? Почему Каваками вообще написал министру иностранных дел, которому не был подчинен по прямой линии (скорее, это мог бы сделать японский консул во Владивостоке, и, возможно, он тоже составил не найденный пока исследователями рапорт). Это странно, и пока что письмо Каваками выглядит нерасшифрованным свидетельством в запутанной игре, которую вели спецслужбы Японии и корейское подполье во Владивостоке.
Ученый из сеульского университета Чунань Ким Хон Чжун, ссылаясь на документы корейских и японских архивов, соглашается с мнением японского писателя Оно Каору, которое могло бы разрешить эту загадку: японские разведчики, работавшие во Владивостоке под крышей консульства и коммерческих организаций, с конца XIX века вели тщательное наблюдение за корейскими беженцами в России, а Ким Бён Хак был одним из объектов наиболее пристального интереса японской разведки, в том числе работавшей с позиций тайных обществ[50]. Это полностью соответствует признанию Романа Кима на допросе 1937 года. Весьма вероятно, что внимание японских разведчиков привлекли оба момента: и то, что Ким Бён Хак оказался одновременно человеком, приближенным к японофилу-прогрессисту Ким Ок Кюну, и мужем родственницы королевы Мин, и то, что в Россию он прибыл с «кассой», позволившей мгновенно развернуть прибыльное дело. Никаких действий в отношении Николая Кима японцы не предпринимали. Во всяком случае, нам об этом неизвестно, да и смысла в этом не было: наблюдение пока что оставалось наиболее эффективным способом держать корейскую диаспору во Владивостоке под контролем. Одним из первых активных шагов по сближению интересов руководителей тайных обществ и Николая Кима стала отправка маленького Ромы Кима на учебу в Японию, в элитную школу Ётися при еще более элитном университете Кэйо, в который так хотел когда-то отправить учиться корейцев Ким Ок Кюн.
Именно тогда, когда было принято это решение, судьба Романа Кима совершила первый поворот к той авантюрной дороге, по которой он потом прошагает всю жизнь. Сам он не участвовал в этом выборе, но всю жизнь подсознательно чувствовал его неизбежность, роковую и родовую предопределенность. В этом смысле судьба Романа Кима в тот момент впервые напомнила судьбу Рихарда Зорге, родившегося на четыре года раньше и тоже в России. Ким верил, что в значительной степени своей биографией оказался обязан предкам, в том числе двоюродной тетке (рискнем предположить такую степень родства) — королеве Мин. Рихард Зорге не раз говорил, что решению следовать идеалам коммунизма способствовало осознание того, что он является двоюродным внуком ближайшего друга Маркса и Энгельса, одного из основателей американской Социалистической партии Фридриха Зорге. Кореец Роман Ким и немец Рихард Зорге в детстве покинули Россию, чтобы вернуться в нее людьми со сформировавшимися убеждениями, а потом стать крупнейшими фигурами тайной истории нашей общей родины.
Глава 4 ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК ИЗ КЭЙО
Человек вне времени, вне пространства, Вне страны, вне партии, вне гражданства, Вне семьи, вне дома, вне дат печальных, Вне побед, вне целей ближних и дальних, Человек вне общих акций протеста — Неизвестно, из какого он теста… Александр Долин. Человек вне времени…«Япония — страна, где я провел детство. Страна, где я впервые учил алфавит и счет, и страна, где меня впервые повлекло к литературному труду…» — напишет много лет спустя Роман Ким, наводя на мысль о том, что Япония, а не Россия и не Корея, стала его настоящей родиной[51].
Он попал туда ровно через год и одну неделю после окончания Русско-японской войны, 13 сентября 1906 года[52]. Мы не знаем, каким путем и кто привез маленького Рому Кима в Японию. Скорее всего, его доставили либо японским пароходом, либо рейсом Владивосток — Цуруга русского «Доброфлота». Почти все наши соотечественники в то время добирались в Токио именно так, следуя дальше от порта Цуруга, расположенного на той стороне Японии, что обращена к материку, до столицы на поезде.
Если верить церковной метрике, родился Роман Ким в 1899 году, а значит, вряд ли успел пойти в школу в России. Обучался дома? Вполне возможно, ведь это была общепринятая практика для дворян и зажиточных людей того времени. Не исключено даже, что он с раннего детства учил не только русский, но и японский язык, а может быть, и французский. Правда, это противоречит утверждению самого Кима о том, что он учил алфавит в Японии. В конце концов, нам неизвестно, с каким знанием русского прибыли во Владивосток его родители, но мать окончила французский колледж в Пекине. Вероятно, она и учила сына. Во всяком случае, взрослый Роман Николаевич Ким по-французски говорил, а вот по-корейски — нет. «Свой родной — корейский, почти не знаю», — писал он в анкете[53]. Правда ли это? Вопрос сложный, и, скорее всего, ответа на него мы не найдем. С одной стороны, во многих семьях мигрантов корейский оставался языком лишь домашнего, бытового общения и во втором поколении переселенцев нередко исчезал из употребления совсем. Роман уехал из дома ребенком, а значит, был лишен даже этой возможности говорить на родном языке. С другой — некоторые корейские исследователи уверены, что еще до отъезда Роман Ким получил воспитание и образование, соответствующее статусу его родителей в Корее. Литературовед из Сеула Ким Хон Чжун, изучающий литературное наследие Романа Николаевича Кима, уверен: «С точки зрения филологии, бесспорно, он принадлежит корейской интеллигентской традиции. Об этом свидетельствуют “Ноги к змее” и его рассказы. Знание конфуцианства и корейской культуры, сочувствие к трагической истории Кореи — типичное свойство тогдашних корейских интеллигентов и представителей привилегированного сословия янбан»[54]. Если так, то и корейский язык Роман должен был бы учить, однако свидетельств тому нет. Но, если нам неизвестно доподлинно, с каким багажом знаний Рома Ким прибыл в Японию, давайте попробуем разобраться с тем, куда он приехал.
Логично предположить, что отец Романа Кима, помня со времен Ким Ок Кюна о возможностях школы Кэйо дзюку, выросшей к 1906 году в университет Кэйо, по обучению иностранцев, изначально собирался определить своего ребенка в это учебное заведение. Что это значит, ведь мальчику было только семь лет? Дело в том, что при университете Кэйо действовала и школьная система образования. Она состояла из трех ступеней (начальная школа Ётися, средняя — колледж Фуцубу, и старшая — подготовительное отделение уже собственно университета) и готовила к поступлению в лучшие, в том числе в императорские, университеты Японии, и среди них был самый престижный в стране — Токийский. Разумеется, после завершения обучения при Кэйо целесообразно было бы поступать прежде всего в сам университет Кэйо. Он не относился к числу императорских, но стоял, благодаря историческому первенству и качеству подготовки, на одной строке рейтинга с ними. Маленький Рома Ким был направлен в Ётися.
Частная школа Ётися при университете Кэйо соответствовала общегосударственным младшим школам трехступенчатого японского школьного образования. Обучение в ней было платным: вступительный взнос составлял три иены, каждый триместр — 12 иен (36 иен в год). Еще 13 иен в месяц стоило проживание в школьном общежитии. Дети обучались как пансионеры, и надо было платить за крышу над головой, питание и прочие расходы[55]. Учебный год начинался 1 апреля, а заканчивался 31 марта (с учетом весенних каникул). Летние каникулы были отнесены на самое жаркое в Токио время: с 13 июля по 7 сентября. Обучение в школе второй ступени — колледже Фуцубу тоже было платным. 15 сэн (1 иена = 100 сэн) стоили вступительные экзамены и еще три иены — вступительный взнос. Годовое обучение было разделено на три триместра, каждый из которых стоил 12 иен, и еще одна иена в семестр взималась в качестве особого физкультурного сбора. Много это или мало? Для сравнения можно посмотреть, сколько стоило обучение русских учеников в тот же самый период в Токийской православной духовной семинарии у архиепископа равноапостольного Николая Японского. Есть сведения о том, что на второй семестр 1908 учебного года семинария получила от русского военного министерства, спонсирующего обучение, 1278 рублей на 13 воспитанников[56]. В семинарии тоже был установлен круглосуточный полный пансион, и, таким образом, получается, что каждый воспитанник «стоил» в месяц около 16 рублей, что по тогдашнему курсу равнялось приблизительно 15 иенам. Получается, что обучение японцев в Ётися обходилось примерно в такую же сумму, что и подготовка будущих русских разведчиков и переводчиков в семинарии[57]. При этом обучение во Владивостоке стоило значительно дешевле — 40 рублей в год в местной мужской гимназии, дававшей отличную базу для поступления в лучший вуз Приморья — Восточный институт, но уже безо всякого пансиона.
Одновременно с Романом Кимом в Ётися в 1906 году поступили шесть китайцев, три американца и еще один кореец (в 1911 году к ним добавился и «русский» кореец — Хван Ён Бом) из Никольска-Уссурийского. Как видим, состав учащихся был интернациональным, и ученики из разных стран должны были испытывать серьезные трудности в овладении сложным японским языком. Следовательно, должна была существовать какая-то методика, помогающая детям-иностранцам адаптироваться в такой системе, помимо исключительно популярного и сегодня метода: «чтобы научиться плавать, надо броситься в воду». Но даже если такая методика и существовала, обучение сразу начиналось на японском языке. Известно немало случаев, когда дети из России приезжали в Японию вовсе без знания языка, а вскоре становились лучшими учениками среди своих японских сверстников. Судя по дошедшим до нас данным, то же самое произошло и с Романом Кимом.
«Еще когда моя учеба за границей только начиналась, надо мной издевались из-за того, что я был корейцем, — рассказывал P. Н. Ким о своем детстве литературоведу Кимура Хироси. — Но мне хорошо давался спорт, и я особо не обращал на это внимание. Но однажды произошел случай, сделавший меня более популярным. Кажется, это было в четвертом или пятом классе Ётися. В школу приехала группа туристов из России, и ее руководитель сказал несколько слов приветствия. На русском, конечно же. А я это перевел! Для меня в этом ничего такого не было, но все — от учителей до учеников — были поражены, и моя популярность резко возросла.
И еще было такое. Ёсано Тэккан из “Мёдзё” попросил меня перевести стихи русских символистов. Я перевел несколько штук и послал ему. Чьи стихи были — уже забыл. И тогда Тэккан-сэнсэй прислал мне, зеленому юноше, благодарственное письмо, адресованное “Киму-сэнсэю”. Я с гордостью показывал его друзьям»[58].
Любопытно, что и в этих коротких, рассказанных Кимом на склоне дней историях тоже есть «белые пятна». Сам Кимура Хироси не смог найти стихов Романа Кима в журнале Ёсано «Мёдзё», а переводчик В. А. Бушмакин заметил, что даже на момент выхода последнего номера этого журнала, в ноябре 1908 года, Роману Киму было только девять лет. Выглядит несколько странным то, что девятилетний мальчик мог не только понимать стихи символистов, но и переводить их на язык, который он изучал всего два года. К тому же Ким поступил в Ётися в сентябре, посреди учебного года (правилами это дозволялось) и, судя по дате выпуска из школы, сразу во второй класс[59]. Это еще раз наводит на мысль о том, что в Японию Рома Ким приехал уже в некоторой степени подготовленным.
Издевательство же над новичками и иностранцами, своеобразная «школьная дедовщина» в Японии была и остается обычным, общепринятым, хотя и осуждаемым обычаем. Насмешки, обзывательства, даже побои — в японской школе до сих пор возможно всякое. Для иностранца лучшее средство избавиться от таких издевательств — быстрое овладение языком и физическая сила. О Романе Киме не раз писали, что он был хорошим спортсменом и особенно увлекался бейсболом и сумо — самыми популярными в Японии видами спорта, требующими к тому же недюжинной силы, ловкости и смелости. Так что постоять за себя Роме пришлось, и он сумел навсегда положить конец насмешкам над собой.
Что же касается эпизода с переводом приветствия группы туристов из России, то в газете «Тэ Хан хынхак хо» Корейского общества по организации школ, выпускавшейся с 1909 года корейскими студентами в Японии, в номере 5 от 20 июля есть заметка, основанная на выступлении чиновника Кэйо, отвечающего за обучение иностранных студентов: «Сообщают, что молодой и талантливый господин Ким Ги Рён (12), учащийся в 5-м классе начальной ступени школы Кэйо в Токио, превосходный [своим] умом, достигший многих успехов в обучении, известный своей хорошей репутацией, на этот раз во время проведения торжественного мероприятия в честь группы русских студентов [приветствовал их] сердечными словами на хорошем русском языке, при этом все собравшиеся были в сильном восхищении». Речь идет о визите 3 июля 1909 года шестнадцати школьников из Владивостока, сопровождаемых десятком корреспондентов газет. Цифра 12, поставленная в скобки, обозначает возраст героя заметки, а имя — Ким Ги Рён — принадлежит Роману Киму, под ним он был записан в учетную книгу Ётися при поступлении.
Еще раньше, в номере газеты «Дзидзи симпо» от 9 декабря 1907 года, то есть всего через год после поступления романа в Ётися, тоже упоминается Ким Ги Рён, 12 лет, «развлекавший» собравшихся речами на русском и японском языках на церемонии открытия нового лекционного корпуса и школьной столовой. В хронике школы Ётися, куда попала эта заметка, особо отмечается, что Ким Ги Рён стал в будущем популярным советским писателем Романом Кимом[60]. И здесь мы тоже сталкиваемся с вопросами. Прежде всего, как все-таки звали в детстве этого популярного писателя?
Сам Роман Николаевич Ким, рассказывая о своих школьных годах (в основном он это делал либо за рабочим столом, либо на привинченном к полу табурете перед столом следователя, но в любом случае на Лубянке), называл множество «своих» имен. Те, кто позже писал о Киме, внесли в этот список свою лепту. Воспроизведем некоторые из них, не разделяя пока на «истинные/ложные»: Ким Роман Николаевич, Ким Роман Анатольевич, Мотоно Кинго, Саори Кинго, Ким Саори, Ким Ян Ён, Кин Кирю, Сугиура Кумтаро, Сугиура Киндзи. Чтобы выяснить, какое (или какие) из этих имен действительно имена, а не псевдонимы, обратимся к одному из основных дошедших до нас источников биографии Романа Николаевича Кима — уже известной нам статье Кимура Хироси «Портрет одного писателя» с подзаголовком «Советский писатель-детективщик. Загадки Романа Кима. Жизнь человека, имевшего три родины и ставшего игрушкой в руках судьбы»[61].
Кимура Хироси (1925–1992) — японский переводчик-русист, литературовед, много писавший о трудах наших писателей и о них самих, окончил Токийский университет иностранных языков и работал в престижных вузах Токио и Йокогамы. Увлекался изучением современной ему русской литературы и в 1958 году познакомился с Романом Кимом, переживавшим в то время расцвет писательской карьеры. Беседы с Кимом легли в основу нескольких статей о советском мастере детективного жанра. Здесь приводится та из них, что наиболее полно и точно воссоздает биографию нашего героя. Она была опубликована в январском номере журнала «Бунгэй сюндзю» за 1984 год много лет спустя после смерти P. Н. Кима и содержит в себе помимо его воспоминаний массу интересных деталей, собранных самим автором. Однако даже в этом случае надо иметь в виду, что Кимура готовил свой материал значительно позже описываемых событий, а потому неточности и ошибки в нем вполне возможны.
Подробный разбор иероглифов, которыми записывалось (в разных вариантах) имя Романа Кима в Японии, осуществил В. А. Бушмакин[62]. Теперь мы можем точно сказать, что в корейском варианте нашего героя звали Ким Ги Рён (Гирён). В следственном деле НКВД он значится как Кирьон, а в японском — Кин Кирю (Кирюу). Что же касается вариантов «Киндзи», «Кинго» и «Кумтаро», то, по мнению Бушмакина, во всех случаях это переделанная настоящая фамилия Кима, и переделанная… одинаково. Во всех случаях, включая диалектное «Кинтаро», услышанное следователем НКВД как «Кумтаро», эти варианты означают одно и то же: «Золотой мальчик». Роман Николаевич Ким был личностью весьма сложной, но можно точно сказать, что себя он всегда ценил исключительно высоко, и только особенности тщательно соблюдаемого им дальневосточного этикета не позволяли ему слыть тщеславным человеком.
Кстати, вот еще одна загадка. В японском языке принято четко обозначать степень родства людей: не просто «брат», а «старший брат» или «младший брат», например. И в истории школы Ётися, и в донесениях агентов японской разведки из Владивостока Ким Ги Рён (Роман Ким) значится как «старший сын Ким Бён Хака» (тёнан). Однако нигде и никогда больше в биографии Романа Кима не упоминаются ни его братья, ни сестры. Существовали ли они на самом деле? Или этот термин употреблялся как аналог русского слова «первенец», когда акцент делается на том, что этот ребенок родился первым и не важно, есть у него другие братья или сестры. Неизвестно.
Наконец, возраст. «Дзидзи симпо» в 1907 году пишет о двенадцатилетнем Киме. Двумя годами позже газета корейской диаспоры снова пишет об опять же двенадцатилетнем Киме. Как мы помним, Роман поступил в Ётися в 1906 году и сразу во второй класс. Значит, пятый класс в 1909 году — вполне естествен, но почему ему снова 12 лет, если даже десять ему должно было исполниться только 1 августа? Если предположить, что возраст Кима исчисляли по еще действующей в то время системе кадзоэдоси, когда принимается в расчет каждый год жизни, начиная со смены лунного года, то есть на 20 июля 1899 года, когда, по русскому стилю, родился Роман Ким, ему уже был один год, в Японии он всё равно оказывается на год старше, чем на самом деле, не говоря уж о том, что дважды с разницей в два года упоминается двенадцатилетним. Может быть, он приписал себе один год, чтобы поступить в Ётися? Точнее, его отец, которому уж очень хотелось отправить сына в Японию? Теоретически это возможно, но в чем мог заключаться практический смысл такого шага, неясно. Но это и не главное. В истории учебы Романа Кима в системе Кэйо есть более серьезная загадка.
Весной 1911 года он окончил школу Ётися. Окончил с блеском. В «Золотой книге почета» Ётися за этот год указано восемь выпускников-отличников, и среди них Ким Ги Рён. Дальше стопы Романа были направлены в среднюю школу — в колледж Фуцубу, и логично было ожидать, что он окончит его с таким же успехом, однако этого не случилось. Как писал Кимура Хироси, сумевший отыскать в архиве Кэйо записи об обучении там нашего героя, Кин Кирю внезапно исчез из колледжа Фуцубу 9 января 1913 года — «выбыл из школы по семейным причинам». Это соответствует последним месяцам обучения во втором классе колледжа. Тот же Кимура предлагает свою версию произошедшего: «…причиной того, что Роман вдруг вернулся на родину посреди Фуцубу, была семья родственников Сугиура. В этой семье не было детей, и пошел разговор об усыновлении умного молодого Романа. Когда семья Сугиура передала это его отцу, тот спросил сына: “А ты что думаешь по этому поводу?” Ответ был таков: “Я влюбился в Японию и хотел бы стать японцем”». Одноклассник Кима по колледжу — будущий известный архитектор Сига Наодзо и брат известного в Японии писателя Сига Наоя — в автобиографическом романе «Биография болвана» уточнял, что любовь Ромы Кима распространялась не только на Японию: «Он был в некоторых отношениях развит больше нас и во втором или третьем Фуцубу уже безответно влюбился. Угораздило же его влюбиться в дочь Сугиура Дзюго. Во-первых, похоже, она ничего не знала, да и вообще это были детские невинные разговоры. Но когда он нам, друзьям, рассказывал о своей сердечной грусти, я, по крайней мере, слушал его со смешанными чувствами зависти и ревности»[63]. Стоп! Кто кого собирался усыновить? У кого из Сугиура жил Ким и в кого он влюбился? Пришло время разобраться в этой загадочной истории.
Практически все сведения, которые хоть как-то могут прояснить то, что произошло столетие назад в Токио с подростком из Владивостока, содержатся только в статье Кимура Хироси и в цитируемом им произведении Сига Наодзо «Биография болвана». Вот что писал Кимура: «Отец Романа думал, что единственным способом узнать вражескую Японию является получение там образования, поэтому, когда его сын достиг школьного возраста, он отправил его учиться. Обычно учиться в другую страну отправляют после наступления совершеннолетия, поэтому можно представить себе, насколько жестко был настроен его отец, отправляя по указанным выше причинам сына, которому только исполнилось 7 лет, учиться во вражескую Японию за морем. То, что Романа приняла на время учебы семья Сугиура Дзюго, говорит о том, что у отца Романа были какие-то связи с Японией, хоть он и был эмигрировавшим антияпонским политиком. Сугиура Дзюго был в то время смотрителем “учебного кабинета” наследного принца… Для этой статьи я искал материалы по Роману Киму в исторических документах семьи Сугиура, но, к сожалению, не нашел». Получается, что маленький Рома Ким жил в доме у великого Сугиура Дзюго, и там «его угораздило влюбиться» в… дочь «отца японского национализма»? Возможно ли такое вообще и была ли, кстати говоря, у Дзюго-сэнсэя дочь?
Да, была. У Сугиура Дзюго было три дочери и семеро сыновей. Но нам подходит только одна — Умэко. Она родилась в 1900 году, то есть была на год моложе Романа. Разница в возрасте ничтожна и располагающая к любви одновременно. Он — отличник и спортсмен, она — воспитанная в строгости дочь живого классика. Значит, Сига прав — Кин Кирю влюбился в дочь Дзюго-сэнсэя и, следуя логике сохранившихся воспоминаний, собирался на ней жениться. Но для этого следовало «стать настоящим японцем» — быть усыновленным «семьей родственников Сугиура». Вероятнее всего, такой семьей был клан других Сугиура — семья Сугиура Рюкити, который и сам был когда-то усыновлен. На допросе в 1937 году Роман Ким рассказывал: «Сугиура Рюкичи был знаком с моим отцом по коммерческим делам и, когда я приехал в Токио, он принял во мне участие, став моим опекуном. Очевидно, я был ему рекомендован Ватанабэ. При содействии Сугиура я был устроен в японский колледж. Сугиура, с согласия моего отца, усыновил меня (неяпонцев не принимали в это учебное заведение), и я после этого принял фамилию Сугиура, став вместе с тем японскоподданным»[64].
Косвенное подтверждение этой версии содержится в статье Кимура, который пользовался не только информацией, полученной от Романа Николаевича, но и результатами собственных исследований: «…Роман не всё это время жил в семье Сугиура. Похоже, что вначале он жил в общежитии при школе, в документах на поступление опекуна указано имя отца, Ким Бён Хак, а адресом указано Кодзимати-ку, Хиракава-тё, 5–26; в документах на отчисление значатся Сугиура Рюкити и адрес: “Усигомэ-ку, Вакамия-тё, 32”». Тоже всё сходится: когда поступал, «прописали» по домашнему адресу, когда отчисляли — тоже по-домашнему, но по-новому. Впрочем… Роман Ким поступил в Ётися в 1906 году, а в 1908-м торговый дом Сугиура обанкротился[65] — не самое лучшее время для того, чтобы взять на воспитание приемного сына, за обучение которого, к тому же, надо выплачивать кругленькую сумму — в десять раз больше, чем если бы Рома учился во Владивостоке. Проверим еще раз — может быть, в этих адресах скрыта разгадка сложных отношений семей Сугиура?
Кодзимати-ку, Хиракава-тё, 5–26 — адрес общежития школы Ётися. Странно — в истории Ётися сказано, что школа изначально находилась на холме Мита, там, где сегодня расположен старейший кампус университета Кэйо. В 1898 году школу перенесли «под холм», то есть туда, где сейчас находится западный корпус всё того же кампуса. Район Кодзимати расположен совсем в другом месте. Сегодня это всего-навсего станция метро в центре Токио, название которой в разных местах написано разными иероглифами — результат не до конца вошедшей в привычку языковой реформы, да небольшой квартальчик вокруг, зажатый между районами Хандзомон и Нагата-тё. А когда-то это была обширнейшая территория, которая, помимо того, что примыкала непосредственно к императорскому дворцу, включала в себя саму обитель Сына Неба. Однако представить себе, что здесь находилось общежитие мужской школы Ётися, располагающейся в далеком квартале Мита, сложно. Непонятно даже, как чисто физически могли каждый день перемещаться ученики из отстоящего на несколько километров общежития в школу и обратно — ведь занятия в японских школах часто длятся допоздна. Неясно: то ли какой-то отрезок времени школа находилась поблизости отсюда, то ли адрес, занесенный в реестр учеников Ётися напротив имени Кина Кирю, всего лишь токийская регистрация, своеобразная прописка, к реальному месту жительства отношение имеющая только опосредованное. Может быть, его будущий опекун Сугиура Рюкити жил здесь? Увы — официальные документы свидетельствуют, что по состоянию на 24 ноября 1905 года знатный владивостокский купец имел резиденцию в Токио по адресу Усигомэ-ку, Цукудо-Хатиман-тё, 21, с 30 июня 1906-го — в Сиба-ку, Сибакурума-тё, 35 (кстати, недалеко от Ётися), а 19 августа 1909 года его адрес снова изменился. Теперь он совпадает с тем, что указан в ведомости колледжа Фуцубу: Усигомэ-ку, Вакамия-тё, 32[66]. За исключением Сиба, два адреса относятся к району Усигомэ — кварталу недалеко от центра Токио, где издавна любили селиться самураи.
Единственное объяснение, которое можно дать всей этой путанице с адресами, заключается в том, что «прописка» не всегда соответствовала реальным адресам учеников, и Кин Кирю не был в этом исключением. Тем более что Сига Наодзо вообще прямо пишет о том, что Роман Ким жил в комнате сбоку от прихожей собственного дома Сугиура Дзюго. Да и где еще могли познакомиться и видеться подростки Кирю и Умэко, если обучение в школах в те времена было раздельным, а в быту юноши и девушки еще вели себя скромно и не ходили по токийским улочкам под ручку, как ныне? Если так, то мы знаем фактический адрес Романа Кима, по крайней мере на время его обучения в колледже Фуцубу. В 1912 году Дзюго-сэнсэй, как называли этого человека современники, поселился в собственной усадьбе по адресу Коисикава-ку, Мёгадани-тё, 52, где и прожил следующие несколько лет[67]. Судя по всему, там и произошла история, из-за которой «Золотой мальчик» Кин Кирю вынужден был бросить учебу в престижном, как он сам потом писал, «императорском лицее» Токио. Но даже если настоящее место жительства его было там — в Коисикава, а в Вакамия только прописка и дом опекуна (к которому он не раз захаживал — в этом мы еще убедимся!), всё равно остается непонятным, как и почему сын корейского патриота и япононенавистника, родственник убитой японцами королевы стал вдруг воспитанником одной из самых одиозных фигур милитаристской Японии, и расследование этой истории могло бы стать первым политическим детективом в жизни Романа Николаевича Кима.
Существует и другая версия решения этой загадки: Кин Кирю фантазировал. Он придумывал свою жизнь уже с детства, искусно «вписывая» свою реальную биографию в канву общеизвестных исторических событий, в судьбы других — популярных персон своего времени. В Японии не принято ходить в гости, а это значит, что Сига Наодзо, будучи единственным свидетелем обучения Ромы Кима у Сугиура Дзюго, на самом деле никогда не был у него дома. Всё, что рассказывал Сига, он рассказывал со слов своего друга и никак не мог его проверить. Самое большее, что можно представить, это совместные прогулки до дома Сугиура в Вакамия-тё. Но если в соответствии с правилами того времени там и висела табличка с фамилией владельца, на ней могло не быть имени, а значит, это «другой» Сугиура. Учитывая, что, несмотря на многолетние поиски и усилия многих исследователей, так и не появилось ни одного доказательства связи между семьями Рюкити и Дзюго, версия выглядит весьма убедительно. Но и у нее есть слабые места. Например, особенности обучения в японской школе таковы, что у школьников практически нет личной жизни. Всё, что они рассказывают друг другу, немедленно становится достоянием учителей. Вряд ли, узнав о том, что маленький кореец называет своим опекуном самого Сугиура Дзюго, школьные наставники оставили бы такие фантазии без последствий. Поверить в это сложнее, чем в то, что Ким действительно жил в доме Дзюго. Кроме того, странные поручители Романа — Сугиура Рюкити, Ватанабэ и Каваками — не дают забыть о непростом пути мальчика в Токио и некоторых других его, не менее странных, чем упоминание о Дзюго, рассказах.
Глава 5 ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Как могу я теперь Опочить в чужедальней Корее? Если сгину я здесь, Вновь в убожество и небреженье Будет ввергнут стих Достославных… Ёсано Тэккан[68]Кимура Хироси в статье «Загадки Романа Кима» назвал ее героя «человеком, имевшим три родины и ставшим игрушкой в руках судьбы». Это тот, не слишком частый в жизни случай, когда громкая журналистская метафора очень точно описывает реальное состояние дел. Роман Ким и в самом деле несколько раз в течение своей жизни испытывал сильное влияние каждой из своих трех родин: России, Кореи (как этнический кореец) и Японии. Каждый раз это влияние было сопряжено с воздействием на судьбу Романа сторонних сил — его родителей, воспитателей, начальников. Во всяком случае, так было в его детстве и в молодости, но разве не так бывает с каждым человеком? Разве мы не плывем по течению жизни — во всяком случае, первые ее десятилетия? Только потом, да и то лишь некоторые, сильные, волевые начинают строить свою жизнь самостоятельно. И всё же… биография Романа Кима в ряду даже замечательных людей XX века стоит несколько особняком. Причина тому кроется не только в ее внешней, полной приключений экзотике, но и в глубочайшем психологическом конфликте, который пришлось пережить нашему герою. Виной всему, конечно, время — необычное и ужасное, время великих потрясений для тех стран, которые стали его родиной. И еще, конечно, люди. Те, кто строил судьбу Романа Кима, не спрашивали его мнения, и руководствуясь, как правило, только одним чувством — патриотизмом, понимали его всяк на свой лад.
Если с отцом Ким Ги Рёна — Николаем Кимом в этом смысле всё более или менее понятно, если его биография соответствует изложенной версии, то с японскими воспитателями Кин Кирю дело обстоит сложнее. Тот факт, что между Сугиура Рюкити и Сугиура Дзюго до сих пор никому не удалось проследить никакой связи, с легкостью можно было бы проигнорировать, если бы отец Кима не был фанатично антияпонски настроенным корейцем, а Сугиура Дзюго не являлся бы одним из создателей японской националистической идеологии, оказывающим серьезнейшее влияние на токийскую политическую элиту. Мы знаем со слов Кимура, что отец Кима отправил сына в Японию, чтобы тот лучше узнал «вражескую страну». Но если Сига был прав, зачем Сугиура Дзюго принял мальчика в свой дом? В поисках ответа на эти вопросы снова придется обратиться к конспирологии и от фактов перейти в область догадок. Увы, почти не сохранилось документов, способных подтвердить или опровергнуть версии, которые могли бы объяснить странную благосклонность одного из членов политического бомонда Токио к сыну корейских эмигрантов в Россию, а такие версии есть. Основная из них связана с причастностью отца Кима и Сугиура Дзюго к гибели председателя Тайного совета Японии и бывшего генерал-резидента в Корее князя Ито Хиробуми.
Это случилось 26 октября 1909 года на российской территории. Князь Ито прибыл в «столицу русской Маньчжурии» — Харбин для встречи с министром финансов России В. Н. Коковцовым. Прямо на платформе, во время прохождения мимо почетного караула, между рядами солдат появился человек, который открыл прицельную стрельбу по японскому сановнику. Ито погиб от трех ранений, причиненных разрывными пулями, несколько минут спустя, когда его занесли в купе. Стрелявшего задержала русская полиция. Им оказался кореец Ан Чжун Гын (или Ан Чунгын, или Ан Джунгын — в разных версиях транслитерации с корейского языка). Принято считать, что убийство Ито стало поводом для формальной аннексии Японией Кореи, случившейся менее чем через год, пусть даже Договор о присоединении Кореи к Японской империи всего лишь зафиксировал существовавшее после Русско-японской войны положение вещей.
Реакция японцев и корейцев на убийство князя Ито была предсказуема, и по сути прошедшее столетие ничего кардинально не изменило в оценках. Для корейцев Ан Чжун Гын — национальный герой, степень почитания которого близка к народной канонизации. Ему поставлено несколько памятников, в том числе и на территории России, откуда он начинал партизанские набеги в составе небольшого отряда мятежников в оккупированную японцами Корею. На центральном вокзале Харбина, где прозвучал роковой выстрел, ставший поводом для окончательной аннексии родины Ана, открыт музей его памяти. В этом корейцы и китайцы, для которых история контактов с японцами одинаково ассоциируется с японской агрессией, едины. Для них Ан Чжун Гын — пожертвовавший жизнью во имя свободы родины патриот. Его имя часто так и произносят: «патриот Ан Чжун Гын». Ему посвящены сотни книг, научных исследований, и в историческом корееведении даже отчетливо выделяется особое направление, основанное на изучении биографии и «подвига патриота Ан Чжун Гына».
С японского берега, понятное дело, всё видится строго наоборот. Япония считает Ана преступником, террористом, заслуженно понесшим кару (он был повешен в марте 1910 года). По версии японцев, террорист Ан, застрелив одного из благороднейших героев Японии Нового времени, спровоцировал очередной виток межнациональной ненависти и обрек свою страну на колониальный плен.
Обе стороны приложили массу усилий для того, чтобы установить, насколько самостоятелен был Ан Чжун Гын в своей террористической деятельности, но выводы следователей и историков Японии и Кореи довольно сильно разнятся между собой. Исключение составляет один, точно установленный факт: убийца был бойцом подпольной «армии сопротивления» Ыйбён, частично базировавшейся на российской территории. И здесь совершенно логичным образом в числе соратников патриота Ана возникает имя Николая Николаевича Кима — отца Романа.
Кимура Хироси в своей статье прямо указывал, что Николай Ким был одним из лидеров антияпонского подполья во Владивостоке, и Ан Чжун Гын был послан в Харбин именно его группой. Непонятно, от кого Кимура получил такую информацию, но очень похоже, что от самого Романа Николаевича. Во всяком случае, следующий отрывок говорит именно об этом: «Роман запомнил лицо Ана, приходившего к отцу, и рассказал, что, когда стало известно, что покушение прошло успешно, в усадьбе Кимов во Владивостоке устроили роскошный пир, который продолжался три дня и три ночи. В то время сам Роман находился в Японии, и узнал он об этом, наверное, когда вернулся во Владивосток. Вплоть до конца своей жизни он, похоже, рассказывал об этом только самым близким людям. Наверное, особенно неловко было ему говорить о том, что убийцу к Ито Хиробуми подослал его отец, если его собеседник был японец».
Да уж, неловкость должна была ощущаться, но… позвольте, разве такая информация не должна была сохраняться в глубокой тайне? И почему в многочисленных книгах, статьях, исследованиях, посвященных Ан Чжун Гыну (прежде всего на корейском языке), никогда не упоминается имя отца Кима как человека, «подославшего убийцу к князю Ито», хотя корейские историки указывают, что Николай Ким был членом корейского подполья и его финансистом, о чем было известно и японцам? Да и не только корейские. В упомянутой книге Оно Каору приводится целый ряд интересных документов, позволяющих оценить причастность Николая Кима к убийству председателя Тайного совета Японии с новых для японской стороны позиций. По мнению Оно и корейских ученых, сотрудники японского посольства вкупе с добровольными шпионами японских тайных обществ во Владивостоке как бы «присматривали» за корейцами, живущими в русском Приморье, вполне разумно подозревая их в организации сопротивления колонизаторам, составляли списки, ведя учет подпольщиков, и тщательно фиксировали до поры до времени их деятельность. Не могли японцы выпустить из сферы своих интересов, из-под «присмотра» и влиятельного купца Николая Кима, прибывшего из Кореи с немалыми капиталами и развернувшего бурную деятельность в Приморье. Судя по результатам этого наблюдения, Николай Николаевич Ким был совершенно четко идентифицирован японской полицией как один из организаторов и финансистов корейского подполья. Подполье же состояло из нескольких организаций, сотрудничавших, а порой и противоборствовавших друг с другом. На российской территории в разное время действовали «Чхуныйбён» — «Преданная армия справедливости», «Тонъыйхве» — Корейская армия справедливости, «Кунминхве» со штаб-квартирой в Северной Америке, сугубо российское «Квонопхве» и владивостокское «Ханминхой». Разобраться в таком хитросплетении трудно, но хотя бы кратко ознакомиться — необходимо. Курировавший данную проблему профессор Восточного института Г. В. Подставин в 1912 году сообщал, что «корейское население г. Владивостока состоит из самых разнообразных элементов как в отношении подданства, постоянного или временного пребывания в Приамурском крае, различных степеней развития и образования, так и в отношении происхождения отдельных лиц из различных мест Кореи, искони враждующих между собою». Многочисленные же группировки корейцев входят в так называемые «сеульскую» и «пхеньянскую» партии, находящиеся в постоянной конфронтации друг с другом. Одним из наиболее влиятельных деятелей «сеульской» партии Подставин назвал «зажиточного старожила», Николая Николаевича Кима[69]. Помимо своей «зажиточности» Н. Н. Ким имел и вполне определенный политический статус, занимая посты вице-председателя «Ханминхой» и «директора по дипломатической части» в «Квонопхве»[70] — организациях, близких сеульскому королевскому двору и настроенных решительно антияпонски.
В корейских архивах, по сведениям профессора Ким Хон Чжуна, хранятся материалы о наблюдении японцев за корейцами во Владивостоке, в том числе и за Кимом-старшим[71]. В книге Оно Каору, считающего Кима и его шефа по «Ханминхой» Чхве Бон Чжуна главными организаторами убийства князя Ито, содержится целый массив интересных данных, позволяющих и автору, и нам вслед за ним утверждать, что японское наблюдение за Н. Н. Кимом было особенно плотным и эффективным. Подтверждением этого служат сохранившиеся донесения в Токио владивостокского генерального консула Отори Фудзитаро, составленные, в свою очередь, на основании отчетов шпионов консульства. Наиболее ценным из них был некий Ким Дон Дэ, прояпонски настроенный уроженец Пхеньяна, 26 лет (по состоянию на 1910 год). Нам этот Ким интересен тем, что около трех лет он получал образование в Обществе изучения английского языка Сэйсоку в Канда в Токио — школе, готовившей к поступлению в… университет Кэйо, и переехал затем во Владивосток. В Приморье этот человек остановился в доме Ким Бён Хака, то есть Николая Кима, и зарабатывал на жизнь преподаванием корейского языка. Судя по тому, что во время расследования убийства Ито Хиробуми генконсул Отори ассигновал Дон Дэ огромную сумму в тысячу иен, особо полагаясь на его сведения, тот жил не просто в одном из доходных домов Николая Кима, а именно у него дома, получая ценнейшие для японцев сведения непосредственно из гнезда заговора[72]. Полковник японской полиции Мураи, занимавшийся расследованием дела Ан Чжун Гына, смог продолжать следствие, даже вернувшись из Владивостока в Корею, именно потому, что информация от этого человека была точна и детальна. Видимо, Дон Дэ, допущенный в святая святых тайной жизни Николая Кима, был, как выражаются сегодня, японским «кротом» в корейском подполье.
Само собой разумеется, что, когда началось следствие по делу Ан Чжун Гына, японская полиция проявила особый интерес к личности Николая Кима, его связи с преступником-патриотом, но… сочтя купца «недостаточно радикальным», вычеркнула из списков тех корейцев, которых японское правительство потребовало от властей Приморья выслать в Сибирь. Более того, хотя в ходе следствия Ан Чжун Гын и трое его арестованных единомышленников не раз упоминали о связи с Ким Бён Хаком, суд эти детали не заинтересовали вообще. На вопрос японского судьи о наличии во Владивостоке политических объединений корейских эмигрантов подсудимый У Док Сун — соратник Ан Чжун Гына ответил: «Существуют общества корейских резидентов, но их контролируют»[73]. Нечего и говорить, что семейные связи Кимов не были изучены судом несмотря на то, что сам Ан Чжун Гын называл одной из основных причин (всего таких было одиннадцать) своего теракта месть за убийство японцами королевы Мин, организатором которого он почему-то считал Ито Хиробуми[74]. Интересно, что вопрос мести Ана за смерть королевы персонально Ито и раньше интересовал японских исследователей, но такой довод всегда игнорировался по причине того, что «этого не могло быть просто потому, что быть не могло». Вот характерная цитата из книги Цунода Фусако «Тайное убийство королевы Мин»: «Даже если дать волю фантазии, я никак не могу поверить, что Мицу Мунэмицу и Ито Хиробуми причастны к планам тайного убийства королевы Мин. Между зачинщиком тайного убийства и японским правительством не может существовать непосредственной связи — таков мой непоколебимый вывод»[75]. Такая точка зрения вполне имеет право на существование, но она основана не на доказательствах непричастности Ито к убийству, а на отсутствии вообще какого-либо понимания: кто и зачем «заказал» королеву? И если это была, согласно официальной версии, личная инициатива генерала Миура, то есть речь шла о чистой уголовщине, то почему его и всех участников убийства оправдал японский суд? Ответа на этот вопрос не было сто лет назад, его по-прежнему нет и сегодня.
Почему материалы о причастности Николая Кима к организации заговора, прямо свидетельствовавшие о том, что он был, по крайней мере, его финансистом (путаные рассказы Ана и его сообщников о том, что у них не было денег и они у кого-то занимали крохи на билеты, просто смехотворны), стали известны следствию, но не дошли до суда — загадка. Так же, как и то, что Роман Ким спокойно рассказывал своим друзьям о том, что в доме его отца (мать в 1908 году развелась с Н. Н. Кимом и вернулась в Сеул) «три дня и три ночи шел пир в честь убийства князя Ито», а на это никто из японцев не реагировал. Как и на то, что в каждом разведывательном отчете, посылаемом из Владивостока после убийства Ито, японцы снова и снова зачем-то упоминали, что старший сын Кима учится в Кэйо.
Ответов на эти загадки может быть два. В первом случае стоит принять точку зрения части современных российских корееведов: Роман Николаевич Ким всю жизнь фантазировал, придумывал и раскрашивал яркими красками собственную биографию, привязывая ее к значимым историческим событиям, а на косвенные данные не стоит обращать внимания, поскольку они сильно усложняют понимание истории.
Второй вариант целиком основан на пресловутой «теории заговора» и полностью приводится впервые. Согласно ему, в Токио от руководителей японских тайных обществ и агентов разведки, работавших на генеральное консульство во Владивостоке, было известно о роли Николая Кима в корейском подполье, о приеме им во Владивостоке Ан Чжун Гына, о торжествах по случаю убийства Ито Хиробуми, а потому спокойно относились к детским рассказам Ромы Кима — они просто контролировали ситуацию. А если так, то надо понять, кому это могло быть выгодно. Тут мы неизбежно приходим к истории давнего соперничества двух земляков, двух гениев эпохи Мэйдзи, эпохи грандиозных преобразований Японии, превративших страну из феодальной крепости в современную империю. Первый — уже знакомый нам дважды премьер-министр страны, гэнро, маршал и герцог, создатель армии и полиции нового образца, великий Ямагата Аритомо, выручивший когда-то из смертельной опасности и приблизивший к себе Тояма Мицуру. Второй — не менее великий Ито Хиробуми — четырежды премьер-министр, князь, гэнро, творец японской конституции и первый генерал-резидент Кореи.
Несмотря на то, что Ито и Ямагата вместе сражались во время Реставрации Мэйдзи против военного правительства сёгуна, со временем их пути всё больше расходились, а политические и человеческие амбиции не давали возможности уступить друг другу лавры славы и тайные нити управления страной. К началу XX века, после десятилетий борьбы, этим политическим гигантам окончательно стало тесно в маленькой Японии, в которой оба оставались безусловными авторитетами и полными противоположностями друг другу. Сухой и сдержанный Ямагата был настоящим военным — очень традиционным политиком националистического толка, сторонником расширения экспансии Токио на Азиатском континенте. Ито — порывистый, эксцентричный (в молодости он мазал собственными фекалиями священные реликвии в синтоистском храме, чтобы убедиться: если божественная кара не последует, то богов не существует), общительный человек, обаятельный дипломат и опытный политик, сделал особенно много для проведения реформы образования, избирательной и финансовой систем. Он был человеком сугубо штатским и, хотя поддержал войну Японии с Китаем, возражал против развязывания боевых действий с Россией, о чем в Петербурге знали и что особенно ценили. При этом оба они являлись убежденными националистами, патриотами, различия во взглядах Ито и Ямагата никогда не были настолько катастрофичны, чтобы привести к открытой конфронтации между ними. Тем не менее по окончании Русско-японской войны, на волне роста ультрапатриотических настроений и недовольства условиями Портсмутского мира, которые многие в Японии сочли недостаточно лестными для победителя, влияние воинственного Ямагата усилилось. Ему удалось добиться принятия решения о направлении своего соперника в Корею в качестве генерал-резидента новообразованного японского протектората. Говорят, Ито очень не хотел ехать в Корею, потому что такое назначение могло навсегда удалить его от центра принятия решений в Токио, от императорского двора, а возможно, потому что у него были плохие предчувствия. Но однажды вечером на пороге дома Ито появился специальный посланник от маршала Ямагата — Тояма Мицуру в компании трех боевиков. После долгого разговора Ито Хиробуми согласился с тем, что в Сеуле он принесет гораздо больше пользы родине, чем в японской столице, и в тот год, когда Романа Кима привезли в Токио, Ито убыл к месту командировки.
Это была непростая работа, но сегодня даже часть корейских историков признает, что на новом посту Ито Хиробуми проводил, возможно, единственно правильную на тот момент, относительно мягкую политику по отношению к жителям оккупированного японскими войсками государства. Проблема состояла в том, что власть его, как генерал-резидента Кореи, была далеко не безгранична, а решения сковывались и дискредитировались действиями военных, а также наличием в Корее японских тайных обществ. Не случайно советником Ито был назначен глава Кокурюкай Утида Рёхэй — самый близкий к Тояма Мицуру человек, отличавшийся от него еще большим радикализмом во взглядах и лучшими организаторскими и пропагандистскими способностями. С «западником» и «либералом» Ито он был знаком давно и близко. В 1902 году они вместе даже стали инициаторами создания Японо-российского общества, официально ставящего целью развитие дружеских и добрососедских отношений между этими двумя странами путем, как сказали бы сегодня, интенсификации народной дипломатии. Это при том, что за год до кросскультурной инициативы Утида, по итогам своего изучения нашей страны, подготовил к печати книгу «Гибель России». Издание оказалось настолько одиозным и неприлично антироссийским, что ее первый вариант был запрещен японским правительством, а тираж конфискован и уничтожен. Теперь этот «специалист по дружбе» должен был помогать Ито в Сеуле. Неудивительно, что опытный генерал-резидент чувствовал себя в Корее не просто неуютно, он понимал, что старый друг Ямагата обрек его на политическую смерть.
Репутация Ито в Корее была испорчена не только жестокостью японской армии, но и прежде всего провокационными действиями бойцов Кокурюкай, за которыми просматриваются Утида, а через него — Тояма и Ямагата. По мнению некоторых корейских ученых, японцы (читай — волонтеры Кокурюкай) вырезали за три года пребывания их шефа в Корее тысячи местных жителей, хотя никаких официальных документов по этому поводу не существует. Логичным результатом этих событий стала ненависть оккупированной страны к японскому наместнику, что не в последнюю очередь спровоцировало его отставку 14 июня 1909 года, ставшую оригинальным подарком на день рождения бывшему другу — маршалу Ямагата. Интересно, что в то же самое время у себя на родине Ито постоянно подвергался жесткой критике за нерешительные действия по усмирению бунтовщиков в Корее. Все японские ультра-патриоты — легальные союзники Ямагата в парламенте и в средствах массовой информации работали слаженно, эффективно взаимодействуя с секретной армией «народного гэнро» Тояма. Награжденный почетным постом председателя Тайного совета, Ито тем не менее оказался удален от фактического управления страной, которое взял на себя Ямагата. Но политическая гибель князя Ито была только предвестником физической смерти от разрывных пуль, выпущенных из браунинга Ан Чжун Тына. Япония официально аннексировала Корею, сделав ее своей колонией. Маршал Ямагата, руководители тайных обществ, все японские консерваторы и националисты могли торжествовать: их мечты продолжали сбываться, и Япония на глазах у всего мира становилась настоящей империей.
Гибель бывшего генерал-резидента Ито по большому счету не противоречила планам Ямагата, Тояма и Утида, но вряд ли в эти планы входила. Достаточно было спровоцировать корейцев и не мешать им. Контроль за подпольем во Владивостоке был организован грамотно — тщательно, но с предоставлением наблюдаемым определенной свободы, и свою задачу оно выполнило. Тогда не случайно и то, что, когда после прекращения финансовых поступлений из Кореи отец Кима остановил свою коммерческую деятельность, став неприметным рантье, мальчик продолжал учиться в Кэйо, и уже японский опекун исправно вносил за него немалый ежемесячный платеж. Если же Рома Ким стал воспитанником самого Сугиура Дзюго, то такой шаг иначе как благодарностью одному из лидеров антияпонской борьбы назвать сложно. Роль Николая Кима в таком случае выглядит неоднозначной, и становится понятно, почему японец Оно Каору назвал истинных авторов убийства князя Ито «скрывшимися во мраке». Стоит ли говорить, что доказательств версии Оно нет и никогда не будет — ведь слишком многое в этой истории вообще не было доверено бумаге.
Мы пока даже не знаем точно, когда Роман Ким, он же Ким Ги Рён, он же Кин Кирю, стал воспитанником Сугиура Дзюго, но вряд ли раньше 1910 года — в одном из писем того времени Сугиура упоминает только о двух домашних учениках — Харада и Кубомура. Значит, появление Романа Кима в этом доме примерно совпадает с присоединением родины его предков к Японии и со временем, когда, после смерти императора Мэйдзи и самоубийства генерала Ноги, воспитывавшего кронпринца, новым наставником будущего императора был назначен Дзюго-сэнсэй.
Девятого января 1913 года Кин Кирю был отчислен из колледжа Фуцубу университета Кэйо по семейным обстоятельствам, и дальнейшие его следы теряются на несколько лет[76]. 3 ноября того же года двенадцатилетний принц Хирохито был объявлен наследником престола своего отца — императора Тайсё. Немедленно возник вопрос о помолвке. Дело изначально представлялось важным и долгим — ведь следовало выбрать не просто будущую императрицу и мать наследника трона, но девушку, способную стать супругой живого бога, каковым тогда считали наследников самой долгой, никогда не прерывавшейся династической линии, берущей начало от богини Солнца. В течение нескольких лет кропотливого отбора специально привлеченными к этому делу придворными и ближайшими родственниками императорской фамилии в «шорт-лист» претенденток на статус богини попали три девушки. Имена двух были названы родителями кронпринца — императором Тайсё и императрицей Садако. Но наибольшие шансы на успех имела княжна Токико из семьи Исидзё клана Фудзивара, ибо ее предложил престарелый, но упорно добивающийся положения регента, уже видящий себя неформальным правителем Японии, маршал Ямагата. Императрица Садако ненавидела Ямагата, но противостоять всесильному маршалу ей было слишком трудно.
Четыре года продолжалась эта «схватка двух бульдогов под татами» в центре Токио. В 1917 году, как раз когда Роман Ким, уже появившись из ниоткуда, поступил в гимназию при Восточном институте во Владивостоке, Ямагата сумел отклонить одну из кандидаток, выбранных императорской четой. Со второй — княжной Нагако дело обстояло сложнее. Она оставалась последней надеждой императрицы на победу, и Садако пошла ва-банк. Когда герцог Ямагата по служебным делам ненадолго покинул Токио, Нагако немедленно была сосватана за кронпринца. Срочно вернувшись в Токио, взбешенный гэнро тут же объявил помолвку недействительной, но одного заявления было мало — ведь теперь предстояло бороться с императрицей почти открыто, на виду у японского общества. Для такой борьбы нужны были серьезные аргументы, которые можно будет представить свидетелям конфликта. Ямагата бросился искать их, чтобы расторгнуть помолвку официально. Это удалось сделать только в 1920 году, когда маршал объявил о наличии в роду потенциальной супруги императора наследственного заболевания — дальтонизма и потребовал от отца невесты отозвать кандидатуру. К удивлению японской аристократии, оскорбленный отец ответил неожиданно резко. Вспомнив о своем самурайском происхождении, он пригрозил убить и себя, и свою дочь, а заодно уличил Ямагата в фальсификации медицинских документов. Конфликт выплеснулся в газеты и стал, по выражению иностранных наблюдателей, «одним из самых омерзительных эпизодов во всей японской истории». Ситуация явно зашла в тупик, из которого никак нельзя было выбраться открытым, официальным путем, и тогда гэнро Ямагата решил рискнуть еще раз и обратился к проверенному средству — к помощи «народного гэнро» Тояма Мицуру.
Результат этого обращения потряс маршала настолько, что он до конца жизни так и не сумел избавиться от его последствий. Тояма, Утида и другие главы тайных обществ, многие из которых были земляками маршала, что в Японии тех лет было исключительно важно, его секретные вассалы, десятилетиями служившие ему верой и правдой, — все выступили против него. Народ узнал о кознях герцога против обожаемой божественной фамилии, и буря негодования и протестов захлестнула страну. На улицы Токио вышли демонстранты с плакатами «Смерть Ямагата!» — еще год назад такое нельзя было представить даже в страшном сне. 10 февраля 1921 года был опубликован официальный указ о помолвке наследного принца Хирохито — бывшего принца Мити с княжной Нагако. Униженный Ямагата подал прошение на высочайшее имя об отставке со всех постов и в мае того же года был обесчещен еще раз — очень по-японски: император отказал старому маршалу в его прошении, оставив на всех постах. Больше Ямагата ни разу не переступал порога императорских покоев и в феврале следующего, 1922 года умер. Популярный в то время публицист, ставший позже премьер-министром страны, Исибаси Тандзан точно заметил: «Думаю, не будет большой ошибкой утверждать, что многие действия в нашем правительстве и вокруг него направлялись с помощью нитей, которые держал в своих руках князь Ямагата Аритомо (хотя, конечно, эти действия могли быть обусловлены и многими другими причинами). А нити — это само по себе зло, даже если человек, держащий их в руках, не имеет злых умыслов… когда человек обладает огромной властью, то даже самые чистые и искренние его намерения нередко наносят непоправимый вред обществу»[77].
Много лет спустя информированные источники прозрачно намекнули на причину поражения всесильного гэнро: императрица Садако обратилась за помощью к наставнику принца, который, как она видела, и сам неравнодушен к судьбе будущего императора и одновременно имеет на него некоторое влияние. Сугиура Дзюго — верный конфуцианским принципам служения повелителю, исполнил пожелание его матери и провел секретные переговоры с Тояма. Поговаривали, что помимо конфуцианских добродетелей речь в ходе встречи шла и о неких долгах, которые люди Тояма имели перед бывшим княжеством Сацума, откуда происходила невеста. Правда это или нет, неизвестно, но зато всем теперь известен результат: невестой, а потом и женой императора стала княжна Нагако. Ее кровь течет во всех следующих потомках правящей династии Японии, включая нынешнего императора, благодаря Сугиура Дзюго, человеку, имя которого тогда было известно лишь узкому кругу японского истеблишмента и остается почти неизвестным сейчас. Он выполнил свою миссию решительно и четко — как будто нанес противнику один-единственный, но смертельный удар мечом.
Конфликт был исчерпан, и 20 июня 1922 года объявили о свадьбе Хирохито и Нагако. На следующий день наставник кронпринца расстелил перед собой длинную полосу рисовой бумаги, обмакнул кисть в протертую почти насквозь за долгие годы занятий каллиграфией тушечницу и, на мгновение задумавшись, быстрыми, решительными мазками написал на бумаге стихотворение, как это было принято у самых образованных людей той поры, на китайском языке, в стиле знаменитого поэта средневекового Китая Ли Бо:
Отрицал доселе, а ныне принял. К чему же длить пересуды? Повторим всем миром заветы древних, Что зовут к служению чести. Так луна и солнце с небесных высей Озаряют совместно землю[78].В японских традициях это стихотворение продолжают и продолжают переводить, перекладывать, пересказывать на понятный самим японцам язык. Одна из самых популярных версий такого «пересказа», выявления скрытого смысла, гласит: «В нашем мире слишком много людей, постоянно меняющих свое мнение. Поэтому стоит быть внимательным и не упускать из виду странного и ошибочного»[79]. Сугиура Дзюго подвел черту под событиями последних лет — старый маршал Ямагата утратил боевой дух. Он перестал быть достаточно внимательным, упустив из сферы своего влияния связи Тояма Мицуру и Дзюго-сэнсэя, нарушил конфуцианские заповеди верности сюзерену. Эта ошибка стоила ему карьеры и привела к скорой смерти.
Ирония судьбы состоит в том, что и сам великий Сугиура был настолько невнимателен, что не заметил странностей в собственном доме. В том же 1922 году, 27 ноября, вышла замуж детская любовь Ромы Кима — Умэко. В эти же самые дни окончательно перестал существовать ее бывший воздыхатель — Кин Кирю и появился секретный агент Приморского подразделения Госполитохраны ДВР (ГПО) по кличке Мартэн. Круг замкнулся. Начался второй этап игр патриотов.
Сугиура Дзюго был избран преподавателем этики принца Хирохито или, как его часто называли, принца Тогу вовсе не за свою мягкость. Но и в школе Ётися воспитание напоминало обучение в военизированной школе, вроде наших кадетских корпусов, куда принимают маленьких детей. Своя форма, общежитие, построения на занятия, военизированные игры — всё это только по команде и под присмотром воспитателей. В этом не было ничего удивительного или экстраординарного для Японии начала XX века. Страна много воевала и даже в мирное время готовилась к войне. Каждый молодой человек обязательно должен был с наступлением определенного срока принести пользу своей стране, если не с винтовкой Арисака в руках, то пусть даже и с пером и бумагой — но в любом случае в обстановке, напоминающей военную. Железная дисциплина, преданность трону, искренняя любовь к своей стране, готовность ради этого переносить любые тяготы и лишения, а при необходимости и отдать свою жизнь за императора — вот в какой обстановке ковался характер маленького корейца, родственника убитой подданными этого самого императора королевы Мин. Это была чудовищная нагрузка на психику. Годами воспитываясь в атмосфере «банзай-патриотизма», Рома Ким возвращался во Владивосток на летние двухмесячные каникулы и должен был вспоминать, что на самом деле он не наследник самурайского клана и не жених дочери одного из серых кардиналов Японии, а то ли русский, то ли корейский патриот. По сути, каждый год он перевоспитывался своим отцом, чтобы вернуться в Токио, помня о главном — учиться ради победы над Японией, где снова подвергался перевоспитанию с прямо противоположными целями. Даже психолог затруднится объяснить, как это выдержала психика ребенка. Ясно одно: в душе у Романа Кима должна была жить либо совершенно ясная картина своего будущего и понимание того, кто он на самом деле и почему он здесь, либо — многолетнее смятение, затрудненная национальная самоидентификация и потерянность в определении своего настоящего и будущего. Его мозг и душа расстроились, сделав его патриотом сразу трех воюющих держав. Изменить положение теперь мог только он сам, приняв решение перестать быть игрушкой в руках судьбы и сделав главный выбор в своей жизни: с кем и против кого он вступит в войну. Ждать ее оставалось недолго.
Глава 6 ИЗ ЯПОНЦЕВ В ЯПОНОВЕДЫ?
Я в объятиях милой О славе отчизны забыл — Все померкло, поблекло. Лишь звезда в небесах багровеет Да белеют венчики лилий. Ёсано Тэккан[80]Доподлинно неизвестно, что это были за «семейные обстоятельства», из-за которых Кин Кирю был отчислен из колледжа Фуцубу университета Кэйо. Но по версии Сига, Роман влюбился в дочь своего наставника — Умэко и согласился стать сыном одного из родственников семьи Сугиура. По всей вероятности, речь шла об усыновлении мальчика Сугиура Рюкити. Отец Романа Николай Ким решительно воспротивился идее усыновления и помолвки, после чего… Кин Кирю пропал.
Первым на это странное исчезновение героя из его же собственной истории обратил внимание в своей статье Кимура Хироси. Однако он не смог найти объяснения «пропаже». В биографии самого Кима тоже есть временная лакуна — 1913–1917 годы. В его «анкете работника НКВД» Ким «до 1917 г. учился в Токио»[81], и эта запись кочует из документа в документ. В автобиографии — примерно то же самое: «По окончании шестилетнего курса поступил в колледж университета Кэйо. Когда я кончил колледж, отец решил дать мне наряду с японским (классическим) и русское образование. Вернувшись во Владивосток, держал экзамены экстерном»[82]. Звучит вполне убедительно. То, что, будучи агентом НКВД, он не стал писать об усыновлении агентом японского тайного общества, вполне естественно. Ким вообще сообщил на допросе, что «удостоверился» в разведывательной работе Ватанабэ, только став чекистом[83]. «Удостоверился» — важное слово. Значит, подозревал и раньше, но не имел фактов. Впрочем, сейчас это не так важно. Главное — Ким вернулся, решил получить русское образование.
На допросах в конце 1930-х Роман Николаевич дал развернутое пояснение тем событиям: летом 1916 года, опять же — завершив обучение в колледже, он собирался поступать на историко-филологический факультет Токийского императорского университета. «Летом 1916 г. в Токио приехали из Владивостока для прохождения практики студенты Восточного института Тим М. С., Лефановский Георгий, Астафуров Михаил. За время пребывания их в Токио я жил с ними в гостинице “Хонго-кан” и в беседе со мной они советовали ехать во Владивосток и поступать в Восточный институт. В конце 1911 г. я из Токио выехал в г. Владивосток к своим родителям»[84].
Не говоря уж о том, что Н. Т. Мин — мать Романа умерла в 1907 или 1908 году, весь рассказ выглядит немного странно. Если Ким действительно в это время учился в Фуцубу, то каждое лето он должен был проводить на каникулах дома — во Владивостоке. Что ему было делать в Токио, особенно если отец платил только за месяцы учебы, а не за отдых в Японии? Но если он жил в Токио, то уж точно не в гостинице — это дорого. Тем не менее он пишет, что остановился с практикантами из России в «Хонго-кан» — судя по названию, в гостинице неподалеку от Токийского университета, расположенного в районе Хонго. Приехал с ними? Но тогда этот рассказ вообще теряет всякую логику. Приехав из Владивостока, он должен был знать о многом, что происходит на его родине, и практиканты из Восточного института никак не могли ему открыть глаза на светлое будущее российского профессора японоведения. Может быть, он не находился в Японии постоянно, но не планировал окончательно порвать с этой страной, приезжая туда время от времени, и однажды действительно случайно оказался в одной гостинице с этими студентами, предложившими ему резко изменить судьбу?
Во вторую часть этой версии поверить проще, чем в первую. За десять лет жизни в Японии Роман имел право разочароваться в этой стране. Эпоха тому способствовала: рост милитаристских настроений, разгул воинственного национализма, самой частой жертвой которого становилось корейское меньшинство, постоянная борьба за свою честь, падение уровня жизни, чрезвычайно жесткая дисциплина везде — от учебы до дома. Не случайно вторая жена Романа Мариам Цын, вспоминая много лет спустя о своем бывшем муже, говорила, что он вернулся на родину под впечатлением корейских погромов в Токио, хотя и относила возвращение к более поздним временам[85]. Трезвый взгляд на японские реалии мог привести Кима к мысли о возможности жизни на родине, где его знания страны пребывания и язык, ставший родным, вполне могли бы быть востребованными. Университетское образование, карьера ученого-японоведа — всё это выглядело не менее привлекательно, чем планы на жизнь в Японии.
Именно так произошло, кстати, со многими русскими выпускниками Токийской православной духовной семинарии, некоторых из них Ким знал лично. Отучившись десять лет рука об руку вместе с японцами, деля с ними кров и пищу, эти ребята по окончании семинарии немедленно начали службу в русской разведке, где не за страх, а за совесть сражались против тех же японцев (иногда и в буквальным смысле — против своих бывших однокашников, служивших в разведке японской и так никогда и не ставших «братьями во Христе»)[86]. Для русских подростков, волею судеб оказавшихся в Японии, главным было вернуться домой, работать для родины и сражаться против японцев, которые умели возбуждать к себе искреннюю ненависть не только среди корейцев. В 1937 году на допросе в НКВД, когда следователь поинтересовался у Кима причинами явного содействия японцев в поступлении корейского мальчика на учебу в «императорский лицей в Токио», Роман Николаевич ответил: японцы рассчитывали, что он будет «полезным японскому государству в смысле продвижения японского влияния». Предположение верное: на этой логике основана вся современная «мягкая сила» или «культурная дипломатия», в которой японцы еще тогда весьма преуспели, создавая условия для подготовки своих агентов влияния по всему миру. Но и сто лет назад, и сейчас «мягкой силы» бывает недостаточно. «Надежд я не оправдал, узнав отрицательные стороны японской культуры», — резюмировал Роман Ким на допросе причины своего возвращения на родину. Впервые в истории нашего героя открыто заявили о себе конфронтация неприятия японского строя, образа жизни и менталитета с любовью к японской культуре и ностальгия по второй родине.
По версии Романа Кима, вернувшись во Владивосток, он сообщил отцу о своем желании «стать профессором-японоведом» и получил на это его согласие. Роман оформил документы на окончательный выезд в Россию и вернулся домой. Всё это выглядит вполне логично, если забыть о главном: нет никаких документов, подтверждающих, что после января 1913 года Кин Кирю вообще учился где бы то ни было в Японии. Даже так: что он вообще в это время находился в Японии. Журналист Владислав Дунаев в своей книге «Достоверный том» передал рассказ о биографии Кима другого корейца — Ю. М. Рю. Вот начало этого повествования: «…Роман Николаевич родился в 1899 году в Корее в дворянской семье (несмотря на упоминание о Корее как месте рождения, пункт о дворянском происхождении стабилен — он, совершенно очевидно, подчеркивался Кимом всегда и для всех. — А. К.). Японцы, оккупировавшие Корею в начале 20 века, старались создать прослойку преданной им корейской элиты, для чего направляли на учебу в Токио детей корейской аристократии. В числе таких обучавшихся в Японии оказался и P. Н. Ким. Получив прекрасное образование, Роман Николаевич, однако, поспешил покинуть Японию и уехал в Европу. Отсюда его свободное владение не только японским, но и английским и французским языками. В 1917 году он вместе с семьей (? — А. К.) переехал в Россию»[87].
Версия, что и говорить, неожиданная, но интересная. При внимательном рассмотрении она оказывается не такой уж невозможной. Во-первых, поездка в Европу полностью объясняет исчезновение Кима из Токио. Пусть и без указания года и места, но всё же с более или менее понятной целью: учиться дальше в Европе. Деньги отца вполне могли дать возможность Роману получить там дополнительное образование. Отъезд из Японии как можно дальше мог оказаться и самым надежным лекарством от любви и к ней, и к Умэко: с глаз долой — из сердца вон. Во-вторых, вспомним слова В. Ф. Кирилленко: «Владел английским и, наверное, другими европейскими языками. Любил этим козырнуть…» Отнесемся к ее воспоминаниям с осторожностью: она говорила о делах давно минувших дней и могла что-то напутать, но если они точно соответствуют действительности, то получается, что примерно через 40 лет после окончания школы Роман Ким с легкостью говорил на нескольких европейских языках. Учитывая не самую сильную лингвистическую подготовку даже в элитных японских школах, поверить в это трудно. Ведь после окончания ее Ким не имел языковой практики несколько десятилетий, а все знают, как «ржавеет» язык без постоянного применения. Если уровень изначально был невысоким, то неизбежно складывается ситуация, знакомая каждому студенту: «хуже всего, когда не знал, а потом еще и забыл». Конечно, бывают исключения, и Роман Николаевич вполне мог оказаться уникумом в этом смысле, но версия о том, что он получил очень серьезную языковую подготовку в Европе, могла бы объяснить его обоснованное «лингвистическое пижонство» на склоне дней. Однако, повторюсь, ни одного документа, который мог бы подтвердить гипотезу о пребывании Кима в Европе или в любой другой стране, кроме Японии, в период с 1913 по 1916 год, пока не обнаружено. Может быть, он овладел этими языками много позже, работая в НКВД? Мы еще вернемся к этому вопросу, а пока несколько слов о студентах, якобы уговоривших Кима вернуться в Россию.
На следствии Ким несколько раз безошибочно называл их имена, демонстрируя отличную память для события, случившегося два десятка лет назад: Мефодий Тим, Георгий Лефановский, Михаил Астафуров. Все трое обладали редкими фамилиями. Вариант «Лефановский» вообще уникален для русского языка, и, возможно, следователь записал так значительно более распространенную фамилию «Лифановский». Обычно людей с редкими фамилиями легче отыскать в архивных материалах, справках, выписках. Тут же, несмотря на уникальность, — почти ничего, никаких сведений. За исключением одного то ли совпадения, то ли какого-то факта, значительно более сложного по сути, но пока не желающего раскрываться.
В январе 1914 года во Владивостоке готовились к празднованию памятной годовщины — пятидесятилетия переселения корейцев в пределы Приамурского края. От лица корейских общественных организаций в административные органы Приморья и Владивостока подавались официальные бумаги, составлялись списки членов оргкомитетов, ответственных лиц, велась обычная в таких случаях бюрократическая переписка. В одном из таких списков, возглавляемом Петром Цоем (Чхвэ Джэ Хёном) — одним из главных доказанных организаторов убийства Ито Хиробуми, в качестве члена «Бюро по приему присылаемых сведений для исторического очерка» фигурирует некий Мефодий Степанович Тим — человек с редким именем и необычной для корейцев фамилией[88].
К этому же времени относится и уже упоминавшаяся записка профессора Восточного института Г. В. Подставина о корейских обществах Приморья (помните про «сеульскую» и «пхеньянскую» партии?). В этой записке, где Николай Николаевич Ким отмечен как заведующий представительским отделом, значится и некий Ким Кый Рион, то есть Ким Ги Рён. Значится в странной должности: «бухгалтер, переводчик русского языка при И Чжион Хо». И Чжион Хо — это Ли Джон Хо, внук одного из корейских министров и, так же как и Н. Н. Ким, один из финансистов корейского подполья, причастный к организации заговора Ан Чжун Гына[89]. Кто этот Ким Ги Рён, чьи фамилия и имя полностью совпадают с корейским именем Романа Николаевича Кима, неизвестно — этот персонаж больше нигде и никогда не упоминается, за исключением человека с таким же именем, командовавшего в это время партизанским отрядом в Северной Корее, но вряд ли он мог быть переводчиком[90]. Профессор Подставин уточняет только, что среди двадцати одного руководителя и ответственного функционера японского общества всего пятеро имеют российское подданство. Среди них Петр Семенович Цой, Николай Николаевич Ким и тот самый Ким Кый Рион. А если предположить, что Ким Кый Рион и «наш» Ким Ги Рён одно и то же лицо? Если пятнадцатилетний Роман Ким мог выполнять функции бухгалтера (в конторе отца ему наверняка было кому оказать помощь, если в этом обществе вообще существовала реальная бухгалтерия) и переводчика (с корейского языка), то становится понятно, где он находился после отчисления из колледжа Фуцубу в начале 1913 года. Роман мог вернуться домой, отозванный разгневанным отцом, и некоторое время выполнял какие-то поручения в корейской общественной организации. Это была бы хорошая возможность «перевоспитать» чересчур увлекшегося Японией подростка в духе корейского патриотизма и ненависти к японским оккупантам его исторической родины. Как станут говорить всего несколько лет спустя, такая работа стала бы для Ромы Кима настоящей «перековкой», в результате которой он должен был сохранить свои знания, но обрести утраченный в Токио антияпонский боевой дух. «Работа» бухгалтером и переводчиком в таком случае — не более чем фикция, шанс познакомиться с нужными людьми из корейского подполья, созданный для него отцом совершенно официально. Именно здесь Ким Ги Рён мог на самом деле встретиться с Мефодием Тимом и с другими лицами, называемыми им «виновниками» его внезапного возвращения из Токио во Владивосток. Мог потом поехать с ними в Токио, сопровождая практикантов и выполняя собственные задачи. Причем само это возвращение не отменяет по большому счету ни возможности путешествия и даже обучения в Европе, ни командировок в Токио для решения каких-то текущих вопросов. На это у Кима было целых четыре года.
Еще одним аргументом в пользу того, что Роман Ким вернулся в Россию задолго до официальной даты — 1917 года, служит выписка из метрической книги родившихся в 1899 году. Она выдана 29 апреля 1914 года «по личному требованию P. Н. Ким». Конец апреля — учебная пора для японских школьников. Что делал Роман Ким в это время во Владивостоке, если он, по его собственным заверениям, учился в токийском колледже Фуцубу? И почему, если он все-таки вернулся в Россию, не поступил в том же 1914 году в гимназию или в какое-то другое учебное заведение, а тянул аж еще три года? Или же поступил, но мы этого не знаем? Но куда? Как видите, вопросов много. Ответов на них пока нет. И это еще не всё. Имея в виду плотность японского разведывательного «колпака» над владивостокскими корейцами, становится понятно, что материалы о возвращении сына Николая Кима из Токио должны были в этот же Токио и поступить. Их нет. Возможно, пока мы просто не знаем о них. Так что впереди нас может ждать много интересного, а пока, как в большинстве случаев с исследованием биографии нашего героя, остаются только очередные загадки и очередные версии…
То, что Роман Ким был не чужд политики уже в юном возрасте, нам известно тоже с его слов: «сочувствовал кадетам»[91]. Между прочим, взгляды вполне в духе либерального и «европеизированного» фукудзавовского Кэйо. Но взгляды взглядами, а даже у просвещенного школой Ётися и колледжем Фуцубу молодого человека в кармане не было никакого документа об образовании — ни о японском, ни о европейском. А Роман собирался стать японоведом. Чтобы поступить в Восточный институт, сначала пришлось пойти в школу. Точнее, окончить экстерном шесть классов мужской гимназии (стало быть, все-таки нигде эти четыре года не учился?) и в августе революционного 1917 года поступить учиться очно и окончить два старших класса.
Гимназия располагалась в том же здании, что и Восточный институт, — на Пушкинской, 10, практически в центре города и совсем недалеко от гавани, от знаменитой бухты Золотой Рог, куда приходили корабли со всего мира. Глубокие знания — языков, истории, географии, культуры государств, которые изучали в длинном здании из красного кирпича с китайскими каменными львами перед входом, прославили Восточный институт на всю Азию. Студенты, вся жизнь которых сводилась к изучению труднейших азиатских языков, были элитой в то время не слишком университетского города Владивостока, но далеко не все среди них были способны стать действительно крупными специалистами-востоковедами. Для этого требовались талант, выдержка, огромное терпение и наличие не менее выдающихся преподавателей. Конечно, Кин Кирю было бы несоизмеримо легче, чем всем остальным, сумей он поступить на японский разряд. Вне зависимости от того, где он провел последние три года, японский язык успел стать для него родным. Но надо было еще поступить. Тем более что думал он не только об учебе.
Из фондов Государственного архива Приморского края
Общительный, импозантный, чрезвычайно энергичный и взрослый для гимназиста юноша-полиглот с опытом жизни в экзотической Японии не мог не выделяться на фоне не только учеников, но и студентов. Уже в то время он любил танцевать (научился в Японии или все-таки в Европе?) и возглавил гимназический художественный кружок. В 1919 году с гимназисткой выпускного класса из этого кружка — дочерью флотского офицера Зоей Заикой у Романа начался роман, со временем переросший в серьезные отношения[92].
В апреле 1919-го Роман Ким окончил гимназию — полный восьмиклассный курс. Учился хорошо, иначе не поступил бы в Восточный институт, куда вместо экзаменов предоставлялись аттестаты. На обучение принимали тех, кто имел высшие баллы или уже получил диплом, как сейчас сказали бы, о первом высшем образовании. Кима в институт взяли, но, похоже, всё прошло не слишком гладко. В его аттестате из тринадцати оценок по различным предметам пять — «отлично» и восемь — «хорошо»[93]. И вот что интересно: отличником Роман Ким был по дисциплинам не очень важным для будущего японоведа: Закон Божий, две географии, законоведение и черчение. А вот «четверки» получил по русскому, латинскому, французскому и английскому языкам. Никакой «европейской практики» в языках тот гимназический аттестат не выявляет. Да, требования тогда были не в пример жестче, чем сейчас, и единственная в городе мужская гимназия считалась заведением элитным, и экстернат накладывал отпечаток, но всё равно создается впечатление, что недостаточно усердным учеником был гимназист Роман Ким и поступление его в Восточный институт совсем не было делом заранее решенным. Логично было бы предположить, что поступать Роман будет на «китайско-японский разряд», но и это не так. Возможно, что в том же 1919 году Восточный институт образовал сложную взаимосвязанную структуру с несколькими частными и платными факультетами, которые возглавили бывшие профессора института. Ким подал заявление о принятии его в Восточный институт 15 октября 1919 года и поначалу был зачислен лишь вольнослушателем (то есть на платной основе), не сумев стать одним из более чем ста «действительных» студентов института[94]. Через десять дней он получил удостоверение студента, а еще через три дня — 28 октября 1919 года подал прошение о зачислении вольнослушателем историко-филологического факультета. 18 сентября 1920 года Ким стал студентом еще и юридического факультета. Когда он успевал учиться, совершенно непонятно, особенно если вспомнить, в каких условиях проходила эта учеба.
1919 год для России вообще и для Приморья в частности — судьбоносный, страшный, непонятный. 5 апреля 1918 года во Владивостоке высадился японский десант. 29 июня с помощью восставших белочехов — бывших пленных мировой войны в городе была свергнута советская власть. К октябрю 1918 года на Дальнем Востоке находилось уже около 72 тысяч японских солдат и офицеров, около десяти тысяч — американских и около 29 тысяч представителей других иностранных армий. Но, конечно, именно соседи — японцы были более других заинтересованы и вдохновлены идеей колонизации русского Приморья и создания там собственной сырьевой базы. Бешеными темпами скупались земли, заводы, магазины — всё, что могло быть куплено. С остальным можно было подождать и потом отнять. Правда, возникли непредвиденные сложности в виде вооруженного отпора местного населения, которое видело в японских военных не спасителей, а оккупантов. В 1919 году японцы надеялись создать русское буферное государство на Дальнем Востоке, возглавить которое мог бы финансово зависимый от них, а потому хорошо управляемый атаман Григорий Семенов. Проект не состоялся, но с белоказаками и другими белогвардейскими частями японцы выступали в роли союзников в борьбе с большевиками, несмотря на взаимное неприятие. Противник — красные партизаны — был представлен поначалу лишь разрозненными отрядами обшей численностью около 25 тысяч штыков, но обстановка менялась быстро, в том числе и по вине самих японцев, унижавших и презиравших своих русских союзников[95]. Даже их основной партнер по борьбе с большевизмом в Сибири — адмирал Колчак не доверял японцам, основываясь в том числе на данных своей разведки, плодотворно работавшей против Токио и сообщавшей Верховному правителю Сибири о планах по разграблению российской территории.
Еще хуже оказалось положение тысяч российских корейцев, которых японцы считали «недочеловеками». Для оказания вооруженного отпора японцам началось формирование корейских отрядов сопротивления, помощь которым оказывали формально державшие нейтралитет богатые корейские купцы и промышленники. В мае 1918 года бывшие корейские подпольщики во главе с П. С. Цоем объявили о признании в Приморье единственной властью Временного правительства Сибири, с которым у японцев было налажено сотрудничество, но вскоре ситуация внезапно переменилась. В феврале 1919 года в Сеуле умер муж убитой королевы — ван Коджон, судя по всему, на протяжении двух десятилетий являвшийся идейным и финансовым вдохновителем антияпонских выступлений. Умер внезапно, что дало повод заподозрить насильственную смерть и обвинить в этом японцев (скорее всего, это не соответствовало действительности, но думать так в тот момент было очень удобно).
Первого марта в Сеуле с чтения Декларации независимости двадцатимиллионного народа начался мятеж против колониального правления японцев, быстро распространившийся на всю страну и за ее пределы. Нападения на японцев продолжались около двух месяцев и стоили корейцам 24 тысяч убитых и раненых и еще 53 тысяч арестованных, и это послужило еще одним поводом для озлобления народа. Распространялись рассказы о жестокости японских военных: «…в г. Сувоне 15 марта 1919 г. японцы “…узнав о том, что в окрестностях города убит один японский солдат, собрали жителей в церковь (якобы для проповеди), а затем, облив здание керосином, подожгли его и стали расстреливать людей, выбегающих из горящего здания. Убийства и поджоги продолжались в течение трех дней, в результате чего было убито еще несколько десятков жителей и сгорело более 400 домов”»[96].
Мятеж затронул и Владивосток. Очевидец тех событий, большевик А. Н. Яременко, писал: «Корейская слободка во Владивостоке разукрашена национальными и красными флагами — сегодня у корейцев праздник-демонстрация независимости Кореи. Происходят митинги. Корейская манифестация движется от корейской слободки по городу. На автомобилях мчатся по городу, разбрасывают “Декларацию независимости” Кореи. Корейские дети и молодежь преобладают в демонстрации. Это “Красный праздник просыпающейся Кореи”. Русский пролетариат примыкает к манифестации. Всем консулам специальная корейская делегация вручает “Декларацию независимости Кореи”, напечатанную на английском, русском, китайском и корейском языках. Японская жандармерия присматривается, шмыгает по корейским фанзам, срывает “Декларацию”. Передают, что китайский консул любезно принял корейскую делегацию… Японскому консулу бросили пачку деклараций в окно. Единодушие корейцев проявилось с большой силой…»[97]Представители корейских организаций в Приморье приняли решение отмечать 1 марта — день объявления в Сеуле Декларации независимости как праздничный — правда, без уточнения, как, собственно, его праздновать. Именно в эти дни, в марте 1919 года, когда японскому консулу Кикути Дзиро корейцы бросали в окна пачки деклараций, а в лесах вооружались партизанские отряды, воодушевленные не только национальной ненавистью, но и большевистскими агитаторами, Роман Ким заканчивал гимназию и готовился начать самостоятельную жизнь.
До поступления в Восточный институт оставалось еще полгода, и сначала вчерашний, но вполне себе взрослый (19 лет!) гимназист попал в армию. Указом Верховного правителя Сибири А. В. Колчака от 8 марта с 27 марта была объявлена мобилизация молодых людей до 1901 года рождения[98]. Ким получил аттестат о восьмилетнем образовании в апреле и сразу был призван в колчаковскую армию.
Став солдатом, Роман не занял место в окопе на сопке, сжимая в руках «трехлинейку» или винтовку Арисака. Он остался во Владивостоке, где немедленно нашли применение его знанию японского языка, но и этот эпизод биографии Романа Николаевича содержит массу загадок. Мало того что Ким из года в год писал в анкетах, что вернулся из Японии в 1917 году, он сознательно и дальше запутывал историю, как в известной нам анкете 1935 года: «В Белой армии не служил. В 1919 г. во Владивостоке омским правительством была объявлена мобилизация учащихся старших классов гимназии и университета. Я был в университете, куда при поступлении сдал документы, что я сын Николая Кима (русского подданного, иначе меня не приняли бы)… По мобилизации студентов-восточников назначен чиновником военного времени в штаб округа… Я обратился в японское генконсульство, которое подтвердило, что я приемный сын Сугиура и являюсь японцем, таким образом, мне удалось уклониться от мобилизации и числиться слушателем университета»[99].
Но, во-первых, согласно документам, хранящимся в архиве Дальневосточного университета, в марте Роман Ким не «был в университете». Во-вторых, в прошении к председателю совета профессоров Восточного института указаны три документа, прикладываемых к прошению, но среди них нет ни одного, касающегося гражданства Николая Кима. Зато упоминается некое «разрешение от начальника военной службы» на слушание лекций, в деле отсутствующее, неизвестно кем и когда из него изъятое. В-третьих, Роману не удалось уклониться от мобилизации, даже если он и получил в японском генконсульстве справку о своем японском гражданстве, так как в то время он не был студентом.
В середине июня 1919 года P. Н. Ким — «писарь штаба Владивостокской крепости, окончивший в Японии 6 классов начальной школы и 3 класса средней…», сотрудник «Моей газеты» и информационного агентства «Feta», проживавший на 1-й Морской ул., д. 5, кв. 1, был рекомендован на должность переводчика Военно-статистического отдела штаба Приамурского военного округа[100].
Почему Ким так настойчиво называл себя студентом в то время, когда он таковым не являлся, непонятно. Можно предположить, что ему очень не хотелось, чтобы в чекистских документах оказалась зафиксирована его служба в колчаковской разведке в 1919 году. Дальше в автобиографии Роман старается еще больше сгладить военный привкус той мобилизации: «Во главе отдела стоял полковник Цепушелов (кореевед), в отделе работали в качестве официальных экспертов-консультантов проф. Спальвин и ряд других японистов, китаистов, монголоведов. Ряд востоковедов, состоящих в этом отделе, теперь члены ВКП(б). Немного спустя отдел был расформирован… и я был отправлен в качестве чиновника военного времени в отделение культурно-просветительское и печати». Так значительно лучше: студента-восточника призвали в армию, сначала поставили под ружье, потом отправили в какой-то статистический отдел, где сидели такие же книжные черви, как он сам, а потом и вовсе — «бросили на культпросвет». Неосторожно названный разведывательным военно-статистический отдел Ким всячески пытался отделить от разведки Колчака уже на допросах: «…отдел разведывательной деятельностью не занимался. Военно-статистический отдел в основном занимался просмотром японской и китайской прессы, монографий по политике, экономике, статистике и т. д. Ни военных, ни секретных материалов военно-статистический отдел не пропускал. Они направлялись в оперативный отдел, где в большинстве случаев сидели офицеры, окончившие в свое время Восточный институт»[101].
О том, что полковник Александр Ильич Цепушелов не только востоковед, но и профессиональный разведчик, Ким либо не знал, либо умолчал сознательно. Почему-то еще Роман назвал бывшего шефа корееведом, хотя тот был коллегой — японистом и китаеведом, окончил тот же Восточный институт всего лишь в 1911 году, служил в разведке, неоднократно бывал в служебных командировках в Японии.
Из фондов Государственного архива Приморского края
Вообще Роман Николаевич редко в документах называл какие-то фамилии, о которых его не спрашивали[102]. Профессор Спальвин — одно из немногих исключений. Четыре года спустя именно он вместе с другим корифеем востоковедения профессором Н. В. Кюнером рекомендовал молодого выпускника института Кима на должность научного сотрудника кафедры экономики стран Восточной Азии[103]. Латыш по происхождению, Евгений Генрихович Спальвин специалистом был превосходным, но человеком сложным, придирчивым, с характером язвительным и желчным. Профессор довольно много времени провел в Японии и обзавелся интересными связями. В своей книге воспоминаний (изданной, увы, только на японском языке) Спальвин рассказал о знакомстве с замечательным переводчиком русской литературы Футабатэй Симэй, которого до сих пор, хотя и бездоказательно, многие специалисты считают агентом японской разведки, а также с генералом и будущим премьер-министром, тоже разведчиком, якобы ставшим автором скандально известного «меморандума» — Танака Гиити, адмиралом Като Хирохару, шефом японской военной разведки полковником Исомэ (Идзомэ) Рокуро, журналистом Отакэ Хирокити… При этом на протяжении многих лет профессор Спальвин был надеждой и опорой русской контрразведки на Дальнем Востоке. Еще с 1902 года, когда он был рядовым чиновником отдела внутренней иностранной цензуры, Евгений Генрихович занимался дешифровкой перехваченных у японских разведчиков донесений и переводом этих документов на русский язык. В 1909 году написал фундаментальное пособие для военных переводчиков «Японская армия»[104]. Чему учил Евгений Спальвин Романа Кима, говорившего на японском языке как на родном?
Впрочем, и помимо японского языка, в университете было чему поучиться. В Восточном институте было четыре отделения и семь кафедр. Курс длился четыре года, но в первый год все слушатели изучали только китайский, английский, французский языки, получали начальные знания по географии Китая, Кореи и Японии, знакомились с десятком предметов от истории до гражданского и торгового права, счетоводства и товароведения. Затем на китайско-японском отделении начинали преподавать японский язык, политическое устройство и торгово-промышленную деятельность современной Японии. Упор делался на практическое применение изучаемых предметов. Даже богословие преподавалось так, чтобы ознакомить слушателей с особенностями религий сопредельных стран и деятельностью Русской православной церкви за рубежом. Осваивались не только основные языки, но и диалекты стран-соседей, правила частной и дипломатической переписки, коммерческого, гражданского, уголовного делопроизводств и прочего бюрократического общения на изучаемых языках. Занятия делились на два больших блока: утром — с профессором или лектором; после обеда — с лектором. К этому надо добавить занятия в библиотеке, подготовку докладов и разного рода сообщений, а также проведение самостоятельных исследований студентами. Стоит ли говорить, что объем знаний, которые необходимо было усвоить на высоком уровне, требовал дополнительной самостоятельной подготовки — бесконечной зубрежки, на которую оставалась только ночь[105].
Семнадцатого апреля 1920 года Восточный институт и несколько частных факультетов были преобразованы в Государственный дальневосточный университет. Содержание и формы обучения студентов-восточников от этого принципиально не изменились, но китайское и японское отделения стали самостоятельными, независимыми друг от друга. Студентам было предложено получать специальность по категориям: историко-филологическая, общественно-правовая или общественно-экономическая. В случае с нашим героем ситуация осложнялась тем, что он в некоторые периоды одновременно учился на трех факультетах — восточном, юридическом и историко-филологическом. Ему пришлось выбирать, и в конце концов Роман Ким решил стать японоведом. 12 октября 1921 года он ушел с историко-филологического факультета. Нет свидетельств и об окончании курса факультета юридического, как, впрочем, не сохранились и документы о его отчислении, если таковое имело место быть.
Что же касается военной службы, то едва Роман поступил на первый курс, как во Владивостоке началось восстание чехословацкого корпуса Гайды, после которого, как писал сам Ким, он «дезертировал из штаба». В 1937 году он на допросе рассказал о тех же событиях по-другому: он еще до мятежа составил специальный план по поводу того, как покинуть военную службу. Дело в том, что «к осени 1919 года в стенах нашего университета шли упорные слухи, что намечается реорганизация Штаба и подведомственных ему отделов и возможной переброске нас в г. Омск. Были разговоры о том, что Колчаку, ведшему дела с японцами, необходимо иметь под рукой аппарат экспертов-референтов по японским делам. Это известие сильно взволновало меня. Как сильного япониста, меня могли направить в первую очередь, а я мечтал окончить Восточный институт и стать профессором-японистом»[106].
Претворяя свой план в жизнь, Ким наведался к генконсулу Японии во Владивостоке Кикути Дзиро. Упомянув Ватанабэ, в то время служившего в Москве, Роман предъявил Кикути свое удостоверение студента колледжа Фуцубу (!), сообщил, что учился в Токио по рекомендации Ватанабэ, и немедленно получил документы гражданина Японии, «японскоподданного корейца». «Генконсул Кикути пообещал мне в случае осложнений оказать содействие, то есть помочь мне уйти с военной службы у Колчака… Я представил свое удостоверение воинскому начальнику и копию в Штаб округа и перестал ходить на работу в военно-статистический отдел. Официального приказа о моем отчислении я не получал, меня после этого не вызывали»[107].
Снова возникают вопросы. Как писал сам Роман, его приняли в институт только после того, как он принес справку о том, что его отец — подданный бывшей Российской империи. При этом сын вынужден был запастись справкой о том, что сам он — гражданин Японии, чтобы, по его словам, спастись от мобилизации. Если Роман Николаевич рассказывал правду, то уволили его со службы осенью, но как японского подданного. В таком качестве он не мог поступить в университет, куда представил таинственную бумагу от воинского начальника, и тем не менее поступил. Скорее всего, Роман Ким, составляя анкеты и автобиографии уже много позже, при советской власти, стремился всячески минимизировать упоминания о службе у Колчака, чтобы как можно скорее сняться с опасного для жизни учета бывших белых офицеров (УББО) — существовал такой в нашей стране. Людей, стоявших на этом учете, могли арестовать, бросить в лагерь, расстрелять в любой момент — как классово чуждых, боровшихся против советской власти с оружием в руках, подозрительных и опасных. Поэтому Роман Николаевич и выдумывал истории, укорачивая свой реальный срок службы в белой армии и приписывая себе дезертирство из нее.
Из фондов Государственного архива Приморского края
Уже в январе следующего, 1920 года в городе вновь сменилась власть. В Иркутске был захвачен и расстрелян адмирал Колчак. Каппель прорывался на юг, в Маньчжурию. В отрезанном от Сибири (казаками атамана Семенова) Приморье партизаны занимали железнодорожные станции и полустанки, медленно, но неуклонно продвигаясь к океану. 31 января их отряды вошли во Владивосток, и Роман Ким «…был назначен заведующим иностранным отделом телеграфного агентства Приморского правительства (коалиция эсеров и большевиков)». Помимо телеграфного агентства студент восточного факультета умудрялся сотрудничать и с кадетской газетой «Голос Родины», и с эсеровскими «Волей» и «Эхом» — «по японской прессе». Переводы японской прессы стали для Кима хорошим практическим дополнением к учебе в университете. Роман шлифовал не только японский, но и русский язык, делая свою речь отточенной и литературной, обрастал связями и интересными знакомствами. 1 марта 1920 года он присутствовал на банкете в ресторане «Золотой рог» в честь Дня независимости Кореи. Японский агент, находившийся там же, пометил в рапорте: «На банкете присутствовали следующие корейцы:…Роман Николаевич Ким (сын Ким Бён Хака, учился в Японии, корреспондент газеты “Эхо”»[108]. Но всё это было лишь подготовкой к настоящей работе. Коренным же переломом в судьбе Романа Николаевича Кима стало его поступление по рекомендации профессора Е. Г. Спальвина в японское телеграфное агентство «Тохо», выполнявшее тогда функции официального рупора Токио.
Глава 7 А БЫЛ ЛИ ШТИРЛИЦ?
Ночью, когда положено спать, Зорки глаза у нас, Решимости мы полны. Ночь. Красное знамя. Розы. Властителей черная ночь застилает Наш красный цвет. Глаза войны… Цубои Сигэдзи[109]Знавший Кима писатель Лев Славин говорил о нем: «…в Романе Киме советский мальчишка схватился с выучеником европеизированного японского колледжа. Схватился и победил»[110]. Люди возраста Романа Кима оказывались на самом острие атаки, конфликтуя со старой властью, с новой, друг с другом. Ходили слухи, что во время Гражданской войны у Романа Кима не сложились отношения с Александром Фадеевым, который тоже учился во Владивостоке, что-то произошло между ними в молодости, о чем осторожный Ким не любил рассказывать. Вот и Кимура Хироси в своей статье писал: «У писателя Фадеева, застрелившегося из пистолета в 1956 г., в первом издании дебютного романа “Разгром” было такое предложение: “Студент Ким написал на доске ‘Ура забастовке’”, и это было про “нашего” Кима. Но потом у них испортились отношения, и Фадеев это предложение удалил. Я сам не видел этого первого издания и не знаю, правда это или нет». Однако Кимура, судя по всему, спутал «Разгром» с другим романом Фадеева — «Последний из Удэге». В нем действительно есть такие строки: «…Пока шло собрание, сын корейского купца Пашка Ким, лучший в классе карикатурист, мелом изобразил на доске манифестацию учащихся с плакатом: “Долой тиранию педагогов и варваров-родителей!”». Но если речь идет именно об этом фрагменте, то упоминание «нашего» Кима весьма и весьма сомнительно, хотя у подруги детских лет Фадеева А. Колесниковой есть мимолетное упоминание о некоем «Ромочке Киме» из их компании[111]. Фадеев был моложе Кима на два года, учился в другом владивостокском учебном заведении — Коммерческом училище с 1912 по 1918 год, и, если верить официальной биографии Романа Николаевича, они нигде не должны были пересекаться настолько плотно, чтобы близко познакомиться и что-то не поделить. Представить же, что Роман Ким — сын корейца из сословия янбан, воспитанный в строгих конфуцианских традициях безмерного почитания родителей, вернувшийся по первому слову отца из Японии, где оставил все свои мечты, любовь и перспективы, напишет «долой тиранию варваров-родителей», тоже невозможно. Да и на «почерк» сотрудника военно-статистического отдела Романа Николаевича Кима такая выходка не походит. Если и была у бывшего японского студента, ранее симпатизировавшего кадетам, какая-то тяга к внутрироссийской политической борьбе, то выражалась она не так, да и появилась явно не тогда, как это описано у Кимура.
Как выходца из кругов антияпонского подполья, Романа изначально должны были беспокоить не отношения красных и белых и тем более не конфликты между преподавателями и учениками, а оккупация Приморья японскими войсками. В свою очередь, служба в японском информационном агентстве «Тохо» сделала Кима обладателем ценной военной информации, но путь к заветной должности оказался непрост и сопряжен со смертельным риском.
В 1958 году, уже будучи известным советским писателем, Роман Николаевич отправил письмо соболезнования в Токио, на адрес созданной бывшим журналистом Отакэ Хирокити книготорговой фирмы «Наука», существующей по сей день и специализирующейся на русскоязычной литературе. Поводом стала смерть Отакэ, и Ким подробно рассказал историю своего знакомства с этим человеком. Еще четверть века спустя Кимура процитировал письмо в своей статье: «Было это где-то в начале апреля 1920 г. Тогда в г. Никольске открылся “Съезд депутатов трудящихся Советского Дальнего Востока”, и на нем присутствовали и иностранные журналисты. Я, тогда будучи 20-летним студентом Владивостокского университета, тоже был в рядах иностранного журналистского контингента как спецкор “Приморского телеграфного агентства”. Поезд, в котором ехали иностранные и русские газетные корреспонденты, был остановлен на маленькой станции. В него зашли японские военные полицейские и начали досмотр русских корреспондентов. Они нашли в моем чемодане мои заметки и плакаты, ругающие интервентов. Полицейский офицер объявил мне, что арестовывает меня как “корейца-бунтовщика”.
Солдаты взяли меня под руки и собирались вывести меня из вагона. В этот миг-то всё и случилось. Послышался спокойный голос, разорвавший напряженность и боязливое молчание вагона. “Это мой секретарь, японец. Оставьте его в вагоне, пожалуйста”. Сказал эти слова человек, с которым я познакомился в этом путешествии, японский газетный корреспондент Отакэ Хирокити. Пока нас вели в участок, Отакэ шепнул мне: “Единственный способ для тебя спастись — настаивать на том, что ты — японец. И ни в коем случае не робей”».
К этому письму Кимура Хироси добавляет свой комментарий: «О том времени я спрашивал лично г-на Кима, и он сказал, что познакомился с г-ном Отакэ за какой-то час до происшествия. Так родилась продлившаяся всю жизнь дружба между ним и г-ном Отакэ, которому он был обязан жизнью. А после окончания университета г-н Ким получил работу во владивостокском отделении агентства “Тохо”, открытом г-ном Отакэ»[112].
Судя по всему, в письме рассказывается о событиях 4–5 апреля 1920 года — так называемой второй японской оккупации. Собственно, и первая оккупация к тому времени не кончилась — Дальний Восток и значительная часть Забайкалья контролировались японской армией через гарнизоны, расквартированные в ключевых населенных пунктах, на станциях, транспортных узлах. Несмотря на то что экспедиционные корпуса других стран — Америки, Великобритании, Франции и даже Италии — приступили к отводу своих частей и подразделений с оккупированной территории, японская армия, наоборот, усилила режим безопасности. Это было вполне объяснимо. Японская разведка докладывала об усилении центрального большевистского правительства в Москве и о реорганизации прокоммунистически настроенных партизанских отрядов на самом Дальнем Востоке. Под руководством специалистов из Москвы в Приморье разрозненные прежде группы красных бойцов переформировали в девять дивизий и две отдельные бригады, объединенные в три армии, командовать которыми был назначен бывший прапорщик Сергей Лазо. Кроме того, и это являлось принципиально важным фактором для Токио, Приморье даже в условиях японской оккупации служило базой для подготовки корейских партизанских отрядов — около четырех тысяч штыков, которые действовали как на территории российского Дальнего Востока, так и в Корее, уже десять лет как официально ставшей японской колонией.
В Японии видели сложность ситуации в России, и общественное мнение азиатской империи не отличалось единодушием относительно продления сроков нахождения там экспедиционного корпуса. «Народная газета» — «Кокумин симбун» выражала мнение правительства: «Мировая война подарила Японии неожиданный подарок, нетронутую сокровищницу — Сибирь. Японцам не нужно иметь территориальные претензии на Циндао, южноазиатские острова — следует осваивать сибирскую сокровищницу. Тогда сама по себе будет решена демографическая проблема, продовольственный вопрос, проблема укрепления государственной силы. Сибирь освобождена от тяги России и уже вышла на арену мировых интересов. Присоединение к Японии — не в смысле вторжения, а в экономическом смысле — зависит от умения японцев»[113]. Сосед Сугиура Рюкити по Токио, публицист и будущий премьер-министр Исибаси Тандзан, опубликовал в журнале «Тоё кэйдзай симпо» свое авторитетное мнение: «Вполне возможно, что часть российского общества вообще не ведает, что творит. Но заметьте: эти люди живут в России, и уже только поэтому помимо их воли, без учета их мнения ничего в России сделать нельзя. У страны нет иного пути, кроме как попытаться изменить образ мысли некоторых своих жителей и исправить их образ действий. Но решать эти задачи должны не мы!»[114] Роман Ким о позиции информационного агентства, в котором работал, в автобиографии писал так: «“Тохо”… в противоположность штабу японских экспедиционных войск, стало вести кампанию за эвакуацию японовойск, и потому его бюллетени бойкотировались правой прессой (монархистской), и ОТАКЭ получал угрозы от японских военных и русских».
Противоречия в японском обществе относительно стратегии действий в России нарастали. Бои в Приморье продолжались, несмотря на существование формального перемирия между красными и японцами. 12–14 марта японские войска проиграли сражение за город Николаевск-на-Амуре партизанской бригаде Якова Тряпицына. Любимец красного героя Василия Блюхера, Тряпицын организовал массовый террор в городе, практически уничтожив его население. Погибла и почти вся японская колония, проживавшая в Николаевске, — 834 человека. «Николаевский инцидент» немедленно был использован японцами как повод для оккупации 22 апреля северной части Сахалина (освобожденной от японцев только в 1925 году) и для начала активных действий против партизан в самом Приморье. К первым числам апреля японские войска заняли господствующие высоты и важные в оперативно-тактическом отношении объекты во Владивостоке и его окрестностях. Предварительно город покинули американские войска.
Не исключено, что Роман Ким присутствовал при этом. Его короткая повесть «Тайна ультиматума», написанная в 1933 году (ее первое название — «Приморские комментаторы»), представляется сегодня одним из самых сильных и не оцененных по достоинству произведений. Документальная повесть, в которой нет места выдумке и которая только в силу неверного попадания в разряд «художественных произведений», «фикшн», как сейчас говорят, не используется в качестве ценнейшего исторического свидетельства очевидца тех событий. В повести дана почасовая хроника японского переворота, а главные герои выведены под своими собственными именами. Таким, например, являлся близкий знакомый профессора Спальвина, специалист по России, бывший офицер японского военного атташата в Санкт-Петербурге, полковник 2-го (разведывательного) отдела Генерального штаба японской армии Исомэ Рокуро, в том же 1920 году принявший «на ответственное хранение» 22 ящика с «золотом Колчака». Исомэ, кстати, приходился дядей японскому журналисту Ито Сюнкити, которого Ким не мог не знать. Русский антипод Исомэ — профессиональный разведчик-японовед Алексей Луцкий, который, с точки зрения японского офицера, выглядел так: «…он единственный из русских говорил по-японски, два битых часа беседовали о том, как ловят съедобных змей на юге Китая, о запрещенных приемах дзюдо, о том, как татуируются гейши, и о гомосексуализме в Европе и Азии. Луцкий, старый барсук, каждый раз, как только мы подводили разговор к ультиматуму, перепархивал на другие темы, так ничего и не сказал о том, что нас интересовало — отношение русских к ультиматуму. Мы выкурили по целой сигаре, стало тошнить, я даже оторвал аксельбант, а майор Югэ скрипнул зубами, мы встали и тепло попрощались с Луцким, и я твердо решил самолично пристрелить Луцкого, когда он попадет в наши руки». Алексея Луцкого расстреляли 5 апреля 1920 года — вместе с Сергеем Лазо и другим лидером большевистского подполья, двоюродным братом Фадеева, Всеволодом Сибирцевым. Это были те самые три человека, которых, по широко известной легенде, японцы сожгли в топке паровоза.
Ультиматум, о котором так не хотел беседовать Луцкий, был предъявлен Временному правительству Приморской земской управы (органу административного управления Приморья) 1 апреля 1920 года командующим японским экспедиционным корпусом генерал-лейтенантом Ои Сигэмото. В документе японцы потребовали «обеспечить японские войска квартирами, продовольствием, путями сообщения, признать все прежние сделки, заключенные между японским командованием и русскими властями, не стеснять свободы тех русских, которые обслуживают японское командование, прекратить всякие враждебные действия, от кого бы они ни исходили, угрожающие безопасности японских войск, а также миру и спокойствию в Корее и Маньчжурии… приложить все старания к безусловному обеспечению жизни, имущества и других прав японских подданных, проживающих в Дальневосточном крае»[115].
Переговоры по ультиматуму шли четыре дня, и японцы использовали это время для захвата ключевых позиций в городе и вокруг него. В ночь с 4 на 5 апреля после спровоцированных обстрелов своих же военнослужащих японские войска взяли власть во Владивостоке. То же самое произошло во всех городах Дальнего Востока вплоть до Хабаровска, где японская артиллерия открыла огонь по городским зданиям. Начался террор против большевиков и против люто ненавидимых японцами корейцев. Официальным оправданием этого стала антияпонская активность корейцев-эмигрантов, на протяжении многих лет тщательно фиксировавшаяся японской разведкой. Местная газета «Дальневосточное обозрение» писала тогда со ссылкой на японскую прессу, что «корейцы, проживающие в русских владениях, особенно в районе Никольск-Уссурийского, после русской революции начали усиленно развивать антияпонскую пропаганду путем распространения литературы, а также нападали на корейцев-японофилов, оскорбляли японские войска, а 4 апреля ночью, после открытия военных действий между русскими и японскими войсками, корейцы обнаружили стремление выступить с поддержкой русских. В Никольске были установлены обстрелы японских войск со стороны корейцев. Поэтому японская жандармерия, при поддержке военных частей, приступила к арестам и отобранию оружия. Большинство корейцев, ввиду выраженного ими желания исправиться, были выпущены. После этого в районе Никольска были арестованы четверо наиболее влиятельных политических деятелей: Эм, Хван, Ким и Цой. 7 апреля, при переезде жандармского отделения, арестованные пытались бежать от конвоя. При задержании они оказали сопротивление, ввиду чего их пришлось расстрелять»[116].
Однако если Роман Ким написал в письме по поводу смерти Отакэ правду, то в «Тайне ультиматума» он всё же излагает события, которые не видел своими глазами. В дни, описанные в повести, Ким должен был находиться не во Владивостоке, а как раз в Никольске-Уссурийском (ныне — Уссурийск), в ста с лишним километрах от столицы Приморья. Именно там проходил «Съезд трудящихся Приморья и Приамурья», названный в письме «съездом депутатов трудящихся Советского Дальнего Востока». На съезде присутствовали около четырехсот делегатов, в том числе, как вспоминал один из делегатов-журналистов, «тов. Кушнарев, только что приехавший из Москвы, рассказывал о Советской России, знакомил с директивами центра о Советской России, показывал советские деньги…»[117].
Вероятно, поезд, в котором находились Ким — представитель Приморского телеграфного агентства (будущего ДальТА, а затем ТАСС) и Отакэ — корреспондент газеты «Нити-Нити» (ныне — «Майнити»), направлялся из Николаевска во Владивосток. Если его остановили японские военные, вероятно, произошло это 5–6 апреля, то есть во время или сразу после переворота. В таком случае Роман Ким рисковал не просто сильно, а смертельно. В его чемодане военная жандармерия кэмпэйтай обнаружила агитационные материалы. Это говорит о том, что Ким имел связь с корейским антияпонским подпольем в Никольске. Возможно, и с его руководителем — Чхве Джэ Хёном, из дома которого когда-то отправился на свой теракт Ан Чжун Гын и которого хорошо знал Ким-старший, и о расстреле которого шла речь в японской газете. Даже короткое расследование, которое мог провести кэмпэйтай, решило бы участь Романа Кима. Делегат «Съезда трудящихся…» Сафьянов возвращался во Владивосток нелегально, переодевшись вместе со своим товарищем штукатуром-поденщиком. Чехи, охранявшие эшелон, спрятали их. На 52-й версте последовал досмотр. «У входа в тоннель поезд остановился. В нашу теплушку ввалились японцы. Сколько их — мы не видели, но отчетливо слышали голоса. Передвинули и вытащили из-под нар вещи, пошуровали штыками винтовок под нарами. Мы — ни звука. Обыск не дал никаких результатов. Японцы перешли в другую теплушку. Донеслись близкие выстрелы, крики. Наконец поезд тронулся. После новой остановки вошли с руганью и смехом чехи. Начали нас звать, раздвинули вещи, помогли нам выбраться. У товарища брюки оказались разодранными штыком и сочилась из ноги кровь. Быстро сделали перевязку. Чехи рассказали, что японцы высадили из поезда несколько человек таких же “штукатуров” и расстреляли их»[118].
Тот ли это был поезд, которым ехал Ким, или другой, в любом случае участь корейца с агитационными материалами была решена. Вмешательство Отакэ изменило ситуацию. Арестованный как «кореец-бунтовщик», Ким проследовал в участок вместе со своим новым знакомым — это явствует из письма. На следствии НКВД в 1937 году Ким скажет, что просидел за решеткой три дня, и это еще одна странность (хотя еще до следствия НКВД получит значительно более загадочную версию тех событий, но об этом позже). Во-первых, неясно, был ли вместе с ним арестован поручившийся за него Отакэ. Во-вторых, для будущего сотрудника спецслужб факт его ареста вражеской полицией или контрразведкой, тем более с поличным, является исключительно важным. На анкете Романа Николаевича, заполненной им в 1935 году, стоит пометка о том, что оба случая его задержания кэмпэйтай во Владивостоке «проверкой НКВД не подтвердились». Вполне возможно, что просто нельзя было найти документов об этом, но сам по себе факт ареста мог быть использован для обвинения в вербовке японцами на почве угроз или шантажа, как это произошло с Борисом Мельниковым, военным разведчиком и дипломатом, обвиненным в шпионаже в пользу Японии и расстрелянным в 1938 году[119]. Даже упоминая о своем аресте кэмпэйтай, Роман Ким рисковал не меньше, чем во время самого ареста. В-третьих, непонятно до конца, почему все-таки Кима (и, возможно, Отакэ вместе с ним) отпустили. Обоих попросту не оказалось в «списках бунтовщиков»? Или политический вес информагентства «Тохо» оказался важнее улик, обличающих в симпатии к корейским партизанам? Возможно и такое. Хотя о воззрениях «Тохо» и главы его владивостокского представительства было хорошо известно в японском штабе. Сам Ким на следствии в 1939 году сказал, что Отакэ «…был наиболее либеральным журналистом и тогда уже являлся сторонником эвакуации японских войск с Дальнего Востока. Мои взгляды во многом сходились со взглядами Отакэ»[120]. Роль японского журналиста, уже с учетом новых исторических материалов, примерно так же оценивается и сегодня: «В годы Гражданской войны и иностранной интервенции во Владивостоке работали корреспонденты нескольких иностранных информационных агентств. Среди них был и будущий создатель японской фирмы “Наука” Отакэ Хирокити. Он приехал во Владивосток с целью совершенствования в русском языке, поступил в Восточный институт и сделался ассистентом проф. Е. Г. Спальвина по кафедре японской словесности. X. Отакэ являлся также сотрудником газеты “Урадзио Ниппо”. После отъезда X. Отакэ в Москву в качестве лектора восточного факультета ГДУ его сменил Хироока Мицудзи. М. Хироока прибыл во Владивосток в 1919 г. и, выполняя обязанности спецкора, возглавил представительство информационного агентства “Тохо цусинся”»[121].
Надо отметить, что японских журналистов во Владивостоке служило немало, но Отакэ относился к числу самых опытных, талантливых и информированных. К тому же он еще в Японии интересовался идеями социализма и пытался изучать русский язык. Тесные отношения связывали Отакэ с Идзуми Рёносукэ — исполнительным директором «Общества японцев, проживающих во Владивостоке»[122]. С 1917 года Идзуми являлся издателем и главным редактором местной газеты «Урадзио Ниппо», выходившей на японском языке, и ее русскоязычного варианта «Владиво Ниппо». Довольно туманная биография Идзуми, в которой числились периоды обучения русскому языку у переводчика и разведчика Футабатэй Симэй, служба в армии и участие в Русско-японской войне и даже попытка стать депутатом парламента, внешне никак не обоснованное желание переехать из Токио во Владивосток неизбежно наводят на мысль о принадлежности этого человека к японским разведорганам. В отличие от «левого» журналиста Отакэ, взгляды редактора «Урадзио Ниппо» ничем не отличались от официальных настроений японского правительства, чью точку зрения главным образом и выражала его газета. Благодаря близости к японским властям «Урадзио Ниппо» была влиятельным органом, тем более что, как мы помним, среди ее сотрудников был и родственник самого полковника Исомэ — руководителя японской военной разведки в Приморье. Отакэ, в свою очередь, и как приглашенный (явно ради расширения политического спектра) автор «Урадзио Ниппо», и как представитель авторитетного «Тохо», был известен им всем, а потому его арест действительно мог оказаться большой проблемой для кэмпэйтай, вне зависимости от того, насколько «левым» был сам журналист. Оказавшийся в его компании Роман Ким приобрел таким образом неожиданную защиту и покровительство в очень важных и выгодных для получения конфиденциальной информации кругах. К тому же в город вернулся Ватанабэ Риэ. Теперь дипломат-разведчик стал консулом и «…не стеснялся задавать шпионские вопросы — о местонахождении воинских частей, количестве рабочих на механических заводах и т. д., — рассказывал Роман Ким о новой встрече со своим «крестным» на следствии в НКВД[123]. — Однако никогда не делал попыток вербовать меня. Я был тогда незначительной фигурой…».
Ватанабэ приехал во Владивосток в 1920 году, тогда же, когда произошло знакомство Кима с Отакэ, а за плечами у Романа уже была недолгая служба в колчаковском военно-статистическом отделе, работа в качестве обозревателя иностранной прессы в паре-тройке газет и учеба сразу на нескольких факультетах Дальневосточного университета. Возможно, Роман Ким не представлял тогда сиюминутного интереса для японской разведки, но в качестве перспективной фигуры он должен был выглядеть весьма заманчивым кандидатом. Не исключено, что отсутствие тактической необходимости в вербовке Кима для японских спецслужб заслонило призрачные шансы его перспективного, стратегического использования. Хотя, честно говоря, поверить в это непросто. Но вот для разведки большевистской он, в силу своего происхождения, близости к корейскому национально-освободительному движению и обширным знакомствам в японской среде, представлялся фигурой архинужной и архиважной.
Условия же для вербовки в пользу Советов японцы создали идеальные. В том числе и благодаря террору — особенно в отношении корейцев. Живший в ту пору в городе поэт Сергей Третьяков вспоминал: «Однажды вечером 4 апреля на Тигровой Горе <…> собрались мы, футуристы, — Асеев, Бурлюк, Пальмов, Алымов, я. Назад шли вечером… Улицы были безлюдны. Отряды японцев спешно занимали перекрестки. Почуяв неладное, мы прибавили шагу. За спиной закричал пулемет. Сбоку другой. Ружейные выстрелы с Тигровой Горы перекликнулись с далеким Гнилым Углом… Это началось знаменитое японское наступление 4–5 апреля. <…> Всё японское население Владивостока вышло на улицу торжествовать победу. Прачечники, парикмахеры, часовщики и тысячи японских проституток шли сплошной воблой по улице, дома которой были утыканы японскими флагами цвета яичницы — белое с красным диском… Притиснутые к стене толпой, мы тряслись от гнева, беспомощности и мести. Многих твердолобых советоненавистников в этот день японцы научили верности своей стране. Три дня Владивосток был без власти, и не нашлось ни одной самой оголтелой группы политических проходимцев, которая бы подхватила бросовый город в свои руки»[124].
Сложно сказать, какие мысли обуревали тогда молодого Романа Кима. Во многом ответ на этот вопрос зависит от того, где он провел предыдущие четыре года — с 1913 по 1917-й. Если в Токио, то выбор его был особенно тяжек. Он прожил в Японии большую, практически всю сознательную часть жизни, был влюблен в старый Токио, в девушку-японку, японский язык стал для него родным. И вот всё изменилось, и не по его воле. Вероятно, это нелегко было принять. Если так, то поведение японцев в Приморье, арест и чудесное спасение от смерти под Николаевском действительно могли коренным образом повлиять на мировоззрение Романа. Такие события, производя шокирующее впечатление на человека, подготовленного к этому всей своей предыдущей жизнью, наделенного собственным опытом и четким пониманием того, что именно так всё и произойдет, только укрепляют его в собственной правоте. Роман Ким, переживший издевательства японцев еще в Ётися, понявший с возрастом, что происходившее с ним не случайность, а часть японского образа мыслей и образа жизни тех времен, в апреле 1920 года лишь получил еще один повод для окончательного выбора сторон, к которому его, возможно, подталкивали и отец, и его корейские друзья, своими глазами увидев многочисленные казни и истязания корейцев. Когда их пытали, расстреливали, вешали и заживо сжигали японские солдаты[125], он вполне мог и сам впервые по-настоящему почувствовать себя корейцем. Отсюда такая боль в по-японски не досказанном финале повести «Тайна ультиматума»: «Когда мы приехали в бухту Улисс, уже было светло. Каменистый берег был покрыт водорослями и медузами. На плоской скале сидели привязанные друг к другу корейцы. Было прохладно, мы развели костер около шаланды, лежащей на берегу, опорожнили фляжки с саке, закусили консервированной солониной — корнбифом, выкурили по сигарете и начали»[126]. Отсюда, из «Тайны ультиматума» и бухты Улисса, через десять с небольшим лет Роман Николаевич перебросит литературный мостик через «Тетрадь, найденную в Сунчоне» в Японию, на гору Такатори, к храму Дзимбу, где точно такие же японские офицеры — ученики и младшие товарищи «героев» приморской резни — в 1945 году закончат резню, начатую во Владивостоке[127].
В свою очередь, «национально-освободительная борьба корейского народа», как назывался этот процесс в советские времена, всё больше принимала не национальный, а социальный характер. Это отчетливо видно по тексту уже второй «Декларации независимости», выпущенной в сентябре 1920 года Всекорейским национальным советом — органом управления большевистски ориентированными корейскими партизанскими отрядами и подпольем: «Наша родная и многострадальная Корея, изнывающая в когтях эксплуатирующей Японии, служит только средством преступного обогащения и военной гордости ее, не дающей решительно никаких способов культурного развития и материального благополучия и впредь ожидать от нее, всё больше и больше усиливающей тиски своей реакции, изменения политического состояния Кореи нет никаких оснований, кроме тех, по которым Япония стремится, наоборот, к полнейшей ассимиляции нашего народа со своим, путем введения японского языка в наших школах и жандармской политики в стране…
В такой тяжелый и ответственный момент Всекорейский Национальный Совет, принимая бразды правления, ясно видит, что спасение нашего народа только в Советской России, преследующей принципы народовластия и уничтожения капитала — силы, вносящей деление и рознь классов и все зародыши монархо-тиранической формы государственной структуры. Вполне веря в чистоту принципов Советской России и имея очевидные и реальные доказательства ее сочувственных отношений к нашему народу, стойкую и решительную борьбу ее во имя высоких прав человека и личности, мы бесстрашно и также твердо будем следовать по тому пути, который предначертан Советской Россией и в конце которого настанет воплощение в жизнь священного лозунга “Братство, Равенство и Любовь”…
Да здравствует родная, свободная Корея!
Да здравствует всемирный Социализм!
Всекорейский Национальный Совет
4253 год с основания Кореи.
от P. X. 1920 год. сентября 15-го дня»[128].
Любопытны даты под воззванием: они хорошо иллюстрируют разное восприятие времени, мировосприятие тысяч людей, объединявшихся сначала под знаменем борьбы с японцами, а потом и просто под красным флагом борьбы против всех, в том числе внутренних врагов. Каждый мог определять дату происходящих событий так, как хотел: от основания родной Кореи (в соответствии с мифами этой страны) или по григорианскому календарю (в самой Корее он был принят с 1 января 1895 года — года убийства королевы Мин). Роман Ким, логично «перетекавший» из-под одного знамени к другому вместе со своими соотечественниками, позже использует совсем другую систему летоисчисления, дополнительно подчеркивая свое особое отношение, а попросту — ненависть к японцам. Было уже понятно, что они скоро уйдут, с ними уйдут симпатичные Киму кадеты, и так же ясно становилось, что война с Японией еще впереди, а значит, надо вставать под знамена тех, кто будет сражаться с бывшими соучениками Романа Кима.
В формально независимой, а на деле — то зависимой от Советской России, то слегка качавшейся в разные политические стороны, Дальневосточной республике активно действовали большевистские разведка и контрразведка. Особые интересы этих служб были сфокусированы на территории Приморской областной земской управы или, попросту, в Приморье, которое обладало статусом автономии от ДВР и где были сосредоточены силы японского экспедиционного корпуса. 26 мая 1921 года раздолью местных чекистов пришел конец. Остатки бывшей армии Колчака, полков генерала Каппеля, казачьи отряды атамана Семенова поддержали не довольное властью большевиков население края. Постоянно ухудшающаяся экономическая ситуация, вести из европейской части России о зверствах Советов, близость мощного белоэмигрантского центра в маньчжурском Харбине и надежда на японские штыки подвигли жителей на поддержку вначале вялого, но набирающего силу выступления каппелевцев и семеновцев. К концу мая 1921 года Временный народно-революционный комитет Приморья передал бразды правления Временному приамурскому правительству братьев Меркуловых. И хотя продержалось оно у власти совсем недолго — до 25 октября 1922 года, накал борьбы между красными и белыми был велик здесь как никогда. В Приморье, и прежде всего во Владивостоке начался последний бой, последнее большое противостояние прошлого и настоящего — уже почти погибшей, но внезапно открывшей ненадолго глаза старой России и старательно добивавшей ее России советской. Дополнительный колорит этой интриге придавало присутствие в крае примерно 35 тысяч японских военных.
Есть вероятность, что подпольная работа Кима не как антияпонски настроенного корейца, а как сотрудника большевистских спецслужб, началась именно тогда, в 1921 году. На эту мысль наводит фраза из «Справки на сотрудника особых поручений…»: «в 1921 г. решил остаться в России, заявив об этом японскому отцу, и отказался от наследства (Сугиура умер в 1931 г.)», и из автобиографии агента Мартэна: «…После переворота я стал работать в тех органах, которые были легально оппозиционные в отношении меркуловского правительства — в газете “Голос Родины” (орган кадетов) и “Воле” (орган эсеров) — по японской прессе». Позже — в сентябре того же года Ким был принят на работу в «Тохо».
Итак, если верить (как всегда в случае с Романом Кимом — если!) этим документам, то вплоть до 1921 года Роман Николаевич поддерживал какие-то отношения со своим японским приемным отцом — Сугиура Рюкити. В условиях японской оккупации это выглядело вполне разумным шагом. Фраза же о том, что при разрыве отношений Ким еще и отказался от наследства, наводит на мысль о том, что и его возвращение в Россию, в каком бы году оно ни произошло — в 1913, 1916 или 1917-м — не было окончательным, раз он сохранял права на какое-то имущество в Японии. Это в очередной раз настолько запутывает данный фрагмент биографии Кима, что вряд ли есть смысл пытаться разгадать эту загадку, пока не будут найдены новые документы, способные пролить свет на указанный период. Зачем Роману надо было отказываться от наследства и разрушать отношения с домом Сугиура в 1921 году, когда власть снова качнулась в пользу японцев или, по крайней мере, непонятно стало, чем всё кончится? Ведь можно было вернуться в Японию, окончить университет и заняться литературой, как он мечтал. Зачем надо было метаться, зарабатывать на жизнь, учась на двух-трех факультетах Дальневосточного университета и работая одновременно в двух-трех редакциях? Для обычного человеческого любопытства и даже для попыток заработать побольше денег это как-то слишком.
Всё это легко объяснить, если представить, что на Романа оказал давление его родной отец, всю жизнь посвятивший борьбе против японцев и теперь понявший, почувствовавший, что в этом деле наступает самый решительный этап. Поддавшийся давлению сын, окончательно перековавшийся в японофоба благодаря увиденным воочию зверствам японского экспедиционного корпуса в Приморье, оказался востребован самой решительно настроенной антияпонской силой — большевиками.
Горячим боевым летом 1921 года бывшие сотрудники Государственной политической охраны Дальневосточной республики (ГПО ДВР) ушли в подполье, сформировав Осведомительный отдел (осведотдел) при Штабе партизанских отрядов Приморья — партийную, большевистскую разведку и контрразведку на нелегальной основе. Полагаться в работе пришлось на новое руководство и старые кадры: «Небольшая, но неплохо организованная агентурная сеть осведотдела состояла из “старых” сотрудников осведотдела и бывших секретных сотрудников Приморского облотдела ГПО и охватывала главный штаб жандармерии японского экспедиционного корпуса, японскую военно-дипломатическую миссию, органы военного управления каппелевских частей, учреждения и ведомства Временного приамурского правительства, консульский корпус во Владивостоке»[129]. Значительную часть секретных сотрудников составляли корейцы, а основной интерес разведки красных был направлен в сторону японских войск — как их тогда называли, «японовойск». Сегодня нам известно о многих сотрудниках спецслужбы большевиков, работавшей напряженно, с разрушениями агентурных сетей, смертями и потерями агентов. Среди них был, например, преподававший в Восточном институте географию и экономику Японии Трофим Степанович Юркевич. Ему был обязан своим сотрудничеством с разведкой красных будущий первый нелегальный резидент советской разведки в Токио Василий Сергеевич Ощепков. Их обоих знал и упоминал на допросах в 1937 году Роман Ким. Сотрудничал ли он с ними во Владивостоке? Скорее всего, нет. Строго говоря, сведения о подпольной деятельности Ощепкова в Приморье вообще весьма расплывчаты (его активность началась чуть позже — в 1923 году и на Сахалине). Юркевич же попался в руки контрразведки Меркуловых в октябре 1921 года, но был освобожден и остался на службе в японском штабе, где переводчиком служил и Ощепков[130]. Если бы Юркевич и Ким были знакомы в то время не как преподаватель и студент, а как агенты разведки, риск провала всей цепи был бы слишком велик. Тем более провалов у большевиков было много, а среди агентов, вызывавших подозрение в Штабе партизанских отрядов, тоже постоянно числились корейцы[131]. И вот здесь начинается самое интересное.
В октябрьском номере журнала «Смена» за 1967 год, вышедшем через пять месяцев после смерти Романа Кима, молодой писатель Юлиан Семенов опубликовал статью, посвященную выходу на советские экраны «историко-приключенческого фильма» под названием «Пароль не нужен». Картина была снята по первому роману Семенова из серии, главным героем которой станет молодой чекист из Москвы Максим Максимович Исаев — будущий штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц. Исаев не нуждается в пароле для выхода на связь с работающим во Владивостоке под оперативным псевдонимом Марейкис другим молодым чекистом — Ченом, как видно по его фамилии, корейцем. В фильме 1967 года Марейкиса блестяще сыграл Василий Лановой (в телесериале 2009 года «Исаев» успех повторил Андрей Мерзликин). Сам Юлиан Семенов в статье для «Смены» рассказал о прообразе Исаева и об авторе идеи романа: «В конце июля 1921 года, через два месяца после того, как во Владивостоке при поддержке интервентов произошел контрреволюционный переворот во главе с братьями Спиридоном и Николаем Меркуловыми, в наиболее скандальной владивостокской газете, по слухам, очень близкой к правительству, появился молодой человек — лощеный, по-английски сдержанный, завсегдатай ресторанов, скачек и приемов в иностранных миссиях. Человек этот великолепно говорил по-английски и по-французски, был очень остер на язык, хорошо образован и обладал яростной журналистской хваткой: сенсацию он чувствовал за версту, и его побаивались даже журналисты из американской газеты, а те были истыми зубрами сенсаций. Этому человеку было лет 25–30. Он за какие-то три месяца подружился и с японскими офицерами оккупационных войск, и с американцами из дипломатического корпуса, и с помощником премьер-министра. Об этом молодом человеке мне рассказывали в 1963 году три пожилых мужчины. Каждый из них знал этого человека под разными именами. Для противника у него было одно имя, для знакомого — другое, а для его товарища в борьбе — ныне покойного писателя Романа Кима — третье. Точное его имя мне так и не удалось установить, я знаю только, что в 1922 году, когда войска под командованием И. П. Уборевича освободили Владивосток, он появился в театре, где давали “Бориса Годунова”, в военной форме Красной Армии. Тем, кто читал мой роман “Пароль не нужен”, этот герой знаком как чекист Максим Максимович Исаев (или Всеволод Владимиров)»[132].
Заметим: только одного человека из троих, знавших Максима Максимовича лично, Семенов называет «его товарищем по борьбе» — Романа Кима. Дальше еще интереснее: «Товарищ Исаева по борьбе, чекист Марейкис, он же Чен, списан мною во многом с замечательного человека, хорошего писателя и мужественного борца за революцию Романа Николаевича Кима. Нелегал, работавший во Владивостоке всю оккупацию, человек, днем посещавший университет, а по ночам выполнявший головоломные операции против белых, Роман Ким еще заслуживает многих страниц в книгах и многих метров в новых фильмах, которые будут сниматься о подвигах солдат революции, сражавшихся на самых передовых рубежах классовых битв»[133]. Не случайно часть этой цитаты, звучащей как гимн и признание заслуг Кима, известных тогда только автору сценария фильма, вынесена в эпиграф ко всей книге — похоже, что молодому писателю Юлиану Семенову признанный советский мастер политического детектива Роман Ким рассказал много интересного. Почему именно ему? Как известно, Юлиан Семенов пользовался большим доверием и покровительством со стороны высшего руководства КГБ СССР. Уверен: крайне осторожный и склонный (возможно, даже на уровне своеобразной патологии) к мистификациям собственной биографии, Роман Николаевич Ким предварительно проконсультировался у бывших коллег по поводу степени доверия, которое он мог оказать молодому коллеге по писательскому цеху. Не исключено, что сыграло свою роль и время: Роман Ким умирал и, чувствуя это, раскрылся чуть больше, чем обычно. И даже сцена гибели Чена, а в романе связной Исаева погибает, еще вспомнится нам, когда прототип Марейкиса сам окажется на краю гибели…
Мог ли Роман Николаевич Ким выдумать всю эту историю — с молодым чекистом, приехавшим в Приморье по личному поручению главы ГПУ Феликса Дзержинского, чтобы, действуя втайне от своего же большевистского подполья и партийной разведки, не только добывать «самые главные тайны буржуинов», но и влиять на ход событий в буйном Владивостоке? Мог. Это даже вполне в духе Кима: не самому написать историко-приключенческий и детективный роман, а повлиять на знакомого писателя так, чтобы тот облек в художественную форму чужие, а не собственные мысли. «Закавыка» не только в наличии еще двоих, пока неизвестных нам свидетелей той истории, о которых пишет в статье Юлиан Семенов. В статье для «Смены» присутствует еще один важный момент: «…главная трудность заключалась в том, что о периоде борьбы с интервентами и с белыми на Дальнем Востоке почти совсем не было архивных материалов. Пришлось поднимать документы самые порой неожиданные: например, многое удалось разыскать, работая в архивах так называемого конского запаса Дальневосточной армии. Среди сотен пожелтевших страничек вдруг обнаружилась поразительно интересная записка Блюхера командиру кавполка…» В Культурном фонде Юлиана Семенова сохранилось более подробное описание этого эпизода: «покойный писатель Роман Ким, бывший в ту пору комсомольцем-подпольщиком, знал этого газетчика под именем Максима Максимовича. В Хабаровском краевом архиве я нашел записочку П. П. Постышева Блюхеру: “Сегодня перебросили через нейтральную полосу замечательного товарища от Фэда: молод, начитан, высокообразован. Вроде прошел нормально”».
Жаль, что Ю. С. Семенов не поставил дату этого «сегодня». «Фэд» — это, конечно, Феликс Эдмундович Дзержинский. Помимо этого, несколько раз в его записках потом упоминается о «товарище, работающем во Владивостоке очень успешно. По воспоминаниям Романа Кима, юноша, работавший под обличьем белогвардейского журналиста, имел канал связи с П. П. Постышевым. Об этом человеке мне также много рассказывал В. Шнейдер, работавший во владивостокском подполье. Когда Меркуловы были изгнаны из “нашенского города”, Максим Максимович однажды появился в форме ВЧК — вместе с И. Уборевичем. А потом исчез… Образ связника Исаева — биржевого маклера Чена — я писал с двух людей — с P. Н. Кима и В. Н. Шнейдера…..покойный Роман Ким совершенно великолепно и очень точно обрисовал мне “белогвардейского газетчика”»[134].
К сожалению, никаких других документов, упоминаний о дальневосточной истории и о Романе Киме в архиве автора Штирлица не нашлось. Но и то, что опубликовано, выглядит убедительно и не походит на мистификацию кого-то из детективщиков. Какая-то записка то ли от Блюхера Постышеву, то ли от Постышева Блюхеру, то ли от Постышева через Блюхера какому-то другому красному командиру действительно существовала. А хабаровский историк японских спецслужб А. С. Колесников, работавший несколько лет назад с делами Госполитохраны в Архиве краевого управления ФСБ России, наткнулся на материалы, возможно, связанные с «делом Штирлица» и просмотренные когда-то Ю. С. Семеновым: «В одной из папок Иностранного отдела Главного управления Госполитохраны Дальневосточной республики за первую половину 1922 года промелькнули примечательные по стилю и аналитическому содержанию сообщения. Источники, на которые ссылался агент “Леонид”, удивили своим статусом и разнообразием: консульства, редакции газет (в том числе иностранных) и т. д. К одному из листов была приколота овальная фотокарточка молодого человека в своего рода халате. На обороте также была карандашная надпись: “Леонид”, то есть, несомненно, автор этих донесений. Замечу, что материала такого качества из Владивостока поступало мало, мне, во всяком случае, ничего похожего больше не попалось (правда, нужно делать большую скидку, что речь идет о местном, а не центральном архиве. Нельзя с уверенностью утверждать, что это “Исаев”. Но вероятность, на мой взгляд, очень высока: возраст, время, способности-возможности»[135]. Предполагалось, что обнаруженный снимок будет опубликован в сборнике «Хабаровские чекисты: история в документах и судьбах»[136], но объем издания не позволил включить в книгу часть материалов, в том числе и фото «Леонида», так что читатели этой книги впервые, возможно, узнают, как выглядел прототип Штирлица и напарник «Мартэна».
Упоминавшийся, в том числе в качестве одного из прототипов Марейкиса — одновременно с Кимом — Виктор Шнейдер (он же «Лео», он же «Виктор Большой») появился на Дальнем Востоке как раз летом 1921 года. Это была важная птица — член Центрального комитета комсомола, в его компетенцию вполне могло входить и поддержание связи с другими, тоже подчиненными Москве агентами. «Шнейдер давал задания комсомольцам через руководителей подпольных “десяток” (которые затем для усиления конспирации и оперативности в работе были трансформированы в “тройки”), он же осуществлял связь Облтройки с Облревкомом. Комсомольцы охраняли собрания рабочих, передавали партизанам денежные средства, одежду, медикаменты, продукты. Кроме того, комсомольцы собирали информацию о дислокации и вооружении белогвардейских войск, изучали моральное состояние личного состава частей»[137]. Виктор Шнейдер успешно работал в Приморье до 19 октября того же 1921 года, когда был арестован после массовых провалов большевистского подполья. Значит, знать Максима Максимовича и Романа Кима как агентов Москвы Шнейдер мог только в это время.
Нигде, никогда и никому (включая три года следствия в НКВД), кроме Юлиана Семенова, Роман Николаевич Ким не рассказывал о работе на советскую разведку до 1922 года. Но так ли уж это удивительно? Во-первых, о таких вещах обычно и не рассказывают, пока не истечет срок давности (если к тому времени вообще остается кому рассказать). Во-вторых, на следствии его об этом не спрашивали, и он предпочел не распространяться, прекрасно зная, что в его родном ведомстве при наркоме Ежове не стоило лишний раз вспоминать о своей связи с основателями ВЧК. К тому же в документах Кима упоминание о «Фэде» есть. Было бы у следователей желание, они бы их нашли: «…определен на работу согласно указания тов. Дзержинского, который был уже осведомлен о моем прошлом, в частности о моем знакомстве во Владивостоке с тов. Кушнаревым (членом Далькрайпарта) в годы интервенции»[138]. Иосиф Григорьевич Кушнарев (Кушнер, 1886–1926) — фигура забытая, но когда-то значимая. Этот человек в годы Гражданской войны возглавлял Революционный штаб Приморской области, в начале 1921 года был откомандирован в Москву в качестве представителя Дальневосточной республики. Если Ким был с ним знаком, и знаком не как обозреватель отдела иностранной прессы одной из местных газет — это не могло быть поводом для напоминания Дзержинскому, то вывод напрашивается только один: Роман Ким начал сотрудничество с советской разведкой задолго до оформления официальной подписки об этом.
На это он намекал и сам, добавив для второго издания «Тайны ультиматума» последнюю фразу, объясняющую происхождение «дневника», который цитируется в произведении: «Эти записи майора Йоситеру Момонои из органа спецслужбы (токому-кикан) в Приморье были добыты в числе других документов особой группой, действовавшей среди японцев по заданиям Я. К. Кокушкина — члена владивостокской подпольной организации большевиков»[139]. Что за группа могла действовать «среди японцев», тем более среди японской военной разведки токумукикан (так правильно)? Как это вообще могло выглядеть? Подкупленные японские разведчики? Агент-нелегал с японской внешностью, но не японец? Причастен ли к этому был сам Ким — ведь в дни, когда происходили описываемые в повести события, он сам был арестован военной жандармерией кэмпэйтай. Впрочем, это никак не могло бы помешать ему добыть «дневник» позже…
Наконец, чтобы закончить историю заимствования фигуры Кима для образа Чена-Марейкиса в романе Юлиана Семенова «Пароль не нужен», вспомним несколько отрывков из этой книги, в которых легко узнается внешний облик нашего героя: «Из-за пакгауза выскочил Чен — как обычно франтоват, в руке тросточка с золотым набалдашником, пальто — короткое, как сейчас вошло в моду в Америке, островерхая японская шапка оторочена блестящим мехом нерпы, лицо лоснится: видно, с утра получил в парикмахерской массаж с кремом-вытяжкой из железы кабарги — кожа делается пахучей, эластичной, и морщины исчезают. А откуда у Чена морщинам взяться, когда ему двадцать четыре года. Хотя морщинки у него под глазами есть: как-никак четыре года он работает в белом тылу, когда ночью каждый шорох кажется грохотом, а днем в любом, идущем сзади, видишь филера.
Чен подскочил к унтер-офицеру, что-то сказал ему по-японски, быстрым жестом сунул в руку зелененькую банкноту, унтер отвернулся, и Чен провел Исаева с Сашенькой сквозь строй японских солдат. Те смотрели мимо и вроде бы не видели троих людей, которые прошли, касаясь их плечами.
— Что вы ему сказали? — спросила Сашенька.
— О, я прочел ему строки из Бо Цзю-и, — ответил Чен.
— У нас сегодня день начался с поэзии, — улыбнулся Исаев.
— Что это за стихи?
— Это не стихи. Скорее, это труд по практической математике великого китайского мудреца — так совершенны рифмы».
Приведенное описание внешности Чена практически полностью совпадает с описанием Романа Николаевича Кима, оставленными нам теми, кто знал его лично: франт, неизменно придающий умению одеваться первостепенное значение. «Он прекрасно говорил по-японски, просто прекрасно! Не совсем обычно — для тех лет — одевался: всегда в отличном темном костюме, с бабочкой, с ярко-красным платком в нагрудном кармане пиджака. Он производил впечатление человека немножко “не отсюда”», — вспоминают его ныне доктора наук, а в 1960-е годы молоденькие студентки Э. В. Молодякова и С. Б. Маркарьян. Писатель Василий Ардаматский был знаком с Кимом тоже после войны: «Никогда я не видел Романа Николаевича “не в форме”… Вот он идет мне навстречу в жаркий летний день. Серый его костюм так отглажен, что кажется, будто он хрустит на сгибах. Узконосые ботинки отражают солнце. Крахмальный воротничок с черной “бабочкой” плотно обхватывает шею. В руках пузатый портфель. На голове — берет. За толстыми стеклами очков — добрые, умные глаза…»[140]
И еще: Бо Цзюйи — великий китайский поэт династии среднего Тан — был одним из любимых поэтов наставника принца Хирохито Сугиура Дзюго. Снова совпадение?
Глава 8 В МОСКВУ, В МОСКВУ…
Наберемся же смелости верить в Завтра. Наберемся смелости отчаянной и суровой, Чтобы идти дальше. Миёси Тацудзи. Ледяное время [141]С окончанием Гражданской войны в биографии Романа Кима наступает относительная ясность. Не до конца, но всё же почти перестают противоречить друг другу имеющиеся сведения. Советская система учета, прежде всего кадрового, оставляет значительно меньше маневра для фантазий и фальсификации биографических данных, если, конечно, такие фальсификации не были проведены заранее и не попали в данные этого самого учета в виде первоисточников. В конце 1922 года Роман Николаевич будто бы рождается заново — с историей, готовыми документами, с анкетой, почти не содержащей моментов, которые можно было бы толковать двояко. Ким тщательно формулирует записи в биографических материалах, создавая образ понятной, однозначно трактуемой собственной судьбы — как будто бы заранее знает, что однажды всё это ему очень пригодится. А может быть, действительно — он это знал, предвидел? Или его этому научили? Последний вопрос, видимо, навсегда останется актуальным, несмотря на кажущуюся прозрачность послереволюционной биографии нашего героя.
В справке на P. Н. Кима, заполненной перед его арестом или вскоре после него, сказано, что Роман Николаевич начал работу на Приморское ГПУ в ноябре 1922 года. Сам он в автобиографии записал чуть подробнее: «…в конце ноября был привлечен к работе ПримГПУ по японской линии»[142]. Это же время вычисляется и по документам о реабилитации, когда был исчислен срок его службы в органах государственной безопасности: «…КИМА Романа Николаевича, бывшего сотрудника особых поручений 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР, считать уволенным из органов госбезопасности по выслуге установленных сроков обязательной военной службы в отставку. Период со 2 апреля 1937 года по 29 декабря 1945 года засчитать КИМУ P. Н. в стаж службы в органах госбезопасности… Общая выслуга службы в органах госбезопасности составляет 23 года 1 месяц 14 дней»[143]. Уволен Ким был 29 декабря 1945 года, значит, служба его началась в середине ноября 1922-го — всё сходится. В архивном личном деле на Кима Романа Николаевича, хранящегося в ОРАФ УФСБ по Омской области, есть еще одна запись, приоткрывающая завесу тайны над вербовкой Кима дальневосточным территориальным подразделением Госполитохраны: «Во Владивостоке был на связи у помощника начальника ИНО Бориса Давыдовича Богданова. Именно с его одобрения Ким пошел на работу секретарем к ОТАКЭ и уехал в Москву»[144]. Позднее, на суде в 1940 году, сам Роман Николаевич расскажет о вербовке и ее причинах чуть подробнее, но вопрос о том, насколько каждый раз он бывал искренен в своих воспоминаниях, навсегда останется без ответа.
Вопрос вербовки — страшный по своей загадочности и степени грандиозности решаемой задачи. Как и почему один человек может уговорить другого заняться смертельно опасной работой? Ради чего соглашается вербуемый на изменение своей внутренней сути и образа жизни? Пусть даже ради своей родины, но всё равно — отречься от многих радостей, от спокойной жизни, часто — от родных, семьи, любимой работы? Конечно, существуют известные клише, объясняющие мотивы, по которым люди идут на вербовку, — деньги, неоцененность, шантаж и так далее, но всё же: как это начинается, как одному человеку удается подобрать ключик к другому? Многое здесь непонятно, многое кажется не тем, чем является на самом деле. Изучая дела многих наших разведчиков, часто можно видеть, как во время вербовки представитель спецслужбы и будущий агент играют не свои роли. Вербовщику только кажется, что он вербует агента. Вербуемый же исполняет с его помощью свое желание, удовлетворяет свои амбиции в значительно большей степени, чем об этом подозревает вербовщик. Оба остаются довольны, но оба обманывают друг друга. Люди талантливые, амбициозные, часто — с обостренным чувством справедливости, нередко идут на вербовку, надеясь улучшить если не мир, то себя. Из таких получаются не самые хорошие разведчики, ибо они не могут быть «серыми мышками», способными долго и эффективно, плодотворно работать, но именно такие создают славу разведки, ее романтический ореол, привлекая под «шпионский флаг» новых и новых романтиков.
У самих разведчиков есть для подобных людей специальный термин: «игровики». Типичный и, пожалуй, наиболее яркий пример «игровика» — Рихард Зорге. Несмотря на поведение, совершенно нетипичное для настоящего, а не киношного, разведчика, со всеми его многочисленными загулами, адюльтерами и безумными выходками, именно Зорге стал зримым воплощением одновременно и «рыцаря без страха и упрека», и «рыцаря плаща и кинжала». Задолго до появления на киноэкранах Джеймса Бонда именно Зорге сумел в жизни, а не на экране воплотить мечту романтиков всего мира и… поплатился за это жизнью. История вербовки Зорге — практически ровесника Кима и в определенном смысле соратника Кима, до сих пор до конца неясна. Но очень похоже, что не столько его сумела найти военная разведка, сколько он, с ее помощью, смог выбрать себе тот путь, который манил его в то время. Для «игровиков» вербовщик вообще чаще всего лишь инструмент, способ начать, как им кажется, свою, смертельно опасную, но захватывающую игру. Для вербовщика же «игровик» — редкий шанс отчитаться за стремительную и легкую вербовку и большая головная боль, если дальше им предстоит работать вместе, ибо «игровик» часто оказывается непредсказуем. Поэтому нельзя верить Киму, когда он говорил, что согласился на работу в ГПУ для того, чтобы изучить японцев с «теневой стороны», — он их довольно хорошо знал и до этого. Не выглядит достаточно убедительной и версия о том, что он пошел на эту работу из тщеславия, высказанная на следствии в 1939 году, — это только видимая часть айсберга из целого набора причин, толкнувших Кима на работу в госбезопасности. Роман Николаевич, может быть и не осознавая этого, уже чувствовал в себе глубокое любопытство писателя, как «знатока душ человеческих», к познанию тайн управления другими людьми. Ему было интересно «поиграть», почувствовать себя одновременно и автором, и героем опасного детектива-боевика, где от него — молодого и симпатичного человека, любимца девушек, полиглота и эрудита, зависят жизни других людей. В 20 лет — чем не повод пойти служить в разведку? Пусть даже самому себе кажется, что это профессия такая — родину защищать, но на самом деле всё проще и сложнее одновременно: Ким — «игровик», и играет он разумом других людей. А потом… потом у всех по-разному. Кто-то может выйти из игры, а кого-то она затягивает, меняются ее правила, рамки, условия, но остаются профессионализм и привычка, и «игровик», если становится вербовщиком, начинает работать с другими людьми, уже не с исследовательскими, а с четкими профессиональными целями, быстро «раскусывая» и ломая своих оппонентов. Если будущий агент слаб и прост, то вербующая сторона сразу оказывается доминирующей над ним силой, нередко используя грубые и жесткие методы психологического подавления и воздействия. Таким вербовщиком стал со временем и Роман Ким, жестко и даже изощренно используя против японских разведчиков средства шантажа. Таким был прославленный нелегал Дмитрий Быстролетов, колесивший по Европе и легко и уверенно (со стороны кажется — играючи!) вербовавший полковников, министров, князей…
И наоборот, если будущий агент сам готов к вербовке, жаждет ее, очень часто такая добыча попадает в руки людей активных, но значительно уступающих вербуемому по силе интеллекта, образованию, общим и профессиональным знаниям. Почему пошел на вербовку профессиональный разведчик царской армии и первый русский дзюдоист, знакомый Кима, Василий Ощепков — человек с отличным образованием, долго живший в Японии, имевший работу, пусть и не слишком радужные, но всё же перспективы на жизнь в эмиграции и занятия любимым делом — преподаванием дзюдо? Уж точно не потому, что почти не имевший вообще никакого образования, бывший рабочий механических мастерских, вербовщик Красной армии Леонид Бурлаков, бывший к тому же значительно моложе Ощепкова, склонил переводчика к тайной работе. Ощепкову нужен был толчок, нужен был человек, который окончательно убедил бы его снова стать разведчиком, снова служить Родине. Только эту функцию и выполнил полуграмотный Бурлаков, записавший себе в актив будущего первого нелегального резидента советской военной разведки в Токио. А кто вербовал Романа Кима? Как там обстояло дело?
Вопрос интересный. По всему получается, что в роли вербовщика на этот раз выступил Борис Давидович (Давыдович) Богданов. Родившийся в 1901 году в традиционной для Одессы семье еврея-коммивояжера, он еще в юном возрасте оказался на русском Дальнем Востоке, куда его родители бежали от еврейских погромов. Борис окончил коммерческое училище, где был однокашником Александра Фадеева (не от Богданова ли Ким узнал что-то компрометирующее о будущем главе Союза писателей?), а затем два курса Владивостокского политехнического института и китайское отделение восточного факультета того же университета, где учился и Роман Ким. Очевидно, их знакомство относилось еще к студенческой поре. Не знать Кима Богданов не мог: Роман был председателем всех студенческих старостатов Владивостока и, соответственно, был известен каждому студенту, а Богданов был еще активным членом Общества студентов. Как и Роман, Борис с марта 1919-го по январь 1920 года служил в колчаковской армии, но в «музыкантской команде». Позже он трудился журналистом и снова мог пересекаться с Кимом, который активно вращался в приморской медиасреде[145].
В 1939 году Ким, вспоминая на следствии о своей вербовке, сказал: «Сам я никогда бы на эту работу не пошел»[146]. Думается, Роман Николаевич сильно покривил душой, произнося эти слова, или он вкладывал в них совершенно иной смысл. Зорге тоже на допросе в токийской прокуратуре говорил, что хотел бы стать ученым, а не разведчиком, но… как говорится, «бы» не считается. История не знает сослагательного наклонения, и Рихард Зорге совершенно сознательно стал разведчиком, пусть даже и очень хотел бы при этом стать ученым. Роман Ким тоже заявил, что не стал бы чекистом сам, по собственной воле. Его завербовал Борис Богданов, уже служивший к тому времени в губернском отделе Госполитохраны[147]. В 1945 году Ким к этому рассказу добавил, что ему «польстило предложение работать в органах ГПУ… Вначале мне заявили, что я буду составлять обзоры, делать экспертизы, выполнять ответственные переводы и т. д., что меня, как япониста, вполне устраивало. В дальнейшем, когда мне поручили выполнять специальные задания — знакомиться с влиятельными японцами во Владивостоке и выявлять их взгляды и настроения, меня это заинтересовало и с точки зрения детективной»[148].
В этом рассказе есть несколько не вполне ясных моментов. В официальной биографии Бориса Богданова сказано, что сам он стал сотрудником Приморского губотдела ГПУ только в декабре 1922 года, то есть через несколько дней или недель после вербовки Романа Кима. Если так, то он никак не мог рассказывать своему старшему товарищу о том, как тому доверяют в ЧК. Допустим, Богданов еще не был в кадрах ГПУ, а сам являлся лишь секретным сотрудником, и Ким знал об этом. В таком случае вполне логично, что Киму действительно «польстило» предложение Богданова работать в госбезопасности: он как бы проталкивал Романа вперед себя. Но может быть, разница в датах объясняется бюрократическими нюансами: Приморский отдел ГПО был преобразован в Губотдел ГПУ 24 ноября 1922 года. Следовательно, была произведена проверка кадрового учета и документы были переоформлены по новым, московским стандартам. Чекисты были как бы выведены на время за штат, а потом приняты на службу заново.
Рассказы Романа Кима о том, как ему «польстило» предложение о работе на ГПУ, и о первых робких шагах в контрразведке выглядят крайне странно на фоне откровений о совместной работе с московским чекистом Максимом Максимовичем. Ведь если в годы японской интервенции Ким был практически суперагентом Москвы во Владивостоке (или связным суперагента — что почти одно и то же), то по окончании этой самой интервенции он никак не мог снова оказаться неофитом в шпионаже. Все «ответственные задания», которые собирался выполнять новоиспеченный сотрудник ГПУ в ноябре 1922 года, он должен был уже выполнять на протяжении как минимум года. А если согласиться с тем, что и до этого времени он сотрудничал с корейским подпольем, то заявление о «внезапной детективной заинтересованности» и вовсе выглядит абсурдно. Такое впечатление, что, рассказывая о вербовке Богдановым, Ким снова пытался что-то скрыть. Но зачем Роман Ким выставлял себя то неопытным в делах разведки молодым ученым, то особым агентом Москвы — непонятно.
Став секретным сотрудником Приморского ГПУ, Роман Ким получил оперативный псевдоним — Мартэн. Он столь же парадоксален, как и псевдоним его литературного альтер эго — Марейкис: литовская по звучанию фамилия для агента-корейца. Почему Мартэн? Что это вообще означает? В честь металлургической печи? «Как закалялась сталь» в дальневосточном варианте? Учитывая весьма загадочный характер мышления Романа Кима, возможно и такое. Как возможны и любые другие объяснения. Вот одно из них: как раз в это время, в 1922 году, во Франции выходит из печати первая часть саги «Семья Тибо». Автор романа, повествующего о жизни двух братьев, по-разному относящихся к жизни и не перенесших испытаний Первой мировой войны, будущий нобелевский лауреат Роже Мартен дю Гар. Роман Ким читал по-французски. Знал ли он об этом романе? Читал и выбрал себе имя в честь автора? Ответа нет. Это всего лишь еще одна заманчивая версия.
В декабре 1922 года и в январе — феврале следующего агент Мартэн сдавал экзамены: «подвергался… окончательным испытаниям в Государственной Восточной Испытательной комиссии, причем постановлением названной комиссии от 15 февраля 1923 г. признан выдержавшим названные испытания с отличным успехом»[149]. Роман Николаевич Ким получил временное удостоверение об окончании японского отделения восточного факультета ГДУ за подписями председателя Государственной восточной испытательной комиссии профессора Н. Кюнера, декана восточного факультета профессора А. Гребенщикова, делопроизводителя восточного факультета Ширшова. Серьезные экзамены и прекрасный результат их сдачи — и это всё в то самое время, когда, по словам Кима, он «знакомился с влиятельными японцами во Владивостоке» с целью «выявлять их взгляды и настроения». Поистине удивительная работоспособность! Он работал на износ, но азартно, с огоньком и с удивительной холодной расчетливостью и беспощадностью. Настоящий «игровик» по складу характера, воспитанию и полученной подготовке, он лишь начал очередной раунд своей игры.
В чем она заключалась, помимо «выявления взглядов и настроения» оставшихся во Владивостоке японцев? И кто, собственно, остался? Эвакуация граждан Японии из Приморья закончилась 13 января 1923 года. На родину вернулись 4347 человек, еще около восьмисот японских граждан остались во Владивостоке[150]. Оставшиеся представляли 48 профессий. Среди них большинство, конечно, были бизнесмены — их связи даже с Советской Россией оказались наиболее прочными, но числились и люди редких занятий. Речь не идет даже о десятке гейш и проституток, задержавшихся для обслуживания сильно поредевшей японской колонии. 1 августа 1923 года во Владивостоке, на Светланской, 15, открылось отделение Имперской сыскной полиции (Тэйкоку косиндзё), официально ставившее своей задачей сбор разведывательной информации политического и экономического характера[151]. Хотя отделение закрылось уже в 1924 году, а сам Роман Ким не застал и его открытия — его к тому времени уже не было в городе, этот факт многое говорит об активности оставшихся в городе японцев. Мартэну было чем заняться среди них. Особенно если вспомнить, что после внезапной смерти от инсульта 21 февраля 1923 года генерального консула Японии Мацумура Садао его преемником стал старый знакомый нашего героя Ватанабэ Риэ.
Должность генерального консула во Владивостоке была в то время для японцев ключевой. Межгосударственных отношений с СССР Япония не имела. Все дипломатические представительства после революции были закрыты. В Токио помещение российского посольства занимали бывшие царские дипломаты, представители Временного правительства и бывшие офицеры армии Колчака — «посольство без правительства». В Советской России консульство во Владивостоке оставалось единственным официальным представительством Японии. Токио не мог, да и не хотел ликвидировать его по трем причинам: 1. Консульство должно было заниматься вопросами защиты японцев, оставшихся на советской территории. 2. Теоретически, даже в условиях непризнания Советского Союза, только через консульство во Владивостоке японцы могли передать советскому правительству информацию межгосударственного значения. 3. Генеральное консульство во Владивостоке взяло на себя функции единого разведоргана Японии по наблюдению за политической, экономической и военной ситуацией на Дальнем Востоке России и, особо, за корейской диаспорой. Научный сотрудник токийского Института стран Евразии и внучка тогдашнего вице-консула Гудзи Томомаро Фунакава Харухи в своем исследовании, посвященном событиям вокруг японского консульства в 1922 году, прямо называет одной из причин его сохранения во Владивостоке то, «что японское правительство опасалось союза большевиков со сторонниками движения за независимость Кореи»[152].
Хотя 7 февраля 1923 года Ватанабэ Риэ получил неофициальное разрешение Москвы на работу японского консульства, уже 20 февраля генконсула уведомили о том, что деятельность представительства может быть прекращена через три месяца. И в том же феврале в Приморском губернском отделе ГПУ был создан «корейский отдел», названный так потому, что большинство его сотрудников были антияпонски настроенными корейцами. Главной задачей отдела стало наблюдение за японцами, оставшимися в городе, и симпатизирующими им корейцами (последние, впрочем, быстро покинули Владивосток). Таким образом, хрупкое равновесие между про- и антияпонски настроенными корейцами, видимость которого сохранялась во Владивостоке после Русско-японской войны, снова нарушилось. Первыми это сделали японцы во время переворота в апреле 1920 года, когда физически уничтожили часть своих врагов. Теперь же весы качнулись в другую сторону, но советская власть на первых порах была более гуманной — ее противникам еще давали возможность просто бежать. Весьма соблазнительно представить, что деятельность Романа Кима в это время разворачивалась именно в рамках этого отдела (где же еще?), но пока никаких подтверждений этому не обнаружено. Тем не менее вполне естественно будет предположить, что «корейскую карту» разыгрывали в Приморском ГПУ так же, как это пыталась сделать и японская разведка. Неудивительно, если Ким с его опытом японской жизни, странным прошлым и прекрасным японским языком оказался в чекистской «колоде» если не валетом, то хотя бы девяткой — на первых порах. Так это или нет, но он мог оказаться причастен к первой попытке чекистов воздействовать на «корейский отдел» японской резидентуры во Владивостоке, случившейся в апреле 1923 года.
Поводом для акции стал холодный прием, оказанный в Токио послу СССР в Китае А. Иоффе, прибывшему в японскую столицу для неофициальных советско-японских переговоров. Японский МИД отказал Иоффе в использовании дипломатической почты и шифрованной связи, и в ответ этого же права лишился консул Ватанабэ. Это произошло 24 апреля, а 26-го сотрудники Приморского ГПУ нагрянули с обыском к Кагами Такэо и Окамото Кадзуо. Ни тот ни другой не были дипломатами. Кагами числился чиновником Министерства внутренних дел Японии, присланным осенью 1922 года для «изучения планов радикальной пропаганды, а также их реализации и чтобы способствовать контролю над радикалами»… Кагами собирал информацию об антияпонски настроенных корейцах через корейских агентов. Поскольку эти агенты работали на ГПУ, то Кагами арестовали. «Известие об этом сильно взволновало японское общество. Нашлись даже такие, кто призывал в ответ арестовать находившегося в тот момент в Японии А. Иоффе»[153].
Японских разведчиков выпустили в мае, но потом ГПУ не раз еще прибегало к таким целевым методам воздействия на действительно зарвавшуюся — иначе и не скажешь — японскую разведку в советском Приморье. Материалов по изобличению разведчиков в ГПУ скопилось немало[154], и корейская агентура и в добыче, и в реализации компрометирующей информации играла ведущую роль. В случае с Романом Кимом ГПУ должно было успешно использовать не только его подпольное прошлое, но и детское (только ли детское?) знакомство с новым японским генконсулом. Это открывало новые возможности для оперативной игры, и оставалось лишь придумать эту игру. К тому же сам Ватанабэ, если верить воспоминаниям старых советских чекистов, не раз «подставлялся» по мелочи, отправляя, например, на родину недозволенные вложения в багаже генерального консульства Японии. «Чего-чего только не было в этой “дипломатической” почте! — вспоминал один из первых чекистов Приморья. — Всё, кроме… почты! В свете проникавших в вагон лучей утреннего солнца заиграли осыпанные бриллиантами золотые кулоны, серьги и кольца с изумрудами, валюта разных стран, дорогие меха и какие-то акции русских капиталистов и промышленников. Японские дипкурьеры оказались самыми вульгарными контрабандистами»[155]. Помимо «вульгарной контрабанды», которой тогда, к слову сказать, «баловались» многие, в том числе и дипломаты, случались и более серьезные эпизоды, выводящие чекистов на японское консульство. «Контрразведчикам Приморского губернского отдела Объединенного государственного политического управления (ПримГО ОГПУ) несколько раз удалось уличить консула. Первую операцию провели во Владивостокском морском порту в конце 1923 г. Во время погрузки на пароход японской дипломатической почты большой деревянный ящик “случайно” сорвался, когда его поднимали с помощью лебедки, и, упав на причал, развалился. Из-под обломков вылез мужчина, как выяснилось впоследствии — белогвардейский офицер. Позже установили, что он по фальшивым документам, изготовленным помощниками генерального консула Ватанабэ, свободно перемещался по Приморью под видом то коммивояжера нэповской фирмы, то странствующего монаха, собиравшего деньги на строительство храма»[156]. Стоит заметить, что, несмотря на то, что чекисты были убеждены в шпионской деятельности генерального консула, даже в приведенной цитате речь идет не о его персональной виновности в изготовлении фальшивых документов, а лишь о неких «помощниках», изготовивших документы прикрытия для лазутчика. Эпизод с выпавшим из ящика бывшим белогвардейским офицером произошел уже после того, как Роман Ким оставил Владивосток, и неизвестно, знал ли о нем Роман Николаевич (если знал, то спустя десяток лет наверняка бы вспомнил, когда ему довелось столкнуться с новой удивительной попыткой вывоза людей японцами в багажной таре).
В мае 1923 года Ким прочитал свою первую, пробную, лекцию в Дальневосточном университете. Дебют прошел успешно. Декан восточного факультета профессор Гребенщиков отметил у подающего надежды молодого ученого «серьезное знакомство с первоисточниками по японскому и китайскому языкам, уменье распоряжаться материалами, правильный научный подход к таковым, наличие критического отношения к источникам…»[157]. Пожалуй, это одна из лучших и точных характеристик Романа Кима за всю его биографию. Всего в нескольких фразах отмечены важнейшие позиции: хорошо знает японский и китайский языки (последний, видимо, в японском варианте, то есть умеет читать и писать, но вряд ли говорит), при этом исповедует не последовательный, а критический подход к источникам (явно речь не о словарях). Чтобы добиться такого отзыва от профессора «старой школы», Киму необходимо было показать действительно уникальные знания языка и заметные способности к анализу. Впервые, таким образом, мы получаем подтверждение, что тот Роман Николаевич Ким, что окончил восточный факультет Дальневосточного государственного университета в 1923 году, действительно подавал надежды как выдающийся специалист-японовед. Однако расчет востфака на получение «вдумчивого и серьезного преподавателя» не оправдался. Ким уехал.
В 1939 году Роман Николаевич вспоминал: «В начале 1923 года ко мне в университет заявился японец Хироока, с которым я был знаком по работе в “Тохо”, и он ко мне захаживал. В беседе со мной Хироока сообщил, что агентство “Тохо” учреждает корреспондентский пост в Москве, что этот пост будет возглавлять Отакэ и фактически он будет являться неофициальным представителем Японии при правительстве РСФСР. В конце беседы Хироока мне сообщил, что Отакэ, с санкции Министерства иностранных дел Японии, предлагает мне должность секретаря с окладом 50 фунтов стерлингов»[158]. Отакэ был не только начальником, и даже не вполне другом — дружба между подчиненным и начальником в Японии невозможна. Отакэ стал для Кима ондзином, он спас ему жизнь и теперь, хотел того Роман или не хотел, Отакэ Хирокити перешел в статус человека, которому он был обязан, как у нас сказали бы, «по гроб жизни». Впрочем, японский журналист, судя по всему, в отношении Советской России действительно имел взгляды, близкие мировоззрению Кима. В общем у них были сходные позиции в политических вопросах. Если бы Отакэ о чем-то попросил Кима, тот не мог бы ему отказать не только как обязанный ему жизнью, но и как «товарищу по борьбе» против японской экспансии на Дальнем Востоке. И вот время пришло: Отакэ попросил.
Миссия основателя книготорговой компании «Наука» Отакэ Хирокити в Советском Союзе в 1923–1925 годах — одна из самых малоисследованных страниц в истории двусторонних отношений наших стран. О ней не известно практически ничего. Официальная историография обошла ее стороной, еще раз подтвердив, как удачно была законспирирована эта поездка. У японских биографов Отакэ она не вызывала вопросов, ибо воспринималась как нечто само собой разумеющееся. А история между тем была преинтересная.
После завершения японской оккупации на российском Дальнем Востоке страны-соседи оказались лицом к лицу с неизбежной проблемой сосуществования в условиях обоюдно экономического кризиса. Положение РСФСР, куда Дальневосточная республика вошла 19 ноября 1922 года на правах Дальневосточного края, было понятно: революция и Гражданская война довели страну до крайнего уровня бедности и разрухи, и любую помощь из-за рубежа можно было только приветствовать. Не менее важным было и налаживание отношений с другими странами с точки зрения политической — это означало бы признание первого в мире государства рабочих и крестьян, вступление в новую эпоху цивилизации. Но и в Японии всё было непросто. Долгие годы ориентации на строительство военного государства больно ударили по экономике, ахиллесовой пятой которой всегда был недостаток природных ресурсов. В то же время богатая рыбой, нефтью, лесом и углем, но оскорбленная оккупацией Россия была рядом, и всякому трезвомыслящему политику было понятно, что надо налаживать с ней отношения по новой. Тем более большевистский режим, если с ним не сотрудничать, грозил массой сюрпризов. Министр иностранных дел Сидэха Кидзюру облек желание Японии «дружить» с Советской Россией в любопытную и в высшей степени прагматическую формулу, которую изложил в беседе с послом уже несуществующей царской России Дмитрием Абрикосовым: «Япония признала Советы отнюдь не из любви к большевикам: Советская Россия — ее ближайший сосед, и в случае непризнания советского правительства ей некому будет адресовать жалобы и протесты — это лишает Японию возможности противостоять непрерывным покушениям на ее интересы»[159].
Инициативу в общении с красными взял на себя давно и небезуспешно занимавшийся японо-российскими связями мэр Токио виконт Гото Симпэй. Задействовав японских журналистов, специализировавшихся на отношениях с Россией, Гото вышел на А. А. Иоффе — полпреда СССР в Китае и, что особенно важно, друга самого председателя Реввоенсовета СССР Л. Д. Троцкого. Тяжелобольной советский дипломат был приглашен в Японию на лечение, во время которого должны были обсуждаться проблемы оздоровления межгосударственных отношений. И лечение, и переговоры проходили крайне болезненно и не слишком успешно. Камни преткновения были рассыпаны в изобилии на этом тернистом пути, и для успешного его прохождения японская сторона решила параллельно с переговорами Гото — Иоффе прозондировать настроения советской стороны непосредственно в Москве. Эта тайная и в высшей степени деликатная миссия была возложена (всё тем же Гото) на журналиста-русофила Отакэ Хирокити.
Оставляя далее в стороне тему самих переговоров и дальнейшего развития японо-советских отношений, остается только сказать, что почти всё, что мы знаем о миссии Отакэ, нам стало известно в результате исследования биографии Романа Кима. Поскольку встреча с Хироока произошла в феврале 1923 года, можно считать, что японская часть миссии была решена в Токио не позже января того же года. Получив сообщение, агент Мартэн немедленно доложил об этом своему куратору Борису Богданову. Акция намечалась более чем серьезная — попасть в эпицентр японской секретной операции государственного уровня. Это не корейскую прислугу в консульстве вербовать. И шеф Приморского ГПУ Василий Каруцкий запросил связи с Москвой. «Добро» на поездку было получено только к апрелю (впоследствии некоторые источники именно эту дату будут называть временем вербовки Кима в ГПУ[160]), когда Роман Николаевич получил приглашение повторно, через корреспондента «Тохо» во Владивостоке Хироока, и события перешли в организационную фазу. Приняв от Хироока, по одним данным, 500, а по другим две тысячи рублей золотом и некую «охранную грамоту» от консульства, Ким в мае 1923 года убыл в Читу, где была намечена встреча с Отакэ, добиравшимся в Москву через Китай. Позже, на следствии, Ким рассказал, что в консульстве его принял «доверенное лицо Ватанабэ» по фамилии Вакаса, ходивший во время интервенции в военной форме[161]. Однако в дипломатическом справочнике Ленсена такой дипломат не значится вовсе…
Встретившись в Чите, семьи Отакэ и Кима (Роман Николаевич ехал с молодой женой: Зоя Заика только что вышла за него замуж — специально для того, чтобы вместе уехать в Москву[162]) отправились в Москву. «Я знаю, что Ким Роман Николаевич был командирован в Москву Восточным институтом в качестве профессора-япониста… но сейчас полагаю, что Ким выехал в Москву с Отакэ по заданию ОГПУ. Он меня в свою работу не посвящал…» — говорила потом на допросе в НКВД Зоя Заика[163].
«По заданию ОГПУ определился секретарем к господину Отакэ, назначенному МИД Японии в Москву в качестве неофициального представителя (под маркой представителя “Тохо”). Прибыл в Москву в распоряжении 5 КРО ОГПУ в июне 1923 года», — запишет потом Мартэн данные о начале нового этапа своей жизни[164]. В Москве они с Отакэ сняли номера в роскошной гостинице «Княжий двор» (улица Волхонка, 14; ныне часть ГМИН им. А. С. Пушкина). Место было удачное — в двух шагах от Кремля, а главное, в те времена «Княжий двор» был одной из немногих гостиниц Москвы, где прямо из номера можно было позвонить по городскому телефону. Условия связи с новым руководством Роман получил заранее, и телефон ему очень пригодился. Вскоре после прибытия в номере Кимов раздался звонок с Лубянки. Явка была назначена у Большого театра: удобно для встречи с провинциалом, вряд ли когда-либо бывавшим в Москве. По одной из версий, связь с Кимом установил лично Сергей Шпигельглаз — в недалеком будущем легенда советских органов госбезопасности[165]. Именно он вызвал Кима на Лубянку к еще более легендарному впоследствии человеку — основателю советской контрразведки Артуру Артузову. Глава контрразведывательного отдела рассказал Киму то, что тот прекрасно знал сам. Японский журналист не совсем журналист, а точнее, совсем не журналист. Он «фактически являлся неофициальным послом Японии и вел подготовительную работу по открытию японского посольства в Москве»[166]. Связным, по сути посредником между Кимом и Артузовым, был назначен Шпигельглаз. Ему Роман должен был сообщать обо всём, что происходило в окружении Отакэ, тщательно фиксировать его контакты, отслеживать содержание его переписки и поддерживать в Отакэ просоветские настроения (позже такие же поручения Ким будет давать своим субагентам)[167].
С сегодняшней точки зрения Роман Ким снова оказался в очень странной ситуации, когда надо было выбирать, что ему дороже: законы чести, симпатия, элементарная человеческая благодарность тому, кто спас ему жизнь? Или новые понятия дружбы, благородства, в котором главный ориентир, главное мерило — подчинение той системе, которую выбрал, и больше нет ничего святого? Ведь если бы не Отакэ, не было бы в Москве 1923 года и самого Кима, не приехала бы с ним жена. Лежал бы вместо этого он закопанным на окраине Уссурийска, где по сей день покоятся на пустырях и под городскими застройками кости тех корейцев, что японские жандармы вытащили из поезда в апреле 1920 года… Но ведь уже тогда, высаженный патрулем из поезда, Ким стал бы не случайной жертвой японских репрессий. Если мы правильно расшифровали его биографию, он в то время уже был опытным и яростным врагом Японии. В таком случае принятие спасения от Отакэ было лишь полученным от того же врага шансом продолжить борьбу с ним. А дружеские чувства… Что ж, это хорошо, но высокие цели в те времена, в эпоху Гражданской войны, начавшейся для Кима не в 1918-м, а много раньше — в 1906 году, и так никогда и не закончившейся, значили несоизмеримо больше, чем «старомодные» дружба, благодарность, благородство. Так что если Роман Николаевич и был смущен поставленными задачами, то не подал виду. Он окончательно стал советским человеком и, возможно, действительно поддерживал в Отакэ симпатии к коммунистической России — почему бы и нет? Тем более что его московская жизнь начала устраиваться, а работы прибавилось.
Жить долго в гостинице было слишком расточительно, и Ким, получив подъемные от Отакэ, снял квартиру «у черта на куличках» — на улице Трифоновской, в районе Марьиной Рощи (дом не сохранился). Последовал приказ о его назначении оперативным переводчиком 5-го (восточного) отделения контрразведывательного отдела (КРО) ОГПУ, секретная должность в центральном аппарате советской госбезопасности, начало долгой работы против японцев в советской столице. Объект интереса № 1 — Отакэ Хирокити. Тут у Кима было особое положение. «У Отакэ я пользовался доверием. И он иногда намеками, [иногда] открыто сообщал мне о характере своих знакомств»[168]. Интерес Романа Николаевича вызвали и другие помощники его шефа.
Профессор Московского института востоковедения (МИВ) Михаил Георгиевич Попов, человек весьма запутанной судьбы и, похоже, авантюрного склада характера, окончил Восточный институт, был учеником Спальвина и еще в Гражданскую работал на советскую разведку (именно ему удалось впервые установить нелегальные контакты с лидером китайской революции Сунь Ятсеном)[169]. Когда у него дома на Сивцевом Вражке, 35, появился Отакэ, он с радостью согласился ему помочь — во всяком случае, так это звучало в изложении самого Попова. По версии же Кима, Попов был знаком с Отакэ еще во Владивостоке. По правилам Наркомата иностранных дел (НКИД) телеграммы, отправляемые иностранными корреспондентами в свои редакции, цензурировались, к Отакэ тоже прикомандировали цензора — профессора Попова. Ким узнал (очевидно, от Отакэ), что Попов продает чистые бланки телеграмм НКИД со своими подписями Отакэ, чтобы тот мог избежать советской цензуры, и, разумеется, сообщил об этом своему руководству в ОГПУ. Никаких мер к Попову принято не было, чтобы не «подставлять» Мартэна, но и ОГПУ, и НКИД были в курсе всех дел Отакэ. После отъезда японского журналиста Попов поддерживал связи с японскими военными, о чем также знал Ким, но расстреляли профессора в 1930 году по другому обвинению — в контрреволюционном масонском заговоре[170].
Работавший в другом японском телеграфном агентстве Павел Шенберг познакомился с Отакэ как с коллегой. «Однажды Отакэ мне сказал, что Шенберг работает в ГПУ, — вспоминал Ким. — Я стал выведывать дальше. И в результате выяснил, что Шенберг П. Э. откровенно рассказывает Отакэ о своих вызовах на конспиративную] квартиру по Новой Басманной, о встречах с работниками ОГПУ, о получаемых заданиях по “освещению” Отакэ и т. д. Я немедленно сообщил о двойничестве Шенберга, и он, на основании моего сообщения, был арестован и осужден к 5 годам лагеря»[171] [172].
Можно представить себе положение, в котором оказался Отакэ в Москве в 1923–1924 годах. Японское правительство дало ему ответственнейшее и секретнейшее поручение. При этом Отакэ не мог пользоваться ни шифрованной связью, ни дипломатической почтой, а круг его общения был весьма ограничен. Во Владивостоке во время Гражданской войны жили тысячи японцев. Здесь же — единицы. И ни одного человека, которому он мог бы довериться, с кем мог бы поговорить, вспомнить Японию, общих знакомых. Есть несколько японских коммунистов, но они не слишком удачные персонажи для знакомств с журналистом, облеченным секретной миссией. Получается, никого — кроме Романа Кима. И вдруг — один из его помощников предлагает участвовать в банальном подлоге документов и вымогает взятку, а второй признается в том, что он шпион. Что делать Отакэ? К кому обратиться? У кого спросить совета? Только у того, кто обязан ему жизнью и, будучи сам почти японцем, никогда не предаст: Роман Ким. Они даже дачу на лето снимали вместе — неразлучны были, как не просто друзья, а как люди, которым некуда друг от друга деться. Отакэ обратился за помощью к Киму, и тот помог. Ни Попов, ни Шенберг так никогда и не узнали, кем был Ким на самом деле.
Кстати, японские коммунисты тоже всегда находились в сфере внимания агента Мартэна. Особый интерес у него вызывал секретарь руководителя японской компартии Кодама, живший в Москве и собиравшийся бежать в Японию через Финляндию. Ким узнал об этом от Отакэ, который ссужал Кодама деньгами, и написал рапорт. Несмотря на это, Кодама дали сбежать. Возможно, историки коммунистического движения еще столкнутся в своих исследованиях с этим эпизодом и смогут ответить на вопрос, как и почему это произошло.
Зато не удалось никуда сбежать сотруднику ОГПУ В. Шнейдерову (имя неизвестно). Друживший с ним Роман Ким случайно стал свидетелем разговора, в котором Шнейдеров рассказал о неудачном бунте заключенных во Внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке зимой 1923/24 года. Ким был в шоке: «Он [Шнейдеров] в то время являлся официальным сотрудником ОГПУ и позволил себе в присутствии посторонних заниматься подобными разговорами. Об этом факте я доложил своему руководству. Через некоторое время Шнейдеров был арестован и осужден к 5 годам концлагеря»[173].
Отакэ же, несмотря на «льготы», предоставленные профессором Поповым, не передал информацию Шнейдерова о мятеже на Лубянке в Японию. По словам Кима, «Отакэ [об этом] никогда не говорил, а также в Японию не сообщал, к тому же НКИД не мог пропустить такую телеграмму»[174]. Разбирая дела Кима 1923–1925 годов, складывается впечатление, что Роман Николаевич служил честно и ревностно. В соответствии с японскими представлениями об отношении к работе, его вполне можно назвать искренним человеком, ибо искренность в японском понимании — прежде всего это преданность идеалам, верность делу, самозабвенная служба на грани самоотречения.
Но помимо чекистской работы, которая до 1925 года заключалась, насколько мы видим из немногочисленных документов, в особой опеке Отакэ Хирокити, у Романа Кима была и другая, которой он был не менее предан, чем первой.
Прибыв в Москву, Роман Николаевич сразу получил должность преподавателя японского языка в Институте востоковедения. Первая «ученая» должность и первый вклад в науку: Ким перевел на русский язык два рассказа Акутагавы Рюносукэ — модного и прогрессивного, как тогда считалось, писателя: «Дзюриано Китисукэ» и «Тело женщины» (позже появится перевод новеллы «В чаще», которая уже после войны станет основой сценария первого признанного во всем мире шедевра Куросавы — фильма «Расёмон»). Вторая жена Кима — М. С. Цын позже утверждала, что ее муж и Акутагава были знакомы лично, но это вызывает серьезные сомнения с чисто хронологической точки зрения[175].
Так или иначе, рассказы японского автора в переводах Кима вышли в издательстве «Новая Москва» в 1-м выпуске альманаха «Восточные сборники» за 1924 год, позже опубликованы отдельным изданием в издательстве «Федерация», а японская «Осака Асахи симбун» опубликовала очерк Кима «Новейшая японская беллетристика»[176]. Переводам в «Восточных сборниках» предшествует вступительная статья, посвященная творчеству Акутагава. Ким называет его «Акутакава» — из-за разницы в произношении иероглифа «кава/ гава» — и настоятельно рекомендует: «…тому, кто хочет ознакомиться с лучшими достижениями новейшей японской прозы, необходимо обратиться к произведениям этого писателя»[177]. В целом, однако, статья откровенно слабая, возможно, даже худшая в сборнике. В 1923 году Ким пишет о литературе еще на уровне студента института, а не профессионального ученого. Возможно, Роман Николаевич и готовил ее еще во Владивостоке, задолго до приезда в Москву.
Во Владивостоке он написал значительно более содержательную, разоблачающую статью «О фашизме в Японии». Ким снова оказался первым — на этот раз как советский исследователь японских националистических обществ и движений. В мае 1923 года статья была опубликована Всероссийской ассоциацией востоковедения в сборнике «Новый Восток». Она в меру насыщена пролетарской стилистикой — неотъемлемым элементом любого печатного слова начала 1920-х, но всё же это весьма емкое и содержательное исследование, материал для которого Ким собирал с явным интересом. Судя по тому, что в статье упоминаются лишь события последних нескольких лет, Ким использовал японскую прессу, которую читал в годы Гражданской войны, уже, видимо, служа в пресс-бюро Колчака и разбирая японские газеты и журналы в «Тохо цусин».
Но вот вопрос: если Роман Ким действительно тот Кин Кирю, что учился у великого националиста Сугиура Дзюго главы «Тоадобунсёин» и был приемным сыном представителя «Тоадобункай» во Владивостоке Сугиура Рюкити, то, наверное, он должен был знать о японском национализме немного больше, чем все остальные. Но эти организации в статье даже не упоминаются. Монстры японского националистического движения либо не замечены вообще (Гэнъёся), либо на них обращено внимание лишь по касательной (Кокурюкай). Ким, очевидно, хорошо понимает разницу между национализмом и фашизмом, а статья посвящена именно фашизму в Японии… Он практически не вспоминает историю японского национализма, хотя дает подробный разбор современного состояния дел, указывая названия организаций, их лидеров, способы и примеры действий, отличия от других. И ничего, ровным счетом ничего, что могло бы показать, что Ким сам недавно жил в Японии, находился в гуще событий и был знаком с темой своего исследования не понаслышке. Отличный анализ, и… ничего личного. Почему? Сознательно не допускал даже намека на то, что знает больше, чем может знать обычный советский ученый? Или на это были какие-то другие причины? Нет ответа.
Еще в Приморье, зимой 1923 года, когда Ким не знал, что уедет в Москву, и собирался оставаться «чекистом-японистом» в родном городе, он был избран секретарем оргбюро Владивостокского подотдела Дальневосточного отдела Всероссийской научной ассоциации востоковедения (становится понятно, почему в 1920-е годы любили сокращения!). Председателем оргбюро был сам профессор Спальвин, а Роман Ким в то время был всего лишь студентом. Отъезд Романа не повлиял на его позиции в научном мире. Когда после 1925 года ассоциация была переформирована в Комитет по изучению Японии, Ким всё равно оставался секретарем Дальневосточного отдела с той лишь оговоркой, что он проживает не во Владивостоке, а в Москве, служа переводчиком при Отакэ Хирокити[178]. Безусловно, это было признание. Пусть еще не ученого, но молодого специалиста, подавшего уверенную заявку на вхождение в советский японоведческий мир. Старт оказался успешным.
В личной жизни всё было сложнее, но тоже появились поводы для радости. В 1924 году у Романа и Зои родился сын. Сказать, что ему выбрали необычное имя — не сказать ничего. Мальчика назвали Аттиком. Имя древнегреческое, забытое уже и в те далекие годы, и это еще одно свидетельство странного, загадочного устройства ума Романа Николаевича. Он оставался верен себе только в одном — был оригинален, непредсказуем и очень настойчив. Зоя была против такого имени, но Роман настоял. Точно так же он настоял и на том, чтобы после родов Зоя выехала в Крым на солнечные ванны. В семье Заика была печальная традиция. Две старшие сестры Зои, родив первенцев, заболели туберкулезом и умерли. Родив Аттика, заболела и Зоя…
Став взрослым, Аттик вспоминал рассказы отца о том, что только с его рождением Роман Николаевич перестал бояться мести со стороны клана Ан, но так никогда и не сказал, за что.
Глава 9 УШИ К РЫБЕ
Смерть — наш Генерал, Наш гордый флаг вознесен, Каждый на пост свой встал, И на месте своем шпион. Р. Киплинг. Марш шпионов[179]Целебный крымский воздух помогал хорошо, и теперь супруги расставались всё чаще. Зоя с сыном подолгу жила на черноморском побережье, а Роман Николаевич продолжал работать в Москве. «Фактически, я с ней не жил с 1924 года. Она болела туберкулезом и находилась всё время на юге на лечении»[180]. Ким съездил на юг только раз, да и то по делу. А дел становилось всё больше, и все сплошь — важнейшие, секретнейшие и неотложные.
Задача Отакэ Хирокити в Москве с июня 1923 года, судя по всему, заключалась в поддержании неофициальных дублирующих контактов японской стороны (возможно, виконта Гото) с Наркоматом иностранных дел и, через него, с Кремлем. Многое об этом могли бы поведать документы ОГПУ по наблюдению за посольством, состоящие, как мы понимаем, в значительной степени из материалов Романа Кима, но шансов на их рассекречивание в ближайшие десятилетия нет. Поэтому, взяв данную версию в качестве рабочей, мы можем только констатировать, что со своей миссией Отакэ справился. Когда 20 января 1925 года в Пекине была подписана Конвенция о советско-японских отношениях, появление японского дипломатического представительства в Москве не заставило себя ждать. 15 июля 1925 года первый посол Японии в СССР Танака Токити (не путать с генералом Танака Гиити!) вручил свои верительные грамоты председателю ЦИК СССР Михаилу Калинину.
В архивах сохранились фотографии, сделанные в тот день. Народный комиссар иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин запечатлен на них в модернистской советской форме с «разговорами» на кителе, посол Танака — в традиционном мундире с золотым шитьем образца XIX века. Одетые в такие же мундиры, но попроще, японские дипломаты сфотографировались на память на балконе особняка НКИД на Софийской набережной, строго напротив Кремля[181]. На фото их двенадцать. В штате было пятнадцать, в том числе четверо составляли аппараты военного и военно-морского атташатов[182] (на фото офицеры встали отдельной группкой). Сасаки Сэйго — второй секретарь посольства, был одним из самых опытных сотрудников и, несмотря на свой невысокий ранг, имел большой опыт службы в России: от Владивостока до Одессы. В Приморье, где его сменил Ватанабэ Риэ, он работал в 1901–1902 годах[183] и мог знать отца Романа Кима. Неизвестно, какие материалы побудили чекистов считать Сасаки офицером разведки, но это вполне могло быть оправданно. И даже звание, под которым он числился в ОГПУ, примерно соответствовало обычной выслуге лет для японского военнослужащего его возраста — полковник Генерального штаба.
Когда Кима обвиняли в шпионаже в пользу Японии, его знакомство с Сасаки Сэйго послужило одним из ключевых аргументов для обвинения. «Впервые с Кимом как с агентом японской разведки была установлена связь в 1925 г. полковником Сэйго Сасаки, прибывшим в Москву после установления дипломатических отношений Японии с СССР… С ним Ким впервые встретился и впоследствии систематически виделся на квартире Отаке. Сасаки первое время особенно интересовался вопросом отношений Кима с ОГПУ и подробно расспрашивал о том, как идет его продвижение… В одной из бесед Сасаки передал привет Киму от Ватанабэ, предложил аккуратно доносить в ОГПУ по всем вопросам, которые его интересуют, всемерно добиваясь доверия… Ким, в свою очередь, информировал Сасаки о характере отношений с ОГПУ и той работе, которую он вел по заданию ОГПУ, сказав, что ему удалось создать благоприятные условия для выполнения задач, поставленных перед ним Генеральным штабом»[184]. Под Генеральным штабом имеется в виду Генштаб японской армии — в 1937 году Романа Николаевича, как и большинство советских японоведов, обвиняли в работе на эту организацию. Анализ дел других репрессированных востоковедов показывает очень простую логику обвинения: в качестве «доказательных» эпизодов подследственным предъявляли факты их реальных связей, знакомства с японскими дипломатами, коммерсантами, журналистами, чиновниками. Японовед не может не общаться с японцами, но каждый случай такого общения в условиях советской действительности тех лет — строка в обвинительном заключении, а нередко — и в приговоре. Применительно к нашему случаю это означает, что связь Кима с Сасаки действительно существовала. Учитывая же, что только что открытое японское посольство находилось под наблюдением и контрразведывательным обеспечением ОГПУ, можно быть почти уверенным, что Сасаки Сэйго действительно был японским разведчиком. Вот только это совсем не значит, что Ким работал на Сасаки, а в 1940 году Роман Николаевич и вовсе откажется от показаний о службе Сасаки в японской разведке…
В логику ОГПУ никак не вписывается Отакэ, всей своей биографией вроде бы подтвердивший, что являлся «чистым» журналистом, да к тому же еще с нескрываемыми симпатиями к Советскому Союзу, которые он не боялся подтверждать делом. Тем не менее в 1937 году Отакэ и Сасаки были объединены чекистами в одно звено: «Установки, которые были даны резидентами японского Генерального штаба Отаке и Сасаки в интересах внедрения Кима в контрразведывательный аппарат ОГПУ, в значительной мере облегчили выполнение поставленной перед ним задачи. Его деятельность как секретного сотрудника КРО ОГПУ, внешне казавшаяся безупречной, “инициатива”, проявленная в деле “освещения” Отаке и т. д., безусловно, способствовали укреплению его доверия у оперативных работников ОГПУ, с которыми он поддерживал связь»[185].
Отакэ покинул Москву летом 1925 года, когда там только начинал свою службу Сасаки[186]. Они вполне могли встречаться втроем: все трое жили и работали во Владивостоке, у них были общие знакомые среди русских и японцев, им было о чем поговорить, и это являлось веской причиной для ОГПУ установить наблюдение за Сасаки. Очень серьезные сомнения возникают только относительно того, что их встречи могли быть регулярными — в силу кратковременности пересечения всех троих в Москве и плотности контрразведывательного обеспечения ОГПУ.
После отъезда Отакэ, по мере расширения круга знакомств с японскими дипломатами, характер работы Романа Кима резко изменился. Теперь сфера его интересов значительно расширилась, а основной задачей стало добывание секретных материалов из японского посольства[187].
Главное, в этом деле не приходится рассчитывать на помощников, бригаду, команду. Здесь ты всегда один. Профессиональное мастерство, секреты работы приобретают совсем иное значение.
В этот самый момент в жизни Кима произошло еще одно событие, которое во многом определило не только его дальнейшую судьбу, но даже его «жизнь после смерти».
Установление дипломатических связей Японии и СССР взорвало застоявшееся болото неправительственных контактов между этими двумя странами. Уже летом 1925 года газета «Асахи» организовала первый авиаперелет Токио — Рим через территорию Советского Союза. Для освещения столь важного и неординарного события японцы отправили в СССР многочисленные группы журналистов. Один из них — корреспондент «Асахи» Маруяма Macao прибыл в Читу, где познакомился с молодой, очень красивой и талантливой японисткой Мариам Цын. Авиаперелет вызвал новую волну интереса японцев к Советской России.
С советской стороны удовлетворить это любопытство было призвано Всесоюзное общество культурных связей (ВОКС), которое в Токио представлял учитель Романа Кима профессор Спальвин. Во многом благодаря его стараниям любознательные японцы обратили свои взоры на север: «Сейчас в Японии распространилась мода на все российское. Из недавно опубликованных в Токио статей мы узнаём о том, что сотни японцев изучают русский язык, а тысячи их соотечественников стремятся попасть в Сибирь, чтобы участвовать в освоении этой богатейшей и отсталой страны»[188]. Возникло сразу несколько новых «обществ дружбы» Японии с СССР, в том числе и на литературной ниве. Результатом деятельности Японско-русского литературно-художественного общества стало возникновение осенью 1925 года идеи о культурном обмене через литераторов, «властителей дум», каковыми они действительно являлись в то бурное время. Через год инициатива ВОКСа была реализована. 5 апреля 1926 года в Академии художественных наук в Москве состоялся «Вечер культурной связи Запада и Востока», посвященный Японии и японской литературе. В переполненном зале (сохранились замечательные фото мероприятия, сделанные японскими журналистами) выступали глава ВОКС и сестра Троцкого Ольга Каменева, японские и советские дипломаты, ученые. Среди последних — два японоведа: Р. И. Ким и Н. И. Конрад[189]. На вечере артисты популярнейшего тогда театра Мейерхольда читали со сцены рассказы Рюносукэ Акутагава — очевидно, в переводе Романа Кима.
Одновременно готовилось приглашение в Японию группы советских писателей — из числа тех, что отображали в своих произведениях реалии строящегося в СССР нового общества, причем отображали тоже новым, «социалистическим языком». После долгих перипетий и организационных проблем, обсуждения достойных кандидатур весной 1926 года в Японию прибыл только один из них — Борис Андреевич Пильняк[190].
Сегодня почти забытый, в 1920-е годы этот литератор был настоящей звездой советской прозы, непререкаемым авторитетом, на которого равнялись и по которому сверяли свой слог даже его ровесники, не говоря уж о более молодом поколении. Перед самым отъездом в Японию Пильняк прогремел на всю страну сборником рассказов «Повесть непогашенной луны», где внимательные читатели увидели не слишком тщательно завуалированную версию убийства Сталиным знаменитого полководца Гражданской войны Михаила Фрунзе. Но Пильняк был не только мастером острого сюжета. Его проза — рваная, быстрая, смелая — оказалась новым шагом, новой ступенью для всей советской литературы по главным показателям: соответствию художественного стиля вызывающему модернизму нового Советского государства и удачному соединению открытости самого автора с его интеллигентностью и способностью общаться на равных с представителями мировой творческой элиты.
По результатам поездки в Японию Борис Пильняк написал замечательную книгу под названием «Корни японского солнца», которая вышла в 1927 году в ленинградском издательстве «Прибой». Это замечательное, искрометное произведение, наполненное оригинальными суждениями, тонкими наблюдениями, небезуспешными попытками анализа. Его и сегодня можно рекомендовать всем, кто начинает изучать Японию. К тому же «Корни японского солнца» оказались почти лишены ляпов — крайне редкий случай для автора, не имеющего специальной подготовки в столь сложной дисциплине, как востоковедение. Как Пильняку удалось этого добиться? Ответ прост, и он значился прямо на обложке. «Корни японского солнца» были опубликованы с обширными примечаниями — глоссами, авторство которых принадлежало Роману Киму.
Но глоссы Кима не были обычными примечаниями. Нет сомнений, что и в тексте «Корней…» очень многие соображения, разъяснения принадлежали молодому, амбициозному японоведу, а не его знаменитому соавтору. Пильняк оказался настолько мудр, что понял простую, но недоступную многим истину: чтобы написать хорошее произведение, надо не стесняться учиться, спрашивать, советоваться с профессионалами в исследуемой области. Это сделало книгу о Японии — отнюдь не самую главную в творчестве маститого писателя — важной и злободневной даже столетие спустя. Но этого мало. По сути, глоссы сами по себе — отдельная, пусть и небольшая книга, свернуть которую в приложения к «Корням…» стоило Роману Николаевичу определенных усилий. Это видно по неравномерности самих примечаний. Некоторые выглядят сносками, лишь растолковывающими неизвестные советскому читателю японские слова. Другие полноценные статьи, главы, «непрочитанные лекции», как назвал Роман Ким материал, посвященный разъяснению бусидо — краеугольному понятию национальной японской воспитательной системы тех лет, концепции самурайского духа, культивируемого во всей стране с целью подготовки общественного сознания к осуществлению милитаристской политики. Мало того, примечания (всего лишь примечания!) Кима вышли, хотя и под одной обложкой с книгой Пильняка — что естественно, но под собственным названием — редчайший случай в литературе. А уж само название… «Ноги к змее».
Разъяснение названию Ким дал в кратком предисловии (к примечаниям!), которое, в силу его лапидарности, можно привести здесь целиком и из которого становится понятен ход мысли автора: «“Ноги к змее” — по-китайски шэцзу, по-японски да-соку, выражение из китайской книги “Чаньгоцэ”, согласно объяснению, данному в большом японском иероглифическом словаре “Дзигэн” (“Источник Знаков”), значит: нарисовав змею, приделывать к ней ноги, то есть делать ненужную излишнюю работу, ибо змея, а тем более нарисованная, может существовать без ног; книга Б. Пильняка “Корни японского солнца” может существовать без моих комментариев, и их можно не читать, мои страницы. Автору основной части казалось, что некоторые его абзацы, будучи понятны самим японцам, которые в первую очередь прочтут эту книгу, и русским, хотя бы отдаленно причастным к ориентологии, будучи понятны этим, останутся не совсем ясными для людей, знающих о Японии почти столько же, сколько о юго-западной Атлантиде. Для последних и сделаны мной несколько комментариев-глосс, скромная цель которых дополнить, разъяснить, развить некоторые места основной части книги. На объективность не претендую, ибо корейцу так же, как и ирландцу, трудно быть непогрешимо объективным, когда речь идет о соседних островитянах — покорителях»[191]. Впрочем, у этого названия есть еще одно, не упомянутое Кимом значение. «Ноги к змее» — первая часть японской поговорки «ноги к змее, уши к рыбе», смысл которой тот же: что-то ненужное, абсурдное. Ким использовал только первую часть, оставив за скобками истории вторую. По большому счету всё, что он написал позже — повести, рассказы, эссе, тоже можно было бы оставить без комментариев, и тогда книга, которую читатель сейчас держит в руках, оказалась бы не нужна: уши к рыбе. Но раз уж Роман Николаевич счел, что «ноги к змее» возможны, пойдем и мы его путем.
Роман Николаевич посвятил «Ноги к змее» своему коллеге, профессору Московского института востоковедения и Военной академии, кавказоведу В. А. Гурко-Кряжину — необычный поступок для японоведа. Но в предисловии есть и еще более интересные нюансы. Например, короткое, вскользь, упоминание о своем корейском происхождении и, де-факто, врожденной ненависти к японцам: «…корейцу так же, как и ирландцу, трудно быть непогрешимо объективным, когда речь идет о соседних островитянах — покорителях». И еще: дата. Предисловие подписано крайне необычно: «Москва, 1 декабря 16 года Корейской диаспоры». Такого летоисчисления не знает мировая наука. Но корейцы, чью страну в 1910 году Япония объявила своей колонией, знали. Для них, и для Романа Кима тоже, 1926 год — «16-й год Корейской диаспоры», то есть существования корейской оппозиции, эмиграции, нашедшей приют и поддержку на российской земле. «Ноги к змее» — первый и последний случай, когда Роман Николаевич Ким позволил себе рельефно обозначить свое отношение к японцам, проявить свое корейское происхождение, взгляды на оккупацию и — косвенно — свое прошлое, связанное с антияпонским подпольем в Приморье. Это, конечно, не доказательство, но в крайне скудной фактами истории Кима даже две эти обрывочные фразы из предисловия — намек, легкий кивок в сторону загадочного прошлого, после которых снова и навсегда — молчание. А если так, то можно ли считать таким же намеком на глубокое знание пусть и небольшую, но отдельную главку, посвященную теме, абсолютно новой для русскоязычного читателя?
Сегодня слово «ниндзя» знает, наверное, каждый ребенок. Пусть даже «черепашки», но всё равно ниндзя — таинственные супермены, владеющие умопомрачительной техникой боя с использованием акробатических элементов и необычного оружия. Как правило, они если не стоящие на стороне добра, то, во всяком случае, справедливые герои кинофильмов, телесериалов, анимэ и прочего современного медийного товара. Но так было, мягко говоря, не всегда. Очевидно, что мировой масскультовый бум ниндзя и ниндзюцу (то есть «искусства ниндзя» — довольно неопределенного комплекса знаний и умений ниндзя) начался в 70-х годах прошлого века, когда к этой теме обратился Голливуд. Ниндзя пришли к нам именно с экранов, но что было до того, как они появились на них? Отматывая пленку назад, мы обнаружим, что «истории вопроса» на европейских языках всего-навсего чуть более полувека. В середине 1960-х в англоязычных журналах «Japan Magazine», «Blackbelt», «Newsweek» появились серии публикаций, посвященные ниндзюцу, ряда иностранных авторов: Ито Гингэцу, Эндрю Адамса и др.
В самой же Японии ниндзя стали популярными персонажами фольклора и трактатов (неясного, впрочем, происхождения) о военном искусстве еще в позднем Средневековье. В пьесах кабуки и дзёрури, на гравюрах укиёэ ниндзя были частыми гостями, хотя даже самого слова такого — «ниндзя» в те времена не существовало. Профессиональных шпионов и убийц называли синоби или синоби моно, хотя их искусство уже именовали «ниндзюцу» (таковы особенности японского языка). Накануне и после Второй мировой войны синоби стали еще более популярны, когда сначала представали перед читателями и зрителями театральных постановок в роли носителей мистических практик, а затем, на фоне поражения в войне, экономического кризиса, морального разочарования и роста популярности левацких идей, взяли на себя роль народных заступников — своеобразного японского варианта Робин Гуда[192]. Стоит ли говорить, что и наши нынешние голливудско-анимэшные, и даже недавние японские представления о ниндзюцу практически не имеют отношения к средневековым реалиям? Но… средневековым ли? Отечественным ученым-ориенталистам, изучающим историю и теорию ниндзюцу, пока не удалось найти упоминаний о синоби в дореволюционной литературе на русском языке. А вот с литературой советской всё довольно просто: первым эту тему, как говорят, «поднял» именно Роман Николаевич Ким. В тех самых примечаниях «Ноги к змее» образца 1927 года.
Третья по счету из глосс, называющаяся «Три выписки вместо комментария», была подготовлена Кимом к главе «Две души принципов “наоборота”» книги Пильняка. У Бориса Андреевича в «Корнях…» после пассажа о японцах, бросавших в паровозные топки русских коммунистов (откровенный намек на апрельский переворот 1920 года во Владивостоке, оказавшийся столь важным в судьбе Кима!), следует фрагмент сравнительного анализа отношения русских (как европейцев) и японцев к секретной службе: «В морали европейских народов, несмотря на их присутствие, аморальными считались и почитаются — сыск, выслеживание, шпионаж; в Японии это не только почетно, — но там есть целая наука, называемая Синоби или Ниндзюцу, — наука незамеченным залезать в дома, в лагери противника, шпионить, соглядатайствовать (поэтому, в скобках, пусть каждый европеец знает, что, как бы он ни сидел на своих чемоданах, они будут просмотрены теми, кому надлежит) — и здесь порождается легенда о том, что каждый японец за границей — обязательно государственный шпион»[193].
Пильняк сумел заметить и выразить в доступной вербальной форме крайне важный и интересный феномен японского сознания: отношение к шпионажу и образ этого отношения за пределами страны. Из книги и скрупулезного разбора истории поездки, выполненного французской исследовательницей Дани Савелли, становится очевидно, что Борис Пильняк стал жертвой «полицейского произвола» в Японии. Но у японской полиции тех времен попросту отсутствовали предрассудки относительно чужой тайны, понятия личной собственности и прочих нюансов европейской приватности, что усиливалось естественной для милитаризованной империи атмосферой шпиономании и врожденной подозрительностью ко всему неяпонскому. Для японцев постоянный полицейский прессинг иностранного писателя не выглядел произволом, для них это было вполне естественно. Чемодан Пильняка потрошили неоднократно, а сам он непрерывно находился под плотным гласным и негласным надзором полиции, на что неоднократно и безрезультатно жаловался кому только мог. Возможно, — и даже наверняка! — он, по возвращении в Москву, рассказывал об этом и Роману Киму, который выступил в роли консультанта-ориенталиста при написании «Корней японского солнца».
Отвлечемся ненадолго от полиции и ниндзюцу. Пильняк и Ким познакомились, вероятно, в 1926 году. Мы не знаем ни дату, ни обстоятельства знакомства, но вариантов существует лишь два. Ким, ставший известным небольшому пока кругу литераторов благодаря переводам Акутагавы, мог быть порекомендован кем-то из писателей Пильняку, о поездке которого в Японию было объявлено задолго до того, как она состоялась. Борис Андреевич и сам мог сразу выбрать Кима, понимая, что ему понадобится профессиональный консультант, или поняв это в ходе поездки в Японию. Молодой японовед, интересующийся современной литературой, был для Пильняка идеальной кандидатурой в помощники. С другой стороны, профессор Спальвин, тесно связанный с организацией приема Пильняка в Японии и обоснованно подозревавший писателя в том, что его книга в результате получится если не поверхностной, то дилетантской, мог порекомендовать Романа Николаевича как своего бывшего студента и одного из немногих специалистов, живших в то время в Москве. Спальвин был уверен в Киме и надеялся, что тот поправит автора, если Пильняк что-то неправильно поймет или не сумеет разобраться в японских реалиях. Собственно говоря, так и произошло. Именно поэтому хорошая, но, возможно, изначально не слишком глубокая книга стала явлением не только в литературе, но и в японоведении.
То, что между Кимом и Пильняком в результате совместной работы над книгой сложились непростые и довольно необычные отношения, замечали многие. Известно, что существовала обширная переписка этих фактически соавторов, но при аресте Пильняка в октябре 1937 года весь архив был изъят чекистами и потом бесследно исчез. Сам же Ким, судя по всему, вообще не считал нужным хранить письма и документы, понимая, в силу своей профессии, что однажды это может выйти боком. Именно знакомству Романа Кима и Бориса Пильняка мы обязаны самым ранним описанием внешности и манеры поведения нашего героя. Пусть оно относится к более поздним временам — 1933–1934 годам, но всё же именно в гостях у Пильняка журналист Лев Славин, будущий автор «Интервенции» и «Возвращения Максима», увидел автора глосс. «Кажется, впервые я встретил Рому у Бориса Пильняка, в деревянном коттедже на Ленинградском шоссе… Он несколько сторонился нас. Подчеркивал, что он сам по себе. Зачем бы ни привел его в свой дом Пильняк — по литературным ли делам или как живой справочник по Японии, — Ким держался там как свой. С нами не смешивался. Пожалуй, некоторое исключение он делал для Бориса Лапина, с которым его связывали востоковедческие интересы. Мы же больше, чем хозяином дома, интересовались Кимом. Только что появилась его острая, оригинальная книжка “Три дома напротив, соседних два”, очень, кстати, понравившаяся Горькому… Это (Ким. — А. К.) был человек-айсберг. На поверхности мы видели корректного моложавого джентльмена, одетого с изысканной элегантностью, даже модника. На узком смуглом лице Романа Кима играла любезная улыбка, в глазах, прорезанных по-восточному, немеркнущая наблюдательность. Там, в подводной, незнаемой части, возможно, кровавые схватки, тонкие поручения, поступки, приобретшие молниеносную быстроту рефлексов, а когда нужно — бесконечно терпеливая неподвижность Будды»[194].
Думаю, что именно «человек-айсберг» подсказал Борису Андреевичу Пильняку крамольную мысль о том, что утверждение: «каждый японец за границей — обязательно государственный шпион» — не совсем верно, результат пропаганды еще царских времен и попыток возложить вину за поражение в Русско-японской войне, за собственную лень, безалаберность и воровство на «вездесущих японских шпионов». Японцы и в самом деле сами себя часто склонны видеть способными и эффективными разведчиками, но считать, что они действительно являются таковыми — все-таки преувеличение, легенда. Это смелое суждение в 1937 году означало бы смертный приговор любому, кто осмелился бы его высказать (Борис Пильняк был расстрелян в 1938 году как «японский шпион»), но в 1926-м еще оставалось не замеченным ни читателями, ни критиками, ни ОГПУ. Между тем это исключительно важная фраза. Мнение о том, что не каждый японец за границей обязательно является разведчиком, с такой убежденностью мог вербализовать только специалист — разведчик или контрразведчик, не понаслышке знакомый с практикой японского шпионажа, но никак не писатель. Наоборот, Пильняк был раздражен тотальной слежкой за ним и сам он скорее уж написал бы о том, что «все японцы — шпионы». Японская полиция специально опекала плотно и навязчиво, считая, что писатель является агентом ОГПУ, и поставив себе четкую цель: «Мы будем неотступно следить за ним и вынудим его уехать»[195]. Но кто-то сдержал его справедливый мстительный порыв, остановил руку писателя и направил ход мыслей в другую сторону — сторону анализа. В результате Пильняк лишь емко, но кратко высказывается о почете тайной службы в Японии, а загадочный «кто-то» — разумеется, это был его консультант-соавтор — использует эту фразу в своих интересах: создает соответствующую глоссу — первую статью о синоби и ниндзюцу на русском языке, а судя по списку цитируемой в ней литературы, и одну из первых на языках европейских.
Современные профессиональные ниндзюцуведы располагают списком исследовательской литературы по искусству тайного шпионажа на многих языках по крайней мере за последние полтора века, однако приводимых Романом Кимом книг в них нет. Почему? Ф. В. Кубасов из Института восточных рукописей в Санкт-Петербурге считает, что «их нет в списке потому, что они не являются в строгом смысле исследовательской литературой по ниндзюцу: Словарь “Гэнкай” профессора Оцуки — книга хорошая, но слишком общая, и фиксирует скорее расхожие представления, чем подлинную историю. Повесть “Из биографии великого вора-покровителя бедных Нэдзумикодзо Дзирокити” — произведение массовой развлекательной художественной литературы. “Похождения великого разбойника, друга бедноты Дзирайя”— то же самое»[196].
Что же касается вышедшей прямо перед публикацией «Корней…» книги В. Латынина, в которой снова повторяется известная мысль о тотальном японском проникновении в чужие секреты, то для Кима она скорее способ соединить в одном тексте упоминания о современном японском шпионаже и об искусстве синоби, незаметно выстраивать четкую связь между легендами, историей и реальностью. «Ким все-таки очень четко мыслит ниндзюцу вместе с современным ему шпионажем», — считает Ф. В. Кубасов, вводя даже определение «Ким-ниндзюцу», то есть искусство синоби по методу, по трактовке Романа Кима, и относясь к нему максимально критично и объективно. «Насчет Ким-ниндзюцу сложно сказать что-либо определенное. Во всяком случае, связывать эту тему с его службой в разведке у меня оснований точно нет. Любопытно, что оба они с Пильняком считают ниндзюцу частью не только прошлого, но и настоящего современной им Японии. Так Пильняк пишет именно “есть целая наука…”, а не “была”. Из выписок, приводимых Кимом, советский читатель тоже, вероятно, должен был бы сделать вывод, что в Японии 1920-х годов ниндзюцу как таковое еще практиковалось. Любопытно, что книги о благородных разбойниках Нэдзумикодзо и Дзирайя, на которые ссылается Ким, — это тот пласт японской литературы, который у нас в переводах по сей день никак не представлен. Да и на Западе, насколько я знаю, тоже»[197].
В списке приведенной Кимом литературы о синоби шесть книг и статей на четырех языках. К толкованию собственно ниндзюцу отношение имеют три из них, все на японском языке. В свою очередь, из этих трех два произведения относятся к жанру приключенческой литературы и, как уже говорилось, до сих пор не имеют перевода на русский язык. Следовательно, Роман Ким кое-что читал о ниндзюцу на японском (возможно, в Японии), очень этой темой интересовался, но никогда не сталкивался с ней на практике или сознательно выбирал стиль неофита, непрофессионала. Отныне во всех более поздних и прежде всего посвященных тайной службе произведениях Кима мы будем сталкиваться с этим странным, пока не имеющим разгадки феноменом: непонятно — то ли он действительно в этом не разбирается, то ли старательно и весьма успешно маскируется под дилетанта, боясь обнаружить свой профессионализм.
Что же касается ниндзюцу, то в эпоху позднего Мэйдзи и Тайсё, то есть в начале XX века, рассказы, книги и произведения искусства на эту тему были необыкновенно популярны в Японии. Если Роман Ким действительно жил там в это время и был большим любителем старого Токио, как о нем писали его знакомые, то, конечно, баллады о синоби, как часть городского фольклора, не могли пройти мимо него. Упоминания о Нэдзумикодзи, о Дзирайя должны быть оттуда — из японской юности, это было бы логично. Но в списке приводимой литературы обозначены годы издания. Биография Нэдзумикодзо Дзирокити, которой пользовался Роман Ким, всего-навсего 1922 года выпуска (18-е издание, как помечает автор глоссы). Неясно, каким изданием книги Момокавы о разбойнике Дзирайя пользовался Ким — их тоже было несколько, но что-то заставляет думать, что и эта публикация была совсем недавней. Снова, как и в случае со статьей о японском национализме, для Романа Николаевича как будто не существует Японии до 1918 года. В одной из глосс он так и пишет: «До 1918 года [в Японии] была до-история. Настоящая история, туго набитая фактами и связная, идет с 1918 года»[198]. Рассказывает при этом Ким совсем о другом (речь идет о пролетарской литературе), но воспринимаются эти слова, как относящиеся к самому автору, к его биографии, к его Японии.
473-е издание словаря «Гэнкай» профессора Оцуки, которым пользовался Роман Николаевич и с помощью которого выводил определение ниндзюцу, того же 1922 года издания. Возможно, это всё книги, которые Ким привез с собой в Москву из Владивостока или из которых делал выписки, еще учась в университете. Ничто не напоминает о том, что Ким изучал или хотя бы интересовался ниндзюцу на более раннем этапе свой биографии (хотя, конечно, книги могли просто не пережить его переездов). Ничто, кроме самого обращения к этой теме.
Да, для Кима (и для Пильняка — скорее всего, как следствие общения с Кимом) ниндзя — живы, они существуют. Но это не те ниндзя, которых мы с вами представляем сейчас. Никаких черных балахонов, двух прямых мечей за спиной, акробатических трюков, беганий по крышам и филигранной техники единоборств. Синоби, по версии Ким-ниндзюцу, — современные ему последователи благородных разбойников, занимающиеся вполне понятным ремеслом разведки. Перечитайте определение из словаря «Гэнкай»: если убрать из него слова-определения — синоби, ниндзюцу и дзиндзюцу, мы получим просто краткое толкование разведки. Не агентурной, но войсковой или, если угодно, разведки, осуществляемой на тактическом и оперативно-тактическом уровне. А это уже имеет прямое отношение к действиям японской, да и не только японской, полиции. Какая разница, как называется человек, если он имеет специальные навыки для тайного проникновения в чужое жилище или служебное помещение с целью похищения или копирования секретных документов, диверсий, шпионажа или убийства? Для нас эта разница принципиальна: если этот человек действует в современных реалиях, он шпион, террорист, убийца (если человек «наш», то разведчик). Если всё то же самое делает человек в черном балахоне с использованием некоего специального оружия (разве нет его у сегодняшней разведки?) и этот человек японец, то он ниндзя.
Итак, для Романа Николаевича Кима в 1926 году ниндзя: а) существуют; б) выражают некую традицию преемственности между современной разведкой, контрразведкой и ниндзюцу; в) являются интересной темой для изучения. Про черные костюмы он еще не знает, они тогда еще не стали частью имиджа ниндзя. Зато знает по собственному опыту, чем занимаются синоби, ведь он — агент ОГПУ Мартэн, занимается тем же самым. И, будучи перфекционистом по натуре, старается в этом ремесле совершенствоваться. В определениях словаря «Гэнкай» сам Роман Ким — синоби, ниндзя. Профессиональный разведчик, задачи которого со второй половины 1925 года становятся всё более похожи на те, о которых он рассказывал неискушенному советскому читателю.
И. В. Просветов обратил внимание на отрывок из воспоминаний легендарного советского разведчика Дмитрия Быстролетова — современника Романа Кима, который точно отражает одну из сторон работы Мартэна в Москве, о которой тот однажды рассказал сам: «Тик… Тик… Тик… Тик — защелкал аппарат под мягким толстым платком с прорезью: через прорезь я следил за наводкой, платок приглушал щелканье затвора и скрывал вспышку света… Через три комнаты — из ванной или кухни слышалось, как падают капли из незавинченного крана. Далеко в городе гудел автомобиль, сонно кричали чайки. Воздух был полон близкими и далекими звуками, которые лишь подчеркивали гробовую тишину летней ночи и нависшую смертельную опасность. Это страшное многоголосое звучание тишины не могло заглушить сильного биения сердца и звона в ушах — сердце точно кто-то вынул из груди, оно громко стучало на всю комнату, на весь дом…»[199]
Роман Ким не только первым рассказал о ниндзя на русском языке. Он, в определениях тех авторов, которыми пользовался сам, и был самым настоящим ниндзя — ниндзя с Лубянки. Он делал всё, что делали синоби, и так, как это делали они, если ниндзя действительно существовали в начале XX века. Маскировался, проникал, фотографировал секретные материалы, которые потом сам же переводил и по которым писал аналитические записки руководству госбезопасности, шпионил… Как ему это удавалось? Ведь японское посольство строго охранялось, а сейф, из которого надо было украсть документы, закрывался на ключ и опечатывался. Как Роман Ким проникал внутрь дипломатического представительства своей второй родины и добывал уникальные документы так, чтобы никто ничего не заметил? Поистине ниндзюцу какое-то…[200]
Глава 10 СВАДЬБА, ПОХОРОНЫ И ОПЕРАЦИИ БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
Пусть я во мраке не вижу пути — Чтобы к желанной победе прийти, Нужно стремиться вперед! Споря с судьбою, я песню пою, Току прилива вверяю ладью — К берегу он приведет. Симадзаки Тосон[201]Роман Ким познакомился с Борисом Пильняком, когда тот жил еще на Поварской, 26, в центре Москвы. Потом, с конца 1927 года, японовед долго был постоянным гостем дома Пильняка в его особняке на 2-й улице Ямского Поля (ныне улица Правды), где Кима нередко встречали молодые писатели и иные посетители популярного автора. Однако такого плодотворного литературного сотрудничества, как получилось с «Корнями японского солнца», у Пильняка с Кимом больше не вышло, хотя Борис Андреевич еще не раз обращался к теме Японии и любил шокировать показной близостью к этой стране: гостей встречала японка в кимоно. Вместе с Кимом Пильняк еще успел написать одну статью — «Японская литература», опубликованную в июне 1928 года в журнале «Печать и революция». Нетрудно догадаться, что советские авторы рассматривали только литературу послереволюционных времен, а начиналась статья фразой, характерной для Кима: «Лет пять тому назад один из литературных японских журналов произвел среди японских писателей опрос…»[202] «Пять лет назад» от 1928 или 1927 года — это ровно то время, когда Роман Ким был еще во Владивостоке, учился, шпионил и занимался переводами. Снова — ни одного намека на то, что до университета Романа хоть что-то связывало с Японией. Может, он специально играл такую роль: вот я — образцовый советский человек, и всякая заграница меня интересует только с точки зрения разоблачения проклятого капитализма? Наверное, именно так поступил бы японский разведчик, заброшенный в СССР с далеко идущими планами…
После статьи «Японская литература» в литературной работе Кима наступил большой перерыв: ему было некогда писать. Весной 1929 года известный журналист и литературовед Виктор Шкловский, основатель Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗ), еще писал своему коллеге Юрию Тынянову: «Просится в ОПОЯЗ один кореец, “опоязовец” Ким. Ты его мог знать по примечаниям, им сделанным к Пильняку. Под названием “Ноги к змее”…»[203]Но сам ОПОЯЗ разваливался на глазах, да и литературная составляющая «корейца Кима» для большинства читателей всё еще исчерпывалась авторством глосс к книге Пильняка.
Роман Николаевич много работал — в ОГПУ, Московском институте востоковедения и в Военной академии. К тому же семейные дела начали развиваться самым неожиданным образом. Жена — Зоя, за здоровье которой он очень опасался из-за наследственной склонности к туберкулезу, продолжала бороться с болезнью. В Крыму, куда она поехала в очередной раз в санаторий, Зоя познакомилась с таким же туберкулезником из Москвы — Сигизмундом Гилевичем (Гиллевичем)[204]. Курортный роман перерос в серьезные отношения. Вернувшись домой, Зоя не стала ничего скрывать и попросила у мужа развод. Ким согласился. Сын Аттик остался с мамой, но Роман Николаевич не прерывал с ним отношений и, как мог, помогал.
Сразу после развода Ким съехал из комнаты на улице Энгельса, 57, которую он получил от Московского института востоковедения. Куда переселился — не вполне понятно (скорее всего, на Тургеневскую площадь, дом 4, квартира 3 — напротив Тургеневской библиотеки), как и не до конца ясно — когда точно. Развод произошел то ли в 1927-м, то ли в 1928 году.
Примерно в это же время в Москву приехала начинающая японистка из Читы Мариам (Марианна) Самойловна Цын — яркая, эффектная, умная, с тонким чувством юмора, прекрасно образованная девушка из богатой еврейской семьи. Строго говоря, в Чите Мариам или, как называли ее японцы, Мэри (или даже Мицуко) Цын только родилась и провела свое детство. Летом 1923 года, как раз когда Роман покинул Дальний Восток, Мэри отправилась из Сибири в Петроград, где стала студенткой второго набора Института живых восточных языков и некоторое время жила в квартире видного индолога академика С. Ф. Ольденбурга[205]. Наставником Мариам Цын стал выдающийся ученый и преподаватель, восходящая звезда советского японоведения и будущий академик Николай Иосифович Конрад, которого она тогда охарактеризовала как «очень красивого молодого брюнета». В 1925 году Мэри вместе со своим коллегой А. А. Холодовичем стала «домашней ученицей» Конрада. Такая практика, когда подающий особые надежды студент, помимо обычных лекций в институте, посещает факультативные занятия с сэнсэем, широко распространена в Японии. А то, что Мэри приходила к Конраду вместе с Холодовичем, избавляло ее от ненужных расспросов и сплетен. Мариам Самойловна ни разу в жизни, а она прожила почти сто лет (по одним данным, она родилась в 1903-м, по другим — в 1904-м или даже в 1905 году, а умерла в 2002-м), ни словом не обмолвилась об отношениях, которые связывали ее с Николаем Конрадом вне институтских стен, но глубокая симпатия к учителю читается в каждом слове ее воспоминаний. Академик Ольденбург при поступлении в институт рекомендовал ей выбрать китайский язык. Но Мэри не последовала его совету: «…как только появился Николай Иосифович, выбор был сделан моментально, я сказала, что пойду только на японское отделение — здесь сказалось обаяние Н. И. Конрада. Кроме того, он мне был ближе по возрасту…» Николай Иосифович Конрад никогда не публиковал своих воспоминаний о любимой ученице, но некоторые детали из их опубликованной переписки заставляют думать, что и он относился к красавице-студентке с сердечной симпатией.
В 1927 году Мариам Цын окончила институт и переехала в Москву, работать переводчиком во Всесоюзной научной ассоциации востоковедения при ЦИК СССР, где стала коллегой известного сердцееда — Романа Кима. Отношения между ними, судя по всему, развивались очень быстро, о чем стало известно и в Ленинграде. Знавшая Мариам Самойловну Нелли Федоровна Лещенко передала автору этой книги ее слова: «Когда Николай Иосифович узнал о нашем браке с Кимом, он сказал “дракон сожрал красавицу”».
Но «корейский дракон» и вправду был влюблен, а в его жизни начинался новый важный этап. Развод с Зоей совпал по времени с получением отличия по службе. По ходатайству ОГПУ Роман Ким был снят в 1927 году с УББО — учета бывших белых офицеров и получил «чистую анкету»[206]. Фактически за заслуги перед ОГПУ его вычеркнули из «расстрельных списков», которые должны были обязательно понадобиться в определенный момент (и понадобились — в 1937 году). Конечно, на Лубянке не забыли о его прошлом, но в МИВ на Романа Николаевича завели новую учетную карточку в отделе кадров, и отныне его прошлое ни у кого из коллег-востоковедов не должно было вызывать сомнений. Насколько это было важно в то время, когда за непролетарское или некрестьянское происхождение можно было запросто оказаться на улице без куска хлеба, свидетельствует анекдот тех времен: «Муж разговаривает с женой в роддоме: — Родить ребенка, Маша, нынче — пара пустяков. Не было бы только осложнений с анкетой!»[207] У Кима всё складывалось, как в истории Японии, где существуют легендарный и исторический периоды: в 1927 году он как будто заново родился, и всё, что было раньше, в расчет более не должно было браться — до поры до времени. Но… В тот самый момент, когда Роман Николаевич мог начать свою жизнь, как тогда казалось, с чистого листа, он ее начал с… сомнительной женитьбы. Родители Мэри — зажиточные читинские торговцы. Отец — Самуил Матвеевич, владел в Чите пимокатной, шубной и слесарной мастерскими. В 1921 году, с началом нэпа, прикупил еще и кожевенный заводик. В годы Гражданской войны был гласным городской думы, членом местного биржевого комитета[208]. Связав свою жизнь с дочерью «сибирского буржуя», Ким сильно рисковал. Тем более что вся семья Цын вскоре переехала в Москву и поселилась на Тургеневской. Дальше — больше. Уже в 1928 году отец Мэри оказался замешан в сделках с контрабандой, арестован ОГПУ и постановлением Тройки ПП ОГПУ ДВК осужден на пять лет![209] Недопустимое родство для секретного сотрудника ОГПУ, но Роман был влюблен в Мэри и сознательно шел на такой риск. В 1928 году они расписались. За такие вещи офицеров спецслужб во всех странах и во все времена увольняли со службы: отношения с родственниками преступников трактуются как «моральное разложение» и «связи с преступным элементом». Ким этого не испугался, и никаких репрессивных мер ОГПУ к нему не применило. Кстати, несмотря на успехи, которых Роман Николаевич добился сначала по службе — как контрразведчик, а потом на литературном поприще, в партию он не вступил. Почему? Остается только гадать.
В 1929-м умер отец Романа — загадочный Ким Бён Хак, Николай Николаевич Ким. Человек, так много знавший и никому ничего не рассказывавший, он последние годы жил у сына в Москве, иногда выезжая во Владивосток и, однажды, на лечение в Японию. В очередной поездке в Приморье Николай Николаевич простудился, заболел и умер в городе, который так много значил для его семьи. С его смертью от нас, возможно, навсегда закрылись многочисленные тайны кланов андонгских Кимов и королевской семьи Мин, интриги двора вана Коджона и секретные связи корейских патриотов и японских националистов. Ушла целая эпоха, и это был еще один сигнал для Романа — началась новая жизнь.
На службе, вне литературных и семейных дел, эта жизнь начиналась необычно. То самое ниндзюцу, о котором интригующе, но лапидарно написал Роман Николаевич в глоссах, стало его судьбой, заполнило дни и ночи, стало бытом. Именно с 1927 года — последнего года жизни отца, окончательного разрыва с Зоей и знакомства с Мэри, ниндзя с Лубянки был вовлечен в смертельную игру, где у него почти не оставалось шансов выжить, но где сам уровень игры и его личного мастерства — мастерства настоящего современного синоби — позволил в будущем вырвать этот невероятный шанс у самой смерти. Много позже Мариам Цын скажет о жизни с Кимом: «Нет счастливых воспоминаний о нашем браке, которыми я бы могла поделиться. К тому же тогдашняя работа Романа Николаевича была секретной, и я ничего о ней не знаю. Ведь Роман Николаевич возвращался с работы после 7, а после 9 опять уходил до утра, и так каждый день»[210]. Говоря с посторонними людьми, Мицуко-сан частенько кривила душой — время было такое, такая была служба. Она многое знала о работе мужа, но, например, часто рассказывала, что его ненависть к японцам обусловлена тем, что в 1923 году он стал свидетелем корейских погромов в Токио после Великого землетрясения Канто 1 сентября. Как мы теперь знаем, Ким в это время был уже в Москве и работал с Отакэ, но Мариам Самойловна не раз озвучивала эту версию знакомым. А вот то, что касается почти круглосуточной работы, очень похоже на правду. Во всяком случае, даже обрывочные сведения о том, чем занимался Роман Николаевич в 1927 и 1928 годах, снова заставляют вспомнить о его неутомимости и невероятной работоспособности.
Летом 1927 года Роман Ким отправился в Крым. Руководство ОГПУ откомандировало его на помощь ЭПРОН — Экспедиции подводных работ особого назначения, созданной в ОГПУ в 1923 году. Неизвестно, стал ли Роман Ким водолазом, но при его склонности к игре это вполне можно предположить. ЭПРОН был основан по личному указанию Ягоды и при поддержке Дзержинского ради одной довольно сумасбродной, но по тем романтическим временам в меру фантастической идеи: подъема со дна Балаклавской бухты британского золота. Английский парусно-винтовой фрегат «Принц» затонул там 14 ноября 1854 года во время Крымской кампании. После катастрофы прошел слух, что корабль перевозил жалованье британского экспедиционного корпуса за несколько месяцев — в общей сложности около двухсот тысяч фунтов стерлингов золотой монетой — фантастическая сумма по тем временам. Клад искали долго и безуспешно, Балаклава стала эпицентром настоящей золотой лихорадки, но после революции романтика первых советских лет и жесткий прагматизм вступили в плодотворный союз[211]. Бывший флотский инженер В. С. Языков сумел убедить в возможности найти и поднять золото не кого-нибудь, а ОГПУ, и в результате возглавил созданный под эту идею ЭПРОН. «Принца», которого, по традиции сгущать краски, давно именовали «Черным принцем», не нашли, но водолазную практику чекисты получили хорошую. Со дна Черного моря один за другим начали поднимать и возвращать в строй затопленные в Гражданскую военные корабли, замены которым на флоте пока не было. Но мечта о золоте «Черного принца» не умирала, и однажды руководство ОГПУ согласилось допустить к подводным работам в Балаклавской бухте иностранцев — японскую компанию «Синкай когёсё кабусики гайся»[212]. Фирма имела обширные интересы не только в Крыму. Японцы собирались «почистить» все моря СССР, но ОГПУ ответило отказом. Однако предложение по подъему золота «Принца» выглядело тем более заманчивым, что незадолго до этого «Синкай когёсё» подняла со дна Средиземного моря огромный груз золота с затонувшего английского парохода. Затраты на сложнейшую операцию окупились сторицей, а японцы мгновенно стали авторитетами в консервативном мире подводников, тем более что они использовали в работах технику, которой не было больше ни у кого. Чекисты решили, что лучше поделиться золотом с потенциальным противником, забрать его большую часть и, возможно, получить доступ к перспективным подводным разработкам.
В марте 1927 года в Москве начались переговоры с представителями водолазной компании, а уже в начале апреля японцы приступили к обследованию Балаклавской бухты. Несмотря на очевидные и многочисленные трудности в поиске золота, обе стороны были преисполнены оптимизма. 2 июля был подписан договор, а 15 июля уже начались работы. Японцы отказались допустить чекистов к своему оборудованию, и по договору они имели на это право. С японской стороны работы возглавил некий господин Като, прибывший в Крым с русской красавицей по имени Мария Вегенер. Еще одна красотка — Ольга Потехина присматривала там за всеми, включая Кима[213]. Вместе с экспедицией работали только два советских представителя: доктор Павловский и военный моряк Борис Хорошхин. Никто из них не говорил по-японски. Вероятно, общение шло с помощью какого-то из европейских языков, но без Романа Кима японцы обойтись всё же не смогли. Его роль в операции «Черный принц» до сих пор неясна, но агент, работавший на самом высоком уровне — уровне Отакэ Хирокити и межгосударственных отношений, не мог прокатиться из Москвы в Севастополь просто так.
Пятого сентября японцы подняли со дна одну золотую монету, а к 28 октября обе стороны пришли к выводу, что поиски золота «Принца» оказались тщетными. 20 ноября японские водолазы отбыли на родину. Обе стороны остались недовольны результатами сотрудничества, хотя обе выполнили все пункты договора до последней буквы. Но если японцы не получили в результате ничего, кроме дополнительного опыта подводных работ, то ЭПРОН, ОГПУ и советский военный флот обогатились не только международным опытом, но и, несмотря на противодействие японцев, новыми методиками розыска и подъема затонувших объектов, технологиями и скопированной специальной японской техникой. По большому счету это был пример промышленного шпионажа, блестяще организованного на государственном уровне. Одним из самых незаметных, но, позволим себе предположить, важных игроков в этой операции стал Роман Ким, проведший на теплом Черном море несколько недель в летний сезон. Как и многие другие эпизоды его биографии, этот пока закрыт от исследователей, но со временем мы наверняка станем читателями одной из самых романтических историй из жизни синоби с Лубянки.
В том же 1927 году произошла еще одна загадочная история, в связи с которой имя Романа Николаевича Кима до сих пор ни разу не упоминалось. Речь идет о «чудесном обретении» почти одновременно резидентурами ИНО ОГПУ в корейском Сеуле и китайском Харбине так называемого «меморандума» Танака. Считается, что документ, оригинала которого никто никогда не видел, был представлен императору Сева 25 июля 1927 года в качестве итога совещания премьер-министра Японии Танака Гиити с дипломатами и военными — специалистами по Восточной Азии[214]. Ко времени, когда «меморандум», который по сей день считают главным доказательством японской экспансионистской политики, представили публике, его мнимый автор уже умер и не мог ответить на обвинения в свой адрес. Подлинность текста, у которого не было оригинала, всегда вызывала серьезнейшие сомнения, а подпись Танака оказалась фальшивой. История же обнаружения «меморандума» настолько фантастична, что ее даже неудобно пересказывать. Якобы «некий китайский книготорговец из Гонконга, приглашенный неким японцем (идентифицировать его оказалось невозможно) в императорский дворец (!) для реставрации неких китайских рукописей в придворной библиотеке (!), случайно (!) обнаружил там копию меморандума (!), переписал его (!) и передал китайским патриотам (этим объяснялось отсутствие хотя бы фотокопии оригинала)»[215].
Путь, которым документ одновременно и задорого был приобретен советскими разведчиками у рядовых сотрудников полиции (!), охранявших консульства СССР в Сеуле и Харбине, тоже, мягко говоря, не внушает доверия к подлинности происхождения «меморандума». Многочисленные любители версий в духе бессмертного фильма «Подвиг разведчика», пытаясь убедить серьезных исследователей и наделенных доступом к информации чиновников, от А. Я. Вышинского до современных историков, критически оценивающих всё связанное с «меморандумом», уже почти столетие приводят свои аргументы. Например, о том, что подлинность документа засвидетельствовал некий советский японовед профессор Макин. Почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что под этим именем скрывался действительно талантливый ориенталист и по совместительству сотрудник ИНО ОГПУ профессор Николай Петрович Мацокин[216]. Но даже выдающемуся ученому не удалось бы сфабриковать более ста страниц японского рукописного текста со сложным содержанием, включавшим, например, информацию о производстве удобрений и добыче полезных ископаемых в Маньчжурии (зачем эти данные нужны были императору Сёва?). Мацокин мог участвовать (и, вероятно, участвовал) в переводе, но кто автор?
Японские историки отмечают, что в «меморандуме» есть ошибки — и лексические, и стилистические, недопустимые в том случае, если бы документ был составлен и отредактирован теми людьми, авторству которых он приписывается. При этом исследователи считают, что сложность текста такова, что невозможно представить, что его автором был «представитель неиероглифической культуры». Скорее всего, «меморандум» компилировали из разработок управления Южно-Маньчжурской железной дороги — форпоста японской экономики и экспансионистской политики в Северо-Восточном Китае, и делали это «представители иероглифической культуры». То есть китайцы или корейцы[217].
Вряд ли его мог написать Роман Николаевич Ким — слишком уж серьезная задача для молодого сотрудника ОГПУ. С другой стороны, вполне можно допустить причастность агента Мартэна к большой операции по изготовлению этой фальшивки, и речь идет не только о лингвистике. Если этот носитель иероглифической культуры с Лубянки не фантазировал, не моделировал свое прошлое в Японии, если поверить в то, что он действительно был домашним учеником Сугиура Дзюго, то он многое мог посоветовать при создании «меморандума». Вспомним: Сугиура-сэнсэй имел тесные связи с националистами, а те, в свою очередь, рассматривали Гонконг, Тайвань и Корею как основные плацдармы для «работы», там они имели ценные и постоянные связи. Именно из Гонконга, по легенде «меморандума», прибыл в Токио некий книготорговец-библиофил. Прибыл для работы в императорской библиотеке, директором которой десятилетие назад был Сугиура Дзюго. Вместе с Николаем Мацокиным Роман Ким вполне мог дать китайским или корейским «товарищам» ценные указания по правилам составления и обретения «документа», столь нужного большевистской партии и советскому правительству. К тому же у него сохранялись старые контакты с корейским подпольем, и не к своим ли старым соратникам по борьбе с японскими колонизаторами возвращался в это самое время во Владивосток Николай Николаевич Ким, не только лишившийся в этой борьбе состояния, но и подорвавший свое здоровье? Да и китайцы не уступали своим соседям в жажде насолить вечному врагу. Не случайно сразу после открытия посольства Японии в Москве, в июле 1925 года, ОГПУ раскрыло китайский заговор против посла Танака. Следы привели чекистов в посольство Китая, но, учитывая сложнейшие отношения между всеми тремя участниками возможного конфликта, обошлись без огласки: «арестованных заговорщиков выслали на родину, не устраивая процесса, а к Танака приставили охрану, которую “забыли” снять до конца сентября»[218]. Первая попытка покушения на японского посла в Москве сорвалась. Что и говорить: версия об участии Романа Кима в подготовке операции «Меморандум» пока бездоказательна, но в том удивительном 1927 году происходило много событий, в подлинность которых нам почти невозможно поверить сегодня.
В одной из лучших своих книг — «По прочтении сжечь» Роман Ким рассказал о святая святых разведки и контрразведки — искусстве шифровки и дешифровки кодов противника. Его интерес к этой теме тоже восходит к 1927 году. Именно тогда высококлассного японоведа контрразведка ОГПУ откомандировала в спецотдел ведомства госбезопасности, которым с 1921 года руководил «великий и ужасный» Глеб Бокий — бывший криптолог большевистского подполья, чекист, лишенный всяческих сантиментов, один из авторов «красного террора», увлекавшийся всякого рода мистическими учениями и практиками восточных мудрецов. Основное направление работы спецотдела — радио-разведка, шифровка и дешифровка. Позже, в 1930-х, к этой деятельности добавилось еще производство и испытание ядов для нужд спецслужб. По ряду направлений своей особо секретной деятельности Бокий подчинялся не руководству ОГПУ, в Коллегию которого, разумеется, входил и сам, а ЦК ВКП(б), то есть напрямую Сталину. Партийные органы, Коминтерн и его разведка, к которой тогда еще принадлежал Рихард Зорге, тоже использовали в своей работе достижения службы «Глеба Бокова».
Роман Ким «в Спецотделе ОГПУ… выполнял работы по анализу японских шифров»[219]. Очевидно, что на эту работу он попал благодаря знанию японского языка и потому, что, хотя и не был членом партии, пользовался безграничным доверием руководства госбезопасности. Немного позже, в 1934 году, шеф военной разведки Советского Союза Ян Берзин сформирует список требований к сотруднику шифровальной службы. Читая его, можно представить, как примерно выглядел в глазах начальства Роман Ким, какими достоинствами он обладал и почему именно этот человек был откомандирован в спецотдел:
«— быть абсолютно преданными своему государству, так как они [сотрудники службы шифровки и дешифровки. — А. К.] посвящаются в особо секретные государственные дела;
— иметь высшее образование;
— владеть в совершенстве не менее чем одним иностранным языком;
— владеть способностью к ведению самостоятельной работы научно-исследовательского характера;
— обладать широкой научной эрудицией;
— обладать беспримерным терпением;
— обладать быстрой сообразительностью и хорошей ориентировкой;
— обладать незаурядной угадливостью;
— обладать комбинационной способностью…»[220]
По стечению обстоятельств именно в том же 1927 году, когда Роман Ким пришел в Спецотдел, ОГПУ впервые сумело взломать японские коды и после этого на протяжении многих лет советское руководство беспрепятственно читало японскую дипломатическую переписку. Разумеется, японцы время от времени меняли шифры, но те снова взламывались, и по большому счету ситуация не менялась: секреты посольства Японии в Москве, а значит, и японского Министерства иностранных дел и, в значительной степени, японского правительства были прозрачны для Сталина и советских спецслужб. Очень трудно, практически невозможно вычленить в этой истории роль Романа Кима — как обычно, нет свидетельств, нет доказательств его прямого вклада в раскрытие кодов. Возможно, он был привлечен на лингвистической стадии работы, консультировал дешифровщиков или делал что-то еще. Тем более нельзя проследить эту причастность на протяжении всего довоенного периода — с 1927 по 1941 год, а это один из ключевых вопросов, если пытаться проанализировать значение Кима для советской контрразведки на японском направлении в 1930-е годы. Но совпадение — короткая командировка в спецотдел и тут же раскрытые шифры — немаловажное.
И снова характерный почерк Романа Николаевича: когда он пишет об искусстве дешифровки в книгах, создается впечатление, что он ничего об этом не знает. Слишком уж легковесно выглядят его объяснения. И это несмотря на то, что особенности японского языка, «всплывающие» при дешифровке, оказываются важнейшей частью одной из главных интриг в повести Кима «По прочтении сжечь». Вот диалог между американскими дешифровщиками (похожий Роман Николаевич, скорее всего, своими ушами слышал где-то в здании на Большой Лубянке): «…несмотря на солидную подготовку, японоведам-переводчикам приходилось трудновато. Японские телеграммы писались латинскими буквами, то есть фонетическими знаками, и в этом заключалась опасность — в японском языке уйма одинаково звучащих слов.
— Проклятый язык, — тихо ругался старший лейтенант Пейдж, щупленький и лысый, в очках. — Это они специально выдумали, чтобы насолить всем, кто изучает их язык. Извольте догадаться, о чем идет речь. Орган, артерия, возвращение, срок, флагманский корабль, ваше письмо и так далее — всё звучит одинаково: “кикан”. Целых восемнадцать значений! Или “иси”. Означает и камень, и врач, и желание, и наследник, и воля покойного… поди разберись, о чем идет речь.
— И еще смерть через повешение, — вкрадчивым голосом добавил старший лейтенант Крайф…
— Кто-нибудь из нас действительно повесится. — Пейдж вздохнул. — Вчера над одной фразой просидел битых два часа, потому что японский шифровальщик забыл указать долготу гласных, собака. А ведь слово “кото”, если не оговаривать долготу гласных, может означать тридцать три разных понятия…
— Всё зависит от контекста, — сказал Уайт. Пейдж мотнул головой:
— Он часто совсем не помогает. Приходится гадать. Кошмар какой-то».
Понятно, что, как писал Ким, специалисты по разгадыванию кодов нуждались в помощи людей, безупречно знающих японский язык. Японоведы должны были подсказывать, какая буква или слово может быть в том или ином месте расшифровываемого текста, — без их консультации нельзя было строить правильные догадки. Но самое странное в этом, конечно, способ, с помощью которого американские дешифровщики в повести Романа Николаевича вскрывают японские коды. Он невероятен, как невероятна вся история Романа Кима. Может быть, как Ким трактовал способы шифрования японской дипломатической переписки, так и было на самом деле? Приходится верить писателю на слово, но существует один простой довод в пользу правдивости Кима: именно с его приходом в Спецотдел эти самые шифры были раскрыты. Приведенная выше цитата из повести не содержит никаких сложных математических решений проблем дешифровки. Всё упирается в глубокое знание японского языка и, как писал Берзин, «угадливость», или, выражаясь словами героя повести, в «извольте догадаться, о чем идет речь». То, о чем пишет Роман Николаевич в книге, для востоковедов выглядит весьма правдиво:
«…Все японские разведчики, даже самые изощренно коварные, бесхитростны, как дети. Когда им нужно сделать какую-нибудь секретную запись, они не утруждают себя придумыванием нового способа, а употребляют один из тех, что уже фигурирует в мировой детективной литературе.
Например, шпион Исидзака, пойманный в Сан-Диего в прошлом году, применял в своих донесениях о местонахождении зенитных батарей примерно такой же метод иносказаний, который описан в рассказе Бейли “Сад фиалок”.
У капитан-лейтенанта Кавабата, арестованного в мае этого года около Фресно, нашли письмо, зашифрованное таким же способом, как в “Украденном рождественском ларчике” Лилиан де ла Тур, где буквы заменяются пятизначными величинами. Одни японцы пользуются методом, упоминаемым Конан Дойлем в “Долине ужаса”, — указывают порядковые номера страниц, строк и букв, а ключом берут справочник-ежегодник; другие применяют метод подстановок, как у Антони Уина в рассказе “Двойная цифра 13”; третьи пользуются методом, о котором говорится в “Самом крупном деле Френча” Крофтса, — зашифровывают на основе таблицы акций. А у двух японских рыбаков, пойманных в начале года у Панамского канала, обнаружили записки, зашифрованные с помощью каталога цветочного магазина — точь-в-точь, как у Агаты Кристи в рассказе “Четверо подозреваемых”.
— У Эдгара По в его “Золотом жуке”… — вставил Уайт.
Гейша перебил его с презрительной гримасой:
— Таких примитивных способов, как в “Золотом жуке” По или в “Глории Скотт” и “Красном круге” Конан Дойля, теперь не употребляют даже дефективные младенцы.
— Значит, замечательное открытие лейтенанта Крайфа, — начал Пейдж, — заключается в том, что…
— Эйнштейну понадобилось целых полторы страницы для изложения теории относительности, — сказал Гейша, а моя концепция требует всего три строчки и может быть сформулирована так: для разгадывания криптографии японских разведчиков надо просто перебирать в уме способы, упоминаемые в произведениях известных детективных писателей».
За помощью в понимании степени реальности описанного Кимом способа стоит обратиться к специалистам. Криптограф одной отечественной спецслужбы, назовем его «В.», специально для нашего исследования высказал свое профессиональное мнение об этом: «Описанный в книге способ закрытия информации с использованием опыта мировой детективной литературы вряд ли использовался профессиональными разведчиками для передачи сведений по каналам связи. Вместе с тем, нельзя исключать использование таких бесхитростных методов в личных целях, например, для закрытия информации от случайных посторонних глаз (не спецслужб). Кроме того, такой метод мог быть использован в целях маскировки, отвлечения внимания и “усыпления бдительности”, когда таким образом практически демонстративно, по-дилетантски закрывается отвлекающая информация»[221].
Конечно, читая Кима, надо делать скидку на то, что речь идет о предвоенных годах, а если мы говорим о реальной работе Романа Николаевича в Спецотделе, то и вовсе о 1920-х. Уровень шифровального дела, как и всей разведывательной работы, разительно отличался даже от достижений следующего десятилетия. Но поверить в то, что японские шифровальщики могли использовать столь незатейливый метод, как составление кодов на основе способов, заимствованных в мировой детективной литературе, невозможно. Даже если вспомнить, что речь идет о сложном, омонимичном японском языке. Именно с этого герои повести и начинают свои рассуждения. Официальная переписка велась в те годы слоговой азбукой катаканой. Чтение записанного таким образом текста представляет значительные трудности: непонятно, где кончается одно слово и начинается другое, знаки препинания сведены к минимуму, а чаще всего только к точкам в конце предложения. Когда переводчик не видит иероглифической основы слова, в языке, где с одинаковым звучанием существуют десятки совершенно разных слов и понятий, он оказывается в тупике. Понять, что именно имеется в виду, почти невозможно, работа дешифровщика-иностранца становится поистине каторжным трудом, где к тому же значительные шансы на победу зависят от его озарения, «угадливости», просто везения, наконец. Первый христианский миссионер в Японии иезуит Франциско Ксавьер писал о японском языке, что он придуман дьяволом специально, дабы затруднить для европейцев проповедь на островах Учения Христа. Если вспомнить, что и этот самый «дьявольский» язык был специально зашифрован, то обращение к элементарным кодам из приключенческой литературы вполне могло казаться в те времена достаточной гарантией от проникновения в японские тайны непрошеных читателей. В конце концов, еще во времена Русско-японской войны 1904–1905 годов японцы довольно часто не кодировали свои сообщения из экономии времени, зная, что у русских катастрофически не хватает переводчиков и некому будет разобрать даже незашифрованный, но написанный скорописью текст. Считается, что похожую практику применяли и египтяне уже во вполне современной Шестидневной арабо-израильской войне, когда нубийцы, служившие в армии Египта, вместо шифра использовали свой довольно сложный язык. И нельзя не заметить, что во всех случаях такие псевдошифры были вскрыты. Однако уже десятилетие спустя Япония достигла выдающихся высот в криптографии. Крупный британский специалист по искусству дешифровки Г. Ярдли в своей книге «Американский черный кабинет» отмечал, что в 1920–1930-х годах «Япония и Советский Союз являлись единственными странами, пытающимися добиться успеха в использовании конструкции кодовых слов неодинаковой длины… это — мощное оружие, при помощи которого можно запутать любую шифровку»[222]. Так что эксперт В. совершенно прав: прием, описанный Кимом, — блеф, мистификация, введение читателей в заблуждение с пока неясной нам целью.
О сотрудниках японского направления Спецотдела ОГПУ не известно почти ничего. «В дешифровальной секции выделялись… старый, но полный сил профессор Шунгский, служивший еще в царской армии и являвшийся главным специалистом японского отделения по языковым вопросам… Была женщина, которая настолько любила всё японское, что дома облачалась в кимоно. Была дочь профессора-япониста, которого в 1930-е годы арестовали по обвинению в том, что он в течение многих лет являлся резидентом японской шпионской сети в Москве»[223]. За исключением профессора Павла Матвеевича Шунгского идентифицировать сотрудников по указанным характеристикам нельзя — слишком мало данных. Кстати, Павла Матвеевича напрасно считали стариком, он был всего на шесть лет старше Романа Кима. Кадровый офицер с 1912 года, Шунгский с 1926-го служил в Разведывательном управлении Штаба РККА (Спецотдел ОГПУ обслуживал оба разведывательных ведомства СССР — и политическую, и военную разведку), работал в советском консульстве в Кобэ и преподавал японский язык в Московском институте востоковедения — там же, где и Ким[224]. В 1935–1936 годах Шунгский достиг фантастических успехов в деле расшифровки японских кодов: «15 октября с. г. японское правительство отклонило свой основной код и ввело вместо него новый. Создалась угроза не иметь информации о военных мероприятиях Японии по линии дешифровки японских шифротелеграмм в нужный момент. Помощник начальника… отдела РУ РККА т. Звонарев Б. В. совместно с работниками его подразделения тт. Шунгским, Калининым, Мыльниковым и работниками Спецотдела ГУГБ НКВД тт. Ермолаевым и Ермаковой в минимально короткий срок, в 6 дней, раскрыли указанный код и обеспечили бесперебойную расшифровку японских шифротелеграмм. Эти результаты достигнуты благодаря систематической подготовке т. Звонаревым своего подразделения к выполнению стоящих перед ним задач. Непосредственно при раскрытии кода особо важную роль сыграли тт. Звонарев и Шунгский. Ходатайствую о награждении ценными подарками… т. Звонарева Б. В. и специалистов тт. Шунгского, Калинина и Мыльникова…» На этот рапорт нарком обороны наложил резолюцию: «Наградить т. Звонарева золотыми часами, а остальных тт. серебряными (хорошими) часами. К. В. 27.XI.35 г.»[225]. В том же 1936 году вместе с П. М. Шунгским орден Красной Звезды получит и Ким: за выполнение государственного задания «особой важности».
В 1927 году Роман Николаевич был идеальной кандидатурой для работы с японскими кодами. Язык противника был для него родным — со всеми не отмеченными в словарях разговорными формами. Мышлением Роман отличался крайне нестандартным, был способен на озарения, следовал в своих выводах нелинейной логике и, наоборот, хорошо представлял характерные для японцев логические построения. К тому же он был блестяще и разносторонне образован, что позволяло ему «угадывать» самые невероятные решения, использовавшиеся японцами при конструировании шифров. Неизвестно, что рассказал Киму о японских кодах профессор Спальвин, занимавшийся их дешифровкой на Дальнем Востоке. Учитывая такие исходные данные, нельзя не поверить в то, что приход Кима в Спецотдел в 1927 году и вскрытие японских кодов не совпадение, а закономерный результат правильного выбора сотрудника для помощи в этой важнейшей работе и тяжелого, кропотливого труда этого сотрудника.
Когда же командировка в отдел Глеба Бокия закончилась, у Романа Николаевича оставалась еще масса дел. Севастополь, «меморандум Танака», основная работа в контрразведывательном отделе ОГПУ — всё это по-прежнему совмещалось с преподаванием японского языка в институте и в Академии РККА. Приходилось еще выполнять задания в Коминтерне, где японская компартия была представлена не вполне понятным по своим политическим убеждениям Катаяма Сэн. Ким готовил для него докладные записки, сам выступал на секретных заседаниях Коминтерна и его Исполнительного комитета (ИККИ), где наверняка встречался с его сотрудником Рихардом Зорге, на мероприятиях Профинтерна, следил по заданию КРО за деятельностью японского сектора ИККИ, где царил хаос в понимании целей и методов коммунистического подполья в Японии. Поличному заданию главы ОГПУ В. Р. Менжинского Ким негласно контролировал деятельность японской секции на VI конгрессе Коминтерна в 1928 году, V конгрессе Профинтерна в 1930-м[226]. Интересная деталь: для того чтобы не обострять и без того неспокойные отношения с Японией, прибывающих в СССР японских коммунистов, многие из которых шли на преподавательскую работу в языковые вузы, заставляли «маскироваться». Они брали себе корейские имена, и, думается, их было кому в этом проинструктировать. Например, Миягусику стал Паком, Фукунаса — Ёном, Матанаси — Цоем. Когда их расстреливали в 1937 году, то одним из пунктов обвинения стало то, что японцы, якобы желая скрыть свое происхождение от советских властей, выдавали себя за корейцев…[227]
И всё же работа в Спецотделе, несмотря на всю ее критическую важность для Советского Союза и успешность для ОГПУ и лично Кима, была лишь командировкой. Интересным, но мимолетным заданием стало дело «Черного принца». Факультативными видятся сегодня мероприятия по контролю за японцами в Коминтерне, и загадочно тонет в тумане истории операция «Меморандум». Главным же направлением деятельности Романа Николаевича следует считать начало всё в том же 1927 году практики «лубянского ниндзюцу», направленного непосредственно против японского посольства и выдержанного в духе лучших шпионских детективов, которые в те годы не писали литераторы, а проживали настоящие синоби в европейских костюмах.
Глава 11 КОНОВОД
Право же, ни к нему Разговоры вести понапрасну — Все вопросы решить Может только меч самурайский, Только этот клинок заветный!.. Ёсано Тэккан. Песня, сложенная в связи с решительным столкновением Японии и Китая по корейскому вопросу в мае 1894 года[228]Полковник КГБ А., еще заставший Романа Николаевича живым, будучи знаком с историей ряда операций, проведенных будущим писателем против японского посольства в Москве, рассказал мне, что Кима на Лубянке за глаза называли «коноводом». Заметив мое недоумение, ветеран японского отдела контрразведки КГБ пояснил: «У него была особая специализация — он руководил агентами-женщинами, соблазнявшими японских дипломатов и военных. Японского языка эти дамы не знали, но прекрасно говорили на европейских. Большинство были из хороших семей, часто из дворянских, получили отличное образование и воспитание. В советской Москве они нередко подрабатывали преподаванием нужных дипломатам языков — английского, французского, немецкого. В реалиях голодной и холодной столицы такое учительство нередко было связано и с оказанием услуг интимного характера, и они часто попадали в поле зрения ОГПУ. Их брали на заметку, шантажировали и предлагали помочь Родине. Отказаться, конечно, было нельзя». Вот такие преподавательницы и обхаживали японцев. Со временем они запоминали несколько слов из японского языка, бытовых выражений. Прежде всего, «здравствуйте», по-японски — «конничива». Мягкое сдвоенное «н» в середине на слух воспринималось как «нь», и получалось слово, которое легко было запомнить, разложив на два: «Конь» и «ничива», похожее на русское простонародное «ничиво». Поэтому японцев девушки называли просто «конями», о встрече с клиентами говорили «ловить» или «пасти коней», а Романа Кима, который «пас» и японцев, и самих девушек, называли «коноводом».
Советские дамы — преподавательницы русского и европейских языков — были одними из немногих легальных контактов японских дипломатов в Москве с внешним миром. Бывший начальник штаба Квантунской армии генерал-лейтенант Хата Хикосабуро (Хикодзабуро), взятый в плен в Маньчжурии в 1945 году, в конце 1920-х и в начале 1930-х годов служил военным атташе Японии в СССР. На допросе в контрразведке Смерш он довольно подробно описал жизнь в советской столице тех лет, разъяснив сложности работы японских разведчиков и обрисовав круг возможностей, которыми они располагали[229]. Говоря о трудностях сбора информации о Советском Союзе (не только секретной), он отметил, что «в СССР налажена совершенная система борьбы со шпионажем», но благодаря полной унификации всей советской системы, «собрав сведения об одном предприятии, можно составить представление и о других». Естественно, что Второй (разведывательный) отдел японского Генерального штаба это учел. В соответствии с такими специфическими условиями, как рассказывал Хата, были определены основные направления сбора информации о СССР. Прежде всего использование литературы и периодических изданий — это было проще всего. Такой рутинной и затратной по времени и усилиям работой в основном занималась Японская военная миссия в Харбине с большим штатом переводчиков из числа местного русского населения. Разведывательная служба связи японцев прошла обучение в Европе, у польских разведчиков и, как был уверен Хата, могла раскодировать «простейшие советские шифры».
Сам Хата Хикосабуро, в ту пору еще майор, впервые приехал в Москву в январе 1927-го и два года был помощником военного атташе при полковнике Микэ Кадзуо и полковнике Комацубара Мититаро («умер» — сказал о нем на допросе Хата). «В то время в канцелярии атташата было всего два человека — сам военный атташе и я. Получить тогда квартиру было очень трудно. По этой причине и морской атташе, капитан 1-го ранга Мадзаки [Масаки Кацудзи] жил с нами в одной квартире. В то время ни у военного, ни у морского атташе не было собственного автомобиля. Жизнь наша была очень бедна и совсем непредставительна. После этого мы сняли дом у некоего еврея, проживавшего в районе Арбата. Сам еврей работал в то время в московском универмаге. Его фамилию не помню. Это была семья из трех человек: муж, жена и сын 18 лет», — рассказывал генерал Хата в 1946 году.
В следующий раз, уже в качестве военного атташе Великой Японии подполковник Хата прибыл в Москву в начале 1933 года. В его московской канцелярии тогда служили помощником военного атташе капитан Танака Ватару (по показаниям Хата на допросе, он «покончил жизнь самоубийством») и два секретаря: майоры Ваки и Мидзуно Кэйдзо. Еще четверо японских офицеров проходили в то время годичные стажировки в частях Красной армии под Ленинградом, Феодосией, Ростовом и Рязанью. Из советских граждан в японском военном атташате работали: «машинистка Женя (около 28 лет, жена служащего одного из трестов; знала французский язык) и Агнесса (около 21 года, еврейка). Горничные: Зина (около 50 лет, вдова, полька) и Маша (около 52 лет, жена подмосковного крестьянина). Шофер Яцевич (около 32 лет, имел жену и сына)».
Ежедневный график работы атташата был вполне обычным для любой канцелярии, если исключить поездки в редкие командировки, которые удавалось согласовать с советскими властями, и собственно разведывательную деятельность, распорядок которой Хата воздержался указывать. Каждый день офицеры атташата занимались просмотром и анализом советской прессы, составлением срочных отчетов о полученных новостях в Токио, переводами учебных пособий Красной армии (посол Японии Хирота Коки, будучи мастером дзюдо, даже переводил и отправлял в Японию сводки о становлении советской борьбы вольного стиля — будущего самбо), заботой об офицерах-стажерах, приемом и проводами японских военных, транзитом следующих через Москву в Европу и обратно, и тому подобной военно-дипломатическая рутиной.
Разведкой заниматься было трудно. Подкрепляя свой тезис о «совершенной системе борьбы со шпионажем» в Советском Союзе, Хата рассказывал: «После маньчжурских событий (сентябрь 1931 года. — А. К.) наблюдение со стороны властей СССР за представителями японского посольства и за военными атташе приняло исключительно строгий характер. На посту перед моей квартирой круглые сутки дежурили два наблюдателя, обеспеченных автомашиной. Когда я выходил или выезжал из своего дома, они шли за мной или следовали сзади на автомашине. В театре, ресторане и других общественных местах наблюдатели садились неподалеку от меня. Такое наблюдение не прекращалось ни на один день, шло и днем, и ночью, начиная со времени моего прибытия к должности и кончая моим отправлением из Владивостока. Исключение следует сделать только для моих поездок за границу. Такое неусыпное наблюдение в известной степени предоставляло мне большие удобства во время поездок по СССР, посещения театра, ресторанов и пр. Однако с населением я совершенно не мог общаться. Мне приходилось встречаться с советскими офицерами только на торжествах, организовываемых советской властью или представителями иностранных государств в посольствах и дипломатических миссиях. Там я встречался с маршалом Ворошиловым, маршалом Буденным, маршалом Тухачевским и другими представителями командования Красной армии. Все переговоры велись только с начальником отдела внешних сношений Наркомата обороны, кажется, Геккером…
Поскольку и моим подчиненным была дана инструкция ни в коем случае не пользоваться тайными агентами, пошедшими на это дело из простого корыстолюбия, так как они обычно дают либо фальсифицированный, либо, хотя и подлинный, но неполный материал, который может только дезинформировать, я совершенно убежден, что мои тогдашние подчиненные воздерживались от подобного шага».
Полковник Хата действительно был вынужден не просто «дать», а написать инструкцию сотрудникам японской разведки в СССР о необходимости быть осторожными в общении с «тайными агентами». Москвички — эффектные блондинки с роскошными формами сводили японцев с ума. Хата понимал, что через этих женщин ОГПУ осуществляет вербовку сотрудников японского посольства. В 1935 году произошел широко известный ныне «инцидент с двумя чемоданами» (о нем речь еще впереди), собственно, и ставший поводом для написания инструкции, но и до этого события японской разведке хватало причин для беспокойства[230]. Название инструкции оказалось столь простым и гениальным, что можно было обойтись только им. «Берегитесь женщин!» — призывал коллег военный разведчик Хата, оказавшийся более осторожным и внимательным, чем они (недаром он был родом из мест, славящихся своими профессиональными разведчиками-ниндзя). Но призыв запоздал. Роман Ким — единственный специалист в КРО ОГПУ по работе с японцами, свободно владевший японским языком, действовал почти как ниндзя: мгновенно, хладнокровно и абсолютно безжалостно.
И. В. Просветов приводит в связи с этим пример с самоубийством капитана Танака Ватару[231] — того самого помощника военного атташе, о гибели которого упомянул генерал Хата. Напомню: Хата и о генерале Комацубара сказал, что тот умер. Однако это совершенно не означает, что командир 23-й дивизии Квантунской армии Комацубара Мититаро умер в Москве. Точно так же и упоминание о самоубийстве капитана Танака никак не связано с его службой в Советском Союзе. Действительно, этот офицер работал в Москве в 1932–1934 годах и, по мнению профессора Индианского университета в Блуменгтоне (США), специалиста по истории советских спецслужб Куромия Хироаки, вполне мог «обрабатываться» Романом Кимом или его девушками с целью вербовки[232]. Однако этому, по крайней мере пока, нет никаких доказательств, хотя есть загадочная фраза Кима о том, что «…в отношении помощника военного атташе комбинация оказалась неудачной». Но «неудачной» — не значит «смертельной». Капитан Танака благополучно покинул Советскую Россию в декабре 1934 года, вернулся в Токио и занял должность преподавателя в специальном военном училище, позже переформированном в разведывательную школу Накано. В феврале 1936 года Танака принял участие в Путче молодых офицеров, недовольных слишком, по их мнению, нерешительной политикой Японии в Азии. Как и многие другие ультранационалисты, Танака Ватару был признан виновным, но получил время самостоятельно свести счеты с жизнью. Воспользовавшись привилегией, он вскрыл себе живот коротким самурайским мечом. Об этом писали газеты[233] (с публикацией фото капитана и его прощальной записки), и об этом, конечно, знал его бывший шеф в разведке полковник Хата — потому он и упомянул этот факт на допросе, не вдаваясь в подробности.
Но ведь сам Роман Ким на допросе в 1940 году рассказывал: «Я заставлял намеченных японцев идти на вербовку, располагая на них материалами. “Болтун” был завербован в результате компрометационной комбинации. В процессе этой комбинации одно японское официальное лицо даже распороло себе живот»[234]. Шантаж на основе «медовой ловушки», то есть в результате угрозы компрометации за незаконную или опасную связь с женщиной — фирменный знак Кима. Но кто этот «Болтун» и что за «официальное лицо» распороло себе живот? В первом случае мы вряд ли когда-либо что-то узнаем об этом, за исключением того, что в результате «Болтун дал нам один материал чрезвычайной важности»[235]. Во втором — история с харакири относится, скорее всего, не к 1932 году, как пишет Просветов, связывая ее с капитаном Танака, а к более ранним временам. Произошедшее тогда свидетельствует о том самом стиле ниндзя в работе Кима против японцев — коварном и беспощадном.
За семь лет до токийского Путча молодых офицеров, 26 февраля 1929 года, газета «Вечерняя Москва» опубликовала короткую заметку в жанре «происшествия» и в стиле бессмертного булгаковского Швондера. Вот ее содержание, с соблюдением орфографии и пунктуации:
«“Подвиги” капитана Коянаги.
В доме № 44 по Новинском бульвару, жильцы, обитающие по соседству с кв. 22, не имеют покоя от постоянных пьяных оргий и дебошей, устраиваемых в своей квартире (квартира 22) японцем Кисабуро Коянаги, капитаном 1-го ранга, состоящим морским атташе японского посольства. Эти дикие оргии, сопровождающиеся побоищами, делают соседство с таким жильцом не выносимым.
3 февраля капитан Коянаги устроил на этой квартире очередной вечер, на который пригласил советских граждан, в том числе и женщин.
“Прием” на этот раз закончился грандиозным скандалом и побоищем, учиненным Коянаги. Особенно сильно пострадавшей от гостеприимства “знатного иностранца”, оказалась советская гражданка, — его же учительница русского языка, отклонившая упорное приставание храброго капитана, и не пожелавшая удовлетворить его прихоть. Оскорбленный неудачей, капитан Коянаги, в пылу страсти, тут же за столом запустил в учительницу столовым ножом. Обезумевшая и окровавленная женщина бросилась бежать, а атташе Коянаги вдогонку ей начал бросать со стола посуду и т. п. В коридор за женщиной полетели даже стулья и прочая мебель, с грохотом разбиваясь о стены и пол… В передней квартиры этот “дипломатический” вечер закончился общей свалкой гостей.
Следовало бы указать подобным дипломатам, что хулиганство у нас преследуется по закону.
Почему не вмешается в это дело милиция или Наркоминдел, чтобы, наконец, положить предел этим оргиям и дать возможность спокойно отдыхать трудящимся названного дома».
Учитывая строгий советский контроль над средствами массовой информации, трудно поверить, что подобная статья могла появиться в городской газете «без санкции соответствующих органов». Значит, к тому времени надежд на сотрудничество у советской контрразведки с темпераментным капитаном уже не было, и ОГПУ решилось на компрометацию военного разведчика в прессе, что само по себе было беспрецедентным шагом. Однако насколько мы можем верить столичной газете 1929 года? Так ли всё это было на самом деле? Вопрос не праздный. Ответ на него нашел профессор X. Куромия. В своей статье «Загадка Номонхана, 1939» он не только впервые опубликовал отчет советской газеты, но и раскрыл японские данные о скандале, случившемся на Новинском бульваре[236].
Капитан 1-го ранга Коянаги Кисабуро был ровесником своего коллеги, проходившего по сухопутному ведомству, подполковника Комацубара Мититаро — оба родились в 1886 году. Коянаги с блеском окончил в 1914 году Высшую военно-морскую академию Императорского флота. Впервые побывал в России в период Гражданской войны. В 1927 году вернулся — уже в качестве военно-морского атташе в Москве. Квартира 22 в угловом доме 44 по Новинскому бульвару служила не только его жильем, это, собственно, и был военно-морской атташат Японии. В отличие от атташата военного, располагавшегося вместе с посольством на Большой Никитской, 42. Старый москвич Борис Маркус вспоминал: «Представляете, около крайнего подъезда красовалась маленькая табличка. Белая с красным кругом в центре и расходящимися во все стороны лучами. А в круге было написано: “Военный атташе Японии”. Я не очень точно знал, что такое “военный атташе”, тем более японский. Мне объяснили, что это значит шпион. Как же это так? Шпион, и так запросто, даже с вывеской живет у нас под боком. Этого я просто не понимал. Меня успокоили: это, мол, официальный шпион при посольстве»[237]. Так что жители дома прекрасно знали и понимали, что за «нехорошая квартира» 22 находится у них по соседству, и поостереглись бы идти просто так жаловаться на ее жильцов домоуправу. И, конечно, надзор со стороны ОГПУ за всем происходящим в ней был установлен строжайший и даже «случайная» драка не могла произойти в этом помещении без разрешения ответственного лица. Профессор Куромия считает, что это и был наш «коновод».
Дело в том, что на вечеринку оказались приглашены учительница русского языка и некий «доктор». Прислуживала за столом горничная (вдова) — не исключено, что та самая полька Зина, которую упоминал генерал Хата. Все эти подробности раскрыла газета «Токио Асахи симбун» 4 апреля того же года. Уже тогда японские журналисты, возможно с подачи более информированных источников, заявили, что инцидент был спровоцирован «советскими шпионами». Коянаги, впрочем, действительно был сильно пьян — тут «Вечерняя Москва» не преувеличила, — кидался в преподавательницу посудой и легко ранил ее. Она немедленно потребовала компенсации за нанесенные ей травмы в размере трех тысяч рублей, и чуть протрезвевший Коянаги сразу же согласился. Тогда женщина запросила еще пять тысяч, и японец снова бросился в драку, которая и привлекла внимание соседей.
Приняв на себя ответственность за дипломатический скандал и поступки, порочащие мундир офицера Императорского флота, Коянаги Кисабуро 6 марта 1929 года совершил сэппуку или, как чаще говорят, харакири. Не вполне понятно, где именно он это сделал. Логично предположить, что в той самой «нехорошей квартире» 22, служившей ему и жильем, и кабинетом, но «Асахи» в своей статье указала посольство. Впрочем, токийские газетчики могли и не знать особенностей жилищного вопроса в далекой Москве. Через два дня тело Коянаги кремировали и похоронили на Донском кладбище с соблюдением воинских ритуалов, в присутствии японских дипломатов и разведчиков, коллег из других стран, а также советских представителей.
А при чем же здесь Ким? Дело в том, что, по данным X. Куромия, несколько позже японская разведка получила сведения от тесно сотрудничавшей с ней в 1920-е годы разведки польской. Ее агент в Москве сообщал, что преподавательница русского языка была агентессой ОГПУ, и Коянаги, чья супруга и двое детей не смогли поехать с ним в Москву, вступил с этой женщиной в любовную связь. Похоже, что ОГПУ специально тормозило решение жилищного вопроса для иностранных специалистов, создавая идеальные условия для их попадания в «медовую ловушку». Любовница Коянаги и горничная специально напоили его, чему он был только рад, будучи большим любителем спиртного. Но вся его радость, как и опьянение, улетучилась, когда, внезапно очнувшись, Коянаги увидел, что девушка достает у него из кармана связку ключей и печать от сейфа с секретными документами. Немного придя в себя, Коянаги применил приемы дзюдзюцу (джиу-джицу), чтобы обезвредить «советских шпионок». Однако те вырвались и убежали. Интересно, что ни о каком «докторе» — скорее всего, еще одном субагенте Кима, польский «крот» не сообщал.
Как и подобает в таких случаях, Коянаги немедленно написал рапорт о случившемся в Токио, не скрывая своей вины в создании опасной ситуации. По непонятным причинам, а скорее всего, из-за обычной нерасторопности и нежелания брать ответственность на себя, адмиралы из Генерального штаба Императорского флота Японии тянули с ответом. Не исключено, что они делали это специально, давая тем самым понять Коянаги, что теперь он сам должен решить вопрос о собственной виновности и степени ее искупления. Во всяком случае, капитан расценил это именно так и, прождав месяц, совершил харакири. И вот еще какую любопытную деталь удалось узнать X. Куромия: два года спустя, то есть в 1931 году, Москву посетил «один буддийский священник», который провел в «офисе военно-морского атташе Японии поминальную службу для военного атташе, который совершил самоубийство, будучи пойманным на интрижке». Из этого следует, что харакири произошло именно в квартире 22. Священником же был, конечно, Ота Какумин — культовая, во многих смыслах этого слова, фигура для многих жителей Владивостока начала XX века. Ота жил в этом городе с 1903 года и служил настоятелем уже упоминавшегося храма Урадзио Хонгандзи, где, помимо всего прочего, располагалась штаб-квартира тайных националистических обществ в Приморье. Время от времени он покидал Владивосток, в том числе (и неоднократно) для службы войсковым священником в японской армии, а к 1931 году решил вернуться на родину окончательно. Строго говоря, его вынудили это сделать советские власти, отказав в продлении визы. Тогда, перед отбытием в Японию, Ота решил, как пишут сегодня некоторые почитатели этого персонажа, «посетить Ленинград и Москву, чтобы поблагодарить японского посла и представителей центральной власти за поддержку и длительную совместную работу»[238]. Учитывая, что его пребывание на советской территории было осложнено, решение проехать через всю страну выглядит, мягко говоря, странным. Мало того, в Москве Ота встретился… со Сталиным — по своей личной инициативе. В своих записках Ота рассказал, что просто пришел в Кремль (!), в приемную советского вождя (!), передал ему через секретаря свою визитную карточку и вскоре был приглашен в кабинет. Пусть каждый сам для себя решит, можно ли верить в такую историю, но время, выбранное для посещения японским священником советского лидера, наводит на некоторые размышления. В сентябре 1931 года произошел «маньчжурский инцидент», после которого Япония начала продвижение в Маньчжурию. Странная поездка в этот важнейший для Японии период к руководителю государства, в сторону которого была направлена агрессия, очень напоминает миссию «неофициального посла» Отакэ в 1923 году, но сейчас речь о другом. Профессору Куромия удалось установить, что при посещении места самоубийства Коянаги буддийский священник руководствовался не только мотивами ритуального характера. Ота узнал, кто был учительницей покойного капитана. Этой женщиной оказалась сестра красного партизана, которого священник спас во Владивостоке во время Гражданской войны. Более того, во время пребывания в Москве священник «встретил вторую сестру этого партизана, которая рассказала, что после самоубийства Коянаги ее сестра, работавшая несколько лет на ОГПУ, перебралась из Москвы на Украину, потому что “в Москве было небезопасно”». Из этого следует, что в японском посольстве знали, кто и как против них работает, но почему-то не предпринимали никаких мер. Почему? Сбрасывали ОГПУ дезинформацию, подставляя своих военных? Судьба Коянаги показывает, что ставка в такой игре, если она вообще имела место, была исключительно высока, а приемы не бесспорны. Сотрудники ОГПУ и прежде всего агент Мартэн использовали в своей деятельности старых знакомых по Владивостоку, тем или иным способом заставляя их работать против японцев.
Полковник А. убежден, что малоизвестная история самоубийства Коянаги либо рассматривалась до сих пор слишком упрощенно, либо это не единственный случай провала Романа Николаевича. Ветеран КГБ, служивший в послевоенные годы в том же управлении, что и Ким, ссылаясь на некоторые документы о наблюдении за японскими разведчиками, рассказал о провальной попытке вербовки японского офицера с помощью компрометирующих его материалов[239]. Самое удивительное, что подобный эпизод позже был в красках описан в художественной литературе. В книге ветерана разведки КГБ М. П. Любимова под названием «Декамерон шпионов» есть «Новелла о том, как трудно быть японцем, если вокруг одни русские» — о неудачной попытке заставить японского разведчика в Хабаровске работать на КГБ[240]. Эпизод вербовки в новелле донельзя напоминает знакомую нам историю. Фабула такова. Японский разведчик по имени Ясуо приглашает в гости своего приятеля (чекиста), а тот приходит с дамой легкого поведения, которую выдает за свою сестру. После долгих, но тщетных попыток споить японца и зафиксировать его на фото в объятиях женщины было принято решение скомпрометировать его другим способом. При следующей встрече чекист в одиночку напоил японца и «…аккуратно, стараясь не шуметь, снял со стены фото императора, поставил на ляжку спящего Ясуо, осторожно дотронулся до худосочного, вызывающего жалость фаллоса, деловито взял его двумя пальцами и водрузил прямо на грудь императору, стараясь не заслонить его бесстрастное лицо». Доведя эту «композицию» до откровенно порнографической, чекист сфотографировал спящего японского разведчика, а затем попытался шантажировать его.
В литературном произведении и японец, и советский контрразведчик погибли: первый вскрыл себе живот мечом, второй — выстрелил в висок из табельного оружия. Полковник А., комментируя данный эпизод, рассказывал, что вариант, описанный М. Любимовым, совершенно невозможен хотя бы потому, что эпохи не совпадают: в книге действие происходит в либеральных 1970-х годах, и попытка завербовать японского офицера, шантажируя его непристойным снимком с портретом императора, была абсурдом. А вот в 1920–1930-е годы, на фоне расцвета националистических и ультрапатриотических настроений в Японии, это было очень серьезно. К тому же есть и другие отличия реальной и вымышленной истории. По словам полковника А., на фото была видна обнаженная женщина, которая, вероятно, и проделала всю операцию по спаиванию и компрометации. Другой человек («доктор» —?) подключился на завершающем этапе, сфотографировав японца. Вполне возможно, что при попытке достать у него ключи офицер очнулся и всё понял. Тогда это действительно мог быть Коянаги. Скандал с битьем посуды тоже был, но повод получается уже другой, более веский. Да и долгое ожидание ответа из Токио, поздняя реакция японской прессы, сообщившей о трагедии лишь месяц спустя, отлично вписываются в общую картину произошедшего.
Если бы Коянаги попался на обыкновенной «бытовухе», он так не переживал бы — в конце концов, пьянство в разведке не настолько тяжкий проступок. Чтобы понять это, достаточно вспомнить хотя бы шокирующее временами поведение Зорге примерно в те же годы и в не менее пуританской Японии. Попытка похитить ключи и печати — да, это серьезно. Но, как мы знаем со слов священника Ота Какумин, для японцев не было тайной стремление ОГПУ подобраться к ним через русских женщин. Тем более что ключи и печати в итоге всё равно остались у Коянаги, предотвратившего кражу. Не слишком ли слабое основание для харакири? А вот если тем вечером действительно были сделаны фотоснимки, о которых говорил полковник А., и они потом были предъявлены капитану Коянаги с целью вербовки, тогда всё встает на свои места. Это был жесткий, даже жестокий шантаж, при котором действительно была задета не только офицерская честь, но и честь божественного тэнно — императора. К тому же, если Коянаги честно рассказал в своем рапорте, отправленном в Токио, о том, что произошло, то становятся понятны и шок Генерального штаба, и его отказ отвечать на рапорт, и попытки всячески замолчать эту историю в прессе, сведя ее к банальной «интрижке».
Кстати, Михаил Петрович Любимов в беседе со мной рассказал, что японский эпизод в его произведении придуман им полностью — от начала и до конца из сугубо литературных соображений. Существовала необходимость расширить «географию» книги, действие в которой изначально происходило почти исключительно в Москве. Так появились Хабаровск и в нем японский разведчик высокого ранга, что противоречило реальности 1970-х годов. А вот уже конструировал японский эпизод автор «Декамерона шпионов» по классическому шаблону вербовки на основе шантажа и с учетом национальных особенностей жертвы — даже специально консультировался с родственником-японоведом. Так что в этом смысле совпадение литературы и истории вполне закономерное. Ким работал по строгой схеме, а Любимов, сам будучи профессионалом, не раз сталкивался с такими схемами в своей практике. Из экзотики тут только портрет императора, но нельзя исключать, что в молодости Михаил Петрович слышал от коллег о чем-то подобном, со временем забыл, а потом воспроизвел «хорошо забытое старое» как творческую находку (хотя сам он об этом и не говорил). Так или иначе, можно с уверенностью говорить, что такая неудачная попытка вербовки в истории Романа Кима была, но для его карьеры это осталось без последствий — никаких упоминаний о наказании за провал в его делах нет (два выговора за утрату служебных удостоверений, например, там зафиксированы).
Возможно, это связано с тем, что инцидент с капитаном Коянаги (а вероятно, и еще с одним официальным лицом) потонул в бурном и мутном потоке вербовочных подходов, которые осуществлял Роман Ким в конце 1920-х годов. Обстановка тому способствовала: часть дипломатов и разведчиков не имела опыта работы в России, относилась к советской системе безопасности и вообще к людям свысока, пренебрежительно, экстраполируя на них книжный опыт победы над Россией в 1905 году. С противной же стороны, ОГПУ успешно модерировало условия для вербовок, создавая жилищный кризис, сажая японских разведчиков под столь плотную опеку, что у тех не было выбора в общении, предлагая для этого только свою агентуру без всяких других вариантов.
После ареста Кима его руководство с сетью агентесс разбиралось особо. Благодаря этому мы знаем имена и связи некоторых из них. София Шварц «вертелась около Касахара» (полковник, военный атташе в 1930–1932 годах), гражданка Броннер сожительствовала с помощником Касахара майором Ямаока Мититакэ, Чернелевская «опекала» третьего секретаря посольства Огата Сёдзи — профессионального русиста и разведчика (в 1937 году для ряда наших японоведов оказалось достаточно факта знакомства с этим человеком, чтобы получить высшую меру наказания — расстрел). Еще один роковой «знакомец» — выпускник Токийской православной духовной семинарии Юхаси Сигэто был возлюбленным агентессы по имени «Амазонка». Она же сожительствовала с разведчиком Таяси (не установлен) и вообще «работала недисциплинированно, знакомства заводила по своей инициативе». Были в этом списке еще и «Высоцкая», «0–36», «Рис», Дудунашвили и другие любительницы «пасти коней»[241]. Одним словом, с каким бы энтузиазмом и прославленной тщательностью ни относились японцы к своей разведывательной деятельности, в Москве их усилия сводились на нет исключительно плотным контрразведывательным обеспечением, в центре которого — пусть это прозвучит банально — словно паук в паутине, находился Роман Николаевич Ким.
В какую бы сторону ни пытались уйти от него японские разведчики, да и просто дипломаты, они оставались в паутине. Иногда доходило до курьезов, впрочем, вполне показательных. Корреспондент газеты «Асахи» Маруяма Macao — тот, что в 1925 году прибыл в Читу, чтобы писать репортаж о перелете японских летчиков в Москву, а там познакомился и влюбился в молодую красавицу Мариам Цын, — в 1931 году оказался в Москве. Влюбленный журналист приложил все усилия, чтобы найти свою Мэри, как он называл Мариам Самойловну. Это оказалось совсем не сложно. Вместе с Маруяма в столицу приехал Отакэ Хирокити, и, конечно, он немедленно встретился с Кимом. От Отакэ Маруяма и узнал, что его платоническая любовь вышла замуж. «Когда он узнал, что я являюсь женой Кима, перестал интересоваться мною»[242]. Так это или нет (в изложении Мариам Цын история нередко выглядела не совсем так, как мы ее представляем), но Маруяма пошел по стандартному пути — завел себе в Москве любовницу. Ее звали Валентина Гирбусова, и она тоже была подчиненной Романа Кима. Неизвестно, насколько продуктивна была ее работа, зато мы знаем, что встречи с ней, как и с другими агентессами, Роман Николаевич нередко проводил у себя дома, в присутствии жены — Мэри Цын[243]. Если же Маруяма, который привлекался японской разведкой для ряда операций, докладывал о их результатах в посольстве, то особый агент Кима передавал ему эти материалы[244].
Мариам Цын не любила рассказывать о своем первом муже, несмотря на то, что замуж она, очевидно, выходила по любви. Кимура Хироси не случайно назвал в своей большой статье о Киме соответствующую главу «Жена, не делящаяся воспоминаниями». Думается, причиной молчания Мэри Цын была не только тайная служба ее мужа, особенно если вспомнить, что сама она служила в том же ведомстве, знала, о чем говорить можно, и могла бы рассказать не меньше, чем Роман Николаевич написал потом в своих романах и повестях. Во фразе о ночной работе сквозит простая женская ревность. Мариам Самойловна прекрасно знала, с кем и чем занимается «коновод» Ким по ночам. Знала его агентесс лично, и вряд ли у нее был повод особенно им доверять: эффектные, но часто разведенные и не слишком отягощенные моралью девушки работали с ее мужем — эффектным мужчиной экзотической внешности.
Когда Кима арестовали, Валентина Гирбусова, «опекавшая» Маруяма Macao, дала следствию показания о том, что Роман Николаевич допускал в отношении ее «вольности, переходящие за служебные рамки (поцелуи)», а однажды даже предложил провести с ним отпуск в ведомственном доме отдыха НКВД, куда она поехала, но ненадолго. Там он предложил ей выпить коньяку на балконе, но на этом вроде бы всё и закончилось. Очень похоже на правду — Роман Николаевич, конечно, не был святым. Но главное не это. Агентессы работали исключительно эффективно под руководством умного и, как мы убедились, бескомпромиссного и настойчивого профессионала, привыкшего добиваться победы.
Скорее всего, в силу уникальных данных и особенностей этого человека, с именем Романа Кима должны быть связаны многие известные успешные эпизоды работы советской контрразведки против Японии в 1930-е годы. Несмотря на то, что имя Кима в этих историях пока не упоминалось, без него существующая картина выглядит неполной или противоречивой. Так бывает в картинках-пазлах, когда до завершения работы не хватает одного, но ключевого звена. Пример такой картины, где с появлением пазла-Кима всё складывается совершенно логично, «дело о двух чемоданах».
В начале 2000-х годов журналист Елена Чекулаева случайно услышала от экскурсовода Музея пограничных войск ФСБ РФ историю необычных экспонатов — двух брезентовых чемоданов (кофров). Эти кофры и сегодня стоят в музее, но историю их появления там рассказывают уже другую. Обе они настолько фантастичны, что нет смысла их пересказывать. Экскурсоводы сходятся сейчас, после публикаций Е. Чекулаевой, только в одном: в этих чемоданах в декабре 1935 года японцы пытались вывезти за границу двух советских гражданок — мать и дочь. Вывезти отнюдь не против их воли.
В начале 1930-х в Москве работал корреспондент газеты «Токио Нити-нити» Кобаяси Хидэо. Журналист имел особый статус — к нему были прикреплены служебный автомобиль (вспомним условия работы японских дипломатов!) и личный водитель — Владимир Яцевич. Интересно, что младший брат Владимира — Леонид тоже работал шофером и тоже у японцев. Он возил военного атташе — подполковника Хата, автора инструкции по обращению с русскими женщинами. Дочь Владимира Яцевича вспоминала, что ее отец «каждый вечер после работы, не поужинав, садился за стол и что-то долго писал. Ему звонили, он волновался и скороговоркой отвечал: “Сейчас, сейчас принесу”… Он готовил отчеты для Лубянки»[245]. Значит, в ОГПУ понимали ценность Кобаяси. Младший брат — Леонид, наоборот, фрондировал. «Представляете, — говорил он, хохоча, — за мной вечно следовала машина с нквдешниками. Я однажды так газанул, что они меня потеряли. Здорово я их напугал». Поведение для водителя особого объекта наблюдения — военного атташе, согласимся, странное. Допустимое только в одном случае — если после работы младший брат точно так же, как и старший, корпел над подробным отчетом о прошедшем дне для сотрудников ОГПУ, следивших за японским посольством. То есть для группы Романа Кима.
Кобаяси снимал дачу под Москвой — в Балашихе или, возможно, в Краскове, где в то время находилась дача японского посольства. Там он встречался с семнадцатилетней Надеждой Вегенер — дочерью переводчицы посольства Марии Вегенер. Вероятно, той самой Марии, с которой, по свидетельству Ольги Потехиной, сожительствовал в 1927 году глава японской водолазной экспедиции Като. Об особенностях работы матери несложно догадаться: в обоих случаях она выступала как «учительница русского языка». Возможно (но не факт — доказательств нет!), именно ее имел в виду Роман Ким, давая характеристики своим агентессам: «“Рис” — среди японцев работала три-четыре года, сожительствовала с несколькими чинами японского атташата [военного?], по своей инициативе сошлась с Кобаяси»[246]. Следовательно, Кобаяси нарушил инструкцию подполковника Хата. Более того, он, судя по всему, не на шутку влюбился, но не в свою 37-летнюю «учительницу», а в ее юную дочь. Однажды, услышав, что Надя любит ирисы, приказал засадить ими всё пространство вокруг своей дачи — лишь бы нравилось юной возлюбленной.
В декабре 1935 года срок командировки Кобаяси в Москву истек. Пора было возвращаться в Токио, где его ждала полноценная японская семья. И тут произошло неожиданное. 24 декабря 1935 года обе женщины — и Надежда, и Мария бесследно исчезли. Нашли их только через два дня.
Утром 26 декабря начальнику Дзержинского погранотряда (станция Негорелое к юго-западу от Минска) Мироненко позвонил один из заместителей председателя ОГПУ. Высокое начальство сообщило о пропаже двух женщин. Двумя днями ранее они вошли в посольство Японии в Москве и оттуда больше не выходили. Зато в сторону границы на поезде отправились журналист Кобаяси Хидэо и атташе посольства Коно Тацуити (в документах уголовного дела значится Коона Кацуми, но, очевидно, это ошибка — такого человека в посольстве просто не было, а атташе Коно Тацуити действительно закончил свою службу в Москве в декабре 1935 года). У японцев при себе был большой багаж, в том числе два здоровенных брезентовых чемодана. Руководство ОГПУ было почти уверено: именно в этих кофрах спрятаны пропавшие женщины. Пограничникам был отдан приказ — не допустить их перевоза через границу, не сообщая японцам, что о содержимом багажа пограничникам уже известно. Задачу было поручено выполнить начальнику оперативной службы отряда П. И. Босых.
Под благовидным предлогом на станции Негорелое японцев попросили перейти в другой вагон, а по пути пограничники, которые несли загадочные чемоданы, роняли их на рельсы, били их и даже прокалывали сапожным шилом. Всё было бесполезно. Лишь в самый последний момент в одном из кофров, через образовавшуюся от ударов щель, удалось нащупать человеческое тело. Марию Георгиевну и Надежду Николаевну Вегенер извлекли из чемоданов и арестовали. Причем японский атташе, по словам Босых, даже пытался применить оружие для их защиты — разумеется, безуспешно[247].
Японских дипломатов отпустили, и они проследовали далее обычным порядком. 15 марта 1936 года Особое совещание при НКВД СССР приговорило Марию и Надежду Вегенер за попытку нелегального побега за границу к… высылке из города Москвы сроком на три года. Приговор для 1936 года невероятный. Не расстрел, не тюрьма, не концлагерь, а высылка из Москвы. Осужденные уехали на новое место жительства в Воронеж. Объяснить такое решение ОСО НКВД, выносившее смертные приговоры сотням тысяч людей, даже не разбирая их дела, можно только одним — семья Вегенер имела особые заслуги перед НКВД и была за это помилована. Впрочем, Мария Вегенер умерла в Воронеже уже 5 июля. Причина смерти неизвестна. Сведений о дальнейшей судьбе ее дочери Надежды в архивах не обнаружено. Водитель подполковника Хата Леонид Яцевич был арестован 5 ноября 1937 года, осужден как японский шпион и расстрелян в январе 1938 года. Старшего брата — Владимира, возившего Кобаяси, тоже арестовали, судили по тому же обвинению, но дали пять лет. Вскоре он умер в Норильсклаге.
Судя по воспоминаниям дочери Владимира Яцевича, ее родители были в курсе мельчайших подробностей романа Надежды Вегенер и Кобаяси Хидэо. Вероятно, японский журналист согласился забрать с собой возлюбленную, надеясь пристроить ее где-то за границей, но мать Нади была против. Неизвестно как, но она смогла уговорить Кобаяси вывезти тайком их обеих. Однако Яцевич, будучи агентом НКВД, рассказал Киму или кому-то из членов его группы, что женщины решили бежать. Скорее всего, это произошло уже «задним числом», когда их таинственное исчезновение в посольстве было зафиксировано группой наружного наблюдения и доложено по команде. Можно представить, какая паника началась в НКВД, особенно если учесть, что Мария Вегенер действительно могла быть агентессой по кличке Рис. Спасти положение мог только человек, державший все нити управления агентурой в своих руках… Правда, эта версия никак не объясняет невероятно мягкого приговора ОСО и загадочной смерти матери и дальнейшего исчезновения дочери. Но разве это единственная тайна «коновода»?
Одна из самых больших побед советской контрразведки на японском направлении связана с агентессой по кличке Дочка. Под этим именем скрывалась генеральская вдова Елизавета Васильевна Перская, проживавшая в Мерзляковском переулке, 15, сдававшая комнаты внаем и в 1925 году приютившая у себя японского дипломата Идзуми Кодзо из открывшегося напротив посольства. Вдова генерала пошла на сотрудничество с ОГПУ не от хорошей жизни: в том же году по обвинению в контрреволюционной деятельности был расстрелян ее сын Дмитрий Александрович. Дочь Елена (1902 года рождения) служила в библиотеке Наркомата внутренних дел, младшая — Вера работала воспитателем в детском саду. Из-за гибели Дмитрия подозрение пало на всю семью, и мать приняла удар на себя, став тайным агентом органов.
Общительные и прекрасно воспитанные девушки были рады знакомству с японскими дипломатами. Известно, что вместе с неженатым Идзуми (серьезнейший прокол японского МИДа) в Мерзляковском переулке не раз бывал будущий посол Японии в СССР Сато Наотакэ. Очень скоро очарованный московским гостеприимством и красотой Перских Идзуми перестал скрывать симпатию к Елене Перской и попросил у Елизаветы Васильевны руки ее дочери. Свадьбу сыграли в 1927 году, незадолго перед окончанием командировки 37-летнего дипломата. Следующее назначение русист Идзуми получил в Харбин, жена и теща последовали туда вместе с ним. Там Елизавету Перскую принял на связь советский вице-консул и резидент ИНО ОГПУ Василий Пудин. В Харбине Идзуми представлял особый интерес для советской разведки, так как стало известно, что в посольстве он был допущен к шифрованию секретной корреспонденции. ОГПУ потребовало от жены Идзуми — Елены получить доступ к шифрам, но та, будучи беременной, ответила отказом. В 1930 году она родила в Москве ребенка, которого назвали Тоё, то есть «Дальний Восток» по-японски, но обратно в Харбин ее не выпустили. Идзуми удалось уговорить свое начальство вновь назначить его в Москву, где он узнал, что родила Елена не от него (к чести дипломата надо признать, что он всю жизнь относился к Тоё как к родному сыну), ребенок тяжело болен и что его жена связана с ОГПУ.
После долгих и драматических перипетий, служебных проблем и личных драм, переездов на Камчатку и в Европу супруги восстановили веру друг в друга, но полностью потеряли доверие ОГПУ. Через агентуру в японском посольстве чекистам стало известно о предательстве Елены. К тому времени (1934 год) она с мужем жила за пределами СССР, а вот ее мать — бывшая агентесса Дочка за измену родине получила десять лет лагерей. Сестру Веру и ее мужа, бывших в курсе сложных взаимоотношений Елены и Елизаветы Перских с ОГПУ, расстреляли.
Осенью 1937 года Елена Идзуми (Перская) пришла в советское посольство в Праге, где сообщила, что является женой японского дипломата, работающего в столице Чехословакии и отвечающего за шифропереписку, и попросила вернуть ей утраченное советское гражданство. После проверки советская разведка приняла решение возобновить связь с Еленой и завербовать через нее ее мужа. Операция прошла успешно, и вскоре Москва получила от Идзуми шесть японских шифровальных кодов, около ста шифротелеграмм японских посольств в Праге, Берлине, Лондоне, Риме и Москве. За последующие годы сотрудничества НКВД получил от Идзуми несколько тысяч совершенно секретных документов, а коды, представленные японским шифровальщиком, были актуальны вплоть до 1943 года. «Коды Идзуми», судя по всему, сыграли одну из ключевых ролей в принятии исторического решения Ставки о переброске дальневосточных дивизий под Москву. Вклад в победу советских войск японского дипломата бесспорен. Наградой стало освобождение Елизаветы Перской в марте 1941 года и ее воссоединение с дочерью и внуком, вернувшимися в СССР. Известно, что после войны они были живы — Идзуми Кодзо, всё это время исправно работавший на советское правительство, спрашивал Москву о своей семье и получил ответ, что Тоё учится в школе, а Елена и Елизавета находятся в психиатрической больнице. Бывший японский шифровальщик после войны вышел на пенсию, был разоблачен как советский агент, но не понес никакого наказания и умер в одиночестве на родине в 1956 году[248].
Дело Идзуми — одно из самых громких в истории противостояния советских и японских спецслужб в предвоенный и военный период. Неизвестно, был ли причастен к нему на начальном этапе (1925–1927) Роман Ким, но он в любом случае имел к нему отношение после начала работы Идзуми на НКВД в 1938 году, когда кроме Кима читать японские шифрограммы было почти некому. Кроме того, сам подход: вербовка на «медовой ловушке», шантаж с помощью ребенка, разрешение выехать за границу с целью поддержания контактов уже по линии внешней разведки — типичен для ОГПУ — НКВД тех лет. Причем, как мы увидим далее, такой прием использовался не только против неженатых японцев, но и для работы с семейными разведчиками. Продолжения и эффективность всякий раз были разными, но выход на вербовку — типовой. И еще одним ярким примером игры, в которой при желании можно увидеть руку Романа Кима (доказательств, как обычно, нет и не ожидается), является «дело Комацубара».
Глава 12 ГЕОРГИЙ ЖУКОВ ИЛИ РОМАН КИМ?
Вновь явлена миру наша слава — мощь Японии. И враг, и мы сами умрем от меча на поле брани. Для тех, в ком живет дух Ямато, настало время умереть! Тояма Тюдзан. Песнь обнаживших мечи[249]Подполковник Комацубара Мититаро занял должность военного атташе Японии в Москве одновременно с капитаном Коянаги. Его биография была богата событиями и, в отличие от коллеги-моряка, Комацубара был профессиональным разведчиком-русистом.
Родившись в 1886 году, он «пропустил» Русско-японскую войну, потому что в это время учился в Императорской военной академии в Токио. Окончив ее в 1905 году, четыре года «тянул лямку» в пехотном полку, а затем внезапно был отправлен в Россию в качестве помощника военного атташе в Санкт-Петербурге. За два года он познакомился с нашей страной и неплохо освоил русский язык. Вернувшись в Японию, продолжил военное образование и службу в разведке. В Первую мировую войну участвовал в осаде Циндао, зарекомендовал себя как смелый боевой офицер, успешно командовал пехотным полком, но вскоре снова вернулся в русский отдел военной разведки (4-я секция Второго отдела Генерального штаба). В 1919 году Комацубара опять отправился в Россию, но где именно он служил и чем занимался, до сих пор неизвестно. Впрочем, уже в 1920 году он вновь вернулся в Токио и, как специалист по России и русской армии, стал преподавать в своей alma mater. В феврале 1927 года подполковник Комацубара прибыл в Москву.
В ОГПУ знали об этом человеке достаточно много, чтобы начать действовать против него мгновенно. Помимо данных о его успешной военной карьере, глубоком знании России и высоком профессиональном уровне, чекистам были известны и слабости нового атташе: алкоголь, женщины, стяжательство[250]. По прибытии в Москву Комацубара пришлось, как и его коллегам, жить в стесненных условиях, и он был вынужден задержать приезд своей семьи. Только через полгода он подал соответствующую бумагу в Наркомат иностранных дел, и жена и сын подполковника отбыли из Токио на пароходе через Тихий океан и Европу в советскую столицу. Комацубара сам настоял на таком маршруте, мотивируя это тем, что недельный переезд по Транссибу может оказаться небезопасным. В результате воссоединение с семьей произошло только к концу 1927 года. Всё это время ОГПУ трудилось неустанно.
Неудивительно, что у Комацубара появилась русская любовница. Мы не знаем, кто она, но известно, что операция, сорвавшаяся с Коянаги, здесь имела успех: Комацубара, будучи в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, потерял ключи и печати от сейфа военного атташе. Подполковнику инцидент сошел с рук, равно как незамеченными в Токио оставались излишества, которым он предавался в «скучной Москве». Профессор Куромия пишет, что Комацубара вел «красочную сексуальную жизнь до самой смерти, оставаясь, естественно, в браке», и приводит один любопытный эпизод. В 1960-х годах некий японский ученый-филолог приехал на международную конференцию, проводившуюся в советском Таллине. В гостинице к нему подошла женщина и, не представившись, спросила, не знает ли он что-нибудь о судьбе генерала Комацубара, бывшего когда-то военным атташе в Москве. Опешивший ученый не смог ей толком ничего ответить, а от самой таинственной дамы добился только признания в том, что в конце 1920-х годов она была любовницей Комацубара. История похожа на правду, ибо совершенно непонятно, зачем такая провокация могла бы понадобиться КГБ. А бывшая агентесса, удалившись от дел, вполне могла переехать в тихую, похожую на Европу Прибалтику, где никто не мог ее узнать и припомнить давнишних московских подвигов.
В 1940 году Роман Ким в ответ на обвинения, что он был агентом Комацубара, утверждал, что, наоборот, японский подполковник был его «объектом наблюдения», и, само собой, участвовал в операции Роман Николаевич не в одиночку. Да и не только выемка ключей и печатей было ее целью. По мнению X. Куромия, Комацубара был успешно завербован либо на «медовой ловушке», либо на шантаже после того, как ему предъявили доказательства того, что совершенно секретные документы из его сейфа известны ОГПУ. На Международном военном трибунале для Дальнего Востока, чаще называемом просто Токийским трибуналом, среди обвинительных документов, представленных советской стороной, фигурировала совершенно секретная инструкция Генерального штаба Японии № 908 от 6 октября 1927 года. Документ был получен Комацубара из Токио в специальном пакете, прошитом и опечатанном сургучными печатями. Несмотря на то, что отправителем значилось Министерство иностранных дел Японии, инструкция в пакете действительно исходила от помощника начальника Генерального штаба генерала Минами Дзиро и адресовалась военному атташе в Москве. В ней излагались основы для развертывания более интенсивной разведывательной работы в СССР, способы организации антисоветской пропаганды и подрывной деятельности, включая конкретные, практические указания. На Токийском процессе генерал Минами пытался отказаться от авторства инструкции, но ему была предъявлена фотокопия, полученная в том же 1927 году из японского посольства в Москве, после чего бывший генштабист нехотя признал: «Я думаю, что было послано очень много таких писем»[251]. Источник получения фотокопии на процессе не назывался в оперативных целях.
Но это был только первый удар. К Комацубара был подведен «учитель русского языка» по фамилии Полонский. Началась операция «Генерал» или «Новый генерал». Оба эти названия были придуманы специально для прессы, и в оригинале у одной из самых грандиозных акций по дезинформации противника другой, неизвестный нам код. Точно так же и фамилия «Полонский» — лишь псевдоним бывшего подполковника Генерального штаба, подставленного чрезмерно активному японскому разведчику Кремлем с помощью специалистов контрразведывательного отдела ОГПУ, специального Бюро по дезинформации ОГПУ и Разведупра РККА. В ОГПУ этот агент носил оперативный псевдоним «Тверской».
Из агентурных данных, полученных из японского посольства (возможно, из рапортов самого Комацубара, после «потери» ключей регулярно поступавших из сейфов атташе и в Токио, и на Лубянку), ОГПУ стало известно, что подполковник «прилагает все усилия» для того, чтобы обзавестись агентом непосредственно в Штабе РККА и получать секретные данные о состоянии Красной армии прямо оттуда. Возможно, во время службы в Санкт-Петербурге Комацубара был свидетелем подобной успешной операции, проведенной военной разведкой, и теперь мечтал стать ее главным действующим лицом. «Полонский» идеально подходил на роль предателя — не старый еще человек, бывший военспец, дворянин, имевший все основания ненавидеть советскую власть, он трудился на генеральской должности в качестве гражданского специалиста в Штабе РККА, был допущен к секретной информации, но из-за низкого жалованья был вынужден преподавать русский язык иностранцам. Чрезмерная идеальность кандидатуры не смутила Комацубара, и однажды вечером в октябре 1928 года он «завербовал» Полонского во время прогулки по Серебряному Бору[252]. Комацубара был особенно доволен тем, что на сделку с ним Полонский пошел не по идейным соображениям, а за деньги, причем большие. Так же как в советской разведке выплата больших гонораров за «меморандум Танака» считалась неоспоримым доказательством его подлинности, так и японский шпион был уверен, что если человек продается задорого, то он действительно предатель. Разведывательный бизнес везде одинаков, и последствия таких рас-суждений одинаково катастрофичны для покупателей.
Интересно, что и в этом случае польская разведка, хорошо осведомленная о тайных операциях ОГПУ против японцев, предупредила Токио о том, что «Тверской» — «подстава» ОГПУ. «Оглушенные успехом японцы ответили на это, что подстав такого уровня не бывает — слишком ценной и правдоподобной была та информация, которую гнал Полонский в Токио», — рассказывал подробно изучавший операцию «Генерал» А. А. Кириченко в документальном фильме «Дуэль разведок. Гибель японского дракона»[253], снятом в 2004 году. «Тверской» был настолько хорош, а данные, полученные от него, казались такими правдоподобными, что японцы поверили Полонскому, а не польскому «кроту» в ОГПУ. Роман Ким на допросе раскрыл источники получения этих данных: «Я вел эти дезинформационные разработки с целью перехватить разведывательную работу местной японской военной разведки и подчинить ее контролю НКВД… В большинстве случаев материал для “дезов” брался из японских материалов — данные, получаемые ими от штабов других стран и не соответствовавшие действительности. Таким образом подтверждались ошибочные данные о дислокации РККА, новых частях и вооружении. Дезинформационный материал поступал из Разведуправления»[254].
Грандиозная операция по дезинформации японской разведки о состоянии Красной армии продолжалась вплоть до 1937 года, когда органами НКВД были арестованы все ее основные участники с советской стороны. Среди немногих выживших был Роман Ким. Генерал-лейтенант Хата Хикосабуро, когда его арестовали, кратко упомянул о «Тверском»: «Моим учителем русского языка был мужчина 45–46 лет, еще преподававший и моему предшественнику. Он ходил в неделю два раза. Впоследствии он умер от разрыва сердца. Фамилия его мне неизвестна»[255]. Признание довольно странное: не знать фамилию человека, с которым встречался два раза в неделю на протяжении двух лет, но быть в курсе причин его смерти, которая последовала несколько лет спустя. А. А. Кириченко в упоминавшемся уже фильме о противостоянии разведок заметил в связи с этим, что, когда Комацубара предъявили фото Полонского, японец «не узнал» своего учителя. Если бы чекисты не были в курсе истинного положения дел, Хата полностью отработал бы позицию ни к чему не причастного военного атташе, прикрывая «ценного агента», и никто ничего не заметил бы. Это говорит о том, что и в 1946 году уже проигравшие войну, но честно исполнявшие свой воинский долг японские разведчики искренне верили в правдивость сведений, полученных когда-то от «Тверского», а значит, операция «Генерал», или как бы иначе она ни называлась, была абсолютно успешной. Роль Романа Кима в этой истории туманна из-за до сих пор висящей густой завесы секретности, но вполне читаема аналитиками. Будучи то единственным, то ведущим «специалистом по японцам» в контрразведывательном отделе ОГПУ и непосредственно «курируя» всех субъектов операции «Генерал», он нес основную нагрузку и ответственность за успех операции. Он сам рассказал об этом в процитированном выше «признании» следователю, он же по праву должен был бы носить лавровый венок победителя.
Роль подполковника Комацубара, «завербовавшего» Полонского, убедившего Токио в том, что он действительно ценный источник, этим не ограничивалась. По убеждению ряда иностранных историков, ОГПУ провело в отношении шпиона-жизнелюба сложную многослойную акцию, и он, по всей видимости, дал согласие работать на советскую разведку. Убежденный в том, что получает настоящие секреты от «Тверского», Комацубара и сам передавал информацию — только в обратном направлении. X. Куромия подробно разбирает вероятность работы Комацубара на русских — с примерами и их анализом, насколько это возможно, учитывая опять же скудость имеющейся информации и ее закрытость. Так, летом 1929 года, в ходе пока еще политической фазы советско-китайского конфликта на КВЖД, Комацубара в специальном секретном меморандуме оповестил Токио о том, что Москва не готова ссориться с китайскими властями окончательно и не пойдет на дальнейшее обострение, способное привести к войне. 17 августа он подтвердил свое сообщение, опираясь на результаты встречи с шефом внешнеполитического отдела Штаба Красной армии. Япония в это время оценивала свои шансы в случае возможного вмешательства в конфликт и дележа КВЖД. Полные абсолютной уверенности сообщения ее военного атташе из Москвы успокоили Токио, и японцы, как говорится, проморгали стремительные наступательные операции советских войск в Маньчжурии, восстановивших статус-кво на железной дороге[256].
Вскоре после этого Комацубара вернулся на родину и два года командовал пехотным полком: обычная практика в японской разведке, где резидентов время от времени отправляли в войска, чтобы они не отвыкали от полевой жизни, всё время «шаркая по посольскому паркету». В 1932 году Комацубара вернулся к привычной службе в разведке, возглавив ее харбинское отделение (Японская военная миссия в Харбине). Именно за эти два года его службы там советская разведка получила из Харбина такое количество секретных материалов, что это поневоле наводит на размышления. Ничем подобным Лубянка и Арбат не могли похвастаться ни в 1931-м, ни в 1935 годах — до и после службы Комацубара в Маньчжурии. Часть этих документов, в том числе совершенно секретные планы использования против СССР бактериологического оружия, докладывалась лично Сталину, Ворошилову и Тухачевскому.
Еще один странный момент: 22 августа 1932 года на закрытом заседании Политбюро ЦК ВКП(б) рассматривалась секретная записка начальника Японской военной миссии (ЯВМ) в Харбине полковника Комацубара Мититаро с просьбой разрешить ему секретные переговоры в Хабаровске с командующими войсками Красной армии на Дальнем Востоке Блюхером и Путной. Обсуждение было настолько секретным, что даже фамилия японского полковника не называлась. В протоколе записывали только «О К.» — «О Комацубара»[257]. Встречу не разрешили, но поток секретных документов из Харбина после этого только увеличился.
В 1945 году, при пересмотре дела Кима, на него была подготовлена характеристика, объективно, в отличие от 1937 года, оценивающая результаты работы необычного контрразведчика: «Провалов по изъятию у японцев секретных документов не было… Путем этих операций были получены и затем опубликованы в прессе секретные японские документы, содержащие сокровенные планы японской военщины (в частности, относительно КВЖД)»[258].
Эпизод с КВЖД следует отнести к 1933 году, когда велись секретные переговоры о продаже дороги японцам. Велись трудно, договаривающиеся стороны никак не могли прийти к консенсусу, и диалог топтался на месте. В середине сентября Сталин получил в Сочи сообщение о том, что органами ОГПУ дешифрована телеграмма о готовящемся силовом решении проблемы — захвате КВЖД силами Квантунской армии под видом полицейской акции Маньчжоу-Ди-Го — марионеточного государства, образованного японцами в захваченной Маньчжурии. Наркомат иностранных дел честно предупредил посла Японии в Москве о имеющейся конфиденциальной информации. Токио пропустил предупреждение мимо ушей, и маньчжурская полиция арестовала шестерых высокопоставленных сотрудников конторы КВЖД в Харбине. 28 сентября НКИД передал ноту японскому послу в Москве Ота Тамэкити с сообщением о том, что «…по неопровержимым данным… эти мероприятия представляют собой начало осуществления детально разработанного плана, принятого в Харбине на совещании при Японской военной миссии с участием ответственнейших японских руководителей маньчжурской администрации. Правительство в случае необходимости опубликует полностью эти документы»[259]. Из самого текста ноты уже понятно, что материалы ОГПУ получило из самого Харбина, из Японской военной миссии. Начальником ее в тот момент был бывший военный атташе Японии в Советской России Комацубара Мититаро.
Японцы снова проигнорировали предупреждение Москвы, и 9 октября в «Известиях» были опубликованы секретные материалы: донесение посла Японии в Маньчжоу-Ди-Го Хисикари и генконсула в Харбине Морисима на имя министра иностранных дел Хирота. План провокации на КВЖД с упоминанием всех шести советских чиновников, которых предполагалось арестовать, был изложен в донесениях довольно подробно[260]. В этот раз советское правительство даже не стало ждать реакции японских властей, а через ТАСС разослало статью по японским газетам. Токио официально объявил опубликованные материалы фальшивкой, но отказался оспаривать их подлинность в частном порядке — на встрече советского полпреда в Токио Константина Юренева с представителем МИДа нашего дипломата просто попросили не публиковать в будущем подобных документов без предварительного ознакомления с ними японского правительства. Переговоры продолжились и, в конце концов, окончились успешно. Как мы помним, Романа Кима благодарили в итоге за изъятие секретных документов, но при чем тут он? Ведь очевидно, что источник утечки находился в харбинской Японской военной миссии, у полковника Комацубара. Вопрос остается открытым, но и командировку его в Харбин нельзя исключать только по той причине, что нам об этом пока ничего не известно. Учитывая же особый статус Комацубара, возможно всё.
После 1934 года уже генерал Комацубара, пользующийся абсолютным доверием Генерального штаба и Военного министерства Великой Японии, принял под командование 1-ю бригаду императорской гвардии, дислоцированную в Токио. 7 июля 1938 года он совершил последнее знаковое перемещение в своей служебной карьере, приняв в Маньчжурии 23-ю дивизию Квантунской армии. Это то самое соединение японских войск, на которое пришлась основная тяжесть боев у реки Халхин-Гол (Номонхан — в японских источниках) с конца весны по осень 1939 года. X. Куромия называет действия Комацубара при Халхин-Голе «одинаково сомнительными и безответственными»[261]. Это выразилось в постоянных спорах с собственным начальником штаба Оути, пытавшимся локализовать конфликт, и раздувании пограничной стычки в полноценную боевую операцию. По мнению даже японских военных, Комацубара, возможно, бывший неплохим разведчиком (они не знали об операции «Генерал»!), оказался бессильным военачальником на оперативно-тактическом уровне. Но и с точки зрения разведки Квантунская армия даже не представляла, какие силы советских войск могут ей противостоять. Дезинформационная операция, начатая 12 лет назад группой Кима и уже два года как завершившаяся, продолжала приносить плоды: японцы просто не понимали истинного масштаба сражения при Халхин-Голе и реагировали на происходящие события хаотично. Прибывший же в Монголию Г. К. Жуков быстро и жестко навязал им свою волю на театре военных действий.
Начальник штаба 23-й дивизии полковник Оути вскоре погиб загадочным образом — по официальному заключению, застрелился. После этого командование безальтернативно перешло в руки Комацубара, и, по выражению, полковника Суми, он настолько проявил себя как робкий, нервный, подверженный панике человек, что возникал вопрос: действительно ли у него есть военное образование? Результатом такого поведения стал не только разгром частей Квантунской армии, но и катастрофические потери 23-й дивизии, которой командовал Комацубара: около 80 процентов личного состава. Тем не менее еще в ходе сражения Комацубара пытался переложить вину за надвигающуюся катастрофу на других офицеров. Он вынудил совершить самоубийство начальника разведки дивизии подполковника Иоки и потом долго отказывался рассказать об этом его вдове и сыну, всячески выгораживая себя. Как часто бывает в армии любой страны, его двуличная позиция вынудила применить к нему неоднозначную меру: 6 ноября 1939 года он был отстранен от командования дивизией и… переведен сначала в Штаб Квантунской армии, а затем в Генеральный штаб, в Токио. Формально — с повышением, а по сути его просто отстранили от командования до завершения разбирательства.
Ровно через 11 месяцев, 6 октября 1940 года, генерал Комацубара внезапно скончался в госпитале то ли от рака желудка, то ли от язвы, то ли вовсе — совершив харакири. Существует версия, что в тот день в его палату заходил один из офицеров Квантунской армии 23-й дивизии с пистолетом в руке, но, как пишет X. Куромия, даже дознание по этому факту не проводилось. Профессор Куромия приводит в своей статье, правда, без ссылки на источник, и любопытный разговор, который якобы состоялся в начале 1941 года между Сталиным и Жуковым. Советский лидер спросил тогда триумфатора Халхин-Гола: «Почему вы, товарищ Жуков, убили генерала Комацубара? Он ведь знал тринадцать языков!» Жуков на это ответил, что если бы он знал, что Комацубара владеет тринадцатью языками, то непременно попытался бы спасти его. Правдив этот анекдот или нет, но особая сталинская ирония передана в нем очень точно. А если Комацубара действительно был агентом О ГПУ — НКВД, то сдерживаемая радость обоих персонажей понятна: со смертью японского генерала в могилу ушла одна из самых больших тайн первой половины XX века, и победа досталась не только советскому солдату, который, безусловно, вынес на своих плечах всю основную тяжесть «монгольской войны», но и триумфаторам в штабах.
Версия о том, что Комацубара работал на Москву, весьма соблазнительна. Если принять ее, становятся понятными не только пассивная позиция Японии во время конфликта на КВЖД и не только происхождение многих секретных материалов, попавших в Кремль. В конце концов, Комацубара мог искренне заблуждаться, а не специально работать против своей страны, а документы могли быть получены и от других агентов, и совпадение по времени со службой Комацубара в Харбине всего лишь случайность. Но если командир 23-й дивизии был агентом Сталина или, зная за собой «грешки», жил в страхе ожидания того, что «они придут», сами события на Халхин-Голе видятся несколько иначе. Для японской стороны они изначально рисовались неудачной попыткой локального прощупывания монгольской обороны. С советской — резкое масштабирование пограничного конфликта в небольшую победоносную войну стало серьезным предупреждением Японии и внезапным для нее выявлением истинной военной мощи Советского Союза. Оправдавшаяся уверенность в точности разведданных о возможностях японских войск и слабости их командования гарантировала эту победу. А то, что она вскружила многим начальникам, и прежде всего самому Сталину, голову — другой вопрос. Победа в Монголии обернулась тяжелейшей войной с Финляндией, но тут уж Комацубара точно ни при чем.
Предательство Комацубара объясняет его странное поведение во время самих боев — до этого никто никогда не упрекал его в трусости, помогает иначе взглянуть на причины трагического для японцев разлада в штабе дивизии, панику и полную потерю контроля над войсками. Жуков, наоборот, действовал уверенно до безрассудства — так, как будто знал всё заранее. И даже свою первую «Золотую Звезду» Героя Советского Союза он получил более чем за две недели до конца боев — настолько Сталин был уверен в скорой победе и в том, что никто (а кто, если врагом был «свой» Комацубара?) ничего Жукову противопоставить не сможет. Кроме того, японцы считают, что само начало боевых действий было до сих пор не выявленной советской провокацией. Если это так, ясно, что Комацубара сделал все, чтобы на эту удочку клюнуть. А профессор X. Куромия прямо говорит: «Без Комацубара Номонхан не случился бы». А если так и если разворачивать это высказывание в широкий стратегический контекст, получается, что в значительной степени заслуга в том, что в 1941 году Япония, хорошо запомнившая монгольский урок и так и нерешившаяся начать войну на севере, ушла вместо этого на Тихий океан и дала возможность Сталину перебросить «сибирские» дивизии под Москву, принадлежит группе неизвестных нам чекистов, завербовавших в 1927 или 1928 году слишком самоуверенного подполковника японской разведки Комацубара Мититаро. Пока же реальность такова: известна только версия о предательстве Комацубара и, вероятно, со временем в ее пользу будут появляться всё новые и новые свидетельства. Да и те чекисты из группы, работавшей с подполковником Комацубара, уже не безвестны, как раньше. Малочисленность восточников в структуре ОГПУ дает возможность утверждать, например, что в их число входил Александр Гузовский, с 1 декабря 1928-го по 1 ноября 1929 года — секретный сотрудник ОГПУ, востоковед, одновременно учившийся в Московском институте востоковедения (не у Кима ли с Шунгским?), перед войной возглавивший 2-й (японский) отдел контрразведывательного управления НКГБ НКВД СССР. Ну и, конечно, сам Роман Николаевич.
После 15 июля 1939 года, когда очередное следствие по его делу было в самом разгаре, а в Монголии в это время сражение шло полным ходом, это самое следствие внезапно остановилось. «Согласно приказания Народного комиссара внутренних дел Союза ССР — комиссара государственной безопасности 1 ранга тов. Берия», подследственный Ким P. Н., обвиняемый в государственной измене и шпионаже в пользу Японии, был «использован для выполнения спецзадания»[262]. Что это было за спецзадание и где Роман Николаевич его выполнял, мы не знаем сейчас и вряд ли узнаем в обозримом будущем. Но совпадение по времени с событиями на Халхин-Голе — не случайность. Таких случайностей не бывает. Кима и других участников длившейся более десяти лет операции «Генерал» вполне можно охарактеризовать знаменитой фразой Черчилля: это те немногие, которым обязаны жизнью очень многие. Даже если бы служба Кима в контрразведке ограничилась бы вербовкой Комацубара и дальнейшим участием в дезинформации японского Генерального штаба, одним этим фактом он достоин был бы войти навсегда в историю России. Но тогда это была просто работа и, помимо Комацубара, Роман Николаевич обрабатывал едва ли не каждого прибывавшего в Москву японского разведчика. «Москва инициировала операцию “Генерал” с Комацубара, которая продолжалась до 1937 года. Без Кима она не могла быть такой успешной. Уверен, что Ким был причастен к многим другим операциям и привлечениям агентов», — считает профессор Куромия[263], и к этому трудно что-то добавить. Разве что еще несколько других успешных примеров работы Романа Кима с японскими разведчиками.
«Я проводил вербовки японцев… я заставлял намеченных японцев идти на вербовку, располагая на них [компрометационными] материалами…» — признавался Ким на следствии и на суде[264]. Не его вина, что в результате репрессий 1930-х годов или неспособности разведки поддержать коллег результаты усилий контрразведки на японском направлении были сведены к минимуму. Так произошло, например, с делом некоего майора Мидзуно. В списках японских дипломатов, служивших в СССР, такой человек не значится. Скорее всего, этот Мидзуно Кэйдзо был японским военным стажером, прикомандированным к атташату в Москве и не имевшим дипломатического статуса. В таком положении иностранец в Советском Союзе был особенно уязвим, и весной 1936 года Ким провел его успешную вербовку. Основания для подхода неизвестны, но можно предположить, что это всё та же «медовая ловушка». Мидзуно в мае того же года отправился в Польшу, формально — для стажировки в 58-м Великопольском пехотному полку. На самом же деле есть основания считать «стажера» офицером Второго управления Генштаба — разведчиком, чью подготовку для работы против Красной армии поляки форсировали с осени 1934 года. Долгой работы с ним не получилось. Ким вспоминал потом, что «майор дал нам дважды материалы бесспорной ценности», но на этом всё и закончилось. В сентябре 1936 года Ким выезжал на тайную встречу с ним в Чехословакию. Прожив десять дней в Праге, Роман Николаевич дважды встретился с Мидзуно в отеле «Terminus» (сейчас он называется «King David Prague» и предназначен главным образом для богатых еврейских туристов, располагая специальной кухней для приготовления кошерных блюд). От Мидзуно Ким получил «письменную информацию о расположении разведывательных пунктов японской разведки на Западе». Странный стажер сразу после этого прекратил обучение в Польше и вернулся в Токио для продолжения службы в военном министерстве, и связь с ним была утеряна[265].
Еще один загадочный японский офицер, не числящийся в списках дипломатических представительств — капитан-лейтенант Инаиси. В отличие от непоколебимого Коянаги, «был завербован в результате комбинации через агента “Б”», став агентом по кличке Адмирал. Моряк не дал «ничего особо ценного, кроме нескольких донесений…» — видимо, тоже был прикрепленным стажером. С ним работали только в Москве, но по крайней мере до 1940 года он находился в поле зрения НКВД[266].
Сложнее обстояло дело с майором X. Эту одну из самых драматических историй хорошо знают наши японоведы благодаря множеству публикаций, в которых, однако, до сих пор не раскрывалась роль ее инициатора — Романа Кима. История эта, возможно, неприятна детям и внукам некоторых еще ныне здравствующих лиц, поэтому имена действующих лиц изменены. Но такова реальность нашей страны, ее сложной истории, отказаться от которой невозможно, потому что она часть нас самих.
Капитан X., выпускник Императорской военной академии, был выбран в числе четырех человек для изучения русского языка во время стажировки в Красной армии. Соглашение об обменах стажерами было подписано между СССР и Японией в 1927 году и постоянно продлевалось. Весной 1935 года, после подписания очередного протокола о продлении, новые группы молодых разведчиков отправились «в логово врага». Капитан X., прибывший из Японии в Европу, въехал в СССР через польскую границу, получив, очевидно, там соответствующий инструктаж, и отправился в Ленинградский военный округ. Капитан происходил из древнего и очень известного в Японии самурайского рода и был примерно ровесником Романа Кима. Так же, как Ким, X. запутывал биографические данные: в одних документах, составленных на границе, указал год рождения 1901, в других — 1899. Жена капитана, сын и дочь остались в Токио. X. мог изъясняться только на французском и английском языках. Поэтому русский ему назначили преподавать сотрудницу Интуриста, окончившую французский колледж, Елену Н. Женщина уже побывала замужем и имела дочь.
У пары сразу установились близкие отношения, которые, как нередко бывает в жизни, противоречили здравому смыслу и планам НКВД. Влюбленные проводили вместе всё свободное время, даже отпуск в Гаграх в августе 1936 года. Не стеснялись вдвоем появляться на людях, фотографироваться — для 1935–1938 годов это были безумные по смелости шаги, но за спиной у Елены всегда маячил «ангел-хранитель» и «сатана» из НКВД в одном лице — Роман Ким, специально выезжавший в Ленинград для встречи с агентом (вербовку вместе с Кимом осуществляли сотрудники НКВД Мигберт — из местного, ленинградского управления, и Левит — из иностранного отдела, с прицелом на дальнейшее использование X. в Японии). В январе 1938 года у Елены и X. родился сын. Его по всем правилам зарегистрировали в загсе, указав имя и национальность отца. Редкий случай, но похоже, эти двое действительно любили друг друга, понимая, что ничего хорошего их впереди не ждет.
В июле того же 1938 года уже майор X. получил приказ о срочном возвращении в Японию в связи с обострением обстановки на границе с Советским Союзом. Органы НКВД согласились отпустить Елену с ним (!), но не дали разрешения на выезд дочери, и они остались в Советском Союзе. Понимая, что с японским именем ее сыну придется несладко, она переписала его свидетельство о рождении. Связь с майором X. оборвалась, хотя могла бы дать очень много — войну он закончил в звании генерал-майора, командующего токийской зоной ПВО.
Возможно, именно о нем говорил Ким на следствии: «“Майор” дал нам дважды материалы бесспорной ценности. Он был завербован только перед самым отъездом, потому что руководство не разрешало мне форсировать разработку. С ним можно связаться и теперь»[267]. А может быть, речь шла и о каком-то ином, неведомом нам «майоре»…
Сын майора X. нескоро узнал о том, кто был его настоящим отцом. Елена очень не любила рассказывать о прошлом, хотя благополучно, без всяких репрессий дожила до демократичного 1992 года. Уже после ее смерти сын нашел своих родственников в Японии и побывал у них в гостях, но это уже совсем другая история.
Роман Ким работал с японцами не только через своих любительниц «ловить коней». В 1936 году коммерческим секретарем посольства был назначен Танака Косаку. Стечение обстоятельств почти фантастическое: этот Танака (не путать с Танака Ватару и японским коммунистом Танака) во Владивостоке был слугой… Сугиура Рюкити — приемного отца Кима! Неясно, как именно работал Роман Николаевич с Танака Косаку, но должность коммерческого атташе тоже представляла интерес для О ГПУ, как политической и экономической разведки. Сменил старого знакомого Кима другой его старый знакомый — Каватани Кодзаэмон, с которым Романа Николаевича когда-то познакомил Отакэ Хирокити. Про Каватани известно точно: у него была учительница русского языка из числа агентов ОГПУ — НКВД и Ким «разрабатывал его связи»[268].
С коммунистом же Танака (это был псевдоним, его настоящее имя Ямамото Кэндзо) Ким познакомился в конце 1920-х, после того, как тот в 1928 году эмигрировал из Японии в Советскую Россию. Обстановка в японской компартии оставалась, мягко говоря, нестабильной, и у Коминтерна были серьезные подозрения, что в ряды японских коммунистов проникли шпионы и провокаторы. Надо отдать им должное, японцы сами, как могли, удобряли почву для таких опасений. Ямамото, формально холостой, но живший с соотечественницей, коллегой по борьбе, по имени Мацу, закрутил в Москве роман с женой лидера японской компартии в Москве — Носака Сандзо, пока тот четыре года выполнял разведывательные поручения Коминтерна в Калифорнии (позже его признали одним из слабых звеньев, из-за которых японская полиция вышла на след Зорге). Вернувшись, Носака не стал терпеть проделки товарища по борьбе и 22 февраля 1939 года написал на него донос в НКВД, обвинив в работе на военную жандармерию кэмпэйтай и политическую полицию токко. Танака — Ямамото, а с ним еще десяток японских коммунистов, живших в Москве, расстреляли, а Мацу умерла в лагере. Эту историю престарелому Носака припомнили аж в 1992 году, после чего он был вынужден выйти из партии и вскоре умер. Роман Ким знал правду еще тогда — в 1930-х. Его агент «X» — старый кишиневский еврей Осип (Иосиф) Гузнер, работавший в малоприметных трестах, а потом и вовсе театральным билетером, был важным внештатным сотрудником Романа Николаевича. По заданию ОГПУ — НКВД Гузнер сдавал комнаты гостям из Японии в квартире с телефоном на 2-й Мещанской, 27. Жил там и Танака. В архиве литературы и искусства хранятся до сих пор не опубликованные дневники сына Осипа Гузнера Григория, писавшего под псевдонимом Гаузнер. Женившись на дочери известной поэтессы Веры Инбер, Григорий стал дальним родственником Льва Троцкого, а этот персонаж в то время особенно интересовал ОГПУ. Но Гузнер умер еще молодым, не дожив до массовых репрессий, и благодаря этому его дневники сохранились. В них есть такой забавный пассаж: «Танака дает объявление: “Иностранцу нужна учительница”. 40 женщин. Водевиль, когда они приходят по 5 и по 6, советуются на лестницах, толкутся в дверях… Маруся совсем сбилась с ног. Выбрал троих»[269]. Учительница, а возможно, все трое — на всякий случай, конечно, были выбраны заранее ОГПУ.
Узнавая новые и новые факты о том, как функционировала «паутина Кима», не перестаешь удивляться: как он всё успевал, держал в голове? Особенно если вспомнить, что параллельно Роман Николаевич преподавал в Военной академии и Московском институте востоковедения, делал переводы, консультировал писателей и сам публиковал весьма серьезные статьи в толстых журналах. Причем по японским писателям работал особо.
Старая большевичка Анна Григорьевна Кравченко, работавшая ответственным редактором журнала «Школа взрослых», рассказала на следствии в 1937 году, что в конце лета 1935 года ей на квартиру позвонил сотрудник НКВД, представившийся Романом Николаевичем… Караваем, и попросил Кравченко зайти на Лубянку для разговора — она была прикреплена от журнала к японским русистам Юаса Ёсико (упоминается в статье Кимура) и Ёкэмура Ёситаро (в документах НКВД — Иокемуро), работавшим в то время в Москве. «Каравай попросил меня лично провести беседу с Иокемуро, указав, что нам важно, чтобы Иокемуро уехал из СССР наиболее советски настроенным, так как он может быть полезен для нас среди японской интеллигенции». Каравай дал Кравченко, которая, конечно, согласилась работать на НКВД, свой домашний адрес, и в дальнейшем они встречались около десяти раз, обсуждая детали «обработки» японского профессора в «советском духе». Встречались в «доме НКВД по Троицкому переулку», где удивленная Анна Григорьевна в первый же приход узрела на двери квартиры своего куратора табличку: «Ким P. Н.»[270].
При такой занятости и разбросанности Ким-Каравай физически не мог успеть всё. Перед самым арестом, в марте 1937 года помощник начальника отдела кадров НКВД В. С. Остроумов (его расстреляют два года спустя) отметил в деле Кима: «…недостаточно работает над подготовкой японистов», но это оказались сущие мелочи по сравнению с проблемами, возникшими у Кима в оперативной работе[271]. Уже будучи в тюрьме, Роман Николаевич одновременно и жаловался, и оправдывался: «В 1936 году Николаев приказал взять мне работу по линии японских дипломатов только для подготовки специальных операций. Когда я ему заявил, что у меня только два работника: Калнин и Каравай, и что нам троим нельзя обслуживать все линии японского сектора, Николаев заявил: “Весь сектор вы берете на время, потом передайте заместителю начальника отдела” (ожидался приход Уманского из немецкого отделения)… Мы трое взялись. Фактически, работу по дипломатам вел Калнин, который докладывал все дела непосредственно Николаеву.
Работой по дипломатам я был недоволен, я не мог с ней справиться. Специальную операцию “X” Гай не разрешил. Из лиц, которых нужно было изъять, мне разрешили арестовать (и то после долгих споров, со ссылками на НКИД) Миронова и связанных с “X”… Придя к заключению, что с дипломатами у меня ничего не выходит, я отказался от нее, как это было бы ни тяжело для самолюбия, и настоял на передаче этой линии в руки работника, который справлялся лучше меня, а не заместителю начальника отделения Соколову, которого я считал совершенно неспособным работником. По дипломатам я позорно провалился и признал это еще до ареста. Со специальной операцией у меня ничего не вышло»[272].
Небольшая расшифровка к приведенной цитате из архивно-следственного дела Кима: Николаев — это Рамберг Израиль Моисеевич, «карьерный чекист», не знавший и не понимавший, что такое «работа в поле». В то время он был начальником 6-го отделения Особого отдела ГУГБ НКВД. Его арестовали через несколько дней после Кима и расстреляли пять месяцев спустя, но, пока его допрашивали, Николаев-Рамберг успел дважды дать «изобличающие показания» на Романа Кима как на японского шпиона.
Павел Калнин, наоборот, арестовывал самого Кима, но благополучно пережил и репрессии, и войну. Каравай, скорее всего, совсем другой Каравай — не Роман Николаевич, который оказался Кимом, а Каравай Сергей Андреевич, молодой сотрудник, в органах госбезопасности служивший всего-навсего с 1933 года, дожил до Великой Отечественной войны. Уманский Михаил Васильевич (Гюнзберг Маврикий Карлович) — как ясно из текста, специалист по европейским делам, расстрелян в июне 1937 года. Начальник Особого отдела ГУГЮ НКВД СССР Марк Исаевич Гай расстрелян на день раньше Уманского. Еще остаются загадочные Соколов и неизвестный оперативник, высоко оцененный Кимом. Получается, что людей в 6-м — японском — отделении Особого, а затем Контрразведывательного отдела ОГПУ — НКВД было раз, два и обчелся. При этом Ким был единственным знавшим японский язык. То есть специалистов по стране наблюдения, кроме него, практически не было. Такого уровня — не было точно.
Интересна еще оговорка о том, кого хотел «изъять» Роман Николаевич в 1936 году и почему это ему сделать не разрешили. Изъять — значит арестовать. Во время службы в НКВД Роман Ким был «интеллигентом в очках». Он был причастен к арестам и прочим силовым акциям и против японцев, и по отношению к советским гражданам, в чьей виновности был убежден.
Судя по протоколам допросов, у Романа Николаевича непросто складывались отношения по службе и с начальниками, и с подчиненными. Николаев-Рамберг сам решил завербовать (через агентов «Салтыкову» и «Петра Константиновича») корреспондента газеты «Симбен рэнго» Оката (в документах НКВД — Ооката или «О»). Ким проанализировал данные на «журналиста»: раньше служил в осведомительном отделе харбинской конторы Южно-Маньчжурской железной дороги — одном из центров японского шпионажа в Северо-Восточном Китае, сейчас в Москве. «Судя по агентурным данным, всё время изображал из себя рьяного советофила, то есть сам лез на вербовку. А когда японец, а тем более бывший сотрудник осведомительно-исследовательского отдела… то есть кадровый разведчик, напрашивается на вербовку — это значит, его ни в коем случае нельзя вербовать»[273].
Тем не менее Николаев-Рамберг «завербовал» Оката, но Ким настоял на том, чтобы нового агента показали ему. «Я виделся с ним два раза… и вынес впечатление, что ничего ценного он не даст. Я потребовал, чтобы он дал подписку и писал донесения письменно, но “О” отказался. Николаев, увидев, что я нажимаю на “О”, стал встречаться с ним без меня. За всё время работы “О” в качестве завербованного так и не дал ни одного клочка бумаги, написанного им…»[274]
Глава 13 «ИЗВЕСТИЯ» УПОЛНОМОЧЕНЫ ЗАЯВИТЬ
…Пикет обойди кругом, Чей облик он принял, открой, Стал ли он комаром Иль на реке мошкарой? Сором, что всюду лежит, Крысой, бегущей вон, Плевком среди уличных плит — Вот твое дело, шпион! Р. Киплинг. Марш шпионов[275]Капитан 1-го ранга Коянаги не зря сражался с русскими женщинами и загадочным «доктором» за свои ключи как за родину предков. В сейфах посольства, военного и военно-морского атташатов хранились ценности, за которые любая разведка мира могла отдать очень многое. Особенно разведка советская — речь-то шла о потенциальном и весьма вероятном противнике, скрестить штыки с которым предполагалось очень скоро. Вообще, чужие сейфы чекисты вскрывали везде, где только могли, куда дотягивались их руки. Подробные и захватывающие воспоминания о том, как это было в Европе, оставил знаменитый нелегал ИНО ОГПУ, работавший в Европе (кстати, тоже не без помощи своей супруги) Д. А. Быстролетов[276]. Съемка секретных документов под столом с низко опущенной скатертью, тончайшие хирургические перчатки, специальная фототехника, быстро щелкающий затвор камеры и максимальное напряжение нервов — враг всего-навсего за дверью, и в любой момент жизнь может кончиться! Но смельчакам везет, и в 1935 году именно таким путем Быстролетов добыл шифр японского посольства в Голландии[277].
Наш противник в Японии работал примерно так же — с поправкой на географические реалии. Дочь советского полпреда в Токио М. М. Славуцкого вспоминала: «Как-то я проснулась ночью, долго ворочалась и никак не могла заснуть. Жалюзи моей комнаты были, как всегда на ночь, задвинуты и на запоре, а окна распахнуты на балкон из-за летней жары. Вдруг слышу, внизу лязгает задвижка железной двери, ведущей на винтовую лестницу, затем легкие шаги по лестнице. Я поднимаю голову и смотрю на балкон: мимо меня по балкону торопливо проскальзывает силуэт маленького человечка. Шаги, слышу, ведут дальше вдоль гостиной к кабинету отца. Слышу, как гремят приотворяющиеся жалюзи — и тишина. Я вскакиваю и с криком несусь в спальню родителей, которая находится далеко от моей комнаты, бужу их: “Сейчас из сада в кабинет кто-то прошмыгнул. Мимо моей комнаты по балкону. Я видела, видела”…Утром я продемонстрировала отцу, как можно забраться на каменные перила из сада, затем на решетку над железной дверцей и — в проем между решеткой и каменным сводом переползти внутрь. Конечно, взрослый человек нормальной комплекции не смог бы, а вот миниатюрный японец… Отец вроде бы задумался, но мне ничего не сказал. Похоже, японская разведка здорово “обложила” нас в Токио»[278].
А в Москве орудовали свои синоби — ниндзя, в определениях P. Н. Кима. По рассказам ветеранов японского отдела контрразведки, изначально посольство, находившееся в 1920–1930-х годах в знаменитом «доме Суворова» на улице Герцена, 42, по ночам вообще не охранялось. Дипломаты, как мы помним, жили либо на съемных квартирах, либо, как ни нелепо это звучит, в общежитии неподалеку (впрочем, еще в начале 1960-х сотрудники советского посольства в Токио тоже жили в коммуналках). Исключение составлял посол, которому была выделена резиденция на Воздвиженке, 16, в мавританском особняке Арсения Морозова, и военно-морской атташе, который жил там же, где и работал.
Посольство же, занявшее прелестный дворянский особнячок с парадным крыльцом, выходившим к церкви, где венчался Пушкин (сохранилась кинохроника, на которой видно, как подъезжает к крыльцу посольский автомобиль с флажком «хиномару» на капоте), по окончании рабочего дня просто закрывалось на замок и опечатывалось. Со временем меры безопасности усилили, но всё равно ночную охрану японского дипломатического представительства несла рабоче-крестьянская милиция, не мешавшая, а помогавшая «советским ниндзя» незаметно пробираться в особняк. По воспоминаниям ветерана КГБ полковника А., ирония судьбы заключалась в том, что посол Хирота был невысокого мнения об охране собственного особняка и предпочитал хранить особо секретные документы в сейфе военного атташе, откуда их и забирал Роман Ким[279].
Поэтому и главная задача «ниндзя с Лубянки» была проста и определенна: заполучить ключи от сейфов, которые привозили из Японии, и оттиски печатей, чтобы по завершении операции не оставлять следов своего пребывания. Работал Роман Николаевич сам, лично. Ночью проникал в посольство, имея при себе кожаный портфель, в котором находилась не самая портативная фотокамера со вспышкой. В 1936 году Ким купил себе новый портфель. То ли из озорства, а скорее всего, опасаясь банальной кражи, на дне выцарапал иголкой псевдоним, который придумал для себя — К. Саори — «Ким Сеул», «Ким Сеульский» в память о своем корейском происхождении. «На дело» выходил после полуночи. Из-за разницы во времени дипломаты засиживались на службе подолгу, да и спокойнее было в Москве ближе к рассвету.
Однажды тайный визит в посольство едва не стал для Кима финальным. Много лет спустя, уже в 1960-х, он рассказал эту историю Андрею Федорову — приемному сыну своего друга и родственника Владимира Александровича Шнейдера, а тот поведал автору этой книги. Как обычно, проникнув в посольство, Ким вошел в нужный кабинет и вскрыл сейф. Изъял бумаги, отобрал представлявшие наибольшую ценность и перефотографировал их. Аккуратно сложил всё обратно, закрыл и опечатал несгораемый шкаф, незамеченным выскочил из посольства и помчался на Лубянку. И только по дороге понял: фотоаппарат он оставил на столе в кабинете! Ситуация невероятная, такое и в кошмаре не привидится. Что делать? Добежав до Лубянки, Ким бросился за советом к Шнейдеру, который служил в оперативном отделе. Непосредственно по работе они не соприкасались, их связывали дружеские отношения. По счастью, чекисты работали в «сталинском режиме» — ночь напролет и домой уходили только утром.
Шнейдер, выслушав Кима, сориентировался быстрее незадачливого «ниндзя». Они снова помчались к посольству. Снова пошли в дело дубликаты ключей и печатей от закрытых и опечатанных Кимом дверей. В тот момент, когда забытая камера была, наконец, положена в кожаный портфель, на улице раздалось фырканье мотора и к парадному крыльцу, что напротив церкви, подкатил посольский автомобиль. Подвела разница во времени — в Токио уже начался день, и дипломаты спешили принять новости из МИДа. Друзья заметались по комнатам. Выйти навстречу входящим нельзя. Они всё поймут, сменят печати и ключи. Затаиться — глупо и бессмысленно. Снова первым сообразил Шнейдер. Роман Николаевич успел закрыть и опечатать сейф. Этого было достаточно. Шнейдер тем временем похватал с полок ценные на вид безделушки, столовое серебро, завернул всё это в скатерть, а Ким метнул, что попалось под руку, в окно. Со звоном лопнуло и посыпалось на тротуар стекло, засвистел постовой милиционер, но чекисты уже выскочили через разбитое окно на улицу. Ворвавшимся на место происшествия японским дипломатам предстала картина неудачного взлома. Оставалось только рассказать обо всём муровцам, наказать охранявших здание милиционеров и поместить заметку о попытке ограбления японского посольства.
Что и говорить, поверить в эту историю трудно, но возможно, если вспомнить не только об особенностях охраны японского посольства, но и о том, что Роман Николаевич, как настоящий ученый, был довольно рассеян и дважды (!) получал выговоры за утерю служебного удостоверения сотрудника госбезопасности: в 1932 и 1935 годах. Это при том, что обычные его характеристики были более чем похвальные и в них особо отмечали хладнокровие и сосредоточенность японоведа в специальных операциях: «…Отношение к выполняемой работе вполне добросовестное, большая работоспособность и интенсивность работы, отмечается углубленная проработка вопросов, имеет склонность к агентурной работе. В работе не теряется, сообразителен, находчив, наблюдателен, точен и умеет ориентироваться. Хорошо ориентирован в дальневосточных вопросах. Участвовал в операциях сугубо чекистского порядка с прекрасными результатами (по контрразведывательной линии). Операции требовали большой чекистской выдержки и оперативной сноровки»[280].
Несмотря на наличие завербованных агентов, им ни в коем случае нельзя было доверять безусловно. Японцы и сейчас, а тогда — особенно, воспитываются в духе патриотизма и стойкости. Уважение к профессии шпиона — особой касты защитников родины тоже прививалось с детства, а потому каждый японец, попадая за границу, мнил себя шпионом. Даже шантажируемые, скомпрометированные японские дипломаты могли решиться на признание своей вины перед империей и начать работать в качестве двойных агентов. Следовательно, их необходимо было постоянно перепроверять. Причем так, чтобы об этом не знали ни они сами, ни их руководство. Мы до сих пор не знаем, каким образом была добыта совершенно секретная инструкция № 908 для военных атташе, упоминавшаяся в предыдущей главе. Показал сам Комацубара? Перефотографировала специальная служба ОГПУ, занимавшаяся тайным досмотром дипломатических вализ? Достал из сейфа Комацубара лично Роман Николаевич? Возможен любой вариант. Так или иначе, вскрытие сейфов посольств и атташатов было, пожалуй, лучшим способом получения и перепроверки секретных материалов.
Из сейфов Ким выуживал документы, недоступные агентам, или те, о которых завербованные японцы «скромно умолчали», — как правило, это и были истинные жемчужные россыпи в море секретной информации. Скорее всего, именно таким образом в конце 1927 года ОГПУ получило с его помощью фотокопию пятидесятистраничного доклада майора разведки Канда Масатанэ под названием «Материалы по изучению подрывной деятельности против России». Программный документ состоял из нескольких частей, скомпонованных по схеме «от общего к частному».
В первом разделе излагались «Общие принципы подрывной деятельности против России», указывалось на необходимость многообразного подхода к подрывной работе японской разведки против СССР по всему миру. Давались рекомендации по обострению национальных, экономических, классовых конфликтов внутри страны и сохранению постоянной напряженности в отношениях России с соседями. Одной из главных задач японская разведка считала не дать стянуть на Дальний Восток крупные силы Красной армии в случае вооруженного конфликта. Для этого требовалось принять меры по выведению из строя транспортных коммуникаций, в первую очередь Транссиба, нарушению телефонной и телеграфной связи, проведению диверсий в тылу и т. д.
Второй раздел доклада рассматривал способы развертывания антисоветской пропаганды и агитации в Восточной Сибири и на Кавказе — «вплоть до создания там в момент перехода страны на военное положение антисоветских правительств». Приложение к докладу называлось «Важнейшие мероприятия мирного времени на Дальнем Востоке в связи с подрывной деятельностью против России» и содержало более конкретные рекомендации по подготовке к войне в Приморье и Забайкалье[281]. Доклад Канда был получен в посольстве Японии в Москве, а затем его полная фотокопия оказалась на Лубянке, откуда была передана в Кремль — высшему руководству страны.
Пятнадцатого ноября 1930 года военный атташе Японии в Турции майор Хасимото Кингоро (не только разведчик, но идейный ультранационалист, один из лидеров обществ «Сакуракай» и «Дай Ниппон сэйненто» и тоже будущий подсудимый Токийского трибунала) подготовил доклад для Генерального штаба: «Положение на Кавказе и его стратегическое использование для диверсионной деятельности против СССР». Цель работы — «вызвать обострение отношений между отдельными народностями Кавказа и в результате создать хаотичную обстановку на Кавказе». Фотокопия этого документа, отправленного в японский военный атташат в Москве, попала в руки ОГПУ, а после войны была приобщена к материалам Токийского процесса[282]. К докладу Хасимото приложили справку о том, что получен он был по линии Разведупра Штаба РККА в 1935 году в Японии — несложный ход с целью скрыть настоящий источник получения этой и большинства других секретных инструкций, перефотографированных «рассеянным человеком в очках», внешне так похожим на японца.
С осени 1931 года, после «маньчжурского инцидента» и с началом активных действий Японии в Китае, информация от агентов из военного атташата и добытая из посольских сейфов стала носить характер особой — политической — важности. И Роман Ким, как стахановец, «давал» ее Кремлю. Еще 1 июля в Москве, в кабинете посла, состоялась встреча, на которой присутствовали сам глава миссии — эксминистр иностранных дел, экс-разведчик и мастер дзюдо Хирота Коки, военный атташе в Москве, профессиональный разведчик подполковник Касахара Юкио и только что прибывший из Японии генерал-майор Харада Дзиро. Генерал был направлен в Европу Генеральным штабом в связи с предстоящими событиями в Маньчжурии. Ехал поездом, по Транссибу, и встреча в Москве была для него одним из важнейших этапов командировки. В беседе с послом Хирота и подполковником Касахара необходимо было расставить все точки над «i» по части реакции Москвы на готовящееся выступление Квантунской армии. Военный атташе, как младший по должности и званию, вел протокол секретной встречи. Строго говоря, это был даже не протокол, а короткая памятная записка, отражающая мнение посла Хирота по поводу готовящихся военных действий. Вот ее текст: «Посол Хирота просит передать его мнение начальнику Генштаба Японии относительно государственной политики Японии: “По вопросу о том, следует ли Японии начать войну с Советским Союзом или нет, считаю необходимым, чтобы Япония стала на путь твердой политики в отношении Советского Союза, будучи готовой начать войну в любой момент. Кардинальная цель этой войны должна заключаться не столько в предохранении Японии от коммунизма, сколько в завладении советским Дальним Востоком и Восточной Сибирью”»[283].
Кроме того, в ожидании прибытия высокого гостя из Токио Касахара сам подготовил восьмистраничный доклад о положении в Советском Союзе, его вооруженных силах и действиях в случае начала войны между СССР и Японией. В докладе отмечалось, что, с одной стороны, «в принципе, СССР вовсе не агрессивен» и «…питает страх перед интервенцией», который и выступает основным «стимулом в деле развития вооруженных сил». С другой — Советский Союз «…по мере развития экономической мощи и роста вооруженных сил, начнет переходить от принципа пассивной обороны к агрессивной политике». Из этих посылов Касахара делал вполне обоснованный вывод: «Настоящий момент является исключительно благоприятным для того, чтобы наша Империя приступила к разрешению проблемы Дальнего Востока. Западные государства, граничащие с СССР (Польша, Румыния), имеют возможность сейчас выступить согласованно с нами, но эта возможность постепенно будет ослабевать с каждым годом». Дальше, правда, Касахара делал неожиданный для военного вывод: он предлагал купить Приморье, «…не открывая войны».
Оба совершенно секретных документа были сфотографированы, по версии Е. А. Горбунова, впервые опубликовавшего их в своей книге «Схватка с Черным драконом», сотрудником японского военного атташата, завербованным ОГПУ. Может быть, так. Может быть, это было дело рук Романа Кима. В любом случае, он всегда был конечной инстанцией в получении подобных документов на японском языке. Затем он же и переводил их, анализировал, докладывал руководству и… выполнял следующее задание. Документы же лежали в ОГПУ в ожидании своей актуальности. Так, материалы встречи Хирота — Харада — Касахара были отправлены в Кремль, Сталину, только 19 декабря 1931 года с сопроводительным письмом заместителя председателя ОГПУ В. А. Балицкого: «Просьба лично ознакомиться с чрезвычайно важными подлинными японскими материалами, касающимися войны с СССР». Грифы: «Совершенно секретно, документально, перевод с японского». По замечанию Е. А. Горбунова, Сталин внимательно изучил документы — судя по многочисленным пометам на полях, а на вывод Касахара среагировал с нехарактерной для вождя эмоциональностью: «Значит, мы до того запуганы интервенцией, что сглотнем всякое издевательство?»
Двадцать восьмого февраля Сталин снова получил пакет от Балицкого с докладом Касахара, но значительно более ранним, составленным еще 29 марта 1931 года. Очевидно, зампред ОГПУ получил из Кремля запрос о более подробном освещении деятельности японского военного атташе в Москве. На эту мысль наводит и приложенная к докладу справка о фигуранте: «Касахара входит в партию младогенштабистов, во главе которой стоят генерал-лейтенант Араки (автор лозунга “Забайкалье — японо-русская граница”) и Хасимото — начальник русского сектора Генштаба, один из руководителей политики японских военных кругов». Старый доклад Касахара, называвшийся «Соображения относительно военных мероприятий Империи, направленных против Советского Союза», Сталин тоже внимательно прочел, оставив пометы на полях, подчеркивания карандашом, пронумеровав наиболее важные абзацы: «…японо-советская война, принимая во внимание состояние вооруженных сил СССР и положение в иностранных государствах, должна быть проведена как можно скорее… Я считаю необходимым, чтобы Имперское правительство повело бы политику с расчетом как можно скорее начать войну с СССР. Не будем дискутировать на тему, что нужнее для Японии — война или мир. Нужно учесть только то, что открытие войны сейчас окажется для них более неблагоприятным, чем для нас…
Возникает чрезвычайной важности вопрос о конечном моменте наших военных операций. Разумеется, нам нужно будет осуществить продвижение до Байкальского озера. Что же касается дальнейшего наступления на Запад, то это должно быть решено в зависимости от обшей обстановки, которая создастся к тому времени, и в особенности от состояния государств, которые выступят с Запада. В том случае, если мы остановимся на Забайкальской ж.д. линии, Япония должна будет включить оккупированный дальневосточный край полностью в состав империи. На этой территории наши войска должны расположиться в порядке военных поселений, то есть на долгие времена. Мы должны быть готовыми к тому, чтобы, осуществив эту оккупацию, иметь возможность выжидать дальнейшего развития событий.
Ввиду того, что Японии будет трудно нанести смертельный удар Советскому Союзу путем войны на Дальнем Востоке, одним из главнейших моментов нашей войны должна быть стратегическая пропаганда, путем которой нам нужно будет вовлечь наших западных соседей и другие государства в войну с СССР и вызвать распад внутри СССР путем использования белых групп внутри и вне Союза, инородцев и всех антисоветских элементов. Нынешнее состояние СССР весьма благоприятно для проведения этих комбинаций…»
«Соображения…» Касахара Сталин пометил общей резолюцией: «Из рук в руки. Членам ПБ (каждому отдельно) с обязательством вернуть в ПБ. Ст.». Прочитали сообщение Ворошилов, Молотов, Куйбышев и Ягода[284].
И. В. Просветов обратил внимание на очень любопытный момент: в обоих докладах Касахара, разумеется, были указаны данные о численности и вооружении Красной армии. Почти по всем показателям (численность личного состава по видам вооруженных сил, количество авиации) данные, приведенные военным атташе, отличались от реальных на 10–50 (и даже более!) процентов[285]. Это значит, что дезинформация, передаваемая японским военным через агента «Тверского», исправно работала — в Токио, планируя скорую войну с СССР и оккупацию Сибири, имели весьма приблизительное и неверное представление о численности и вооружении советских войск. Японцы планировали или, по крайней мере, рассчитывали агрессию против Советского Союза, исходя из данных, полученных от ОГПУ. Сами эти планы, все доклады Касахара, включая статистические выкладки, тоже немедленно становились достоянием советской контрразведки. Это был несомненный успех. Но дело касалось не только военных аспектов.
Из фондов РГАСПИ
С учетом факта японской агрессии и того, как она начиналась, особенно важными стали вопросы политического характера. Даже подполковник Касахара увлекся политическим пиаром. По итогам встречи с членами японской делегации во главе с начальником оперативного отдела Генштаба генералом Татэкава, следовавшей через советскую столицу в Женеву на Международную конференцию по разоружению (!), военный атташе дал новые рекомендации Токио, явно не связанные с его прямыми обязанностями: «Необходимо подготовить общественное мнение всего мира в сторону доказательства того, что препятствием к установлению всеобщего мира является Советский Союз»[286]. Это письмо, вкупе с очередной докладной запиской Касахара, тоже легло на стол Сталину, который вплотную заинтересовался бурной деятельностью японских дипломатов в Москве.
Обострило ситуацию заявление Министерства иностранных дел Японии, сделанное 28 февраля 1932 года. Токио официально сообщил о концентрации под Владивостоком стотысячной группировки советских войск, имеющей тяжелое вооружение и средства ведения химической войны, готовой в течение трех-четырех месяцев выступить против Японии, используя в качестве повода действия Квантунской армии в Маньчжурии или разногласия по проблемам рыбной ловли в районе Охотского моря. Если бы не добытые ОГПУ, лично Романом Кимом документы, советское правительство могло бы прийти в недоумение от такого заявления: что оно значит? Какими будут следующие шаги Токио? Ответы на эти вопросы уже были переведены на русский язык тем же Романом Кимом — это был один из самых значительных его триумфов. И советское правительство, разумеется, по прямому приказу Сталина, под его диктовку, ответило — большой редакционной статьей на первой полосе газеты «Известия» 4 марта 1932 года.
Передовица получила незатейливое название — «Советский Союз и Япония» и в целом столь же незамысловатое содержание: «Советское правительство вело, ведет и будет вести твердую политику мира и невмешательства в происходящие в Китае события… Положение, перед которым стоит на Дальнем Востоке Советский Союз, обязывает его к укреплению своей обороноспособности, к защите неприкосновенности его границ, в частности путем соответствующего усиления военных гарнизонов…» Но вот дальше следовало нечто необычное. Газета дословно воспроизвела (естественно, в русском переводе) докладную записку посла Хирота и фрагменты из рекомендаций подполковника Касахара Генеральному штабу Японии. «Нельзя пройти мимо того факта, что весьма ответственные представители японских военных кругов, и не только военных кругов, открыто ставят вопрос о нападении на СССР и отторжении от него Приморья и Забайкалья. Мы располагаем документами, исходящими от представителей высших военных кругов Японии и содержащими планы нападения на СССР и захвата его территории».
Из фондов РГАСПИ
Произошедшее тогда, в марте 1932 года, поразительно напоминает ситуацию, описанную много позже учеником Романа Кима Юлианом Семеновым в романе «ТАСС уполномочен заявить». Только в книжном детективе речь шла о предотвращении попытки захвата проамериканскими мятежниками союзнической нам, но вымышленной страны Нагонии, а в жизни — о вполне реальном срыве военного конфликта между Советским Союзом и Японией из-за конфликта интересов в Маньчжурии (именно так началась Русско-японская война в 1904 году). В обоих случаях акции удались благодаря грамотной работе контрразведки: вербовкам, шантажу, получению уникальных документов, о которых никто не должен был знать и публикация которых способна напугать целое государство.
Японская диаспора в Москве прочитала газету в тот же день и всё поняла. Посол Хирота был потрясен. Он немедленно запросил аудиенции у заместителя наркома иностранных дел Союза ССР Льва Карахана, ведавшего «восточными делами». Карахан принял посла на следующий день. Стенограмма их беседы была опубликована в 1969 году в сборнике «Документы внешней политики СССР» в томе 15. Беседа была длинной, но начало и конец ее демонстрируют настроение и предмет беспокойства Хирота Коки: «Вчера в официальной газете опубликована статья, в которой сказано, что советская сторона располагает документами, которые касаются разных серьезных вопросов. Посол сожалеет, что создается атмосфера, которая волнует общественное мнение, нужно устранить такую атмосферу… Меня беспокоит статья “Известий”. У советской стороны есть документ, который дал основание для отправки войск. Это создает атмосферу нехорошую»[287]. Беспокойство посла Хирота было оправданно. К тому времени и в Токио уже знали о публикации в «Известиях», о грандиозной утечке сверхсекретных материалов из посольства в Москве и, главное, понимали, что время, возможности, шанс для провокации упущены. Как показала жизнь, упущены на несколько лет.
В посольстве было проведено служебное расследование, которое, однако, не принесло никаких результатов. Было решено считать, что утечка произошла при досмотре дипломатической почты. Это вполне устраивало абсолютно всех: Касахара, Хирота, Кима, Токио и Москву. Часть сотрудников посольства, в отношении которой имелись сомнения, вернулась в Токио, но проведенное там расследование ничего не дало. Версия с вскрытием вализ стала официальной и через месяц, по завершении расследования в самом посольстве, подполковник Касахара сообщил его результаты в Токио шифром по телеграфу: «Имеются основания подозревать, что посылаемые от вас почтой документы перлюстрируются в пути. Прошу вас сугубо секретные документы пересылать другим способом»[288]. Касахара не знал, что Ким не просто так провел несколько месяцев 1927 года в спецотделе Глеба Бокия — теперь ОГПУ читало и всю телеграфную корреспонденцию. Прочитало и это письмо.
Посол Хирота вскоре после инцидента с «Известиями» вернулся в Токио и, так как лично к нему никаких претензий не было, а вес его в политическом мире был значителен, вскоре стал министром иностранных дел Японии. Касахара нашли должность в Генштабе. Дело замяли. Случай с утечкой секретных материалов Хирота вспомнил только в октябре 1946 года, когда советское обвинение предъявило те самые фотокопии, о которых уже упоминалось, на Токийском процессе: «Подсудимый Хирота в бытность его японским послом в Москве в 1931 году передал начальнику Генштаба свои предложения: “…придерживаться твердой политики по отношению к СССР и быть готовым воевать с Советским Союзом в любой момент, когда это понадобится. Целью, однако, является не столько защита против коммунизма, сколько захват Дальнего Востока и Сибири…”». Этот же документ припомнили бывшему послу и в обвинительном заключении[289]. В результате в декабре 1948 года Хирота Коки, признанного военным преступником класса «А», повесили в токийской тюрьме Сугамо. Впрочем, беседовавшего с ним замнаркома Карахана, признанного советским судом японским шпионом, расстреляли еще в 1937-м…
Хирота Коки мог лишиться жизни еще раньше. Во всяком случае, сообщения об этом в конце 1931 года облетели прессу Японии и Советского Союза, хотя сейчас этот эпизод практически забыт историками[290]. В декабре органами ОГПУ был задержан некий гражданин Годовский (неизвестно, подлинная это фамилия или псевдоним), который сознался в том, что пытался спровоцировать войну между СССР и Японией, убив посла Хирота. К этому Годовского якобы подстрекал некий иностранный дипломат. Причем японская газета «Осака Асахи», в распоряжение которой попали эти сведения, особо отметила, что загадочный дипломат представлял в Москве не восточную страну. Убийство планировалось совершить из окна автомобиля, проезжающего мимо посла, когда тот вышел бы на улицу. Годовский отказался и сам пришел в ОГПУ. 25 декабря Лев Карахан попросил посла Хирота о встрече и немедленно был принят им. Заместитель народного комиссара иностранных дел подробно рассказал японскому послу о том, как на того готовилось покушение, выразил положенное в таких случаях сожаление и отметил, что «иностранный дипломат» уже выслан из Советского Союза. Посол Хирота поблагодарил Карахана и ответил, что всецело полагается на защиту Советского государства.
Что значил этот странный инцидент? С учетом ничтожного количества материала, известного историкам, это могло быть всё что угодно. Не исключено, что кто-то действительно пытался спровоцировать таким несложным образом конфликт между странами и втянуть их в войну, пользуясь агрессивными настроениями в Японии в связи с «маньчжурским инцидентом». Возможно, это была провокация ОГПУ, пытавшегося, например, таким образом «надавить» на посла и усилить свой контроль за ним. Но и без этого посол Хирота был словно голый король перед советской контрразведкой. Любое, самое сокровенное его действие тщательно фиксировалось советской агентурой в посольстве, его документы изымались из сейфа, его почта вскрывалась и читалась прямо в почтовых вагонах, а шифрованные корреспонденции, отправляемые в Токио, изучали на Лубянке пристальнее, чем в здании МИДа Японии на Касумигасэки. И так было не только с Хирота.
Из фондов РГАСПИ
Сменивший его на посту посла Ота Тамэкити попал точно под такой же плотный контроль ОГПУ, а приехавший на место Касахара подполковник Кавабэ Торасиро развернул не менее активную деятельность, чем его предшественник. Уже в июне Балицкий отправил Кагановичу, замещавшему Сталина, пока тот был в отпуске, расшифрованную переписку Кавабэ с японскими военными атташе в Берлине, Лондоне и Варшаве, а также результаты их совещания по активизации разведывательной работы против Советского Союза и шифрованную переписку Кавабэ со штабом Квантунской армии. В числе перехваченных документов были сообщение об утечке кодов Коминтерна в Берлине, присланные оттуда же данные о состоянии РККА, информация о разведывательных и контрразведывательных операциях польского Генерального штаба, сведения об увеличении численности русского отдела японской разведки до шестнадцати человек и решение о консолидации усилий разведки против СССР со стороны Запада на территории Польши.
Перечислять победы чекистов над японскими разведчиками в Москве можно довольно долго. Даже несмотря на то, что значительная часть документов еще не рассекречена, систематизация и анализ уже имеющихся данных дадут предсказуемый результат: ОГПУ, а затем ГУГБ НКВД просвечивали посольство Японии насквозь подобно рентгеновским лучам. Не только посол, но и все службы посольства были обнажены и беззащитны перед ними. Достаточно вспомнить, что секретные доклады не только профессиональных японских разведчиков, но и привлекаемых к шпионажу журналистов, вроде Маруяма Macao, становились известны чекистам от их агентов в посольстве.
К раскрытию причин такого успеха первым подобрался Е. А. Горбунов в книге «Схватка с Черным драконом», но ему не хватило данных о персоналиях чекистов. Вот что он писал: «…в середине 1920-х в КРО, возглавляемом Артузовым, было создано специальное подразделение — “5-е отделение”, которое специализировалось по контршпионажу против японской разведки. Под руководством Артузова и его помощника Пузицкого оперативные работники отделения Тубала, Чибисов, Пудин, Маншейт, Кренгауз, а впоследствии Николаев, Калнин, Ким локализовали деятельность японских разведчиков, прикрывавшихся работой в японском посольстве, консульствах и в военном атташате, имевших дипломатические паспорта и пользовавшихся правом дипломатической неприкосновенности. Их деятельность на советской территории была взята под жесткий контроль. В результате успешной работы отделения КРО располагал итоговыми обзорными материалами самих японцев по агентурной разведке… Поэтому можно считать, что КРО, а впоследствии Особый отдел (с использованием крокистов) был не только аппаратом контрразведки, ставящей задачей выявлять разведывательную сеть противника, чтобы ее ликвидировать, но и подлинным разведывательным аппаратом военно-политического профиля. При помощи своей агентуры КРО сумел получать сведения не только об агентуре противника в СССР, но и ценные материалы о деятельности и намерениях военных и политических органов Японии, Генштаба, МИДа и даже самого правительства». Далее, говоря уже о закордонной разведке, Горбунов пишет, какими качествами должны были обладать профессиональные разведчики, работающие на японском направлении: «К 1930 году Азиатский континент был “освоен” ИНО. Работали, и вполне успешно, Харбинская и Сеульская резидентуры, в Москву поступала ценная документальная информация. Но в руководстве ИНО понимали, что работа в Маньчжурии и Корее только первый шаг, что надо идти дальше и сделать следующий шаг на японские острова. Беда была в том, что никто из руководителей и сотрудников японского отделения не работал в Японии. Для них эта страна была белым пятном на географической карте, о которой им почти ничего не было известно. И чтобы разобраться в обстановке, определиться на месте и выяснить возможности разведывательной работы, туда надо было направить человека с опытом работы на Востоке и достаточно хорошо знающего японский язык. Конечно, такой человек должен был иметь и самые общие знания по Японии, чтобы не выглядеть дилетантом при общении с японскими чиновниками различных рангов»[291].
Но и в Москве успех, которого достигли чекисты, а их, как мы помним, было не больше трех человек единовременно, оказался возможен только благодаря тому, что один из них полностью соответствовал требованиям контрразведывательной работы на чрезвычайно высоком уровне. Ни Пудин (в 1932-м вернулся в разведку), ни Кренгауз (отправлен на строительство каналов), ни Калнин с Николаевым не были специалистами по работе с японцами. Возможно, они были неплохими профессионалами, но «общего направления», для которых даже язык их подопечных был не поддающимся расшифровке ужасным кодом. Только Ким — человек с тремя родинами, понимал язык, логику действий и психологию своего противника. Причем Роман Николаевич не только добывал и переводил полученные им же секретные документы. Рассекречен большой аналитический отчет о деятельности японской разведки против СССР, подготовленный Николаевым и Кимом на имя председателя ОГПУ В. Р. Менжинского: «Начиная с февраля-марта с/г. констатируется резкое повышение активности всей японской разведки против СССР, вызванное: 1) Завершением программы захватов основных пунктов Сев. Маньчжурии и непосредственным переходом японцев к подготовке военного плацдарма против СССР и 2) Увеличением наших вооруженных сил в ВСК и ДВК[292]. Мобилизационное развертывание органов японской разведки происходит по всем линиям: по линии Генштаба, морштаба, МИД и контрразведки…» В документе довольно подробно изложены цели японской разведки на ближайший период и этапы выполнения задач. Причем не только в Москве, но и на всей территории Советского Союза[293].
В феврале 1934 года Ягода направил Сталину «японский документальный материал, изъятый нами агентурным путем». «Материал» был написан рукой подполковника Кавабэ, но мы знаем, что только Роман Ким в ОГПУ мог читать японскую скоропись. Документ содержал статистические данные о численности и вооружении РККА — как обычно не имеющие почти никакого отношения к реальности. В этом же году 17 февраля Ягода снова направляет документ авторства Кавабэ на имя Сталина. На этот раз речь идет о перехваченной и дешифрованной телеграмме в японский Генеральный штаб от 13 февраля. В ней статистики нет, зато много интересного лично для Сталина: «1) Не подлежит сомнению, что как военные, так и гражданские противники советской власти единодушно настроены в пользу того, чтобы избежать войны. Из видных военных, которые говорили со мной лично, могу привести начальника Штаба РККА Егорова, инспектора кавалерии Буденного, начальника ВВС Алксниса и других, которые определенно говорили о необходимости установления японо-советской дружбы. Только один Тухачевский, по-видимому, выступает против этой точки зрения — это предположение основывается на моих беседах с начальником Отдела Внешних Сношений Смагиным, с которым я непосредственно имею отношение по служебной линии»[294].
Склонный к философствованиям подполковник Кавабэ в одной из следующих телеграмм, в августе 1934 года, поразмышлял и о характере советского вождя: «Сталин имеет ряд достоинств, соответствующих великому политику, но он имеет в то же время политических врагов. С точки зрения политико-стратегических мероприятий мы должны принять все меры к тому, чтобы наметить наиболее влиятельную группу его политических врагов и установить с ней контакт. Убежден, что это вовсе не является абсолютно невозможным»[295]. Сталин отчеркнул это замечание красным карандашом: японская разведка хорошо информировала его о своих планах даже в отношении внутренних распрей в советском руководстве.
Оценивая еще самые первые появившиеся материалы о деятельности Романа Кима, полковник ФСБ Б. заметил: «Судя по уровню работы этого человека, мы далеко не всё о нем знаем. Если описанные события действительно имели место в операции, а его вклад в них был именно таким, каким мы его себе представляем, то Ким не раз должен был быть награжден. Если не орденом, хотя, по-моему, достоин, то хотя бы именным оружием. Это совершенно очевидно для любого чекистского начальника»[296]. Профессионал не ошибся: Роман Николаевич действительно был награжден начальством. И даже не два, а четыре раза. Первые награды были характерны для времени, когда сама по себе наградная система еще только начинала формироваться.
Двадцать второго марта 1932 года, через две недели после скандальной публикации в «Известиях», был подписан секретный приказ по кадрам заместителя председателя ОГПУ СССР № 247 «О награждении работников ОО (Особого отдела. — А. К.) ОГПУ»:
«За последнее время ОО ОГПУ была проведена работа большого оперативного масштаба. Отмечая проявленную инициативу и энергию со стороны лиц, ее проводивших, НАГРАЖДАЮ:
Николаева И. М. — пом. Нач. От-ния ОО ОГПУ, Кренгауз Я. Д. — Уполномоченного ОО ОГПУ, Корнильева Н. И. — Оперуполномоченного ОО ОГПУ Знаком “Почетного работника ВЧК-ОГПУ”.
Ким P. Н. — Оперуполномоченного ОО ОГПУ, Пудина В. И. — Уполномоченного ОО ОГПУ пистолетом системы “Маузер” кал. 7,63 с надписью “За беспощадную борьбу с контрреволюцией — от Коллегии ОГПУ”»[297].
По мнению историка спецслужб А. М. Буякова, участие всех награжденных в приказе лиц в одном деле, в одной операции — очевидно. Что это была за операция, неясно, но формулировка: за «проявленную инициативу и энергию» дорогого стоит. Кроме того, следует обратить внимание на то, что Роман Ким в приказе числится штатным сотрудником Особого отдела в должности оперуполномоченного, минуя ранг уполномоченного, в котором всё еще оставался признанный герой внешней разведки, получивший в 1927 году в Харбине «меморандум Танака», Василий Пудин! Это серьезное признание, несмотря на странную на современный взгляд награду — знаменитый по картинам и фильмам «матросский» маузер (всего у Кима было два наградных «ствола»). Для нас сегодня это едва ли не лучшее подтверждение особой роли героя этой книги в раскрытии планов японской армии в 1931 году.
Сам Ким тоже прекрасно это понимал и гордился собой. Когда несколько дней спустя, 12 апреля 1932 года, Мариам родила ему сына, Роман Николаевич снова соригинальничал. Если своего первенца он назвал Аттиком (пусть крайне редкое, но это хотя бы известное имя), то второй ребенок получил имя Виват. Да, это были модернистские времена, открытые новым, невероятным именам и названиям: уже появились Вилены, на подходе были Чельнальдина, Тракторбек и Оюшминальд. Но то, что сын был назван Виватом, не дань моде — это изумительно точно передает не только настроение его отца в минуту торжества, но и степень веры в то дело, которым он занимался, степень его погружения в работу, сопереживания, искренности. Как тут не вспомнить японцев, которые часто, оценивая человека, избегают градации по системе плохой/хороший, выбирая для себя представление о степени его самоотверженности: искренний/неискренний. Безусловно, с японской точки зрения Роман Николаевич Ким был искренним человеком, пусть вся его жизнь была связана с ложью — для него это была святая ложь.
Восьмого апреля 1934 года Роман Николаевич стал «Почетным чекистом». Именно так в обиходе назывался знак, официально именовавшийся «Почетный работник ВЧК — ОГПУ (XV)». Награда была номерной (у Кима — № 857) и ведомственной, но ценилась чекистами как орден: де-факто, ею поначалу, до массовых награждений, и отмечали на самом высоком уровне профессиональных рыцарей этого жестокого ордена советской власти.
В конце того же 1934 года Кима назначили сотрудником для особых поручений 6-го отделения 3-го отдела ГУГБ НКВД. Единственный чекист отдела, знающий, по признанию секретаря Ягоды П. Буланова, японский язык, Роман Николаевич отвечал теперь за все японское направление советской контрразведки в европейской части России[298].
В декабре 1935 года Ким прошел переаттестацию (к этому времени относятся написанные им автобиография и несколько справок на него, приводящиеся в Приложениях к данной книге) и получил специальное звание старшего лейтенанта госбезопасности, что соответствовало званию майора РККА.
Двадцать седьмого июня 1936 года на закрытом заседании Политбюро ЦК ВКП(б) Роман Ким получил орден Красной Звезды № 1108. Этому предшествовало ходатайство наркома обороны Ворошилова и наркома внутренних дел Ягоды о награждении девяти разведчиков из Разведупра РККА, Особого и Специального отделов ОПТУ «за выполнение особых заданий государственной важности». Сам Роман Николаевич уточнил: «…по инициативе Наркома обороны за добычу особых документов»[299]. При пересмотре дела Кима в 1945 году привлеченные для его экспертной оценки сотрудники контрразведывательного (2-го) и шифровального (5-го, бывшего спецотдела) НКГБ НКВД СССР насчитали 200 документов, добытых в период с 1926 по 1937 год «при непосредственном участии Кима», «лично Кимом через находившуюся на связи агентуру» или другими оперативниками и переведенные Кимом на русский язык. В том числе «…им были добыты документы, которые свидетельствовали об активной подготовке японцев к нападению на Советский Союз и которые были в свое время сообщены Правительству. Подлинность документов, по оценке соответствующего управления НКГБ, не вызывает сомнений»[300]. Бурная жизнь ниндзя с Лубянки продолжалась.
Глава 14 ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ
Там мои идеалы, А тут — что судьбою дано. Так стою на распутье И над белою нежной фиалкой Проливаю горькие слезы… Ёсано Тэккан[301]Москва — один из самых больших мегаполисов мира. Но даже в этом огромном городе люди, приехавшие в него с разных концов страны, а то и мира, нередко случайно сталкиваются друг с другом на улицах, в торговых центрах, в метро. В 1931 году население столицы было в несколько раз меньше, чем сейчас, — три с небольшим миллиона человек, а шансы встретить знакомого на улицах старого города — намного выше. А уж если говорить о нескольких десятках японцев, живших тогда в Москве, то они и вовсе знали друг друга наперечет, в лицо и по именам. И тем не менее иногда случались настолько удивительные встречи московских японцев, что в это даже сложно поверить.
В 1931 году в Советский Союз прибыл давний друг Кима Отакэ Хирокити. Остановившись в Москве, он, конечно, постарался найти своего бывшего секретаря и товарища. По воспоминаниям Мариам Цын, «Отакэ позвонил Киму по телефону и просил встретиться. Киму было дано разрешение руководства отделения на встречу с Отакэ. Это свидание состоялось у нас на квартире… Я находилась в стороне и в их разговор не вмешивалась»[302]. Неизвестно, о чем говорили старые знакомые и насколько эта встреча была нужна каждому из них. Но известно, что примерно в это же время Отакэ узнал то, чего не должен был никогда узнать. От кого — от самого Кима? Тогда Роман Николаевич, будучи очень дисциплинированным, должен был получить на это санкцию «руководства отделения», но зачем это ОГПУ? Считалось, что Отакэ в последние годы еще более «полевел», но какой прок советской разведке от оппозиционного журналиста, о взглядах которого все знают и который отрезан от источников информации? Может быть, истинное лицо Кима Отакэ открыли сотрудники японской разведки? Но на первый взгляд это представляется совершенно абсурдным, принимая во внимание дальнейшие успехи Романа Николаевича по «курированию посольства».
Есть, правда, другой вариант: допустим, что со всеми агентами в посольстве — потенциальными, реальными и несостоявшимися — всегда контактировал не сам Ким, а кто-то другой. Например, его женщины, способные любого японского «коня» на скаку остановить. В таком случае Роман Николаевич всё время оставался как бы в тени происходящего, вступая в игру только в тот момент, когда уже было понятно, что никто о нем ничего не расскажет. Тем не менее расчеты расчетами, а какие-то слухи о Киме до японцев могли доходить, но это не влияло на непосредственную работу с агентами. И наоборот, если японца «брали на шантаже», то появление в решающий момент таинственного чекиста, говорящего как в аристократическом университете Кэйо, могло стать сильным козырем в руках советских оперативников. И даже форма ОГПУ, а позднее НКВД могла исполнять при таком раскладе роль своеобразного психологического оружия.
«Как уже говорилось, отношения между г-ном Отакэ и Кимом были особенные, — вспоминал близкий к японской разведке журналист Маруяма Macao. — Кажется, это было где-то на четвертый месяц нашей жизни в Москве. Г-н Отакэ вдруг сказал мне: “Больше никогда не встречайся и не звони Киму. Это из-за него, пойми”. Конечно же, ни я, ни г-н Отакэ с Кимом больше совсем не встречались. Г-н Отакэ больше ни слова не говорил о Киме, и когда он уезжал из Москвы, Ким не пришел его провожать. Я так и остался в Москве, и примерно через три года после этого я вдруг столкнулся с ним в магазине Межкнига (Международная книга). Тогда он был одет в форму отдела внутренних дел, и, помнится, на вороте у него были значки генерал-майора. Я ни слова ему не сказал, да и он, кажется, удивился, но потом с видом, будто ничего не произошло, отвернулся и стал рассматривать книжную полку»[303]. Почему Отакэ, который так симпатизировал советской власти и своему молодому другу, выдал его? С одной стороны, ответ прост: Отакэ прежде всего был японцем, а, как уже говорилось, каждый японец не только разведчик, но и прежде всего патриот. Но кто и зачем раскрыл ему тайну Кима? Почему Отакэ поделился этой тайной с Маруяма и почему в отношениях Маруяма с Кимом после этого ничего особенного не произошло (как, впрочем, и у Отакэ с Романом Николаевичем)?
Магазин «Международная книга» располагался тогда на Кузнецком Мосту (в этом помещении и сейчас находится аналогичная организация), совсем недалеко от Лубянки, где в 1934 году Роман Ким пребывал уже на вполне законных основаниях как штатный сотрудник госбезопасности. Конечно, он не был никаким генерал-майором, вообще это звание в органах появилось много лет спустя. Ким был всего лишь оперуполномоченным, то есть, по армейским понятиям, лейтенантом, но японский корреспондент плохо разбирался в петлицах, «ромбах», «кубарях» и «шпалах». Он просто-напросто испугался, увидев старого знакомого, о котором предупреждал Отакэ. Но почему оперуполномоченный Особого отдела Ким, который занимался сверхсекретной работой в малочисленной этнической группировке, среди бела дня расхаживал по Москве в форме сотрудника госбезопасности? Нелепая случайность? Непохоже.
Японские дипломаты в силу особенностей своей деятельности и проживания в Москве общались друг с другом в основном на службе. Но в городе были и другие японцы. Немногочисленную группу составляли бежавшие с Востока или через США японские коммунисты и просто левые, видевшие в стране победившего пролетариата идеал будущего мироустройства. До 1937 года их впускали в СССР свободно, подыскивали места для работы. Из-за небольшого количества соискателей им хватало вакансий преподавателей японского языка в различных вузах, прежде всего в специально созданном для подготовки кадров Коминтерна Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ). Преподаватели-«разговорники», как их тогда называли, негласно делились на две категории. Первые трудились непосредственно в Коминтерне. Вторые, не столь фанатичные коммунисты, перебивались случайными заработками. Они, в отличие от первых, довольно часто контактировали с дипломатами со своей родины, вместе ностальгировали, искали замену привычной японской кухне. Особое место между двумя этими категориями занимали Хидзиката Ёси и Сано Сэки — оба выходцы из золотой токийской молодежи, ставшие — на время — фанатичными сторонниками мировой революции.
Отпрыск графского рода, Хидзиката был внуком героя буржуазной реставрации Мэйдзи, члена Тайного совета и прокурора Токио. В 1933 году Ёси, театральный режиссер по профессии, приехал в Москву учиться у Всеволода Мейерхольда передовому театральному искусству. Еще один граф — Сано Сэки к тому времени уже два года прожил в СССР, тоже занимаясь режиссурой. Внук благоволившего к России графа Гото Симпэй — мэра Токио, гражданского губернатора Тайваня, министра внутренних и иностранных дел Японии, Сано искренне тяготел к идеям большевизма и сначала вынужден был бежать в Европу, а оттуда в Москву. Неудивительно, что два этих молодых человека, с блестящим образованием и манерами, стали центром японской диаспоры в красной столице. Молодая москвичка из дворянской семьи Наталья Соколова в то время увлекалась Востоком и начала учить японский. Желая заниматься с носителями языка, она в конце концов вышла на Хидзиката и Сано, а много лет спустя в своих воспоминаниях описала жизнь этой маленькой, но примечательной компании:
«…Левые корейцы и японцы составили в Москве небольшую общину; большинство из них жили в коминтерновской гостинице “Люкс” на улице Горького, рядом с бывшей булочной Филиппова. Они были радушными товарищами, но ходить к ним в гости было не так просто: надо взять с собой паспорт и получить пропуск, на котором отмечался час и минуты прихода и ухода — а что там скрывать? Быт? Покушаться на них никто не собирался. Это стесняло гостей, предпочитали встречаться у тех, кто жил в городе на квартирах.
Ёси и Сэки иногда устраивали чаепития или скромные ужины с японскими травками и закусками. Перестав работать в театре, я часто ездила на Земляной вал, помогала переводить разные тексты с русского на японский и обратно — это было очень полезно нам обоим, Ёси — мой дотошный филологический анализ, мне — современная политическая лексика. Попутно мы обсуждали и содержание статей. Он мог уже говорить по-русски, с ошибками и с акцентом — ему не удавалось наше “л”, он заменял его “р”: ложка — роська, хлеб — фурэбу, люблю — рюбиру. Меня научили есть рис палочками; как ни старался Ёси отречься от своей нации, от этой привычки отказаться не смог.
Сэки Сано был “западнее” его без всякого принуждения, изнутри: сильно хромой, он ходил враскачку, фигура коренастая, лицо европейского типа, по-английски и по-русски говорил хорошо. Я побаивалась его усмешек и саркастических ответов. Познакомилась у них и с другими людьми. Самой интересной была Ясуко, дочь Сен Катаямы, лидера японских коммунистов. Лицом она была похожа на отца. Училась в Америке и вела себя по-американски раскованно, деловито; занималась спортом и танцами. У нее был самостоятельный характер и неженский ум. Общаться с Ясуко было приятно и легко, я бывала у нее в “Люксе”, пили заграничный чай с пирожными, слушали японские пластинки — модные тогда шлягеры вроде “Гинза-дори” и народные песни. Летом играли в теннис на кортах “Динамо”, зимой катались на коньках. Полной противоположностью Ясуко была ее сестра Тьёко (т. е. Чио-чио-сан) — очень замкнутая, застенчивая, почти неграмотная девушка из глухой деревни. Не знаю, отчего между ними получилась такая разница. Была там еще Тэруко, веселая круглолицая жена коммуниста Бирича; приветливый рабочий-комсомолец Тадзути, простой парень, друживший со всеми. Самой авторитетной личностью в этом обществе был кореец Роман Николаевич Ким, военный с “ромбом”, сотрудник НКВД, притом оригинальный писатель. Мы все только что прочитали вышедшую тогда его книжку “Три дома напротив, соседних два”, о характере японской литературы; мне очень понравился его острый, лаконический стиль и слог»[304].
Это интереснейшее свидетельство. Встреча с Маруяма в магазине не так уж случайна — в том смысле, что Роман Ким не только ходил в форме сотрудника НКВД по улице, но и спокойно появлялся в таком виде в обществе японцев, не имевших отношения к посольству. Можно возразить, что эти японцы, явно тяготеющие к коммунистам, не могли иметь отношения к японской разведке. Да, это логично. Но разве не столь же логично предположить, что осторожность и конспирация были бы более надежной основой для сохранения оперативных возможностей оперуполномоченного Кима? Тем более как писатель он был уже довольно известен в этих узких кругах. И снова мы возвращаемся к той версии, с которой начали: Ким сознательно показывался японцам в форме НКВД. Он попросту пугал их. Подтверждал слухи о могущественном чекисте-японце, возникающем в разных ипостасях — то писателя, то полицейского, любая из которых таила смертельную опасность для японской разведки. Наверняка на посольских приемах или литературных вечерах японские дипломаты встречались с ним (после войны встречались точно) и, зная, что Ким — «генерал НКВД», тянулись к нему как к авторитету, как к источнику информации, не всегда осознавая, что играют роль мотыльков, летящих на огонь. Оперативной работе Кима это не мешало, так как действовал он либо тайно (проникая, к примеру, по ночам в посольство), либо контактируя с японцами, которые пока еще не знали, с кем имеют дело, либо в открытую — «давя авторитетом генерала НКВД».
Авторитета писательского у Романа Николаевича пока было недостаточно. Книга «Три дома напротив, соседних два» — его главный литературный успех в предвоенные годы (рассказы, о которых речь впереди, остались, по существу, не замеченными ни критикой, ни публикой). Небольшое по формату произведение вышло в 1933 году в альманахе «Год Шестнадцатый», а через год, уже отдельной книжечкой, — в издательстве «Советский писатель» (далее цитируется именно по этому изданию). 52-страничный очерк стал первым и на долгие годы единственным высокопрофессиональным обзором современной японской литературы. Не случайно профессор Н. И. Конрад поместил «Три дома напротив…» в список рекомендованных книг к своему курсу лекций по истории японской литературы — сегодня можно точно так же рекомендовать эту книгу для изучения студентам-историкам и культурологам.
Между «Тремя домами…» и короткой статьей на сходную тему, написанной молодым Романом Кимом в 1923 году, лежит настолько огромное расстояние, что кажется, будто эти произведения принадлежат разным людям. Прекрасный, прозрачный русский язык, которым написаны «Три дома…», уже не позволяет допустить мысли о том, что автором текста мог быть японец, кореец, любой иностранец. Так можно писать только на родном языке: «Творения этих компрадоров и публицистов-беллетристов кажутся теперь писаниями не совсем нормальных людей, ибо они перемешивали дословный перевод с английского с патетическими рифмованными пассажами в духе китайской и японской классической поэтики. Получалось варево более причудливое, чем новелла о бригаде ударников-комсомольцев в колхозе, написанная вперемешку в стиле “Телемахиды” Тредьяковского и передовиц “Соц. земледелия”»[305].
Вообще, книга написана со значительной долей сарказма, недопустимого у японоведов, как правило, всецело зависящих в своих исследованиях от принимающей — японской стороны, а потому старающихся ни в чем и нигде, даже случайно, японцев не задеть. Роман Ким в этом смысле совершенно свободен и, почти полностью отрешившись от акцентирования своего корейского прошлого, что было так заметно в «Ногах к змее», говорит о японцах легко и с юмором, иронизируя даже над тамошними русистами, что сегодня в японистике является табу: «…компрадоры решили принять услуги русских классиков. “Капитанская дочка” выпускается под заглавием “Сердце цветка и думы бабочки: удивительные вести из России”, Гринев был переименован в мистера Смита, а Маша — в Мэри. “Война и мир” получает более поэтическое название: “Последний прах кровавых битв в Северной Европе” и более портативный вид — переводчик пояснил в предисловии: “Ввиду того, что оригинал местами очень длинен и растянут, я там, где нужно, сокращал”»[306].
Конечно, цель первой, по-настоящему самостоятельной и цельной книги Кима, — не юмор и не высмеивание незадачливых переводчиков и литераторов. Это действительно глубокий, местами — по-японски дотошный и серьезный анализ современной автору японской литературы, сделанный на высочайшем уровне и с использованием невероятного количества первоисточников, прежде всего самих произведений, о которых идет речь в книге, литературоведческих журналов, газет и т. д. Разбор подробнейший: от четкой стратификации стилей и жанров с их краткими, но емкими и часто язвительными характеристиками, до сводной таблицы гонораров, получаемых разными авторами в разные времена. Отсюда же, из характеристик одного из жанров — эгобеллетристики, название книги Кима: «…эпитет для замкнувшейся в своем квартальчике литературы мэтров: “Мукосангэнрьоринтэкина” — шесть слов по-джойсовски склеены в одно, переводится так: “трехдомовнапротивсоседнихдвухная литература”»[307]. Этим двум книгам — «Ноги к змее» и «Три дома напротив, соседних два» — Виктор Шкловский посвятил статью «Что мы знаем о Японии», опубликованную в журнале Союза писателей «Знамя». Смысл критики прост до глупости: да, Ким — талантливый писатель, но если бы он писал по канонам пролетарской литературы, было бы лучше. При этом Шкловский опасно заострил внимание на корейско-японском происхождении Кима.
Стоит ли упоминать о том, что в «Трех домах…» Роман Николаевич снова пользовался информацией, относящейся прежде всего к 1920–1930-м годам, хотя в данном случае это было совершенно обоснованно темой исследования. Единственное, что напоминает о прошлом самого Кима, — строки, где проглядывает его личный опыт прогулок по старому Токио, особенно в районе Хонго, где находился Токийский императорский университет — мечта юного Кин Кирю: «Великовозрастные сынки захудалых деклассированных самураев и наследники мелких купцов и помещиков в засаленных халатах и рваных юбках по утрам слушали заморских лекторов, а по вечерам, ошалелой гурьбой шляясь по переулкам квартала Хонго — токийской Козихи[308], пугали окрестных жителей только что вызубренными спряжениями немецких глаголов и заумью из “Nursery Rhymes”. Вскоре рождается бессмертная студенческая песня, японский гаудеамус с воинственным припевом:
Дэкансьо, дэкансьо-о-о-дэ,- Хантося ку! Расэ! Коря-коря! Атоно ханто-о-о-ся-а Нэтэ ккурасэ! Йои-Йои! Дэкансьо!»[309]В шутливой песенке, призывающей первое полугодие заниматься учебой, а второе — сном, таинственное «Дэкансьо», которое японские старушки принимали за имя западного божества, значило сокращенный набор европейских философских премудростей: «Дэ-карт», «Кан-т», «Шо-пен-гауэр». Прекрасный пример студенческого юмора, который должен был запомниться Роману Николаевичу со времен беззаботной юности. А вот что рассказывает Наталья Семпер-Соколова о занятиях русским языком в семье Хидзиката (в Москве с ним жила жена — Умэко): «Устав, делали перерыв. Умэко приносила из кухни скромный обед, пили чай с конфетами. Она играла на кото — этот дорогой инструмент ей прислали из Токио ее родители, Ёси аккомпанировал ей на сямисене. Они пели студенческие песни, например:
Dekansho, Dekansho-de С Де(картом), Кан(том), Шо(пенгауэром) Hantosha kurase, Полгода проходит, Ato-no hantosha Другие полгода Nete kurase. Спя проходят».Да, Роман Николаевич тонко подмечал всё, даже увиденное и услышанное всего один раз — и умело использовал это в своей работе. В литературной и в чекистской. Арестованная вслед за мужем Мариам Цын говорила на допросе: «Встречи Кима с Хиджиката и Секи Сано вызывались служебными соображениями. Ким на все эти встречи получал санкцию у своего руководства, которому докладывал о характере бесед с этими японцами и об их настроениях… Встречи с ними происходили не более трех раз в год. Бывали случаи, когда Хиджиката и Секи Сано посещали наш дом… Все разговоры, которые велись в моем присутствии, касались международных тем или же японской кухни»[310]. Оперативная разработка Хидзиката и Сано, в организации которой участвовал Роман Николаевич, окончилась ничем, или мы просто не знаем о ее действенных результатах. Так или иначе, японским режиссерам дали возможность тихо уехать из Советского Союза, и они ею благоразумно воспользовались. Хидзиката, вернувшись в Японию, попал там в тюрьму как коммунист, Сано долго скитался по миру, потерял семью и, в конце концов, нашел приют в Мексике. Режиссеры спаслись, но их фамилии были использованы НКВД в «работе». Окрестив деятелей искусства «японскими шпионами», знакомство с ними использовали в деле Мейерхольда, который, по версии следствия, вместе с Сано Сэки готовил убийство Сталина. Весьма сомнительно, что Ким, так тщательно всё фиксировавший, мог заметить у японцев «преступный умысел». Произвол не нуждается в экспертной оценке профессионалов.
Наталья Семпер-Соколова вспоминала: «P. Н. Ким был всегда подтянут, холоден, вечно занят, так что виделись редко. У него было бледно-желтое интеллигентное лицо, тонкие черты… он жил в большой, неуютной квартире против библиотеки имени Тургенева, женат был на внешне-типичной еврейке, поэтому трехлетний сын его имел самую неопределенную внешность. О политике в этой компании не говорили, за исключением грядущей мировой революции, — в воздухе уже витала незримая опасность, за всеми уже следили, но не все об этом знали, чувствовали себя непринужденно». Девушка только потом поняла, что чудом избежала смерти: «Целый год мне голову морочил P. Н. Ким — обещал место где-то, зачислил кандидатом куда-то, но из этого ничего не вышло; я не работала в ожидании этого таинственного места, промышляла уроками и халтурами, не понимая, что лезу в петлю».
Нет сомнений, что о знакомстве с Натальей Соколовой Ким тоже докладывал руководству, но начинающая японофилка была явно бесперспективна с точки зрения оперативной работы и тем, скорее всего, сохранила себе жизнь. Пунктуальность и преданность Романа Николаевича работе, сугубо японское следование букве приказа и инструкции вызывают даже некоторое удивление. Мы уже упоминали эпизод, когда он в 1935 году случайно встретил на улице своего коллегу по работе у Отакэ — Павла Шенберга. Того самого Шенберга, который признался японскому журналисту в своей работе на ОПТУ, тот рассказал об этом Киму, а Ким написал рапорт, стоивший Шенбергу пяти лет тюрьмы. «Он не знал о моей роли в его деле и потому бросился ко мне с радостным криком. Узнав от него, что он теперь совсем реабилитирован и ищет работу, я, посоветовавшись с Николаевым (начальником отделения), решил не выпускать его из виду, имея в виду использовать его в дальнейшем. Его в Японии знали как бывшего корреспондента, и кое-кто из старых работников посольства тоже был знаком с ним»[311]. Со временем, однако, Ким выпустил свою жертву из виду и вспомнил о ней, только когда домой к Роману Николаевичу пришла жена Шенберга с сообщением, что ее муж арестован. В 1937 году Павел Эдуардович Шенберг был расстрелян как американский шпион[312].
В этом смысле общение с Хидзиката и Сано было вегетарианским — они не вызывали подозрений у НКВД, были упертыми марксистами, зато могли дать Киму много интересного как драматурги. Складывается впечатление, что с самого начала своей службы в контрразведке Роман Николаевич страдал от перекоса в своей жизни, от постоянно увеличивающегося разрыва между чекистской работой и растущими литературными, творческими амбициями. Из-за большой занятости на службе пришлось оставить преподавательскую работу в Московском институте востоковедения и в Военной академии.
Судя по всему, начали появляться трудности в семейной жизни. Во всяком случае, до нас дошел любопытный юмористический комикс «Наказанный негодяй», нарисованный и написанный самим Романом Николаевичем о своей семейной жизни, но как «драма из жизни испанских аристократов». В этой коротенькой фантазии некий «дон Роме Стервадор», в котором даже внешне легко угадываются черты Романа Николаевича, вынуждает уйти из семьи свою жену — «донну Марианну», после чего кончает жизнь самоубийством[313]. Смех смехом, а в семейной жизни «Ромео Николаевича» и «донны Марианны» явно наметилась трещинка. Интересно также, что прозрачность текста дает нам очередную загадку: «испанские аристократы» живут в «палаццио на улице Твербулиос», где, по официальным данным, Ким никогда не жил…
Нет сомнений, что такому человеку, как Роман Ким, хотелось вернуться в литературу. Хотелось писать, но как? О чем? Борис Пильняк, жестоко раскритикованный за «антипатриотизм» книги «Корни японского солнца», написал ее продолжение — «Камни и корни». Книга не получилась. Напуганный цензурой, Пильняк спорил сам с собой, тужился самокритикой, как говорят на Востоке, «потерял лицо». По какой-то причине Роман Николаевич не стал с ним сотрудничать в работе над этим произведением. Поводов могло быть множество: от нехватки времени до понимания, что Пильняк копает себе могилу (как мы помним, тот был расстрелян в 1938 году). Так или иначе, опыта литературного сотрудничества с другими авторами у Кима больше не было, хотя однажды сложилась подходящая для такого опыта ситуация.
Ким знал сына своего агента «X» — Григория Иосифовича Гузнера, взявшего, как уже говорилось, псевдоним Гаузнер. Знакомство с молодым литератором, считавшимся одним из самых талантливых в когорте начинающих писателей, казалось интересным и перспективным. В 1927 году, следом за Пильняком, Гаузнер побывал в Японии, куда его отправил Всеволод Мейерхольд — учиться особой биомеханике театра Кабуки — она действительно была близка находкам революционного режиссера. Вернувшись оттуда, Григорий в 1929 году выпустил книгу «Невиданная Япония», в которой в очередной раз «открыл» эту страну. Пятью годами позже он вошел в число тридцати шести советских писателей, приглашенных ОГПУ для путешествия по Беломорско-Балтийскому каналу им. Сталина, можно сказать, в тур по ГУЛАГу. В книге «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», вышедшей в 1934 году, Гаузнер стал соавтором главы о тюрьмах в капиталистических странах. Числясь знатоком Японии (часто упоминается о его хорошем знании японского языка, но источник неясен), он писал явно с чужих слов: «Смертная казнь в Японии модернизирована, но в национальном духе. Смертная казнь в Японии называется “косюдай”. Дословный перевод: “помост для сдавливания головы”. Смертника подводят к лестнице. Буддийский жрец бормочет молитвы. Врач щупает смертнику пульс. Врач удовлетворенно кивает головой: “Здоров. Может умирать”. Смертник всходит вверх по ступенькам. На одной из ступенек он вдруг проваливается. Голова его остается на уровне ступеньки. Стены начинают медленно сдвигаться. Они сплющивают голову человека. Один японский журналист недавно писал, что убийство человека способом “косюдай” доставляет человеку невыразимое наслаждение»[314]. Кто помогал Гаузнеру? «Начало истории про “косюдай” находится у Кима, в его “Ногах к змее”[315]. Нетрудно догадаться, кто рассказал Гаузнеру и о деталях казни».
Ким только нащупывал свой писательский стиль. Японское прошлое, японское настоящее давили — он явно не понимал, о чем еще можно писать, кроме Японии — фантастом-то он точно не был, а ничего другого не знал. Точнее, то, что он знал, не могло быть еще предметом литературы. О чем можно писать в 1935 году? Не о Беломорско-Балтийском канале же! В том же году в специальном издательстве «История Гражданской войны» под редакцией М. Горького и П. Постышева вышел толстый сборник воспоминаний о партизанской войне в Приморье: «Таежные походы». Романа Кима в числе авторов нет. Он уже готов писать самостоятельно — «Три дома напротив…» это наглядно доказали, он достиг того уровня, когда способен доходчиво и увлекательно облечь реальность в художественную форму, но почти всё, что приключилось с ним в ту пору, — большая государственная тайна. Писать даже о каких-то фрагментах — риск. Но Ким всё равно рискует. В альманахе «Год Восемнадцатый» появляются сразу три его новеллы, первая из них — «Приморские комментаторы». Название рассказа и сегодня остается загадкой. Кого имел в виду автор? Самая простая версия: «комментаторы» — японцы, офицеры военной разведки, готовившие, и успешно — жестко и быстро — в том стиле, в котором потом будет работать их заклятый враг, — осуществившие переворот 4–5 апреля 1920 года, тот самый, в котором Роман Николаевич чуть не погиб, если бы на помощь не пришел Отакэ Хирокити. Под названием примечание: «Из цикла “Уразивосток”» — так, только без «в» посередине слова по-японски называется Владивосток. Раз «из цикла», значит, планировалось несколько рассказов? Почему же Ким их не написал? Также непонятно, почему «Приморские комментаторы» не вошли в сборник «Таежные походы». Может быть, просто не были еще готовы в том виде, в каком автору их хотелось увидеть напечатанными? Но подавляющее большинство очерков в этой книге абсолютно беспомощно, как с исторической, так и с литературной точки зрения. Бытует точка зрения, что Максим Горький покровительствовал Киму. Подтверждений этому нет. Скорее, наоборот: если бы это было так, «Комментаторы» наверняка попали бы в «Походы», которые собирали под одну обложку как раз тогда, когда вышел рассказ Кима.
Редкий случай: через четверть века Роман Николаевич вернется к этому рассказу и перепишет, усовершенствует его. Поменяет и название. Под новым и уже вполне понятным — «Тайна ультиматума» эта, теперь уже короткая повесть войдет в одноименный сборник, который увидит свет только два года спустя после смерти автора.
То же самое случится и со второй новеллой. Только название не поменяется: «Японский пейзаж». Когда читаешь его, не покидает ощущение, что Роман Николаевич пишет… идет в литературе на ощупь. До сих пор, кроме секретных дел и пролетарской литературы, единственное, в чем он точно разбирался, была Япония. Но критиковать легче, чем писать самому. Писателю нужна смелость — может быть, именно она и называется «вдохновением». И Ким решается начать. Пишет он (естественно!) о Японии. Новелла получилась очень японской зарисовкой и по духу, и по сюжету — дело кончается самоубийством. Если не знать, кто автор произведения, можно легко принять его за перевод с японского. Горы, озеро, несколько человек, не имеющих друг к другу никакого отношения, на несколько минут оказываются в одном месте в одно и то же время. Невидимая, как паутинка, аллюзия от «Японского пейзажа» тянется к тому самому рассказу «В чаще» Акутагава Рюносукэ, который Роман Николаевич переводил на русский 12 лет назад. За рамками текста, как в любом хорошем детективе, остаются линии человеческих жизней, едва прощупываются ветвящиеся от основной линии сюжеты. Всё это, несмотря на то, что рассказ короткий, делает его роскошной темой для написания киносценария. Пока этого не произошло, но кто знает? Сам Роман Николаевич вернулся к «Японскому пейзажу» в конце жизни. Вместе с «Тайной ультиматума» он вышел в 1969 году. Новелла осовременилась, автор как будто специально разбросал по тексту признаки этого осовременивания, начиная с электробритвы и прически в стиле «битлз» и заканчивая ракетным полигоном. Увлеченный изучением мировой детективной литературы, Ким не мог не читать рассказы американского беллетриста Стэнли Эллина. У Кима появились упоминания о летчиках-смертниках, служивших в конце войны на Окинаве, и треугольных реактивных самолетах. Сама Япония почти не изменилась — только эти самолеты да ракетный полигон. Замершая на четверть века страна — ее можно было так описывать вплоть до 90-х годов прошлого века, и она еще в первых романах Мураками — почти такая. Третья новелла — «Чистая речка у подножия горы» испытания временем не выдержала.
Кима всё чаще называли писателем. Даже оригинальным писателем. Сам он считал, что если в нем что-то и есть, то только оригинальность, что дело только в восточных темах и его корейской внешности. Такая оригинальность существует сама по себе, независимо от его воли, потому что не создана им и не подчиняется ему. Раньше он этим даже бравировал. Под примечаниями к книге Бориса Пильняка стоит дата никому почти не известного корейского календаря. Вышедшая еще раньше статья «Японский фашизм» имеет подзаголовок «Письмо из Японии». Киму хочется писать, хочется стать настоящим писателем, но пока единственные его настоящие произведения — «Ноги к змее» и «Три дома напротив, соседних два». Оба написаны прекрасным, воздушным русским языком, но первое — лишь примечания, глоссы; второе — литературный обзор. В том же 1934 году в уважаемом литературном журнале «Знамя» появляется перевод на русский язык рассказа Куросима Дэндзи «Головной дозор». Автор — ровесник Кима и тоже служил во Владивостоке во время японской интервенции. Они могли даже встречаться (в воспоминаниях Куросима Дэндзи Кима нет), а их взгляды на войну совпадают: Куросима — «яркий представитель пролетарских писателей Японии».
Одновременно в ленинградском «журнале оборонной литературы» «Залп» выходит большая статья Романа Николаевича «Военно-шовинистическая пропаганда в японской литературе и задачи советских оборонных писателей». Запомним это название: пройдет 20 лет, и высказанная в ней тема станет основной для мэтра советского шпионского романа — он будет разрабатывать ее до самой смерти, и многое из того, что писал оперуполномоченный Особого отдела ГУГБ НКВД P. Н. Ким в этой статье, годы спустя повторит маститый писатель Роман Николаевич Ким в своих лекциях, воспроизведет в книгах. Разница в масштабе. Пока он не готов к глобальным обобщениям, пока — только Япония, но зато со знанием дела, пониманием «фактуры»: «В моем распоряжении есть книга Урадзи, которая в течение двух месяцев выдержала 11 изданий. Книга начинается стихотворным гимном японских шпионов и посвящена описанию необычайных подвигов японских шпионов и провокаторов всех мастей… В книге описывается техника работы контрразведки и показывается, как надо разоблачать иноземных шпионов. Особенно достается шпионам “Красной России”, которые поддаются женским чарам и погибают из-за этого».
К сожалению, не вполне понятно, о какой именно книге идет речь. Историк ниндзюцу Ф. В. Кубасов предполагает, что это может быть работа Урадзи Конносукэ «Тайны шпионов мира: рассказ об одной секретной службе» (Сэкай миттэй-хива: Ару токому-кикан но ханаси) 1931 года издания. Сарказм Кима был очевиден не всем: женские чары «красных шпионок» вошли в мировую детективную литературу позже. Катя Иванова, увезенная Джеймсом Бондом в Лондон, послала оттуда шифровку: «Операция внедрения прошла успешно. Приступаю к выполнению задания» — именно такой финал для известного фильма предлагал американскому журналисту один из героев Юлиана Семенова в романе «ТАСС уполномочен заявить». Разница только в том, что Роман Николаевич знал, что Урадзи отчасти прав: «медовая ловушка» — штука интернациональная, и противостоять женским чарам может только редкий мужчина. Особенно если он хорошо танцует — как Роман Николаевич Ким, например.
Глава 15 «ЗЕМЛЯ ЕСТЬ ШАР»
Если нахлынет Неудержимый поток, Ты не противься, Силы напрасно не трать — Лучше доверься волнам! Иккю[316]В середине 1930-х в клубе Управления О ГПУ — НКВД по Москве и Московской области регулярно проводились конкурсы бальных танцев. Танцевали под патефон. Старые вальсы, «На сопках Маньчжурии», пасодобль «Рио-Рита», новые песни советской эпохи, особенно киношлягеры из фильмов Григория Александрова. Конкурсы были обязательным, но приятным времяпрепровождением сотрудников, у которых времени на танцы и вообще на отдых фактически не было. В числе лучших танцоров числился Роман Николаевич Ким[317]. Танцевал, конечно, в паре, но не со своей женой Мариам, а с Любовью Александровной Шнейдер. Эта высокая красивая девушка с римским профилем, как и Мариам Цын, служила в госбезопасности, но в другом управлении. Люба была родной сестрой того самого Владимира Шнейдера, который помог Киму организовать имитацию ограбления японского посольства. Отношения между Романом Николаевичем и Любовью Александровной не выходили за рамки дружеских, тем более что жизнь Кимов в это время налаживалась. Рос сын — очень умный и послушный мальчишка, его отец продвигался вверх по служебной лестнице, мать тоже служила и пыталась обеспечить уют уже в новой квартире.
После 1935 года Кимы переселились из большой, но «неуютной» квартиры на Тургеневской площади в новый дом, построенный специально для руководства НКВД на месте снесенного подворья Троице-Сергиевой лавры во 2-м Троицком переулке. Старые москвичи, привыкшие до революции называть дом по фамилии хозяина или архитектора, как «дом Нирнзее», например, это новое строение так и окрестили: «дом НКВД в Троицком». В доме 6А Кимам выделили квартиру номер 12, в западном крыле. В центре здания, построенного «покоем» — буквой П, располагались служебные апартаменты (две квартиры) Берии, в которых будущий глава НКВД останавливался еще до назначения на этот пост, приезжая из Грузии в Москву, и, по воспоминаниям соратников, устраивал пьяные оргии. По соседству с Кимом жили знаменитый в будущем разведчик Вильям Фишер, более известный как Рудольф Абель, оставшиеся почти неизвестными гений шифровального дела Георгий Крамфус, резидент ИНО НКВД в Эстонии Григорий Чернобыльский и многие другие «бойцы невидимого фронта». Неудивительно, что «дом НКВД» понес огромные потери во время сталинских чисток. Первым арестовали Чернобыльского — еще 1 сентября 1936 года. 2 апреля 1937-го пришли за Кимом.
Брали его как большого начальника — вчетвером: старший майор госбезопасности (армейский генерал) Михаил Горб (Моисей Санелевич Ройзман), начальник 3-го (контрразведывательного) отдела НКВД; его подчиненный — капитан госбезопасности Михаил Соколов; лейтенант госбезопасности Павел Калнин — соратник и ученик Кима, они даже вместе получали ордена Красной Звезды; сотрудник оперативного отдела капитан госбезопасности Алексей Шошин. Ордер на арест подписал начальник ГУГБ Яков Саулович Агранов (Янкель Шмаевич Соренсон)[318]. Как это часто бывало в те годы, основания для ареста в ордере не указывались, а постановление предъявлено не было. При обыске (как положено, в присутствии понятого) изъяли три единицы огнестрельного оружия: наградные маузер и вальтер, служебный браунинг с патронами к ним, чемодан с документами и книгами на японском языке, серебряные часики на простом ремешке, кожаный портфель. Награды — орден Красной Звезды и знак «Почетного чекиста» после ареста сдали в финансовый отдел по цене лома серебра: 51 грамм принес родине 6 рублей 63 копейки[319].
Как в большинстве случаев, из дела Кима нельзя понять, что или кто выступил в роли стартовой кнопки, которая привела в движение механизм перемещения Романа Николаевича из ценных, не единожды награжденных сотрудников в «японские шпионы». В том же 1937 году по аналогичному обвинению были арестованы десятки тысяч человек, но арестованы позже — когда вступил в силу приказ наркома внутренних дел № 00593, известный как приказ «О харбинцах». Этот приказ предусматривал целевое «изъятие» из жизни всех, кто хоть как-то был связан со «столицей Русской Атлантиды» — городом Харбином, ставшим после 1922 года главным островом прежней, досоветской жизни в Азии. Планировалось арестовать не менее 25 тысяч человек. Брали группами, партиями, пачками. Но это только с осени. Кима взяли 2 апреля — в индивидуальном порядке. Почему?
На первый взгляд складывается впечатление, что Роман Николаевич стал жертвой внутренней чистки в НКВД. Она началась осенью 1936 года, когда в Москве закончился большой показательный процесс по делу «антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра». Результатом процесса для НКВД стало падение его лидера — Генриха Ягоды и приход Николая Ежова, прославившегося как садист и маньяк. Всю осень и зиму 1936/37 года чекисты готовили репрессии против чекистов. Странами, ведущими наиболее массированную разведывательно-диверсионную деятельность, были признаны Германия и Япония, связанные с троцкистско-бухаринско-зиновьевским подпольем в Москве, что подтверждалось уникальными документами, добытыми в японском посольстве[320]. В марте 1937 года, после февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б), полностью посвященного теме «врагов народа» и положившего начало периоду Большого террора, внутри НКВД были подготовлены ведомственные документы на этот счет. Среди них приказ, подписанный только что назначенным начальником 3-го отдела (контрразведки) ГУГБ НКВД Львом Мироновым (Лейб Гиршевич Каган), ориентирующий контрразведку на ликвидацию контрреволюционных организаций, связанных с иностранными резидентурами. В приказе было отмечено, что наибольшую опасность для Советского государства представляют этнические иностранцы (в том числе корейцы), вернувшиеся из Харбина советские граждане (харбинцы), бывшие белогвардейцы, политэмигранты, лица, учившиеся и работавшие за границей[321]. Кажется, что Ким был обречен на смерть именно тогда — в марте 1937 года. Но не всё так просто.
Еще почти за год до описываемых событий кто-то (кто? — вот интересный вопрос) уже заподозрил Романа Кима в шпионаже. 5 мая 1936 года Главным управлением госбезопасности НКВД был составлен запрос из четырнадцати пунктов, призванный внести ясность в слишком уж путаную биографию Кима. Запрос почему-то (почему? — нет ответа) отправили не в Управление НКВД Владивостока или Дальневосточного края, а в особый отдел Штаба Тихоокеанского флота. Ответ за подписью начальника 1-го отделения Особого отдела, корейца по национальности, Югая, был получен через месяц[322]. Обилие ошибок и неточностей не позволяет относиться к этому документу с той серьезностью, с которой следовало бы это сделать. В противном случае мы получаем новую, не похожую ни на что версию жизни Романа Кима. Дело в том, что в соответствии с этим документом P. Н. Ким:
учился в Японии в колледже Кэйо-Кидико (?) с 1911 по 1915 год;
никогда не носил имя Сугиура Киндзи (о том, что его так звали в Японии, Ким писал в анкете сотрудника НКВД — она-то, видимо, и вызвала подозрения);
4–5 апреля, когда, по официальной версии, Ким участвовал в работе большевистского съезда в Николаевске, а потом был арестован японской жандармерией, на самом деле он участвовал в этих арестах вместе с японской жандармерией (!);
Ким служил в армии Колчака в звании подпоручика (то есть был не мобилизованным солдатом, а офицером);
нет сведений о том, что Ким сотрудничал с «Тохо» и Отакэ;
отец Романа — Николай Николаевич, хотя и носил это имя, был под ним практически неизвестен, потому что во Владивостоке его знали как Ким Пеаги[323] — корейского промышленника и купца, разбогатевшего на том, что он не платил жалованье более чем тысяче нанятых им рабочих.
Документ был настолько «антикимовский», что по всем резонам Роман Николаевич должен был быть арестован и расстрелян сразу по его получении — то есть в июне 1936 года. Тем не менее по какой-то не менее загадочной, чем отправка запроса в Штаб Тихоокеанского флота, причине этого не произошло. Решение об аресте Кима зрело еще девять месяцев, но и тогда арестован он был лишь по подозрению в шпионаже в пользу Японии. Других, как старого знакомого Кима — Ощепкова, брали как «достаточно изобличенных», причем наличие доказательств при этом никакого значения не имело. Однако сам факт, что Романа Николаевича подозревали в его родном ведомстве, и подозревали давно, — исключительно важный и пока совершенно непроясненный.
Первый допрос Романа Кима датирован 7 апреля. Вел его оперуполномоченный Верховин, еще неделю назад служивший вместе с задержанным. Незадолго до этого Верховин пытался завербовать находящегося под подозрением у японцев делопроизводителя посольства Итагаки. Ким тогда выступил против: Итагаки жил с его агентессой и был на плохом счету у начальства. Верховин настоял на своем. Однако Итагаки внезапно отозвали в Токио, и вербовка не состоялась[324].
Первые вопросы касались не самого Романа Николаевича, а его покойного отца, самого подозрительного для чекистов человека во Владивостоке. Больше всего следователя интересовало, в каких отношениях находился Николай Ким с японским дипломатом Ватанабэ. Забегая вперед отметим, что интерес чекистов к покойному Ким Бён Хаку не угасал еще очень долго — похоже, у них для этого на самом деле были веские причины. Сын отвечал за отца, отвечал аккуратно и осторожно, будто взвешивая каждое слово на весах, будто ступая по минному полю, пытаясь по памяти воспроизвести схему установки мин — легенду. Ким держался своей взрывоопасной легенды, ничего особенно не отрицая, но и не подтверждая: да, отец был влиятельным во Владивостоке коммерсантом, да, у него в доме был салон для иностранцев, но ничего о шпионских связях отца сыну неизвестно. Да, в Японию Роман был отправлен стараниями Сугиура Рюкити и Ватанабэ Риэ. Цель: получение приличного образования за границей.
Всё сказанное не дает следователям оснований считать Романа Кима японским разведчиком. Путаная биография на период Гражданской войны была у большей части населения СССР, не исключая чекистов. Не могло быть преступлением и знакомство с японцами и даже пребывание в подданстве Японии — всё в тот же период Гражданской войны.
Десятого апреля допросили Валентину Гирбусову — сожительницу журналиста Маруяма, и она согласилась дать показания о сексуальных домогательствах к ней со стороны Романа Кима[325]. Пикантно, но явно не годится для обвинения в японском шпионаже. У Кима появляется шанс, спасение внезапно приходит к нему в виде дела Тухачевского. В эти же самые дни в НКВД кипит работа по «выявлению заговора» знаменитого маршала. Очень вовремя и к месту сработали сотрудники, тайно вскрывающие дипломатическую почту. О результатах операции нарком внутренних дел Ежов отправляет наркому обороны Ворошилову спецсообщение: «3-м отделом ГУГБ сфотографирован документ на японском языке, идущий транзитом из Польши в Японию диппочтой и исходящий от японского военного атташе в Польше — Савада Сигеру, в адрес лично начальника Главного управления Генерального штаба Японии Накадзима Тецудзо. Письмо написано почерком помощника военного атташе в Польше Арао (правильно — Араи. — А. К.).
Текст документа следующий: “Об установлении связи с видным советским деятелем.
12 апреля 1937 года.
Военный атташе в Польше Савада Сигеру.
По вопросу, указанному в заголовке, удалось установить связь с тайным посланцем маршала Красной Армии Тухачевского.
Суть беседы заключалась в том, чтобы обсудить (2 иероглифа и один знак непонятны) относительно известного Вам тайного посланца от Красной Армии № 304”»[326].
Ворошилов, в свою очередь, докладывает об уникальной находке Сталину. Как раз в эти дни Тухачевского и других красных генералов собираются «брать». Связь с японской разведкой на основании неопровержимых улик, добытых у японского источника, — необходимый и убийственный доказательный материал. Но не прочитанный полностью он выглядит ущербно. Что там за иероглифы? О чем речь? Нельзя на таком процессе, а это будет, несомненно, грандиозный процесс, оперировать не расшифрованными до конца документами. Однако никто из сотрудников ГУГБ, владеющих японским языком, не может прочесть бумагу — в спешке чекисты сфотографировали ее некачественно, плохо. Текст размыт, и многочисленные черточки сливаются в одно пятно. В контрразведке знают только одного человека, который может справиться с этой задачей, и, по счастью, он еще не расстрелян — не успели!
Замначальника контрразведки комиссар госбезопасности 3-го ранга Александр Минаев (Шая Мошкович Цикановский) принимает ответственное решение и направляет начальника 7-го отделения Соколова к Киму, который сидел в страшной Лефортовской тюрьме. Рассказав о приказе Ежова перевести документ во что бы то ни стало, Соколов пообещал Роману Николаевичу, что органы этой его заслуги не забудут и следствие, которое еще только в самом начале, может развернуться в благоприятную для Кима сторону[327]. Арестованный старался как мог, но даже ему было непросто разобраться в фотокопии. Почерк Араи он опознал сразу — уже доводилось переводить его записки, а вот дальше… Соколову пришлось несколько раз посетить Кима в Лефортове, пока результат не был достигнут. Но сам этот результат оказался неожиданным. Доведя дело до конца, Роман Николаевич пришел в крайнее волнение: документ однозначно указывал на то, что Тухачевский был иностранным шпионом, но по всем законам оперативной логики такого быть не могло. Выполнив перевод, Ким сопроводил его пояснительной запиской. Из нее следовало, что японцы могли отправить такую бумагу в обычном бауле с дипломатической почтой, без охраны дипкурьеров через Советский Союз, где, как они прекрасно знали, вся их корреспонденция перлюстрируется, только в одном случае: если письмо полковника Савада было провокацией, организованной совместно разведками Польши и Японии с целью подставить, свалить Тухачевского. Ведь сам же Ким доводил пять лет назад до своего начальства телеграмму военного атташе Касахара о том, что дипломатической почте доверять нельзя! Но тогда получается, что японцы знали, что Сталин собирается арестовать Тухачевского, и хотели ускорить это. Написать такую «сопроводиловку» к своей работе было непростительной глупостью для заключенного Лефортова. Он, конечно, не мог знать, но должен был догадываться, по чьей команде начато дело против Тухачевского. Высказать свое мнение, свидетельствовать о том, что иностранные разведки пытаются спровоцировать советские органы на неверные действия, — это было слишком опрометчиво. Ворошилову, Ежову, Сталину, если до них довели мнение арестованного контрразведчика, оставалось только одно — уничтожить его как можно скорее.
Киму снова повезло. В это время следователь Верховин пытался разобраться с бюрократическими проблемами следственного производства и понять, что предъявить арестованному: за что, собственно, его взяли? 19 апреля он подал рапорт другому замначальника контрразведки Давыдову: «При попытке установления того, как был оформлен арест Ким P. Н., я установил, что он посажен на основании ордера, полученного в изъятие от всех существующих на сей счет правил и положений…»[328] Верховин просил руководство дать ему распоряжение задним числом: за что посадили Кима и чего от него добиваться, какого признания?
Когда переводчик свою важную работу выполнил, стал не нужен и опасен, вместо Давыдова 22 апреля ответил Минаев-Цикановский: «Наблюдением установлено, что Ким P. Н., используя свое служебное положение, снабжал себя через агентуру, с которой был связан по работе, контрабандными вещами, получавшимися по его заданию от японского военного атташе. Одновременно выявлено, что служебные отношения Ким P. Н. с женской агентурой перешли в характер личной интимной связи…» Понимая, что и это обвинение против лучшего «специалиста по японской линии» выглядит как-то странно, Минаев добавил: «Помимо перечисленных должностных преступлений, в распоряжение ГУГБ НКВД получены прямые указания о его связи с японской разведкой. Установлено, что отец Кима P. Н. являлся старым японским агентом, находившимся в связи с японским разведчиком Ватанабэ…»[329] Дальше — снова откровенный бред о том, что Кима Романа Николаевича необходимо арестовать в связи с тем, что в феврале 1935 года наружным наблюдением было зафиксировано посещение им японского посольства. Как еще он мог участвовать в изъятии документов из сейфа, находившегося в этом посольстве? «Получены прямые указания…» — это о чем, от кого они получены? В следственном деле ничего нет на этот счет.
А вот полувековой давности запутанная история еще более запутанных отношений антияпонского корейского подполья и японской разведки в Приморье, что называется, «выстреливает». Оказывается, в НКВД ничего не забыли, несмотря на то, что отец Кима умер десять лет назад, а Сугиура Рюкити — шесть. Ватанабэ Риэ только год назад покинул пост генконсула во Владивостоке, и каждый, кто общался с ним, уже числился в НКВД «японским шпионом». Ким, сознавшийся в связи со всеми ними еще на первом допросе, обречен. Теперь остается только выбить правильные признательные показания. 29 апреля начальник ГУГБ Михаил Фриновский, наконец, ставит свою подпись на постановлении об аресте Кима.
Теперь следователи могут спокойно работать. И Романа Кима «ставят на бессонницу». Ему не давали спать около десяти суток. Позже в одной из своих повестей он опишет, как выглядит и ведет себя человек после такой пытки и как он признаётся во всех смертных грехах. К этому времени, видимо, относится еще один устный рассказ писателя, который он поведал своему сводному племяннику Андрею Федорову. Ким был близорук и носил очки в круглой металлической оправе. В Лефортовской тюрьме на ночь очки у заключенных отбирали, утром, после приборки и туалета, выдавали вновь — до вечера. Настал момент, когда Роман Николаевич сломался. Он понял, что физически не может дальше выдерживать мучения, и решил прервать свою жизнь сам. Сделать это в тюрьме непросто. Особенно если сидишь в одиночке или в двойке и за тобой всё время наблюдает пара глаз. Киму показалось, что он нашел способ. Незаметно выдавив из оправы очки, он раздавил стекла ногой и проглотил острые осколки, надеясь, что они разрежут ему пищевод и желудок. Он хотел истечь кровью, вскрыть себе живот, сделать харакири, как это делали самураи на его второй родине. В 1927 году, комментируя «Корни японского солнца», он писал о воинах Средневековья в «Лекции, которая никогда не будет прочитана»: «…самураи, очутившись во время боя в безысходном положении, разрезали живот и изо всех сил швырялись своими кишками, стараясь для вящего удовольствия попасть во вражеские лица». Но самураи находились в привилегированном положении по сравнению с узниками Лефортова: у них были мечи. Внутреннее харакири Кима не удалось — врачи выходили его, испытания продолжились[330].
Пока Роману Николаевичу не давали спать и не разрешали умереть, следователи избивали бывшего начальника Особого отдела Марка Гая. В начале мая Гай сознался: работал с японскими шпионами Николаевым-Рамбергом и Кимом. В 1936 году Гай встречался на квартире Кима (это в доме НКВД!) с японским майором из военного атташата и заметил, что в разговоре майора с Кимом у того «проскальзывали нотки руководителя». Как «честный чекист», Гай доложил об этом Ягоде, но неожиданно для себя узнал, что Ягода в курсе, Николаев и Ким работают на японцев, им надо помогать и прикрывать их мероприятия в интересах японской разведки[331]. К маю 1937 года бывший всесильный нарком внутренних дел Генрих Ягода сидел на Лубянке уже больше месяца, а жить ему оставалось меньше года.
Шестнадцатого мая сломленный Роман Ким пишет письмо «гражданину» Фриновскому — начальнику Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, в котором признаётся, что «был взят» японцами путем шантажа. По первой версии Кима, его завербовал подполковник Касахара в 1931 году. Арестованный обещает: «Буду давать откровенные показания о своей работе у японцев». Письму предшествовал визит комиссара Минаева на допрос (ни одного протокола допросов с 7 апреля до 19 мая в деле нет). В присутствии следователя Верховина Минаев нанес мощный удар по психике Романа Николаевича: сообщил, что Мариам Цын арестована 19 апреля как член семьи изменника родины (ЧСИР). Сын Виват остался с бабушкой. Пока остался — детей ЧСИР забирали в спецприемник НКВД, концлагерь для малышей. Сама Мариам Цын вспоминала, как это было: ее вызвали на службу, на Лубянку. Когда пришла, обыскали (изъяли 70 рублей 12 копеек, кашне, пояс, дамскую сумочку, карманное зеркальце и паспорт) и объявили, что она арестована[332]. Ордер даже не предъявляли — его выписали только на следующий день, да и на допросы не вызывали до самого июня. В камере, в полной безвестности о судьбе родных, она провела полтора месяца.
Измученный пытками, оболганный, обманутый, шантажируемый жизнью самых близких людей, Роман Ким «сознался». Но даже в таком состоянии он сумел «признаться» так, что в один миг поставил в тупик всех вокруг — от следователя Верховина до наркома Ежова и, похоже, самого главного человека в этом деле — Сталина. 17 мая он написал «признательное» письмо начальнику Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД комкору Фриновскому. 19 мая «подтвердил факт своего внедрения в органы ОГПУ — НКВД японским Генеральным штабом для ведения разведывательной работы». Казалось бы, обычная формулировка для тех лет, но… уже 21 мая на стол Сталину ложится спецсообщение от Ежова: «В ходе следствия было установлено, что в 1922 г. он был завербован японским генеральным консулом во Владивостоке, резидентом японского Генерального штаба Ватанабе, по заданию которого он поступил на службу в органы ОГПУ — НКВД с разведывательными целями. Ким на протяжении последних двенадцати лет поддерживал в Москве связь с японскими разведчиками (военные атташе, работники посольства), которым систематически передавал шпионские материалы по вопросам, связанным с контрразведывательной работой ОГПУ — НКВД против японцев.
Было установлено, что Ким, участвуя с 1932 г. в технических операциях по выемкам документов из сейфов японского военного атташата в Москве, проводил их по предварительной договоренности с японцами и таким образом снабжал органы ОГПУ — НКВД дезинформационными материалами. Ким, по национальности японец, был сыном бывшего японского посла в царской России. Он скрывал это, выдавая себя за корейца…»[333]
Далее Ежов излагал «биографию пойманного шпиона». В соответствии с ней настоящее имя Романа Кима — Мотоно Кинго. Ким был внебрачным сыном японского посла Мотоно Итиро, служившего послом Японии в Санкт-Петербурге в годы Первой мировой войны и ставшего потом министром иностранных дел. Образование Ким получал в «японском императорском лицее», куда принимались только дети дворян и куда Киму, то есть, конечно, Мотоно Кинго, удалось поступить благодаря влиянию своего отца-аристократа. В лицее он значился как Саори Кинго (Саори — это мать мальчика). Ким рассказал следователю красочную историю учебы в лицее. Поведал, что по окончании должен был сдавать экзамены на дипломата и ему, как выпускнику престижной школы, разрешалось сдавать их по сокращенным требованиям. Вместо этого в 1917 году Саори Кинго выехал во Владивосток, где в 1917 году поступил, а в 1923-м окончил Дальневосточный университет. Тогда же консул Ватанабэ привлек его для разведывательной работы.
Эта часть биографии заметно схожа с подлинной или, скажем так, с той, что известна нам. Отличия очевидны: появление отца-министра, мать — Саори и, конечно, «знак борьбы» — за Японию («минус») или против Японии («плюс»). (По сей день жива версия о том, что Ким был Мотоно и, соответственно, являлся японским шпионом, а не советским разведчиком.)
Пока очки были целы и Роман Николаевич ждал допросов, он читал. Арестованным разрешалось пользоваться тюремной библиотекой, и хотя выбор был невелик, нашлась даже книга по специальности: сборник документов «Международные отношения в эпоху империализма», издания НКИД[334]. Одним из главных событий в излагаемой истории российско-японских отношений на тот момент числилось подписание пакта Мотоно — Сазонова, названного так по именам завизировавших его министров иностранных дел Российской и Японской империй соответственно. Краткую биографию исторического персонажа — уже умершего к тому времени — и изложил следователю почти не надеявшийся на спасение Роман Ким. Имя матери — Саори Роман Николаевич извлек со дна портфеля в буквальном смысле этого слова. Того самого портфеля, на кожаном днище которого он прочертил в 1936 году свой новый псевдоним (но так и не успел им воспользоваться): Ким Саори — Ким из Сеула, Ким Сеульский. Дело в том, что сотрудникам НКВД запрещалось выступать в прессе на политико-экономические темы под собственными именами, а Роман Николаевич хотел писать, вот и придумал себе очередной псевдоним[335]. Из-за внезапного ареста узнали его только следователь и оперативники, производившие обыск. Теперь вместе с вывернутым наизнанку портфелем (в следственное дело вшита длинная полоса фотоснимка днища со слабочитаемым «автографом») псевдоним мог вывернуть наизнанку и судьбу Кима. В ниндзюцу этот прием так и называется: фукурокаэси — «вывернутый наизнанку мешок», ложь, скрывающая правду. Надежда слабая, но портфель мог стать еще одной соломинкой для обреченного на смерть арестанта, подтверждением правдивости его легенды.
«Бред! Такого не может быть, ведь это совершенно очевидная глупость!» — скажет любой нормальный человек и… будет не прав. В Советском Союзе 1930-х годов, при том уровне образования следователей и оперативных работников, страха перед всем иностранным, раболепия перед сильными мира сего — будь они даже иноземные князья и министры — это было возможно. И не только пример Кима это доказывает. Годом позже, 16 июня 1938 года, органами госбезопасности был арестован замначальника НКВД, начальник Рабоче-крестьянской милиции Казахской ССР Михаил Павлович Шрейдер. После девяти месяцев (!) допросов, побоев, пыток Шрейдер тоже понял, что больше не выдержит, и применил ту же тактику, что и Роман Ким. На очередном допросе Шрейдер, которого обвиняли в работе на польскую, немецкую и японскую разведки, а также в убийстве Кирова, «во всём признался», а заодно сообщил, что: 1) будучи в командировке в Эфиопии (!), вступил в интимную связь с дочерью туземного царька Менелика II, которая завербовала его для работы еще и на британскую разведку; 2) является к тому же французским и турецким шпионом, а также участником целого ряда троцкистско-бухаринско-фашистских заговоров; 3) на самом деле он — незаконнорожденный сын императора Маньчжурии Генри Пу И; 4) в его заговорщицкую группу входят некоторые сотрудники НКВД, которые его же допрашивали и пытали. В результате следствие запуталось и застопорилось, вместе с откровенно абсурдными признаниями пришлось проверять и другие «откровения», которые оказались такими же вымышленными. Вместо расстрела Шрейдер получил десять лет лагерей, а в 1942 году, когда шли самые тяжелые бои под Сталинградом и на счету был каждый штык, его отправили на фронт, и он успешно провоевал до конца войны офицером Красной армии. Умер Шрейдер в 1978 году, оставив очень интересные воспоминания[336]. Так что логика действий Романа Кима, хотя и была крайне неожиданной и необычной, свидетельствовала вовсе не о его помутившемся рассудке. Это было решение, порожденное необыкновенным обострением разума в экстремальной ситуации, возникшее на пределе человеческих возможностей. Конечно, как позже и в случае с Шрейдером, сыграли свою роль и профессиональное понимание схемы работы следственной машины, и верная оценка ее интеллектуального и бюрократического уровней. Но только отточенный разум, способный на нестандартные умозаключения, смог найти такое необычное решение, когда казалось, никакого другого финала, кроме как «в расход», и быть не могло. Поневоле возникает ассоциация с хитроумными комбинациями ниндзя. Что ж, как мы помним, в определениях Романа Николаевича он и был самым настоящим синоби — вне зависимости от национальности. Правда, тогда придется признать, что ниндзя был и Михаил Шрейдер, настоящее имя которого — Израиль Менделевич Шрейдерис. А почему нет?
Ким был убедителен в изложении своей версии. Согласно ей, Роман являлся моральным должником Ватанабэ за помощь в устройстве его на учебу в Токио, что было чистой правдой. Принимая предложения консула о работе против русских, Роман Николаевич «убивал трех зайцев»: мог таким образом отплатить за доброту Ватанабэ, приносил пользу Японии, которую так любил и гражданином которой являлся, мог рассчитывать на хорошую карьеру в ОГПУ — ведь он располагал такими знаниями, связями и такой уникальной информацией, что на новом месте службы его обязательно должны были высоко ценить. И уже не сотрудник ОГПУ Богданов предлагал Киму секретную службу, как это было записано во всех известных нам документах, а Ким, по поручению Ватанабэ, встретился с Богдановым, которого знал по университету, и попросил работу в ОГПУ. Богданов согласился и предложил Роману стать секретным сотрудником, «освещающим» деятельность японской колонии во Владивостоке. Удовлетворенный Ватанабэ вскоре на время покинул Владивосток, посоветовав Киму на прощание быть осторожным. Когда он вернулся, Романа в городе уже не было — он уехал в Москву с миссией «негласного резидента Генерального штаба» Отакэ.
Следователю нужна была конкретика, и подследственный охотно сыпал мелкими фактами: деньги на поездку в Москву ему передал Хироока, работавший в «Тохо», перед отъездом в консульстве с напутственным словом провожал некто Вакаса. «Во время интервенции ходил в офицерской форме», — многозначительно добавляет Мотоно-Ким[337].
В Москве он работал, конечно, уже на нового резидента — Отакэ. Именно с его согласия он выдал «настоящих» преступников: профессора Михаила Попова, позже расстрелянного за шпионаж, Павла Шенберга и японского коммуниста Кодама. Цель: «создать благоприятные условия и предпосылки внедрения Кима в аппарат ОГПУ». В 1925 году, когда эти условия были созданы, второй секретарь только что открытого посольства Японии в Москве Сасаки Сэйго (полковник) передал Роману «привет от Ватанабэ», напомнил об осторожности («японский Генеральный штаб возлагал на Кима большие надежды») и предложил начать, не торопясь, работать. Все, что было достигнуто Романом Кимом за следующие семь лет, по версии Мотоно Кинго, стало выполнением именно этой задачи.
Интересно, что и в этом случае Мотоно-Ким особо выделил работу с военным атташе подполковником Комацубара. С ним его в 1927 году познакомил другой разведчик — Юхаси на своей даче близ станции Удельная в Подмосковье. Правда, с Комацубара состоялись всего два свидания, во время которых подполковник посоветовал Киму быть осторожнее, а тот передал разведчику информацию о методах работы ОГПУ, за исключением факта перлюстрации дипломатической корреспонденции, о котором сам Мотоно-Ким тогда еще не знал.
До сих пор особое впечатление производит описанная Кимом техника организации встреч с японскими разведчиками. Так, с помощником военного атташе Ямаока местом рандеву был определен вход в здание «Межрабпомфильма» у Петровского парка. В день встречи Киму на службу звонила женщина, говорила какие-то пустяки и вешала трубку. Это был предварительный сигнал готовности. Через некоторое время звонил мужчина, говоривший по-английски: «Пять (или сколько-то) часов. Это больница? Ах, нет? Извините!» Пароль означал, что встреча должна была состояться в условленном месте на три часа позже названного по телефону времени. Увидев Ямаока у здания «Межрабпомфильма», Ким уходил в парк — тогда еще довольно густой — и там ждал разведчика для беседы.
Не менее убедительно выглядели и списки вопросов, интересовавших японскую разведку: дислокация войск пограничной охраны ОГПУ, данные о предстоящих агентурных комбинациях против японской разведки, прикрытие настоящих японских разведчиков путем приковывания внимания ОГПУ к «чистым» японцам. Особенно интересовали японцев оперативные комбинации против них в Маньчжурии, агентурные разработки против японцев и дело Ивана Перекреста — пожалуй, самой загадочной личности в истории советской разведки на Дальнем Востоке, непосредственно причастной к добыванию «Меморандума Танака». В свою очередь, Ямаока обещал не чинить Киму препятствий в его деятельности по изъятию секретных документов из сейфов японского военного атташата (Ямаока заявил, что ему известно об этом и полученные таким путем документы являются специальной организованной японским Генеральным штабом дезинформацией), содействие в «вербовке» любого японца, чья кандидатура будет согласована с Токио. И снова особое внимание: это японцы предложили Киму начать и «всемерно развивать» дезинформационные комбинации в отношении военных атташе. Помимо Комацубара и Ямаока, Мотоно-Ким вплоть до ареста поддерживал такие же отношения с военными атташе Кавабэ, Хата, Кавамото.
Это Мотоно-Ким завербовал начальника контрразведки Гая и начальника 6-го отделения Николаева-Рамберга. Гая «взяли на шантаже» в мае 1936-го: показали секретные документы с его подписью и предложили сотрудничество. Николаев-Рамберг сдался еще в 1935-м: тоже шантаж и «аморалка».
В случае же начала войны Роман Николаевич должен был выполнять «особую работу» — полностью парализовать контрразведку НКВД на японском направлении[338].
Неудивительно, что таким образом составленное «признание» работает до сих пор и некоторые авторы, занимающиеся историей противоборства спецслужб Советского Союза и Японии, и сегодня считают Романа Кима японским шпионом: уж очень убедителен он был в своих показаниях 1937 года.
Уже после того, как Сталин узнал, кто именно «возглавлял» в НКВД японских шпионов, Ким продолжал «колоться» и набивать себе цену. 23 мая он заявил на допросе: «Я предназначался японским Генеральным штабом главным образом для разведывательной работы для “хидзиодзи” (чрезвычайного периода в военное время). Пользуясь своими возможностями, освещал факты вербовок советских граждан в окружении японцев, организацию наружного наблюдения за наиболее подозрительными японцами, передал в атташат список агентуры, подставленной японцам, сообщал сведения из ежедневных секретных рапортов Особого отдела наркому внутренних дел. Передал атташе Хата список советских граждан, годных для вербовки. Вместе с дезинформацией передавал военным атташе через агента “Тверского” настоящие данные — о дислокации авиационных бригад, постройке укрепрайонов» и т. д. «Японская агентура, которая была приобретена органами ОГПУ — НКВД по линии военного атташата, по существу была для НКВД подставлена…» Поездка в Прагу в 1936 году за материалами от Мидзуно была лишь предлогом для встречи с японским военным атташе в Германии генерал-майором Осими. Встреча не состоялась, так как Осими был занят вопросом заключения германо-японского пакта. Зато на обратном пути в Варшаве на вокзале переговорил с военным атташе Японии в Польше генерал-майором Савада. Тот сообщил об «энергичной разведывательной работе на Одессу и вообще юг СССР через Румынию» и предупредил о приезде в СССР своего агента — польского журналиста Оссендовского. Когда он выйдет на связь, паролем будет фраза «“Земля есть шар”, сказанная по-гречески. Но Оссендовский так и не объявился»[339].
Ежов и Сталин были озадачены. По всему выходило, что верхушку НКВД, работавшую еще при Дзержинском, Менжинском, Ягоде, надо расстрелять. Не все шпионы, это ясно — чего в тюрьме только не наговоришь на себя, чтобы перестали хотя бы бить резиновыми палками по пяткам, но предатели — все, это точно. Через неделю, 2 июня, выступая на расширенном заседании Военного совета при Наркомате обороны СССР, Сталин даже не с раздражением, а скорее с некоторым удивлением бросил в зал: «Наша разведка по линии ГПУ возглавлялась шпионом Гаем, и внутри чекистской разведки у нас нашлась целая группа хозяев этого дела, работавшая на Германию, на Японию, на Польшу сколько угодно, только не для нас. Разведка — это та область, где мы впервые за двадцать лет потерпели жесточайшее поражение»[340].
Меры были приняты немедленно: Артузова, Гая, Бокия — тех, кто создал в 1920-е годы невероятно эффективный аппарат советской контрразведки, тех, кто руководил им в годы 1930-е, расстреляли в течение нескольких месяцев после пыток и получения выбитых, совершенно невероятных по абсурдности признаний. Исключение составили Ягода — он был слишком большой начальник, и по его делу стоило провести большой показательный процесс, — и несколько человек, с которыми было непонятно, что делать. В их числе — Роман Ким. Или Мотоно Кинго? Кореец он всё-таки или японец? Верить ему или не верить? Слишком уж невероятно и одновременно убедительно то, что он рассказывает. На всякий случай на него постепенно накапливают «материал».
В день выступления Сталина бывший секретарь наркома внутренних дел Ягоды Павел Буланов заявил: «Ягода мне говорил, что… сотрудник японского отделения Особого отдела Ким (по национальности кореец или японец) единственный сотрудник Особого отдела, знающий японский язык, является крупным японским разведчиком… Ягода… приказал Гаю облегчать шпионскую работу Кима для японцев, и это даст ему возможность… в перспективе наладить отношения с японцами. Ягода говорил, что Ким, работая в японском отделении Особого отдела, прикрывает японские шпионские базы и связи на территории Советского Союза… В начале 1936 года Гай мне сообщил, что Ким, по заданию японской разведки, хочет перейти на работу в Разведупр и что особенно мешать ему не надо, так как заменить Кима в НКВД сможет другой ответственный сотрудник японского отделения Особого отдела, также завербованный японской разведкой. Гай добавил, что переход Кима в Разведупр будет интересен и полезен и для Ягоды, и для японской разведки»[341]. Уже хорошо. Показания секретаря народного комиссара внутренних дел — это весомо. Через 68 дней после ареста Киму наконец-то можно предъявить обвинение по статье 58, пункту 6 УК РСФСР — измена родине в форме шпионажа. Для военнослужащих, а сотрудники НКВД — военнослужащие, мера наказания одна — высшая. В тот же день, 9 июня, Ким подписывает очередной протокол: «Признаю себя виновным в том, что, начиная с 1922 года и по день моего ареста, я, находясь на работе в ОГПУ — НКВД, был связан с японской разведкой и по ее заданию занимался активной разведывательной работой в пользу Японии. Мотоно Кинго (Ким)»[342].
После этого наступает перерыв, так сказать, «на раздумья». Следующий допрос Верховин проводит только в ночь с 15 на 16 августа. Собирает данные на «сообщников»:
«— Кто такой Ощепков?
— Когда мы познакомились, он преподавал японский язык в Институте востоковедения и работал в Центральном институте физкультуры. Учился в Токио в русской духовной семинарии. Во время японской интервенции на Дальнем Востоке был переводчиком на Сахалине. Со слов япониста Юркевича знаю, что он как будто работал в Разведупре. Юркевич нас и познакомил, по моей просьбе. Кажется, в 1929 году. Я в то время интересовался системой “джиу-джитсу”. В последующем у меня изредка бывали встречи с ним на той же базе. Но в последние три года я Ощепкова не видел. По разведывательной линии с ним связи не имел.
— Ощепков — японский шпион! Вы не могли о нем не слышать! Например, от военного атташе Хата!
— Об Ощепкове как об агенте японской разведки я узнал со слов военного атташе Хата.
— Теперь перейдем к Юркевичу. Кем он был завербован?
— Мы знакомы по Владивостокскому Восточному институту. Юркевич был связан с подпольным работником Фортунатовым, задания которого выполнял. Это мне говорил сам Юркевич. Позднее я с Юркевичем встречался в Москве…»[343]
Помимо Ощепкова и Юркевича — дальневосточников, выпускников Токийской православной семинарии, сотрудников владивостокского подполья (Ощепков позже стал первым нелегальным резидентом советской военной разведки в Токио — «предтечей» Рихарда Зорге и создателем борьбы самбо), Мотоно-Ким называет сотрудником японской разведки их бывшего однокашника Юхаси Сигэто, служащего в московском посольстве, помощника резидента ИНО ОГПУ в Харбине Ивана Трофимовича Перекреста («лично не был знаком, о работе на японцев сделал вывод из беседы с Ямаока»), ленинградского профессора, светило мирового японоведения Николая Невского («лично мне неизвестен», «Хата сообщил, что Невский и его жена прикрывают японскую резидентуру в Ленинграде, каков состав — мне неизвестно»), профессора, бывшего агента ИНО ОГПУ в Харбине Николая Мацокина («со слов Кавабэ, на связи с японцами с дореволюционных лет»), переводчика советского полпредства в Японии, агента Разведупра Штаба РККА Андрея Лейферта («должен вести разведывательную работу по моему указанию, но не вышел на связь»), корреспондента ТАСС в Японии Алексея Наги (венгр Акош Надь, «связник, возможно, резидент»), бывшего сотрудника Исполкома Коминтерна Цой Шен У («агент»), бывшего заведующего восточным отделом НКИД Арсения Вознесенского («в 1923–1926 годах систематически встречался с Отакэ»), бывшего начальника отдела внешних сношений Штаба РККА Василия Смагина, по долгу службы контактировавшего с японскими военными атташе («связан с японским Генштабом, Хата периодически встречался с ним как работником Наркомата обороны»), корреспондента «Бомбей Дейли ньюс» Абдула Азис-Азада («агент Особого отдела НКВД для связи в военное время… привлечен к разведывательной работе бывшим атташе Кавабэ»), корреспондента австрийской газеты «Нойе Фрей пресс» Николауса Бассехеса («резидент на случай военного времени»), агента Бремана («связан с японским корреспондентом Маруяма»), секретаря артиллерийской академии в Ленинграде (имя неизвестно), завербованного Маруяма.
Нельзя, читая этот список, не задаться вопросом: что же стало с людьми, которых «подполковник Мотоно» обвинил в шпионаже? И. Т. Иванов-Перекрест был осужден в 1939 году, получил 15 лет исправительно-трудовых лагерей. Дальнейшая судьба его пока неизвестна. Профессор Невский и его жена были расстреляны в Ленинграде в ноябре 1937 года. Профессора Мацокина расстреляли 8 октября того же года в Москве. Днем позже — Лейферта. А. Л. Наги расстреляли 7 сентября 1938 года. Цой Шен У был арестован как «японский шпион», дальнейшая судьба неизвестна. Полковника В. В. Смагина расстреляли в августе 1938 года. Следы индийского корреспондента пока не найдены, а австрийский журналист благополучно пережил и репрессии, и Вторую мировую войну. Василий Ощепков был арестован в ночь на 2 октября 1937 года, умер от сердечного приступа в Бутырской тюрьме 10 октября. Его друг Трофим Юркевич был расстрелян в Москве летом 1938 года, он тоже, в свою очередь, дал показания на Кима и его жену о том, что они оба являются японскими шпионами. Японский дипломат Юхаси долго и спокойно работал в Советском Союзе, а советский дипломат Вознесенский был расстрелян в декабре 1937 года (уже в 1939 году Ким на очередном допросе, отказываясь от всех показаний 1937 года, вдруг уточняет: «Я знал, что Вознесенский Арсений, Бреман, Брауде и другие разрабатываются нашим же отделением по подозрению в шпионаже в пользу Японии. Больше о них я ничего не знал»[344]).
Читая протоколы допросов Кима, возникает еще один вопрос: какова степень вины Романа Николаевича в гибели этих людей? Мне довелось внимательно изучить следственные материалы троих из них: Ощепкова, Мацокина и Юркевича[345]. На основании этих документов можно со всей ответственностью утверждать, что показания Кима не сыграли в их судьбе сколько-нибудь значимой роли, они не легли в основу обвинения (Ощепкову его вообще не успели предъявить), не стали «краеугольным камнем» набора доказательств — нет. Но скрывать эти показания, делать вид, что их не было, неправильно и несправедливо по отношению к нашей истории. Тем более что допросы, а значит, самые необычные фантазии о вездесущих «японских шпионах» продолжались. НКВД, например, особенно интересовали возможные диверсии на железных дорогах. Об этом спрашивали многих из арестованных «харбинцев» — бывших жителей «Русской Атлантиды», столицы Северной Маньчжурии. В Харбине работало много советских служащих на КВЖД до продажи ее в 1935 году японцам. Потом все они в одночасье стали подозреваемыми и обвиняемыми. Ким, который вряд ли когда-либо в Харбине бывал, тоже рассказал о создании сети японской агентуры на Забайкальской, Томской, Омской железной дорогах, а заодно и на судостроительном заводе в Николаеве, что на Днепре и… в Одессе[346]. Но на этом процесс следствия по делу подполковника особой японской разведывательной службы Токумукикан Мотоно Кинго внезапно застопорился.
Глава 16 ВОСЕМЬ ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА
…О, если бы увидеть из моей темницы, Как налетит ветер, В яростном порыве Сорвет плетеную шляпу И умчит в синеву небосклона! Нуяма Хироси. Плетеная шляпа[347]Как только в отношении Кима, ставшего теперь Мотоно, у следствия появилась какая-то ясность (во всяком случае, отпускать его точно никто не собирался), в оборот взяли жену Романа Николаевича — Мариам Цын. В первый раз ее допросил 14 июня тот же следователь Верховин. Его интересовал круг японских знакомых Мариам Самойловны (режиссеры Сано и Хидзиката, прибытие в Москву Отакэ в 1931 году, коммерческий атташе Каватани, пролетарский писатель Акита Удзяку, приезжавший в Москву в 1927 году). Мэри Цын вспомнила странный эпизод, когда, вскоре после приезда в столицу, познакомилась с двумя китайцами, приняв их за японцев, — это было занесено в протокол. Такое впечатление, что Верховин искал хоть что-нибудь, в чем можно обвинить задержанную, не находил, но всё же вынес постановление: «Цын М. С. следствием изобличается в том, что оказывала содействие своему мужу Ким P. Н. в разведывательной работе в пользу Японии».
Финальный вопрос был зафиксирован в дополнительном протоколе:
«— Вам предъявляется обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 58, п. 6, то есть в том, что вы оказывали содействие Киму Роману Николаевичу в шпионаже в пользу Японии. Признаёте ли вы себя в этом виновной?
— Виновной себя не признаю. Я не только не помогала ему в разведывательной работе, но даже не знала о его причастности к каким-либо иностранным разведывательным организациям»[348].
«Не знала» не означает «он не шпион». Подписывая протокол с такой формулировкой, сотрудница НКВД Мариам Цын понимала, что выносит мужу, а значит, и себе, и — что самое страшное — ребенку, приговор. Вот только поделать с этим она не могла ничего. Первичное следствие закончилось, и с Лубянки Мэри перевели в Бутырский изолятор. 26 июля следствие было продлено «в связи с выявленными новыми обстоятельствами в отношении арестованной», но на следующий допрос ее вызвали только через месяц и ни о чем важном не спрашивали. Тем не менее 28 августа было готово обвинительное заключение: «Еще до поступления в ОГПУ — НКВД Цын имела обширные связи среди японцев, занимавшихся шпионской деятельностью… В 1925 году в г. Чите познакомилась с корреспондентом японской газеты Маруяма, установленным разведчиком… Встретив двух студентов КУТК’а, приняв этих китайцев за японцев, проявила инициативу к сближению. Позднее, несмотря на прямое нежелание новых знакомых встречаться… энергично принимала ряд мер к сближению… Находясь на работе в аппарате ОГПУ — НКВД, Цын самостоятельно и через своего мужа Кима P. Н. заводила новые знакомства с японцами (Каватани, Отаке, Хиджиката, Секи Сано, Акита)… Цын, заведомо зная, что Ким своими преступными отношениями с отдельными негласными сотрудниками НКВД, выразившимися в переходе с агентурой на короткую ногу, установлении интимных отношений с женской агентурой, не только не принимала мер к пресечению таких явлений, а, наоборот, всячески содействовала в этом Киму: Цын принимала агентов в качестве своих гостей. На основании вышеизложенного обвиняется в том, что на протяжении ряда лет систематически поддерживала связь с японцами, подозреваемыми в шпионской деятельности. Являлась женой крупного японского шпиона Кима P. Н. и содействовала ему в его предательской деятельности. Дело направить на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР»[349]. Комиссар госбезопасности 3-го ранга Минаев утвердил постановление в тот же день, и Мариам Цын стала ждать определения срока заключения. Это случилось только 20 сентября 1937 года. Особое совещание — внесудебный орган НКВД СССР — приговорило ее к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и отправило по этапу в Коми. Ехала она опустошенная — перед этапом Мэри официально известили о том, что ее муж — изменник родины и японский шпион Ким Роман Николаевич приговорен к расстрелу. На самом деле в сентябре Роман Ким был просто очень занят — он много работал.
После «признания» и подписания обвинительного заключения Кима на время оставили в покое — Сталину и Ежову надо было решить, что с ним делать, а тут как раз начались важные процессы против военных. В июне были расстреляны Тухачевский и его соратники, затем начались чистки в НКВД (в августе расстреляли замначальника контрразведки М. Горба, арестовывавшего Кима). До сентября руки до Кима так и не дошли. А затем…
В августе 1945 года — восемь лет спустя после описываемых событий, новое следствие по делу Кима установило, что арестованный, которому благородным решением комиссара Фриновского было разрешено работать прямо в тюрьме, уже летом 1937-го «выполнял ряд экспертиз и делал переводы японских документов», а «с сентября 1937 года и до настоящего времени используется органами НКГБ СССР на специальной работе, которая оценивается весьма положительно». Это еще не был перелом — военного разведчика и дипломата, резидента ИНО и генконсула СССР в Харбине Бориса Мельникова так использовали около года, а потом всё равно расстреляли. Но для Кима это был шанс уйти от тяжких мыслей. Ведь в тюрьме — даже в переполненной камере, в которой и сидеть-то не получается, а можно только стоять плечом к плечу с такими же изможденными, грязными, вонючими зэками, как ты, видя, как переползают с руки одного на руку другого вши, — ты всегда один. Внутренне — абсолютно одинок. В одиночной камере — тем более. Поэтому работа, да еще интеллектуальная, была для Романа Николаевича спасением. К тому же теперь, после перевода его из Лефортова во внутреннюю тюрьму на Лубянке, его перестали пытать бессонницей и здоровье начало быстро восстанавливаться. Это видно по показаниям арестованного в разные месяцы следствия: от нелепой, путаной, сбивчивой фантастики весной 1939 года до взвешенных и даже вызывающе дерзких — весной 1940-го.
Первый после перерыва допрос состоялся 9 сентября. Следователь Григорьев поинтересовался, кого именно из агентов НКВД Ким провалил. Подследственный не спорил и соглашался со всем. Признал агентом японцев гражданку Чмуль, у которой квартировал майор Ямаока, и — что, наверное, было для него непросто — заявил, что Тверской — Полонский, тот самый суперагент НКВД и Штаба РККА, который на протяжении десяти лет выдавал японцам дезинформацию и который должен был бы стать одним из настоящих героев нашей страны, тоже — японский шпион. Ким об этом якобы знал, а «зная, что они являются двойными агентами, не предпринял никаких мер к удалению их из сетей». В конце концов Роман Николаевич признал, что все его люди в Москве перевербованы японцами: «указанная мною агентура на протяжении длительного периода “благополучно” работала или имела отношение к японцам»[350]. После этого допросы снова надолго прекратились — дел у оперативного переводчика накопилось невпроворот.
Сейчас очень сложно установить штат специалистов по Японии в НКВД летом — осенью 1937 года, в горячее время, когда Квантунская армия готовилась к боевым действиям в Маньчжурии. Можно предположить, что этой работой занимались В. Д. Плешаков и Н. П. Мацокин, но уже в октябре оба они были «изъяты» навсегда. Возможно, работали еще несколько человек (в том числе женщин), ставших позже известными учеными, но масштаб репрессий против востоковедов был таков, что де-факто осенью 1937 года даже получаемые донесения, перехваченные шифрограммы и материалы из дипломатической почты попросту некому было переводить, проверять и анализировать. Даже хороший уровень японского языка не гарантировал правильного понимания этих документов — специфика языка, обильное использование азбуки катакана, омонимичность японских слов — всё это представляло огромные трудности для дешифровщиков и переводчиков. «Подполковник Мотоно», кем бы он ни был на самом деле, явно справлялся с этой задачей лучше всех. Перевод Мартэна-Мотоно был гарантией качества. И если уж его не расстреляли сразу, имело смысл использовать его как можно дольше — как Бориса Мельникова, а от пули он никуда не денется.
Один из самых известных среди перехваченных летом-осенью 1937 года материалов японского посольства — доклад помощника военного атташе капитана Котани Эцуо, подготовленный им к заседанию японской дипломатической ассоциации в июле 1937 года. Дело Тухачевского только что прогремело на всю страну, и доклад так и назывался: «Внутреннее положение СССР (Анализ дела Тухачевского)». Провозились с переводом долго. Ежов доложил его Сталину только 10 декабря, акцентировав внимание на том, что по оценке иностранных экспертов дело Тухачевского является ярким проявлением политической чистки, начатой в Советском Союзе несколькими годами ранее и потрясшей всю страну. Причем сама по себе чистка провоцирует недоверие и доносительство, в том числе в Красной армии, и воспроизводит сама себя. За арестами следуют новые аресты, приговоренные к высшей мере тянут за собой в расстрельные рвы пока еще живых… Чистка углубляет взаимную подозрительность в руководящей прослойке советских органов и среди комсостава Красной армии, как следствие — репрессии продолжаются. «Всё это наносит вред духовной спаянности народа и не подлежит никакому сомнению, что с точки зрения синтетической оборонной мощи или государственной обороны в широком понимании, моральная слабость СССР будет всё больше сказываться. Нужно, однако, иметь в виду, что диктатура Сталина необычайно сильна и что нынешний процесс проведен для усиления диктатуры Сталина, то есть процесс как таковой является успехом…»[351]
Но если доклад японского разведчика о том, что Сталин и сам прекрасно знал, мог подождать, то события на Дальнем Востоке носили совсем иной, непредсказуемый и неподконтрольный Москве характер. 7 июля 1937 года произошел инцидент у моста Лугоуцяо (Марко Поло) в Пекине. Сегодня официальная китайская историография ведет отсчет Второй мировой войны именно с этой, непривычной для Европы даты. Для того есть основания: японская армия перешла в решительное наступление против войск Гоминьдана, начав вторую японо-китайскую войну, которая закончилась только через восемь лет войной советско-японской. С театра военных действий начали поступать важные материалы. Резко активизировалась японская военная разведка в Харбине и Москве, а противопоставить ее усилиям было уже почти нечего и некого. Майор Котани был последним адресатом сгинувшего в подвалах НКВД Полонского. Сейчас следовало бы запустить дезинформацию в японский Генеральный штаб, но… все, кто этим занимался, либо сидят, либо уничтожены. Странное признание Кима в том, что он на самом деле не Ким, спасло ему жизнь. А НКВД теперь уже стало не важно — японец он или не японец. Надо было переводить.
В течение всего 1938 года Романа Николаевича на допросы не вызывали — у него опять было много работы. Ким ждал окончания следствия, почти неминуемого расстрела и трудился над переводами, зная, что каждую минуту дверь камеры может распахнуться и его вызовут в последний раз. Оснований для этого становилось всё больше. Несмотря на прекращение допросов, «работа по делу» подполковника Мотоно продолжалась в рутинном, бюрократическом режиме. В период с октября 1937-го по май 1938 года на Кима дали признательные показания как минимум пять человек. Сначала юрист производственного объединения «Востоксталь» из Свердловска Александр Мартынов, «сознавшийся» в работе на японскую разведку, сообщил, что ее резидент, некто Ней, передал ему информацию о том, что Ким — японский разведчик, имеющий на связи «шпионскую сетку»[352]. Через пять месяцев, в марте 1938-го, бывший сотрудник КРО ОГПУ и Разведупра Штаба РККА Воронинов, работавший на Дальнем Востоке, «признался» в том, что «в ноябре 1923 года… работая в ОГПУ, связался по данному ему паролю с одним корейцем, представителем японской разведки. Кореец дал ему указания работать в ОГПУ так, чтобы быть на хорошем счету, заявив, что он, Воронинов, предназначается для особой роли в запасную сеть, которая будет действовать только в момент войны. До 1927 года Воронинов, как агент разведки, активно не работал. Кореец, с которым Воронинов периодически встречался, оказался впоследствии сотрудником КРО ОГПУ — Ким Романом Николаевичем (арестован)»[353].
Одновременно упомянул о Киме в своих показаниях и Трофим Юркевич. В сохранившемся протоколе его допроса от 27 марта 1938 года следователь вписывал одни данные поверх других, вымарывал ненужные фамилии и дописывал тех, кого теперь надо было «прижать». Имена Кима и его жены подчеркнуты там красным карандашом. Подпись Юркевича под протоколом едва различима — он, больной туберкулезом человек, уже умирал от пыток и подписывал всё, что было угодно следователю[354].
Даже рисовод из Ростова Василий Когай, тоже кореец, 7 июля 1938 года на допросе подтвердил, что в 1928 году в Москве, когда он поступил во Всесоюзную академию соцземледелия, то познакомился с резидентом японской разведки Кимом P. Н., который год спустя поручил ему «под предлогом изучения сельскохозяйственных земель выехать в Казахстан для налаживания контрреволюционной работы и подготовки повстанческих кадров. А в Ростове-на-Дону он, также по заданию Кима, собирал сведения об экономике края, расположении предприятий оборонного значения и дислокации частей РККА»[355].
Еще через месяц кадровым японским разведчиком назвал Кима хорошо его знавший капитан госбезопасности, бывший заместитель полпреда ОГПУ по Дальнему Востоку и один из создателей советской контрразведки Иван Чибисов: «…я также подозреваю в связях с японцами Ким P. Н., бывшего переводчика 5-го отделения КРО, который в период интервенции Дальневосточного края, работая в разведотделе японской армии, был секретарем корреспондента японской газеты во Владивостоке»[356]. Через две недели самого Чибисова, стоявшего у истоков создания ОГПУ в Сибири и на Дальнем Востоке, расстреляли как «японского шпиона».
Романа Николаевича в камере контролировали подсадные. В его деле подшита только одна грязная, мятая бумажка: записка-донос, но полковник А. утверждает, что их было больше. Характерен текст сохранившейся (орфография и пунктуация оригинала): «Мне известно из разсказа ар. Именитова М. С.[357] в камере Внутренней тюрьмы НКВД от 3.IX до 15.IX. 1938 с которым я находился вместе в камере в отношении арестованного бывшего сотрудника НКВД Ким следующее: Ким в разговорах с Именитовым неоднократно выражал чувства глубокой ненависти в отношении народного комиссара гр. Ежова… Считал что по вине народного комиссара было разгромлено японское отделение НКВД, так что теперь Советский Союз остался без контрразведки в отношении Японии… Так как ему была дана возможность работать, будучи в тюрьме, он часто возвращаясь с работы в камере разсказывал о том что он делал… Разсказал что в иностранной печати, которой он имел обязанность разработать, он читал статью Керенского против народного комиссара… Неоднократно с Именитовым говорил о Борис Савинковым, который он очень хвалил и в котором видел личность очень подходящей в нашем времени…»[358]
Несмотря на то что записка подписана 15 декабря, то есть через месяц после описываемых разговоров, Киму пришлось объясняться со следователем: он никому не говорил о своей работе «наверху» и уж, конечно, «о содержании документов, которые мне, несмотря на мое положение арестованного, давали прорабатывать… Говорил только, что хожу наверх на положении “временно используемого” для сдачи своих дел». Разговора о статье Керенского Ким не вспомнил, а вот Савинкова действительно обсуждали: «Я рассказал в камере о судебном процессе над ним в Ленинграде. Я, возможно, сказал тогда, что Савинков вел себя на суде очень хорошо, мужественно признав преступность всей своей предыдущей деятельности»[359]. Очень к месту пришлась зафиксированная критика Ежова. Страшного карлика уже сняли с должности главы НКВД, и его расстрел был только вопросом времени. Некоторые из «ежовцев», причастных к аресту Кима, тоже пошли по этому пути — их арестовывали и очень быстро передавали коменданту НКВД Блохину. В его распоряжении была специальная команда палачей в резиновых фартуках и перчатках, которые умывались одеколоном, чтобы хоть немного смыть запах крови своих жертв[360].
Спустя два года, весной 1939-го, в камеру к Роману Николаевичу неожиданно пришел новый начальник японского отделения контрразведки Александр Гузовский — в какой-то мере ученик Кима — и сообщил, что в его деле много сомнительного. «Наверху» это понимают, и скоро Роман Николаевич будет передопрошен. Так и произошло. Гузовский подал рапорт об очередном продлении срока следствия по делу Кима в связи с тем, что арестованным представлен ряд фактов, опровергающих имеющиеся в деле сведения[361]. Расчет Кима оправдался полностью: в замешательстве его не успели расстрелять. Потом, пока дело простаивало, изменилась международная обстановка, и его уникальные способности оказались востребованными. Теперь новые начальники с удивлением листают страницы его дела, ничего не понимая в фантастическом противоречии и нагромождении фактов. Доследование — новый шанс на жизнь.
Начинается новая череда допросов: 3, 5 и 17 июня их проводит уже новый следователь — сержант госбезопасности Дарбеев — «спец» по дальневосточникам. Снова и снова повторяются одни и те же вопросы: где и когда родился, где учился, кто родители. Как и многих других арестованных разведчиков, Кима никто не спрашивает о его подпольной работе — реальность неинтересна, пока еще идет игра «кто кого посадит». Ким уже насиделся, и он начинает раскрывать карты. 10 и 22 июня 1939 года, ровно за два года до войны, он говорит правду: «На следствии в 1937 году мне заявили, что я являюсь японцем, что Ким — это не моя фамилия, и требовали от меня, чтобы я назвал настоящую японскую фамилию… Я пытался утверждать, что никогда японцем не был, но мои утверждения не принимались следствием во внимание… Должен сказать, что я никогда не был завербован в японскую разведку… Данные мною показания в 1937 г. являются вымышленными, т. к. я пришел к выводу, чтобы скорее написать показания и тем самым дать возможность следствию закончить мое дело…»[362]
Однако закончить его дело не так просто, как кажется арестованному. В это время вопрос о связях с «японским шпионом» Кимом задают бывшему резиденту ИНО НКВД в Шанхае Михаилу Добисову-Долину. Тот, конечно, соглашается: да, связь с Кимом установил еще в 1925 году, а в середине 1930-х Ким даже порекомендовал Добисову перейти в другое подразделение, чтобы эффективнее работать на японскую разведку, что, впрочем, у него не получилось. Впервые за два с лишним года Киму и свидетельствующему против него арестованному устраивают очную ставку: почти в 11 вечера 15 июля 1939 года. В помещении присутствует Гузовский, чья заинтересованность в возвращении бывшего коллеги рискованна, но очевидна.
Добисов в неожиданных подробностях вспомнил свою «вербовку» Кимом осенью 1925 года в Московском институте востоковедения: «Ким заявил мне, что ему известно о том, что, будучи в Китае, я связался с японской разведкой… Это было начало моей шпионской связи с Кимом». Добисов выполнил задание Кима «достать материалы по Восточному отделу Коминтерна», а годом позже, перед отъездом в Китай, получил от Кима пароль для связи с японской разведкой в Шанхае — почтовую открытку, разрезанную по диагонали. Со второй половиной открытки на связь пришел сотрудник японского консульства в Шанхае Савара. С ним Добисов оставался на связи до своего возвращения в СССР в 1931 году. Потом он еще несколько раз встречался с Кимом, чтобы передать ему списки агентуры ИНО ОГПУ на Дальнем Востоке: в Корее, Китае и Японии — ими очень интересовались в Токио. Осенью 1933 года Ким сам пришел к Добисову и не один, а с неким японским дипломатом по фамилии Сато. Ему Добисов доложил о политике СССР на Дальнем Востоке, прежде всего в Маньчжурии, и о резидентурах ОГПУ. В 1935 и 1936 годах состоялись еще две встречи с Сато и Кимом: говорили об убийстве Кирова (в те годы опасная и запретная тема — формально за эти разговоры был расстрелян еще один разведчик-японовед — В. Н. Крылов[363]) и о возможных в связи с этим изменениях обстановки на КВЖД. Напоследок Добисов получил очередные разведданные от японца.
Шокированный Роман Ким всё отрицает: ничего этого не было, о встречах с Сато он слышит в первый раз и Добисов просто врет. Да, с самим Добисовым они знакомы, но «встречались только в ИНО, т. к. Добисов работал в 7 секторе, куда я заходил по делам службы. Больше я нигде с ним встреч не имел…». Ким спрашивает Добисова, как был одет Сато, когда они с ним якобы встречались. Конечно, Добисов таких деталей не помнит — давно было. Невозмутимый следователь Дарбеев уточняет у свидетеля:
— Вы не оговариваете Кима?
— Не оговариваю, так как никакого смысла оговаривать его у меня нет»[364].
Очная ставка, как и следовало ожидать, ничего не дает. Судьба Кима решается теперь не на Лубянке, а в Кремле, и еще дальше — на полях Маньчжурии. Уже вовсю гремят орудия — в разгаре бои с японцами в Монголии, на Халхин-Голе. И положение на театре военных действий складывается явно не в пользу Красной армии. В день очной ставки — 15 июля — Сталин направил на Халхин-Гол специальную комиссию во главе с печально известным комиссаром Мехлисом для проверки причин неудач.
Сразу после очной ставки Ким «пропал» — в его следственном деле нет никаких записей вплоть до 21 марта 1940 года. В ходатайстве перед прокурором о продлении сроков следствия есть пояснение: «…следственное производство по делу № 1626 по обвинению Ким P. Н., согласно приказания Народного комиссара внутренних дел Союза ССР — комиссара безопасности I ранга — тов. Берия, было приостановлено, а Ким был использован для выполнения спецзадания»[365]. Что это значит? Неизвестно. Учитывая, как и с кем работал Ким, любой опытный японовед, поразмыслив, может вспомнить о «феномене Онода». Онода — это тот самый японский офицер, выпускник разведшколы в Накано, специалист по партизанской войне, который, будучи заброшен в джунгли Филиппин в январе 1945 года, а затем, прекрасно зная о том, что война кончилась, вел боевые действия (сначала в составе группы, затем один) против американской армии и филиппинской полиции до весны 1974 года. Извлечь упорного диверсанта из джунглей сумел только его командир, по счастью, выживший в боях и прибывший на остров Лубанг, чтобы приказать младшему лейтенанту Онода сдаться. Для нас здесь исключительно важна та черта японской психологии, особенно психологии военных, самураев, о которой обычные люди либо никогда не задумываются, либо забывают. Солдат, обреченный вести боевые действия в окружении, один, получивший приказ не сдаваться, будет повиноваться только тому, кто этот приказ отдал. Если же командир, отдавший приказ, погибнет, остановить такого солдата может только смерть. Японские офицеры, завербованные Романом Кимом, стали против собственной воли его солдатами, ведущими тайную войну со своей родиной. Нравилось им это или нет, но естественный для них кодекс чести должен был заставлять их подчиняться тому человеку, который их вербовал, кто ими руководил. Если мы когда-нибудь узнаем, что время от времени Романа Николаевича Кима вывозили из тюрьмы НКВД на встречу с его японскими агентами или даже отпускали за границу, чтобы он там руководил ими, не стоит этому удивляться: «феномен Онода» вполне закономерно должен был сработать, хотя сам Онода в то время еще только готовился к своей тридцатилетней войне. Конечно, версия малоправдоподобная, но когда мы имеем дело с Кимом…
С агентами встречался Роман Николаевич или нет, логично будет предположить, что по возвращении его ждало если не освобождение, то, во всяком случае, какое-то ослабление режима и хотя бы надежда на скорую свободу (кстати, свидетельствовавшего против него М. Е. Добисова-Долина за это время успели расстрелять). Но на Лубянке работает своя логика. Пока не велись допросы, а возможно, и самого Кима не было в Москве, педантичный сержант госбезопасности Дарбеев свел воедино все показания против Кима, данные за эти годы, и собрал дополнительные материалы по его делу. В частности, поступили копии метрики из Владивостока, подтверждающие, что Роман Ким — кореец, родившийся там в 1899 году (о спорности этой версии чекистам, разумеется, известно не было). «Кроме того, в распоряжение следствия поступил ряд показаний арестованных, изобличающих Ким P. Н. в шпионской деятельности»[366].
К числу последних относились в том числе обширные комментарии И. И. Брауна-Домбровского, данные им на допросе 31 июля. Потомок польских дворян, обвинявшийся в шпионаже в пользу Японии, был знаком с Кимом с 1916 года, когда участвовал в качестве автора в издававшемся Кимом рукописном гимназическом журнале «Бродячий кот». Потом они вместе учились в Восточном институте, вместе работали журналистами в Гражданскую войну. Браун-Домбровский ушел с колчаковцами в Харбин, откуда приехал в 1935 году — якобы по заданию резидента японской разведки в Харбине Фукуи с целью установления связи с Кимом. Встретились старые знакомые только в октябре 1936 года, и, судя по показаниям Брауна, Роман Николаевич немедленно завербовал его для «освещения деятельности харбинцев», передав на связь сначала Александру Гузовскому, а затем Михаилу Миронову. Теперь, конечно, оказывалось, что всё было не так и Браун был лишь курьером от Фукуи к Киму, а от того к другому «японскому шпиону» — Василию Крылову[367].
К окончанию выполнения Романом Николаевичем спецзадания Гузовский и новый начальник контрразведки ГУГБ Трофим Корниенко подготовили документы об изменении обвинения Киму со статьи 58, пункт 6 на статью 58, пункт 1а, то есть на «измену родине». 9 апреля Романа Николаевича вызвали на допрос и предъявили постановление о переквалификации дела, но только уже не на пункт 1а, а на пункт 16. Разница между буквами — ровно одна жизнь. Если в первом случае можно было рассчитывать на долгий срок в лагерях, то пункт 16 предусматривал только одну меру наказания — расстрел. Ким расписался: «С материалами по делу полностью ознакомлен и добавить ничего нового не имею»[368]. Он устал. Много позже Роман Николаевич в письме другу, известному писателю приключенческого жанра Льву Славину напишет об этом, используя боксерскую терминологию: «Там я по счету девять всё-таки встал…», но тогда — 9 апреля 1940 года для Кима прозвучал еще только счет «восемь».
Обвинительное заключение гласило: «В шпионской деятельности изобличается показаниями Буланова, Гай, Николаева-Рамберг, Добисова-Долина, Чибисова, Клётного (в живых к тому времени оставался только Клётный. — А. К.). Подтверждено также показаниями Когая и Мартынова… Обвиняется в том, что, являясь агентом японской разведки, по ее заданиям внедрился в аппарат ОГПУ — НКВД и до момента ареста занимался активной разведывательной деятельностью в пользу Японии… Следственное дело направить в Главную Военную прокуратуру для рассмотрения Военной коллегией Верховного Суда СССР»[369].
Закрытое заседание Военной коллегии (ВКВС) состоялось 9 июля 1940 года на улице 25-го Октября, в печально известном доме 23, где выслушали свои приговоры, а затем были убиты (многие прямо здесь — в подвале) сотни генералов и офицеров. Председательствовал на заседании корпусной военный юрист Иван Осипович Матулевич (Матулявичус) — участник репрессий еще с 1920 года. Суд длился долго, и хотя судьи не слишком вникали в перипетии дела, необходимо заметить, что дело это они по крайней мере читали. Председательствующий суда спросил у подсудимого, помнит ли тот данные им на предварительном следствии показания, «…смутно, но помню, — ответил Ким и неожиданно пошел в наступление: — Всё это мои показания, но они не отвечают действительности. Я не мог иначе говорить. Так как мне сказали, что вся моя работа в органах НКВД скомпрометирована. Жена моя была арестована, я находился в таком состоянии, что не мог спать. Следствие производилось с уклоном обвинения. Всё это и заставило меня давать фантастические показания… Всё это фантазия, написанная мною при содействии следователя Верховина, который дал мне специальные вопросы, а в соответствии с последними я и давал такие показания.
— Заявление на имя бывшего заместителя наркома внутренних дел вы писали?
— Да, писал… Что шпион и предатель… Меня заставили написать.
— К вам применяли физические методы воздействия?
— Нет»[370].
Разбирая биографию подсудимого, судья дошел до эпизода с приемом Кима на службу в ОГПУ:
«— В органы ОГПУ я поступил по предложению Богданова, моего товарища по университету. Сам же я никогда бы на эту работу не пошел.
— А разве он вас силой затянул на эту работу?
— Нет, не силой, но мне польстило его обращение ко мне. Он сказал, что они доверяют мне как хорошему и преданному работнику и так далее. После этого я согласился работать в ОГПУ».
Когда же речь зашла о возможной вербовке уже японцами, Ким внезапно сдал позиции. Как будто устал, выдохся. Ему просто нечего было сказать.
«— [Японцы] о шпионаже со мной тогда не разговаривали. Да и кроме того, японская разведка такими простыми методами не вербует. Нужны ведь данные, за которые они могли бы ухватиться.
— А разве не было таких данных? Дом вашего отца, как вы показали на предварительном следствии, представлял собой своеобразный салон, который привлекал к себе иностранцев. Покровительство вам [со стороны] Ватанабэ, учеба в Японии и так далее… Разве это не данные для японцев?
Подсудимый молчит»[371].
Допрос продолжается.
«— Сасаки Сэйго вы знали?
— Знал. Он работал 2-м секретарем японского посольства в Москве.
— Сасаки был полковником японской армии?
— Нет.
— А зачем же вы на предварительном следствии написали, что Сасаки — полковник?
— Сасаки был назван полковником следователем, но не мною.
— А Комацубара вы знаете?
— Знаю. Его я видел на парадах, и, кроме того, он был моим объектом наблюдения.
— Встречи вы имели с Комацубара?
— Никогда, хотя на предварительном следствии и показал, что имел с ним две встречи. Шпионажем в пользу Японии я никогда не занимался. Я был честным работником»[372].
На остальные вопросы Роман Ким отвечать отказался, заявив, что скажет всё в последнем слове. Вот оно:
«Граждане судьи. Я прошу обратить внимание на следующие обстоятельства. В обвинительном заключении указано, что я был арестован 2 апреля 1937 года по подозрению в шпионаже в пользу Японии. Это говорит за то, что в органах НКВД в момент моего ареста не было материалов, изобличающих меня в шпионской деятельности.
Буланов, Гай и Николаев — это мои бывшие непосредственные начальники, с которыми я был связан по службе. Они, давая показания о моей шпионской деятельности, ссылаются на третьих лиц. Как же получается: мои непосредственные начальники узнают о том, что я являюсь шпионом, но почему-то никто из них не устанавливает связи со мною, как с японским шпионом.
Николаев обвиняет меня в том, что я не уничтожал японских разведок (так в документе. — А. К.). Это неправда. Я производил аресты японских разведчиков только с поличным. Мною было завербовано несколько японцев для секретной работы в пользу советской разведки. Я работал только хорошо.
Если бы я плохо работал, то меня в данное время не привлекли бы к работе в органах НКВД. Ведь с 1937 года по сегодняшний день я работаю на той же работе, что и до моего ареста, только лишь разница в том, что меня не отпускают ночевать домой.
Свои показания, данные на предварительном следствии, о моей, якобы шпионской, работе, я категорически отрицаю.
По каким причинам я дал ложные показания, я уже сказал в начале судебного следствия.
Все японцы, с которыми я якобы имел связи по шпионской деятельности, мною же скомпрометированы, и они в данное время, благодаря моей только работе, находятся в руках НКВД.
В тюрьме я нахожусь уже 39 месяцев. Здоровье мое подорвано. Такой ценности, какую я приносил ранее, я уже не представляю. Если вы, граждане судьи, сочтете показания врагов народа более вескими, чем моя 14-летняя служба в органах ОГПУ — НКВД, то прошу только одно: расстрелять меня, так как японским шпионом я жить не хочу, ибо таковым я никогда не был»[373].
В 15 часов 20 минут вернувшиеся после почти часового заседания судьи вынесли вердикт «бывшему сотруднику для особых поручений 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР Ким P. Н. (он же Ким Кирьон)». Его зачитал председательствующий Матулевич: «Именем Союза Советских Социалистических Республик… Судебным следствием установлено, что подсудимый с 1922 года был завербован для шпионской работы на территории Советского Союза… Систематически по день своего ареста передавал японской разведке совершенно секретные сведения, составляющие государственную тайну… Таким образом совершил преступление, предусмотренное ст. 58–1а УК РСФСР… Подвергнуть тюремному заключению сроком на двадцать лет с поражением в политических правах на пять лет, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Срок исчислять со 2 апреля 1937 года. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Роман Ким снова выжил.
Выжил, чтобы начать новую жизнь, но, конечно, совсем не ту, о которой просил в последнем слове. Он получил клеймо японского шпиона и избежал расстрела. Казалось бы, Роман Николаевич должен был умереть, покончить с собой от позора и сделать это более удачно, чем в случае с очками, но тяга к жизни — к любой жизни — обычно бывает сильнее слов. Ему хотелось вдохнуть воздуха свободы, но, когда оказалось, что можно вздохнуть и дышать (не один — последний раз, а много) воздухом даже тюрьмы, он, как обычный, нормальный человек, согласился и на это. Началась его новая жизнь — всё еще тюремная, но уже другая, и не такая страшная, какая могла бы оказаться, попади он действительно в наши сибирские лагеря…
Арестованный в 1939 году в Ленинграде профессор Николай Иосифович Конрад, после 1940 года как раз переведенный из лагеря, где работал сначала на лесоповале, а затем банщиком, в Москву, во внутреннюю тюрьму НКВД, вспоминал, что сидел «в камере на Лубянке в чистом, отапливаемом помещении. Слышал, как за стенкой нескончаемо трещала машинка. Позднее выяснилось, что соседом был другой японовед, романтик, человек-легенда — Роман Ким. Вообще же существование на Лубянке было какой-то фантасмагорией: Конрад рассказывал, как однажды ему принесли землянику, и он в шутку заметил, что землянику едят с сахаром. Его замечание было воспринято всерьез, и тут же в камеру был доставлен сахар…»[374].
Роман Николаевич никогда не вспоминал о тюремной землянике (Конрад еще и о паркетных полах в камерах упомянул), да и вообще информация о годах, прожитых им после оглашения приговора, крайне скудна и, как обычно, невероятно противоречива. Кимура Хироси в известной статье писал о том, что Ким рассказывал ему, как после участия в гражданской войне в Испании (!), сидел в лагере в Северной Африке, а его любимая жена Люба верно ждала его дома[375]. Однако кроме собственных слов Кима нет ни одного не то что подтверждения, нет ни одного упоминания о том, что он в середине 1930-х годов выезжал в Испанию (хотя, как обычно, это не значит, что можно со стопроцентной уверенностью говорить о том, что Роман Ким в Испании не был). «Верная жена Люба» — весьма странная мистификация японского журналиста, который должен был знать, что женой Кима с 1928 года и по крайней мере до середины 1940-х годов была Мариам Самойловна Цын, а не Любовь Александровна Шнейдер. Наконец, утверждение о северной Африке столь невероятно, что сам же Кимура его раскритиковывает, приходя к выводу, что Ким сидел в лагере в Северной России — в Магадане. Более того, Кимура тут же нашел человека, который сидел вместе с Кимом на Колыме, но отказался назвать его имя, и теперь мы потеряли его навсегда. И всё же Кимура был свято уверен, что Роман Ким провел тюремные годы именно там — на Колыме.
Достоверно известно, что Роман Николаевич в годы заключения стал основным автором секретного учебного пособия «Борьба с японским шпионажем»[376] и работал еще над одним пособием — для контрразведчиков по чтению японской скорописи. Японские ученые, изучавшие биографию его супруги — М. С. Цын, уверены, что разговорник японского языка для Красной армии, вышедший в то время под ее именем, на самом деле принадлежит перу Романа Николаевича[377].
Очевидно, что преемник Кима в японском отделении Александр Гузовский не просто так старался спасти Романа Николаевича от смерти — ему позарез был нужен толковый сотрудник, и он такого, точнее, лучшего, о каком мог только мечтать, сотрудника получил. Да еще на круглосуточный режим работы — ведь его можно было не отпускать ночевать домой. Уровень Кима осознавал не только Гузовский. И. В. Просветов приводит в своей книге следующее высказывание о Киме одного из его коллег: «Берия ценил Кима как специалиста по Японии, и материалы, им подготовленные, использовал постоянно. Роман Николаевич работал в тюрьме день и ночь, ему создали условия. Занимался, в том числе, переводами шифротелеграмм, благо у нас были японские коды»[378]. Это стыкуется и с упоминанием Конрада о непрерывно работающей печатной машинке, и с резолюцией наркома иностранных дел В. М. Молотова на пятистраничной справке НКВД на нового посла Японии в Москве Татэкава Ёсицугу: «Справка лучше нашей. Видите, опять НКВД оказался выше НКИД в информационном плане по вопросу работы НКИД…»[379]
Как обычно, никто не упоминает в открытых документах именно Романа Кима — его имя вспоминали только на допросах, но опять всё указывает на него: японоведа с Лубянки, пользующегося особым доверием Берии и, несомненно, спасенного от расстрела при его участии. Конечно, предполагать, что речь здесь идет о Романе Николаевиче, — это некоторая вольность, допуск, но допуск вполне обоснованный и необходимый. Его агенты и агентессы (Джоконда, Тубероза, О-39, Андерсен) продолжали успешно работать и давать ценную информацию и после ареста своего куратора — это отмечено в официальных документах НКВД[380]. Информация из посольства страны — потенциального противника, включая шифротелеграммы о стратегических планах, особенно накануне и в ходе войны, имеет особо ценный стратегический характер, и это именно ее в эти горячие дни поставляли на Лубянку и в Кремль агенты Кима. Всё это подтверждает короткое утверждение генерала Судоплатова о том, что к началу войны НКВД подошел с не менее мощными позициями в отношении Японии, чем 4-е управление Генерального штаба РККА (бывший Разведупр), располагавшее в Токио группой Рамзая — Рихарда Зорге.
Примеры перехваченных шифрограмм приведены в первом томе сборника документов «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне». Вот информация от японского консула в Кёнигсберге, переданная послу Японии в Москве: «В здешних военных кругах считают, что в настоящее время в Восточной Пруссии сконцентрированы крупные военные силы… и что в июне германо-советские отношения должны будут как-то определиться» (9 мая 1941 года); «В Мемельском порту, точно так же и в порту Пиллау, стоит большое количество военных транспортов… Сейчас в этом районе происходит концентрация войск… Военные перевозки по линии Познань — Варшава проходят более оживленно… Всё это наводит на мысль о начале войны (31 мая 1941 года); «5 июня через Кёнигсберг прошли в восточном направлении две дивизии легких танков, а 7 июня — несколько мотомехдивизий. Перевозки по железным дорогам по-прежнему проходят оживленно… К здешнему военному штабу дополнительно прикомандировано из Берлина 25 офицеров Генштаба» (10 июня 1941 года).
От посла Японии в Москве посланнику Японии в Софии: «Усиленно циркулирующие слухи о том, что Германия нападет на Советский Союз, а в особенности информация, поступающая из Германии, Венгрии, Румынии и Болгарии, заставляют думать, что приблизился момент этого выступления…» (9 июня 1941 года). От посла в Финляндии послу в Москве: «Недавно стала проводиться вновь фактическая всеобщая мобилизация… Молодежь в секретном порядке вступает в германскую армию и, по-видимому, мечтая о проведении карательной войны против Советского Союза, надеется на возвращение утерянных территорий» (18 июня 1941 года). От посла в Бухаресте послу в Москве: «Германский посланник сказал мне доверительно следующее: “Обстановка вошла в решающую фазу развития. Германия полностью завершила подготовку от Северной Финляндии и до южной части Черного моря и уверена в молниеносной победе…”»[381](20 июня 1941 года) — за сутки до начала войны…
И всё же самый ответственный момент для советской контрразведки, действующей на японском направлении, наступил осенью 1941 года. 15–16 октября немецкие войска вырвались на оперативный простор на подступах к Москве. Падение столицы казалось неизбежным. В городе началась паника — такая, что захлебнулась начатая массовая эвакуация важнейших учреждений. Оперативный архив НКВД уехал в Омск, основные управления, включая контрразведку, — в Куйбышев. Туда же отправились и иностранные посольства, в том числе и японское. Заключенный внутренней тюрьмы Роман Николаевич Ким вместе с другими «спецзэка» отправился на Волгу — в Куйбышевский СИЗО областного управления НКВД. В самые критические моменты Битвы под Москвой секретная информация из посольства продолжала поступать в НКВД без перебоев. В том числе та судьбоносная информация, которая помогла Сталину и Ставке Верховного главнокомандования принять историческое решение о переброске дивизий с Дальнего Востока под Москву. Несмотря на то что, с одной стороны, генерал Судоплатов был прав, когда писал о том, что других дивизий взять было просто негде, четкое понимание безопасности дальневосточных границ было важным фактором в принятии судьбоносного решения. Причем появились эти подтверждающие факторы в самый последний момент.
Четырнадцатого сентября, за месяц до краха группы Зорге, советский резидент в Токио передавал в Москву, что «нападение Японии возможно лишь в случае крупномасштабной отправки войск с советского Дальнего Востока». 20 сентября резидентура НКВД в Шанхае доложила, что «военные руководители Японии считают вопрос войны с СССР решенным и ждут удобного случая»[382]. «Удобный случай» — это и есть массовая отправка войск с японских границ. Значит, забрать их оттуда — спровоцировать войну с Японией и, возможно, не выиграть сражение за Москву? Патовая ситуация разрешилась лишь два месяца спустя, когда немецкие войска основательно завязли в Советском Союзе. Нам до сих пор неизвестны все расшифрованные и переведенные чекистами-японоведами (читай — Романом Кимом) шифротелеграммы, имеющие отношение к этому вопросу, но вот что об одной из них вспоминал П. А. Судоплатов: «…наша дешифровальная служба перехватила и расшифровала 27 ноября 1941 года телеграмму японского МИД от 24 ноября 1941 года посольству Японии в Берлине, в которой, по существу, сообщалось о скором начале военных действий [на Тихоокеанском театре]. Перехват этой телеграммы был доложен Берии из Куйбышева, по-моему, немедленно»[383].
Решение, принятое Ставкой по результатам этого перехвата, было грандиозным по своему стратегическому масштабу. Сначала тринадцать, затем еще две, а позже еще десять дивизий, срочно переброшенные под Москву, решили судьбу грандиозного сражения, судьбу советской столицы и оказали серьезное влияние на весь ход Второй мировой войны. Человек, который сделал для этого всё, что мог, сидел в это время в камере куйбышевской тюрьмы.
В 1942 году у Романа Кима прибавилось работы по расшифровке и переводу японских секретных сообщений. Дешифровальная служба Главного разведывательного управления Генерального штаба РККА (бывшее 4-е управление или Разведупр) перешла в ведение НКВД. Нам известны лишь некоторые детали успешных результатов совместных усилий дешифровщиков армии и госбезопасности на японском направлении в военные годы. Это данные о мобилизации в Германии, переданные в феврале 1943 года японским военным атташе в Берлине в Токио, но попавшие в Москву, расшифрованная стратегическая информация о переговорах японского посла в Берлине с министром иностранных дел Германии Риббентропом относительно вступления Японии в войну против СССР, шифротелеграмма из Берлина в Токио от августа 1944 года о военном производстве Германии и многое другое — чрезвычайной секретности сведения, оказавшие непосредственное влияние на ход войны[384].
В середине 1943 года, когда стало ясно, что фронт уже никогда больше не подойдет к Москве, иностранные посольства и государственные учреждения стали возвращаться из эвакуации. Вероятно, в это время вернулся в свою «привычную тюрьму» и Роман Николаевич. Работа продолжалась, но отношение к ней и к самому «сидельцу» снова изменилось. Благодаря достигнутым успехам Роман Николаевич получил некоторые поблажки в режиме, а самое главное, сумел вытащить из лагеря жену — Мариам Цын, а затем и вовсе добиться ее освобождения. В это же время Кремль начал задумываться о возможном продолжении войны после поражения гитлеровской Германии. Япония начала сдавать завоеванные на Тихоокеанском театре военных действий позиции американцам, а видеть США в качестве хозяина Азии Сталину хотелось меньше всего. Когда же советские войска вошли на территорию Западной Европы, раздумья превратились в планы. В феврале 1945 года на Ялтинской конференции глав воюющих против Гитлера держав было закреплено решение о вступлении Советского Союза в войну против Японии после падения Берлина. Большая операция требовала серьезной подготовки, в том числе по линии разведки и контрразведки. Понадобились японисты. По некоторым сведениям, именно в это время был развернут набор курсантов в разведывательную школу НКВД, где их обучали японскому языку[385]. Кто обучал? Приходится только догадываться.
Сам Роман Ким не раз потом говорил, что он закончил Великую Отечественную войну в Берлине, но у нас нет ни единого тому подтверждения, и, скорее всего, это еще одна из многочисленных исторических мистификаций нашего героя. А вот с войной советско-японской сомневаться не приходится. Путь на нее был непрост. Если следовать аналогии с 1939 годом, можно предположить, что летом 1945 года с Кимом снова встречался кто-то из его начальства и дал ему ценные указания. Будучи в курсе, в силу специфики своей работы, самых секретных планов относительно Японии, Роман Николаевич должен был понимать, чем это вызвано: новая война не за горами. Когда это случится, его знания, опыт, квалификация станут еще более востребованными, а значит, это следующий шаг. Теперь — к свободе. Причем понял он это очень рано, еще в январе 1945 года, прислав (из тюрьмы?!) свое фото первой жене Зое с подписью «…от воскресшего Ромы».
Первого августа 1945 года, когда советские войска занимали позиции для нападения на Квантунскую армию в Маньчжурии, Роман Ким написал заявление о пересмотре своего дела. 3 августа начальник 4-го отделения 7-го отдела 2-го управления НКГБ СССР Краснянский доложил руководству результаты изучения всех имевшихся в госбезопасности материалов, имевших отношение к Киму: «До настоящего времени не выявлено ни одного документа из числа добытых Кимом, подлинность которого вызывала бы сомнение. То же самое можно сказать о документах, относящихся к ведению 5 управления НКГБ, в изъятии которых участвовал Ким… Принимая во внимание, что обвинение Кима в шпионаже опровергается оценкой добытых им лично материалов… и что с сентября 1937 года и до настоящего времени Ким используется органами НКГБ СССР на специальной работе, которая оценивается также весьма положительно, — полагал бы: архивное следственное дело внести на рассмотрение Верховного суда СССР на предмет пересмотра приговора…»[386]
Когда 22 августа заместитель наркома безопасности Богдан Кобулов утвердил рапорт Краснянского, международная обстановка изменилась уже в корне. США провели атомную бомбардировку японских городов Хиросимы и Нагасаки — это станет позже для Кима-писателя важным творческим стимулом. 9 августа — в день гибели Нагасаки советские войска перешли границу в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах, начав свою войну против Японии. 15 августа император Сёва (Хирохито) — тот самый, чьим учителем этики и своеобразным «сватом» был когда-то Сугиура Дзюго, впервые в истории обратился к нации по радио и объявил о полной и безоговорочной капитуляции Японии перед союзниками. И хотя боевые действия в Маньчжурии продолжались еще две недели, в Советский Союз уже колоннами потекли сотни тысяч японских пленных, среди которых были и мобилизованные солдаты, и военные преступники, и профессиональные разведчики.
Более шестисот тысяч пленных, конечно, не говорили по-русски, а могли бы рассказать много интересного. На Дальнем Востоке срочно требовались переводчики — те самые, которых сталинские репрессии свели в расстрельные рвы еще перед войной… Новых переводчиков набирали из харбинской молодежи. Дети наших эмигрантов, оставшихся жить в этом маньчжурском городе, с 1935 года в обязательном порядке учили японский язык. Многие были настоящими патриотами своей родины, которую никогда не видели и жаждали отдать ей свои знания и силы (по традиции часть из них после выполнения миссии в лагерях военнопленных сядет в лагеря напротив — для политзаключенных). Но требовались и другие переводчики — для работы с деликатными документами разведки и контрразведки Квантунской армии, в случае утечки которых переводчик понимал бы цену расплаты, а главное — для вербовочной работы среди тех, кто потом вернется в Японию и станет агентом-нелегалом советской разведки. Имена этих переводчиков неизвестны, за исключением, пожалуй, одного — Юрия Растворова. Историк спецслужб А. А. Кириченко писал о нем: «Молодого способного разведчика включили в состав сверхсекретной комиссии, в задачу которой входил подбор агентов в лагерях военнопленных для создания в Японии “пятой колонны”. Работал он успешно. Да иначе и быть не могло. Интеллигентный, симпатичный, прекрасно знающий японский язык и японские обычаи, Растворов выгодно отличался от грубого лагерного начальства. Измученные лагерной жизнью пленники тянулись к нему — только выбирай подходящих. А контингент военнопленных подобрался отменный. Одних генералов 180 человек. Кроме того, в Маньчжурии попали в плен немало родственников высокопоставленных госчиновников и влиятельных в Японии фамилий. Они были достаточно привлекательны как возможные источники информации на перспективу…»[387]Не в этой ли сверхсекретной миссии, работавшей с почти двумя сотнями японских генералов, нашлось место для интеллигентного, «знающего японский язык и японские обычаи» выпускника колледжа Кэйо? Неизвестно.
Точно известно лишь, что Роман Ким покинул свое узилище на Лубянке: «был послан на специальную работу по военной линии на Дальний Восток (военный переводчик на Дальневосточном фронте)»[388]. Как долго и где именно он находился — неизвестно. Но среди сотен просмотренных архивных материалов по переводу допросов японских военнопленных — ни одной знакомой подписи: «Р. Ким». Почему? Использовал псевдоним, которого мы не знаем? Или, может быть, всё-таки работал в составе той самой «генеральской» спецмиссии по вербовке, а потому документы, подписанные Романом Николаевичем, хранятся совсем в другом архиве и не станут доступными еще много лет? Скорее всего, так. Позже мы узнаем, что в этом предположении скрывается ответ на еще один важный вопрос, а пока…
Пока в Сибирь стекались колонны пленных, в Москве происходили необыкновенные события. 28 августа заместитель председателя Верховного суда СССР Василий Ульрих — один из отъявленных сталинских палачей, на чьих руках кровь тысяч людей, опротестовал приговор Киму, вынесенный в 1940 году Военной коллегией Верховного суда. Ульрих и был председателем ВКВС, то есть он опротестовал приговор, который сам же и вынес, — особенности советской бюрократии идеально подходили для того, чтобы выполнить решение, принятое единолично на самом верху. 10 сентября 1945 года, через неделю после окончания Второй мировой войны и подписания акта о капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе, Военная коллегия постановила направить дело «на новое рассмотрение в стадии предварительного следствия». 26 сентября началось новое следствие по делу Кима, которое на этот раз вел лично начальник следственной части по особо важным делам НКГБ СССР Лев Влодзимирский[389].
Снова допросы. Первый — в ночь на 31 октября 1945 года. Но предварительно — третья в истории Кима неофициальная беседа с человеком, который подсказывает, что надо делать, чтобы выйти на свободу. На этот раз генерал-лейтенант Влодзимирский вызвал Романа Николаевича на беседу, объяснив ему, что единственный путь на свободу — сознаться в другом, не таком серьезном преступлении, чтобы вновь переквалифицировать дело. Лучше всего, если на какую-нибудь бытовую статью, чтобы отсиженные восемь лет в идеале поглотили новое наказание[390].
В деле Кима «образца» 1937 года такая статья была. Его уже обвиняли в том, что агенты «коновода» вынуждены были делиться с сотрудниками японского отделения полученными в подарок от японцев вещами. В 1940 году, во время продолжения следствия, Ким подтвердил, что агенты брали и вещи, и строжайше запрещенную в СССР иностранную валюту, причем как можно больше, чтобы не вызывать у японцев сомнений в своем корыстном интересе в общении с ними. По распоряжению начальника Особого отдела Гая вещи оприходовались в отделе — «чтобы агенты не торговали и не попались за контрабанду по линии ГУПВО» (Главного управления пограничной и внутренней охраны НКВД). После оприходования часть имущества возвращалась агентам как вознаграждение за работу. Часть — по списку, который составлял Николаев-Рамберг, распределялась среди сотрудников Особого отдела. «Увидев эту ярмарку, я не удержался от соблазна», — рассказывал известный франт Роман Ким. Сам он получил два отреза на платье, дамский плащ, туфли, пальто, джемперы, чулки, грампластинки[391].
Со временем случилось то, что в таких случаях происходит всегда: вполне бескорыстная инициатива выродилась в то, что позже стало хорошо известно всем советским людям: начальствующий состав ОГПУ начал давать агентам заказы. Не крупные, но приятные в обществе дефицита мелочи: Николаеву-Рамбергу — сигареты и виски, которые доставал агент Тверской — тот самый, что осуществлял операцию по дезинформации военных атташе; секретарю Особого отдела Богуславскому — дамские вещи, начальнику 7-го отделения Соколову — заграничные блокноты и записные книжки[392]. Всё это Ким подтвердил Влодзимирскому:
«— Находившаяся у меня на связи агентура НКВД использовалась для дезинформации японцев и получала от них подарки в виде носильных вещей, фотоаппаратуры и так далее. Гай и Николаев-Рамберг приказали сдавать эти вещи. Эти операции переросли разумные нормы, и начались прямые злоупотребления. Я начал поручать агентуре требовать, чтобы японцы выписывали из-за границы в виде подарков те или иные вещи, нужные отдельным сотрудникам НКВД и их женам… Признаю, что я совершил служебное преступление»[393].
Чекистская фарцовка не привлекла особого внимания следователей в 1937 и 1940 годах, ведь тогда речь шла об измене родине. То же самое произошло с показаниями Валентины Гирбусовой и Ольги Потехиной. На этот раз понадобилось всё, и генерал Влодзимирский обвинил заключенного Кима в полном моральном разложении: «Понуждал к сожительству женскую агентуру». Это и другие обвинения были предъявлены Роману Николаевичу 5 ноября 1945 года: «Произведенным дополнительным расследованием достаточных улик для обвинения Кима P. Н. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 58 п. 1а УК РСФСР, не добыто. Одновременно установлено: систематически из корыстных соображений присваивал лично и участвовал в разбазаривании вещей, получаемых секретными сотрудниками НКВД от разрабатываемых японцев… Обвинение по ст. 58 п. 1а за недостаточностью улик снять… Привлечь в качестве обвиняемого по ст. 193 п. 17а»[394]. Уже 17 ноября 1945 года Особое совещание при НКВД СССР, которое обычно только отправляло людей в расстрельные рвы и лагеря, постановило: «Ким Романа Николаевича за злоупотребление служебным положением лишить свободы сроком на восемь лет, девять месяцев, считая срок с 2 апреля 1937 г.»[395].
В год двух побед Роман Николаевич Ким одержал свою — наверное, самую важную победу в жизни. 29 декабря 1945 года он вышел на улицу Дзержинского из здания, где, за небольшим исключением, провел восемь лет страшной борьбы и страшного одиночества. Возможно, в руках у него был кожаный портфель с выцарапанным на дне и уже почти затертым автографом «Ким Саори». В кармане — это точно, лежал ордер на однокоечный номер в гостинице «Люкс» на улице Горького, 10, где еще до войны жили разведчики и коминтерновцы, японские режиссеры и преподаватели. Настало время начинать очередную новую жизнь.
Пятнадцатого мая 1946 года Ким получил, наверное, самую дорогую, во всяком случае, точно — самую выстраданную государственную награду. Министерство государственной безопасности СССР, в которое трансформировали НКВД и НКГБ, наградило его медалью «За победу над Японией». Ее ввели вскоре после подписания акта о капитуляции — 30 сентября 1945 года, и награждения были массовыми. Всего медаль получили около 1 миллиона 800 тысяч человек, причем были случаи, когда медаль вручалась дважды и даже трижды! В удостоверении к медали было написано так: «За участие в боевых действиях против японских империалистов». Участвовал ли Роман Ким в боях против Японии? Как ни банально это прозвучит, не все бои ведутся на фронте, и его медаль весила намного больше, чем другие награды. Ее вес равнялся весу не врученных ему орденов, блеску неполученных воинских званий, «Золотой Звезде» повешенного японцами Рихарда Зорге, и самое главное — она «потянула» на восемь лет одиночества в тюремных камерах.
Глава 17 СЦЕНА КАБУКИ
Япония донага раздета. Дух народа в своем падении Скатился до самого дна. Чтобы спастись от голода, Ищут помощи у вражеских войск Те, кому удалось уцелеть. Император поспешил с разъяснением: «Я есмь человек. Отныне прошу не считать меня богом»… Такамура Котаро. Конец войны[396]О жизни Романа Кима между 29 октября 1945-го и маем 1947-го не известно почти ничего. Только эпизод с вручением медали «За победу над Японией». Чем он занимался? Где и на что жил? Знаем только, где — в гостинице «Люкс» на улице Горького. Причем жил он там очень долго. Когда в декабре 1947 года из той же внутренней тюрьмы МГБ на Лубянке вышла бывшая японская актриса Окада Ёсико, ни за что отсидевшая десять лет, ее тоже поселили в «Люкс». Она вспоминала, что на работу в издательство «Иностранная литература» ее устроил Роман Ким, живший по соседству[397]. «Жить в отеле “Люкс” считалось привилегией, но роскошным его никак нельзя было назвать. “В нашем величественном здании жили в нашпигованных прослушивающей техникой многоместных номерах на нижних этажах отеля будущие государственные деятели мирового значения, такие как Чжоу Эньлай и Хо Ши Мин”, — пишет в своих мемуарах Рут фон Майенбург. — Отель кишел крысами, привлеченными запахами с коммунальных кухонь и булочной на первом этаже, которая продолжала работать и при большевиках. Полчища крыс упоминают в своих воспоминаниях почти все бывшие постояльцы»[398].
Весьма соблазнительно думать, что всё это время вчерашний заключенный крыс этих не видел и по-прежнему был задействован в каких-то секретных операциях. В 1946 году начался Международный военный трибунал для Дальнего Востока, более известный в литературе как Токийский трибунал или Токийский процесс. В составе советской делегации, прибывшей в Токио, числилось более семидесяти человек — юристов, переводчиков, военных, экспертов и других специалистов. Список делегации до сих пор не открыт для свободного доступа, а в мемуарной литературе никаких упоминаний о Романе Киме в составе этой группы не встречается. В материалах — личных делах, архивных справках на японских обвиняемых, подготовленных советской стороной и хранящихся ныне в Государственном архиве Российской Федерации, его тоже нет. Да и занимались этой подготовкой сотрудники другого ведомства — военной разведки, ГРУ.
У нас всё еще нет оснований считать, что Роман Ким мог оказаться в Японии после возвращения из нее то ли в 1913 году, то ли позже, но во всяком случае до 1918-го. Революция и Гражданская война в России, учеба в университете, а потом служба в контрразведке ОГПУ не создавали благоприятных условий для путешествий. Был он в Токио в сентябре 1923 года, как рассказывала Мариам Цын, или нет, неизвестно, но вряд ли — некогда было. Сугиура Дзюго, с которым имя Кима связывал Сига Наодзо, умер в своей резиденции в феврале 1924 года. Сугиура Рюкити скончался в Харбине в 1931-м. Настоящий отец Кима — в 1929-м. К 1951 году, когда Роман Николаевич заявил о себе как писатель, от японского прошлого у него должны были остаться только воспоминания. Но… только ли?
Если ничто в известной биографии Кима не дает нам повода заподозрить его в том, что он мог оказаться в Японии в предвоенные годы, то тексты уже не оперативного работника госбезопасности, а произведения крупного советского писателя-детективщика Романа Николаевича Кима наводят на некоторые неожиданные размышления. Полковник КГБ СССР в отставке, японовед А. А. Кириченко, будучи курсантом Высшей школы КГБ в Москве, однажды видел Кима на «встрече ветеранов с молодежью». Понятное дело, и ветераны, и молодежь были весьма специфическими, а потому вопросы и ответы мало кого могли удовлетворить. С обеих сторон это были скорее намеки и полунамеки. Кириченко потом вспоминал, как, «когда кто-то спросил Кима о том, что он делал во время войны, писатель на несколько секунд растерялся, а потом вдруг ответил: “Работал в логове врага”». Что это значит? В каком еще «логове»? В то время для наших людей это определение ассоциировалось только с Германией. Кимура Хироси вообще прямо пишет о Берлине. Ким работал против Третьего рейха? В этом заявлении нет никакой логики. Он был для этого слишком хорошим специалистом по Японии. Значит, логово не там, а… в Токио?
Или просто Роман Николаевич, как писал его современник, «соврамши» от стеснения? Не знал, как сказать, что сидел в камере и занимался переводами? А может быть, Роман Николаевич имел в виду работу в куйбышевской «шарашке», куда ему для перевода стекались секретные документы — и из Токио, и из Берлина, читая и переводя которые он как бы оказывался в логове врага? А может, он всё-таки японский шпион и логово врага — Москва?
Но рискнем предположить не менее невероятное: Ким сказал правду, под «логовом врага» имел в виду Токио, а не Берлин. Писатель Оно Каору в своей книге упоминал, что некто Ёсида Хироси из Института исследований национальной политики Японии (структуры, приближенной к специальным службам) вскоре после войны видел Романа Кима в штабе генерала Макартура в Токио. Причем Ким был там в форме полковника Советской армии. Ничего нельзя исключать, но снова — нет никаких доказательств.
Сам Ким как-то заявил в беседе с коллегой: «Мои книги — честные рассказы о том, что я знаю, — о борьбе разведок… Для меня в книгах о разведке есть только одна специфика — в них я не могу сказать всё, что знаю»[399]. «Знаю только это, но всё рассказать не могу» — это правило Кима — ключ к пониманию его работ. Попробуем воспользоваться этим ключом.
Вскоре после войны в июльском номере толстого советского литературного журнала «Новый мир» за 1947 год вышел фундаментальный материал P. Н. Кима «Японская литература сегодня». Начинался он весьма реалистичной зарисовкой послевоенного Токио: «На полуобгорелых столбах наклеены плакаты, на них начертано тушью: “Наши рисовые кадки пусты!”, “Нам грозит голодная смерть!”, “ Приходите все на общее собрание жителей квартала для борьбы с голодом!”. На пустырях, где сложены, как дрова, покрывшиеся ржавчиной снаряды, — их никто не охраняет, — бродят бездомные. Мужчины в костюмах европейского фасона, но в деревянных сандалиях на босу ногу, женщины, причесанные по европейской моде, как героини американских фильмов, но в рабочих шароварах, с ребенком на спине.
Перед лотками, на которых разложены крохотные лепешки с начинкой из каштанов, ломтики бобовой пасты и вареные каракатицы, стоит толпа. Покупающих мало, потому что цены на яства в так называемых новых йенах. Жалованье — 500 йен, на эти деньги надо прокормить семью, а пирожок величиной с пуговицу — 20 йен. Остается только смотреть и глотать слюнки. Тут же рядом — уличная лотерея. Если улыбнется богиня счастья, можно выиграть целых три сигареты “Кэмел”.
Пробегают рикши — вид транспорта, снова вошедший в моду в Токио после войны. На рикшах восседают джиай — это название американских солдат прочно вошло в японский язык. Издали доносится пение — демонстранты идут к площади перед резиденцией императора. Они несут плакаты: “Дайте еду, чтобы мы могли работать!”, “Чашку риса!”. Они идут мимо наспех сколоченных бараков, раскрашенных как коробки для конфет, кинотеатров и дансхоллов. Кинотеатры и дансхоллы переполнены, японцы соскучились по развлечениям.
А на другой стороне улицы выстроились книжные лавки. Продуктовые и другие магазины блещут пустыми полками, процветают только книжные. За эти годы японцы изголодались по духовной пище не меньше, чем по рису и развлечениям».
Далее Роман Николаевич на нескольких страницах подробно, если не сказать — дотошно, разбирает проблемы послевоенной японской литературы — с именами, выдержками из книг и статей, фактами, датами, тиражами. Допустим, что всю фактуру Ким почерпнул из трофейных журналов, газет, передач радио. Возможно, о чем-то рассказали так называемые сибирские пленные, в допросах которых он должен был принимать участие. Можно согласиться и с тем, что облик города, в котором он вырос, бывший Кин Кирю тоже сумел себе представить по внешним источникам. Правда, представил как-то уж очень живо и достоверно, но ведь на то он и писатель, не так ли?
Но вот спустя четыре года в том же «Новом мире» появляется первый политический детектив Романа Кима, его первая повесть «Тетрадь, найденная в Сунчоне»[400]. Книга написана по свежим документальным материалам корейской войны, но кроме нескольких любопытных аллюзий (например, одного из героев зовут Пен Хак — как отца Кима, а фамилия героя — Ан, как у убийцы Ито Хиробуми), ничего особенно корейского в ней нет. Во всяком случае, как раз все корейские эпизоды вполне без особого труда можно было воссоздать по газетным и журнальным публикациям, особенно если добавить к ним мастерство и знание реалий, а они, как мы понимаем, у Кима были. Даже одобрительная рецензия в «Правде» (огромный успех для начинающего автора и вчерашнего заключенного, пока даже не помышляющего о реабилитации!), в номере от 14 июля 1951 года не нашла «корейского фундамента» для похвалы, сосредоточившись на политической составляющей сюжета: «Роман Ким нашел форму документальной повести для обобщения и передачи в художественных образах известных исторических событий, фактов и документов, раскрывающих сговор между американскими империалистами и японскими милитаристами».
Дело в том, что по сюжету в Корее действие только начинается и заканчивается, а все основные события повести разворачиваются в Японии, и прежде всего в военном и послевоенном Токио. Как раз Восточная столица, как переводится на русский язык название этого города, выписана здесь с таким мастерством и таким знанием деталей, что очень трудно себе представить уровень фантазии человека, способного так придумать реальность. Не случайно в японское издание книги, которая здесь называлась длинно и сложно: «Штабные офицеры, совершившие сэппуку, живы», были вложены рекламные анонсы: «То, о чем не знают японцы, знает писатель-иностранец!» Переводчик книги на японский язык Такаги Хидэто в предисловии писал: «Однако, что ни говори, центральная тема рассказа — правда о закулисье времени поражения в войне; о двух течениях в армейской среде; о том, как после войны военная хунта нырнула в подполье и как она опять подняла голову; о том, как подготавливался “резервный полицейский отряд” и другие меры по восстановлению армии; о том, какую тайную роль сыграло это в Корейской войне; о том, как замышляется война за мировое господство. Всё это ярко изобличено. Думаю, что не найдется ни одного японца, пережившего те ужасные сражения и атомные бомбардировки, кто прочтет эту книгу и не почувствует беспокойство и смутный страх за будущее Японии»[401].
«Тетрадь, найденная в Сунчоне» написана, кажется, настолько документально, что ее можно использовать как уникальный путеводитель по Токио 1945–1946 годов. Конечно, для этого требуется некоторое знакомство с городом, но всё остальное есть на страницах книги. Начать эту странную экскурсию можно было бы с дома Сугиура Рюкити, чей адрес известен точно. На страницах повести в нем живет бывший начальник военного училища, возможно, находившейся по соседству военной академии, по прозвищу Осьминог (можно не сомневаться, что у него был реальный прототип): «Разговор с Осьминогом произошел в противовоздушной щели, вырытой в заднем дворике его дома в Усигомэ, в квартале Вакамия. Старик строился вполне комфортабельно: дно щели было устлано циновками, сделан брезентовый навес — на стенках полки для посуды и табачного прибора — и, так как часто приходилось ночевать в щели, поставлена жаровня для обогревания ног». Чуть позже это место упоминается еще раз: «…офицерское общежитие около Кагурадзака, совсем недалеко от дома Осьминога». В бытность свою в доме Сугиура, влюбленный подросток Кин Кирю вряд ли мог концентрировать свое внимание на таких деталях, как наличие в районе Кагурадзака офицерских общежитий — помимо учебы у него были, как мы помним, другие интересы, далекие от военного дела. К тому же общежитий, казарм и вообще военных в Кагурадзака стало особенно много в 1930-х годах, перед войной. Откуда о «милитаризации» жилого квартала знал Роман Николаевич?
В книге особенно живо описана неудачная попытка офицерского мятежа 15 августа 1945 года, состоявшаяся после объявления императором Сева капитуляции Японии. Упоминаются Кудан-дзака — «военное место» еще со времен Мэйдзи, где располагаются ныне скандально известный храм Ясукуни, в котором поклоняются духам погибших воинов, и Музей воинской доблести Юсюкан, набережные рек Сумида и Канда, прибрежный район Сибаура. Основное внимание, конечно, уделено площади перед императорским дворцом (не случайно фотографию именно этого места поставили на обложку японского издания книги Кима): «Перед нами открылась дворцовая площадь. Здесь всегда царила торжественная тишина, но в то утро она была особенно торжественной. В разных местах площади лежали люди, группами и в одиночку. Все — в одной и той же позе: ничком, подобрав под себя ноги, как будто совершали земной поклон в сторону высочайшей резиденции. Возле каждого виднелись конверты и свертки. За деревянной оградой перед мостом, ведущим к главным воротам, стояли полицейские. В нескольких шагах от них сели на землю двое штатских в костюмах защитного цвета, положили свертки около себя, поклонились в сторону дворца и выстрелили друг в друга. Спустя некоторое время двое полицейских подошли к ним, уложили в подобающей позе, отодвинули свертки в сторону, чтобы они не промокли в крови, и пошли за ограду. Полиция не мешала верноподданным уходить из жизни, а только следила за порядком.
На краю площади у самой балюстрады трупы лежали в несколько рядов…»
Чрезвычайно реалистична зарисовка бесплодного хождения главного героя по Токио: «Над площадью (императорского дворца. — А. К.) низко пролетели самолеты. Они сбросили листовки. Листовки медленно, как лепестки вишни, спускались на трупы. Я поднял одну… Она призывала всех верных слуг государя идти с оружием на гору Атаго — бороться до конца за честь и достоинство императорской хризантемы». Гора Атаго — едва ли не самое высокое место в центре старого Токио. Сегодня ее почти не видно из-за массовой застройки, да и рядом с ней самой выросли небоскребы, с верхних этажей которых вершина горы выглядит милой зеленой лужайкой у их подножия, но когда-то это была одна из высотных доминант Токио. На самом верху с начала XVII века существует храм Атаго-дзиндзя, откуда раньше пожарные наблюдали за деревянно-бумажным Эдо. В 1945 году здесь действительно можно было бы организовать показательное место для совершения массовых самоубийств — с японской точки зрения это было бы лучшим способом защитить честь и достоинство императорской хризантемы, «разбившись подобно яшме». Но героя — диверсанта и разведчика, настоящего головореза, полного решимости выпустить себе кишки, не пустил на гору Атаго пожилой полицейский, и в ответ: «Я вынул коробку сигарет и предложил ему. Он поклонился и взял сигарету.
— На дворцовой площади уже собираются зеваки, — сказал я. — Не хочется на глазах у всех… Здесь, на горе, было бы хорошо.
— В таком случае идите в парк Уэно, — посоветовал чиновник, — там около храма Канъэй никого нет. Только положите около себя визитную карточку или служебный пропуск и напишите адрес ваших родных. — Он снова почтительно поклонился».
С точки зрения нормального европейского читателя процитированный фрагмент выглядит абсурдно. Только что размахивавший мечом профессиональный убийца, разрубавший американских пленных наискось, от плеча до поясницы, чтобы достать и съесть еще теплую сырую печень врага (мы еще поговорим об этом), идет на гору Атаго, исполненный желания совершить самоубийство. Ему преграждает дорогу пожилой страж порядка, и офицер покорно останавливается, угощает охранника сигаретами и спокойно выслушивает рекомендации по поводу того, где сейчас лучше вспороть себе живот. Это не смог бы написать ни один американский или европейский автор, это — очень и очень по-японски.
Кстати, от Атаго до Уэно не меньше часа пешего хода. И хотя место это действительно отлично подходит для самоубийства (в 1868 году там вскрыли себе животы десятки мятежных самураев, что должно было вызывать у японского читателя дополнительные, недоступные русским, аллюзии), дойти до него по дотла сожженному разбомбленному городу, по пустырям, усеянным битой черепицей, разрушенным дорогам и провалившимся мостам было непросто. Ноги унесли героя Кима в сторону от Уэно и привели его в квартал Вакамия — к дому Осьминога. Теперь-то мы понимаем, что это самого автора ведут воспоминания и приводят к дому его детства и юности, дому, которого тоже нет: мятежные офицеры по ошибке забросали его гранатами. Старой, знакомой и родной Восточной столицы больше не существует.
«Токио выглядел именно так, как должна была выглядеть покоренная и обесчещенная столица. Всюду зияли выжженные пустыри, но на Гиндзе, в Асакуса, Синдзюку и Уэно жизнь кипела вовсю. Ярко раскрашенные бараки-кинотеатрики, кафе, дансинги, бары были переполнены. Одних кафе в Токио функционировало свыше двадцати тысяч. Большинство вывесок было выдержано в духе новой эры: “Кэпитал”, “Сентрал”, “Парадайз”, “Сван”, “Майами”, “Нью”, “Флорида” и так далее. Перед этими пестрыми бараками толпились размалеванные девицы-панпаны. Эту кличку им дали их главные клиенты — американские солдаты. Панпаны были одеты по последней европейской моде и носили высоко взбитую прическу, прозванную “атомной бомбой”. Впрочем, воспоминание об этой бомбе сохранилось не только в виде прически. Я встретил в метро женщину со следами ожогов и разноцветными полосами на лице. Мне сказали, что она из Хиросимы — ее так изукрасили лучи бомбы. Токио с его выжженными пустырями и кварталами пестрых бараков был похож на эту женщину из Хиросимы».
А вот еще один эпизод, свидетельствующий о глубоком знании автором обстановки в японской столице в то время: «Сидя в деревенском бесте, я целыми днями спал от скуки. После переезда в Токио я решил избавиться от этой привычки и начал принимать хиропон — патентованное бодрящее средство, вошедшее в моду после войны… Он стоил дешевле американских сигарет, продававшихся в “Тоёко” — магазине бывшего премьер-министра принца Хигасикуни».
Но проходит два года, и всё чудесным образом меняется. Скрывавшийся в горах от американской военной полиции герой повести возвращается в город: «Общежитие в Усигомэ стало неузнаваемым. У входа висела большая вывеска — на ней было написано по-английски “Манила-клуб” и нарисован щит с косой полосой и лошадиной головой в углу. А рядом с этой вывеской висела совсем маленькая — “Представительство компании по производству дрожжевых удобрений”».
Герой Кима садится в троллейбус на станции Ёцуя (это недалеко от Усигомэ), бесцельно бродит по Западной Гиндзе, попадает в переделку с американской военной полицией на рынке в Киссёдзи, «где собираются спекулянты со всех концов столицы», наконец, спускается «…вниз к Тамеикэ и… в сторону Хибия. Вскоре… появилось семиэтажное здание Общества взаимного страхования жизни — штаб американского главнокомандующего».
Это здание существует и сегодня, хотя и в несколько перестроенном виде. Расположено оно к северо-востоку от парка Хибия и выходит фасадом с массивными колоннами на угол императорского дворца. Хорошим ориентиром служит теперь роскошный отель «Пенинсула», построенный справа от бывшего штаба (если стоять спиной к дворцу) и через один дом от него. Несмотря на то, что здание надстроено и выровнено по общей многоэтажной линейке квартала Маруноути, спереди до сих пор выступает тот самый, вполне узнаваемый семиэтажный фасад, а внутри по-прежнему можно встретить командующего американскими оккупационными силами в Японии генерала Макартура, уже в виде бронзового бюста в небольшом музейчике. Входил ли в это здание человек в форме полковника Советской армии, «очень похожий» на Кима? В книге есть описание приема Макартуром японских разведчиков — подробное и точное.
«Нас подняли на шестой этаж. Мы прошли в аванзалу… Полковник сейчас же вошел в кабинет главнокомандующего, а генерал поздоровался с Кавабэ за руку и, отведя его в угол, стал разговаривать через переводчика Ириэ, — по-видимому, относительно процедуры представления… Мы вошли вслед за Кавабэ в огромный кабинет главнокомандующего и, пройдя его, вступили в следующую комнату — курительную Мака. Она тоже была огромной… я успел украдкой осмотреть всю комнату. Ее главным украшением были полки, уставленные всевозможными трубками, начиная с индейских, перевитых шнурами с кисточками, и китайских водяных трубок и кончая массивными фарфоровыми трубками, похожими на музыкальные инструменты, и длинными корейскими трубками с мундштуками из янтаря и слоновой кости…»
Жизнь в Токио постепенно менялась, и снова герой Романа Кима описывает эти изменения так, как если бы они действительно происходили у него на глазах. «В доме напротив станции Йоцуя, на котором висела вывеска “Гостиница Фукудая”, помещался штаб группы морских офицеров, а в гостинице “Вакамцусо” в районе Усигомэ помещался штаб группы военных врачей-бактериологов. Клуб “Романс” на Западной Гиндзе — в здании, примыкающем к телеграфному агентству “Денцу”, был штабом офицеров, окончивших разведывательную школу Накано. Кафе “Акахоси” в районе Сибуя служило явочным пунктом для офицеров штаба армии в Корее, а контора Ии — для офицеров-генштабистов, работавших по русской линии. Эти штабы и явочные пункты офицерских групп были рассеяны по всему Токио под вывесками кафе, ресторанов, гостиниц и прочих предприятий.
…Все нити от этих компаний, контор, артелей, содружеств, клубов и кафе сходились в одном месте — в главной конторе в квартале Хибия, которая официально именовалась General Headquarters — главная штаб-квартира, сокращенно GHQ».
Как только главный герой повести узнаёт о тайных связях японской и американской разведок, мир для него переворачивается вверх дном. Сразу резко меняются и город, и его оценка. Пожалуй, это одно из лучших описаний у Романа Кима: «…Токио, который я видел до сих пор только с фасада, вдруг повернулся, как на вертящейся сцене театра Кабукидза, и предо мной открылся другой Токио. Если первый Токио был похож на хиросимскую женщину с лицом, изукрашенным пятнами ожогов и разноцветными полосами, то второй Токио напоминал зашифрованный документ, в котором говорится о самых интересных, самых волнующих вещах».
Автор перечисляет детали и названия, места явок и тайников, понятные только посвященным: лютеранский институт в Нагано, квартал Сагиномия, Дом собраний в Хибия, некий особняк с воротами старинного типа в квартале Таканава (там и сейчас есть пара таких — какой из них?), кафе «Субару» в Юракутё, редакция газеты «Иомири» на Западной Гиндзе (и сегодня на этом месте), кабаре «Шанхай», там же и станция Синагава. В то, что эти адреса автор называет не просто так, заставляет поверить четкая логика перемещений, которую можно проверить на практике, и еще один нюанс.
В повести много героев, в основном это офицеры разведки, генералы японской армии, несколько американцев. О том, что Ким был лично знаком с некоторыми из них, известно из его биографии — теперь и мы хорошо их знаем. Например, сатирически описанного представителя министерства иностранных дел — Огата, бывшего советника посольства в Маньчжоу-Го, а до этого секретаря посольства в Москве. «Не жалея красок, он нарисовал страшную картину усиления коммунистического влияния во всём мире. И так увлекся, что сам во время доклада дважды пил валерьянку с камфарой. Слушатели последовали его примеру».
Вспоминаются и другие визави нашего героя, внешность которых он в разных местах книги коротко, но емко описывает: заместитель начальника Генштаба Кавабэ («с толстыми выпяченными губами и надутыми щеками»), бывший начальник штаба Квантунской армии Касахара («лысый, с глазами навыкат»)», майор Ямаока («загорелый, круглолицый»), с которым Роман Ким встречался в Петровском парке и который к 1945 году вырос по службе: «Генерал Ямаока был известен как один из самых правоверных исихаровцев. Начало войны между Германией и Россией застало его на посту военного атташе в Москве. Говорили, что он каждую неделю извещал Генштаб о том, что, судя по всем данным, русские прекратят сопротивление к концу недели, затем стал предсказывать падение Москвы и трижды назначал срок. Наконец “предсказателя” отозвали в Токио и через некоторое время послали на китайский фронт…» Читая эти строки, веришь, понимаешь, что заключенный Ким сам каждую неделю читал и переводил доклады Ямаока.
Упоминает автор и генерала Миядзаки — бывшего руководителя разведывательного бюро в Сяхаляне-на-Амуре и адмирала Маэда — в прошлом военно-морского атташе в Москве. А некоторые герои «Тетради…» встречаются и в других произведениях Кима, как, например, «Малайский тигр» Цудзи Масанобу. Интересно, что при этом писатель зачем-то смешивает двух реально существовавших людей. «Малайский тигр» — это генерал Ямасита Томоюки, командовавший войсками, захватившими Малаккский полуостров и Сингапур. Он был повешен по приговору американского трибунала 23 февраля 1946 года. А вот полковник Цудзи Масанобу, служивший в армии «Малайского тигра» и прославившийся своими зверствами как по отношению к собственным солдатам, так и по отношению к пленным и мирному населению, бесследно исчез. После войны, справедливо опасаясь обвинения в военных преступлениях, он некоторое время скрывался в Таиланде, но потом с удивлением понял, что никто его преследовать не собирается, и вернулся в Японию, где написал мемуары и стал… депутатом парламента. В 1961 году Цудзи отправился на партизанскую войну в Лаос, где, наконец, и сгинул. Официально он был объявлен умершим в 1968 году, и на его родине маньяку-садисту ныне поставлен памятник. В целом же вся его история сильно напоминает сюжет «Тетради, найденной в Сунчоне». Как мог об этом знать репрессированный писатель из Советского Союза в 1951 году? Еще одна загадка.
Повесть «Тетрадь, найденная в Сунчоне» можно расшифровывать бесконечно, вникая в каждую мелочь. Например, одного из героев зовут Дзинтан. Точнее, это прозвище, данное ему за сходство с изображением человека на рекламе пилюль. Рекламные плакаты с Дзинтаном до сих пор можно встретить в старых магазинчиках Токио. Главный герой повести по просьбе американской разведки рассказывает всё, что ему известно «о деятельности так называемого “института Тоадобунсёин” — нашего разведывательного органа в Шанхае, который вел работу против красного подполья». Мы же помним, что главой Тоадобунсёин в начале XX века, когда Роман Ким учился в Токио, был Сугиура Дзюго… Тот же герой читает курс по технике связи с агентурой особого назначения в разведывательной школе в Накано — в послевоенные годы это был пригород Токио, а некий полковник Судзуки ведет там занятия по «ханкан» — контриспользованию агентуры неприятельской разведки. Всё это очень специальные вещи, понятные только посвященным. Штаб «посвященных» Ким располагает в отеле «Кубана» (совсем неяпонское название, но реально существовавшее место!) в квартале Цукидзи.
«Или вот, казалось бы, совсем мелочь: американский разведчик по прозвищу Хаш-Хаш обещает пытать главного героя книги, особым образом засунув ему между пальцами карандаш. На странице 125 Приложения “Основные положения допроса военнопленных” к “Руководству по службе секретной войны”, выпущенному Военно-исследовательским отделом Генерального штаба Японии в июне 1945 года, разновидность этой пытки значится под номером 2. Указанные документы были изданы в СССР в 1950 году, и нет сомнений, что Роман Николаевич Ким досконально изучил их: об этом свидетельствует и подробный рассказ о подготовке японцами к ведению бактериологической войны»[402].
Как своеобразная подпись автора, его печать, снова на страницах произведений Кима возникает образ токийского студента. И не просто студента, а воспитанника его alma mater — Кэйо: «За спиной рикши стоял студент, на его фуражке были вышиты скрещенные перья — герб Кэйосского университета».
А вот описание Кореи, куда как раз бывший спецагент Ким запросто мог бы попасть вместе с советскими войсками, выглядит, наоборот, очень плоским, каким-то газетным — достойным той самой рецензии в «Правде». Можно, конечно, списать это на вдохновение и его отсутствие, когда автор разные страницы одного и того же произведения создает с разным градусом психологического, творческого и интеллектуального напряжения, но, читая и особенно перечитывая «Тетрадь, найденную в Сунчоне», невольно приходишь к мысли, что так нафантазировать нельзя и что единственная неправда во всей этой истории это то, что Роман Ким так никогда и не сказал, что вскоре после войны он всё-таки побывал на своей второй родине — в Японии.
Глава 18 ПРИКЛЮЧЕНЕЦ
Это Трубка Мироздания — кто ее курит? Обращаются в пепел минувшие весны. Разгорается весна нынешнего года. Это Трубка Мироздания — Кто ее курит? Миёси Тацудзи. Трубка (Пайпу)[403]Если Роман Ким и был в Японии после войны, то самое вероятное время его нахождения там — 1946-й — начало 1947 года. Мы знаем, что он встретился с Окада Ёсико в декабре 1947 года[404], но и шестью месяцами ранее он тоже был в Москве.
Еще в мае в столице состоялось заседание секции приключенческого жанра Союза писателей СССР. Ким был приглашен, хотя в СП не состоял. И не просто приглашен, а выступил с докладом по одной из главных тем заседания. Уже началась холодная война, уже всем стало ясно, кто́ новый главный противник для Советского Союза, и «в разрезе», как тогда говорили, приключенческой литературы возникла проблема. Книги о Шерлоке Холмсе и Нате Пинкертоне, многие другие детективы — все они автоматически становились теперь образчиками «вражеской» — английской и американской литературы. Необходимо было найти им замену, как сказали бы сегодня, «разработать стратегию импортозамещения» острого, интеллектуального, но увлекательного западного чтива идеологически выдержанным, но не менее интересным советским продуктом творческой мысли.
У советских писателей было особое положение. Еще в довоенные годы они привыкли писать, что велят, а не что хочется. Цена привычки: сотни расстрелянных, уничтоженных или морально раздавленных в лагерях литераторов. А те, кто избежал расстрельного полигона или тюрьмы, как, например, Михаил Булгаков, жили в обстановке травли, в нищете и страхе за близких. Для управления «писательским коллективом» — немыслимая на Западе формулировка — в 1934 году по заданию Сталина был создан Союз писателей. Еще даже до появления этой организации слишком многие писатели в массе своей — и мало заметные, как Григорий Гаузнер, и такие мэтры литературного мира, как Максим Горький или Алексей Толстой, — были настолько послушны воле вождя, что покорно участвовали в, мягко говоря, сомнительных акциях вроде воспевания «освобождающего труда» заключенных концлагерей на строительстве Беломорско-Балтийского канала. С появлением же организации лишь очень немногие смогли оставить свое имя не запятнанным сотрудничеством с преступной властью, как, например, Михаил Зощенко, задавленный той же властью уже после войны.
С точки зрения читательского рынка, одна из слабых сторон советской литературы предвоенных лет — почти полное отсутствие детективной составляющей. Об этом было трудно и опасно писать, ведь если верить газетам, шпионы были везде и шпионом мог оказаться каждый. А политические векторы Советского государства менялись настолько стремительно и кардинально, что даже чекисты и судьи не успевали ориентироваться в этом калейдоскопе. Например, на судебном процессе по результатам операции «Мечтатели», направленной против японской разведки на Дальнем Востоке, подсудимым запрещали произносить слово «Япония», когда они рассказывали, на какую страну им пришлось работать. Люди, которых через несколько часов должны были расстрелять, в зале суда, постоянно сбиваясь, произносили вместо предписанного: «некая иностранная держава» совершенно нелепое: «некая иностранная японская держава» или «некая японская военная миссия»[405]. Но этих людей мало кто слышал на закрытом заседании сибирского трибунала. А как быть писателям, чьи книги выходили тиражами в сотни тысяч экземпляров? Как было писать про Германию, которая несколько лет считалась одним из основных врагов Советского Союза, а затем, после заключения пакта Молотова — Риббентропа, сразу стала нашим основным союзником? А какой политический детектив без иностранного шпиона? Такой, с позволения сказать, сюжет Агате Кристи или Артуру Конан Дойлю и в страшном сне не мог бы привидиться. Неудивительно, что в столь быстроменяющейся ситуации вовремя сориентироваться способны были только газетчики. Приключенческая отрасль была развита слабо, и среди крупных довоенных произведений, затрагивающих тему иностранного шпионажа, на память приходит разве что роман Григория Адамова «Тайна двух океанов», посвященный, кстати говоря, борьбе именно с японскими разведчиками и диверсантами, да, пожалуй, еще «Ошибка инженера Кочина» — повесть Льва Шейнина, экранизированная в 1939 году (в роли следователя НКВД снялся блистательный Михаил Жаров!), и без указания на страну, в пользу которой работали шпионы.
После войны мировой, с началом войны холодной настало самое время пером и бумагой нанести удар по западному империализму — так считали участники заседания 1947 года, и это мнение протесту и обжалованию не подлежало. Не случайно друг Кима Лев Славин сказал о нем: «По внешним признакам забрили в строй приключенцев»[406]. Как забривали в солдаты, так и писателей рекрутировали в идеологическую армию Страны Советов. Но выступавший на заседании Роман Ким, вероятно, был счастлив такой мобилизации, рад возможности снова оказаться в строю. Его, только полтора года назад вышедшего из тюрьмы, не бывшего ко времени доклада членом писательской организации, не издавшего ни одной книги на обсуждаемую тему, позвали (интересно кто?), чтобы он рассказал о своем видении приключенческой литературы главного противника — Соединенных Штатов Америки. И пусть он еще не стал настоящим писателем, только подбирался в своих замыслах к первому серьезному детективу, которым станет вышедшая через четыре года «Тетрадь, найденная в Сунчоне», ему уже тогда было что сказать.
Во-первых, он вырос, был воспитан на японской литературе, в которой, в отличие от западного и даже от советского мира, написание детективов не было зазорным, не считалось «низким жанром». Близкий Киму Акутагава Рюносукэ создавал вещи, которые нельзя было назвать детективами, как нельзя назвать детективом «Преступление и наказание» Достоевского, но многие из произведений знаменитого японца, включая переведенный Кимом на русский язык рассказ «В чаще», — вещи, несомненно, остросюжетные. Почти ровесник Кима, родившийся в 1894 году в префектуре Миэ — родине кланов ниндзя, писатель Хираи Таро к 1947 году уже стал живым классиком японской остросюжетной прозы. Как и Ким, он восхищался Эдгаром Алланом По. Больше того, он взял в его честь псевдоним — произнесенное с японским акцентом имя любимого американского писателя: Эдогава Рампо. Как раз когда в Москве определяли направления развития детективного жанра, Эдогава создал в Токио Клуб японских детективных писателей (позже Рампо и Роман Николаевич станут друзьями по переписке — им было что обсудить).
Во-вторых, в период тесного общения с Борисом Пильняком Ким уже писал о японских детективах в статье «О современной японской литературе», изданной ВОКСом в 1926 году. Писал о том, что в Японии «ружей кирпичом не чистят» — не разделяют писателей на авторов низких и высоких жанров, потому что читателю нужны и те и другие. А писателям нужны аудитория и деньги. Ким уже тогда говорил о том, что высокопрофессиональные литераторы могут себе позволить сочинять беллетристику для популярных журналов — их уровень мастерства и репутация только выиграют от временной смены жанра. Умение сочетать высокий слог с захватывающим сюжетом не каждому дано. Кто так может, тот и есть — настоящий писатель.
Наконец, Ким уже не был лишь японоведом. За последние 20 лет, восемь из которых он провел в тюрьме, горизонты его литературных интересов расширились до идеальной формы — сферы, охватившей всю писательскую планету. Поэтому, говоря об американской литературе, интеллектуал и полиглот Роман Николаевич рассказывал будущим коллегам, многие из которых, несмотря на имеющиеся у них писательские звания и премии, были настоящими питомцами советских писательских организаций 1930–1940-х годов — плохо образованными и слабо эрудированными, — о литературе не только японской и американской. Он говорил о литературе мировой, подводя под свой доклад всем понятную пропагандистскую основу: «Виднейшие мастера художественной прозы параллельно пишут детективные произведения. Их серьезной репутации это не наносит никакого вреда. Уже по одному тому, что детективная литература входит в число полноправных жанров художественной литературы, ее нельзя игнорировать. Но прежде всего она заслуживает внимания, потому что является литературой, имеющей массового читателя»[407].
Именно поэтому, говорил докладчик, Америка — ГП («главный противник»), как уже начали именовать ее в своих закрытых документах бывшие соратники Романа Николаевича по госбезопасности, правильно понимает важность детективной литературы. Америка — «великая федеративная республика… ценит своих писателей, ценит в миллион экземпляров». Это справедливо, считал Ким, ведь «произведения американских детективных писателей с точки зрения литературной техники стоят на уровне художественной литературы». Рассказывая об этих писателях, он назвал коммуниста, позже, в годы печально известной «охоты на ведьм», попавшего в тюрьму Дэшила Хэммета, Эллери Куина (он фигурирует и в «Японских пейзажах» Кима, но на самом деле это псевдоним двух братьев Ли), эксцентричную, но безумно талантливую пьянчужку Крейг Райс (Джорджианна Рендольф), не менее яркого Рэймонда Чандлера и многих других восходящих звезд американского небосклона (многие, впрочем, поднялись туда ненадолго).
«Сейчас Америка ведет идеологическое наступление на весь мир, — вещал с трибуны Роман Николаевич, — “Тек” сейчас — одна из главных статей литературного экспорта Америки. “Тек” и кино — весьма эффективное средство завоевания рынков, их занимательность и доходчивость используются для духовного закабаления масс». «Тек» — это детективы в широком понимании этого слова. Духоподъемная патриотическая речь, разумеется, была обращена к «светлым чувствам» собравшихся, которым теперь предстояло дать «асимметричный ответ» американской идеологической экспансии, противопоставить пустенькому, хотя и щекочущему нервы — «духзахватывающему сюжету» высокодуховный советский детектив. В его центре должна будет располагаться, конечно, фигура не супермена с толстой «черчиллевской» сигарой в презрительно опущенном уголке рта, а затянутого в портупею советского героя на манер невозмутимого, проницательного и высококультурного «майора Пронина», тоже, к слову сказать, персонажа, родившегося еще до войны — в 1939 году (автор — Лев Овалов (Шаповалов) с 1941 по 1956 год сидел по той же 58-й — политической — статье, что и Ким)[408].
Ситуация на международном книжном рынке в то время была очевидно выгодной для Советского Союза — победа над Германией сулила торжество идей коммунизма во всём мире уже в самом скором времени. И даже страхи, которые питали западные страны перед всемирной революцией, могли служить хорошим стимулом для интереса к советскому «теку», для увеличения продаж и, как следствие, такой же всемирной победы советской детективной идеи. «В японском журнале в прошлом году — в самом архиреакционном журнале, где печатаются исключительно американские писатели (детективные и другие) — был напечатан рассказ Ефремова, и это очень характерно. Китайские и японские рынки сейчас проявляют большой интерес к советской литературе… Интерес показывает, что от нас ждут продукцию приключенческого сектора советской литературы», — говорил Роман Ким, не уточняя, где он этот журнал читал и что это было за издание вообще. В завершение доклада он напомнил о подрастающем поколении: всё ради них, ради молодых — чтение должно быть увлекательным и несущим полезную нагрузку. Детектив как способ интеллектуальной гимнастики и как средство воспитания высокой коммунистической морали — вот что надо советской молодежи.
Ведущий заседание секретарь правления Союза писателей СССР Лев Матвеевич Субоцкий — в прошлом завотделом литературы и искусства главной советской газеты «Правда» и одновременно прокурор Главной военной прокуратуры, отправивший на расстрел десятки ни в чем не повинных людей, а потом сам севший на два года (всего!), доклад Кима одобрил. Если советский детектив ведет к «познанию жизни и воспитанию народа» — так тому и быть, пусть ведет. Фантаст-очеркист (была и такая литературная специальность) из Детгиза Кирилл Константинович Андреев прокурора-редактора поддержал: «Жанр романа тайн может быть возрожден и развит».
Доклад Романа Николаевича произвел благожелательное впечатление на секретариат. Через пять месяцев, в октябре 1947 года, Ким был принят в союз — без книг («Три дома напротив…» не в счет) и с минимальным количеством публикаций. Первое произведение новобранца — критический и не слишком интересный памфлет о пороках штатовской литературы «Путешествие на американский Парнас» появился в первом номере «Нового мира» за 1948 год.
«Тетрадь, найденная в Сунчоне» впервые вышла в майском номере журнала «Новый мир» за 1951 год. Значит, окончена она была вряд ли позднее конца 1950-го. Сразу после выхода повесть становится известна японцам. Кому именно — непонятно, но не исключено, что это произошло с помощью Отакэ Хирокити, сидевшего во время войны в тюрьме за свои левые и русофильские взгляды, а теперь освобожденного. Каким-то образом повесть очутилась в издательстве «Гогацу сёбо» в руках переводчика Такаги Хидэто[409]. Интересно и то, что в ежегодно издаваемом Союзом писателей СССР списке переводов советских авторов на иностранные языки этой книги Романа Кима нет вообще. Она попала в Японию тайным, контрабандным путем. Для советского времени, да еще в отношении автора — вчерашнего заключенного, это был неслыханный поступок. К сожалению, в маленьком токийском издательстве «Гогацу сёбо», существующем и сегодня, не сохранились архивы тех лет, и ныне работающие сотрудники ничего не знают о Такаги. Неизвестно даже, настоящее это имя или псевдоним. В пользу последнего соображения то, что никаких упоминаний о таком переводчике в истории японской литературы нет, за исключением 1952 года, когда была издана книга Кима. И в этом же году в переводе Такаги Хидэто, и в том же «Гогацу сёбо», вышли еще две книги — других советских авторов.
Мы уже знакомы с довольно странным предисловием к «Тетради…» и говорили, что книга Кима в японском переводе получила тяжеловесное название «Сэппуку сита камботати ва икитэ иру», то есть «Штабные офицеры, совершившие сэппуку, живы». Сэппуку — это привычное уже нам слово «харакири». По цензурным соображениям книгу сократили примерно на четверть. Полный ее вариант, в другом переводе, появился в Японии лишь в 1976 году, уже после смерти автора. К тому же в руки Такаги Хидэто попала версия книги, известная нам только по первым двум изданиям. Во всяком случае, в предисловии он упоминает сознательные или несознательные ошибки Кима, связанные с географическими названиями. Этих ошибок в советских изданиях после 1952 года нет. Значит, Ким их исправил уже после того, как текст книги попал в Японию. Наконец, в финале предисловия переводчик сообщает о том, что Ким написал книгу о югославском лидере Иосипе Броз Тито. Но единственным романом о Тито, написанным и изданным в СССР, была «Югославская трагедия» Ореста Мальцева, вышедшая в 1951 году.
Несмотря на восторженные отзывы переводчика, «Штабные офицеры…» не произвели фурор в Токио, хотя тираж и был распродан. Судьба «Тетради…» в Советском Союзе сложилась счастливее. В июле 1951 года, когда вышла рецензия в «Правде» (ее автором был фронтовик, Герой Советского Союза Сергей Борзенко), Роман Николаевич отдыхал в Доме творчества писателей в Юрмале. 30 июля в письме Анатолию Тарасенкову — заместителю главного редактора «Нового мира», где и вышла повесть, он рассказывал о том, как сначала сильно испугался, узнав, что о книге написали в «Правде», а затем стал новой звездой советской литературы: «В нашей комнате уже толпились люди, жали руки моей жене, потом кинулись ко мне, директор Дома творчества Бауман всунул мне в руки роскошный букет — и начался суматошный день, один из самых радостных в моей жизни. Жена сбегала на вокзал, купила три номера “Правды” и убедилась, что во всех трех номерах текст статьи одинаков»[410]. Рецензия «Правды» была командой: если она была отрицательной, автора немедленно сживали со свету, как это было в случае с Зощенко примерно в те же годы. Если же рецензия выходила хвалебная, автор книги в мгновение ока достигал вершин успеха сталинской эпохи. Справедливости ради надо сказать, что «Тетрадь…» была действительно хороша: правдива в деталях, увлекательна по сюжету и достаточно легка для восприятия. Книгу высоко оценили и массовый читатель, и специалисты. Военный переводчик японского языка Аркадий Стругацкий в начале декабря 1952 года писал брату Борису с Камчатки: «Да, непременно прочитай “Тетрадь, найденную в Сунчоне” Романа Кима. Это вещь!»[411] Братья еще только задумывались о литературной карьере, до их первой книги оставалось еще семь лет, но одним из ориентиров для них в понимании того, что такое «настоящая вещь», стало произведение Романа Кима.
Зимой 1953 года Анатолий Кузьмич Тарасенков уволился из «Нового мира» из-за политического давления на редакцию — в журнале публиковали слишком много «неблагонадежных» поэтов. Возможно поэтому Роман Николаевич не смог, как обещал, быстро подготовить «новую вещь — листов на 7–8»[412]. Очередная книга, она называлась «Девушка из Хиросимы», вышла только в августе — сентябре 1954 года, и не в «Новом мире», а в «Октябре». Повесть получилась «проходной» — сегодня она уже практически забыта. Скорее всего, это произошло из-за переизбытка, не без ущерба для художественного достоинства, идеологических мотивов. В 1954 году трагедия Хиросимы и Нагасаки была близка и болезненна, но сконцентрированный вокруг этой темы сюжет оказался слишком уж злободневным, журнальным. Роман Николаевич был, безусловно, блестящим журналистом, но мало кто из представителей этой профессии остался в памяти потомков в качестве самобытных писателей (самое яркое исключение — Владимир Гиляровский).
События в «Девушке из Хиросимы» развиваются предсказуемо до шаблонности, несмотря на их очевидную правдоподобность: девочка Сумико выживает после атомной бомбардировки ее родного города 6 августа 1945 года. Поступив работать на фабрику, она становится членом подпольной коммунистической организации, естественно, борющейся за мир во всём мире и против американских баз — в 1950-х годах это было широко распространенным явлением в Японии. В организацию внедрен провокатор, и Сумико участвует в его выслеживании и разоблачении. Всё очень реалистично, но не всегда реалистичность — это именно то, что нужно остросюжетному роману.
Самое удивительное, что в повести есть и очевидная сегодня фантастика, но эта фантастика исторична и относится не к самой логике развития событий, а к теме, где Роман Ким постарался раскрыть свои таланты и знание японской культуры в полной мере. И всё же, читая сегодня эти строки, поневоле задумываешься, где автор почерпнул знания, чтобы составить вот такое, например, описание искусства борьбы: «Способы защиты в карате называются укэ. Защищаться от ударов врага следует не только путем ухода — отпрыгивания в стороны и назад, не только путем уклона и нырка — движениями туловища в стороны и наклоном вперед и не только парирующими движениями рук и ног — подставкой и отбивом, но и другими приемами, каких нет в дзюдзюцу и боксе, например, прыжками вверх. Каждый, кто изучает карате, должен как следует отработать технику прыжка. Настоящим мастером карате считается только тот, кто может во время боя подпрыгивать так, чтобы попадать ногой в грудь врага.
В тот момент, когда враг наносит удар, его вышагивающая нога отрывается от земли и тело теряет свою устойчивость из-за перемещения веса. В это мгновение враг неизбежно раскрывает ту или иную часть тела, и этим надо пользоваться для нанесения стремительного, сшибающего с ног и выбивающего дух контрудара. Главное в карате — усвоить технику молниеносного перехода от обороны к нападению.
Особенно важно знать карате женщинам. По части голой силы женщины уступают мужчинам. Но в карате дело решает не голая сила. Побеждает тот, на чьей стороне не только сила, но и умение. Важную роль играют проворство, быстрота соображения и хитрость, например, умение делать ложные камаэ и такие движения, которые вводят врага в заблуждение, и он получает удар с той стороны, с какой не мог ожидать. Этими способностями природа наделила женщин в достаточной степени. Недаром в числе сильнейших мастеров карате в прошлом столетии была молоденькая девушка Итона Цуру. Слава о ней гремела по всему королевству Рюкю. Она швыряла на землю всех мужчин подряд. Единственный, кого она не смогла одолеть, был Мацумура, лучший мастер того времени. Их схватка кончилась ничьей. Он влюбился в нее, они стали мужем и женой, и когда между ними иногда случались ссоры, он выходил из дому и отводил душу на прохожих».
«Сумико боролась в третьей паре. Ее партнершей была Мацуко, рослая, скуластая девица, левша. Против левши требовалось особое камаэ. В ответ на попытку Мацуко схватить за пояс Сумико сделала отбив правой рукой и отпрыгнула вбок, но, получив подсечку, пошатнулась; Мацуко поймала ее руку и закрутила. Сумико ударила локтем назад и вырвалась, но тут же, не успев перенести вес на левую опорную ногу, получила кекоми — удар ногой — и растянулась на полу…
Мацуко сразу же перешла в наступление. Сделала обманное движение и, выбросив левую руку, вцепилась в пояс Сумико и подтянула ее к себе. Сумико хотела защититься встречным коленным ударом, но было поздно, ее взяли на один из приемов нагэ: приподняли, как только ее ноги оторвались от пола, перекинули движением бедра, — она грохнулась на спину, не успев даже ударить рукой о пол, чтобы смягчить падение».
Необходимость помещения в текст длинного и довольно занудного описания техники тогда еще не известного в СССР карате и вообще приемов борьбы можно объяснить тем, что бывший Кин Кирю по кличке Пушечное ядро всю жизнь интересовался японскими единоборствами и хотел увлечь ими читателя. Не было случайным знакомство Кима с первым русским дзюдоистом и основателем борьбы самбо Василием Ощепковым. В ноябре 1936 года Ким просил переводчика советского посольства в Токио Александра Клётного привезти ему из Японии книги по ниндзюцу — «искусству синоби», как он назвал их на следствии, и расшифровал: «…то есть кодексу старой японской разведки, поскольку собирался писать по этому вопросу целый трактат»[413]. При этом все тексты, в которых Роман Николаевич постарался изобразить поединки, вне зависимости от вида борьбы, выглядят весьма странно и бесконечно далеки от жизненных реалий. Больше всего они похожи на попытку вербализации, литературного описания увиденных им в учебниках и свитках мокуроку и без того не слишком жизнеспособных картинок в стиле «лягушки демонстрируют приемы дзюдзюцу». В них, безусловно, присутствует таинственный восточный колорит, и они способны произвести сильное впечатление: положительное — на дилетантов и неофитов, противоположное — на искушенных в японской борьбе людей. Если бы книги Романа Николаевича кто-то попытался бы экранизировать (а ни одной такой попытки до сих пор предпринято не было), то подобное описание поединков поставило бы режиссера в тупик. В результате мы увидели бы не то, о чем пытался рассказать автор, а то, что смог снять режиссер (как в фильме о Джеймсе Бонде «Живешь только дважды»), ибо такое — невнятное, противоречивое и далекое от реального единоборства описание оставляет бесконечное и открытое поле для экспериментов.
«Девушка из Хиросимы» в этом смысле — не исключение. В «Тетради, найденной в Сунчоне» Роман Ким дает описание фехтовальной техники. Учитывая реалии — место и время событий, — герои должны были использовать военные мечи — гунто и соответствующую оружию, слегка упрощенную технику владения мечом. Однако снова происходит нечто совершенно фантастическое:
«Муссолини показал пальцем на рыжеватого парня:
— А ну-ка. Покажи на нем свой класс. Одним ударом надвое.
Дзинтан кивнул мне:
— Покажи ты сперва.
Я засмеялся:
— Нет, одним ударом не умею. Несколько раз пробовал на острове Макин, но ничего не получалось, только портил материал.
— Вы, наверно, били горизонтально, — сказал Муссолини. — ударом “полет ласточки”. Это очень красивый, но трудный удар. Лучше рубить сверху наискось, от плеча к бедру, ударом “опускание журавля”.
Флотский лейтенант, стоявший рядом с Дзинтаном, счел нужным вставить замечание:
— А самый чистый удар — это рубить от макушки до копчика на две равные половинки, в стиле Миямото Мусаси…»
Описанными Кимом приемами совершенно невозможно разрубить человека одним движением так, чтобы обнажилась печень и ее можно было бы достать руками, а именно этого пытались добиться японские фехтовальщики, чтобы исполнить обряд поедания сырой печени поверженного противника и набраться таким образом дополнительной храбрости и силы для боя. Удар «полет ласточки» существует в реальности, но его никак нельзя назвать горизонтальным. По геометрии выполнения он больше похож на тот, что упоминается в диалоге как «опускание журавля», и в современном японском фехтовании называется «монашеская перевязь», да это и не так важно. Значительно важнее то, что японским мечом, в том числе гунто, вообще невозможно за один раз вертикально располовинить человека по той простой причине, что таковы особенности этого оружия. Японский меч не рубит, а режет. Быстро, эффективно, но режет мясо, а не грудину с ребрами и позвоночник — у него другие задачи, под них он и заточен. Разрубить человека от макушки до головы, как предлагал это сделать флотский лейтенант, «мог» не Миямото Мусаси, а другой фольклорный герой из другой страны — Евпатий Коловрат. Но во фразах, произнесенных лейтенантом и офицером по кличке Муссолини, скрыт ответ на происхождение всей сцены. Удар «полет ласточки» — любимый прием Сасаки Кодзиро, главного противника Миямото Мусаси. Сам же легендарный мастер фехтования действительно легендарный — как и его стиль владения мечом. Именно в 1930-е годы, перед самой войной, когда Роман Ким так активно интересовался японскими единоборствами, в Токио с необыкновенным успехом издавались и продавались книги Ёсикава Эвдзи, ныне объединенные и выпущенные на русском языке под названием «Десять меченосцев». В этих книгах как раз и описывались, и весьма красочно, приключения Миямото Мусаси, его былинные подвиги, невероятная сила и мастерство во владении мечом. Похоже, что Роман Николаевич Ким произведения Ёсикава внимательно прочел, принял на веру, ибо проконсультироваться ему было негде и не с кем, а затем элементы художественного вымысла японского автора вставил и в свою книгу.
С «Тетради, найденной в Сунчоне» и «Девушки из Хиросимы» началась быстрорастущая слава Романа Кима как маститого писателя, приключенца, мэтра советского детективного жанра. В советский период писатели были личностями уважаемыми, а отношение к ним носило оттенок сакрального преклонения. Роман Николаевич много работал, а блага, предоставляемые Союзом писателей популярным авторам, принимал с удовольствием, направляя их на поддержание хорошей творческой формы. Наряду с отдыхом в санаториях и домах творчества, он с радостью пользовался представлявшимися ему теперь возможностями посмотреть мир. В реалиях 1950–1960-х годов XX века имевшие такую привилегию писатели действительно были почти небожителями. Ким, еще не реабилитированный, с неснятой судимостью, по официальным документам фактически уголовник (сидел-то по хозяйственной статье!) должен был чувствовать свою особую значимость, когда оказался в списке «выездных писателей» — тех, кого отправляли за рубеж в «творческие командировки». Ким ездил и раньше, но то было совсем другое. В анкете Союза писателей СССР, заполненной им 23 апреля 1952 года, указано, что он «неоднократно выезжал за границу по служебной линии во время работы в органах ОГПУ — НКВД». Теперь же всё волшебным образом изменилось. Командировки стали творческими, а бывший спецагент — знаменитым писателем.
Первая из командировок в новом качестве состоялась в 1956 году — в Китай. Результатом поездки стало создание повести «Агент специального назначения». Начиная от названия, которое, пусть и не использовалось в Советском Союзе, но наиболее точно определяло довоенную должность старшего оперуполномоченного Кима, всё в книге имеет аллюзии на разные эпизоды биографии Романа Николаевича. Главный герой — молодой и прокоммунистически настроенный китаец Ян известен как большой любитель детективов. Относится он к ним не как к оружию против времени, не как к приятному, но бессмысленному по сути чтиву, а «по-кимовски». Ян детективы пристрастно и тщательно изучает, ибо уверен, что они учат наблюдательности и развивают логику, совершенствуют аналитическое мышление и могут пригодиться в подпольной работе. Рядом с Яном неожиданно происходит убийство (а какой настоящий детектив без него?) богатого беглеца из Китая, что сразу наводит на мысли об отце Романа Кима, ушедшем когда-то с капиталами вана Коджона в Россию. Ну а дальше начинается цепь таинственных событий, расследований, противостояний разведки и контрразведки — словом, всего того, что так хорошо знал и к чему привык Ким и что оставалось только перенести на богатую экзотикой китайскую почву.
Вторая поездка состоялась в не менее удивительное, чем Китай, место: в Африку. Было бы странно, если бы и здесь обошлось без путаницы. В деле Кима в Союзе писателей отмечено, что в 1958 году он в составе делегации побывал в Эфиопии[414]. И действительно, с этой страной тогда необыкновенно бурно выстраивались культурные отношения. Но вот Кимура Хироси, лично познакомившийся с Кимом в том же 1958-м, получал от него «приветы из Африки» и позже: «Новый 1961 год Ким-сан встретил в египетском Каире и послал мне письмо на бланке гостиницы “Рас” в эфиопской Аддис-Абебе. До того он путешествовал в группе писателей по Европе и Америке, но, кажется, Африка ему понравилась особенно. В письме было написано: “Ко мне попали интересные материалы, и я хочу написать произведение об Африке”. На следующий год в Москве я получил в подарок старинного стиля сосуд, изготовленный в деревне, где родились предки Пушкина»[415]. По какой «линии» Ким ездил в Египет, непонятно. Да и ездил ли? Может быть, снова Кимура Хироси что-то напутал? И почему из Каира Роман Николаевич отправил ему письмо на старом бланке эфиопского отеля «Рас Амба» (он и сегодня существует)? Или он был и в Эфиопии, и в Каире? Невероятно для советского писателя в 1958 году. Но… не для Кима. Возможно, именно в это время он приобрел себе новую курительную трубку. Вообще, по воспоминаниям А. В. Федорова, курил он мало, и трубка для Романа Николаевича скорее элемент имиджа писателя-детективщика, немедленно вызывающего ассоциации с Шерлоком Холмсом и комиссаром Мегрэ. Трубка недорогая, простенькая, производства фабрики «Главтабак», что находилась когда-то недалеко от Белорусского вокзала в Москве. На чубуке таких трубок ставилось соответствующее клеймо на русском языке. Маститый приключенец Роман Николаевич Ким, получив карт-бланш на поездки за рубеж, очень не хотел, чтобы в нем признавали гостя из-за «железного занавеса», а потому перочинным ножом (это видно по многочисленным неловким срезам) русские буквы с чубука срезал. С этого дня «трубка русского Сименона» сопровождала его до конца дней — и дома, и в поездках.
Зимой 1960 года Союз писателей СССР отправляет Кима в Лондон. Командировка «выстреливает» сразу: уже весной в журнале «Наш современник» выходит повесть «Кобра под подушкой». Конечно, написана она была много раньше. Поездка в Англию дала возможность лишь подправить шероховатости. Одно из мест действия в произведении — как раз Лондон, помимо Мадрида и магрибской Касабланки.
В отличие от «Тетради, найденной в Сунчоне», «Девушки из Хиросимы» и «Агента специального назначения», не говоря уже о более ранних произведениях Кима, здесь гадать не приходится. Отдельные моменты повести, в первую очередь самое ее начало — прямо с эпиграфов, вещь на 100 процентов личная. Вещь не от Кима, а про Кима. Судите сами. Роман Николаевич ставит сразу два эпиграфа. Первый принадлежит знаменитому китайскому стратегу древности, автору трактата «Искусство войны» Сунь-Цзы: «Война — путь обмана». Второй — цитата из шпионского романа Агаты Кристи «Н или М»: «…когда кончится война, я думаю, что смогу рассказать о своей работе. Это была жутко интересная работа». Роман Кристи вышел в свет в 1941 году, и когда Роман Ким прочитал эту фразу, на него, вероятно, нахлынуло целое море эмоций и воспоминаний.
У Агаты Кристи речь идет о поисках британскими отставниками из разведки осевшего в английском командовании немецкого шпиона. Это тоже тема Кима, и в самой повести «Кобра под подушкой», конечно же, есть хорошие и плохие разведчики и шпионы, обман, интриги и неожиданная развязка. Но особое внимание привлекают два момента. В первом, не попавшем в печать, но сохранившемся в архиве, варианте «Кобры…» повесть начиналась так:
«— Я хотел убить премьер-министра Сталина, — произнес арестованный и, покачнувшись, чуть не упал со стула.
Пимброк успел подхватить его и, взяв за плечи, сильно встряхнул. Эймз окинул взглядом атлетическую фигуру арестованного и усмехнулся:
— Странное желание. Насколько мне известно, Кремль находится в Москве, а не здесь, в Африке.
— Я узнал, что он прилетит сюда.
— От кого?
Арестованный закрыл глаза и опять покачнулся.
— Я больше не могу, — простонал он. — Дайте мне поспать… Тогда всё скажу.
Эймз и Пимброк быстро переглянулись. Наконец-то! Допрос, продолжавшийся беспрерывно почти трое суток, увенчался успехом: арестованный заговорил…»[416]
На втором следствии (1939 года) Роман Ким говорил, что в 1937-м ему не давали спать, чем довели его до исступления и почти до умопомешательства. Пытка вынудила его признать свою вину и оклеветать многих своих друзей. Теперь в его повести агента вынуждают к признанию тем же путем — бессонницей. Действие происходит в Африке в 1942–1943 годах, но даже для 1960-го упоминание в ней имени Сталина оказалось для советских цензоров неприемлемым. Бывший корреспондент «Правды» в Лондоне, фронтовик и переводчик приключенческой литературы Борис Изаков нашел способ прорваться с «Коброй под подушкой» в печать. «Я только предложил бы автору изменить первую фразу повести, — посоветовал он. — После всего того, что происходило у нас вокруг мнимых покушений на И. В. Сталина и что было разоблачено на XX съезде партии, такое начало воспринимается читателем как бестактность и вызывает нежелательные ассоциации»[417].
Роман Николаевич хорошо знал, что с редакторами спорить себе дороже, и очень хотел увидеть свое произведение опубликованным. Он заменил Сталина Черчиллем, а Кремль и Москву Уайтхоллом и Великобританией. Рецензировавший книгу Борис Самсонов одобрил ее в таком виде: «Каких-либо искажений фактов, относящихся к области международных отношений и внешней политики Советского Союза в тот период, в рукописях этих повестей не встречается. Автор добросовестно изучил необходимые документы, мемуары и свободно владеет материалом»[418]. Последняя фраза рецензии совсем не случайно напоминает о цитате из Агаты Кристи: Ким вложил в книгу много своих тайных знаний. «Кобра под подушкой» еще ждет своего «дешифровальщика» — по мере выявления новых деталей биографии ее автора неизбежно будут находиться и заимствования из реальной жизни в жизнь литературную. В целом книга получилась весьма увлекательной, но, пожалуй, одна из главных ее неудач — образ советского журналиста Мухина — «полноватого человека в очках». Несмотря на то, что он должен быть ярким и запоминающимся даже не только потому, что является одним из главных героев книги, причем «наших» героев, пусть и проявляющих по ходу повествования удивительную пассивность по отношению к сюжетной линии, Мухин получился на редкость картонным, плоским, неинтересным. Ким всё время говорил на своих выступлениях о том, что советской молодежи в приключенческих книгах нужен герой, которому хочется подражать. Мухину подражать не хочется совсем — прежде всего потому, что непонятно в чем — он ничего не делает. Или делает что-то такое, что явно навязано ему автором только для того, чтобы этот персонаж (всё-таки он «наш»!) в повести присутствовал, ибо на самом деле он там лишний — основные действующие лица находятся по другую сторону идеологического фронта. Товарищ Мухин, по-другому его и не назовешь, очень напоминает свое литературное продолжение. Точнее наоборот: это советский журналист Дмитрий Степанов из появившихся несколькими годами позже романов Юлиана Семенова напоминает Мухина. Степанов — это продолжение, развитие, улучшенный и модернизированный вариант кимовского героя. Сознательно или нет, но Юлиан Семенович и здесь позаимствовал у своего предшественника хорошую, но не слишком удачно реализованную идею (впрочем, и у Семенова Степанов так никогда и не становится главным героем расследования и не вызывает сопереживаний читателя).
«Кобра под подушкой» приносит Роману Киму новую порцию славы, денег, успеха. Он уже не просто «известный приключенец», он — мэтр советского детективного жанра. В мае 1961 года Роман Николаевич вместе с группой ведущих советских литераторов отправляется в Америку. Маршрут почти космический: Нью-Йорк — Вашингтон — Чикаго — Детройт — Ниагарский водопад — Филадельфия — Нью-Йорк. В стороне осталось только западное побережье. Но наши были рады и этому. Некоторые из них, в том числе Сергей Баруздин и Андрей Вознесенский, потом отзовутся книгами об этом удивительном для времен приближающегося Карибского кризиса путешествии. Роман Ким привез из Америки детский набор полицейского (дубинка, наручники, игрушечный револьвер) для племянника жены и заметки об американской жизни для себя. Еще только узнав о возможности увидеть Америку, Роман Николаевич уже жаждал этой поездки. «Две недели напряженного путешествия — придется работать ногами и глазами с утра до вечера, глотать всё, жадно вбирать в себя, чтобы собрать побольше материала, — строил он планы, — ведь для писателя важны все мелочи быта: как по утрам развозят молоко, как почтальоны носят сумки, как зовут кошек и собак… С “Новым миром” заключил договор на детективную повесть, и Америка даст мне много материалов»[419].
Детективная повесть, которая уже пишется, — одна из лучших в библиографии Кима и, как всегда, очень личная. Хотя речь в ней пойдет действительно об американцах, весь сюжет повести, названной «По прочтении сжечь», будет кружиться вокруг противостояния с японской разведкой. История — широко известная в узком кругу профессионалов. В июне 1941 года американская разведка вскрыла шифр японской дипломатической миссии в США. Ким предложил читателям свою версию того, как это произошло. В книге есть всё: хитрые и коварные американские разведчики и еще более коварные, но излишне консервативные и самоуверенные разведчики японские, уголовники на службе у правительства, отравления, любовь, интриги своих «плохих» против своих же «хороших» (причем и среди японцев, и среди американцев), до боли напоминающие внутренние противостояния и конфронтации в НКВД, угроза войны, тупоголовые командиры, противоречащие самим своим существованием тезису Сунь-Цзы о том, что «только совершенномудрый может быть руководителем шпионов», и храбрые, инициативные, но излишне интеллигентные подчиненные…
Обязательно для творчества Кима и наличие в произведении упоминания о в высшей степени необоснованном, несправедливом плане нападения на Советский Союз и у японцев, и у американцев. Очень похоже, что долгие годы читая сверхсекретные документы японских военных, Роман Николаевич узнал и понял ту парадигму существования японского милитаризма, о которой и сегодня многим японоведам неловко и стыдно говорить. Но это правда — японцы действительно жаждали напасть на СССР и то, что история сложилась не в их пользу, — в значительной степени заслуга Романа Кима и его коллег. Сам он в повести тоже присутствует. Точнее, не он, конечно, речь-то идет об американских дешифровщиках, а его литературное alter ego — второй лейтенант Николас Уайт.
В «Тетради, найденной в Сунчоне» на мгновение появляется студент в фуражке с эмблемой университета Кэйо. В «Кобре под подушкой» мы видим сцену допроса, знакомую нам по реальной биографии автора, где-то еще он появляется на долю секунды из-за спины своих персонажей, по обыкновению слегка улыбаясь и внимательно глядя сквозь круглые очки на читателя. В повести «По прочтении сжечь» Ким уходит от намеков и говорит о Нике Уайте, как о себе, напрямую, но устами другого персонажа: «Он великолепно знает японский, учился в Токио, в университете Кэйо, обладает незаурядными лингвистическими способностями… В упрек ему, пожалуй, можно поставить то, что он по характеру и образу мышления больше штатский, чем военный. Очень добросовестен, повышенно эмоционален, иногда наивно принципиален». И хотя американский генерал отвечает на это: «Я вижу, что твой дружок стал офицером по недоразумению», как, наверное, отвечал Александру Гузовскому, хлопочущему за важного зэка Кима, нарком госбезопасности Берия, читатель понимает, что это не негативная, как должно быть по сюжету, а положительная характеристика героя. Ник Уайт — хороший парень. И Роман Ким — хороший парень. Именно здесь, в этом романе впервые у автора появляется герой, которому хочется подражать. Не пролетающий вскользь в «Тетради…» корейский партизан (других положительных героев-мужчин там вовсе нет), не странноватый и невнятный Мухин из «Кобры» и даже не молодой китаец Ян из «Спецагента» (трудно советскому парню хотеть быть похожим на маленького китайца), а он — Ник Уайт — претендует на роль примера, достойного подражания. Одна беда: он — американец.
Несмотря на этот маленький огрех, повесть ждет заслуженное внимание читателей и издателей. Сначала она выходит в январе — феврале 1962 года в журнале «Наш современник», а через год ее выпускает отдельной книжкой Воениздат — 200 тысяч экземпляров. Сегодня такие тиражи авторам политических детективов могут только сниться. Из всех произведений Кима в наши дни переиздавались немногие: «Агент особого назначения» в 2003 году, «Тетрадь, найденная в Сунчоне», «Кобра под подушкой» и, безусловно, «По прочтении сжечь» в 2006-м.
В 1962 и 1963 годах Роман Николаевич побывал в Финляндии, но ожидаемого произведения на тему, например, советско-финляндской войны не последовало. Вместо этого в журнале «Октябрь» осенью 1963 года выходит так называемая повесть-памфлет «Кто украл Пуннакана?». Сюжет столь же необычен, как и название: в американском городке внезапно исчезает живший там гофмаршал тайского короля (!). Литературный агент выступает в роли частного сыщика и в конце концов находит Пуннакана, который оказывается мошенником, нашедшим «золотую жилу» в лице некоего исследовательского института, ведущего разработки приемов идеологической войны против СССР (о России вообще в повести много). Повесть названа памфлетом, потому что прямо транслирует мысли и идеи автора, не раз выступавшего с ними на лекциях и семинарах для писателей и критиков. Один из героев говорит: «Я думаю о продукции писак типа Флеминга и Ааронза. Их описания злодеяний красных шпионов организованно проталкиваются на книжные рынки Европы, Латинской Америки, Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки. И миллионы читателей всех возрастов зачитываются этими книжками. Они написаны так, что от них трудно оторваться… Шпионский детектив — очень действенное оружие в психологической войне. Мне непонятно одно: почему советские детективные писатели не отвечают Флемингу и его коллегам? Почему уступают без боя книжные рынки зарубежных стран?» И вот ключевое: «Ведь советским авторам не нужно придумывать похождений вымышленных шпионов!..»
Ким, как и обещал в авторской заявке, «на основании материалов, собранных в Америке», описывает «кухню психологической войны, ведущейся против нас лагерем империалистов». Некоторые места из «Пуннакана» напрямую прокладывают дорожку к следующей его книге, пожалуй, самой сложной для восприятия: «Школа призраков» — книге о ниндзюцу.
Один из героев «Пуннакана», строя планы противодействия мировой коммунистической экспансии, разрабатывает обширный, но не слишком конкретный план участия в этой деятельности оккультистов и специалистов по психологическому противодействию противнику. Сегодняшним политическим консультантам, имиджмейкерам и специалистам по «мягкой силе» стоило бы преподавать повесть «Кто украл Пуннакана?» в вузах, где их готовят. Как, впрочем, и «Школу призраков».
Архивы хранят свидетельства того, что еще в 1960 году Ким начал подбираться к идее описания специальных операций контрразведки на манер тех, в которых участвовал сам. Сначала появился план повести об операции «Цицерон», осуществленной немецкой разведкой в Турции в 1943 году. Тогда гитлеровцам, точнее, немецкому военному атташе Мойзишу, удалось найти подход к камердинеру английского посла в Анкаре и изъять из его сейфа секретную документацию. Мойзиш в 1950 году опубликовал мемуары, которые задели Кима. «Версия бывшего гитлеровского разведчика Мойциша недостоверна. В моей повести излагается история камердинера Дьеро на основании новых данных, в частности данных японской разведки в Анкаре, которая была в курсе всей операции», — писал Ким в заявке на повесть, которая должна была получить название «Сейф посла Начбэла-Хьюгессона»[420]. По какой-то причине дальше заявки дело не пошло, а жаль. Если бы повесть вышла, сегодня мы могли бы попытаться расшифровать еще одну загадочную и, главное, совершенно реальную шпионскую историю времен войны.
Вторая, и тоже нереализованная идея была «о том, как во время Тихоокеанской войны чанкайшисты поддерживали связи с японской разведкой с целью создания единого фронта против коммунистов. Главные персонажи повести — советский и китайский историки в результате изучения материалов, касающихся закулисной стороны японо-китайской войны, выясняют тайну гонконгских переговоров и роль брата жены Чан Кайши». Повесть должна была называться «Полномочный призрак».
Последняя идея того времени реализована всё-таки была, но не в той форме, в какой ее изначально задумывал Ким. Роман Николаевич со всех сторон подходил к своей биографии, топтался подолгу у разных ее кусков, не зная, как подать читателю то, что хотелось рассказать, — так, чтобы было и правдиво, и захватывающе одновременно. Получалось далеко не всегда. Пилотное название нового произведения было «непродажным»: «Искусство проникновения». В заявке автор обозначил его следующим образом: «Автобиография специалиста по науке “синоби” (теория разведки, созданная в Японии), который учился в школе Накано, затем в “Спай скул” в Америке, по окончании которой стал действовать на фронтах тайной войны»[421].
Глава 19 НИНДЗЯ С ЛУБЯНКИ
Послушай! Без страха Иди туда, Куда должно тебе идти, И сделай так, Чтобы прозрели Те, кому дано прозреть… Мусякодзи Санэацу[422]Источники интереса Романа Кима к ниндзюцу очевидны: во-первых, он что-то читал или слышал о синоби (ниндзя), когда учился в Японии, — это была пора расцвета городского ниндзюцу-фольклора.
Во-вторых, он вернулся к этой теме в пору написания глосс к книге Пильняка. Несомненно, его авантюристическую натуру (что бы он ни говорил на следствии по поводу того, что его больше привлекала кабинетная жизнь «профессора-японоведа») заинтересовали средневековая теория разведки в широком смысле этого слова и особенно возможности ее экстраполяции на современность. Потом Роман Николаевич уже никогда об этом не забывал: его уроки дзюдзюцу у Василия Ощепкова и просьба в Токио прислать ему книгу по ниндзюцу из Токио в середине 1930-х — свидетельства попыток переноса теории на практику. Практика была богатой: популяризатор ниндзюцу Фудзита Сэйко, которого Роман Николаевич читал еще до войны, писал как о Киме: «Того, кто способен скрытно проникнуть туда, куда трудно добраться, кто возвращается оттуда, откуда нет дороги, надлежит называть великим мастером искусства синоби, а искусство это чрезвычайно глубоко». Попыток, до сих пор до конца неосмысленных, так как осмыслить их трудно: в силу секретности биографии Кима, мы многого об этом еще не знаем.
В-третьих, война дала ему новый стимул для интереса к теме ниндзюцу: в июле 1938 года, после начала активных боевых действий в Маньчжурии, когда стало окончательно ясно направление следующего главного удара, на окраине Токио, в родном для Кима районе Ушгомэ была создана специализированная разведывательная школа (рикугун гакко) для подготовки высококлассных специалистов по разведке и диверсиям на территории Советского Союза. Таких как Онода Хиро, сражавшийся на Филиппинах до 1974 года. Как известно, с направлением инструкторы школы, позже переведенной в район Накано, не угадали — удар пришелся на страны Юго-Восточной Азии и США, поэтому с началом войны на Тихом океане школа была переориентирована на действия в этих регионах. Однако изначальная направленность «на Советы» представляла для Москвы большой интерес. Тем более что часть программ для нее писал полковник Акикуса Сюн — профессиональный разведчик-советолог, консультант российской фашистской партии и начальник Японской военной миссии в Харбине. Информация о «кузнице кадров» японских диверсантов и разведчиков наверняка доходила до Лубянки. Логично предположить, что и переводил ее с японского Ким. После победы над Японией контрразведка умело выуживала выпускников этой школы в потоке пленных. Особенности же японского менталитета таковы, что, попав в плен, офицеры, особенно молодые, считали своим долгом рассказать победителю всё, что знали, выдать любые секреты. Да и не только молодые офицеры. Об этой школе рассказывал сам Акикуса Сюн, оказавшийся в советском плену[423], и даже многоопытный генерал Хата: в его показаниях школе Накано отведен целый раздел (8). Пункт «в» (обучение) этого раздела в том числе гласил: «Курсанты проходили курс закаливания их личных свойств и характера, с тем чтобы в самых трудных условиях самостоятельно выполнять возлагаемые на них задачи. В школе преподавались иностранные языки, военное и экономическое положение других стран и радиодело…
Политическую структуру иностранных государств, их экономическое положение и иностранные языки преподавали чиновники государственных ведомств. По военному делу лекции читали офицеры Генерального штаба и преподаватели Военной академии…
Выпускники школы Накано везде добивались исключительно высоких успехов в своей работе»[424]. Роман Николаевич, с его любовью к единоборствам, непременно заметил бы, что рукопашный бой курсантам Накано рикугун гакко преподавал основатель айкидо Уэсиба Морихэи.
Находясь в загадочной командировке на Дальнем Востоке осенью 1945 года (и/или позже), Ким, без сомнения, узнал много интересного о Накано рикугун гакко, но книга о японской разведшколе как раз в те годы, сразу после победы, когда появилась надежда на установление нормальных отношений с Японией, явно не подходила для советской печати. Со временем у Романа Николаевича появился еще один прототип для «школы призраков»: в египетском (!) журнале он прочел о существовании в Бейруте подобного учебного заведения британской разведки, интересы которой традиционно были направлены на Ближний Восток. Идея трансформировалась из простого очерка о тренировках диверсантов в попытку рассказать о подготовке серьезных специалистов, прежде всего в области ведения психологических войн и морального разложения противника. Противник — мы, Россия, Советский Союз. Школа, понятное дело, должна была стать американской.
В заявке в издательство «Советский писатель» Ким четко излагает: а) свою цель: «Я хочу показать не примитивных и трафаретных шпионов — героев традиционных шпионских романов, а квалифицированных специалистов подрывной войны, вооруженных всеми “научными дисциплинами”, которые усиленно разрабатываются сейчас в Америке с целью более эффективной обработки сознания и психики людей»; б) форму произведения: «исповедь курсанта специальной школы американской разведки»; в) источники: «особая дипломатическая школа, созданная английской разведкой в Шамляне (Ливан. Бурж-ас-Шамали? — А. К.) и описанная каирским журналом “Роз эль Юсеф”»; г) сроки исполнения работы: сентябрь 1963 года[425].
Работа оказалась более сложной и интересной, чем изначально предполагал автор. Дважды ему пришлось выезжать в Африку и Европу (Нидерланды) — «проверить на месте материалы для последних глав». Такая роскошь в Советской стране была доступна немногим писателям даже высшего литературного ранга. Роман Николаевич явно пользовался покровительством куда более мощной, чем Союз писателей СССР, организации, и нетрудно догадаться, какой именно.
Поездки открыли для Кима что-то такое, из-за чего в итоге пришлось переделывать всё произведение: «По соображениям политического порядка надо будет вытащить одну сюжетную линию, проходящую через всю повесть». Всё это затянуло процесс написания на целый год: «Школа призраков» была закончена в октябре 1964-го.
Журнал «Наш современник» собрался печатать ее в летних номерах следующего года, а издательство «Советский писатель» поставило в план на 1966 год. Пока же рукопись отправили на «спецконсультацию, где автору был сделан ряд замечаний, которые Р. Ким учел». Повесть пошла в печать, и теперь последнее слово было не за «критиками в штатском», а за читателями. Читатели необычному произведению удивились и… оказались не готовы ни к теме повести, ни к форме ее подачи. Какого-то особого издательского успеха книга не имела, хотя в СССР ее переиздавали дважды, выпустили и в «странах социалистического лагеря»: в Чехословакии (дважды), Болгарии и Венгрии.
Это неудивительно. Роман Николаевич явно перепутал жанры или попытался обогнать свое время. Собственно, еще рецензент повести заметил, что «специальная эрудиция автора порою не получает достаточно выразительного художественного изображения и некоторые страницы повести звучат как сугубо деловая информация». Пытаясь воплотить все свои задумки — от начатого в «Ногах к змее» рассказа о синоби до мыслей о глобальной имиджевой войне, Ким действительно попытался втиснуть в текст слишком много информации. «Школу призраков» приходится даже не читать, а изучать. Сюжет и на самом деле в этой книге не главное, хотя интрига «закручена» тут, пожалуй, лучше, чем во многих произведениях аналогичного жанра. Но это студенты должны изучать конспект важного первоисточника, а повесть — не «первоисточник», и читатели — не студенты. Они этого делать не обязаны и не будут. Отсюда и холодность приема весьма увлекательного произведения.
События в повести изложены от лица главного героя книги, пишущего донесения своему наставнику. В первом же письме цитируется британский дипломат и писатель, генерал-губернатор Канады Джон Баккан: «Впереди дни и ночи в полном одиночестве и постоянном напряжении, подтачивающем нервы. Подобно одежде, тебя будет облекать смертельная опасность. Страшная работа, слишком бесчеловечная для человека». Понятно, что Ким, как обычно, пытается снова писать о себе, и похоже, в его архиве должна находиться тетрадь с выписками из произведений приключенцев всего мира, высказывания которых он экстраполировал на себя и потом использовал в работе.
Герой попадает в загадочную разведывательно-диверсионную школу АФ-5, находящуюся где-то в Северной или Северо-Восточной Африке (пригодился опыт путешествия в Эфиопию?). Кому подчинена школа, каковы основные задачи и места службы ее выпускников, из книги не вполне понятно. Ясно только, что это — «передний край борьбы с коммунистической опасностью» и на службе у курсантов самые эффективные методики «призраков»: от искусства синоби и поставленной на научную основу физиогномики до методов осуществления масштабных акций по смене правительств — то, что сейчас назвали бы «технологией оранжевых революций», а Ким именует кудеталогией — наукой о государственных переворотах. Но главное, то, ради чего и писал Ким «Школу призраков», — конечно, ниндзюцу.
Историк синоби, автор книги «Путь невидимых. Подлинная история ниндзюцу» А. М. Горбылев считает, что «Ким почти во всех своих произведениях так или иначе касается ниндзюцу, иногда даже искусственно его притягивает. Мне кажется, его очень привлекала эта тема, и он много размышлял над тем, могло ли ниндзюцу кануть в Лету бесследно и каким могло бы быть современное ниндзюцу. При чтении “Школы призраков” у меня создается стойкое ощущение, что он очень хотел представить свое видение модернизированного ниндзюцу и придумал эту странную повесть, в которой сюжетная линия — это всего лишь рамка, в которую втиснут конспект школы современного ниндзюцу — Ким-рю… Она написана человеком, который держал в поле зрения всю доступную ему литературу по ниндзюцу — от энциклопедических словарей и японских повестей “ко-дан” до специальных работ по японскому шпионажу на европейских языках. Например, в “Школе призраков” Ким упоминает реальные довоенные публикации по ниндзюцу Фудзита Сэйко и Ито Гингэцу»[426].
С определения ниндзюцу из японо-английского словаря Кацумата («Искусство быть невидимым») начинается книга, и это же определение, по сути, включено в ее название. В систему обучения в школе входит знакомство с тремя уровнями ниндзюцу: а) низший — войсковая разведка и диверсии, партизанские и антипартизанские операции; б) средний — работа с агентурой оперативно-тактического уровня, методы вербовки, разработка и ведение агентурных комбинаций, контрразведка — то, чем занимался Роман Ким всю жизнь; в) высший уровень — кудеталогия, организация государственных переворотов, мятежей, создание чрезвычайных ситуаций в широких масштабах. Высший уровень ниндзюцу — основной для школы АФ-5.
Какая может быть связь между кудеталогией и ниндзюцу? Не заигрался Роман Николаевич в синоби? — эти вопросы неизбежно приходят на ум, когда мы читаем «Школу призраков». Это понимал, об этом же думал и сам автор повести, вкладывая и вопрос, и ответ на него в уста своих героев:
«Ниндзюцу. Наука номер один для вас. Японские ниндзя, так именовались самураи, усвоившие эту науку, могут служить вам примером.
Я сказал:
— В газетах писали, что Иан Флеминг незадолго до своей неожиданной смерти ездил в Японию изучать ниндзюцу и заявил, что эта самурайская наука совсем устарела и утратила всякое значение.
— Он поторопился с выводом, — тихо сказал Командор».
Этот короткий, максимально спрессованный диалог — прямое развитие мысли Кима, высказанной еще в «Ногах к змее»: ниндзя существуют, они живут среди нас и сегодня, просто не надо думать, что они бегают по крышам в черных костюмах с двумя мечами за спиной. Современный ниндзя — это разведчик высокого класса, имеющий специальную подготовку для решения своих тайных задач. И всё. В «Школе призраков» встречается даже любопытное определение, относящееся к наставнику ниндзюцу по кличке Утамаро: «нацистский ниндзя». Это в корне переворачивает вообще все наши киношные, голливудские представления о ниндзюцу, но, похоже, ниндзя с Лубянки — Роман Николаевич Ким — именно к этому и стремился.
Как обычно в его произведениях, в этой книге много фантастики, нереального, творческих придумок, но также обычно вместе с ними присутствует база, извлеченная из японской литературы. Несмотря на то что книга вроде бы о современной разведывательной школе, вся схема ее работы, как, кстати говоря, и методы «исследований» антисоветского психологического института в повести «Кто украл Пуннакана?», основаны на профессиональных универсалиях, восходящих еще к практической философии Древнего Китая и средневековой Японии. Чего стоит, например, отсылка автора к свитку под названием «Сёнинки», что значит «Записи об истинном ниндзюцу», написанным неким Фудзибаяси Масатакэ еще в 1682 году. Вот замечательный фрагмент из «Сёнинки», рассказывающий о принципе столь популярной сегодня «мягкой силы», в средневековой Японии именовавшейся «искусством предоставления человеку возможности быть правым», что, в свою очередь, является основой для манипулирования им в собственных целях (свиток 2, глава 8):
«Этот принцип состоит в том, чтобы заставлять человека думать, будто он умный, а вы — дурак. Чего нельзя говорить ни в коем случае — так это того, что даст людям догадаться о вашем уме.
Дать человеку оказаться правым — значит притвориться простаком, абсолютно не понимающим, что да как в этой жизни, и, таким образом, провоцируя собеседника объяснить вам это. И если вы будете постоянно поддакивать, говоря: “Вот-вот, как верно, как верно!” — собеседник еще больше возгордится и начнет кичиться своими умственными способностями. Вот тут-то, если вы достаточно внимательны, вы сможете обнаружить, как он ненароком местами обмолвится о чем-то важном, чего напрямую никогда бы вам не сказал. Тогда-то, если ухватиться за неосторожно оброненные им слова и насесть на него с расспросами, то, начав говорить, ему будет неудобно не дорассказать до конца, и в этом плане его позиция станет уязвимой. Всем людям свойственно желание говорить умно, но от этого-то и следует воздержаться в первую очередь.
Поэтому со своей стороны следует обуздать именно свой ум. Всегда держа его внутри, вы всегда сможете воспользоваться им, как только захотите. Главное, таким образом, вы оставляете за собой подлинную правоту.
Потому человек, способный хорошо выполнять функции синоби, на вид полный олух. Но в любом деле он способен заставить собеседника потерять голову от собственной важности, что также называют “посадить человека на повозку” (яп. хито-о курума-ни какэру)»[427].
«Сёнинки», как и другие древние трактаты о ниндзюцу — «Бансэн сюкай», «Комондзё-но дзюппо», «Синоби мондо» и «Ниндо кайтейрон», напрямую упоминаются в «Школе призраков». И упоминаются именно в этом контексте: приложение к «Сёнинки» под названием «Сокровенное наставление по возбуждению смут» служит одной из основ курса кудеталогии, который ведет в школе профессор под японским псевдонимом Утамаро. Этот преподаватель делит ниндзюцу на три периода.
С XIV по XIX век, включая период постмэйдзийской модернизации и знакомства японской разведки с достижениями западных специалистов, «происходит модернизация самурайской науки о тайной войне».
«Расцвет обновленного ниндзюцу» — 1930-е и 1940-е годы. «Он связан с деятельностью школы Накано, выпускники которой покрыли Азиатский материк густой паутиной агентов и приняли участие в подготовке различных событий, дававших Японии поводы для военных интервенций и создания марионеточных режимов. Японские службы призраков достигли высшего мастерства по части такого рода особых политических акций… (сравните с фразой из допроса генерала Хата: «Выпускники школы Накано везде добивались исключительно высоких успехов в своей работе». — А. К.). В школе Накано японские теоретики дополнили и развили положения, фигурирующие в китайских и японских трактатах прошлых веков о свержении власти в стране врага руками заговорщиков». Если вспомнить о чрезвычайно важной роли японской разведки в организации первой русской революции в 1905 году, понимаешь, что в школе Накано был богатый практический материал для исследований.
«Всё лучшее, что есть в классическом и модернизированном ниндзюцу, было соединено с наиболее ценными достижениями секретных служб во время Второй мировой войны — так появился ниндзюцу третьего, то есть послевоенного, периода».
Курсанты школы АФ-5 изучают науку о слухах — руморологию, опять же используя трактаты по ниндзюцу и современные им американские и европейские исследования Уэклера, Холла, Хэмфри и других. Ким не видит в этом противоречия, ибо с его точки зрения именно так и выглядит ниндзюцу «третьего периода». Более того, в качестве примера «идеального ниндзя» Ким, конечно словами Утамаро, приводит… Рихарда Зорге:
«— Когда его арестовали, дома у него нашли большую библиотеку, он изучал даже японские литературные памятники восьмого века, начиная с “Кодзики”. Недаром в своих записках, написанных в тюрьме, он писал, что если бы жил в обстановке мира, то стал бы ученым. Свою секретную работу он вел именно как ученый.
— Наверно, изучал ниндзюцу, — сказал Даню.
Исходя из того, что он изучал основательно японскую литературу и историю Японии, можно полагать, что ему, конечно, был известен ниндзюцу — хотя бы по книгам Ито Гингэцу, Фудзита Сейко и других современных популяризаторов этой самурайской науки».
Как мы помним, «Школа призраков» была сдана в печать в октябре 1964 года. В это время только-только стартовала кампания по героизации Зорге в Советском Союзе. Дотоле неизвестный у нас разведчик был знаменит только на Западе. Можно было бы предположить, что Ким успел прочитать первые публикации о Рамзае в советской прессе и срочно вставил их в уже сдаваемую рукопись. Такое возможно. Но на самом деле Роман Николаевич и до этого хорошо знал дело Зорге, что позволяло быть ему в курсе и содержимого библиотеки, и содержания «Тюремных записок» Зорге, изданных на русском языке только в 2001 году.
В пользу этой версии свидетельствуют один документ, который будет приведен в следующей главе, и воспоминания ведущего научного сотрудника Института востоковедения РАН корееведа Юрия Васильевича Ванина. В молодые годы, примерно в 1962 или 1963 году, ему довелось встретиться с Кимом в стенах института. Роман Николаевич тогда, помимо всего прочего, рассказал о выдающемся советском разведчике Рихарде Зорге, работавшем в Токио и сделавшем очень много для победы СССР в войне. Никто в аудитории никогда прежде не слышал этого имени, за исключением одной дамы, которая бурно выразила свое негодование, так как до войны встречалась с Зорге в Японии и знала его как убежденного нациста, «партайгеноссе германского посольства» в Токио[428].
Ниндзя из АФ-5 изучают фармакологию особого назначения, проходят через специальные испытания и провокации, участвуют в убийствах и сдают экзамены. Разумеется, главный герой успешно преодолевает все испытания и в последнем письме-докладе бывшему наставнику открывает свое истинное лицо. В его экспресс-автобиографии угадываются черты Зорге, но теперь уже не только, и не столько его: «Когда я учился в университете, профессора предрекали мне карьеру ученого. И я сам собирался стать историографом, но меня немного смущало то, что наряду с интересом к сугубо научным проблемам я ощущал неприличную для молодого ученого тягу к творениям таких классиков шпионской беллетристики, как Лекью, Оппенхайм и Уоллес. В знаменитом рассказе Стивенсона добропорядочный Джеккиль по ночам превращается в злодея Хайда. Во мне тоже боролись ученый Джеккиль и детективный Хайд, и, увы, победил последний…»
Уильям Лекью, Эдвард Оппенгейм (Оппенхайм), Эдгар Уоллес — основоположники шпионского детектива рубежа XIX–XX веков — вряд ли могли быть кумирами молодого человека, курсанта АФ-5 начала 1960-х — к тому времени на литературном горизонте появились новые имена, вроде того же Яна Флеминга или Жоржа Сименона. Нет, конечно, Ким писал это не о главном герое «Школы призраков», он писал это о себе. Это он стал призраком, добровольно выбрав личину детективного злодея Хайда. Это он, учась в университете, ощутил в себе эту «неприличную для молодого ученого» тягу, и даже слово «увы» употреблено им не случайно — оно напоминает о показаниях, которые он давал в июле 1940 года на суде, когда рассказывал, что стал чекистом по ошибке, из-за собственной глупости, из-за тщеславия. И вот теперь, когда ему перевалило за шестой десяток, Роман Ким подводил итоги, пытался что-то рассказать о себе — так, чтобы хотя бы через полвека кто-то догадался, о чем и о ком идет речь.
В конце повести есть еще одна странная фраза: «Утамаро, конечно, будет неистовствовать, когда узнает, кто с таким усердием слушал его лекции. Но профессор должен быть доволен своим учеником. Я провел комбинацию по всем правилам, приводимым в трактате “Ниндзюцу-хиндэн-сэцунин-мокуроку” (верхний свиток, глава седьмая), — проник в замаскированном виде во вражеский лагерь, завоевал доверие и в нужный момент нанес удар. Всё это комбинация “фукурокаэси” — “вывернутый мешок”». Или… «вывернутый портфель» — в соответствии с реальной биографией Романа Николаевича.
Понятно, что это снова он — Роман Ким. И мы уже знаем, что в его жизни был «вывернутый мешок». Но кто профессор? Ясно, что не о занятиях в колледже Фуцубу идет речь. Может быть, разгадка в потерянных годах перед революцией? Но на чьей стороне был загадочный «профессор» и на чьей стороне он — Роман Ким? К кому и кем был заброшен «фукурокаэси»? Чей это вражеский лагерь? Как бы ни хотелось ответить на эти вопросы тем или иным образом, единственно верного ответа пока нет.
Глава 20 ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА ИЗ НИОТКУДА
Одиночества час. Лежу, распростершись на ложе. Друг еще не пришел. Я один на один с цветущей Сливой карликовой в вазоне… Масаока Сики[429]В 1942 году, когда полезность и невиновность Романа Кима стали очевидны руководству НКВД, он получил едва ли не главную награду в своей жизни: ему разрешили переписку с семьей. Сын Вива (Виват) после ареста родителей избежал отправки в детский приемник и жил под Уфой с сестрой Мариам Верой и ее детьми. Сама Мариам Самойловна сидела в Севжелдорлаге, в поселке Княжпогост (ныне Железнодорожный) в Коми АССР, работала на легкой, «блатной», как она сама писала, работе — учетчицей[430]. По иронии судьбы ей и там пришлось однажды поработать переводчицей у заключенного по фамилии Ким. Загадочный кореец, не знавший русского языка, но прекрасно говоривший по-японски, якобы работал председателем рисоводческого колхоза в Казахстане. Вскоре его отпустили (!) и он, «совершенно преобразившийся», в штатском костюме уехал на волю. Мариам Самойловна завидовала ему, но вряд ли могла надеяться на освобождение. Однако через некоторое время (пока неизвестно, когда именно) она начала получать письма от мужа, которого считала расстрелянным.
Роман Николаевич, лучше осведомленный о судьбе супруги, никогда не забывал ее и в начале войны, получив, очевидно, намек на возможность определенных послаблений в режиме, написал письмо в руководство НКВД с просьбой пересмотреть дело Мариам Самойловны. Просьба ценного заключенного была удовлетворена, и 29 мая 1942 года — через пять лет и один месяц после ареста — Мэри Цын доставили в Москву. Она тоже начала заниматься переводами с японского и — ждать. Во Внутренней тюрьме НКВД на Лубянке она общалась с бывшей японской актрисой Окада Ёсико, та даже нарисовала портрет Мэри, а жена Кима рассказала японке о своем муже, имевшем знакомых (Сано и Хидзиката) среди японских театральных деятелей. Работала Мариам Самойловна, видимо, хорошо, опасений не вызывала, никто не сомневался в том, что никакая она не шпионка, и в конце концов начальство решило, что дальше она может ходить на службу в «шарашке» из дома. 13 марта 1943 года Особое совещание при НКВД СССР, которое отправило ее в лагерь, отменило свой же собственный приговор, и 22 марта Мэри освободили.
Сразу поехать к сыну в Башкирию, где в одном из колхозов жила ее сестра, не получилось. Уехала только в июне. «Вива был ошеломлен от счастья. Всё казалось ему сказочным… Вива придумал страну Лучезарию и стал рисовать карту своей страны, где будет жить счастливо, — вспоминала Мариам Самойловна. — Но действительность была другой. Перед собой он видел озабоченную маму, которая не знала, как поправить его здоровье, чем накормить и во что одеть»[431]. Жизнь в Башкирии была невыносима. В школе мальчик числился «сыном врага народа» и вынужден был каждодневно терпеть унижения. Творческая натура его находила выход в литературе. О своей жизни в качестве ссыльного ребенок написал трогательный до слез рассказ «Школа», который потом причислят к «лагерной» литературе. Но лагерной в то время были вся страна, вся жизнь.
В Москве профессор Н. И. Конрад, недавно вышедший из той же «Внутрянки», устроил Мариам преподавателем Института востоковедения, где руководил кафедрой. Жизнь начала налаживаться. Мужа — Романа Кима вернули из Куйбышева в столицу. Видеться с ним, конечно, не получалось, но сама мысль, что он рядом, в более или менее нормальных условиях, радовала. Радовал и сын. «Война близилась к концу. Вива пошел в пятый класс, стал круглым отличником. Он твердо решил заниматься литературой. Вива записался в детский зал Ленинской библиотеки, где проводил ежедневно не менее двух часов, и показывал мне списки прочитанных книг. Как и все дети, он играл в войну, “добивая фашистов”, радуясь нашим победам. Но история Вивы грустная. Сказка не состоялась. Он был слаб и заболел тяжелой и неизлечимой болезнью легких. Я увезла его в больницу и была с ним до самой смерти. 26 февраля 1944 года в Морозовской больнице Вива скончался»[432].
По одной из версий, смерть ребенка навсегда развела Мариам Цын и Романа Кима. По мнению М. Ю. Сорокиной, дружившей с М. С. Цын в последние годы ее жизни, супруги так сильно переживали потерю ребенка, и так много напоминало им о погибшем Виве, что они не могли больше находиться вместе. По другой версии — Мэри вернулась из лагеря не одна, а с новым мужем. Поэтому, выйдя из тюрьмы в декабре 1945 года, Роман Ким пошел не к жене, а к другу — Владимиру Шнейдеру. Тот тоже сидел — во время проверки злоупотреблений НКВД в Азербайджане перешел дорогу Берии и пять лет скитался по тюрьмам. Так же, как и Ким, он хорошо знал принципы работы следственной системы родного ведомства и непрерывно его путал, забрасывая следователей всё новыми показаниями и жалобами. В 1942 году это прекратилось. Вернув Шнейдеру форму, в которой он был арестован в 1937-м, его отправили рядовым бойцом в окопы Сталинграда, где он вызывал недоумение однополчан своим кожаным чекистским регланом образца 1937 года, к которому так не шла обычная «трехлинейка». Шнейдер «кровью искупил судимость», стал офицером Красной армии и в 1945 году закончил войну в Праге в звании майора и в должности командира автомобильного батальона 18-й армии, где служил вместе с будущим советским лидером Леонидом Брежневым[433].
С сестрой Владимира Любой Ким когда-то лихо отплясывал на вечеринках в клубе НКВД на улице Дзержинского. Встретившись снова после тюрьмы и войны, они уже никогда не разлучались. Любовь Александровна Шнейдер стала третьей, не последней, женой Романа Кима, но последней его любовью. Те, кто познакомился с семьей Ким-Шнейдер (Любовь не стала менять фамилию), пребывали в уверенности, что эта женщина прожила с ним всю жизнь: так трогательны, искренни и напоены любовью были их отношения. Японский журналист, пожелавший остаться неизвестным, но в детстве часто бывавший в доме Кима, узнав, что Любовь Александровна не была первой супругой Романа Николаевича, долго не мог в это поверить, а потом в своих воспоминаниях подчеркнул этот факт: «Ким в это время жил почти рядом с пресс-центром на Зубовском бульваре вдвоем, выходит, что со второй красавицей-женой, которую звали Любовь»[434]. Как писатель, он только один раз намекнул на свою прежнюю любовь в повести «По прочтении сжечь»: любимую женщину лейтенанта Уайта, с которым у Кима явно есть что-то общее, зовут Марико, что напоминает варианты имени Цын: Мариам, Марианна, Мэри. «Марико искоса посмотрела на Уайта. — Сейчас угадаю. Вы молодой ученый, преподаватель истории японской литературы в университете, специалист-ориенталист. Да? — Вы почти угадали. Я изучаю Японию…»
Старший сын — Аттик, был жив, прошел войну на Севере и был награжден медалью «За оборону Заполярья». После войны стал успешным инженером и, как взрослый человек, нормально общался с отцом, часто бывал у него дома. «Он был очень мастеровитый, — рассказывал тот же японский журналист. — У меня был французский велосипед с маленькими колесами. Помню, как он пришел к нам домой и принес шину для моего велосипеда, переделанную из шины для большого колеса советского велосипеда. Еще он научил меня играть в шахматы».
Большинство воспоминаний японцев о квартире Кима относятся ко времени после 1956 года, когда и японцев в Москве, после восстановления дипломатических отношений, стало больше, и атмосфера после развенчания культа Сталина легче, и сам Ким — досягаемее. Неясно, где он жил после 1947-го и до 1958 года — возможно, у жены. В 1958 году ему, как преподавателю Института восточных языков при МГУ, выделили отдельную квартиру, но по тем меркам на окраине Москвы — в Филях. Место семье не понравилось, квартиру удалось поменять. Его новым адресом стал Зубовский бульвар, дом 16/20, квартира 128. Огромный П-образный серый дом, развернутый двором к Садовому кольцу, был перестроен к 1980 году, когда рядом началось строительство пресс-центра Олимпиады-80 (сейчас это журналистский центр, занимаемый последовательно АПН, РИА «Новости», ИА «Россия сегодня»). По иронии судьбы при перестройке дома снесли именно то крыло, в котором жил Роман Николаевич — квартиры 128 в нем больше нет. «Вот уж неделю как здесь… Пресловутая неоновая вакханалия не так уж страшна. Небоскребы производят не столь величественное, сколь монструозное впечатление, — писал Ким в открытке Адаму Галису, вернувшись с прогулки по Нью-Йорку в свой номер в 28-этажном Governor Clinton Hotel на знаменитой Седьмой авеню во время поездки советских писателей в Америку. — Скучаю по своей Зубовской…»[435]
Едва освободившись, Ким искал возможность существования и нашел в переводах (не случайно он и вышедшую на свободу Окада Ёсико устраивал в редакцию «Иностранной литературы», куда ходили Хидзиката и Носака), в преподавании японского языка и в лекциях. Иногда его поездки выглядели странно. Весной 1961 года, например, он прочел в городе Орле десять лекций[436]. Кому? О чем? Неизвестно.
Сохранилось свидетельство о посещении им Ленинграда в начале 1950-х годов. Тогда он побывал на защите кандидатской диссертации по филологии Раисы Карлиной. Тема — «Роман Фтабатэя “Плывущее облако” и романы Гончарова и Тургенева». Фтабатэй (Футабатэй Симэй) — популярнейший японский писатель конца XIX — начала XX века, мастерски описывавший чувства человека и его природу. Ничего криминального, но… произошел скандал. Вспоминает бывший тогда молодым ученым Юрий Львович Кроль: «…против диссертации Раисы Петровны выступил писатель Роман Ким, автор известной в те годы “Тетради, найденной в Сунчоне”; он объявил Фтабатэя японским шпионом, работавшим против России… спасли диссертацию усилия Конрада, а также появление заметки о ней в японской коммунистической газете: заметка (или рецензия?) была написана в очень положительном духе и изображала Фтабатэя страстным и совершенно бескорыстным любителем русской словесности»[437]. Возможно, это произошло зимой 1955-го. Тогда у Романа Николаевича состоялся творческий вечер с читателями в Ленинграде. Правда, читатели были необычные. 15 февраля 1955 года он встречался с личным составом Ленинградского управления КГБ СССР. Об этом говорит автограф, оставленный им на экземпляре его старой книжки — «Три дома напротив, соседних два». Настолько старой, что на 17-й странице, как и положено, сохранился библиотечный штамп: «Библиотека клуба УНКВД ЛО. Инв. № 2026».
В том же 1955 году в Москву впервые после двадцатилетнего отсутствия приехал Отакэ Хирокити — в качестве директора книготорговой компании «Наука», специализирующейся на советской литературе. Фирму удалось снова открыть в сентябре 1952 года. Хотя дипломатические отношения между СССР и Японией еще не были восстановлены после войны в полном объеме, как и 30 лет назад, Отакэ приехал заранее. Маруяма Macao говорил, что они встретились с Кимом после долгой разлуки, как два старых, самых лучших друга. По иронии судьбы оба за это время успели посидеть в тюрьме. Ким — в советской, как «японский шпион», Отакэ — в японской, как «советский шпион»[438].
В следующем, 1956 году произошли два важных события, которые почти окончательно вернули Романа Николаевича в его привычный, насыщенный событиями и встречами ритм жизни. В октябре в Москве состоялось подписание Совместной декларации между СССР и Японией, возвращавшей сторонам статус-кво дипломатических отношений, прекращавшей состояние войны и открывавшей путь для послевоенного сотрудничества абсолютно во всех областях жизни. Это был грандиозный политический прорыв. В Москве в полную силу заработало японское посольство, появились представительства коммерческих фирм и средств массовой информации, потек, пока еще тонкий, но быстро набирающий силу ручеек японской культуры. В советскую столицу начали приезжать японские русисты. Многие из них работали здесь до войны и помнили Романа Кима, а он помнил их — во всех качествах. С некоторыми — как с Кимура Хироси — познакомился впервые и потом поддерживал отношения всю жизнь. Тогда же, по свидетельству Маруяма Macao, Кима пригласили перевести важнейшее интервью: главный редактор газеты «Асахи» Хироока Томо встречался с первым секретарем советской коммунистической партии Никитой Хрущевым. Так неожиданно Роман Ким стал еще и переводчиком на встречах на высшем уровне[439].
XX съезд партии состоялся еще в феврале 1956 года. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» было опубликовано 2 июля. Развенчание сталинизма дало старт гигантской волне пересмотра уголовных дел сотен тысяч необоснованно репрессированных людей. Основные результаты были получены уже в 1956–1958 годах. Почти все знакомые Кима: Борис Пильняк, Артур Артузов, Глеб Бокий, Василий Ощепков, Трофим Юркевич, Николай Мацокин и многие другие были реабилитированы — посмертно. Если за других хлопотали родственники, то Роман Николаевич в июле 1958 года сам пришел в Главную военную прокуратуру и написал заявление с просьбой о своей реабилитации.
Новое следствие было серьезным. В КГБ собрали все архивные материалы, нашли выживших свидетелей. На допросы были вызваны Валентина Гирбусова (призналась, что оклеветала бывшего шефа и на самом деле он не принуждал ее к сожительству), Василий Пудин, Александр Гузовский, Павел Калнин, другие чекисты, знавшие Кима по совместной службе на Лубянке. Все они высказались о нем как о безвинной жертве репрессий, назвали его честным и ценным сотрудником, а что касается «бытовой статьи», то им не было ничего известно о «злоупотреблениях» бывшего коллеги. 2 февраля 1959 года военный трибунал Московского военного округа рассмотрел полученный месяцем ранее протест Главной военной прокуратуры по делу Кима и принял решение: «Постановление Особого совещания при НКВД СССР от 17 ноября 1945 года в отношении Кима Романа Николаевича отменить и дело о нем прекратить за отсутствием состава преступления». Кима полностью реабилитировали. Но это был еще не конец его борьбы за свои права.
Получив справку о реабилитации, Роман Николаевич отправился по знакомому до боли (во всех смыслах) адресу и передал письмо на имя председателя КГБ при Совете министров СССР. Через пять месяцев ему пришел заказной пакет с ответом: «Во изменение формулировки приказа НКВД СССР № 1138 от 8 июля 1937 года старшего лейтенанта госбезопасности КИМА Романа Николаевича, бывшего сотрудника особых поручений 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР, считать уволенным из органов госбезопасности по выслуге установленных сроков обязательной военной службы в отставку. Период со 2 апреля 1937 года по 29 декабря 1945 года засчитать КИМУ P. Н. в стаж службы в органах госбезопасности… 5 июня 1959 года»[440]. Дополнительно прилагался адрес для обращения за получением денежного довольствия офицера госбезопасности за восемь лет заключения.
Пока Ким ждал реабилитации, в его жизни произошел один из самых странных случаев. Роман Николаевич получил официальное приглашение на мероприятия, посвященные столетию университета Кэйо. Празднования продолжались весь ноябрь 1958 года, и как оказалось, Кин Кирю не только не был забыт в Кэйо, но, наоборот, в университете прекрасно знали его нынешнее положение, имя и адрес. Его ждали в Токио, но он… не поехал. Позже он объяснил это тем, что был в Европе — отличный предлог для любящих путешествия и не знающих границ японцев. В 1958 году Ким действительно был в командировке, но не в Европе, а в Эфиопии. К сожалению, неизвестно, совпали по срокам поездка в Африку от Союза писателей и празднования в Токио или нет. Но даже если и совпали, отказ Кима выглядит очень странно. Безусловно, в душе он очень хотел снова побывать на своей второй родине — об этом свидетельствует его приветственный адрес «Комитету-44», общественной организации выпускников школы Ётися 1944 года эпохи Мэйдзи (1911). Кимура Хироси, которому Ким передал это письмо, говорил, что в нем «до боли чувствовалась тоска по родной Японии, с которой он расстался 45 лет назад (то есть в 1913 году, эти сведения противоречат сразу всем анкетам, которые Ким заполнял в России в течение этих сорока пяти лет. — А. К.). Нет, можно даже сказать, что это было горячее любовное письмо его второй родине — Японии». Ким назвал Японию страной, где провел детство, страной, где впервые учил алфавит и счет, страной, где его «впервые повлекло к литературному труду». В конце советский писатель резюмировал: «С точки зрения воспитания я наполовину русский и наполовину японец». Как ни крути, трудно поверить, что, наполненный такими чувствами любви ко второй родине, Роман Николаевич не смог из-за занятости поехать на мероприятие, где неизбежно должен был встретить многих своих однокашников по школе и колледжу. Променял на командировку в Эфиопию, результат от которой обещал быть весьма эфемерным, поездку в Токио, где мог наверняка получить не менее интересные, чем в Африке, новые знания и впечатления, расширить круг новых, необычных знакомств, насладиться атмосферой любимого города, купить только что вышедшие книги, журналы — можно в это поверить, хотя и сложно. Японоведы в это не поверят никогда, а Роман Николаевич был японоведом. Есть, правда, и такая версия: Ким не поехал в Японию именно потому, что как раз мог встретить там всех этих людей, а они могли его там… не узнать. Ведь загадочная история попадания Кима в Ётися и не менее загадочное его оттуда исчезновение так пока и не имеют объяснения. Версия дерзкая, но и отвергнуть ее мы пока не в силах.
Существует и другое объяснение. В престижном журнале «Бунгэй сюндзю» (том самом, где позже будет опубликована биография Кима работы Кимура Хироси) за май 1960 года появилась большая статья известного левого писателя Японии Мацумото Сэйтё под названием «Тайна Растворова». В ней воспроизводились детали побега из советского посольства в Токио в конце января 1954 года советского разведчика подполковника Юрия Растворова, последовавшей за этим его пресс-конференции в Америке и делался их глубокий и обширный анализ. В частности, отдельная глава была посвящена сходству и различию в делах Растворова и Зорге. Если бы обычный советский читатель в 1960 году мог прочесть эту статью, опубликованную в самом обычном японском журнале, сенсации 1964 года, когда имя Зорге было «открыто» в Советском Союзе, не состоялось бы: мы уже знали бы об этом человеке так же много, как знали о нем на Западе. Что же касается дела Растворова, то о нем до сих пор почти ничего не известно нашим соотечественникам, за исключением тех, кого оно интересует профессионально. Статья из «Бунгэй сюндзю» была важна как раз для специалистов, и есть основания полагать, что для Романа Кима в том числе.
Перевод статьи на русский язык, сохранившийся в архиве полковника КГБ А., не является секретным, да и сам журнал в Японии находился в открытой продаже и имелся в советских библиотеках.
Естественно, в статье много японских названий. У них крайне необычная транслитерация на русский язык. Мягкие слоги, в том числе с шипящими, записаны не через «ио», «чо» или «тё», а через «ьо». Например, не «иттёмэ», как принято в современной официальной транслитерации, не «ичоме», как воспринимается на слух, а «иттьомэ». Такая транслитерация не встречается, пожалуй, ни у кого из японоведов, кроме одного человека — Романа Кима. Его «Три дома напротив, соседних два» наполнены примерами именно такой непривычной транслитерации, где даже «Токио» — «Токьо». Это уже стиль, это — почерк, и это почерк Романа Кима.
Но не только это роднит эти пожелтевшие от времени листы дела Кима и дела Растворова между собой. Последняя, 37-я страница перевода подписана: «Перевел “МАРТЭН”».
Нет никаких оснований предполагать, что псевдонимом бывшего оперативного переводчика Кима в 1960 году мог воспользоваться какой-то другой переводчик — такой практики в специальных службах не существует. Только в фильмах о Джеймсе Бонде номера мифических агентов с «лицензией на убийство» передавались от одного агента другому. В жизни у каждого — свой номер, свой оперативный псевдоним, своя агентурная кличка. А если так, то получается, что по крайней мере в 1960 году бывший агент ГПУ — ОГПУ, а ныне внештатный сотрудник КГБ по кличке Мартэн продолжал работать?
Это объяснило бы многие вещи. Например, то, что Роман Николаевич долгое время жил в специальной гостинице «Люкс» на улице Горького, не имея в тот период работы, а значит, средств для оплаты жилья. Или то, как ему удалось стать членом Союза писателей СССР, не имея в активе ни одной изданной книги, кроме брошюры «Три дома напротив, соседних два», а еще выступать на специализированных заседаниях секции союза, не являясь пока его членом. Но самое главное, это объясняет то, каким образом еще нереабилитированный вчерашний заключенный спокойно разъезжал по всему капиталистическому миру в то самое время, когда другим «сидельцам» с похожей судьбой въезд даже в родную столицу был «заказан». И, наконец, это дало бы нам возможность понять, почему Роман Николаевич не поехал в Токио, хотя вполне мог бы себе это позволить.
Юрий Растворов в годы войны учился в спецгруппе разведки НКВД, предназначенной для работы в Японии. Учился в Москве, и кто-то преподавал ему там японский язык. В 1945 году Растворов был направлен в спецгруппу, занимавшуюся вербовкой агентов для советской разведки. Если в это время еще сидевший формально в тюрьме Ким работал в этой же группе, а всё говорит нам именно об этом, они могли быть, должны были быть знакомы. Растворов планировал побег, установив контакт с ЦРУ. Уйдя из советского посольства, он был вывезен американцами в США, где выдал всех сотрудников советской разведки и всех агентов-японцев — всех, кого только знал. Доподлинно неизвестно, сколько именно людей назвал Растворов — этой теме в значительной мере и посвящена статья Мацумото, но не исключено, что среди сотрудников советской госбезопасности, известных ему лично, предатель мог назвать и Мартэна — Романа Николаевича Кима. В таком случае вопрос с отказом Кима поехать в Японию решается легко и просто: он подозревал, что Растворов мог его выдать, и не мог ехать туда, где рисковал оказаться снова в комнате для допросов. Киму в такой неприятной ситуации оставалось только вежливо отнекиваться от приглашений, ссылаясь на занятость, и еще больше погружаться в творческую и общественную жизнь советских беллетристов.
У этой версии есть и слабая сторона: в 1960 году США и Япония уже были связаны Договором о безопасности, и американские спецслужбы чувствовали себя на островах как дома. Все показания Растворов давал именно американской разведке, а уж ЦРУ решало, чем можно поделиться с японской полицией (собственной разведслужбы у Японии в то время еще не существовало), и Роман Николаевич прекрасно об этом знал, и даже в статье этой болезненной для японцев теме уделено значительное внимание. Но всего год спустя, в 1961-м, Ким совершенно спокойно поедет в США в составе делегации Союза писателей СССР. Это странно: в Японию ехать он побоялся, а в Америку — нет? Нет ответа. Кроме того, перевод статьи Мацумото — несекретный. «Если бы Роман Николаевич дал подписку и работал бы в послевоенные годы как внештатный сотрудник КГБ, — считает полковник Б., — он мог бы пользоваться своим псевдонимом, но — только в секретной переписке. Тут явно иной случай. Желание подписаться под несекретной бумагой псевдонимом, который когда-то принадлежал агенту, можно объяснить бравадой, если угодно, старческим мальчишеством, попыткой напомнить о себе, о своих заслугах молодежи, сидящей теперь на его месте». Но испугаться показаний Растворова Ким-Мартэн мог на самом деле, и не важно, был он внештатным сотрудником КГБ или не был[441].
Помимо собственно писательской работы Роман Николаевич всё чаще выступал в роли признанного мэтра советской приключенческой литературы. Иногда, как в случае с защитой Карлиной в Ленинграде, выступая с разгромными речами и разоблачениями, иногда наоборот — поддерживая молодую «писательскую поросль». К братьям Стругацким, только еще мечтавшим войти в литературу, Ким отнесся дружески-покровительственно. Знакомство началось с Аркадия, служившего военным переводчиком японского языка в системе КГБ на Дальнем Востоке. Они впервые встретились в 1958 году, когда Ким взялся «пробивать» в издательстве «Советский писатель» альманах «Приключения и фантастика». Приключенческий раздел, естественно, Роман Николаевич брал на себя, а о любви к фантастике заявил тогда никому не известный бывший офицер. После встречи с Кимом Аркадий Стругацкий возбужденно писал Борису — младшему брату: «Ким говорит, что, если это нам удастся — мы прочно войдем в эту литературу… будем неделю работать как проклятые…»[442] Братья подготовили по просьбе Кима две повести: «Страна Багровых туч» и «Извне». С альманахом в результате так и не сложилось, но книги вышли отдельными изданиями. В декабре 1960 года Ким стал одним из поручителей при приеме Стругацких в Союз писателей СССР. Правда, не получилось так легко, как с ним самим: молодых фантастов приняли только в феврале 1964-го. Радостную весть тоже принес братьям Ким: он сам позвонил Аркадию и сообщил, что Стругацкие «прошли девятью голосами при пяти воздержавшихся». Аркадий, в свою очередь, был высокого мнения о Киме как о литераторе. «Ким: заграница ведет в фантастике широчайшее антисоветское и антикоммунистическое наступление. Привел несколько примеров, причем рассказывал с большим вкусом и азартом, как мог бы лакомка рассказывать о китайской кухне. Заявил, что наша фантастика, если не считать Лагина и Томана, не очень-то, — писал Аркадий Стругацкий в марте 1963 года, будучи приглашен на заседание секции приключений и фантастики СП СССР, а через год повторял: —…я рад за Кима. Да и то сказать, он да Лагин — лучшие памфлетисты, никуда не денешься»[443].
В 1960-е годы Роман Николаевич Ким запомнился в качестве приглашенной знаменитости сотрудникам Института востоковедения и других языковых вузов, включая Высшую школу КГБ. К этому же времени относится большая часть воспоминаний коллег-писателей о загадочном «приключение». Все понимали, что память этого человека хранит какие-то тайны, но никто из литераторов не знал, какие именно. Об этом знали в КГБ, с подачи которого в июле 1964 года Роману Николаевичу пришлось еще раз на несколько часов перенестись в жуткий 37-й год…
Специальная комиссия ЦК КПСС завершила пересмотр дела Тухачевского и других красных командиров, репрессированных в 1930-х. В связи с этим всплыл эпизод с запиской помощника японского военного атташе в Польше, которую Кима заставили переводить в апреле 1937 года. Выяснилось, что почти все участники операции: бывшие работники НКВД СССР Н. А. Солнышкин, М. И. Голубков, Н. М. Титов, К. И. Кубышкин, М. Е. Соколов и, конечно, P. Н. Ким — живы. Все они были вызваны в ЦК. Теперь всё закончилось хорошо, объяснения Кима были запротоколированы, а со временем стали достоянием общественности: Ким оказался одним из немногих, кто и в 1937-м, и в 1964 году говорил одно и то же: Тухачевский не был агентом японской разведки.
К тому времени Роман Ким находился в прекрасной форме — и физической, и творческой. Во второй половине 1961 года он сопровождал японскую журналистку на встрече с семьей первого космонавта Юрия Гагарина. Познакомился с молодым писателем Юлианом Семеновым и рассказал ему историю Максима Максимовича и его связного-корейца. В 1964 году у Семенова вышла первая книга из серии приключений Штирлица — «Пароль не нужен», и Юлиан Семенович никогда не забывал того, кто дал ему этот сильный творческий импульс. Совокупный тираж книг Кима приближался к миллиону. Гонорары позволили купить квартиру сыну — Аттику, у которого после войны родились две дочери — Галина и Елена — внучки Романа Николаевича. Всё больше и больше гостей собиралось на Зубовском в маленькой «двушке» Кима с ярко-красными обоями, где, как писал его старый друг Лев Славин, «книги переливались через борт» квартиры. Всё чаще его посещали японцы.
В 1959 или 1960 году в Москву прилетел профессор университета Васэда, бывший журналист и объект наблюдения «коновода» Кима Маруяма Macao. «…Когда наш самолет приземлился в аэропорту и я спускался по трапу самолета в сумерках — кто-то с седой головой неожиданно молча обнял меня. Я удивился, но сразу узнал Кима. Это удивительная встреча после 30 лет разлуки. Это заставило меня почувствовать перемены времен и изменения отношений между Японией и СССР»[444]. Маруяма ничего не забыл и всё понимал. Во время этого и последующих своих посещений Москвы он старался держаться подальше от Кима и не предпринимал попыток найти свою старую любовь — Мэри Цын. Лишь на склоне лет он рассказал историю любви, чреватую смертельным риском, своему ученику профессору Касама Кэйдзи[445]. Тот, уже в очень зрелом возрасте, став звездой японской русистики, отправился в Россию на поиски Мэри, но опоздал на несколько месяцев: Мариам Самойловна Цын скончалась в 2002 году.
Старый друг Кима Отакэ Хирокити умер намного раньше — в 1956-м. Некролог прогрессивному журналисту и искреннему другу СССР был помещен в советской прессе, его подписали Ким и Конрад. Вдова Отакэ — Сэй как минимум один раз приезжала в Москву, к Киму. Втроем, с Любой, они ездили гулять в Дом творчества писателей, на Пахру, в Переделкино — на могилу Пастернака, стихи которого ценил Роман Николаевич, бродили по московским улицам и паркам. Интересно, о чем думал Роман Николаевич, общаясь с вдовой человека, которому был обязан жизнью и за которым честно шпионил на протяжении нескольких лет? О чем думал, показывая улицы, по которым когда-то мчался на своем автомобиле Борис Пильняк, расстрелянный за шпионаж в пользу Японии, или спешил Мейерхольд, у которого хотели учиться, но успели убежать до того, как их учителя признали японским шпионом, Сано и Хидзиката и к которому по пояс в сахалинском снегу шла через границу Окада Ёсико со своим женихом — режиссером Сугимото? Окада уже в 1950-е всё-таки стала режиссером в московском Театре им. Вл. Маяковского, а вот Мейерхольда и Сугимото убили при Сталине. «Каждый камень в Москве дышит органами», — писал бывший полковник разведки М. П. Любимов, и Роман Ким чувствовал ритм этого дыхания. Но скоро ему пришлось почувствовать и дыхание смерти.
В начале 1965 года внезапно скончалась Любовь Александровна Шнейдер — третья жена Романа Николаевича. Все, кто близко знал Кима в те, последние его годы, в один голос говорили о том, что эта смерть подкосила его. После похорон он уехал в Ялту, откуда писал супругам Славиным: «Как построю жизнь по возвращении в Москву, не знаю. Одно ясно — никогда не будет такой подруги около меня, какой была Люба, и ее памяти я никогда не изменю, я не из породы забывающих… Сделал начерно один детективный рассказик… Была бы Люба, почитал бы ей и узнал ее мнение. Но ее нет, и не будет больше… Вот теперь видишь, чувствуешь, как она заполняла до отказа мою жизнь, как было тепло с ней. Не знаю, не знаю, как теперь я буду жить в опустевшем гнезде на Зубовском… Буду теперь без сердца, обойдусь без него. Для того чтобы стучать на машинке, нужны пальцы, и глаза, и голова… Этот удар такой, после которого я уже никогда не оправлюсь — буду до конца жизни находиться, как говорят боксеры, в состоянии “грогги”. Ваш страшно несчастный, убитый Роман»[446].
Творчество резко пошло на спад, хотя были удачи, и немалые. Еще в 1964 году, пока Люба только болела, Ким, используя еще американские впечатления, написал рассказ «Особо секретное задание». Его принял журнал «Наш современник». Следом появился рассказ «Дело об убийстве Шерлока Холмса» — одно из лучших произведений Романа Николаевича, где главным героем стал великий сыщик с Бейкер-стрит. В страшную для Кима зиму 1965-го появился необычный для него рассказ «Доктор Мурхэд и пациентка». Лишенный социально-политической подоплеки, но насыщенный квазимистическими опытами с подсознанием, он, наравне с предыдущим произведением, воспринимается сегодня легче всего. Следующей стала «Проверка ангелов» — готовый сценарий для ироничного боевика, что-нибудь в духе фильмов с Брюсом Уиллисом — тоже, к сожалению, до сих пор не снятого.
Дальше — хуже: Роман Николаевич после смерти Любы заболел сам. Врачи предположили язву желудка, и Ким, наверное, вспомнил, как тайком глотал стекла от очков в камере Лефортовской тюрьмы, надеясь умереть от кровотечения в желудке. По злой насмешке судьбы та тюремная «мечта» начала сбываться.
Осенью 1965 года в Москве состоялся важный советско-японский литературный симпозиум, от которого Роман Николаевич не мог остаться в стороне. Наоборот, погрузившись в общение с японцами, он как будто вернулся к жизни. Многие были удивлены резкости его выступлений. По воспоминаниям писателя-фантаста Накадзоно Эйсукэ, на заседаниях Ким «в хвост и в гриву» разносил современную японскую литературу, около двадцати представителей писательского цеха которой сидели в зале, за ее безыдейность, конформизм и заигрывание с американской культурой. Японцы пребывали в шоковом состоянии. Каково же было удивление тех из них, кого он по окончании симпозиума пригласил домой, на скромный холостяцкий ужин, во время которого смеялся над своим собственным выступлением, просил, чтобы его не принимали всерьез, и восхищался такой близкой и родной ему японской культурой[447].
Чуть позже А., встречавшийся когда-то с Кимом в качестве курсанта Высшей школы КГБ, а теперь пришедший работать на бывшее место службы Романа Николаевича, снова увиделся с ним. Начальник «японского отдела» пригласил молодого лейтенанта А. в кабинет, когда Ким уже был там. То, что в кабинете находился человек, не работающий в органах, уже выглядело странно, но… «Роман Николаевич был очень оживлен, но видно было, что он уже на излете… Он на днях присутствовал на мероприятии в японском посольстве и теперь зашел рассказать, кто там был, что говорил, какие настроения среди японских дипломатов. Он уже не мог без этого. Думаю, такая тяга к общению у него развилась после смерти любимой жены. Его довольно часто приглашали японцы, и он с удовольствием ходил на приемы, а потом заходил или звонил нам, чтобы в подробностях все рассказать. В формулировках осторожен, точен. Чувствовались профессиональная хватка и опыт. О нем даже нечего больше рассказать, потому что, хотя говорил он много, о себе умудрялся ничего не говорить. Аккуратен был невероятно, а жить без работы уже не мог — как болезнь какая-то»[448].
Диагноз врачей относительно язвы оказался ошибочным. У Кима был рак желудка. Старый разведчик слабел на глазах. Как раз в это время у него дома побывал молодой аспирант-японовед Анатолий Мамонтов. «Однажды в гостях у Романа Николаевича Кима, первого “красного профессора”-японоведа, тогда уже безнадежно больного, я услышал стихи, о которых хозяин дома восхищенно сказал: “Почти Басё!” Не помню, чьи это были строки, кажется, сочинил их монах-отшельник, живший в начале XIX века. Помню только большой, в толстом переплете старинный фолиант, тисненный золотыми иероглифами, который достал вдруг с полки Роман Николаевич и раскрыл в нужном месте, о чем свидетельствовала единственная малиновая закладка. Он прочитал стихотворение вслух. Коротенькое трехстишие по-японски звучит еще короче, чем по-русски, но целый мир порою вмещают в себя эти семнадцать слогов, составляющих хайку.
Отшельник, или опальный поэт, уединившись в горах, вдали от людей, вел свой дневник. По прошествии дня он сделал в нем запись:
И всего-то событий за день — Еловая шишка С ветки упала!Тогда же в кабинете Кима я перебрал несколько вариантов, перелагая миниатюру на русский, пока с его одобрения не остановился на этой редакции.
Роман Николаевич знал, что смертельно болен, но виду не подавал. Он был из породы “железных” людей. Смеялся, шутил, пересыпал свою быструю речь то русскими (если говорил по-японски), то японскими (если говорил по-русски) словами, язвил по поводу каких-то незадачливых западных “фантастов-мизантропов”, которые претили ему антигуманизмом своих творческих концепций. Но одно выдавало его подлинное, тщательно скрываемое от посторонних глаз душевное состояние — слегка помятая единственная закладка в толстом фолианте с золотым тиснением. Стихи отшельника, “почти Басё”, говорили ему, томившемуся в четырех стенах, о чем-то неизмеримо большем, чем мог услышать я, молодой и здоровый. И всё же я запомнил их на всю жизнь — как память о встрече с замечательным человеком»[449].
Кимура Хироси приехал в гости к Киму осенью 1966 года. Роману Николаевичу сделали операцию, и он был очень слаб. Настолько, что за ним требовался постоянный уход. На помощь пришла сестра умершей жены Любы — Вера. Она переехала к больному и взяла заботы о нем на себя. Чтобы оформить ее проживание в квартире официально, они расписались — Вера Александровна Шнейдер стала четвертой женой Романа Кима. Ее брат Владимир и его приемный сын Андрей по-прежнему часто посещали Романа Николаевича, став ему по-настоящему родными людьми.
Кимура приводил в гости к Киму молодого классика японской литературы — Абэ Кобо, только что получившего престижную премию «Ёмиури» за роман «Женщина в песках». В молодости писатель окончил медицинский факультет Токийского императорского университета. Выходя от Романа Николаевича, Кимура поинтересовался мнением Абэ о Киме как врача. Доктор Абэ ответил, что по цвету кожи понял — у русского писателя рак. «Мне стало нестерпимо от воспоминания того, как он извинился со словами “устал я немного, простите, прилягу”, лег на диван и долго еще разговаривал с нами»[450].
Вадим Сафонов, поведавший нам о «последнем рассказе Романа Кима», вторил Анатолию Мамонтову: «Ни стона, ни жалобы. Вообще ни слова о беспощадно-мучительном, уносившем его силы. Он не утратил ни одного из главных интересов своей жизни, ни чувства юмора. Когда он вставал, то это был прежний изысканно-элегантный Ким». Не менее трогательные воспоминания Василия Ардаматского, автора сценария к фильму о Борисе Савинкове (Ким мог ему рассказывать о своем знакомстве с террористом): «Он указал на мой стол, заваленный бумагами, и сказал тоскливо: — А я не могу. Башка отказывается работать… — Я стал говорить в утешение какие-то дешевые слова, вроде того, что болезни приходят и уходят, а работа остается. Ким слушал меня рассеянно, но вежливо улыбался»[451].
Сын японского журналиста, относившийся к Киму как к родному деду, вспоминал, что Роман Николаевич лечился в загородном санатории, но уже было известно, что у него рак. Он очень исхудал, почти ничего не ел — организм не принимал пищу. Жена корреспондента готовила ему домашнюю японскую еду и отвозила в санаторий. Однажды она приготовила ему японских угрей в сладком соусе — кабаяки. Он ел их впервые за полвека, ел со слезами на глазах…[452]
Когда становилось легче, Роман Николаевич пытался работать. Осенью 1966 года он приехал в Ленинград. «В Союзе писателей объявили, что предстоит выступление приехавшего из столицы знаменитого приключения Романа Кима, — вспоминал писатель Михаил Хейфец. — Я решил посетить эту встречу: вдруг удастся заинтересовать москвича моим “Клеточниковым”. Посему взял рукопись с собой.
Ким оказался человеком с безумно интересной биографией. Как я понял из его рассказа, кореец по национальности заинтересовал советскую внешнюю разведку в 20-е годы. “Я видел в коридоре, — рассказывал он, — как вели на допрос Сиднея Рейли”. Очень Ким обижался на начальство, что сценарий телефильма “Операция ‘Трест’” (или — “Синдикат”?) доверили писать не ему (доверили как раз Ардаматскому. — А. К.): “Я же всех персонажей лично знал…”
Закончил свое выступление Ким так:
— Скажите, пожалуйста, почему у вас в Ленинграде совсем нет приключенцев?
Я подошел, когда он кончил доклад, и сказал:
— В Ленинграде есть приключенцы. Только здешние издатели их начисто не хотят печатать. Вот я, к примеру, приключенец, и у меня есть при себе повесть… Не хотите ли познакомиться?
— Давайте. Позвоните мне через день, — и дал номер телефона в “Астории”.
Ужасно хотелось позвонить побыстрее, но я ждал условленного дня…
— Говорит Михаил Хейфец. Вы меня помните?
— Где вы были все дни?! Немедленно приезжайте в “Асторию”…
Являюсь, и первое, что слышу в дверях:
— Если бы Госиздатом руководил по-прежнему Лев Борисович Каменев, вы недолго бы ждали выхода своей книжки…
Немного представьте себе то время! Имена Зиновьева и Каменева (уж тем более — Льва Троцкого) не звучали так одиозно-устрашающе, как раньше, но всё-таки… Ну, примерно, как имя Люцифера или Асмодея в устах правоверного христианина. И вдруг — услышать такое от незнакомого человека!! (Тем паче, что для себя самого я придерживался чрезвычайно высокого мнения об издательской деятельности Каменева, особенно в легендарной “Academia”.) То есть — остолбенел сразу.
Конечно, это был рассчитанный трюк старого разведчика. Далее мы сидели, болтали, и он нахваливал мою рукопись, а потом выразился так:
— Я возьму ее в Москву. Покажу своему редактору, Александру Яковлевичу Строеву, в “Молодой гвардии”. И буду рекомендовать к изданию. Думаю, он меня послушает…
О большем, разумеется, я мечтать не смел.
Примерно через полгода решил ему о себе напомнить — подумал, что такого срока издательству хватит, чтобы разобраться, нужна им моя книжка или нет. Звонить не стал — но воспользовался каким-то предлогом и поехал в Москву лично. Зашел в издательство и отыскал Строева в одном из тесных кабинетов…
— Да, я помню вашу рукопись. И Роман Николаевич очень ее нахваливал… А вы пойдете на панихиду?
— Не понял…
— Роман Николаевич умер. Вчера. Панихида сегодня в Союзе писателей. Вы что, не слышали?..
Так и не удалось мне вторично поговорить с Кимом и поблагодарить его. Строев отвез меня к гробу, мы постояли, а потом он сказал:
— Вернитесь в издательство. Ради Романа Николаевича я постараюсь пробить для вас договор.
Через два или три часа он принес договор мне на подпись…
Сложилось так, что всё-таки в 1968 году вышла в свет моя первая в Союзе книжка»[453].
Роман Николаевич Ким скончался 14 мая 1967 года. Его тело кремировали и захоронили в одной могиле с женой Любой на Ваганьковском кладбище. Позже рядом похоронили Владимира Шнейдера — брата двух его жен и героя «погрома в японском посольстве». Вера Шнейдер получила по наследству квартиру Кима, но жить в ней не стала, уехала к родственникам в Киев. Там следы ее и следы части домашнего архива Романа Кима теряются. Кое-что из личных вещей и книг, в том числе две курительные трубки (одна — та самая, со срезанным клеймом московской фабрики «Главтабак») забрал Владимир Шнейдер. Офицер КГБ А., доложив начальству о смерти Кима, спросил, что делать с его документами, которые могли остаться у него дома. «Ничего, — последовал ответ, — всё, что надо, он нам отдал. Остальное пусть забирают, кому интересно».
Интересно было Союзу писателей. Последние два рассказа Романа Кима вышли уже после его смерти, в том числе насквозь японский по духу, обновленный, но еще довоенный «Японский пейзаж» — в «Огоньке» в 1968 году. Годом раньше — в ноябре 1967-го на экраны страны вышел фильм «Пароль не нужен». Роль Чена, прототипом которого был Роман Ким, блестяще сыграл Василий Лановой, а Юлиан Семенов, предваряя показ фильма, писал в журнале «Смена»: «Роман Ким еще заслуживает многих страниц в книгах и многих метров в новых фильмах, которые будут сниматься о подвигах солдат революции, сражавшихся на самых передовых рубежах классовых битв».
Спустя более полувека после смерти разведчика мы подступили к разгадке тайны его жизни. Но может быть, всё только начинается — как всегда в случае с Романом Кимом, мы ничего не можем сказать наверняка. Кто знает, возможно, японский ровесник Романа Николаевича поэт Мусякодзи Санэацу был прав, когда писал о человеке, пытающемся укрыться за чужой маской:
Я благодарен другим за безразличие. Другие благодарны за безразличие мне. Для меня, не способного любить других и заниматься их судьбой, самое лучшее — обрести равнодушие к другим. И для других по отношению ко мне, не желающему изжить себялюбие, самое лучшее — оставаться безразличными[454].ИЛЛЮСТРАЦИИ
Возможно, именно так выглядела королева Мин (портрет придворной дамы двора вана Коджона)
Убийцы королевы снялись на память
Корейцы во Владивостоке
Японцы во Владивостоке. (Из архива А. М. Буякова)
Сугиура Рюкити
Университет Кэйо в начале XX века
Воспитатель наследного принца и хранитель дворцовой библиотеки Сугиура Дзюго
Семья Сугиура Дзюго. Девочка слева от него — Умэко
Ан Чжун Гын — убийца князя Ито. (На фото кровавый отпечаток его левой руки — знак клятвы отомстить Ито за смерть королевы Мин и оккупацию Кореи)
Ан стреляет в Ито Хиробуми на вокзале в Харбине. (С картины корейского художника)
Реклама торгового дома Сугиура. (Предоставлено И. В. Просветовым)
Владивосток начала XX века
Дипломат и разведчик Ватанабэ Риэ
Каваками Тосицунэ — коммерческий и морской агент Японии в Приморье
Настоятель храма Ота Какумин
Буддийский храм Урадзио Хонгандзи
Зоя Заика. Владивосток. 1920 г. (Из архива семьи Ким)
Восточный институт и мужская гимназия Владивостока
Генеральный консул Японии во Владивостоке Кикути, спасший Романа Кима от службы в армии Колчака
Японская пехота марширует по улицам Владивостока
«Молодой симпатичный товарищ из Центра» — агент Леонид. Возможно, именно так выглядел настоящий Максим Максимович Исаев. (Предоставлено А. С. Колесниковым)
Лубянская площадь и здание ОГПУ (справа)
Отакэ Хирокити. (Предоставлено Т. Миямото)
Дипломаты из состава первого посольства Японии в СССР. 1925 г. (Из архива МИД РФ)
Писатель Борис Пильняк в кругу японских друзей
Дом Пильняка на 2-й улице Ямского Поля в Москве, где Роман Ким часто бывал. (Из архива К. Б. Андроникашвили-Пильняк)
Мариам Цын (слева) и ее сестра Вера. Конец 1920-х гг. (Фото из японского журнала «Мадо»)
Японский журналист Маруяма Macao. (Предоставлено Т. Миямото)
Военный атташе подполковник Комацубара Мититаро
Роман Николаевич Ким
Посол Японии в СССР Хирота Коки
Японское посольство в Москве в 1920–1930-х годах. (Дом Суворова, современный вид. Фото Г. Борисовой)
Помощник военно-морского атташе капитан Коянаги и военный атташе Японии в Москве подполковник Хата смотрят парад на Красной площади
«Дом НКВД по Троицкому переулку», где жил Ким. (Современный вид)
Кофры японских дипломатов, в которых те пытались вывезти из СССР советских женщин. (Музей Пограничных войск ФСБ РФ, Москва)
Аттик (сидит слева) и Виват (сидит справа) Кимы. (Из архива семьи Ким)
Мариам Цын с сыном Вивой.(Из архива семьи Ким)
Старший оперуполномоченный КРО ОГПУ Роман Николаевич Ким. Середина 1930-х гг. (Из архива семьи)
Любовь Шнейдер в предвоенные годы
В. А. Шнейдер — друг и будущий родственник P. Н. Кима. (Из архива А. В. Федорова)
Мариам Цын во время пребывания во Внутренней тюрьме на Лубянке. Рисунок Окада Ёсико. (Из архива М. Ю. Сорокиной)
На обороте фотографии P. Н. Кима надпись: «Зоиньке родной от воскресшего Ромы. 8 января 45…». (Из архива семьи Ким)
P. Н. Ким с академиком Н. И. Конрадом. (Из архива семьи Ким)
Книга из серии «Военные приключения» с автографом P. Н. Кима
Роман Николаевич с сыном Аттиком. (Из архива семьи Ким)
Любовь Шнейдер, Роман Ким и Кимура Хироси. (Из архива А. В. Федорова)
Роман Ким, Любовь Шнейдер и вдова Отакэ — Сэй. (Из архива А. В. Федорова)
Отакэ Сэй и Любовь Шнейдер в Подмосковье. (Из архива А. В. Федорова)
Обложка японского издания «Тетради, найденной в Сунчоне»
«Специальный агент» с автографом автора. (Из архива А. В. Федорова)
Роман Ким и Любовь Шнейдер в доме отдыха Союза писателей СССР. (Из архива А. В. Федорова)
Дружеский шарж работы И. И. Игина. (Из архива семьи Ким)
За работой в «гнездышке на Зубовском». (Из архива семьи Ким)
Карандашный набросок портрета Кима работы Г. Г. Филипповского и «трубка мирозданья»
Последний, неисполненный, творческий замысел. (Из архива семьи Ким)
Могила P. Н. Кима и его родственников на Ваганьковском кладбище в Москве
Роман Николаевич Ким — один из основателей жанра советского политического детектива. (Из архива А. В. Федорова)
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Выписка из метрической книги Успенского собора г. Владивостока
Родился 1 августа. Крещение — 27 августа. Имя — Роман. Родители — русский подданный из корейцев Николай Николаевич Ким и законная его жена Надежда Тимофеевна, из корейцев, оба православного вероисповедания.
ФИО восприемников — присяжный поверенный Иоанн Романов Баженов и д. советника Михаила Эдуардов Эверсман девица Мария.
Обряд крещения совершал священник Михаил Покровский с псаломщиком Алексием Смирновым.
Архив ГДВУ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 2294. Л. 5 (об.) и 6. Получено А. В. Буяковым
Приложение 2 Статья Кимура Хироси в журнале «Бунгэй Синдзю», № 1,1984.
Перевод В. А. Бушмакина
Портрет одного писателя. Советский писатель-детективщик. Загадки Романа Кима. Жизнь человека, имевшего три родины и ставшего игрушкой в руках судьбы.
Встреча на Ленинских горах
10 июля 1958 года. Стрелка часов перевалила за два часа пополудню. Я привел себя в порядок, взял маленький саквояж и вышел из комнаты общежития Московского университета. Спустившись на лифте с девятого этажа, где была комната, на первый, я показал пропуск, прошел через ворота и направился к обзорной площадке на Ленинских горах, как мне было указано. Я собирался встретиться с Романом Кимом, с которым мы переписывались более трех лет.
Кажется, я узнал о Романе Киме где-то в 1954 году. О нем рассказал литературный критик Иваками Дзюнъити[455], вернувшийся из путешествия в СССР. Такие поездки были тогда редкостью. Из его рассказа я узнал, что в Москве есть писатель корейского происхождения Роман Ким, пишущий по-русски, и что пишет он редкие тогда в СССР детективы, и что он интересуется издающимися в Японии детективами. Кроме того, что я по специальности занимаюсь русской литературой, на досуге я иногда развлекаюсь чтением детективов, поэтому меня заинтересовало, что и в Союзе появился такой писатель. Я сразу же отправил от себя письмо, и ответ пришел быстро. В письме был список из нескольких детективов, включающий в том числе переводы, и была просьба отправить их в обмен на интересующие меня русские книги. Кроме того, было написано, что он не против того, чтобы я впредь ему писал по-японски, но он просил прощения, что сам будет писать по-русски, как и в этом письме. Я быстро прикупил указанные книги и сразу отправил их авиапочтой. Ответное письмо, пришедшее через месяц, было заполнено благодарностями сверх меры. И было написано, чтобы я поскорей без стеснения написал ему, если есть какие-то русские книги, которые ищу.
Комната с красными стенами
Так началась наша переписка и обмен книгами. Прошло почти три года. И вот в июле 1958 года я впервые вступил на московскую землю с тем, чтобы участвовать в международном семинаре по русской литературе, проводившемся в МГУ.
Как мне сказал г-н Ким по телефону, я быстрым шагом пошел на смотровую площадку на Ленинских горах. Раньше они звались Воробьёвыми горами. Это то знаменитое место, где занявший Москву Наполеон, сойдя с лошади, подумал, что «город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность»[456]. В тот день там толпилось много похожих на туристов людей. Я на миг замер и огляделся. И тогда ко мне подошел и заговорил один джентльмен. «А, Кимура-сан! Я — Ким. Наконец-то мы с вами смогли встретиться. Пойдемте ко мне домой». Он посадил меня в ждавшее его такси и на красивом русском сказал водителю, куда ехать.
Тогда (и до самой смерти) он жил по адресу Москва, Г21, Зубовский бульвар 16/20, квартира 128. Когда мы начинали переписываться, был другой квартал, но с некоторых пор он изменился на этот, и мне объяснили, что это рядом с парком Горького. Говорят, что название было дано потому, что в царские времена здесь была усадьба графа Зубова, но теперь здесь довольно старого вида многоквартирный дом со внутренним двориком. В зале его не очень просторной трехкомнатки бросались в глаза красные стены. На одной из этих красных стен висела репродукция английского абстракциониста Николсона. Семья состояла из трех человек: хозяина, его жены Любы и ее младшей сестры Веры. Сестры были польского происхождения, и мне доводилось слышать, что Люба в молодости нравилась поэту Маяковскому. Стоявший в спальне фотопортрет Любы в молодости был очень красив. У сестер еще был старший брат, бывший армейский полковник, в войну с Германией он был подчиненным Брежнева. Я и с ним тоже встречался несколько раз. Последний раз был после смерти Любы, когда я ходил к ней на могилу проведать. Этот великан-полковник удивил меня, когда вдруг зарыдал, увидев мое лицо на входе в Ваганьковское кладбище. Мне показалось, что я столкнулся с русской темпераментностью.
Роман Николаевич Ким родился 20 июля 1899 года (1 августа по новому стилю) во Владивостоке. Поскольку в русских именах Николаевич означает, что имя отца было Николай, возможно, что его отец-кореец имел русское имя Николай. Однако его корейским именем было Ким Пён Хак[457], а корейским именем Романа было Ким Ги Рён. Его отец был корейским антияпонским политиком и до конца был против слияния Японии и Кореи. Когда Корея стала колонией Японии, он как политический эмигрант уехал в тогдашнюю царскую Россию, во Владивосток, где и родился Роман. По словам Романа, его мать окончила женскую католическую школу в Пекине[458] и свободно владела французским. Когда Роман учился в Кэйо Ётися[459] (т. е. в начальной школе), она ездила с ним, и его старые товарищи помнят заходившую в школу «маму в европейской одежде», что было тогда редкостью.
Роман поступил в Кэйо Ётися 13 сентября 39 года Мэйдзи (1906 год)[460], и этому предшествовали следующие обстоятельства. Отец Романа думал, что «единственным способом узнать вражескую Японию является получение там образования», поэтому, когда его сын достиг школьного возраста, он отправил его учиться. Обычно в другую страну отправляют после наступления совершеннолетия, поэтому можно представить себе, насколько жестко был настроен его отец, отправляя по указанным выше причинам сына, которому только исполнилось семь лет, учиться во вражескую Японию за морем. То, что Романа приняла на время учебы семья Сугиура Дзюго[461], говорит о том, что у отца Романа были какие-то связи с Японией, хотя он и был эмигрировавшим антияпонским политиком. Сугиура Дзюго был в то время смотрителем «учебного кабинета» наследного принца[462], то есть был тем, чем был Коидзуми Синдзо[463] для нынешнего наследного принца. Для этой статьи я искал материалы по Роману Киму в исторических документах семьи Сугиура, но, к сожалению, не нашел. Однако причиной того, что Роман вдруг вернулся на родину посреди Фуцубу[464] (то есть школы средней ступени), была семья родственников Сугиура. В этой семье не было детей, и пошел разговор об усыновлении умного молодого Романа. Когда семья Сугиура передала это его отцу, тот спросил сына: «А ты что думаешь?» Ответ был таков: «Я влюбился в Японию и хотел бы стать японцем».
Услышав этот ответ, отец «вскипел гневом» (слова г-на Кима) и приказал ему немедленно возвращаться. Впрочем, Роман не всё это время жил в семье Сугиура. Похоже, что вначале он жил в общежитии при школе, в документах на поступление именем опекуна указано имя отца, Ким Пён Хак, а адресом указано Кодзимати-ку, Хиракава-тё, 5–26; в документах на отчисление значатся Сугиура Рюкити [466] и адрес Усигомэ-ку, Вакамия-тё, 32[467]. Похоже, что его отец и после эмиграции был одним из лидеров антияпонского движения, и Ан Чжун Гын[468], убивший 26 октября 1909 года Ито Хиробуми[469] на вокзале Харбина, был послан его группой. Роман запомнил лицо Ана, заходившего к его отцу, когда Роман был еще маленьким, и рассказывал, что, когда пришла весть об удаче покушения, во владивостокском доме Кимов закатили большой пир на три дня и три ночи. В то время Роман был в Японии и, вероятно, узнал об этом после возвращения. Похоже, что до преклонных лет он не рассказывал об этом никому, кроме близких людей. Наверное, особенно японцам ему было тяжело говорить, что убийца к Ито Хиробуми был подослан его отцом[470].
Кстати, Пак Ын Сик[471] в книге «История движения за независимость Кореи»[472] об Ан Чжун Гыне пишет, что точно известно, что он был в России два раза до убийства Ито Хиробуми. Вероятно, связи с отцом Романа относятся к этому периоду. Однако это выражение «посланный отцом убийца» из уст пожилого г-на Кима нужно, наверное, воспринимать с некоторой скидкой. Ан Чжун Гын был не простым убийцей, а человеком с очень хорошим образованием. Об этом же пишет Пак Ын Сик. Об этом можно говорить, например, потому, что, когда его схватили русские солдаты, он прокричал «Да здравствует независимость Кореи!» на латыни[473]. Однако в современных энциклопедиях советского издания (даже в исторических!) имя Ан Чжун Гын не дается отдельной статьей, и даже в статье про Ито Хиробуми указано только «патриот Кореи». Возможно, это потому, что Сталин смертельно боялся террористов и запретил всё, что могло приукрасить терроризм.
Время в Кэйо
О его детском времени в Кэйо написано в книге его одноклассника Сига Наодзо[474] (младший брат Наоя[475]) «Биография болвана»[476].
«Человеком, который дал мне сорвать запретный плод не яблок, а сигарет, был Кин Кирю (здесь иероглифы отличаются от тех, что указаны в школьной ведомости, видимо, это ошибка памяти Сига Наодзо)[477]. Он говорил, что его отец был патриотом Кореи и по некоторым обстоятельствам эмигрировал в Россию. Еще он говорил, что его матерью была русская (это тоже ошибка памяти, мать была кореянкой), но на полукровку он был не особо похож. Он был в некоторых отношения развит больше нас и во втором или третьем классе Фуцубу[478] уже безответно влюбился. Угораздило же его влюбиться в дочь Сугиура Дзюго. Во-первых, похоже, она ничего не знала, да и вообще это были детские невинные разговоры. Но когда он нам, друзьям, рассказывал о своей сердечной грусти, я, по крайней мере, слушал его со смешанными чувствами зависти и ревности.
Иногда он показывал пристрастия к старому Эдо, то с видом знатока рассказывая о забегаловках с суси, то подражая манере рассказов о привидениях, кажется, Энъу[479]. Этим он затуманивал нам мозги. В сумо он отдавал предпочтение борцу Татияма[480], и от его “броска-пушки” и я, и Табо тут же улетали за пределы круга.
Это было во втором или третьем классе Фуцубу. Он принес большой красиво изданный журнал по искусству на русском языке, сказав, что это отец ему прислал.
Там было много работ Гогена, Сезанна, Шагала и других в трехцветной печати, а я и сейчас помню, как удивился, почему же там нет Ван Гога. Не могу забыть, какими удивленными глазами я разглядывал картины Шагала, наполненные фантастичным, загадочным обаянием.
А еще этот Кин Кирю резал на досках слащавые гравюры в духе Юмэдзи[481]. Заведующий учебным кабинетом наследного принца Дзюго-сэнсэй, похоже, и не ведал, что творится в комнате опекаемого сбоку от прихожей его собственного дома. <…>[482] Рассказ у меня немного перескочил, но на эту выставку Ким Кирю тоже выставил две ксилографии. Сидящую на стуле обнаженную кисти Окада Сабуросукэ[483] и картину наполовину высунувшейся из-за занавески очень красивой девушки с прической момоварэ кисти Такэхиса Юмэдзи. Доски для них он вырезал сам.
Потом он бросил школу и уехал то ли в Корею, то ли в Россию и на память оставил мне одну из этих досок. Ту, на которой была изображена обнаженная на стуле. Я повесил ее на притолоку в своей комнате. Не то чтобы она мне очень нравилась, но просто на память о нем повесил. Однажды ко мне зашел старший брат, походил под этой картиной нервно, потом раздраженно рявкнул: “Неприятная картина, вкус у нее плохой. Сними ее прочь”, и вышел».
Приведенный выше эпизод очень интересен, но, по словам других его одноклассников, в «Биографии болвана» есть то, что не соответствует фактам. По словам ныне здравствующего Такамидзава Тадао[484], бывшего в то время в хороших отношениях с г-ном Кимом, молодой Ким выставлял не ксилографии, а набросок сценических приспособлений. И я как-то спрашивал г-на Кима в Москве о правдивости этого эпизода в «Биографии болвана», а он, смеясь, ответил: «Ох, и было ли такое? Но правда то, что я был подвержен страсти к старому Эдо. Шатался по окрестностям Асакуса и Хамамати, ходил на выступления комиков ракуго… а вы, Кимура-сан, знаете такой роман “Окавабата”[485], это “В мире цветов и ив”[486]? Вот такие книги я украдкой читал во время уроков». Больше всего из того, что он мне рассказывал о Ётися, мне запомнился следующий эпизод.
«Еще когда моя учеба за границей только начиналась, надо мной издевались из-за того, что я был корейцем. Но мне хорошо давался спорт, и я особо не обращал на это внимание. Но однажды произошел случай, сделавший меня более популярным. Кажется, это было в четвертом или пятом классе Ётися. В школу посмотреть приехала группа туристов из России, и ее руководитель сказал несколько слов приветствия. На русском, конечно же. А я это перевел! Для меня в этом ничего такого не было, но все — от учителей до учеников — были поражены, и моя популярность резко возросла[487]. И еще было такое. Ёсано Тэккан[488] из “Мёдзе”[489] попросил меня перевести стихи русских символистов. Я перевел несколько штук и послал ему. Чьи стихи были — уже забыл. И тогда Тэккан-сэнсэй прислал мне, зеленому юноше, благодарственное письмо, адресованное “Киму сэнсэю”. Я с гордостью показывал его друзьям».
Что касается «Мёдзе», непонятно, были ли эти переводы стихов помещены в журнал, но, по крайней мере, насколько я искал для этой статьи, в журнале их не нашел[490]. Как бы там ни было, тот факт, что он до старости хорошо говорил по-японски, получается вполне естественным, если учитывать, как он жил в Японии. Окада Ёсико[491], впервые встретившая г-на Кима в Москве в 1947 году, в своей книге «Оставшиеся в моем сердце люди»[492] так пишет о его японском: «Ким-сан, проведший детство в Ётися и Фуцубу при Кэйо в Токио, порадовал меня красивым японским. У него были характерные окончания слов, что раньше называлось кэйоским говором».
Я тоже наслаждался его чистым японским в комнате с красными стенами на Зубовском бульваре каждый раз, как после 1958 года ездил в СССР: в 1962, 1964,1965 и 1966 годах. И мне странно, почему же он совсем не писал по-японски, если он настолько бегло на нем говорил. О его русском Окада-сан пишет, что «соратники-писатели хвалят за красоту», и тут я вспоминаю, что на склоне лет он говорил, что хотел бы втайне попробовать переводить рассказы Сига Наоя. В молодости он переводил «В чаще» Акутагава Рюносукэ[493] и другие произведения, но не брался за переводы с тех пор, как сам встал на путь писательства. На склоне лет он говорил: «Лаконичную красоту произведений Наоя трудно передать по-русски. Наверное, это под силу только людям, у которых и русский, и японский являются родными, таким, как я. Попробую, как будет свободное время». Но этим мечтам не суждено было сбыться из-за тяжелой болезни.
Был популярен среди студенток
Роман Ким ушел из общего отделения школы Кэйо и вернулся во Владивосток в 1917 году. Это явствует из статьи о нем в советской литературной энциклопедии, вышедшей еще при жизни Кима. «Детство провел в Японии, учился в колледже в Токио (1906–1917). Вернулся в Россию в 1917 году (в студенческой ведомости общего отделения школы Кэйо значится, что он “выбыл из школы по семейным причинам” 9 января 2 года Тайсё (1913). Причина этой разницы тоже неясна[494]). Окончил Восточный факультет Владивостокского университета (1923)». Получается, что Роман Ким вернулся в самый разгар революции. О тех временах мне не раз доводилось слышать такое. У писателя Фадеева, застрелившегося из пистолета в 1956 году, в первом издании дебютного романа «Разгром» было такое предложение: «Студент Ким написал на доске “Ура забастовке”», и это было про «нашего» Кима. Но потом у них испортились отношения, и Фадеев это предложение удалил. Я сам не видел этого первого издания и не знаю, правда это или нет. Еще о жизни и деятельности г-на Кима в то время повествует письмо воспоминаний, посланное им из Москвы, когда умер Отакэ Хирокити[495], основатель специализирующегося на импортных русских книгах книжного магазина «Наука».
«Было это где-то в начале апреля 1920 года. Тогда в городе Никольске открылся “Съезд депутатов трудящихся Советского Дальнего Востока”[496], и на нем присутствовали и иностранные журналисты. Я, тогда будучи двадцатилетним студентом Владивостокского университета, тоже был в рядах иностранного журналистского контингента как спецкор “Приморского телеграфного агентства”[497]. Поезд, в котором ехали иностранные и русские газетные корреспонденты, был остановлен на маленькой станции. Одновременно в него зашли японские военные полицейские и начали досмотр русских корреспондентов. Они нашли в моем чемодане мои заметки и плакаты, ругающие интервентов. Полицейский офицер объявил мне, что арестовывает меня как “корейца-бунтовщика”[498].
Солдаты взяли меня под руки и собирались вывести меня из вагона. В этот миг-то всё и случилось. Послышался спокойный голос, разорвавший напряженность и боязливое молчание вагона. “Это мой секретарь, японец. Оставьте его в вагоне, пожалуйста”. Сказал эти слова человек, с которым я познакомился в этом путешествии, японский газетный корреспондент Отакэ Хирокити.
Пока нас вели в участок, Отакэ шепнул мне: “Единственный способ для тебя спастись — настаивать на том, что ты — японец. И ни в коем случае не робей”».
О том времени я спрашивал лично г-на Кима, и он сказал, что познакомился с г-ном Отакэ за какой-то час до происшествия. Так родилась продлившаяся всю жизнь дружба между ним и г-ном Отакэ, которому он был обязан жизнью. А после окончания университета г-н Ким получил работу во владивостокском отделении агентства Тохо, открытом г-ном Отакэ.
Согласно литературной энциклопедии, он «начал литературную деятельность с 1923 г.», то есть получается, что уже в это же время он кроме журналистской деятельности занимался и литературной работой. Далее, с 1923 по 1930 год, он преподавал китайскую и японскую литературу в московском вузе. В книге Окада Ёсико тоже об этом упоминается: «Настоящий денди, хорошо танцующий, очень остроумный, умелый собеседник, да еще и гладко говорящий по-японски. Я слышала, что он был очень популярен у студенток японского факультета Института иностранных языков, где он одно время преподавал».
Не делящаяся воспоминаниями жена
В противоположность этому г-жа Юаса Ёсико[499], специалист по русской литературе, бывшая в Москве с 1927 года, на мой вопрос по телефону ответила следующее: «Роман Ким, говорите. Кажется, он тогда преподавал японский? Было в нем что-то подозрительное. Он всё время был с девушкой по имени Мицуко-сан. Нет, не японка она. Она еврейка, приехавшая из Хабаровска». Мицуко-сан, это, видимо, Мэри Цын, вышедшая за него позже замуж. Она японист и имеет работы по этому направлению. По правде говоря, когда я был в Москве в 1973 году, занимаясь исследованиями про г-на Кима, я через знакомого попросил г-жу Мэри Цын о встрече. Но мне также через знакомого было передано: «Я не хочу встречаться с вами. У меня нет счастливых воспоминаний о нашем браке, которыми я бы могла поделиться. К тому же тогдашняя работа Романа Николаевича была секретной, и я ничего о ней не знаю. Ведь Роман Николаевич возвращался с работы после семи, а после девяти опять уходил до утра, и так каждый день». Похоже, что от приятных воспоминаний, о которых Юаса-сан пишет, что «он всё время был с девушкой по имени Мицуко-сан», не осталось и следа. Однако куда же Ким-сан ходил с девяти вечера до утра? В литературной энциклопедии тоже время вдруг перепрыгивает с 1930-го сразу на 1951 год. Об этом в письме воспоминаний на кончину Отакэ Хирокити пишет Маруяма Macao, бывший раньше главой отделения газеты «Асахи» в Москве, а после войны преподававший в университете Васэда: «Как уже говорилось, отношения между г-ном Отакэ и Кимом были особенные. Кажется, это было где-то на четвертый месяц нашей жизни в Москве (примерно в 1931 году). Г-н Отакэ вдруг сказал мне: “Больше никогда не встречайся и не звони Киму. Это из-за него, пойми”. Конечно же, ни я, ни г-н Отакэ с Кимом больше совсем не встречались. Г-н Отакэ больше ни слова не говорил о Киме, и когда он уезжал из Москвы, Ким не пришел его провожать. Я так и остался в Москве, и примерно через три года после того я вдруг столкнулся с ним в магазине Межкнига (Международная книга). Тогда он был одет в форму отдела внутренних дел, и, помнится, на вороте у него были знаки отличия генерал-майора. Я ни слова ему не сказал, да и он, кажется, удивился, но потом с видом, будто ничего не произошло, отвернулся и стал рассматривать книжную полку».
Отдел внутренних дел — это, видимо, предтеча КГБ, Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). Это тайная полиция, родившаяся после революции, и ее форму советские люди узнавали с первого взгляда. Четвертую главу первого тома «Архипелага ГУЛАГ» Солженицын назвал «Голубые канты», что означает петлицы небесно-синего цвета на форме тайной полиции. Я, будучи переводчиком, в тексте перевел это как «синие фуражки» (фуражки небесного цвета) и только заглавие перевел по смыслу как «Тайная полиция». Это — одна из центральных глав всего произведения, которую автор наполнил вызывающим текстом. Процитирую немного[500].
«Да кого тебе вообще стесняться? Да если ты любишь баб (а кто их не любит?) — дурак будешь, не используешь своего положения. Одни потянутся к твоей силе, другие уступят по страху. Встретил где-нибудь девку, наметил — будет твоя, никуда не денется. Чужую жену любую заметил — твоя! — потому что мужа убрать ничего не составляет[501]. Нет, это надо пережить — что значит быть голубою[502]фуражкой! Любая вещь, какую увидел, — твоя! Любая квартира, какую высмотрел, — твоя! Любая баба — твоя! Любого врага — с дороги! Земля под ногою — твоя! Небо над тобой — твое, голубое!! Оно ведь такое же голубое, как твоя фуражка!![503]»
Я исследовал жизнь Романа Кима, и годы с 1930-го по 1947-й наполнены загадками. Но по крайней мере ясно из текста г-на Маруяма и из сообщения от Мэри Цын, бывшей его женой одно время, что Роман Ким был занят на секретной работе и работа эта была в тогдашнем НКВД. Однако сам Роман Ким до старости об этом совершенно не рассказывал. Но одной из его обязанностей, наверное, была слежка за находящимися в Союзе японцами. Конечно, сюда должны были быть включены и относящиеся к Коминтерну люди. Как метко выразилась Юаса-сан, «подозрительное» в нем как раз повествует об этих обстоятельствах. Кроме того, факт, что были люди, которые утверждали, что причиной, по которой Ким-сан был добр к японцам после войны, была «в некоем роде попытка загладить вину».
Ким на испанской войне
О жизни и деятельности Романа Кима за почти двадцать лет с 1930 по 1951 год я имею только обрывочные сведения. Большая часть из этого — предположения, построенные на маленьких фактах, и я не могу четко выстроить настоящую картину этих двадцати лет.
Во-первых, есть «факт», что Роман Ким участвовал в испанской войне. И то при том, что я был довольно дружен с г-ном Кимом в его поздние годы, я могу припомнить только его краткое замечание об Испании: «На испанскую войну я тоже ездил». Еще однажды он назвал имена писателей Славина[504] и Савича[505] как друзей по годам в Испании и пообещал как-нибудь познакомить. На самом деле он исполнил это обещание и представил меня этим двум писателям в комнате с красными стенами. То, что они оба участвовали в испанской войне, я знал.
11 июня 1962 года я, тогда находившийся в Москве, присутствовал на «Вечере Мате Залки», проводившемся в Центральном доме литераторов на улице Герцена. В тот день было 25-летие со дня гибели в Уэске писателя Мате Залки, то есть генерала Лукача, и проводился вечер в его честь. Там собралось много людей, начиная с эмигрировавшей Долорес Ибаррури — у этой звавшейся когда-то в Испании «Ла Пассионария» (Цветок страсти) известной активистки в волосах уже проступала седина, а также советские и венгерские писатели, участвовавшие в испанской войне. Ведущим вечера был Лев Славин. Писатели на сцене один за другим делились воспоминаниями об Испании, но больше всего меня впечатлило, когда писательница Анна Караваева[506] сказала: «Даже те, кто тогда остался в России, жили только думами об Испании». Во втором отделении демонстрировали документальный фильм тех лет «На испанской земле», и текст за кадром читал Хемингуэй. Когда на экране появился живой еще генерал Лукач, в зале зазвучали аплодисменты.
Однако тогда Романа Кима не было среди писателей на сцене. Несмотря на это, то, что он был в тесных отношениях с ведущим вечера Славиным, было понятно и по тому, что он пришел к Киму вместе с Савичем, бывшим тогда спецкором ТАСС. Однако и в тот вечер почему-то Испания в разговорах особо не затрагивалась. Мы поболтали о закулисье советского писательского мира около часа, и оба писателя пошли по домам. Сейчас я проверил статью о Славине в литературной энциклопедии, но там нет ни строчки об Испании. Думаю, что не может быть, чтобы Славин, бывший ведущим на «Вечере Мате Залки», не был в Испании. Хотя там и сказано, что он был на Халкин-Голе (Номонхане) в 1939 году в качестве сотрудника армейской газеты, но о поездке в Испанию не написано.
Более того, в статье о Савиче четко указано о его связи с Испанией: «с 1932 по 1936 год был спецкором “Комсомольской правды” в Париже, и позже в Испании. С 1937 по 1939 год — спецкор ТАСС в Испании». Тут же можно назвать его книги о гражданской войне в Испании «Люди интернациональных бригад» (1938) и «Два года в Испании, 1937–1939. Очерки и рассказы» (1961). Однако если посмотреть пристально, то понятно, что вторая книга опубликована в «оттепель», после смерти Сталина. Но в каком же качестве Роман Ким ездил в Испанию? Ездил ли он как был, генерал-майором НКВД?
Эта загадка долго мучила меня, но вот в опубликованной в этом году книге Александра Орлова[507] «Тайная история сталинских преступлений»[508] я прочитал, что автор, бывший тогда начальником экономического отдела НКВД[509], поехал в Испанию в качестве советника республиканского правительства. Раз так, то нет ничего загадочного в том, если бы хорошо владеющий языками Ким-сан в какой-то должности был среди «557 человек» советских граждан, принимавших участие в испанской войне. Вообще, между советскими органами и испанской гражданской войной очень странная связь. В энциклопедии сталинских времен в качестве одной из причин поражения народного фронта подчеркнуто называется «предательство левых социалистов, троцкистов и анархистов». Эренбург в своих мемуарах «Люди, годы, жизнь» отводит испанской гражданской войне много страниц, но этой проблемы, похоже, сознательно избегает. Однако через все мемуары видно, что его записи об Испании очень яркие, и чувствуется его глубокая любовь к ней. Приведу один отрывок.
«В Европе тридцатых годов, взбудораженной и приниженной, трудно было дышать. Фашизм наступал, и наступал безнаказанно. Каждое государство, да и каждый человек мечтали спастись в одиночку, спастись любой ценой, отмолчаться, откупиться. Годы чечевичной похлебки… И вот нашелся народ, который принял бой. Себя он не спас, не спас и Европы, но если для людей моего поколения остался смысл в словах “человеческое достоинство”, то благодаря Испании. Она стала воздухом, ею дышали»[510].
Я привел здесь выдержку из текста Эренбурга по понятной причине. Когда я работал над переводом его мемуаров, Ким-сан во многих смыслах поддерживал меня. По моей просьбе не раз ходил к Эренбургу, брал разные материалы. Однажды он пробурчал мне как-то невзначай: «Рассказы Эренбурга об Испании хороши. В них и вправду вложена душа». Я тогда мельком подумал, что у него такие же чувства. И почему же я при жизни более настойчиво не расспросил его? Сейчас об этом можно только жалеть, но, хотя в Москве это уже не табуированная тема, до сих пор стоит ощущение, что [510]просто так спрашивать об этом нельзя. Кроме того, однажды Ким-сан, касаясь Испании, произнес такую загадочную фразу: «Кимура-сан, я, знаете, после Испании долго сидел в лагере в Северной Африке. А Люба (жена) все это время хранила верность и ждала меня»[511].
Лагерь в Северной Африке?! Но больше он ничего не сказал. Это был буквально миг, и у меня совсем не было времени расспросить. Когда я опомнился, разговор уже перешел на другую тему. Я долгое время носился с этим «лагерем в Северной Африке». Как мне попадалась книга о гражданской войне в Испании, так я начинал ее перелистывать в поисках чего-нибудь о таком лагере. В позапрошлом году нашел книгу, написанную французским автором. Но там не было и следа советских, нет, даже русских людей. Эту загадку я полностью не разгадал по сегодняшний день. Но она оказалась наполовину разгаданной с совершенно неожиданной стороны. То есть я думаю, что разгаданной. Я узнал, что он был в лагере на Колыме. Колыма находится на северо-востоке Сибири и была центром лагерей в сталинское время, особенно известным своей суровостью.
Лагерь в Северной Африке?
Солженицын в 4-й главе — «Архипелаг каменеет», 3-й части «Архипелага ГУЛАГ» пишет[512]: «Я почти исключаю Колыму из охвата этой книги. Колыма в Архипелаге — отдельный материк, она достойна своих отдельных повествований. Да Колыме и “повезло”: там выжили Варлам Шаламов и уже написал много; там выжили Евгения Гинзбург, О. Слиозберг, Н. Суровцева, Н. Гранкина и другие — и все написали мемуары. Я только разрешу себе привести здесь несколько строк В. Шаламова о гаранинских расстрелах:
“Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В 50-градусный мороз музыканты из бытовиков играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензиновые факелы разрывали тьму… Папиросная бумага приказа покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного”».
Из указанных Солженицыным людей на японский была переведена книга Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» (в японском издании — «Светлая ночь, темный день»[513]). С г-жой Гинзбург, матерью эмигрировавшего в Америку и теперь живущего в Вашингтоне писателя Аксенова, мне доводилось раз встречаться в Москве. Это была очень теплая пожилая женщина, по которой и не подумаешь, что она провела 18 лет суровой лагерной жизни.
Как бы там ни было, в конце 30-х годов Роман Ким был не иначе как в лагере на Колыме. Человек, предоставивший мне эту информацию, и по сей день здравствует, поэтому я должен назвать его анонимом. Это было зимой 1981 года, в мое первое посещение Москвы после того, как мне семь лет отказывали в советской визе из-за моего перевода «Архипелага ГУЛАГ». Г-н N, работавший в одном институте Академии, узнав, что я — переводчик японского издания «Архипелага ГУЛАГ», сказал следующее. «По правде говоря, я тоже был в лагере на Колыме. Правда, не так долго. Меня арестовали в 1937 году, когда я был студентом, но мой родственник был старым членом Академии, и он попросил за меня Вышинского. Вы ведь знаете Вышинского. После войны он работал на съезде ООН в Нью-Йорке, но в эпоху Большой Чистки 30-х годов он был загруженным работой генеральным прокурором. Изначально он из меньшевиков, и говорят, что он из кожи лез доказать Сталину свою преданность. А тогда он только стал членом Академии и, похоже, удивился, что это за письмо от старшего академика, и открыл его. Говорят, обычно он вообще не открывал письма. Ведь это было время, когда одного за другим арестовывали сотни тысяч безвинных, и личных просьб и жалоб в его адрес, наверное, было много. Открыл он письмо, а там написано, мол, племянника моего арестовали, не перепроверите ли еще раз дело? Вышинский суть письма передал подчиненному, ведь это была просьба от старшего члена Академии. Но тогда дела-то велись, а ведь это огромное количество, и хранили их в месте вроде склада. Дело мое там найти было невозможно, но по какой-то причине, нет, можно сказать, совершенно случайно, дело мое нашлось. Но это я уже потом, конечно, узнал. Ну и поскольку это была просьба от Вышинского, наверное, поэтому меня освободили. В ту ночь я спал в лагерном бараке как мертвый. Посреди ночи меня растолкал охранник и повел к начальнику лагеря. Мое сердце объял страх, ведь я не знал, в чем дело, а в комнате начальника вдруг узнал, что меня освобождают. Из Москвы пришла телеграмма, и вроде как начальник думал, что и наутро можно сообщить, но жена его сказала, что такого почти не случается и лучше хоть чуть-чуть быстрее рассказать мне, и поэтому меня посреди ночи растолкали. На следующее утро я один вышел из лагеря и не посмел взглянуть в лица провожающих товарищей. Нет, я помню, мне за себя было стыдно. Я ведь знал, что все товарищи безвинны. Кстати, среди них был и Роман Николаевич, с которым вы дружны…»[514]
Он заглянул в мои глаза, когда произносил имя «Роман Николаевич».
И тогда меня осенило. В тот день Ким-сан сказал «лагерь в Северной Африке», но это означало «лагерь на Колыме».
То, что ездившие в Испанию попали под чистку, четко описывает и Эренбург. В целом до смерти Сталина и прихода краткой «оттепели» Хрущева в Союзе был «запрет на упоминание Испании». Уж не от того ли не хотел говорить об Испании Ким-сан, что по возвращении на родину его арестовали и послали в лагерь на Колыме? Как бы то ни было, по свидетельству г-на N теперь ясно, что он был в лагере на Колыме.
Хотя и стало ясно, что по возвращении из Испании он был отправлен на Колыму, неясно, когда его освободили. То есть по тому, что в 1947 году он встретился в Москве с Окада-сан, а в 1951 году вышла «Тетрадь, найденная в Сунчоне» (в японском переводе — «Вспоровшие себе живот штабные офицеры живы»[515]), понятно, что это было еще до смерти Сталина. Еще от самого г-на Кима я слышал: «Меня отправили на Берлинскую операцию, не на Дальний Восток»[516]. Тогда я совершенно еще не подозревал о Колыме и мне не показалось это странным. Но если он был в лагере на Колыме, то как он попал на Берлинскую операцию? Могу предположить только одно — отправка на фронт прямо из лагеря. Я слышал, что были случаи, когда людям, из лагеря просившим отправить их на фронт, разрешали это. Однако почему-то Ким-сан не рассказывал о Берлинской операции.
Компенсация от советского правительства
Окада Ёсико-сан встретилась в феврале 1947 года в Москве с Романом Кимом, и он отвел ее в Издательство иностранной литературы. По ее словам, тогда Ким-сан радостно рассказывал ей, что по этой же дороге ходили супруги Окано (имя, которым пользовались Носака Сандзо[517] с супругой во время эмиграции в Москве) и Умэко-сан (жена Хидзиката Еси[518]). Каждый раз, что мне доводилось бывать в Москве после 1958 года, я посещал г-на Кима, и мы говорили на самые разные темы, но почему-то я ничего не слышал от него о Коминтерне и причастных к партии людях. В районе 1958 года, когда я впервые посетил дом в Зубовском переулке, было еще не так много даже газетчиков, собиравшихся у него дома. Но когда настали 60-е, мне кажется, что в его красной комнате стали собираться и беззаботно разговаривать с ним по-японски японцы самых разных областей работы, включая представителей торговых фирм.
Новый, 1961 год Ким-сан встретил в египетском Каире и послал мне письмо на бланке гостиницы «Рас» в эфиопской Аддис-Абебе. До того он путешествовал в группе писателей по Европе и Америке, но, кажется, Африка ему понравилась особенно. В письме было написано: «Ко мне попали интересные материалы, и я хочу написать произведение об Африке». На следующий год в Москве я получил в подарок старинного стиля сосуд, изготовленный в деревне, где родились предки Пушкина.
В то время мы по-прежнему обменивались с ним книгами. Однажды он написал мне, чтобы я послал ему «Убийство в Москве» Эндрю Гарва. Это детектив, действие которого разворачивается в Москве в разгар холодной войны, и в нем довольно жестко описываются отрицательные стороны Москвы тех лет. Говорили, что в Союзе ее запретили. Краткое содержание таково. Глава мирного посольства Англии в Москве убит неизвестным в гостинице, а советская сторона быстро арестовала гостиничного служащего и объявила его преступником. Но на самом деле это было дело рук одного из членов того же посольства, и это разоблачает американский газетный журналист.
Оригинал книги довольно сознательно изображает отрицательные стороны советского общества. При издании в Японии книга была переделана в чистый детектив и такие места урезали. Я приобрел это малоформатное издание и вместе с двумя-тремя другими книгами сразу же отправил г-ну Киму. Но ответа о получении не было. На всякий случай я поинтересовался, и пришел ответ, что таких книг не приходило. Тогда я отправил такие же книги заказной авиапочтой. Но и эта бандероль не дошла. Я сходил на почту и попросил разобраться, и через месяц стало ясно, что посылка прошла проверку в аэропорту Ханэда, потом в Цюрихе (?) (это было время, когда прямых рейсов в Москву еще не было) и проверку в центральном отделении Москвы. Согласно официальному разъяснению, присланному советской почтой на французском, бандероль была утеряна после отправки из центрального отделения в местное, а вина полностью лежит на их стороне, и поэтому они готовы выплатить соответствующую компенсацию. Ко мне домой даже специально пришел работник почтового министерства спросить, какой компенсации я потребую. Он, смеясь, сказал: «Это будет платить советская сторона, так что, пожалуйста, не стесняйтесь». Но, конечно, я не мог взять цифры с потолка и затребовал сумму, включающую стоимость потерянных два раза книг со стоимостью пересылки и небольшой надбавкой за доставленное неудобство. И оплатили мне эту сумму через неделю, почтовое министерство Японии заплатило за советское. Как бы там ни было, получается, что я как японец получил компенсацию от советского правительства.
Вероятно, отправленные мной книги не были утеряны два раза подряд, а были проверены и изъяты органом, который проводит цензуру поступающих из-за рубежа книг (Главлитом). У этой истории есть и продолжение. Через несколько лет я как давнишнюю историю рассказал об этом в Союзе писателей. А через несколько дней мне под нос подсунули то самое «Убийство в Москве» Эндрю Гарва со словами: «Не об этой ли книге вы говорили на днях?» Это говорит о том, что книги изымаются цензурой, но некоторые посылаются в надлежащее место. Вероятно, было решено, что не будет особого вреда, если послать ее в библиотеку Союза писателей[519].
Интересовался и Солженицыным
В декабре 1962 года из Союза прибыла делегация представителей советских писателей, и среди них был мой старый знакомый Аксенов. Увидев мое лицо, встречающее его в аэропорту Ханэда, он достал из чемодана журнал. Это был 11-й номер литературного журнала «Новый мир». Там была опубликована дебютная работа Солженицына «Один день Ивана Денисовича», о которой заговорил весь мир. Думаю, этот журнал, переданный мне Аксеновым, был первым «11-м номером», попавшим в Японию. Как бы там ни было, я сразу же взялся за перевод этого рассказа, и вскоре мне пришло толстое письмо от г-на Кима из Москвы. Открыв его, я обнаружил список лагерной лексики, встречающейся в рассказе с подробными комментариями. Для меня, как переводчика, это был очень ценный материал. Поскольку тот факт, что Ким-сан был на Колыме, тогда еще не всплыл, я разглядывал этот список с легким сердцем, предполагая, что он составил его со слов кого-то с лагерным опытом. С наступлением нового года пришло еще такое письмо:
«В 1-м номере “Нового мира” поместили новые произведения Солженицына. Замечательные вещи. Особенно мне понравился “Случай на станции Кречетовка”. Довольно многие полагают, что это произведение даже лучше “Ивана Денисовича”. Солженицын с блеском прошел испытание. Ведь после успеха дебютной работы трудно написать хорошее продолжение. Я буду интересоваться, какой это драматург…»
Конечно, тогда Солженицын был молодым одобренным партией писателем. Однако среди писем советских писателей, что я храню, почему-то почти нет таких, которые бы упоминали и оценивали его. Повторюсь, но то, что Ким-сан послал мне список лагерной лексики, и то, что он писал о неопубликованных открыто драмах Солженицына, вероятно, не может не иметь отношения к его колымскому опыту. Но, как я уже писал, Ким-сан до последнего держал рот на замке о своем лагерном опыте.
Как раз примерно в то время его пригласили на столетний юбилей университета Кэйо[520]. Видимо, по этому случаю он отправил длинное письмо в адрес «Общества-44», являющегося собранием однокашников выпуска Ётися 44 года Мэйдзи[521]. Это написанное по-русски письмо я перевел для «Общества-44», и в нем до боли чувствовалась тоска по родной Японии, с которой он расстался 45 лет назад. Нет, можно даже сказать, что это было горячее любовное письмо к его второй родине — Японии. В письме Ким-сан пишет: «Япония — страна, где я провел детство, страна, где я впервые учил алфавит и счет, и страна, где меня впервые повлекло к литературному труду». Он четко говорит: «С точки зрения воспитания я наполовину русский и наполовину японец».
Однако Ким-сан до самой смерти так и не смог посетить Японию. Во время столетия Кэйо он по работе ездил в Европу. За два года до его смерти, осенью 1965 года, в Москве проходил советско-японский симпозиум по литературе, в котором участвовало более 20 писателей с японской стороны и русские писатели. Ким-сан как один из представителей советской стороны во время своего выступления говорил довольно провокационные вещи. «Крупные издательства Японии находятся под влиянием американского империализма…» — сказал он, и я с тревогой подумал: «Что это с ним? Громко разглагольствует о таких вещах…» Но тем вечером он, смеясь, сказал мне: «То, что я сегодня говорил, было специально для провоцирования японцев, чтобы вызвать японскую сторону на сильные высказывания. А то тут все через слово твердят о “приспешниках американского империализма”». Конечно, всё было именно так. Но некоторые присутствовавшие японцы, кажется, думали: «Что это такое говорит этот непонятный кореец, называющий себя писателем-детективистом и чертовски хорошо говорящий по-японски?»
Интересно, как Ким-сан воспринимал себя в качестве корейца? Иногда я бывал у него без предупреждения, но ни разу в его доме на Зубовском бульваре я не видел корейцев. И не было похоже, что он бывает в посольстве Северной Кореи. Только однажды, когда по какому-то случаю речь зашла о Северной Корее, он проронил: «А мой друг, бывший министром культуры, тоже попал под Чистку…»
Последний раз я встретился с ним осенью 1966 года. Это было уже после операции «кишечной по поводу язвы». Незадолго до этого я привел к нему Абэ Кобо[522], и по дороге назад я спросил его: «Что вы как доктор думаете о его внешнем виде?»
Доктор Абэ ответил: «Угу, цвет кожи у него как у классического ракового больного». Мне стало нестерпимо от воспоминания того, как он извинился со словами: «Устал я немного, простите, прилягу», лег на диван и долго еще разговаривал с нами.
Примерно через восемь месяцев после этого, 14 мая 1967 года его дыхание прервалось в комнате с красными стенами на Зубовском бульваре. Ему было 67 лет. Говорят, что за несколько дней до этого он со слезами на глазах впервые за 50 лет ел «японские кабаяки[523]», которыми его угостила жена одного спецкора. Церемония прощания прошла в Центральном доме Союза писателей на улице Герцена. По его завещанию его кремировали и захоронили на Ваганьковском кладбище рядом с женой Любой.
Он оставил после себя такие произведения, как «Тетрадь, найденная в Сунчоне», «По прочтении сжечь», «Школа призраков», «Кобра под подушкой». Их называют даже не детективами, а политическими шпионскими романами. Действие во всех этих произведениях разворачивается за границей.
Какой же мог видеть свою жизнь, проносящуюся перед глазами в смертный час, человек, родившийся во Владивостоке царских времен как сын корейского политэмигранта, проведший детство в Японии, вернувшийся в революционную страну, зарабатывавший себе на жизнь японским языком, позже получивший секретную работу, ездивший на гражданскую войну в Испанию, и за это посланный в лютый лагерь, а после отправленный на Берлинскую операцию, и, наконец, после войны ставший на путь писательства? Многие еще неразгаданные загадки он молча унес с собой в могилу.
Примечания переводчика
Кимура Хироси (1925–1992) — переводчик и критик русской литературы. Выпускник Токийского института иностранных языков. Известен прежде всего переводами Солженицына.
Приложение 3 Доклад Каваками Тосихико министру иностранных дел Японии по поводу направления Романа Кима на учебу в Токио
Торговый представитель во Владивостоке Каваками Тосихико
Министру иностранных дел виконту Хаяси Каору
…Ким Бён Хак живет здесь уже 24–25 лет, владеет русским, имеет российское гражданство. До сих пор выполнял подряды для российских властей, имеет несколько домов в городе. Ведет совершенно европейский образ жизни, среди русских известен как богач (поговаривают о состоянии более 60 тысяч рублей).
Глядя на исход Японско-русской войны и на ослабление и беспорядок в дисциплине в среде государственных служащих, этот человек сказал, что стало трудно ожидать стабильности жизни и имущества и в душе у него наконец назрела идея расставания и родилась идея довериться мне. Недавно он приходил ко мне с горячей просьбой по поводу образования своего сына, учащегося в местной школе средней ступени, и теперь ему представилась возможность поехать учиться в Японию. Корейцы по своему характеру могут быть благодарными, они весьма ловкие в делах, и в их миролюбии сомневаться не приходится. Но подобные настроения наблюдаются не только у одного Кима, но и в широких кругах местных корейцев.
То есть обычно местные корейцы, мало-мальски обладающие возможностями и средствами, переходят в российское подданство. Но они по указанным выше причинам уже испытывают недовольство в отношении России и хотели бы положиться на кого-либо другого. Однако прочие корейцы, не располагающие возможностями и средствами, возможно, испытывают в отношении себя давление и при возникновении больших или малых трудностей, когда некому отстаивать их права, также желали бы иметь покровителей.
20 сентября 39 года Мэйдзи (1906)
Перевод Вадима Бушмакина
Источник:
Приложение 4 Из анкеты работника НКВД Ким Романа Николаевича
Когда учился в Японии (до 1917 г.) в колледже, я именовался Сугиура Киндзи, т. к. мой опекун и поручитель был японец Сугиура, который меня взял в приемные сыновья после аннексии Кореи (в 1909 г.).
Родился 1 августа 1899 г.
До 1917 г. находился в японском подданстве. С 1917 по 22 г. состоял в двойном подданстве, как все корейцы, находящиеся в Корее или прибывавшие из Японии…
Национальность — кореец.
В Белой армии не служил. В 1919 г. во Владивостоке омским правительством была объявлена мобилизация учащихся старших классов гимназии и университета. Я был в университете, куда при поступлении сдал документы, что я сын Кима Николая (русского подданного, иначе меня не приняли бы)… По мобилизации студентов-восточников назначен чиновником военного времени в штаб округа… Я обратился в японское генконсульство, которое подтвердило, что я приемный сын Сугиура и являюсь японцем, таким образом, мне удалось уклониться от мобилизации и числился слушателем университета.
Имею два наградных оружия и знак Почетного чекиста.
Женат во второй раз. Имею двоих детей, сына 12 лет, дочь 3 года.
Состою в Союзе работников просвещения до 1921 г., с 1921 по 1935 г. — в Союзе совслужащих. С 1935 г. — в Союзе служащих административных учреждений.
Работа:
Владивосток. Переводчик ТА «Дальта» (Дальневосточное телеграфное агентство) Приморского областного правительства и Правительства ДВРеспублики. В 1920–21 гг.
Москва. Профессор Института Востоковедения по японскому языку и по истории Д. Востока. С 1923 по 1928 г.
Москва. Преподаватель японского языка Военной академии РККА. С 1925 по 1930 г. (с перерывами). Более нигде не служил, но числился как научный сотрудник 1-го разряда в Государственной академии художественных наук и в Институте народов Востока до 1930 г. (1926–1927).
Знаю иностранные языки: английский (читаю, пишу)
французский (тоже)
японский (тоже)
китайский (только устный)
свой родной (корейский) почти не знаю.
До 1917 г. учился в Токио.
Жена — Цын Марианна (Марианн) Самойловна, еврейка, беспартийная, 30 лет (1902 г.р. — А. Б.). Сын Аттик, 1923 г.р. Дочь Вива.
До революции училась в Ленинградском (Петроградском. — А. Б.) институте восточных языков, состояла научным сотрудником Всесоюзной ассоциации востоковедения (до 1930 г.). С 1930 г. работает в ОГПУ в качестве переводчика (переводчик 2-го отделения 3-го (контрразведывательного) отдела ГУГБ. — А. К.).
Первая жена — Зоя Яковлевна Гиллевич, разведен.
Отец — Ким-Пенхак Николай Николаевич, мать Надежда Тимофеевна — умерла.
Родители жены — отец, Цын Самуил Матвеевич, 62 года.
Мать, Цын Раиса (Фаина)? Лазаревна, 51 год.
Оба живут в Москве — Тургеневская ул., д.4, кв. 3 (вместе со мной).
Социальное происхождение моих родителей. Отец — купец, мать — дворянка (корейская). Родители жены: отец жены — до 1917 г. — кустарь-ремесленник. С 1914 г. по здоровью не работал; мать — домохозяйка.
Отец жил со мной во Владивостоке в годы интервенции, занимался продажей остатков своего имущества, жил на проценты капитала, вложенного в Русско-Азиатский банк. С 1923 г. отец на моем иждивении, умер в 1928 г.
До 1927 г. отец жены имел кожевенное предприятие в Чите. С 1933 г. состоит мастером кожевенного дела в мастерской «КожМособувь».
Отец жены в 1928 г. был осужден постановлением Тройки ПП ОГПУ ДВК на 5 лет за контрабанду, но был как ударник досрочно освобожден и восстановлен в гражданских правах в 1931 г.
…Сестра жены — Вера Самойловна.
Моим приемным отцом был Сугиура Рюкичи (японец), владелец экспортно-импортной фирмы «Тайсе Йоко». Сыновей не имел. Сугиура умер в 1931 г. Связь с ним прервал в 1921 г.
Анкета заполнена VI.1935 г.
Сообщено А. М. Буяновым
Приложение 5 Из автобиографии P. Н. КИМ (Мартэн)
Родился во Владивостоке в 1899 году. Отец — кореец-переселенец из деревни Пукчен на севере Кореи, мать — тоже. Отец благодаря подрядам нажил большое состояние: имел дома, пароход, кирпичный завод, но в 1911 году обанкротился и стал снова десятником.
По достижении школьного возраста я был отправлен в Токио в начальную школу. По окончании шестилетнего курса поступил в колледж университета Кэйо. Когда я окончил колледж, отец решил дать мне наряду с японским (классическим) и русское образование. Вернувшись во Владивосток, держал экзамен экстерном. В 1918 году окончил гимназию и поступил в Дальневосточный университет на восточный факультет. В 1919 году во Владивостоке был объявлен призыв городского населения (приказ Колчаковского правительства), я был призван. Все студенты восточники и востоковеды состояли в военно-статистическом отделе (разведывательном) штаба Приамурского военного округа референтов, экспертов (этот отдел механически остался после перехода власти в крае в руки советов и после чехословацкого переворота, т. к. занимался специальной работой по собиранию сведений о Китае и Японии). Чтобы избежать направления в строевую часть — (я как студент подлежал отправлению в военную школу) — я подал заявление в военно-статистический отдел. Во главе отдела стоял полковник Цепушелов (кореевед), в отделе работали в качестве официальных экспертов-консультантов проф. Спальвин и ряд других японистов, китаистов, монголоведов.
Ряд востоковедов, состоящих в этом отделе, теперь члены ВКП(б). Немного спустя отдел был расформирован (надобность разведки в отношении Японии и Китая отпала), и я был отправлен в качестве чиновника военного времени в отделение культурно-просветительское и печати. Здесь моя работа заключалась в составлении обзоров английской и японской прессы, хотя официально именовался делопроизводителем культурно-просветительского отделения. Параллельно я работал в качестве обозревателя иностранной прессы в газете «Эхо», которая вела оппозиционную линию в отношении Омского правительства и была потом закрыта.
В ноябре 1919 года было восстание Гайды, поддержанное комитетом большевиков. После этого восстания я дезертировал из штаба. В январе партизаны заняли Владивосток, и я был назначен зав. иностранным отделом телеграфного агентства Приморского правительства (коалиция эсеров и большевиков). Переводы японской и английской прессы делаются моей специальностью. Работал в тел. аг-ве, которое потом было переименовано в Дальта после Меркуловского переворота в 1921 году. После переворота (оно продолжало существовать) я стал работать в тех органах, которые были легально оппозиционные в отношении меркуловского правительства — в газете «Голос Родины» (орган кадетов) и «Воле» (орган эсеров) — по японской прессе. Затем поступил в отделение японского телеграфного агентства Тохо во Владивостоке (по рекомендации проф. Спальвина — ныне секретаря нашего полпредства в Токио) — в качестве переводчика. Тохо (аг-во японского МИД) в противоположность штабу японских экспедиционных войск стало вести кампанию за эвакуацию японовойск, и поэтому его бюллетени бойкотировались правой прессой (монархистской) и ОТАКЭ получал угрозы от японских военных и русских.
Бюллетени «Тохо» — печатались в «Дальневосточном обозрении» и в «Голосе Приморья», выходившем вместо закрытого Меркуловым «Г. Родины». Когда была объявлена мобилизация генералом Дитерихсом студентов, я перешел на нелегальное положение, бросив работу в «Тохо». После вступления войск ДВР во Владивосток «легализовался», был сразу же избран председателем бюро всех студенческих старостатов гор. Владивостока. В конце ноября 1922 года был привлечен к работе ПримГПУ по японской линии. Весной 1923 года окончил университет и был оставлен для подготовки к званию профессора по кафедре экономики Д. Востока.
По заданию ОГПУ определился секретарем к господину Отакэ, назначенному МИДом Японии в Москву в качестве неофициального представителя (под маркой представителя «Тохо»). Прибыл в Москву в распоряжение 5 КРО ОГПУ в июне 1923 года.
В 1925 году был избран профессором по кафедре Истории Японии в Институте востоковедения. Состоял преподавателем японского языка в Военной Академии до конца 1930 года. Ныне — член бюро секции зарубежного Востока Коммунистической Академии.
P. Н. Ким (Мартэн)
Приложение 6 Из «Справки на сотрудника особых поручений 3-го отдела ГУГБ НКВД старшего лейтенанта государственной безопасности Кима Романа Николаевича»
Беспартийный.
В 1922 г. привлечен к работе Приморским отделом ГПУ. В органах с 1923 г., послужной список ведется с 1932 г… Мать из дворян семьи Мин. С согласия отца был усыновлен японцем (входящим в концерн Мицуи)… Состоялась помолвка с его дочерью… В 1921 г. решил остаться в России, заявил об этом японскому отцу и отказался от наследства (Сугиура умер в 1931 г.)… Отец жены — Цын С. М. имел кожевенное предприятие в Чите…
…Сочувствовал после 1917 г. кадетам (речь уже о P. Н. Киме — А. Б.)… Во Владивостоке дважды арестовывался японцами за службу в «Дальта» (проверкой НКВД документально не подтверждено. — А. Б.).
Аттестации: «Аттестуется положительно. Отмечается, что недостаточно работает над подготовкой японистов».
Награды: знак почетного чекиста, орден Красной Звезды 1936.
Взыскания: 1932 и 1935 — два выговора за утерю удостоверений.
VI. 1923 — переводчик ОО ОГПУ.
С 1.III. 1932 — оперуполномоченный 4 отдела ОО ОГПУ.
Окончил начальную школу в Токио, после которой поступил в колледж университета Кэйо. После возвратился во Владивосток и поступил в русскую гимназию г. Владивостока и затем в Дальневосточный университет на восточный факультет. В 1919 г. был мобилизован в армию Колчака, служил рядовым, переведен в военно-статистическое отделение штаба Приамурского военного округа (начальник подполковник Цепушелов) на должность чиновника военного времени… Во время восстания Гайды дезертировал из штаба, после занятия города партизанами в 1920 г. начал работать в телеграфном агентстве. После объявления мобилизации генералом в октябре 1922 г. Дитерихсом ушел в подполье и после занятия Владивостока красными был избран председателем Бюро всех студенческих старостатов г. Владивостока. В ноябре 1922 г. — секретный сотрудник Прим ГО ОГПУ по японской линии.
…Как видно из личного дела, Ким состоял на учете б/б (бывших белых. — А. Б.) офицеров и заключением ОЦР (отдел центральной регистрации) ОГПУ в 1927 г. с учета снят.
Пом. Начальника отдела кадров НКВД /Остроумов/
«_» марта 1937 г.
Сообщено А. М. Буяковым
Приложение 7 Из личного дела студента Дальневосточного государственного университета Ким Р. Н.
АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ
Дан сей Аттестат Роману Николаевичу Киму, православного вероисповедания, родившемуся 1 августа 1899 года, в том, что он, вступив в Владивосток, гимназию в августе м. 1917 г. при отличном поведении, обучался по март 1919 г. и окончил полный восьмиклассный курс, при чем обнаружены нижеследующие познания:
В Законе Божием отличные / 5 /
В русском языке и церковнославянском и словесности хорошия / 4 /
В философской пропидевтике хорошия / 4 /
В латинском языке хорошия / 4 /
В математике хорошия / 4 /
В математической географии отличные / 5 /
В физике хорошия /4/
В истории хорошия / 4 /
В законоведении отличные / 5 /
В географии отличные / 5 /
В французском языке хорошия / 4 /
В английском языке хорошия / 4 /
В черчении отличные / 5 /
10 апреля 1919 г. Директор Владивостокской гимназии С. Горяинов
Господину Председателю Совета профессоров Восточного института
Романа Николаевича КИМЪ абитуриента Владив. Мужской гимназии
Прошение
Имею честь просить Вас зачислить меня в состав слушателей вверенного Вам Института, при сем прилагаю следующие документы:
1) Метрическое свидетельство,
2) Аттестат зрелости,
3) Разрешение от непосредственного начальника вступить в число слушателей Института и
2 фотографические карточки.
Подпись — Р. Н. Кимъ
Владивосток, 15 октября 1919 год.
Л. 2 3 февраля 1920 г. Прошение
… просить о перечислении действительных слушателей.
Л.7. Дело вольнослушателя Юридического факультета Г.Д.В. Университета P. Н. Ким
24 сентября 1920 г.
Платил за учебу: 1 пол. 1919/20–100 руб. Сиб(ирскими).
2 пол. 1919/20 — 1 р. 75 коп.
1 пол.1920/21 — 25 руб. зол.
2 пол.1920/21 — 25 руб. зол.
Л. 12. 21 апреля 1923 г. Прошение об исключении из списка студентов восточного факультета ГДУ, ввиду окончания курса… и сдачи государственных экзаменов в январе 1923 г.
Л. 13. В Канцелярию по студенческим делам ГД Университета
Роман Ким, прослушавшего полный курс Восточного факультета
Прошение.
…числящиеся за мной недоимки (в размере тридцати пяти рублей) прошу сложить, т. к. мной в 1921 году был пожертвован библиотеке университета ряд ценных книг по японской литературе.
Резолюция на прошении: «На усмотрение ВФ».
Л. 16. Прошение 18 сентября 1920 г. студента 1 курса Восточного факультета о зачислении меня в качестве вольнослушателя юридического факультета.
Резолюция на прошении: «Зачисляется вольнослушателем юридического отделения факультета общественных наук».
Л. 20. Прошение 12 октября 1921 г.
…Просить об исключении из состава вольнослушателей историко-филологического факультета ввиду моего состояния в качестве действительного студента на Восточном факультете и в качестве вольнослушателя на Юридическом факультете.
Л. 21. Прошение 25 октября 1921 г. Декану Историко-филологического факультета
…числился действительным слушателем Историко-филологического факультета, но после поступления на военную службу был переведен в вольнослушатели.
15.11.1919–04.1923.
Архив ГДВУ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 2294. Л. 22. Получено А. М. Буяковым
Приложение 8 Из «ЗАКЛЮЧЕНИЯ по заявлению бывшего сотрудника органов госбезопасности КИМА P. Н.»
В Комитет госбезопасности при СМ СССР поступило заявление от бывшего сотрудника органов госбезопасности КИМА Романа Николаевича с просьбой о выплате ему в связи с реабилитацией денежного содержания.
…На основании изложенного полагаем: Во изменение формулировки приказа НКВД СССР № 1138 от 8 июля 1937 года старшего лейтенанта госбезопасности КИМА Романа Николаевича, бывшего сотрудника особых поручений 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР, считать уволенным из органов госбезопасности по выслуге установленных сроков обязательной военной службы в отставку. Период со 2 апреля 1937 года по 29 декабря 1945 года засчитать КИМУ P. Н. в стаж службы в органах госбезопасности.
…5 июня 1959 года.
Л. 25. Общая выслуга службы в органах госбезопасности составляет 23 года 1 месяц 14 дней.
Л. 28. Ким содержался во внутренней тюрьме НКВД с 17.11.1937 по 29 декабря 1945 года.
Л. 30. Подвергался в декабре 1922 года в январе и феврале 1923 года окончательным испытаниям в Государственной Восточной Испытательной комиссии, причем постановлением названной комиссии от 15 февраля 1923 года признан выдержавшим названные испытания с отличным успехом (окончил полный курс японского отделения восточного факультета ГДУ. Выдано временное удостоверение об окончании за подписями — Председателя Государственной Восточной Испытательной комиссии профессора Н. Кюнера, декана восточного факультета профессора А. Гребенщикова, делопроизводителя восточного факультета Ширшова. — А. Б.).
Л. 32. «Отзыв об P. Н. Киме
Серьезное знакомство с первоисточниками по японскому и китайскому языкам, уменье распоряжаться материалами, правильный научный подход к таковым, наличие критического отношения к источникам, вот те основные элементы подготовленности P. Н. Кима, выявленные им в своей пробной лекции. Считаю, что лекция проведена весьма удовлетворительно и что в лице P. Н. Кима Восточный Факультет приобретает вдумчивого и серьезного работника. Профессор (подпись) /Гребенщиков/ Владивосток, 10 мая 1923 года».
Л. 43. Из «Аттестации» «…Отношение к выполняемой работе вполне добросовестное, большая работоспособность и интенсивность работы, отмечается углубленная проработка вопросов, имеет склонность к агентурной работе. В работе не теряется, сообразителен, находчив, наблюдателен, точен и умеет ориентироваться. Хорошо ориентирован в дальневосточных вопросах.
Участвовал в операциях сугубо чекистского порядка с прекрасными результатами (по контрразведывательной линии). Операции требовали большой чекистской выдержки и оперативной сноровки».
Л. 57. В 1920 году после апрельских событий был арестован японскими жандармами за службу в Дальта.
Л. 75. Во Владивостоке был на связи у помощника начальника ИНФО Бориса Давыдовича Богданова. Именно с его одобрения Ким пошел на работу секретарем к ОТАКЭ и уехал в Москву. В 30-е годы Богданов был помощником начальника ИНО УГБ УНКВД по Дальневосточному краю. Богданова можно назвать «крестным отцом» Кима в органах госбезопасности. Встречался с ним в Москве в 1927 и 1933 годах. Знаком с 1927 года с его женой Мариам.
Л. 80. Из автобиографии Кима P. Н. от 26.04.1935 г.
…В июне 1923 года прибыл в Москву в распоряжение 5 КРО ОГПУ и определен на работу согласно указания тов. Дзержинского, который был уже осведомлен о моем прошлом, в частности о моем знакомстве во Владивостоке с тов. Кушнаревым (членом Далькрайпарта) в годы интервенции.
Из Архивного личного дела Ким Романа Николаевича в ОРАФ УФСБ по Омской области. Получено А. М. Буяковым
Приложение 9 Воспоминания бывшего чекиста Босых о задержании кофров с советскими женщинами
«Не знаю, как эта операция описана в официальных документах бывшего ОГПУ СССР, но дело было так. После тревожной и беспокойной ночи на границе я, будучи начальником оперативной службы отряда, утром докладывал результаты действий начальнику пограничного отряда Мартыненко. Во время доклада раздался звонок, у телефона был один из заместителей председателя ОГПУ, который передал начальнику отряда следующее: “Неделю тому назад в японское посольство в Москве вошли две женщины и оттуда не возвращались. Вчера поездом из Москвы выехали военный атташе японского посольства и корреспондент японской газеты, кажется, ‘Нитинити’, у них два больших чемодана, помимо других меньших. Есть предположение, что этих женщин в чемоданах их владельцы пытаются вывезти за границу. Приказываю не допустить провоза этих женщин в чемоданах. Но учтите, что если Вы вскроете чемоданы и женщин не окажется, то получите 5 лет, а если провезут безнаказанно, тоже”. Вот и весь разговор. Так его тут же передал мне начальник отряда. До прихода поезда на пограничную станцию оставалось 1 час 40 минут. Станция находилась от отряда в 10 километрах. Время было терять нельзя, и мы срочно выехали на пограничную станцию. В дороге разработали такой план: по прибытии поезда на станцию отцепить вагон, в котором следуют японские военный атташе и корреспондент, и под видом технического осмотра поставить в дальний тупик, где заранее подготовить техническую бригаду из состава железнодорожников. После чего начальник станции войдет в купе к японскому атташе и объявит, что вагон, в котором он следует, неисправен, поэтому приносит извинения и просит их перейти в другой вагон, для чего к их услугам прибудут носильщики для переноски багажа. Для этой цели следует подобрать носильщиков и проинструктировать их, что, когда они будут нести большие чемоданы, один из носильщиков должен упасть с чемоданом с таким расчетом, чтобы чемодан ударился о рельсы. Если из этого чемодана не будет исходить никаких признаков человека, тогда второй носильщик, подходя к перрону станции, должен споткнуться с таким расчетом, чтобы чемодан ударился об угол перрона, обычно окаймленного рельсами, и если после этого никаких признаков человека не будет исходить из чемодана, тогда, вооружив носильщиков большим сапожным шилом, сделать проколы чемоданов. Вот такой был разработан план. Мы были уверены, что таким путем мы, безусловно, установим, есть ли люди в чемоданах. И всё это по прибытии на станцию быстро сделали, и еще осталось немного времени до прихода поезда, чтобы успокоиться. По прибытии поезда на станцию всё было сделано в соответствии с разработанным планом. Падали носильщики с чемоданами на рельсы, ударяли чемоданы об угол перрона, делали проколы в чемоданах шилом, но никаких признаков нахождения женщин в чемоданах не исходило. Я сопровождал носильщиков, а начальник отряда КПП и начальник станции шли впереди вместе с японскими атташе и корреспондентом. Атташе заметно волновался, несколько раз оглядывался, а корреспондент вел себя спокойно. Но так как мы уже подходили к вокзалу, то начал волноваться и начальник отряда. Он несколько раз оглянулся и заметил в одном чемодане щель-вмятину, образовавшуюся в нем от удара об угол перрона. Оставив атташе и остальных, начальник отряда быстро подошел к нам, в это время мы также обратили внимание на щель-вмятину. Начальник отряда через эту щель-вмятину просунул руку в чемодан, обнаружил в нем человеческое тело и приказал нам нести чемоданы в досмотровый зал таможни. Заметив это, японский атташе стал протестовать, заявляя, что он неприкосновенная личность и его вещи не подлежат досмотру. Начальник отряда ответил ему, что вещи досматривать не будем, а только изымем из чемоданов людей, так как таковой груз не разрешается перевозить и дипломатам. Японский атташе выхватил из кармана пистолет, но начальник отряда успел схватить его за руку, и пистолет упал на перрон. Когда внесли чемоданы в досмотровый зал таможни и поставили их на столы, начальник отряда предложил атташе открыть чемоданы. Атташе отказался, тогда начальник отряда сказал, что в таком случае мы будем вынуждены сами вскрыть их. Пойманный с поличным, японский дипломат отдал ключи. В каждом чемодане оказалось по одной женщине, они были извлечены оттуда и уведены в помещение КПП, а мы с начальником отряда оформили акт вскрытия чемоданов. Когда мы пришли в помещение КПП, нас туда не допустили, с ними уже занимался прибывший этим же поездом с большой группой сотрудников ОГПУ из Москвы высокий начальник с четырьмя ромбами в петлицах. Начальник отряда доложил заместителю председателя ОГПУ о выполнении задания и его результатах. Последний поблагодарил его и всех участников операции и разрешил угостить всех их в ресторане “Интуриста” станции, а счет по расходам выслать ему, что и было сделано. Вот так была проведена эта занятная операция с чемоданами.
Быв. ст. уполномоченный ОП 16 Дзержинского погранотряда НКВД П. И. Босых».
Цит. по: Чекулаева Е. Украденная жизнь. М., 2005. С. 65–74.
Приложение 10 Материалы японских газет о покушении на жизнь посла Японии в СССР
Газета «Осака Асахи», 26 декабря 1931 г.
«Раскрыт заговор с целью покушения на посла в России Хирота
План дипломата некоей страны. Официальное сообщение советского правительства.
(24 числа, Москва, Советский Союз) 24 числа соответствующие советские инстанции официально сообщили, что был раскрыт заговор с целью разрушения отношений между Японией и Россией путем убийства посла Японии в России Хирота Коки. Планировал это дипломат иностранного государства, поэтому послу этой страны было предъявлено требование о высылке этого дипломата за пределы страны и получено его одобрение. Однако какой страны это посол и дипломат, объявлено не было, и этот загадочный случай вызвал сенсацию.
Основное содержание объявления соответствующих советских органов следующее.
22 декабря советский гражданин, работник наркома транспорта, признался ОГПУ в [чем-то] удивительном. “Более трех с половиной лет назад я стал общаться с одним работником посольства некоей страны в Москве. Сначала у нас с ним просто пересеклись интересы в археологии, и мы разговорились. Позже он начал у меня интересоваться информацией по государственным железным дорогам, особенно строительством новых линий. С начала декабря при каждой встрече он стал говорить о Маньчжурском инциденте, о том, что если бы в Москве послу Японии был нанесен вред жизни, то это бы стало причиной войны Союза и Японии. Я не отвечал на эти намеки, и через несколько дней этот дипломат начал разговор о войне на Дальнем Востоке и прямо заявил мне: ‘Покушение на жизнь японского посла — это очень важно, ты сможешь с этим справиться, если захочешь’. После этого при каждой встрече убеждал меня в необходимости этого дела, говорил: ‘Я должен заниматься такого рода делами. Это просто политическая демонстрация. Достаточно пару раз выстрелить в окно машины посла из ржавого автоматического пистолета на улицах Москвы, убивать его не обязательно’. То есть он стал уже настойчиво говорить о конкретном покушении на японского посла, и я почувствовал, что тут какой-то заговор против Советского государства и понял, что он хочет навязать мне ужасную роль разжигателя войны, и поэтому я сознался во всём ОГПУ. Из-за своей незрелости я оказался вовлечен в такую оскорбительную для моей родины деятельность и хотел бы искупить вину за тяжелый проступок”. На основании изложенных сведений о деятельности этого иностранца и после проверки материалов дознания с разрешения наркома иностранных дел послу соответствующей страны было предъявлено требование высылки дипломата-заговорщика за пределы государства рабочих и крестьян, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью и невозможно его допросить в Советском суде. Посол удовлетворил требование наркома иностранных дел и выслал его за пределы страны».
Газета «Осака Майнити», 26 декабря 1931 г.
«Г-н Карахан выразил сожаление.
Запросив встречи с послом Хирота, он сказал вежливую речь.
В Москве дипломат некоей (не восточной) страны, подстрекая советского гражданина Годовского, планировал покушение на убийство посла Хирота. Сообщение по этому делу поступило от посла Хирота в наше ведомство 25 числа после обеда, и в тот же день зам. председателя наркомата иностранных дел г-н Карахан запросил встречи с послом Хирота и, как говорится в телеграмме, представил подробный доклад об инциденте и сообщил, что российское правительство впредь хотело бы взять на себя полную ответственность по охране посла. Он выразил сожаление в связи с раскрытым заговором, но пожелал, чтобы посол спокойно продолжал свое пребывание в Москве. Относительно дипломата некоей страны он сообщил, что после переговоров с диппредставительством этой страны, как заведено, он был выслан. [Карахан] произнес очень вежливую речь, и посол Хирота с ним согласился, ответив, что полагается на защиту Российского государства.
Дипломатические органы намерены закрыть глаза.
Было получено сообщение о заговоре с целью убийства посла в России Хирота от самого посла. Дипломатические органы с целью улучшения отношений доверятся российскому правительству, и японское государство не будет прибегать к каким-либо дипломатическим мерам. В отношении страны, к которой принадлежит неназванный дипломат, принимая во внимание тонкости международных отношений, также не будет предприниматься дополнительного расследования и будут закрыты глаза [на этот инцидент]. Это [направление действий] было выбрано потому, что было признано, что вышеизложенный инцидент имеет слишком романтическую сущность и нет необходимости предавать его всеобщему достоянию».
Предоставил и перевел В. А. Бушмакин
Приложение 11 Докладная записка начальника 4-го отделения Особого отдела ОГПУ председателю ОГПУ В. Менжинскому
Об активизации японской разведки на СССР (по документальным данным за период март — июль 1932 года)
20 июля 1932 г.
Начиная с февраля — марта с/г. констатируется резкое повышение активности японской разведки против СССР, вызванное: 1) завершением программы захвата основных пунктов Сев. Маньчжурии и непосредственным переходом японцев к подготовке военного плацдарма против СССР и 2) увеличением наших вооруженных сил в ВСК и ДВК.
Мобилизационное развертывание органов японской разведки происходит по всем линиям: по линии Генштаба, морштаба, МИД и контрразведки (жандармерия, полиция).
Все указанные ведомства, до сих пор проводившие разведывательную работу на СССР без четкой согласованности между собой, зачастую дублировавшие ее, ныне установили теснейший контакт и стали координировать все агентурные мероприятия, исходя из установки на создание массовой агентуры.
Эта активизация японской разведки характеризуется следующими документально установленными фактами:
По линии Генштаба
Военный атташе в Москве
1. Новый военный атташе в СССР Кавабэ, прибывший в Москву в конце февраля, в отличие от своих предшественников, которым давались только общие указания по разведывательной работе, получил от Генштаба инструкцию развернуть разведку, исходя из четкой установки на «будущую войну» с СССР, в частности, конкретно изучить: а) количество авиасил, которые могут быть выставлены во время войны на ДВ; б) стояние Владивостокских фронтов и в) систему мобподготовки. В целях организации систематического контроля над перебросками наших войск на восток из европейской части СССР, Генштаб дал директиву Кавабэ приступить к созданию агентуры в ряде важнейших пунктов европейской части СО, в частности в Свердловске и Самаре.
В порядке реализации вопроса о прикомандировании военных разведчиков в японское консульство в СССР, выдвинутого в варшавском совещании японских военных атташе и уже прошедшего стадию согласования между Генштабом и МИД, Кавабэ ныне занят практическим осуществлением этого нового мероприятия.
Военная разведка со стороны Маньчжурии…
Военные атташе на Западе и Бл[ижнем] Востоке
По линии морштаба
Морской штаб (III сектор) значительно усилил проводимую им параллельно Генштабу разведывательную работу на СССР.
Морская разведка на ДВ
1. В сводках морштаба за последние месяцы стали фигурировать наряду с данными, полученными от МИД и Генштаба, сообщения, получаемые непосредственно от резидентуры во Владивостоке, от капитанов японских коммерческих судов, заходящих во Владивосток, и от нефтяной цессии в Охе на Сев. Сахалине, ведущей разведку специально для морского штаба, а также делаются ссылки на агентурные источники во Владивостоке.
Анализ этих сводок приводит нас к заключению о наличии у морштаба скрытой разведывательной резидентуры во Владивостоке.
Морской атташе в Москве
2.9.VII морштаб срочно сообщил мор. атташе в Москве о решении усилить в связи с политической ситуацией разведработу на СССР и предложил срочно представить ориентировочную смету. Мор. атташе в своей телеграмме от 10.VII ходатайствует об отпуске ему 5000 иен на сбор сведений о морских силах, авиации и субмаринах на ДВ и на текущую работу по линии органов разведки. Морштаб в счет этой сметы перевел 3000 иен.
Таким образом морской атташе в Москве, деятельность которого до сих пор сводилась в основном к сбору и обработке материалов из легальных информационных источников, ныне переключается на активную агентурную разведку.
Морская разведка за границей…
По линии МИДа
К сбору военных сведений и освещению перебросок частей Красной армии приступили с конца прошлого года и японские дипорганы в СССР, так, например:
Японские консульства
1. Все японские дипорганы в СССР с конца прошлого года приступили к освещению перебросок частей Красной армии на ДВ; наибольшую активность проявляет владивостокское генконсульство, мобилизовавшее все свои агентурные возможности; в донесениях генконсульства содержатся указания на наличие у него японской, корейской и русской агентуры во Владивостоке, Никольск-Уссурийске и других пунктах Приморья.
Зафиксирован ряд попыток со стороны чинов новосибирского консульства пробраться в запрещенные зоны для осмотра воинских площадок, ж/д моста и т. д. (инциденты с Накамурой и Хироватари).
Посольство в Москве
2. Посольство в Москве и консульство в Маньчжурии в контакте с военными наладили сбор сведений о воинских перевозках по Сибирской ж/д. на основе использования всех японцев-транзитников, едущих на Восток или на Запад.
По линии жандармерии и полиции
Значительно усилили свою работу расположенные в примыкающих к Приморью районах Кореи полицейские и военные разведывательные органы.
В переписке по линии МИД и в сводках Генштаба и морштаба содержатся ссылки на владивостокскую агентуру цуругского жандармского отделения и на информацию корейской жандармерии. Основным объектом последней, пользующейся корейской агентурой, является Владивостокско-Посьетский район.
Наряду с корейской жандармерией за последнее время стала интенсивно проводить работу на СССР, главным образом по части партпровокации, и корейская полиция.
Пом. нач. IV Отд. ОГПУ Николаев
Оперуполномоченный IV отд. ОО ОГПУ Ким
ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 10. Д 92. Л. 1–5
Приложение 12 Из статьи Маруяма Macao «Мои воспоминания об Отакэ Хирокити»
Журнал «Мадо» (Токио: Наука, 1972. № 2. Сентябрь)
«Если рассказывать, как жил и работал Отакэ в Москве, то приходится упомянуть и о Романе Киме.
Когда Отакэ служил специальным корреспондентом японского телеграфного агентства во Владивостоке во время интервенции японской армии против Советского Союза, тогда Ким работал помощником Отакэ. В то время Ким как кореец попал под подозрение в шпионаже против Японии и был бы арестован и расстрелян японскими жандармами. Но был спасен с риском для жизни благодаря усилиям Отакэ. Потом Ким всегда говорил, что Отакэ — спаситель его жизни.
[Весной 1923 г.] Отакэ поехал работать председателем японского телеграфного агентства в Москву, Ким сопровождал его. Отакэ вернулся в Японию [осенью 1925 г.], Ким остался в Советском Союзе, принял советское гражданство и женился на русской женщине польского происхождения. [Весной 1931 г.] Отакэ еще раз приехал в Москву вместе со мной, Ким пришел нас проведать раньше всех. Я познакомился с Кимом, когда впервые посетил СССР в 1925 г., поэтому в 1931 г. мы, как старые знакомые, часто встречались, и Ким помогал нам во многих отношениях.
Ким был талантливым, замечательным молодым человеком высокого роста. Раньше он учился в Японии и окончил общеобразовательный факультет университета Кэйо. Он хорошо владел японским языком, не говоря уже о русском языке. Я думаю, что, наверное, не было такого человека, который так прекрасно знал и русский и японский языки. После Второй мировой войны Ким стал писателем остросюжетного детектива. Директор фирмы большой газеты “Асахи”, будучи еще главным редактором, ездил в Москву и для интервью с Хрущевым — генеральным секретарем КПСС пригласил Романа Кима как переводчика.
Между Отакэ и Кимом была искренняя и глубокая дружба. Месяца через четыре после приезда в Москву [в 1931 г.] Отакэ внезапно попросил меня ни звонить, ни общаться с Кимом. И неудивительно, тогда в СССР была необычно напряженная обстановка. С одной стороны Германия во главе с Гитлером, с другой стороны Маньчжурия с японской армией. Отакэ вернулся в Японию [в феврале 1932 г.]. Ким не пришел его провожать. Я же еще оставался в Москве. И как-то, года через три, случайно встретил Кима в книжном магазине [Международная книга]. Тогда он был в военной форме НКВД, и его значок на воротнике, насколько я помню, означал генерал-майора. Я ничего не сказал Киму, и он, казалось, растерялся и постоянно отворачивался от меня в сторону книжных полок в поиске нужной книги.
Через несколько лет после Второй мировой войны Отакэ восстановил фирму “Наука” [в сент. 1952 г.] и приехал в Москву [в 1955 г.]. В очередной раз, приняв приглашение “Международной книги”. Тогда Ким уже вел жизнь замечательного писателя, поэтому у него была возможность встретиться с Отакэ. Они встретились через много лет с восторгом.
Вспомнил нашу встречу с Кимом — 8 лет тому назад я посещал СССР впервые после Второй мировой войны, тогда наш самолет приземлился в аэропорту, и я спускался по трапу самолета в сумерках — кто-то с седой головой неожиданно обнял меня молча. Я удивился, но сразу узнал Кима. Это удивительная встреча после 30 лет разлуки. Это заставило меня почувствовать перемены времен и изменения отношений между Японией и СССР.
Наш дорогой друг Роман Ким умер около 5 лет назад».
Перевод с японского Мурано Кацуаки
Приложение 13 Наказанный негодяй
Драма из жизни испанских аристократов (текстовая выжимка из 15 рисунков)
Дон Ромео Стервадор отчаянно тиранил свою прекрасную супругу донну Марианну.
Не могши вынести сволочной характер гнусного гидальго, донна Марианна решила уехать на три года к своей подруге — донне Рите Сан-Стефано, владелице замка Дель-Тубинто на острове Мадагаскаре.
Преданная донне Марианне негритянка — рабыня Паранелла проливала черные слезы на мадридской пристани.
А дон Ромео в день отъезда своей супруги поехал на охоту в свое поместье Колонио де Криуковио.
Вернувшись с охоты, дон Ромео вдруг почувствовал отчаянную тоску. Роскошное палаццо на улице Твербулиос, в центре Мадрида (около памятника Сервантесу), вдруг показалось пустынным и мрачным.
Дон Ромео стал дико тосковать, сидя в своем любимом кресле.
Он стал прибегать к наркотикам.
Вскоре от тоски он потерял почти все кило.
И в один прекрасный день…
А донна Марианна наслаждалась природой Мадагаскара под яркими лучами экваториального солнца. Все офицеры местного гарнизона передрались на дуэли из-за нее.
Конец.
Приложение 14 Спецсообщение Н. И. Ежова И. В. Сталину о совещании сотрудников японского посольства
02.02.1937 № 55565
СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ
*27 января поздно ночью на квартире советника японского посольства САКО состоялось специальное совещание, на котором кроме чиновников посольства участвовал в качестве докладчика корреспондент МАРУЯМА*. Совещание было созвано советником САКО для заслушивания доклада МАРУЯМА, являющегося информатором посольства, о ходе процесса, относительно показаний КНЯЗЕВА и ТУРОКА и для обмена мнениями по вопросу о контрмерах японского посольства.
*Посол СИГЭМИЦУ на банкете, состоявшемся до этого совещания в ресторане «Савой» по поводу отъезда рыбопромышленника АРИГА, заявил последнему, что японское правительство предъявит протест советскому правительству еще до вынесения приговора обвиняемым, ибо иначе нет смысла предъявлять его*. Если же не удастся выступить с этим протестом до окончания процесса в связи с происходящим правительственным кризисом, то японское правительство, отказавшись от предъявления протеста советскому правительству, разошлет меморандум всем державам, в котором будет дано мотивированное разъяснение того, что показания подсудимых, в части, касающейся их связей и переговоров с японскими официальными лицами, ложны и подтасованы.
Посол заявил АРИГА, что лично он предпочитает второй способ реагирования как более эффективный.
На этом же банкете секретарь посольства СИМАДА сказал юрисконсульту посольства, что германское правительство решило не предъявлять протеста в связи с процессом, так как это может отразиться на судьбе немецких инженеров.
*В японском посольстве внимательно изучают показания ЛИВШИЦА, ТУРОКА и КНЯЗЕВА, чтобы найти противоречия и фактическое несоответствие.
Корреспондент МОРИ в беседе со своим секретарем заявил, что в результате обстоятельного изучения указанных выше показаний чиновники посольства нашли следующие противоречия и фактическое несоответствие*:
1) При допросе ЛИВШИЦА на вечернем заседании суда от 26.1 ТУРОК, отвечая на вопрос прокурора, заявил, что деньги в сумме 35 000 рублей получил от японцев в январе 1934 г., а на заседании от 27.1 тот же ТУРОК при допросе его заявил, что 35 000 рублей получил в феврале 1935 года.
2) «Г-н X.», то есть ХИРОСИМА, не мог быть в сентябре 1934 года в Челябинске, что можно документально доказать.
*Эти два документа посольство решило использовать для полного дезавуирования показаний обвиняемых о связи их с японской разведкой, в частности с «г-ном X.»*.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР ЕЖОВ
АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 278. Л. 67–68. Подлинник. Машинопись.
На первом листе имеются рукописные пометы: «Т. Сталину. Ежов. 2.II-37 г.»; «Отт. Ежова».
*—* подчеркнуто карандашом.
Фонд А. Н. Яковлева, ЛУБЯНКА: Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД, Документ № 19// -doc/60990
Приложение 15 Из справки по делу КИМ Романа Николаевича (Ответ на запрос ГУГБ НКВД СССР от 5/V — 1936 г. № 59201)
К п. 1: Действительно, КИМ P. Н. учился в Японии, в Токио, в период 1911–1915 гг. в школе под названием «КЕЙО-КИДИКО», в которой учились исключительно дети аристократов…
К п. 2: КИМ P. Н. фамилию СУГИУРА Киндзи никогда не носил, и его под этой фамилией никто не знал…
К п. 4:… КИМ P. Н. в период пребывания белых во Владивостоке и интервенции на ДВК принимал участие в газете «Владиво-Ниппон», издаваемой японцами… Писал статьи… о японизации корейского населения.
По показанию одного из свидетелей — КИМ К. П., последний слышал от русских граждан в период интервенции, что КИМ P. Н. в дни 4–5 апреля 1920 года принимал участие в арестах корейских и русских революционеров вместе с японской жандармерией.
В период 1919 года КИМ P. Н., будучи студентом Восточного института, был мобилизован Колчаком и служил у него в чине подпоручика… переводчиком в Штабе Приамурского военного округа.
К п. 5: О наличии связей КИМ P. Н. с японским консульством не установлено. Однако известно, что КИМ P. Н. при интервенции вращался в кругу японцев и белых…
К. п. 7: О аресте КИМ P. Н. японцами не установлено.
К п. 8: Об участии КИМ P. Н. в печатном органе министерства иностранных дел «Тохо» — не установлено.
К п. 9: О наличии связей с приемным отцом СУГИУРА Рюкичи не установлено…
К п. 10: Данных о работе КИМ P. Н. негласно в наших органах в 1922 году и в последние годы нет.
К п. 11: В каком году (точно), с какой целью КИМ P. Н. переехал в Москву, следствием не установлено.
К п. 12: О связях С ОТАКЕ КИМ P. Н. не установлено.
К п. 13: Отец КИМ P. Н. — КИМ Николай Николаевич, он же КИМ Пеаги… в период 1890–1915 гг. был известен во Владивостоке как один из крупных богачей среди корейцев, его называли миллионером. В г. Владивостоке имел два кирпичных здания, одно в 2 этажа и второе в 3 этажа. В 3-этажном доме сейчас размещается телеграф.
Сам КИМ Пеаги занимался сотрудничеством в войсковых частях по постройке военных фортов, по поставке мясопродуктов, имел большой штат служащих и свыше 1000 человек наемных рабочих, которым обычно зарплату не платил, за счет чего заработал большие деньги.
В период японской интервенции КИМ Пеаги работал подрядчиком у японцев по поставке колючей проволоки.
К п. 14: Примерно в 1928 году из Москвы вернулся от сына КИМ Пеаги, проживал у свата, то есть отца жены сына, и в 1929 году умер.
Пом. начальника 1 отделения Особого отдела ГУГБ Тихоокеанского флота Югай.
28/V-1936 г.
ЦЛ ФСБ РФ. Д. Р-23731. T 1. Л. 294–295.
Приложение 16 Из справки комиссии Президиума ЦК КПСС «О проверке обвинений, предъявленных в 1937 году судебными и партийными органами тт. ТУХАЧЕВСКОМУ, ЯКИРУ, УБОРЕВИЧУ и другим военным деятелям, в измене родине, терроре и военном заговоре»
[Не позднее 26 июля 1964 г.]
11 июня 1937 года Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР были осуждены по обвинению в измене Родине (ст. 58–1 «б» УК РСФСР), терроре (ст. 58–8), военном заговоре (ст. 58–11) к расстрелу следующие видные деятели Красной Армии:
1. Маршал Советского Союза Тухачевский Михаил Николаевич, 1893 г. рождения, член ВКП(б) с 1918 г., кандидат в члены ЦК ВКП(б), член ЦИК СССР, заместитель наркома обороны СССР;
2. Командарм 1 ранга Якир Иона Эммануилович…;
3. Командарм 1 ранга Уборевич Иероним Петрович…;
4. Командарм 2 ранга Корк Август Иванович…;
5. Комкор Эйдеман Роберт Петрович…;
6. Комкор Фельдман Борис Миронович…;
7. Комкор Примаков Виталий Маркович…;
8. Комкор Путна Витовт Казимирович…
В 1956 г. Главная военная прокуратура и Комитет госбезопасности при Совете Министров СССР проверили уголовное дело Тухачевского и других вместе с ним осужденных лиц и установили, что обвинение против них было сфальсифицировано. Военная коллегия Верховного суда СССР, рассмотрев 31 января 1957 года заключение Генерального прокурора СССР, определила: приговор Специального судебного присутствия Верхсуда СССР от 11 июня 1937 г. в отношении Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Примакова, Путны и Фельдмана отменить и дело за отсутствием в их действиях состава преступления производством прекратить.
В том же 1957 г. Комитетом Партийного Контроля при ЦК КПСС все эти лица были реабилитированы и в партийном отношении…
…Несмотря на то, что в материалах следствия никаких доказательств о принадлежности Тухачевского к японской разведке не было, следователь Ушаков в постановлении о предъявлении обвинения Тухачевскому утверждал, что Тухачевский изобличается и в том, что он состоял тайным агентом японского генштаба. В обвинительном же заключении и в приговоре суда по делу Тухачевского нет никаких упоминаний о его шпионских связях с Японией.
…г) Действия разведки Японии и ее роль в «деле» Тухачевского
В ходе проверки «дела» Тухачевского был обнаружен в Центральном государственном архиве Советской Армии важный документ, спецсообщение 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР, которое было направлено Ежовым наркому обороны Ворошилову с пометкой «лично» 20 апреля 1937 г., то есть в момент, непосредственно предшествовавший арестам крупных советских военачальников. На этом документе, кроме личной подписи Ежова, есть резолюция Ворошилова, датированная 21 апреля 1937 г.: «Доложено. Решения приняты, проследить. К. В.». Судя по важности документа, следует предположить, что доложен он был Сталину. Ниже приводится это спецсообщение в том виде, в каком оно поступило к Ворошилову:
«СПЕЦСООБЩЕНИЕ
3-м отделом ГУГБ сфотографирован документ на японском языке, идущий транзитом из Польши в Японию диппочтой и исходящий от японского военного атташе в Польше — Савада Сигеру, в адрес лично начальника Главного управления Генерального штаба Японии Накадзима Тецудзо. Письмо написано почерком помощника военного атташе в Польше Арао.
Текст документа следующий:
“Об установлении связи с видным советским деятелем.
12 апреля 1937 года.
Военный атташе в Польше Саваду Сигеру.
По вопросу, указанному в заголовке, удалось установить связь с тайным посланцем маршала Красной Армии Тухачевского.
Суть беседы заключалась в том, чтобы обсудить (2 иероглифа и один знак непонятны) относительно известного Вам тайного посланца от Красной Армии № 304”».
Спецсообщение подписано заместителем начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР комиссаром государственной безопасности 3-го ранга Минаевым. Фотопленки с этим документом и подлинник перевода в архиве НКВД не обнаружены.
Об истории этого документа сообщили в ЦК КПСС бывшие работники НКВД СССР Н. А. Солнышкин, М. И. Голубков, Н. М. Титов и К. И. Кубышкин, занимавшиеся в те годы негласными выемками и фотографированием, в том числе иностранной почты, которая направлялась транзитом в почтовых вагонах из Европы на Восток и с Востока на Запад через советскую территорию. Проводя в апреле 1937 года операцию по выемке почты, шедшей из Польши в Японию, Лицкевич (впоследствии расстрелян) и Кубышкин обнаружили в бауле документы на японском языке и сфотографировали их. Содержания этих документов они не знали, однако через некоторое время им сказали, что они изъяли серьезный документ, в котором якобы говорилось о преступной связи Тухачевского с японским военным атташе в Варшаве. За эту операцию участвовавшие в ней сотрудники НКВД вскоре были награждены знаком «Почетного чекиста». Голубков и Кубышкин, например, были награждены 19 апреля 1937 года, то есть еще за день до того, как Ежов направил спецсообщение Ворошилову.
В связи с тем, что качество фотодокумента было плохим и иностранный отдел НКВД, куда был передан для расшифровки этот документ, не смог выполнить этой работы, заместитель начальника 3 отдела ГУГБ Минаев-Цикановский предложил М. Е. Соколову, работавшему тогда начальником 7-го отделения этого отдела, выехать с документом в Лефортовскую тюрьму к находившемуся там арестованному работнику ИНО НКВД P. Н. Киму и поручить ему, как квалифицированному знатоку японского языка, расшифровать документ. Ким был арестован 2 апреля 1937 года по подозрению в шпионаже в пользу Японии, и следствие по его делу вел аппарат отделения, возглавляемого Соколовым.
Как сообщил сейчас в ЦК КПСС Соколов, этот плохо сфотографированный документ Киму удалось расшифровать после двух-трех визитов к нему. Ким был крайне возбужден, когда сообщил Соколову, что в документе маршал Тухачевский упоминается как иностранный разведчик. Соколов утверждает, что содержание спецсообщения, которое было направлено Ворошилову, совпадает с содержанием перевода, сделанного Кимом, причем в то время Соколов и другие его сотрудники, знавшие содержание документа, были убеждены в его подлинности. Теперь же Соколов считает, что они тогда глубоко заблуждались, и документ, видимо, является дезинформацией со стороны польской или японской разведок с расчетом, что за эту фальшивку ухватятся.
Соколов обращает сейчас внимание на то, что столь секретное сообщение, если бы оно действительно предназначалось только адресату — Генштабу японской армии, не могло быть направлено в общей почте, в бауле, перевозившемся через советскую территорию в советских почтовых вагонах, без охраны дипкурьеров. Кроме того, Соколов утверждает, что хотя фотодокумент вернулся к нему из иностранного отдела без перевода, из каких-то источников ему уже было известно, что в документе упоминается фамилия Тухачевского.
В своем объяснении в ЦК КПСС проживающий сейчас в Москве Ким подтверждает, что действительно в апреле 1937 года Соколов, со ссылкой на приказание наркома Ежова, поручил ему перевести с японского языка документ, который никто из работников ГУГБ, слабо зная японский язык, не смог прочитать из-за дефектов снимка. Киму было обещано, что если он расшифрует документ, то это благоприятно отзовется на его судьбе. Документ был совершенно смазан, и перевести его на русский язык удалось ценой огромного напряжения. Как утверждает Ким, после перевода документа он написал еще и заключение, в котором сделал вывод, что этот документ подброшен нам японцами. Такого заключения в архивах не найдено. Документ, с которым имел дело Ким, состоял, с его слов, из одной страницы и был написан на служебном бланке военного атташата почерком помощника военного атташе в Польше Арао (почерк этот Ким хорошо знал, так как ранее читал ряд документов, написанных Арао); в документе говорилось о том, что установлена связь с маршалом Тухачевским, документ посылается в адрес Генштаба. Все эти данные Ким сообщил в ЦК КПСС до предъявления ему текста спецсообщения.
Ким, как и Соколов, считает, что если бы столь важное сообщение необходимо было скрыть от советской разведки, то японцы нашли бы немало способов для этого — передали бы его шифром или с дипкурьером или, скорее всего, устно. В данном случае японская разведка, видимо, имела противоположную цель — довести до сведения русских содержание этого документа. Ким подчеркивает, что как в 1937 году, так и теперь он считает, что японский документ, содержащий «компрометирующие данные» о Тухачевском, является дезинформирующим документом, подброшенным с провокационной целью…
Обращает на себя внимание тот факт, что японская разведка, сообщая провокационные сведения о советских военачальниках, в то же время в официальных секретных документах давала совершенно иную оценку событий, происшедших в Красной Армии.
В июле 1937 года помощник японского военного атташе в Москве Коотани выступил с докладом «Внутреннее положение СССР (анализ дела Тухачевского)» на заседании политических и военных деятелей Японии. В этом докладе Коотани заявил:
«Неправильно рассматривать расстрел Тухачевского и нескольких других руководителей Красной Армии как результат вспыхнувшего в армии антисталинского движения. Правильно будет видеть в этом явлении вытекающее из проводимой Сталиным в течение некоторого времени работы по чистке, пронизывающей всю страну».
Он заявил далее, что совершенно нельзя верить официальному обвинению о том, что генералы были связаны с руководством армии некоей иностранной державы и снабжали ее шпионскими данными, что они замышляли восстание против нынешнего правительства. По мнению Коотани, у советских военных не было ни плана восстания, ни террористических планов. События в Красной Армии поразили, подчеркивал Коотани, не только его, но и такого специалиста по России, как начальник советской секции 2-го отдела японского Генштаба полковника Касахара.
Оценивая имеющиеся японские материалы, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, «документ Арао», посланный Ежовым Ворошилову, надо признать провокационным. Эта дезинформация была тем или иным путем подброшена советским органам японской разведкой, быть может, в кооперации с польской разведкой, а возможно, и немецкой.
Не исключено также, что этот документ был сфабрикован в НКВД с прямой провокационной целью или что так называемый тайный посланец, если он так объявил себя в Варшаве, в действительности являлся агентом НКВД.
Во-вторых, несмотря на сомнительную ценность в качестве свидетельства против Тухачевского, «документ Арао», дошедший до Ежова, Ворошилова и, вероятно, до Сталина, мог всё же ими браться в расчет и сыграть в условиях апреля — мая 1937 года определенную роль в формировании обвинения против Тухачевского.
Вместе с тем, видимо, именно неправдоподобностью этого документа надо объяснить тот факт, что на следствии вопрос о «тайном посланце Тухачевского» и о связях его с японской разведкой вообще никак не допрашивался. В деле нет ни самого документа, ни его копии. Никакой оперативной разработки вокруг этого перехваченного японского документа не проводилось; его использовали против Тухачевского в том виде, в каком он оказался в руках работника НКВД…
Председатель комиссии Н. Шверник
Члены комиссии А. Шелепин, З. Сердюк, Н. Миронов, Р. Руденко, В. Семичастный
Опубликовано: Военные архивы России. 1993. Вып. 1. С. 4–113; Военно-исторический архив. 1998. Вып. 2. С. 3–81.
Приложение 17 Предисловие к книге «Совершившие сэппуку генштабисты живы»
Такаги Хидэто. Изд. Гогацу Себо, январь 1952
Название оригинала этой книги — «Тетрадь, найденная в Сунчоне». Ее содержание в основном описывает политику и общество Японии во время поражения в войне и после войны. Остается только удивляться, что настолько жизненную повесть о Японии написали за рубежом.
Эта книга воистину заслуживает высших баллов по части любимых японцами героичности и нервного напряжения. Стоит только заглянуть в «Тетрадь», а там — рассказ о Токийской розе и тайнах плана атомной бомбардировки «Серебряное блюдо», рассказы о кимотори, о планах высадки в Японии «Олимпик» и «Коронет», о поднявшейся в Генштабе суете при вступлении Союза в войну, о мятеже во дворце и о параде самоубийств на придворцовой площади, и так далее. Они идут один за другим, и думаешь, как было бы интересно сделать из этого фильм!
Однако, что ни говори, центральная тема рассказа — правда о закулисье времени поражения в войне; о двух течениях в армейской среде; о том, как после войны военная хунта нырнула в подполье и как она опять подняла голову; о том, как подготавливался «резервный полицейский отряд» и другие меры по восстановлению армии; о том, какую тайную роль сыграло это в Корейской войне; о том, как замышляется война за мировое господство. Всё это ярко изобличено. Думаю, что не найдется ни одного японца, пережившего те ужасные сражения и атомные бомбардировки, кто прочтет эту книгу и не почувствует беспокойство, смутный страх за будущее Японии.
Однако в то же время это и произведение, рассчитанное на массового читателя, не теряющее луч надежды посреди ужасной темноты и холода. В нем — жутко интересная история о противостоянии на киностудии Тохо и история о том, как главарь хунты, переодетый гадателем, возвещает «знаки тайке — знаки неотвратимой беды». Отдельно стоят описания действий партизанского отряда Народной армии, центральным героем которого выведена кореянка нового типа Октан, и в особенности финальная сцена у костра в ночном лагере наверняка потрясут людей надеждой на мир.
В Японии в последнее время популярны так называемые «произведения с настоящими именами». Это произведение как раз из таких. Все его герои — реальные люди Японии, Кореи и других мест. И все сюжеты в нем построены в реальном времени и месте, на реальных событиях. Поэтому для нас, японцев, здесь есть особая привлекательность и интересность. Когда это произведение появилось в начале журнала «Новый мир» (советский литературный журнал) весной прошлого года, оно сразу же стало известным и журнал был быстро раскуплен. Советская критика особо хвалила то, что было проведено кропотливое исследование правды. (Однако похоже, что не обошлось и без ошибок, потому что настоящих имен слишком много. Думается, что описанный там район Васиномия в округе Сугинами — это Сагиномия, а генерал-лейтенант Ивахата — это Ивагуро.) Но вообще же там много имен, которых я, переводчик, не знаю, и наверняка у меня есть ошибки в переводе.
В этом произведении есть сцена, в которой герой заново открывает для себя лицо Токио. Однако наверняка автор произведения открывает для себя правду о японской политике и обществе и заново открывает для себя лицо Японии. По правде говоря, можно сказать, что это произведение было написано для того, чтобы японцы, после войны опять посаженные на галерке, заново открыли для себя истинное лицо Японии.
Однако, к сожалению, эта книга — не полный перевод, а только вытащенный из повествования костяк. (В тексте… означает место сокращения, а — означает разделение глав в оригинале.) Это неизбежно в связи с нынешней ситуацией, но самые вкусные косточки остались, и основной мотив сохранен. Думаю, читатель останется доволен. Наверняка когда-то выйдет и полный перевод.
Автор оригинала Роман Ким является выпускником нашего университета Кэйо. Он — исследователь японской литературы, и где-то в 1935 году в журнале «Тюо Корон» была представлена его статья «Современная японская литература глазами Советов» (оригинальное название — «Три дома напротив и соседних два»). В Москве он занимался работой, связанной с Дальним Востоком, и говорят, что большинство японцев, побывавших в Москве, были под его опекой.
Кроме этого произведения он написал еще интересный роман о югославском Тито. Думаю, этот кореец, горделиво стоящий в одном ряду с большими фигурами советского литературного мира, понравится и японцам.
Январь 1952 г.
Перевод Вадима Бушмакина
Приложение 18 Из воспоминаний японского журналиста К. о P. Н. Киме
«Это было в 60-х годах. Мой отец работал шефом-бюро газеты в течение 5 лет, и мы жили на Кутузовском, 7. В это время Роман Ким был уже довольно пожилым человеком. Я и не подозревал, что он может иметь какое-то отношение к шпионам, для меня он был просто стариком-писателем. В то время я учился в начальной школе. Ким в это время жил почти рядом с пресс-центром на Зубовском бульваре вдвоем с, выходит, что второй, красавицей-женой, которую звали Любовь. Две комнаты, кухня, ванная и туалет — маленькая квартирка, о которой, помню, кто-то из знакомых отца говорил: “Ким живет в элитной квартире в доме Союза писателей!” Я не знаю, как именно мой отец с ним познакомился, но он был не просто знакомым, а другом семьи. Когда дома у Кима собирались его друзья-писатели, он приглашал и нашу семью. Это происходило довольно часто. Ким называл меня “Аки-тян”, и с нами всегда общался на прекрасном японском языке. Его японский был таким же, как и у японца. Поэтому я долгое время не имел понятия, что он кореец. Ким обращался со мной как с любимым внуком. Я помню, как, вернувшись из заграничной командировки (из Лондона, может?), он привез мне в подарок игрушечный короткоствольный пистолет, как у шпионов или тайных агентов.
Люба была не только красавицей, но и прекрасно готовила, чем Ким любил похвастать. Еще одним человеком, вхожим в дом Кима, была старая уже женщина Вера. Если мне не изменяет память, она была сестрой Любы. Рассказывали, что во время Великой Отечественной войны Вера была в партизанах, а в Гражданскую войну бывшую тогда ребенком Веру казак сильно ранил в ногу, и она периодически показывала мне шрам. Бывал там и еще один мужчина азиатской наружности по имени Аттик, но кем он приходился Киму, я не помню. То ли сын, то ли племянник, то ли еще кто из родственников. Кажется, Аттик был инженером. Он был очень мастеровитый. У меня был французский велосипед с маленькими колесами. Помню, как он пришел к нам домой и принес шину для моего велосипеда, переделанную из шины для большого колеса советского велосипеда. Еще он научил меня играть в шахматы.
Наверное, ты помнишь, что одно из самых моих любимых мест в Москве была могила Пастернака в Переделкине. Почему так случилось? Потому что туда меня ребенком приводил Ким. Я был маленьким и, конечно, не понимал сложных объяснений, но помню, что Ким мне много рассказывал об этом писателе. Рядом с могилой Пастернака была скамейка. Сохранилась фотография, где мы с Кимом сидим на ней. Ким с тростью в руке, как будто фотография деда и внука.
Через какое-то время Люба заболела и умерла, и Ким, убитый горем, потерял энергию и силы. Помню, как я маленький плакал в голос на похоронах Любы. С тех пор, мне кажется, за Кимом стала присматривать Вера. Она тоже прекрасно готовила и проявляла о Киме сердечную заботу. Но думаю, между ними ничего не было как между мужчиной и женщиной, да и к тому же оба были уже стариками.
Еще через какое-то время Ким заболел. Сейчас думается, наверное, у него был рак. Помню, что Ким лечился в загородном санатории. У него совсем не было аппетита, организм не принимал пишу. Ким очень доверял моей матери, иногда он звонил и просил ее приготовить что-нибудь японское, говорил: «Может, это я смогу поесть». Моя мама тоже относилась к нему с большой заботой. Она тотчас же готовила какое-нибудь японское блюдо и сама за рулем отвозила его Киму в санаторий. Бывало, что я ездил с ней. Ким всегда радовался, увидев нас, но так ничего и не ел из того, что мы привозили, из-за отсутствия аппетита. Мне было очень грустно видеть, как он слабеет, ведь я относился к нему как к деду».
Перевод Антона Мельникова
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ P. Н. КИМА
Ок. 1881 — прибытие в Россию отца Романа Кима — Ким Бён Хака по данным японского коммерческого агента.
1884 — мятеж Ким Ок Кюна, возможное начало ссылки родителей Романа Кима на север Кореи, в Пукчён.
1895 — убийство японцами королевы Кореи Мин, возможно, послужившее сигналом для бегства родителей Романа Кима в Россию.
1898, 19 апреля (или раньше) — дата рождения Романа Кима по японским источникам.
1899, 1 августа (по старому стилю) — дата рождения P. Н. Кима по официальным российским источникам, 20 июля — по данным Кимура Хироси.
1906, 13 сентября — 1911, 31 марта — обучение Романа Кима в школе Ётися.
1909, 26 октября — убийство в Харбине князя Ито Хиробуми.
1911–1917 — неясный период в биографии P. Н. Кима.
1911, 1 апреля —1913, 9 января — обучение Кима в колледже Фуцубу.
1914, апрель — получение Кимом выписки о рождении во Владивостоке.
1916–1917— возвращение Кима из Японии по официальной версии.
1917, август — Роман Ким поступил во Владивостокскую гимназию.
1919, апрель — окончание гимназии и мобилизация в колчаковскую армию.
Октябрь — поступление в Восточный институт.
1919, осень — 1920, январь — окончание службы в армии Колчака.
1920, апрель — арест японской военной жандармерией. Спасение с помощью нового друга — Отакэ.
18 сентября — поступление на юридический факультет Восточного института.
1921, лето — осень — предполагаемое время начала сотрудничества с ВЧК (связной «Максима Максимовича») и с информационным агентством «Тохо».
1922, ноябрь — документально подтвержденное начало сотрудничества с ОГПУ.
1923, февраль — окончание Дальневосточного государственного университета.
Июнь — начало работы в Москве («миссия Отакэ»).
1924 — рождение сына Аттика.
1925 — открытие японского посольства в Москве, завершение «миссии Отакэ», начало операции по вербовке Идзуми.
1926–1927 — издание примечаний P. Н. Кима «Ноги к змее» к книге Б. А. Пильняка «Корни японского солнца».
1927 — Ким разводится с Зоей Заикой.
В Крыму участвует в экспедиции по подъему золота «Черного принца». Командировка в спецотдел ОГПУ, раскрытие японских шифровальных кодов, предполагаемая вербовка подполковника Комацубара.
1928 — Ким женится на Мариам Цын.
1929 —самоубийство в Москве капитана Коянаги.
1931–1932 — Ким проводит серию успешных акций по изъятию из сейфов посольства Японии в Москве секретных документов о планах войны Японии против СССР. Переходит в штат ОГПУ и награждается именным маузером.
1932 — родился сын Виват.
1933 — первая публикация работы «Три дома напротив, соседних два».
1934 — награжден знаком «Почетный чекист» за № 857.
1934–1935 — становится основным специалистом японского направления советской контрразведки в Москве.
1935 — «дело о двух чемоданах».
1936 — награжден орденом Красной Звезды «за выполнение особых заданий государственной важности».
1937, 2 апреля — арестован по подозрению в шпионаже в пользу Японии.
1940, 9 июля — приговорен к двадцати годам тюрьмы и пяти годам поражения в правах.
1944, 26 февраля — скончался сын Виват.
1945, 17 ноября — новый суд по делу Кима и переквалификация преступления на «халатность».
29 декабря — Роман Ким вышел на свободу.
1946 — развелся с Мариам Цын и женился на Любови Александровне Шнейдер.
15 мая — награжден медалью «За победу над Японией».
1947 — принят в Союз писателей СССР.
1951 — выходит книга P. Н. Кима «Тетрадь, найденная в Сунчоне».
1954 — первая публикация «Девушки из Хиросимы».
1956 — «Агент специального назначения».
1958 — Ким отказывается поехать в Японию на праздничные мероприятия учебной системы Кэйо.
1959 — реабилитация P. Н. Кима.
1960 — первая публикация его повести «Кобра под подушкой».
1962 — выходит повесть «По прочтении сжечь».
1963 — выходит повесть «Кто украл Пуннакана?». Ким рассказывает молодому писателю Юлиану Семенову историю своей работы во Владивостоке с агентом ВЧК по имени Максим Максимович, что приводит к рождению главного героя советской «шпионской» литературы — Исаева-Штирлица.
1965 — выходит повесть «Школа призраков». Смерть жены — Любови Шнейдер. Начало болезни Романа Кима.
1966 — сестра Любови Шнейдер Вера Александровна Шнейдер взяла на себя заботы о больном Киме и стала его четвертой женой.
1967, 14 мая — Роман Николаевич Ким скончался.
Примечания
1
Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930–1950-е годы. М., 1998. С. 220–221.
(обратно)2
В переписке с автором.
(обратно)3
Буяков А. М. Ведомственные награды ОГПУ — НКВД. Владивосток, 2008. С. 152, 356–358.
(обратно)4
См. Приложение 1.
(обратно)5
Архивное следственное дело P. Н. Кима (№ 11 626). ЦА ФСБ РФ. Д. Р–23731 (далее — АСД).Т. 1.Л. 16.
(обратно)6
АСД. Т. 1.Л. 86.
(обратно)7
Симбирцева T. М. Убийство во дворце Кёнбоккун (королевы Мин) // Восточная коллекция. 2004. № 3. С. 138.
(обратно)8
Подробный разбор этой темы произведен Н. И. Конрадом. См.: Конрад Н. И. Очерки социальной организации и духовной культуры корейцев на рубеже XIX–XX веков // Он же. Неопубликованные работы и письма. М., 1996. С. 17–37.
(обратно)9
Там же. С. 26.
(обратно)10
См. Приложение 2.
(обратно)11
В переписке с автором.
(обратно)12
АСД. Т. 1.Л. 86, 190.
(обратно)13
Симбирцева T. М. Указ. соч. С. 139–140.
(обратно)14
Асмолов К. В. Мятеж года Капсин и его последствия. URL:
(обратно)15
Ким Г. Из Кореи в Японию: от буддийских монахов до студентов. URL:
(обратно)16
Пак Б. Д. Россия и Корея. М., 2004. С. 139–140.
(обратно)17
Например: Panasianism, ed. Sven Saaler, Christopher Szpilman, Caraway William, p.74, The Kim Ok-kyun Affair. URL:
(обратно)18
Young Park, Korea and the Imperialists: In Search of a National Identity. P. 81–82.
(обратно)19
Перевод А. А. Долина.
(обратно)20
Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 143. Оп. 491. Кн. 121. 1895 г. Цит. по: Симбирцева T. М. Указ. соч. С. 130–138.
(обратно)21
Попытка анализа и разбора этих свидетельств предпринята К. В. Асмоловым в статье «Смерть королевы как основа для детектива». URL:
(обратно)22
Симбирцева T. М. Указ. соч. С. 132.
(обратно)23
Молодяков В. Э. Консервативная революция в Японии. Идеология и политика. М., 1999. С. 106.
(обратно)24
Там же.
(обратно)25
Танин О., Иоган Е. Военно-фашистское движение в Японии. М., 1933.
(обратно)26
Ким P. Н. Тетрадь, найденная в Сунчоне. М., 1971. С. 363.
(обратно)27
В переписке с автором.
(обратно)28
Моргун З. Ф. Японская мозаика Владивостока (1860–1937). Владивосток, 2014. С. 87.
(обратно)29
По данным Саканака Норио.
(обратно)30
URL: /%E6%9D%89%E6%B5%A6 %Е7 %АВ%9С%Е5%90%89-1083638
(обратно)31
Перевод А. А. Долина.
(обратно)32
См. Приложение 1.
(обратно)33
Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье: отчет уполномоченного Министерства иностранных дел В. В. Граве (Труды Амурской экспедиции. Вып. XI). СПб., 1912. Цит. по:
(обратно)34
Гарин-Михайловский Н. Г. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. Карандашом с натуры // Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. М., 1958. Цит. по: URL:
(обратно)35
Моргун З. Ф. Указ. соч. С. 90–91.
(обратно)36
Там же. С. 75.
(обратно)37
Там же. С. 66–67.
(обратно)38
По сообщению В. А. Бушмакина.
(обратно)39
АСД. Т. 1.Л. 17.
(обратно)40
Кадзимура Хидэки. Киндай Тёсэн сякай кэйдзайрон. Акаси Сётэн, 1993. С. 173–175.
(обратно)41
И. В. Просветов обнаружил кирпич с торговым знаком «Н. К.» на сайте владивостокских собирателей местных образцов кирпичного производства. Артефакт пока еще значится в разделе «Неопознанные»:
(обратно)42
Просветов И. В. Крестный отец Штирлица. М., 2015. С. 16.
(обратно)43
Буяков А. М. Кто вы, господин Ватанабэ Риэ? // Тихоокеанский курьер. 1993. № 8–9.
(обратно)44
Там же.
(обратно)45
Lensen George A. Japanese diplomatic and consular officials in Russia. A handbook of Japanese Representatives in Russia from 1874 to 1968. Tokyo, 1968, p. 60.
(обратно)46
АСД. T. 1.Л. 17.
(обратно)47
Айка Тамура. Японская историография отношений Японии и Дальнего Востока России // Россия и АТР. 2005. № 1. С. 77.
(обратно)48
Полутов А. В. Японская военно-морская разведка и ее деятельность против России накануне Русско-японской войны 1904–1905 гг. URL: -istoria/japonskaja-voenno-morskaja-razvedka-i-ee-dejatelnost-protiv-rossii-nakanune-mssko.html
(обратно)49
См. Приложение 3.
(обратно)50
不退團關係雜件-朝鮮人О 部-在西比利亞 (1910–1926); Deok-Kyoo Choi, The Second Russo-Japanese Agreement and Korean Emperor Kojong’s plan for exiled government in Primorye (1909–1910).
(обратно)51
См. Приложение 2.
(обратно)52
См. там же.
(обратно)53
См. Приложение 4.
(обратно)54
В переписке с автором.
(обратно)55
Здесь и далее информация по обучению и проживанию в школе Ётися и колледже Фуцубу получена и переведена из информационных справочников этих организаций В. А. Бушмакиным.
(обратно)56
Русские воспитанники в Токийской семинарии // Газета «Россия». 1908. № 953. 31 декабря.
(обратно)57
Подробнее об этой истории см.: Куланов А. Е. В тени Восходящего солнца. М., 2014.
(обратно)58
См. Приложение 2.
(обратно)59
В переписке с автором.
(обратно)60
Перевод с корейского текста — А. М. Пастухов.
(обратно)61
См. Приложение 2.
(обратно)62
В переписке с автором.
(обратно)63
См. Приложение 2.
(обратно)64
АСД. Т. 1.Л. 19.
(обратно)65
Моргун З. Ф. Указ. соч. С. 133.
(обратно)66
Национальный архив Японии, Центр документов по истории Азии. URL: /, Ref.B09072805000, Ref. В09072811100
(обратно)67
Томэ конроку (Кайсо Сугиура Дзюго хэсю иинкайхэн). Токио, 1984.
(обратно)68
Перевод А. А. Долина.
(обратно)69
Чхве Джэхён (Цой Петр Семенович) / Сост. Б. Пак, В. Цой. М., 2010. С. 38–39 (далее — Чхве Джэхён…)
(обратно)70
Там же. С. 42 и по данным Национального архива Республики Кореи.
(обратно)71
Deok-Kyoo Choi, The Second Russo-Japanese Agreement and Korean Emperor Kojong’s plan for exiled government in Primorye (1909–1910).
(обратно)72
Здесь и далее используется информация из Национального архива Республики Кореи, полученная В. А. Бушмакиным. URL: ,go.kr/item/level.do?itemId=jh&setId=13860&position=3
(обратно)73
Ан Джунгын — национальный герой Кореи / Авт.-сост. Б. Д. Пак, Б. Б. Пак. М., 2012. С. 358.
(обратно)74
Там же. С. 429–430.
(обратно)75
Цит. по: Симбирцева T. М. Указ. соч. С. 353.
(обратно)76
По выписке из книги регистрации учащихся Фуцубу, полученной Миямото Татиэ и Мурано Кацуаки.
(обратно)77
Исибаси Тандзан. Публицистика. Сборник статей // Нити — в руках князя Ямагата, 1912–1968. М., 2004. С. 82.
(обратно)78
Перевод А. А. Долина.
(обратно)79
Перевод Ф. В. Кубасова.
(обратно)80
Перевод А. А. Долина.
(обратно)81
См. Приложение 4.
(обратно)82
См. Приложение 5.
(обратно)83
АСД. Т. 1. Л. 17.
(обратно)84
Там же. Л. 82.
(обратно)85
Сорокина М. Ю. Жизнь, похожая на коробку спичек // Природа. 2006. № 4. С. 92.
(обратно)86
Подробнее об этом: Куланов А. Е. Указ. соч.
(обратно)87
Дунаев В. Н. Достоверный том. М., 2014. С. 52–53.
(обратно)88
Чхвэ Джэхён… М., 2010. С. 297–298.
(обратно)89
Там же. С. 293–294.
(обратно)90
Бам Бён Юль. Национально-освободительное движение Кореи и российский Дальний Восток (1905–1910) // Корё Сарам. 2014. 5 апреля.
(обратно)91
См. Приложение 6.
(обратно)92
АСД. Т. 1.Л. 151.
(обратно)93
См. Приложение 7.
(обратно)94
Там же.
(обратно)95
Из отчета о командировке сотрудника военно-статистического отделения окружного штаба Приамурского военного округа капитана Муравьева в г. Благовещенск с 4 по 31 марта 1919 г. РГВА. Ф. 39507. Оп. 1. Д. 63. Л. 157.
(обратно)96
Бабичев И. Участие китайских и корейских трудящихся в Гражданской войне на Дальнем Востоке. Ташкент, 1959. С. 58.
(обратно)97
Там же.
(обратно)98
Симонов Д. Г. Мобилизации сибирской интеллигенции в Белую армию в 1918–1919 годах. URL: http://ледяной поход. рф/2011/09/мобилизации-сибирской-интеллигенции
(обратно)99
См. Приложение 6.
(обратно)100
РГВА. Ф. 39507. Оп. 1. Д. 52. Л. 311–312.
(обратно)101
АСД. T. 1. Л. 92–93.
(обратно)102
В военно-статистическом отделении с Кимом служили полковник Н. Спешнев, подполковник Ассанович, полковники Глебов и А. Ф. Лашкевич, капитаны Шмидт, Муравьев и А. М. Лехмусар, Е. В. Грегори, К. Харнский, штабс-капитаны Серый-Сирык, Борисов, А. Рустанович, Пичахчи, Варокин, Ильяшенко, Осадчий, переводчики Скажутин, Боголепов, поручик Цепушелов, прапорщик А. И. Галич, Сян Шен Дун. РГВА. Ф. 39507. Оп. 1. Д. 52. С. 312.
(обратно)103
Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917–1991). URL:
(обратно)104
Первый профессиональный японовед России: опыт латвийско-российско-японского исследования жизни и деятельности Е. Г. Спальвина / Сост. А. С. Дыбовский. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2007. С. 82, 128.
(обратно)105
Там же. С. 134–146.
(обратно)106
АСД. T. 1. Л. 94.
(обратно)107
Там же. Л. 95.
(обратно)108
Гэндайси сирё Тёсэн до курицу ундо (Документы новейшей истории. Движение независимости в Корее). Мисудзу, 1970. Т. 27. Кн. 3. С. 271.
(обратно)109
Перевод А. А. Долина.
(обратно)110
Славин Л. И. Не всё можно рассказать // Он же. Мой чувствительный друг. М., 1973. С. 334.
(обратно)111
Колесникова А. Странички воспоминаний. URL: -2.htm
(обратно)112
См. Приложение 2.
(обратно)113
Цит. по: Моргун З. Ф. Указ. соч. С. 154.
(обратно)114
Исибаси Тандзан. Сборник статей. 1912–1968. М., 2004. С. 49.
(обратно)115
Шишкин С. Н. Гражданская война на Дальнем Востоке. М., 1957.
(обратно)116
Чхве Джэхён… М., 2010. С. 55.
(обратно)117
Сафьянов М. 4–5 апреля в Никольск-Уссурийском// Таежные походы. Сборник эпизодов из истории Гражданской войны на Дальнем Востоке. М., 1935. С. 239.
(обратно)118
Там же. С. 243.
(обратно)119
Мозохин О. Б. Противоборство. Спецслужбы СССР и Японии (1918–1945). М., 2012. С. 339–346.
(обратно)120
АСД. Т. 1.Л. 101.
(обратно)121
Дыбовскии А. С., Моргун З. Ф. Профессор Е. Г. Спальвин и журнал «Восточная студия» // Пути развития востоковедения на Дальнем Востоке России. Владивосток, 2014. С. 111.
(обратно)122
Моргун З. Ф. Указ. соч. С. 192.
(обратно)123
Просветов И. В. Указ. соч. С. 37.
(обратно)124
Марков В. М. Русский след в Японии. Давид Бурлюк — отец японского футуризма // Известия Восточного института. 2007. № 14. С. 202.
(обратно)125
Таежные походы. Сборник эпизодов из истории Гражданской войны на Дальнем Востоке. М., 1935. С. 215, 218–220.
(обратно)126
Ким P. Н. Тайна ультиматума. М., 1969. С. 108.
(обратно)127
Ким P. Н. Тетрадь, найденная в Сунчоне. М., 1971. С. 302–303, 310.
(обратно)128
Цит. по: Пак Б. Д. Корейцы в Советской России. 1917 — конец 30-х годов. М., 1995. С. 80–93.
(обратно)129
Подробнее об этом: Шинин О. В. Большевистская «партийная» разведка в период существования в Приморской области буржуазных правительств (май 1921 г. — октябрь 1922 г.) // Исторический журнал: научные исследования. 2011. № 5 (5). С. 23–36.
(обратно)130
Подробнее см.: Куланов А. Е. Указ. соч.
(обратно)131
Просветов И. В. Указ. соч. С. 46–47.
(обратно)132
Семенов Ю. С. Пароль не нужен // Смена. 1967. № 969. Октябрь.
(обратно)133
Там же.
(обратно)134
Семенова О. Ю. Юлиан Семенов. М., 2006. С. 91.
(обратно)135
В переписке с автором.
(обратно)136
Колесников С. А. Хабаровские чекисты. История в документах и судьбах. Хабаровск, 2011.
(обратно)137
Шинин О. В. Указ. соч. С. 30.
(обратно)138
См. Приложение 8.
(обратно)139
Ким P. Н. Тайна ультиматума. М., 1969. С. 108.
(обратно)140
Ардаматский В. И. Встречи с Кимом // Тайна ультиматума. М., 1969. С. 309–319.
(обратно)141
Перевод А. А. Долина.
(обратно)142
См. Приложение 5.
(обратно)143
См. Приложение 6.
(обратно)144
См. Приложение 8.
(обратно)145
Буяков А. М. Ведомственные награды ОГПУ — НКВД. Владивосток, 2008. С. 312–313.
(обратно)146
АСД. Т. 1.Л. 300.
(обратно)147
Там же. Л. 301.
(обратно)148
Просветов И. В. Указ. соч. С. 56.
(обратно)149
См. Приложение 8.
(обратно)150
Моргун З. Ф. Указ. соч. С. 222.
(обратно)151
Там же. С. 223–224.
(обратно)152
Фунакава X. Инцидент с арестом сотрудников генерального консульства Японии во Владивостоке // Ойкумена. 2012, № 1 (20). С. 116–117.
(обратно)153
Там же. С. 119.
(обратно)154
Куртинец С. А. Разведывательная деятельность японских консульств на советском Дальнем Востоке (1922–1931) // Вестник ДВО РАН. 2011. № 1.С. 29.
(обратно)155
Уфимцев Ю. Первые чекисты Приморья: романтики. URL: /
(обратно)156
Куртинец С. А. Указ. соч. С. 29–30.
(обратно)157
См. Приложение 8.
(обратно)158
АСД. Т. 1. Л. 111.
(обратно)159
Цит. по: Савелии Д. Борис Пильняк в Японии: 1926. М., 2004. С. 166.
(обратно)160
Мозохин О. Б. Указ. соч. С. 335.
(обратно)161
Там же.
(обратно)162
АСД. Т. 1. Л. 151.
(обратно)163
Там же. Л. 157.
(обратно)164
См. Приложение 8.
(обратно)165
Мозохин О. Б. Указ. соч. С. 336.
(обратно)166
АСД. Т. 1. Л. 112.
(обратно)167
Там же. Л. 234.
(обратно)168
Там же. Л. 265.
(обратно)169
Михаил Георгиевич Попов был очень непростым человеком. Вот что писал о нем американский разведчик Джордж Сокольский, встречавшийся с Поповым в Шанхае в 1920 году: «Полковник Попов — человек совершенно иного сорта. Он прибыл с мандатом, выданным ему командующим большевистскими войсками в Амурской области. Я видел его мандат, который оказался подлинным. Его миссия носит секретный характер, и он никому не открывает ее цели. Он не вовлечен в пропаганду… Полковник Попов читает, пишет и говорит по-китайски и по-японски, он переводил на русский язык японскую поэзию. Он служил в армии при старом режиме и был пять или шесть раз ранен. В 1918 году он был послан Троцким для принятия всей собственности, принадлежащей России на Дальнем Востоке, но был взят в плен чехами и попал в тюрьму. Во время своего нынешнего визита он встречался с д-ром Сунь Ятсеном, который обсуждал с ним возможности сотрудничества. Полковник Попов пришел к выводу, что планы д-ра Суня неосуществимы. Он сказал, что большевики устали от войны и хотят мира. Он охарактеризовал д-ра Суня как старомодного милитариста, который не видит иного пути спасения своей родины, кроме военного… По его поведению я делаю вывод, что полковник Попов был послан для ознакомления с ситуацией и перспективами на будущее, а также для того, чтобы выяснить состояние дел здешнего российского консульства… В настоящее время полковник Попов уже вернулся во Владивосток». USDS, N 76193/142.March 30.1920; цит. по: Крюков М. В. Улица Мольера, 29. Секретная миссия полковника Попова. М., 2000. С. 155–156.
(обратно)170
Никитин А. Л. Эзотерическое масонство в Советской России. URL: /A-L-Nikitin_Ezotericheskoe-masonstvo-v-sovetskoy-Rossii — Dokumenty-1923-1941— gg-/74
(обратно)171
Здесь и далее все выделения в тексте как в оригинале.
(обратно)172
АСД. T. 1. Л. 266.
(обратно)173
Там же. Л. 113.
(обратно)174
Там же.
(обратно)175
Сорокина М. Ю. Указ. соч.
(обратно)176
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Д. 286.
(обратно)177
См., например: Восточные сборники. Вып. 1 // Акутагава Рюноскэ. Тело женщины (рассказ) / Предисл. и пер. с яп. Р. Кима (1924).
(обратно)178
Фудзимото Вакио. Е. Г. Спальвин — секретарь советского посольства в Токио // Пути развития востоковедения на Дальнем Востоке России. Сборник статей и библиография. Владивосток, 2014. С. 130–131.
(обратно)179
Перевод А. И. Оношкович-Яцына.
(обратно)180
АСД. T. 1. Л. 110.
(обратно)181
URL: -emb.jp/embassy/gallery/—.html
(обратно)182
Справочник Ленсена. С. 98–111.
(обратно)183
Там же. С. 47.
(обратно)184
Мозохин О. Б. Указ. соч. С. 336–337.
(обратно)185
Там же. С. 337.
(обратно)186
Отакэ Хирокити. Наследие и воспоминания. Токио, 1961. С. 43. Перевод Мурано Кацуаки.
(обратно)187
АСД. T. 1. Л. 302.
(обратно)188
Савелли Д. Указ. соч. С. 170.
(обратно)189
Ота Дзётаро. Кандзо Наруми (1899–1974) — японский коллекционер старых книг русской литературы в 1920–1930-х годах: книги Александра Блока из его библиотеки в Токио // сайт университета Кумамото? http://www.с. kumagaku.ac.jp/blogs/ohta/201l/10/post-514.html
(обратно)190
Подробнее об этом см.: Савелли Д. Указ. соч.
(обратно)191
Ким P. Н. Ноги к змее. Л., 1927. С. 131.
(обратно)192
Из доклада российского ученого-ниндзюцуведа Ф. В. Кубасова на НСО ИВКА «Лазутчики-ниндзя и их история в научном освещении», 19 февраля 2015 г.
(обратно)193
Пильняк Б. Корни японского солнца. Л., 1927. С. 30.
(обратно)194
Славин Л. И. Мой чувствительный друг. М., 1973. С. 333–336.
(обратно)195
Донесение МВД Японии в МИД Японии от 13.03.1926 г. Цит. по: Савелли Д. Указ. соч. С. 221.
(обратно)196
В переписке с автором.
(обратно)197
Там же.
(обратно)198
Ким P. Н. Ноги к змее. Л., 1927. С. 175.
(обратно)199
Быстролетов Д. А. Путешествие на край ночи. М., 1996. С. 361.
(обратно)200
Тема ниндзюцу в творчестве Кима рассматривается в данной книге, но анализ роли ниндзюцу в жизни самого P. Н. Кима выходит за ее рамки. Эту весьма сложную, запутанную и широкую тему всесторонне разрабатывает историк ниндзюцу Ф. В. Кубасов, изучающий возможности реализации различных областей искусства японского шпионажа, в том числе использования куноити-дзюцу (работы с женщинами-агентами, в котором P. Н. Ким был очевидным мастером), малоизвестного бунсин-дзюцу (манипулирования сознанием контрразведки противника путем внедрения ложной информации о численном и качественном составе агентуры) и пр.
(обратно)201
Перевод А. А. Долина.
(обратно)202
202{202} Ким Р, Пильняк Б. Японская литература. Цит. по: Савелли Д. Указ. соч. С. 307.
(обратно)203
ЦГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 441.
(обратно)204
АСД. T. 1. Л. 110. В книге «В тени Восходящего солнца» фамилия ошибочно указана как «Биллевич».
(обратно)205
Здесь и далее, если не указано иначе, биографические сведения о М. С. Цын приводятся по: Вспоминает Марианна Самойловна Цын // Российские востоковеды. Страницы памяти. М., 1998. С. 106–116.
(обратно)206
См. Приложение 6.
(обратно)207
Вострышев М. Москва сталинская. Большая иллюстрированная летопись. М., 2011. С. 242.
(обратно)208
ГА ЧО. Ф. 94. Оп. 4.Д. 1411.
(обратно)209
См. Приложение 6.
(обратно)210
См. Приложение 2.
(обратно)211
Эту историю довольно подробно описал Михаил Зощенко, и это замечательный пример документальной прозы великого сатирика.
(обратно)212
В отечественной литературе, как правило, фигурирует как «Синкай Когиоссио Лимитед».
(обратно)213
АСД. Т. 1.Л. 263.
(обратно)214
Молодяков В. Э. Россия и Япония в поисках согласия. 1905–1945. М., 2012. С. 315–318.
(обратно)215
Молодяков В. Э. Указ. соч.
(обратно)216
Подробнее об этом: Куланов А. Е. Указ. соч. С. 179–192.
(обратно)217
Молодяков В. Э. Указ. соч. С. 318.
(обратно)218
Там же. С. 288–289.
(обратно)219
АСД. Т. 1.Л.29.
(обратно)220
Соболева Т. А. История шифровального дела в России. М., 2002. С. 427.
(обратно)221
В переписке с автором.
(обратно)222
Цит. по: Соболева Т. А. Указ. соч. С. 424.
(обратно)223
Анин Б., Петрович А. Радиошпионаж. М., 1996. С. 62.
(обратно)224
Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 1918–1945 гг. М., 2012. С. 863–864.
(обратно)225
Соболева Т. А. Указ. соч. С. 434.
(обратно)226
Просветов И. В. Указ. соч. С. 74.
(обратно)227
Бутовский полигон. Книга памяти жертв политических репрессий. М., 2003. В.7. С. 94–96.
(обратно)228
Перевод А. А. Долина.
(обратно)229
Здесь и далее показания Хата цит. по: Мозохин О. Б. Указ. соч. С. 363–390.
(обратно)230
Кириченко А. А. Из записок чекиста-япониста// Япония наших дней. 2012. № 2(12). С. 107.
(обратно)231
Просветов И. В. Указ. соч. С. 98.
(обратно)232
В переписке с автором.
(обратно)233
Токио Асахи симбун. 1936. 20 октября. Вечерний вып. С. 2.
(обратно)234
АСД. T. 1. Л. 278.
(обратно)235
Там же.
(обратно)236
Kuromiya Hiroaki, The Mystery of Nomonhan, 1939 // The Journal of Slavic Military Studies. 2011.11.16. P. 662–664.
(обратно)237
Маркус Б. С. Московские картинки 1920–1930-х гг. М., 1999. С. 4.
(обратно)238
Мартов И. Миссия Какумина в России: от храма до Сталина // Русская планета, -Kakumin-7556.html
(обратно)239
Из беседы с автором.
(обратно)240
Любимов М. П. Декамерон шпионов. М., 1998. С. 415–440.
(обратно)241
Просветов И. В. Указ. соч. С. 99.
(обратно)242
Там же. С. 111–112.
(обратно)243
Там же. С. 148–149.
(обратно)244
См. Приложение 13.
(обратно)245
Здесь и далее «дело о двух чемоданах» излагается по: Чекулаева Е. Украденная жизнь. М., 2005. С. 60–78.
(обратно)246
Просветов И. В. Указ. соч. С. 99.
(обратно)247
См. Приложение 9.
(обратно)248
Kuromiya Hiroaki and Andrzej Peplonski. Kozo Izimi and Soviet Breach of Imperial Japanese Diplomatic Codes//Intelligence and National Security. 2013. Vol. 28, № 6. P. 769–784.
(обратно)249
Перевод А. А. Долина.
(обратно)250
Здесь и далее данные о Комацубара Мититаро цит. по: Hiroaki Kuromiya. The Mystery of Nomonhan, 1939 // The Journal of Slavic Military Studies. P. 662–677.
(обратно)251
Горбунов E. А. Схватка с Черным драконом. M., 2002. С. 48.
(обратно)252
Кириченко А. А. Указ. соч. С. 105.
(обратно)253
URL: -1-0-3770
(обратно)254
АСД. Т. 1.Л. 279.
(обратно)255
Мозохин О. Б. Указ. соч. С. 387.
(обратно)256
Там же. С. 665–666.
(обратно)257
Там же.
(обратно)258
Просветов И. В. Указ. соч. С. 92.
(обратно)259
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 81. Л. 61–62.
(обратно)260
Там же. Л. 131–132.
(обратно)261
Там же. Л. 668.
(обратно)262
АСД. Т. 1.Л. 262, 303,304.
(обратно)263
В переписке с автором.
(обратно)264
АСД. T. 1. Л. 278.
(обратно)265
Просветов И. В. Указ. соч. С. 102–103.
(обратно)266
АСД. Т. 1.Л. 278.
(обратно)267
Там же.
(обратно)268
Просветов И. В. Указ. соч. С. 102.
(обратно)269
Там же. С. 108–109.
(обратно)270
АСД. T. 1. Л. 229–232.
(обратно)271
См. Приложение 7.
(обратно)272
АСД. T. 1. Л. 277.
(обратно)273
Там же. См. также: Просветов И. В. Указ. соч. С. 101.
(обратно)274
АСД. T. 1. Л. 276.
(обратно)275
Перевод А. И. Оношкович-Яцына.
(обратно)276
Быстролетов Д. А. Указ. соч. С. 361.
(обратно)277
Горбунов Е. А. Указ. соч. С. 257.
(обратно)278
Славуцкая А. М. Всё, что было… Записки дочери дипломата. М., 2002. С. 97–98.
(обратно)279
Из беседы с автором.
(обратно)280
См. Приложение 8.
(обратно)281
Здесь и далее цит. по: Горбунов Е. А. Указ. соч. С. 46–47.
(обратно)282
Там же. С. 50–51.
(обратно)283
Там же. С. 65–66.
(обратно)284
Цит. по: Горбунов Е. А. Указ. соч. С. 104–105.
(обратно)285
Там же. С. 82–83.
(обратно)286
Там же. С. 85.
(обратно)287
Документы внешней политики СССР. Т. 15. 1 января — 31 декабря 1932 г. М., 1969. Цит. по: Горбунов Е. А. Указ. соч. С. 68–69.
(обратно)288
Просветов И. В. Указ. соч. С. 87.
(обратно)289
Горбунов Е. А. Указ. соч. С. 70–71.
(обратно)290
См. Приложение 10.
(обратно)291
Горбунов А. Указ. соч. С. 212–215.
(обратно)292
Восточно-Сибирский край и Дальневосточный край.
(обратно)293
См. Приложение 11.
(обратно)294
Дамаскин И. А. Сталин и разведка. М., 2004. С. 58.
(обратно)295
Цит. по: Просветов И. В. Указ. соч. С. 90–91.
(обратно)296
В переписке с автором.
(обратно)297
Предоставлено А. М. Буяковым.
(обратно)298
АСД. T. 1. Л. 163.
(обратно)299
Там же. Л. 276.
(обратно)300
Просветов И. В. Указ. соч. С. 97.
(обратно)301
Перевод А. А. Долина.
(обратно)302
Просветов И. В. Указ. соч. С. 111.
(обратно)303
См. Приложения 2 и 12. При некоторых различиях в деталях (тексты написаны разными людьми), в целом они совпадают по содержанию.
(обратно)304
Здесь и далее цит. по: Семпер-Соколова Н. Е. Портреты и пейзажи: частные воспоминания о 20 веке. М., 2007. С. 156–165.
(обратно)305
Ким P. Н. Три дома напротив, соседних два. М., 1934. С. 13.
(обратно)306
Там же. С. 12.
(обратно)307
Там же. С. 34.
(обратно)308
Район в Москве от старого здания Московского университета на Моховой улице до Патриарших прудов, где в конце XIX века жило особенно много студентов.
(обратно)309
Ким P. Н. Указ. соч. С. 13–14.
(обратно)310
Просветов И. В. Указ. соч. С. 110.
(обратно)311
АСД. T. 1. Л. 266.
(обратно)312
Там же. Л. 266–267; АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 247. Л. 165–166.
(обратно)313
См. Приложение 13.
(обратно)314
Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства 1931–1934 гг. / Под ред. М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. — Воспроизведение издания 1934 г. — Б.м., 1998. URL: -belomorkanal/sbornik-belomorkanal.html
(обратно)315
Ким P. Н. Указ. соч. С. 177.
(обратно)316
Перевод А. А. Долина.
(обратно)317
По воспоминаниям А. В. Федорова, из беседы с автором.
(обратно)318
АСД. T. 1. Л. 7–10.
(обратно)319
Там же. Л. 279.
(обратно)320
См. Приложение 14.
(обратно)321
Лубянка. Сталин и Главное управление государственной безопасности НКВД. 1937–1938. С. 639.
(обратно)322
См. Приложение 15.
(обратно)323
Как считает профессор Ким Ён Ун, с именем отца Кима возникла путаница по причине низкого уровня грамотности чекистов: «Корейского имени, такого, чтобы было три гласных, т. е. три слога, нет. Возможно, имя Бён Хак получило такую трансформацию. В разговорном варианте Бён Хак могло прозвучать как Бенхаги. Есть такая особенность корейской речи, и в большей степени это касается простонародного диалекта провинции Хамгёндо. А отец Романа Кима, скорее всего, был выходцем из этой провинции». По мнению В. А. Бушмакина, «Пеаги — записанное на советский манер с игнорированием “ё” имя Пёаги, которое, в свою очередь, является записанным на слух именем Пёнхаг-и, внутри там согласные сонорные и могут глотаться при произнесении, а в конце прибавляется звательное — и, которое озвончает предыдущий согласный».
(обратно)324
АСД. Т. 1. Л. 279.
(обратно)325
Просветов И. В. Указ. соч. С. 125.
(обратно)326
См. Приложение 16.
(обратно)327
Просветов И. В. Указ. соч. С. 129.
(обратно)328
Там же. С. 129.
(обратно)329
Там же. С. 130.
(обратно)330
Из беседы с автором.
(обратно)331
Просветов И. В. Указ. соч. С. 131.
(обратно)332
Там же. С. 133.
(обратно)333
АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 250. Л. 154–155. Цит. по: Мозохин О. Б. Указ. соч. С. 333–335.
(обратно)334
АСД. Т. 1.Л. 105.
(обратно)335
Там же. Л. 76, 105.
(обратно)336
Шрейдер М. П. НКВД изнутри: записки чекиста. М., 1995.
(обратно)337
Мозохин О. Б. Указ. соч. С. 333–339.
(обратно)338
Там же.
(обратно)339
Просветов И. В. Указ. соч. С. 137–138.
(обратно)340
Сталин И. В. Выступление на расширенном заседании Военного совета при Наркоме обороны 2 июня 1937 года (неправленая стенограмма). Сочинения. Т. 14, март 1934–1940 гг. М., 1997.
(обратно)341
АСД. Т. 1. Л. 163, 164.
(обратно)342
Там же.
(обратно)343
Просветов И. В. Указ. соч. С. 142.
(обратно)344
АСД. Т. 1. Л. 121.
(обратно)345
Куланов А. Е. Указ. соч.
(обратно)346
Просветов И. В. Указ. соч. С. 138.
(обратно)347
Перевод А. А. Долина.
(обратно)348
Просветов И. В. Указ. соч. С. 146–147.
(обратно)349
Там же. С. 148–149.
(обратно)350
Там же. С. 150.
(обратно)351
Цит. по: Просветов И. В. Указ. соч. С. 152–153.
(обратно)352
АСД. Т. 1.Л. 143.
(обратно)353
АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 406. Л. 10–32.
(обратно)354
ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–50 737. Л. 37.
(обратно)355
Просветов И. В. Указ. соч. С. 155.
(обратно)356
АСД. T. 1. Л. 216.
(обратно)357
Именитов Марк Семенович. Родился в 1907 г., Латвия, г. Режица; еврей; образование высшее; б/п; начальник отдела конструкций треста «Гормост» Гормостпроекта. Проживал: Москва, ул. 2-я Извозная, д. 366, кв. 86. Арестован 10 декабря 1937 г. Приговорен: ВКВС СССР 15 апреля 1939 г., обв.: в участии в к.-р. шпионско-террористической организации. Расстрелян 16 апреля 1939 г. Место захоронения — Московская обл., Коммунарка. Реабилитирован 6 февраля 1958 г. ВКВС СССР.
(обратно)358
АСД. Т. 1. Л.86.
(обратно)359
Просветов И. В. Указ. соч. С. 155–156.
(обратно)360
Петров Н. В. Палачи. Они выполняли заказы Сталина. М., 2011. С. 191–203.
(обратно)361
Просветов И. В. Указ. соч. С. 159.
(обратно)362
АСД. Т. 1. Л. 104, 120–121.
(обратно)363
Куланов А. Е. Указ. соч. С. 157–178.
(обратно)364
Просветов И. В. Указ. соч. С. 162.
(обратно)365
АСД. T. 1. Л. 262.
(обратно)366
Там же.
(обратно)367
ЦА ФСБ. Р–4965. Л. 242–251.
(обратно)368
Там же. Л. 287.
(обратно)369
АСД. T. 1. Л. 287.
(обратно)370
Там же. Л. 297–298.
(обратно)371
Там же. Л. 300–301.
(обратно)372
Там же. Л. 302.
(обратно)373
Там же. Л. 302–304.
(обратно)374
Дунаев В. И. Указ. соч. С. 51.
(обратно)375
См. Приложение 2.
(обратно)376
Просветов И. В. Указ. соч. С. 170.
(обратно)377
По сообщению Миямото Татиэ. В переписке с автором.
(обратно)378
Просветов И. В. Указ. соч. С. 171.
(обратно)379
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1383. Л. 90–94.
(обратно)380
Просветов И. В. Указ. соч. С. 164.
(обратно)381
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. T. 1. Кн. 2. М., 1995. С. 138, 171, 212, 217, 254, 280.
(обратно)382
Горбунов Е. А. Указ. соч. С. 481–483.
(обратно)383
Судоплатов П. А. Разные дни тайной войны и дипломатии. М., 2001. С. 376–377.
(обратно)384
Просветов И. В. Указ. соч. С. 176–178.
(обратно)385
Кириченко А. А. Таинственный беглец // Совершенно секретно. 2004. № 4/179.
(обратно)386
Просветов И. В. Указ. соч. С. 182.
(обратно)387
Кириченко А. А. Указ. соч.
(обратно)388
Просветов И. В. Указ. соч. С. 183.
(обратно)389
Там же. С. 184. У И. В. Просветова фамилия указана неверно (как Володзимирский).
(обратно)390
Там же.
(обратно)391
Там же. С. 185.
(обратно)392
Там же.
(обратно)393
Там же. С. 186.
(обратно)394
Там же.
(обратно)395
Там же.
(обратно)396
Перевод В. Н. Марковой.
(обратно)397
Цвиров А. Е. Три жизни Окада Ёсико // Япония сегодня. 1995/5. С. 16.
(обратно)398
Цит. по: Володина Э. Отель «Люкс»: сталинская ловушка в центре Москвы.
(обратно)399
Ардаматский В. И. Рука друга // Ким P. Н. Тайна ультиматума. М., 1969. С. 309–319.
(обратно)400
Здесь и далее цит. по: Ким P. Н. По прочтению сжечь. М., 1963.
(обратно)401
См. Приложение 17.
(обратно)402
Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. М., 1950. С. 232.
(обратно)403
Перевод А. А. Долина.
(обратно)404
В статье Кимура Хироси указано «в феврале». Вероятно, это опечатка: в современном японском языке февраль — 2-й месяц, а декабрь — 12-й.
(обратно)405
Горбунов Е. А. Указ. соч. С. 207.
(обратно)406
Славин Л. И. Указ. соч. С. 336.
(обратно)407
Просветов И. В. Указ. соч. С. 189–191.
(обратно)408
В том же 1941 году Виктор Шкловский неосмотрительно похвалил Овалова в «Огоньке» (№ 18): «Советский детектив у нас долго не удавался потому, что люди, которые хотели его создать, шли по пути Конан Дойла. Они копировали занимательность сюжета. Между тем можно идти по линии Вольтера и еще больше — по линии Пушкина. Надо было внести в произведение моральный элемент… Л. Овалов напечатал повесть “Рассказы майора Пронина”. Ему удалось создать образ терпеливого, смелого, изобретательного майора государственной безопасности Ивана Николаевича Пронина… Жанр создается у нас на глазах… Книга призывает советских людей быть бдительными. Она учит хранить военную тайну, быть всегда начеку».
(обратно)409
Обнаружено В. А. Бушмакиным.
(обратно)410
РГАЛИ. Ф. 2811. Оп. 1.Д. 241.
(обратно)411
Неизвестные Стругацкие. Письма. Рабочие дневники. 1942–1962 гг. М., 2009.
(обратно)412
РГАЛИ. Ф. 2811. Оп. 1.Д. 241.
(обратно)413
АСД T. 1. Л. 235.
(обратно)414
РГАЛИ. Ф. 2809. Оп. 1. Д. 173.
(обратно)415
См. Приложение 2.
(обратно)416
РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 19. Д. 629. Л. 7–15.
(обратно)417
Там же.
(обратно)418
Там же.
(обратно)419
РГАЛИ. Ф. 2826. Оп. 1. 9. Л. 1–2.
(обратно)420
Просветов И. В. Указ. соч. С. 214–215.
(обратно)421
Там же.
(обратно)422
Перевод А. А. Долина.
(обратно)423
Цит. по: Мозохин О. Б. Указ. соч. С. 358–363.
(обратно)424
Там же. С. 381–382.
(обратно)425
Цит. по: Просветов И. В. Указ. соч. С. 217–218.
(обратно)426
В переписке с автором.
(обратно)427
Перевод Ф. В. Кубасова.
(обратно)428
Из беседы с автором.
(обратно)429
Перевод А. А. Долина.
(обратно)430
Цын М. С. Ухтарка. Из моей жизни в сталинских тюрьмах и лагерях // Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий. Сыктывкар, 2006. Т. 8. Ч. 2. С. 398–407.
(обратно)431
Цын М. С. Несбывшаяся Лучезария // Личный интерес. 2004. № 4. С. 18.
(обратно)432
Там же.
(обратно)433
По воспоминаниям его приемного сына — А. В. Федорова.
(обратно)434
См. Приложение 18.
(обратно)435
РГАЛИ. Ф. 2826. Оп. 1. 9. Л. 2.
(обратно)436
Там же.
(обратно)437
Кроль Ю. Л. Раиса Григорьевна Карлина (1910–1968) // Восток. 1998. № 5. С. 142.
(обратно)438
Маруяма Macao. Мои воспоминания об Отакэ Хирокити // Токио: Наука, 1972. Сентябрь. № 2.
(обратно)439
Там же.
(обратно)440
См. Приложение 8.
(обратно)441
Из беседы с автором.
(обратно)442
Просветов И. В. Указ. соч. С. 212.
(обратно)443
Там же.
(обратно)444
Маруяма Macao. Воспоминания об Отакэ Хирокити // Мало. Токио: 1972. Сентябрь. № 2. Перевод Мурано Кацуаки.
(обратно)445
См. Приложение 12.
(обратно)446
РГАЛИ. Ф. 2811. Оп. 1.Т. 241. Л. 4–6.
(обратно)447
Накадзоно Эйсукэ. Заехавший ненадолго… // Сэкай. 1983. № 455. С. 298–318.
(обратно)448
Из беседы с автором.
(обратно)449
Мамонтов А. И. Встречи на берегах Ёдогавы. М., 1975. С. 62.
(обратно)450
Сафонов В. А. Последний рассказ Романа Кима // Ким P. Н. Тайна ультиматума. М., 1969. С. 309–319.
(обратно)451
Там же.
(обратно)452
См. Приложение 18.
(обратно)453
Хейфец М. Р. Советская жизнь: Опыт и мысли // Заметки по еврейской истории. 2010. № 2–3. С. 125–126.
(обратно)454
Перевод А. А. Долина.
(обратно)455
Иваками Дзюнъити (1907–1958) — в 1950-е годы известный сторонник дружественных отношений с СССР.
(обратно)456
Цитата из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» (том 3, часть III, XIX). Слова, сказанные в романе Наполеоном. Предваряющие цитату слова несколько неточны: по Толстому, Наполеон сказал это перед тем, как войти в Москву (2 сентября 1812 года).
(обратно)457
Японское чтение — Кин Хэйгаку.
(обратно)458
Вероятно, имеется в виду французская женская католическая школа, существовавшая в южной части Внутреннего города.
(обратно)459
Ётися (дословно «детское заведение») — школа начальной ступени при частном университете Кэйо.
(обратно)460
Дата поступления подтверждается «Хронологией Ётися».
(обратно)461
Сугиура Дзюго (1855–1924) — деятель образования, философ, националист. (Другой вариант чтения имени Сигэтакэ.)
(обратно)462
То есть будущего императора Сева. Эту должность Сугиура Дзюго занял в 1914 году, то есть под самый конец пребывания P. Н. Кима в Токио.
(обратно)463
Коидзуми Синдзо (1888–1966) — экономист, деятель образования. Был советником по образованию принца Акихито (нынешнего императора) с 1949 года.
(обратно)464
Фуцубу — дословно «общее отделение». Название школы средней ступени при университете Кэйо.
(обратно)465
Сугиура Рюкити (1868–1930) — коммерсант, пионер японско-российской торговли. Еще до Русско-японской войны открыл во Владивостоке торговый дом «Сугиура Ёко», унаследовав небольшой магазин «Сугиура Сетэн». После Русско-японской войны переехал в Харбин.
(обратно)466
В настоящее время относится к Синдзюку-ку.
(обратно)467
Ан Чжунгын (1879–1910) — борец за независимость Кореи. Считается национальным героем в Корее и преступником в Японии. Схвачен на месте убийства Ито Хиробуми, казнен в тюрьме города Редзюн (нынешний Луйшунь, бывший Порт-Артур).
(обратно)468
Ито Хиробуми (1841–1909) — политический и военный деятель, первый премьер-министр эпохи Мэйдзи. Активный сторонник войны с Китаем, присоединения Кореи, первый генерал-резидент Кореи в период японского протектората.
(обратно)469
Причастность Ким Пенхака подозревалась еще в изначальном следствии. В одной из следственных справок прямо указывалось, что старший сын его учится в Кэйо.
(обратно)470
Пак Ын Сик (1859–1925) — ученый, политический деятель. Второй председатель Временного правительства Кореи.
(обратно)471
Название книги в оригинале приведено неточно. Использовано название Кореи «Чосон», хотя в самой книге использовано «Хангук», и пропущено «Кровавая…».
(обратно)472
Это, впрочем, неудивительно, если вспомнить, что он был католиком.
(обратно)473
Сига Наодзо (1899—?) — архитектор, эссеист.
(обратно)474
Сига Наоя (1883–1971) — писатель, один из главных представителей литературной группы Сиракаба (Береза).
(обратно)475
Издание 1958 года. Цитирование в статье с пропуском (место пропуска указано), в скобках — примечания Кимура.
(обратно)476
(обратно)477
То есть на восьмой или девятый год пребывания в Японии, в 1913 или 1914 году.
(обратно)478
Санъютэи Энъу — имя нескольких поколений рассказчиков веселых историй ракуго. На указанный период приходится деятельность Энъу Первого (1860–1924).
(обратно)479
Татияма Минээмон (1877–1941) — борец сумо, екодзуна (чемпион) с 1909 по 1916 год.
(обратно)480
Такэхиса Юмэдзи (1884–1934) — художник, поэт, очень популярный как иллюстратор книг в период конца эпохи Мэйдзи по эпоху Тайсе.
(обратно)481
Здесь пропущен эпизод, не имеющий отношения к P. Н. Киму, про то, как сам Сига Наодзо выставлял картины на выставку. Важно там только повторное указание третьего года школы средней ступени.
(обратно)482
Окада Сабуросукэ (1869–1939) — художник, рисовавший в европейской манере. Известен своими пейзажами и изображениями типичных японских красавиц.
(обратно)483
Такамидзава Тадао (1899–1985) — издатель, исследователь гравюр укиё-э, основатель исследовательского института гравюр Такамидзава.
(обратно)484
Роман писателя Осанаи Каору (1881–1928), изданный в 1912 году.
(обратно)485
То есть о мире гейш.
(обратно)486
В «Истории Ётися» указывается визит делегации шестнадцати школьников средней ступени из Владивостока и с ними десяти корреспондентов на 3 июля 1909 года. В Дневниках Николая Японского указан приезд этой делегации в Миссию 29 июня. Видимо, эта история действительно вызвала огласку, потому что упоминается чиновником по иностранным студентам Син Хэеном в его речи перед учащимися в Японии корейскими студентами 20 июля 1909 года.
(обратно)487
Ёсано Тэккан (1873–1935) — поэт, переводчик.
(обратно)488
«Утренняя звезда» — поэтический журнал, основанный Ёсано Тэкканом. Издавался с 1900 по 1908 год.
(обратно)489
Это странная история, поскольку даже на момент выхода последнего номера журнала (ноябрь 1908 года) P. Н. Киму было только девять лет. Удивительно, что молодой человек в таком возрасте может понимать и переводить стихи символистов, тем более что в стране языка он пробыл только два года. Возможно, он умел говорить по-японски еще до поездки, ведь отец имел сношения с японским бизнесом во Владивостоке, да и учиться в элитной школе наравне с японцами, не зная языка, было бы сложно. К тому же он поступил в школу в сентябре, в середине учебного года (в японской системе образования учебный год начинается в апреле), и, судя по дате выпуска, был принят во второй класс. Школьные правила допускали прием в любое время года в соответствующий возрасту класс (как правило, в первый класс Ётися поступали в шесть лет).
(обратно)490
Окада Ёсико (1902–1992) — актриса, бежавшая с мужем Сугимото Рёкити в СССР. При переходе границы арестована, осуждена на десять лет лагерей. После освобождения играла в советском театре и кино.
(обратно)491
«Кокоро-ни нокору хитобито» (изд. 1983).
(обратно)492
В бамбуковой чаще / Пер. Р. Кима. — В кн.: Запад и Восток. М.: Изд. ВОКС, 1926. Кн.1–2. С. 34–44.
(обратно)493
Дата «январь 1913» представляется возможной, если считать годы его обучения. Начальная ступень имеет шестилетний курс, он закончил ее в марте 1911 года. [稚舎史:299](эта дата указывается и в статье далее). Средняя ступень имела пятилетний курс, то есть он должен был закончить ее в марте 1916 года, а январь 1913-го таким образом приходится на конец третьего года обучения там.
(обратно)494
Отакэ Хирокити (1890–1958) — журналист, издатель, исследователь Советского Союза.
(обратно)495
В отечественной литературе именуется «Съезд трудящихся Приморья и Приамурья», проходил 4–5 апреля 1920 года в городе Никольск-Уссурийский.
(обратно)496
Позже переименовано в ДальТА.
(обратно)497
Официальный термин, применявшийся японцами к противникам японского правления в Корее.
(обратно)498
Юаса Есико — русовед, переводчица русской и советской литературы. Жила в СССР с 1927 по 1930 год вместе с писательницей Миямото Юрико.
(обратно)499
Цит. по А. Солженицыну.
(обратно)500
В представленном переводе это место сокращено: «Встретил где-нибудь девку, наметил — будет твоя, никуда не денется. Мужа ее убрать ничего не составляет».
(обратно)501
В переводе здесь и далее — «синей фуражкой», как указано выше.
(обратно)502
Последнее предложение отсутствует в цитируемом оригинале и, возможно, добавлено переводчиком либо переводилось с другой редакции.
(обратно)503
Лев Исаевич Славин (1896–1984) — советский писатель, драматург.
(обратно)504
Овадий Герцович Савич (1896–1967) — советский прозаик, переводчик.
(обратно)505
Анна Александровна Караваева (1893–1979) — советская писательница, представитель социалистического реализма.
(обратно)506
Александр Михайлович Орлов (настоящее имя — Лейб Лазаревич Фельдбин; 1895–1973) — сотрудник НКВД, бежавший в США в 1938 году.
(обратно)507
Здесь, видимо, имеется в виду русский перевод книги, вышедший в 1983 году. Первоначально книга вышла на английском («The Secret History of Stalin's Crimes») в 1953 году.
(обратно)508
Изначально — экономический отдел ИНО ОГПУ.
(обратно)509
Цит. по А. Орлову.
(обратно)510
Это странная ремарка с учетом того, что в год ареста (1937-й) он был женат на М. Цын, а после выхода на свободу оказалось, что она замужем вторично.
(обратно)511
Цит. по А. Солженицыну.
(обратно)512
«Акаруй еру курай хиру» (изд. Бондзинся, 1974. Перевод Танака Хадзимэ).
(обратно)513
Это сообщение отвергает предположение, что он отбывал срок во внутренней тюрьме на Лубянке и в Лефортове.
(обратно)514
«Сэппуку-сита камбо-ва икитэиру». Название перевода приведено неточно. Пропущен суффикс множественности «-тати», перевод Такаги Хидэто вышел в 1952 году как «Сэппуку-сита камботати-ва икитэиру». В 1976 году вышел перевод Хасэгава Ари под тем же названием.
(обратно)515
Это утверждение противоречит информации о том, что он был освобожден 29 декабря 1945 года, потому что Берлинская операция началась 16 апреля 1945 года.
(обратно)516
Носака Сандзо (1892–1993) — деятель КПЯ, КПК, КП Англии и Коминтерна. Во время пребывания в Москве и Китае использовал псевдоним Окано Сусуму. Жена — Носака Рё.
(обратно)517
Хидзиката Ёси (1898–1959) — драматург, театральный режиссер. Посетил СССР в 1933 году как представитель Союза пролетарских драматургов Японии и остался до 1937 года, когда его выслали из страны.
(обратно)518
Здесь делается не совсем верный вывод. Было бы нелогично отправлять изъятую книгу в открытую библиотеку, где ее мог бы увидеть сам адресат — P. Н. Ким. Изъятые книги распределялись по спецхранам с ограниченным доступом.
(обратно)519
Главное мероприятие проводилось 8 ноября 1958 года, но различные приуроченные мероприятия проходили весь ноябрь.
(обратно)520
То есть 1911 год.
(обратно)521
Абэ Кобо (1924–1993) — писатель, драматург. Окончил медицинский факультет Токийского университета.
(обратно)522
Кабаяки — зажаренный на вертеле угорь в соусе.
(обратно)
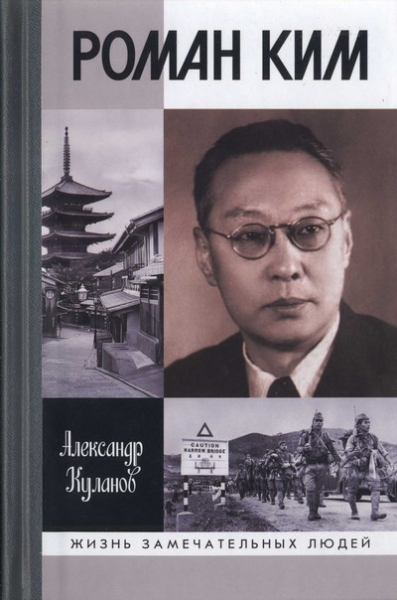
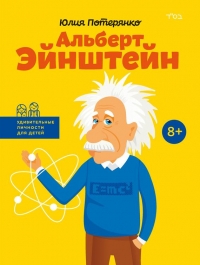


![Горесть неизреченная [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/529201/primary-medium.jpg)

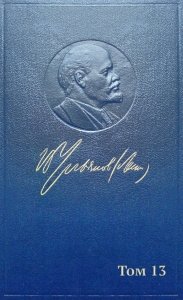
Комментарии к книге «Роман Ким », Александр Евгеньевич Куланов
Всего 0 комментариев