Скажи им, мама, пусть помнят...
От автора
Эта книга не является подробной летописью боевого пути моего поколения, а представляет собой лишь отдельные фрагменты, которые в той или иной степени отражают ход нашей борьбы. Я не пытался рассказать обо всем, а стремился показать то, что, на мой взгляд, являлось самым главным.
ПРОЛОГ
Я стоял на вершине Братан, которая помнила поступь Левского[1], и не мог оторвать глаз от зеленых волн, перекатывавшихся по пологим склонам альпийских лугов Среднегорья и отражавшихся в гладкой поверхности реки Марицы. Воздух чистый, а небо синее-синее и безмятежное. Из оврагов и ущелий веяло покоем и умиротворенностью. Стадо, мирно пасущееся возле Розовца и Зелениково, только усиливало это впечатление.
Ко мне подошел народный артист СССР Николай Дмитриевич Мордвинов. В тот день на этой исторической вершине закладывался фундамент музея-памятника. Я был взволнован, видимо, не меньше меня волновался и Николай Дмитриевич.
— Расскажи мне, дорогой Гено, о партизанской борьбе в этом районе, о вашем народе! — попросил он.
Я показал Николаю Дмитриевичу на буковые деревья, над которыми плавно парил орел.
— Эх, почему орлы не умеют говорить?!
«Я расскажу вам, Николай Дмитриевич, обо всем расскажу. Расскажу о черных платках, которые носят наши матери, о могилах Штокмана, Сутова, Томы, Бойчо, Радко, Миладина, о наших погибших боевых друзьях. Их много, Николай Дмитриевич, и едва ли я смогу рассказать о каждом в отдельности. Каждая пядь болгарской земли обагрена кровью, на каждом холме и каждой возвышенности похоронен солдат. Не перечесть братских могил и черных платков…
Я к тебе возвращаюсь, моя молодость, отшумевшая, как буря, на этих вершинах, на каменистых дорогах вдоль Марицы и на булыжных бульварах Пловдива…»
И я начал свой рассказ о боевом пути нашего партизанского отряда, и воспоминания перенесли меня в далекое детство…
Вой наш дом, вон там, у подножия Средна-Горы, недалеко от маленькой пенистой речушки Гюлдере. Я вижу себя в коротеньких, сшитых из грубого сукна штанишках и в пестрой домотканой рубашке.
Мы жили на краю села, у самой реки. Весной, когда расцветали розы и начинали с шумом вертеться маховые колеса розоварни, речка Гюлдере повсюду разносила чудный аромат роз. Наш дом, утопавший в зелени и розах, первым встречал солнце, которое появлялось большим медным шаром откуда-то из-за холма, прозванного Глубокой могилой.
Мне всегда казалось, что прекраснее и дружнее нашего квартала не было и быть не может. Здесь жили люди бедные, измученные невзгодами, но, несмотря на это, сохранившие веселый нрав.
Дружными росли и мы, мальчишки. Мест для детских игр хватало. Целыми днями мы носились по полям вдоль реки, ловили рыбу или разоряли птичьи гнезда. Когда мы возвращались, весь наш квартал переполнялся криками. Главарем мальчишек был Паун, сын бедняка дяди Евтима. Высокий, тощий, с крупным, всегда улыбающимся лицом, Паун верховодил в играх и проказах. Вот и сейчас вижу, как он собирается в школу и еще со двора кричит:
— Пошли, скоро звонок!
Все мальчишки, как по команде, вылетают пулей из своих домов и собираются перед крыльцом дяди Евтима…
Наша дорога в школу петляла вдоль реки. Мы не смели пройти через центр села, где жили главным образом богачи, такой порядок был установлен еще нашими дедами. Мы очень дорожили старым деревянным зданием начальной школы, где некогда Васил Левский призывал жителей села к борьбе против турецкого ига. Мой дед, один из тех, кто знал Левского, был членом революционного комитета. Я всегда чувствовал себя счастливым оттого, что ношу имя деда и что мой жизненный путь начался здесь, в Брезово. Сколько мыслей, сколько светлых воспоминаний связывает меня с этим зданием, с классной комнатой и нашей ватагой под предводительством Пауна! И всегда, когда я вспоминаю дни своего детства, ощущаю тепло материнских рук.
Мама считалась одной из самых лучших хозяек в селе. Ее род в прошлом был зажиточным. Аккуратная во всем и очень опрятная, мама сгорала со стыда, когда видела нас оборванными и перепачканными в грязи. Когда мама посылала нас в село за покупками, то целый час давала указания, придирчиво осматривала то спереди, то сзади и всегда находила, к чему придраться.
Отца на селе уважали. Он был членом Земледельческого союза, интересовался политикой, часто осведомлял соседей о текущих событиях, читал им только что полученные газеты. Будучи грамотным человеком, отец, однако, отказался отправить меня на учебу в город, несмотря на то, что я считался хорошим учеником. Домашний совет, в котором главную роль играла мама, твердо решил, что мне нет смысла продолжать учебу.
— Ремесленники живут куда лучше, чем ученые! — заявила мама. — Не книга, а игла может прокормить нашего сына!
— Ну-ка собирайся, Генко! — сказал однажды отец. — Завтра отправимся в город. Я нашел хорошего мастера — портного, все уже уладил, будешь обучаться ремеслу. Через несколько лет станешь подмастерьем, а за это время я подсоберу деньжат, и мы откроем для тебя мастерскую. В нашем селе нужен хороший портной.
У мастера Божко из нашего села я уже научился держать в руках иглу, и это-то помогло отцу определить мое будущее. Он и не подозревал, что совсем другой огонь разгорится в моем сердце и совсем иной будет моя судьба.
Рано утром, когда младшие сестренка и братишка еще спали, меня разбудили, чтобы отправиться в путь. Отец готовил повозку, а мама собирала мои пожитки: домотканое одеяло, подушку и еще кое-какую мелочь, а я в это время обежал двор, дом, сад и подошел к повозке. Из моих глаз невольно закапали слезы. Наш пес вертелся возле меня, поджимал хвост и подвывал, как бы сожалея, что я покидаю домашний очаг.
— Будь же осторожным, сынок! — наказывала мама. — Учись и слушай, что скажет мастер. Смотри не связывайся в городе с разными бездельниками. И пиши, как идут твои занятия, сынок!
Отец стегнул лошадей, и повозка затарахтела по узкой улочке.
Тетя Иваница, наша соседка, расплескала перед повозкой воду (такой обычай — чтобы мне повезло в ремесле) и дала на дорогу несколько пригоршней груш и слив.
— До свидания, Брезово! — попрощался я с селом.
— Доброго пути, сынок! — пригорюнилась мама. — Чтобы ты вернулся живым и здоровым и стал большим мастером!
В последний раз я оглянулся назад и мысленно простился с беззаботным детством, школьными друзьями, со всем кварталом, с медным шаром брезовского солнца.
Мы перебрались вброд через Гюлдере и выехали возле Айтепе на центральную дорогу, ведущую в город. Здесь я простился и с высоким холмом, куда каждый год 24 мая мы приходили собирать весенние цветы для солунских братьев[2]. Вспомнился и клуб с библиотекой-читальней и заведующий этим клубом дядя Малин, щедро раздававший нам запрещенные книги и во время наших долгих бесед беспощадно ругавший фашизм; подумал о Георгии Дойнове, первым приобщившим меня к работе в рабочем молодежном союзе.
Отец подстегнул лошадей, и они понеслись рысцой по каменистой дороге…
И сейчас, когда Николай Дмитриевич пожелал услышать повесть о нашем партизанском отряде, я явственно вижу повозку, которая увозила меня в неведомое…
Сегодня торжественный день.
Скоро на этой исторической вершине мы заложим фундамент музея-памятника героям.
Народ уже собрался. По радио сообщили о начале торжества. Солнце, словно лавровый венок, опускалось на вершину Братан. Я видел сотни глаз и дорогие мне лица.
Вот сестра Сутова, партизана из Розовца. Ее большие глаза грустно смотрят на меня, как будто спрашивают: «Где вы оставили нашего Митко?»
Вот Голубь — один из самых смелых партизан бригады. Он идет мне навстречу и, немного заикаясь, говорит:
— Ватагин, дед Георгий из Свежена, помнишь его, нашего помощника, хочет тебя видеть.
Мы подходим к деду Георгию, который достает бутылку сливовой водки и предлагает выпить в память о погибших.
Приехал и Гочо Грозев, один из руководителей нашей партии. Я смотрю, годы не изменили его. Глаза Гочо Грозева горят юношеской дерзостью, с которой он когда-то водил нас в бой. Возле него — Дыбов, Сечко, Красин, Боцман, Стенька — наши боевые друзья.
Кто-то предложил до начала торжества сфотографироваться с родными погибших товарищей.
Бывшие партизаны встали в одну шеренгу с женщинами в черных платках. Глаза матерей полны слез! Ох эти глаза — глаза наших партизанских матерей — они никогда уже не будут сухими!
Мне предоставили слово. Я председатель инициативного комитета и должен открыть торжество.
Мысленно я пытаюсь найти нужные слова, восстановить в памяти имена погибших товарищей. Затем подхожу к тому месту, где будет стоять памятник, и зачитываю:
— «Здесь, на этом месте, по инициативе группы товарищей будет воздвигнут музей-памятник павшим в этом краю в борьбе против фашизма, чтобы никогда не забывали их имена и чтобы будущие поколения помнили, что здесь, в горах, пролили они кровь во имя освобождения этого народа!»
Откуда-то, как будто из-под земли, донесся голос:
— Товарищи, здесь, на этом месте, мы воздвигнем памятник, и пусть многие годы он будет рассказывать грядущим поколениям о героической борьбе нашего народа против фашизма. Я вижу, как они будут преклонять колени перед могилами героев и украшать венками и букетами гордую вершину Братан!
Началась перекличка:
— Штокман.
— Здесь! — ответила толпа, и этот ответ эхом прозвучал в горах.
— Морозов.
— Здесь!
— Сутов.
— Здесь!
— Бойчо.
— Здесь!
— Тома.
— Здесь!
— Йонко.
— Здесь!
— Чапаев.
— Здесь!..
Десятки имен… И при упоминании каждого из них вздрагивали и заливались слезами женщины в черных платках.
— Все они здесь! — дружно ответила толпа и опустилась на колени:
«Прощайте, братья, вы до конца и с честью исполнили свой благородный долг…» — произнесли они священные для них слова.
Зашумели леса на вершине Братан. Народ, преклонив колени, пел песни борцов, песни партизан, а ветер, подхватив эти звуки, разнес их по всему Среднегорью.
Ко мне подошел Николай Дмитриевич Мордвинов, по-братски обнял и сказал:
— Болгарский народ бессмертен! Преклоняюсь перед ним!
НА ПЛОВДИВСКИХ БУЛЬВАРАХ
Если меня спросят:
— Где хочешь провести свою старость?
— На пловдивских бульварах, — отвечу я, — там, где прошла молодость…
НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Меня разбудило солнце. Оно быстро согрело лицо, и по теплу солнечных лучей я догадался, что оно уже поднялось высоко над вербами. Я открыл глаза, яркий свет ослепил меня, и мне невольно пришлось зажмуриться. Не хотелось вставать. Я так хорошо себя чувствовал, лежа на спине и вдыхая влажные испарения, поднимавшиеся от земли под лучами утреннего солнца.
Остальные еще спали. Бабчо, растянувшись во весь свой богатырский рост, лежал спиной ко мне и пыхтел, как паровоз. Кольо свернулся клубком с другой стороны и ни разу даже не шелохнулся. Стоянчо и Митак расположились возле Кольо, укрывшись одеялом с головой, и только время от времени, похрапывая, стягивали его друг с друга и снова погружались в непробудный сон.
Вчера мы очень устали. Канал, который мы копали километрах в десяти от Пловдива, должен был связать реки Рибницу и Марицу. Участок этот оказался довольно трудным. Влажная и глинистая земля прилипала к лопатам. Они становились тяжелыми, никак не вонзались и грунт, и поэтому земляные работы продвигались чрезвычайно медленно.
Я находился на нелегальном положении уже целый год, и мне под чужим именем удавалось скрываться здесь летом, среди землекопов. Мои товарищи — Бабчо, Кольо, Стоянчо и Митак — были ремсисты[3]. Мы с ними работали артелью, и поэтому я не опасался, что меня выдадут. Днем я прятал свои два пистолета в кустах, недалеко от того места, где мы работали. Иногда появлялись полицейские и какие-то подозрительные личности, но я был всегда начеку. В такие моменты я старался держаться поближе к кустам, где хранил оружие. Ночью мы спали под одним одеялом, принесенным Кольо, хорошим домашним одеялом с крупными красными узорами. Наверно, мать Кольо, когда ткала это одеяло, думала подарить его сыну на свадьбу.
…Я взглянул на часы. У нас оставалось немного времени. Я отодвинул локоть Бабчо и лег на спину. Я ждал, что вот-вот появится дядя Петко — официальный руководитель нашей группы. Этот старый рабочий с табачной фабрики в Пловдиве подписывал нам наряды, раздавал деньги, вечером уходил в город к своей семье, а рано утром возвращался и всегда приносил нам чего-нибудь поесть, чаще всего брынзу, колбасу и помидоры. А когда он приносил мясо, Митак готовил нам отменный суп в старой кастрюле, которую он где-то стянул. С дядей Петко, тихим, добрым человеком, мы все ладили. Он любил нас и ценил наш труд.
Я услышал шум, но продолжал лежать неподвижно. Только рука быстро скользнула под свернутое вместо подушки пальто и нащупала холодную рукоятку пистолета. Я осторожно приподнялся. Недалеко от нас, на рисовом поле, расхаживал аист и с шумом помахивал крыльями. Никого из посторонних не было видно.
— Вставай! — громко крикнул я и сдернул одеяло с моих друзей.
Сонные, они смотрели на меня с таким изумлением, словно недоумевали, как они здесь очутились.
— Эх, еще день прожили! — первым отозвался Бабчо.
Митак перешагнул через Стоянчо, выпрямился и расправил плечи. Гибкий, как кошка, он потянулся так, что даже суставы хрустнули:
— Да что вы на меня уставились, точно никогда не видели? Ну-ка пошли умываться! Шагом марш!
Мы все вскочили и отправились к реке. От росы трава переливалась серебристым блеском…
Так проходили дни — медленно и мучительно. Днем — изнурительная работа, а вечером, после захода солнца, спрятав инструменты и переодевшись, мы отправлялись разными дорогами в город — кто на заседание, кто на очередную встречу. Почти каждую ночь мы меняли место нашего ночлега. Чаще всего располагались в поле у какой-нибудь межи, как можно ближе к месту работы. К такой тактике нам приходилось прибегать для того, чтобы в случае провала не оказаться застигнутыми врасплох. Другими словами, мы представляли собой кочующий лагерь.
В тот вечер мне предстояло встретиться в квартале Каршиак с товарищем из районного комитета. Мы договорились увидеться на окраине города в девять часов вечера. После работы мы со Стоянчо отправились в условленное место: поскольку я находился на нелегальном положении, то он, вооруженный, сопровождал меня.
Стоянчо работал поденно на фабрике и одновременно учился в Пловдивской гимназии. Он отличался смелостью, сообразительностью, но был несколько несдержан.
Мы медленно шли вдоль берега Марицы и беседовали. Над нами, над стройными тополями высоко в небе мерцали звезды. Слева откуда-то издалека до нас доносился шум города, заглушая монотонную песню кузнечиков. Река устало и плавно несла свои воды нам навстречу.
Дойдя до квартала Каршиак, мы остановились в условленном месте. Присели на траву. От Марицы тянуло приятной прохладой. Уже почти совсем стемнело.
— Эх, Павел[4], нам бы только их свергнуть! — ударил кулаком по земле Стоянчо.
— Кого? — спросил я.
— Как это кого? Фашистов! И переделать жизнь так, как нам захочется. А то ведь разве не видишь, из сил выбиваемся из-за куска хлеба.
— Скоро мы сведем счеты с ними. Нас много, и мы боремся за правое дело.
— Павел, как ты думаешь, после победы действительно будет такая жизнь, как мы себе сейчас ее представляем?
— Будет ли она такой, не знаю, но она будет прекрасной, быть может, еще более прекрасной, чем мы мечтаем!
Стоянчо вздохнул. Я ощутил, как сильно в нем желание дожить до победы, чтобы увидеть новую жизнь, и разделял с ним эти чувства.
Прошло минут пятнадцать — двадцать, но никто не шел. Неожиданно, как из-под земли, перед нами возникли двое юношей в гимназических фуражках.
— Кто вы такие и что здесь делаете? — обратился к нам один из них.
— Мы из Пловдива. Что вас еще интересует? — отозвался я.
— Предъявите свои удостоверения личности, — важно приказал другой.
Стоянчо вскочил:
— Послушайте! Что вы воображаете! Неужели мы станем вам показывать свои удостоверения?! Да кто вы такие?
В самом деле, совсем мальчишки, а такие наглецы! Я понял по их важным физиономиям, что они из тех легионеров[5], которых полиция использовала при проведении блокад и других операций. Поэтому их вооружали. Они вели себя весьма дерзко, днем и ночью ходили группами, нападали на наших ребят-ремсистов и избивали их.
Во мне сразу же пробудилась ненависть к этим фашиствующим молодчикам, я вскочил. Сколько полицейских агентов и всякого другого сброда мне удавалось перехитрить, так неужели я теперь с этими самозванцами не справлюсь! Но не следовало предпринимать поспешных действий. Я вовремя овладел собой и толкнул локтем Стоянчо, которого вот-вот могло покинуть самообладание.
— Оставь их! Послушайте, — сказал я, — мы живем в двух шагах отсюда, зачем же вы делаете вид, что не узнаете нас. Ну что вы к нам пристали?
— Прежде всего предъявите свои документы, а там посмотрим, — огрызнулся один из них и подошел к нам, пытаясь рассмотреть наши лица.
— Ну тогда подойди и возьми их сам, если посмеешь, — процедил сквозь зубы Стоянчо.
— А ну-ка, ребята, шагайте отсюда! Вас никто не трогает, ну и идите своей дорогой, оставьте нас в покое, — миролюбиво заговорил я, чтобы предотвратить стычку.
Те двое помедлили еще немного, отошли в сторонку, посовещались между собой и ушли.
Я достал сигареты и предложил Стоянчо.
— Спасибо, не курю.
Я начал тревожиться. Прошло почти полчаса, а товарищ, с которым мне предстояло встретиться, все не появлялся. Что могло случиться? Да и те легионеры в фуражках не выходили из головы. Они могли вернуться и сорвать нам встречу с товарищем из районного комитета. Я поделился своими опасениями со Стоянчо:
— Нужно соблюдать осторожность. Эти молокососы могут принести нам массу неприятностей. Кто знает, что это за типы. Пожалуй, нам лучшее уйти отсюда.
— И мне так кажется, — повернулся ко мне Стоянчо, нервно сжимая пальцы.
Но уйти мы не успели. Предчувствия нас не обманули. Вскоре из темноты появилось несколько человек, быстро приближавшихся к нам. Когда они подошли, мы насчитали человек десять. Впереди шагали два знакомых нам легионера и оживленно размахивали руками. Одни из них — высокий, сутулый, с узкими плечами, другой — низкорослый, коренастый, с выпяченной грудью. Их торопливая речь и резкие жесты подсказывали, что они замышляют что-то недоброе. Подойдя к нам, они остановились. Вперед вышел крупный, широкоплечий парень и вызывающе встал перед нами, не вынимая рук из карманов.
— Вы что за птицы? — пробурчал он, глядя из-под нависших на лоб волос.
Он произнес эти слова начальственным тоном. В них улавливалось непомерно раздутое высокомерие. Вероятно, он был уверен, что является хозяином положения. Бросалось в глаза, что именно он здесь главный, так как все то и дело посматривали на него и с нетерпением ждали, что же произойдет. Очевидно, они предполагали, что их шеф вот-вот расквасит нам носы. Я невольно улыбнулся. Они нас не боялись. Наш внешний вид не производил внушительного впечатления: темные брюки, простые рубашки, потертые пиджаки, галстуков мы не носили — одним словом, своей одеждой мы не могли похвастаться. Я был худощавым юношей среднего роста и издали едва ли выглядел солидным. Стоянчо производил более внушительное впечатление: высокий, широкоплечий, здоровый, с мускулистыми руками и кудрявыми русыми волосами. Он вырос на пыльных улицах пловдивских окраин, с малых лет привык к труду, очень рано прошел суровую школу жизни и резко отличался от этих маменькиных сыночков, которые сейчас угрожают нам. Но нас-то было всего двое, и это придавало им смелости.
— А что, может быть, вы язык проглотили? Почему не отвечаете, когда вас спрашивают? — процедил главарь. — Чего шляетесь здесь?
Стоянчо насупился:
— Не тебя ищем! Чего ты пристал к нам?
Вожак подошел и резким движением вынул руки из карманов.
— Сейчас увидим, кого вы ищете. Предъявите свои документы или…
Я тоже подошел к нему. Бросил сигарету. Схватил Стоянчо за локоть.
— Не торопись! — успел шепнуть ему. — Но будь готов!
Следовало держать их на расстоянии. Мне стали понятны их намерения. Они явно думали нас окружить. Я сказал:
— У вас что, нет другого занятия? Ну что вы к нам привязались?
— Мы вам не мешаем. Уж не хочешь ли ты сказать, что этот луг принадлежит твоему отцу?! — не выдержал Стоянчо.
Я локтем толкнул Стоянчо. В его глазах уже вспыхнуло раздражение, а взгляд точно говорил: «Павел, давай вытащим пистолеты, до каких пор будем с ними разглагольствовать?!»
— У тебя слишком длинный язык, мужлан! — Вожак сжал кулаки и добавил: — Я тебе зубы пересчитаю!
Положение действительно становилось опасным. Я знал обычаи этих бездельников. Мне неоднократно приходилось иметь с ними дело, и поэтому я пытался сдержаться, чтобы мирно разойтись, поскольку ни на минуту не забывал, зачем мы сюда пришли. Больше всего я опасался за товарища из районного комитета. Наверняка при нем есть документы, и, если он придет и его схватят, будет совсем плохо.
Группа гимназистов перешла в наступление, пытаясь нас окружить. Я потянул Стоянчо назад. Мы предприняли все, чтобы избежать стычки. Оба мы понимали, что они жаждут нас избить, чтобы этот «подвиг» занести в свой актив.
— Послушайте, ребята, легионеры вы или бранники[6] — это ваше дело. Но смотрите, как бы вам не было плохо!
Мои слова, видимо, задели их. Вожак выругался и замахнулся. И сразу же, как это принято говорить на военном языке, обстановка резко изменилась. Голос Стоянчо прозвучал так неожиданно и властно, что даже я вздрогнул:
— Не шевелитесь, или я из вас решето сделаю!
Выхватив пистолет, Стоянчо направил его на вожака. Я последовал его примеру, держа в другой руке гранату.
Гимназисты оцепенели и смотрели на нас, вытаращив глаза. Вожак как замахнулся, так и остался с поднятой рукой, напоминая статую. Остальные же стояли неподвижно, словно мумии. У одного легионера упали очки, а он и не шевельнулся, не смел даже посмотреть, где они. Я едва удержался от смеха: настолько быстро испарился их воинственный пыл.
— Ну подойдите же поближе, нападайте! Ведь вы за этим пришли? — с издевкой подзадоривал Стоянчо перепуганных «вояк».
— Шевельнетесь — буду стрелять! — хладнокровно отрезал я.
Сняв предохранитель, я кивнул головой разгоряченному Стоянчо. Продолжая целиться в гимназистов, мы, пятясь, начали отходить. Шаг за шагом отдалялись от этой неподвижной группы. Воцарилась мертвая тишина. Никто не посмел проронить ни слова. Отойдя на значительное расстояние, мы спрятали пистолеты, повернулись и быстро зашагали по направлению к городу.
К счастью, товарищ из районного комитета так и не появился. Позже я узнал, что его задержала неотложная организационная работа. Когда мы подходили к старому мосту, раздались свистки полицейских и топот их сапог. Затарахтели моторы мотоциклов — полицейские спешили к поляне. Но мы уже находились вне опасности.
— Черт бы побрал этих гадов! — с облегчением вздохнул Стоянчо. — Дни их сочтены, но они этого так и не хотят понять. Сороки!
Я дружески похлопал его по спине:
— Что ни делается — все к лучшему!
Мы перешли на другой берег реки и затерялись в переулках старого Пловдива.
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В ШИРОКОПОЛОЙ ШЛЯПЕ
В обычные дни в Капане[7] (в прошлом этот квартал заселяли ремесленники) стоял невыносимый шум. Сотни мастеров, подмастерьев и их учеников тяжелыми молотками били по меди и жести. И этот однообразный стук разносился по всему городу. Тесные, запутанные лабиринты улочек, извивавшихся между мастерскими, были всегда полны покупателей — в основном пестрым крестьянским людом.
Именно здесь в один из осенних дней мне назначили встречу с ответственным товарищем из Центрального Комитета РМС. Я пересек квартал Джумая, свернул за крытый рынок и очутился на углу, где находился магазин дяди Аспаряна. С большим волнением я ждал появления товарища из ЦК.
Им оказался Малчик. До этого я с ним никогда но встречался, но узнал сразу, потому что мне сообщили его приметы.
Он был какой-то особенный и отличался от всех других ответственных товарищей: маленького роста, худощавый, сутуловатый, с очень выразительным лицом и огромными, пронизывающими, умными глазами.
Голову его украшала черная мягкая широкополая шляпа. Никто не смог бы угадать профессию этого удивительного человека.
— Здравствуй, товарищ! — сжал мою руку Малчик и окинул меня сверху донизу внимательным взглядом. — Ну, пойдем!
Пошли. Долго кружили по улицам Капана и незаметно оказались на окраине города.
— Ну, рассказывай! Как ты оцениваешь создавшееся положение?
Малчик предложил мне сесть на большой камень, снял шляпу.
— После последнего провала мы постепенно приходим в себя, — начал я. — Мне удалось восстановить некоторые связи. Вчера был у ремсистов из сел Кричим и Голямо-Конаре. Люди надежные, смелые. Такие не подведут.
— Сейчас необходимо соблюдать полное спокойствие и проявлять мудрость, — прервал он, — нужно уметь мастерски уходить от ударов, которые готовит нам враг. Время требует быть еще более осторожными при встречах с молодежью, беречь людей. У тебя есть сведения о новых арестах?
— Вчера арестовали двух ребят из Нова-Махалы, но это крепкие парни, и думаю, что они выдержат. До сих пор ни один наш товарищ, попав в полицию, не стал предателем.
Малчик снова заговорил о законах конспирации и поставил передо мной несколько конкретных задач, связанных с укреплением организаций РМС.
— Если у нас не будет крепкой дисциплины, то не добиться нам успеха, — подытожил он. — Каждый вступивший в союз должен быть готов к борьбе за наше дело и, если понадобится, даже не пожалеть жизни. В РМС не должно быть трусов, ему нужны активные борцы, патриоты.
Время прошло незаметно. Зашло солнце. Вокруг нас легли темные тени. Малчик предложил отправиться на Бунарджик.
Там мы встретились с Морицем, который отвечал за деятельность ремсистов в квартале Мараша. Присели на скамью у подножия холма.
— Осталось мало времени, — начал Малчик, — а нам с вами предстоят важные дела. Наступает годовщина Октябрьской революции. Наш долг отметить эту дату, рассказать людям об ее значении и тем самым поднять боевой дух ремсистов. Это сейчас самое важное для пловдивской организации. — Он пристально посмотрел на меня и добавил: — А этот жалкий червяк — Апостол будет уничтожен. Враг должен знать, что наша организация существует и нас не запугает какой-то один провокатор. Этим вопросом займешься ты!
Затем он повернулся к Морицу:
— Принес книгу?
Мориц достал из внутреннего кармана пиджака книгу в мягкой обложке. Это была «История ВКП(б)». Малчик взял книгу, посмотрел на луну, озарившую все вокруг неверным светом, и продолжил:
— Сейчас мы напишем небольшое обращение, которое прочтут и обсудят во всех ячейках. Писать буду я, а вы постоите на посту.
Приступили к делу. Я и Мориц заняли свои посты. Малчик вынул, насколько я помню, небольшую черную записную книжку и не более чем за час написал статью, в которой пламенно превозносил дело Великого Октября. Могу восстановить на память лишь конец:
«Октябрь призывает нас последовать его примеру. Тот, у кого мужественное сердце, должен встать под красное знамя и бороться за жизнь, достойную человека. Молодежь, поднимайся на борьбу за дело Октябрьской революции! Смерть эксплуататорам!»
Пловдив затих. С холма Бунарджик мы видели почти весь город. В реке Марице отражались огни ночных фонарей, когда Малчик, всматриваясь в даль, сказал:
— А сейчас нам нужно расстаться.
Повернувшись ко мне, он спросил:
— Ты знаешь, где можно переночевать?
— Знаю несколько квартир, но мы пойдем в одно безопасное место.
Мориц ушел, и мы остались вдвоем.
— Эх, брат, посмотри, какой большой город! — воскликнул Малчик. — Сколько домов, а для нас нет ни одного спокойного местечка! В каждом доме много хороших людей, из-за которых мы готовы пойти на смерть, но они наверняка ничего не знают о нас.
И вдруг он начал читать «Молитву» Ботева:
О мой боже, правый боже, Не тот, что на небесах, А тот, что во мне, боже, Во мне, в сердце и в душе.Малчик великолепно читал эти стихи. Он выразительно выговаривал каждое слово, и в этих словах слышалась огромная скорбь и жажда справедливости.
Мы пошли через город. Решили обходить стороной опасные улицы и участки, но на первом же перекрестке нас остановил полицейский. Сразу же сообразив, что к чему, я решил схитрить:
— Этот господин — торговец шелковыми изделиями. Швед по национальности. Прошу…
Малчик прикоснулся к полям своей шляпы и представился. Полицейский козырнул и удалился. Долго после этого мы смеялись и обменивались комплиментами.
Мы оказались в Небеттепе и направились на квартиру Савы. Сава, добрый парень, предоставлял мне свою комнату в полное распоряжение. Мы пересекли дворик и подошли к дверям маленькой комнаты. Малчик остановил меня:
— Подожди! Мне здесь что-то не нравится.
Мы прислушались и убедились, что в доме происходит что-то необычное.
— Ты подожди, — прошептал он, — я посмотрю в окно. Не нужно торопиться!
Тихо и осторожно Малчик подошел к окну. Послушал минуту-другую и вернулся взволнованный.
— Мы не пойдем в этот дом!
Мы обошли старый мост через Марицу и к полуночи нашли безопасную квартиру.
— Там было опасно, — сказал Малчик. — Если бы мы вошли туда, могли попасть в ловушку. Видишь, как важно быть внимательным.
— Вижу, но с опозданием. Сава — наш товарищ, и я не верю, чтобы он нас предал. Эту кашу заварил какой-то подлец.
— Возможно, это и так, — согласился Малчик, — но независимо от этого мы должны быть настоящими конспираторами. Враг хитер и коварен.
На следующий день стало ясно, что Саву арестовали, а его квартиру полицейские превратили в западню: каждого, кто приходил к нему, сразу же арестовывали. Так в руки полиции попали трое наших ребят. Враг нанес нам удар.
Я долго размышлял о случившемся, чувствовал себя виноватым в том, что мог стать причиной гибели Малчика, а он смеялся:
— Не ставь себе этого в вину. Не может так легко пропасть маленький человечек в широкополой шляпе.
СОВЕСТЬ РЕМСИСТА
Маленькая комнатка Васко в Каршиаке заполнилась молодежью. Собрались почти все ремсисты из группы Тошко.
Тошко вышел во двор, несколько раз обошел вокруг дома, осмотрел улицу. Убедившись в том, что поблизости нет подозрительных лиц, вернулся в комнату и сообщил:
— Товарищи, на улице все спокойно, думаю, что можно начинать заседание. Хозяин еще не вернулся, но даже если он и появится, то это не опасно, он неплохой человек.
На заседании предстояло обсудить только один вопрос: поведение Стоянчо.
Стоянчо выполнял ответственные задания и являлся одним из активных ремсистов в городе. Он был портным, жил бедно, как и все подмастерья в квартале Капана: с утра до вечера сидел склонившись над портняжным столом в мастерской. Единственным его развлечением были встречи с товарищами, ужины в небольшом кабачке дяди Гошо или прогулки по берегам Марины и в Каршиаке, где собирались сельские ребята, недавно пришедшие в город. Сейчас нам предстояло обсудить его поведение. Стоянчо обвинялся в том, что злоупотребил доверием организации, растратил ремсистские деньги.
Заседание открыл Васко, предоставив слово Стоянчо.
Стоянчо не решался даже взглянуть нам в глаза. Смущенный и расстроенный, он все время смотрел в землю. Он так и не сказал нам ничего в свое оправдание.
Ему поручили распространить среди подмастерьев в квартале Капана марки на сотню левов, а принес он меньшую сумму. И сейчас бедный подмастерье не мог объяснить, куда делись остальные деньги.
Одни предполагали, что он их пропил, другие — что потратил на девушек.
Стоянчо питался тем, что получал из родного села в дни, когда оттуда кто-нибудь приезжал в город на базар или по делам. Самая большая роскошь, которую он себе позволял, — это фасолевый суп в кабачке дяди Гошо или кусок белого хлеба, купленного в пекарне. То ли ему пришлось заплатить какой-то долг дяде Гошо — содержателю кабачка, то ли он купил себе что-нибудь на базаре, Стоянчо не признавался. Опустив голову, он только твердил:
— Товарищи, судите меня, я виноват! У меня нет этих денег, и все тут! Но должен сказать, что я не вор, что я честный человек. Решайте, как хотите.
Первыми высказали свое осуждение Васко и Тошко. Осудили Стоянчо и другие товарищи. Все сошлись на том, что Стоянчо виноват и должен быть исключен из организации.
Так мы и поступили. Исключили Стоянчо из РМС. Он больше не встречался с нами, да и мы сторонились его. Об этом узнали все наши ребята, и кое-кто даже намекал:
— Смотрите, как бы он не стал провокатором. Что тогда будем делать?
Прошло несколько недель с того дня, как Стоянчо исключили из РМС. Кроме нас, он не имел друзей. Наши ребята из города отворачивались от него. Сторонились его и ремсисты из сел, которым тоже стало известно об его исключении из организации.
Стоянчо и сам стал избегать встреч с ремсистами. Перестал посещать и кабачок дяди Гошо. Куда он ходил, где питался — никто не знал.
Однажды Иисус, секретарь окружного комитета РМС, спросил меня:
— Что стало с парнем, которого вы исключили?
— Мы потеряли его из виду! С тех пор он нигде не показывался.
До этого мы с Иисусом часто встречались на квартире у Стоянчо, проводили заседания, оставались ночевать. Стоянчо знал, что мы находимся на нелегальном положении, и, несмотря на это, предоставлял свою комнатку в наше распоряжение и всегда готов был услужить нам, чем мог.
— Послушай, Моисей[8], ошиблись вы с тем парнем. Стоянчо честный человек. Нужно глубже вникнуть в суть вопроса. Может быть, в данном случае с его стороны не было сознательного злоупотребления деньгами. Давай-ка сходим к нему.
— Я-то согласен с твоим мнением, но так решили товарищи. Однако, если ты предлагаешь, давай сходим. Уверен, что он обрадуется, увидев нас.
Мы застали Стоянчо одного. Он встретил нас, не скрывая радости, но все время смотрел в землю. Мы чувствовали, что он страдает, но не находит в себе сил признаться во всем. Всю ночь мы обсуждали события в стране, говорили о политике, но вопроса о его исключении не касались.
Через несколько дней мы снова решили его навестить, но хозяйка вышла к нам во двор озадаченная:
— Вот уже больше недели, как он не показывался. Даже не сказал, куда уходит. Может, он отправился к себе в село? Где он, даже его сосед по квартире не знает.
Мы расспросили мастера, у которого он работал, зашли в кабачок дяди Гошо — никаких следов. Некоторые предупреждали нас, как бы он не выдал всю организацию, другие уверяли в том, что он стал агентом полиции.
Прошло еще несколько недель.
Все стало ясно, когда однажды появился Стоянчо, разодетый, как барон: в элегантном костюме, мягкой шляпе, новых ботинках и с большим портфелем в руках. Откуда только взялся этот новоиспеченный буржуй? Кое-кто даже принял его за полицейского и перепугался. Но правда заключалась совсем в другом.
После продолжительного размышления о своем поступке Стоянчо убедился в том, что не в состоянии доказать свою невиновность. И тогда он решил любой ценой раздобыть деньги и вернуть организации во много раз большую сумму.
И он отправился в Софию. Целыми днями бродил по улицам, плутая по большому городу, в который попал впервые, и однажды ночью через подвал забрался в солидный магазин одежды и обуви и оказался перед железным сейфом. Как ни старался Стоянчо, но открыть сейф не мог. Так продолжалось час или два, пока дверка сейфа вдруг не открылась. Посмотрел Стоянчо и удивился. Сейф оказался набитым банкнотами! Не теряя времени, он взял с полки портфель и доверху наполнил его деньгами, затем выбрал себе элегантный костюм, обувь и вышел. Полицейский, стоявший на противоположном тротуаре, отдал ему честь. Стоянчо предупредил, чтобы тот лучше сторожил магазин, обещав ему вознаграждение. На следующий день Стоянчо побывал в трех ресторанах, так как ему казалось неудобным наедаться, как того хотелось, в одном, и вечером вернулся в Пловдив.
— Товарищи, судите меня, я совершил кражу. За костюм и обувь я не заплатил денег, за шляпу, железнодорожный билет и рестораны заплатил… — Он показал листок бумаги, на котором записал сумму расходов. — Остальные сто шестьдесят тысяч левов передаю организации.
Все мы встали и поздравили Стоянчо с удачно проведенной операцией.
— Товарищи, — заявил Иисус, — отныне Стоянчо снова член РМС. Сто шестьдесят тысяч левов — это сто шестьдесят тысяч гранат, брошенных в нашего смертельного врага — фашизм.
От волнения Стоянчо выронил из рук свою мягкую шляпу и улыбнулся.
ПРЕДАТЕЛЯМ ПОЩАДЫ НЕТ!
Вторая мировая война уже давно началась. Немцы топтали священную советскую землю, и человечество металось в тревоге: кто победит? Радио и печать превозносили стратегию Гитлера. Наступило страшное время не только для советского народа, но и для нас. Неужели победят темные силы? При каждой встрече со знакомыми мне задавали одни и те же вопросы: что происходит? Победят ли наши? Выстоит ли Красная Армия?
Первые успехи немцев огорчили ремсистов. Еще более тяжелым оказалось то, что радиостанции Москвы передавали о захвате фашистами ряда советских городов.
Пловдив задыхался от духоты. Люди двигались медленно, смотрели друг на друга с тревогой.
Смолкли песни молодежи, ремсисты стали реже встречаться на явках.
Окружному комитету РМС приходилось работать более оперативно. Партия призывала к активной вооруженной борьбе. Днем и ночью мы собирали оружие, готовясь к большому поединку. И вот в эти бурные дни из Софии прибыл ответственный товарищ, возглавивший окружной комитет РМС и объединивший наши разрозненные силы. Это был Малчик — Адалберт Антонов. Пловдив никогда не забудет этого исключительно скромного и преданного партии и народу человека, человека несгибаемого духа и сильной воли.
Для нас наступили тяжелые дни.
Убийство секретаря окружного комитета партии Кочо Цветарова потрясло всех нас. Это убийство и стало началом поединка.
Арестовали и Апостола Петрунова — члена окружного комитета РМС. При каких обстоятельствах его арестовали, нам не удалось выяснить, мы только узнали, что он находится в полиции. Следствие длилось долго. Апостол, находясь под арестом, встречался со своими близкими почти каждый день. Через них передавал нам боевые приветы, и нам в голову не приходило сомневаться в нем.
Разве могли мы допустить, что член окружного комитета может стать предателем? Какими наивными мы были тогда! Никто не догадался предупредить нас, что необходимо проявлять осторожность. А Апостол знал все тайны окружного комитета, все руководство отдельных районов, особенно в гимназиях, за которые лично нес ответственность.
Апостол был хилым человечишкой с колючими и хитрыми глазами, с большим приплюснутым носом, который, словно крючок, приподнимал верхнюю губу. И чем более мелко и незначительно он проявлял себя как человек, тем больше старался выглядеть важным и всезнающим.
Однажды Тошко сказал мне:
— Этот Апостол мне не нравится. Столько времени его держат в полиции и не судят. Уж не замышляют ли они что-нибудь?
Тошко оказался прав. Я придерживался того же мнения, но ни с кем не смел поделиться своими подозрениями. Боялся даже подумать, что Апостол может быть предателем. Дни проходили в тревожном ожидании. Предаст ли нас Апостол или выдержит? Нужно было срочно принимать предупредительные меры.
Мы поняли грозящую нам опасность, но поздно. Едва переступив порог полицейского участка, он, оказывается, стал предателем, изъявив готовность служить врагу. Составил полный список нашего актива, сообщил полиции все, что знал. И в то же самое время, чтобы ввести нас в заблуждение, враг распространял слухи о «геройстве» Апостола, публикуя его письма, в которых тот призывал нас продолжать борьбу. Нам трудно было ориентироваться в создавшейся обстановке и довольно сложно перестроить всю систему наших нелегальных связей в Пловдиве, где мы встречались с молодежью и готовились к грядущей революции.
В оценке поведения Апостола заблуждались даже и те, кому полагалось быть более бдительным.
Молодость, молодость, до чего же ты иногда доверчива!..
На улице Ратника, 15, в квартале Каршиак, в доме дяди Генчо, нас проживало несколько молодых ребят. В этом доме, который позже мы прозвали бункером, жил и Тошко с сестренкой и младшим братом Петром. Дядя Генчо знал обо всем и почти ежедневно информировал нас о новостях с фронтов, потому что регулярно слушал по радио Москву и читал газету «Зора». Бабушка Янка ухаживала за нами, как родная мать, и только время от времени приговаривала:
— Эй, мальчики, смотрите, чтобы из-за вас не подожгли мой дом.!
— Тошо, что это за железяки? Ну-ка спрячь их получше, а то за это могут отправить на виселицу.
Нам ничего не удавалось скрыть от доброй бабушки Янки. Она догадалась и о наших подозрениях в отношении Апостола и беспокоилась вместе с нами. Больше всех переживал Малчик.
Однажды он дал мне денег и приказал заниматься только организационными делами, перестройкой системы связи с организациями.
— Наступают трудные времена, Моисей! Спать не могу из-за Апостола. Нужно соблюдать осторожность.
Но беда пришла.
Холодным сентябрьским утром Петр, младший брат Тошко, разбудил меня. Его глаза были полны слез:
— Арестовали брата, вытащили его прямо из постели. Что делать? Одевайся и бежим!
Мы оделись, спрятали документы.
— Давай вырвем Тошко из рук полиции. Они, должно быть, сейчас где-то около старого моста через Марицу.
— Давай, но как? Голыми руками ничего не сделаешь.
За несколько дней до этого у нас забрали оружие для операции в концлагере «Гонда вода», где готовилось освобождение интернированных.
Бабушка Янка с задумчивым видом сидела во дворе и проклинала полицейских:
— Разрази их господь! Мерзавцы, арестовали такого хорошего парня. И чего им надо от ребят? Работают, не пьют, не курят.
Я не вернулся больше в дом дяди Генчо. Ходил по улицам города, пытаясь как можно скорее узнать, что полиции удалось сделать за эту ночь.
Зловещая ночь! Она смотрела на меня предательскими глазами Апостола, и я отчетливо представлял себе, как он старательно выводит на белом листе бумаги имена, видел его посиневший нос, его глаза, темные и ледяные.
Арестовали всех товарищей из районных и окружного комитетов. Полиции удалось обезглавить всю организацию РМС.
Каким-то чудом спаслись от ареста только мы с Малчиком и Кирилл Милчев. Нам удалось скрыться, но нас могли схватить в любой момент — мы не располагали явками, нам приходилось жить где попало.
Организации был нанесен тяжелый удар! Кое-кто испугался и начал нас избегать.
Начался мучительный период для РМС. Приходилось днем и ночью носиться по всему городу, чтобы ликвидировать последствия нанесенного нам удара и продолжать борьбу.
Малчик в трудные минуты сохранил твердость и силу духа. В объединении пловдивской молодежи он сыграл видную роль, и нынешняя молодежь должна воздвигнуть ему памятник на Холме освободителей, чтобы будущие поколения смотрели и преклонялись перед его немеркнущей героической славой.
Арестованных товарищей жестоко истязали, но они не стали предателями. Они мужественно вели себя на процессе и встретили приговор фашистских судей как герои.
Мне пришлось полностью перейти на нелегальное положение, потому что товарищи, находившиеся в тюрьме, сумели предупредить, что меня разыскивает полиция. Позже мне вынесли заочный приговор.
В день процесса мы себе места не находили. Волновались за судьбу товарищей. Я даже осмелел настолько, что, когда их вели на суд, крикнул:
— Выше голову, друзья!
Закованные в цепи и наручники, арестованные направлялись к старому мосту через Марицу. Они двигались, как каторжники, тяжело ступая по вымощенной булыжником улице.
Я попрощался с дядей Неделчо, но он все-таки увязался за мной. Мне стало ясно, что он решил последовать моему примеру.
— Вернись, Неделчо, твоя мастерская нам нужна!
— А я разве не нужен?
Задумавшись и ничего не замечая вокруг, я шел через площадь: меня тревожила судьба товарищей. Неожиданно откуда-то показались полицейские. Я стал всматриваться в их лица и в одном из них узнал знакомого — Бочку из моторизованной полиции. Нужно быстро принимать решение. И я пошел вперед. Иду навстречу Бочке, держа в кармане взведенный пистолет. Он меня тоже узнал и вздрогнул. Осмотрелся вокруг, а я иду прямо на него и молчу. Молчит и он.
В это время из толпы раздался голос Неделчо:
— Мы с вами, товарищи! Смерть предателю!
Полицейский повернул голову на крик, и мы разминулись.
Я вышел на площадь перед старым мостом. Смотрю, она полна народу. Одни стоят молча, совершенно растерянные, другие же громко возмущаются картиной кровавых «подвигов» полиции. Несколько десятков молодых людей, цепями прикованные друг к другу, как будто они разбойники, медленно двигались посередине площади. Они были окружены плотным кольцом конвоиров.
Первыми шли Брайко, Фанте и Тошко, с закованными ногами и руками. Ветер развевал чуб Брайко, Фанте слегка сгорбился под тяжестью цепей и едва держался на ногах. Тошко скалил белоснежные зубы, словно шел на свадьбу.
Мне всех их стало до боли жаль, в глазах потемнело, я сжал пистолет и направился навстречу синим фуражкам.
В это мгновение я встретился взглядом с Брайко.
«Беги, уходи отсюда! Это безумие!» — сказал мне его взгляд.
Я отошел в сторону и отправился искать Апостола, ликвидировать которого мне поручил Малчик. Но Апостол всячески избегал меня, и когда ему приходилось выходить на улицу, то он неизменно появлялся в сопровождении агентов, бдительно охранявших его.
Но все-таки ему не удалось избежать пули. Ремсист Стоянчо отомстил за своих друзей.
Предателям пощады нет!
ТЕТЯ ТИНКА
Я осторожно пробирался по сонным пловдивским улицам, покрытым только что выпавшим снегом. Заседание затянулось допоздна. Я чувствовал себя усталым и ослабевшим, но холод заставлял поторапливаться. Вот уже минут десять, как за мной брела какая-то тощая бездомная собака и жалобно скулила.
«Ну что мне делать с тобой, дружок, — подумал я, — ведь ничем не могу тебе помочь. Сам замерз и голоден».
Ускорил шаги. Все-таки собака имела основание мне завидовать, потому что я хоть знал, где в эту ночь найду пристанище. Подпольщик сталкивается не только с полицейскими и агентами. Его жизнь неразрывно связана с жизнью многих честных и добрых людей. Сколько раз, попав в тяжелое положение, без пищи и одежды, не имея крыши над головой, я находил убежище и поддержку у простых рабочих. Их улыбки, их человеческая теплота и работа всегда укрепляли мой дух и веру в победу, удваивали силы.
Я добрался до «Кючук Парижа»[9]. Кое-где фонари скудно освещали улицу. Вокруг — ни души. Я остановился перед одним из многочисленных маленьких домиков, притаившихся в бедном рабочем квартале. Здесь жила семья тети Тинки. Я внимательно осмотрелся, убедившись, что за мной никто не следит, открыл калитку и вошел во двор. Прошел напрямик по уже опустевшим грядкам я тихо постучал в окошко кухни. Долго ждать не пришлось. Дверь заскрипела, и я юркнул в образовавшуюся щель…
Тетя Тинка ввела меня в комнатку, зажгла лампу и, улыбнувшись, подала руку:
— Ну, как живешь, Моисей? Давненько ты не заходил.
— Спасибо, хорошо, а вы как? — И я устало опустился на стул.
— Все так же. Живем помаленьку. Сам знаешь, работа, дети…
Она присела на лавку у стены и смотрела на меня с материнской нежностью и озабоченностью:
— Ты голоден? Да зачем я спрашиваю, присаживайся к столу, перекуси!
Я проглотил слюну. За весь день мне не удалось съесть ни крошки хлеба. Тетя Тинка стала проворно хлопотать, приготовила ужин и присела напротив меня. Пока я ел, она, скрестив руки, молча с умилением наблюдала за мной. Только время от времени с притворной строгостью приговаривала:
— Ешь, ешь, ну не смущайся же! Видишь, какой ты худой стал.
Я жевал послушно и молчаливо…
Тетя Тинка уже много лет работала на табачной фабрике. Ценой непосильного труда и страданий, впрочем выпавших на долю всех македонцев-беженцев, она вырастила четырех детей и внуков. За ее энергию и молодое сердце мы ласково называли ее тетей Тинкой. Это была маленькая, сухощавая женщина, но ее лицо, изрезанное множеством морщин, молодили добрые карие глаза. Она была очень подвижной, вечно что-то делала, говорила мало, не задерживалась возле нас подолгу, но мы всегда ощущали ее присутствие. Она была душой всех подпольщиков. Дрожала над нами, как родная мать.
— Хочешь еще? — наклонилась ко мне тетя Тинка, и не успел я ответить, как она взяла мою тарелку и снова наполнила ее до краев.
— Где дядя Михал? — спросил я.
— Спит. Но если он услышит, что ты пришел, то тотчас же появится.
Дядя Михал Карев, ее муж, был типичным македонцем. Он тоже работал на табачной фабрике. Этот низкорослый, осанистый и усатый человек очень любил рассказывать истории о комитах[10]. Он считал, что дни фашизма уже сочтены. К моему товарищу Пройчо, с которым я часто у них укрывался, дядя Михал относился с большим уважением, как к старому комиту. Может быть, потому, что он выглядел очень внушительно — высокий, черноглазый, с густыми усами. При каждой встрече дядя Михал выпячивал грудь, закручивал ус, крепко пожимал ему руки и произносил свое неизменное: «Здравствуй, товарищ!», выражая этим почет и уважение. Только меня он не удостаивал этим словом «товарищ». Похоже, что из-за моего хилого вида и юношеского лица, на котором все еще не росла борода, он считал меня неопытным, новоиспеченным подпольщиком. При каждой встрече дядя Михал хлопал меня по плечу, здоровался и говорил:
— Ну как, малыш? Держишься? Береги себя, ведь работа у вас нелегкая.
Иногда мне становилось обидно из-за такого пренебрежительного отношения, но я не мог на него сердиться. Все-таки он почти ничего не знал о моей деятельности. Я все надеялся: «Ничего, еще придет время, он признает меня!»
Сколько прекрасных вечеров мы провели в их бедном домишке! Придем, бывало, с товарищами, усядемся вокруг низкого столика, как одна большая семья; хозяйка обязательно накормит нас, а когда улягутся дети, освободимся на час-другой от постоянного напряжения, связанного с жизнью на нелегальном положении, и от мыслей о конкретных задачах и опасностях и с упоением слушаем история дяди Михала про комитов. А его рассказам конца и края не было.
В доме тети Тинки жил сапожник Тома, веселый и вечно занятой человек. В редкие минуты, когда не работал, Тома пел. Он занимал на нижнем этаже маленькую комнатушку, единственное окно которой выходило на задний двор. Тоже македонец, добрый и честный, Тома знал, кто мы такие, чем занимаемся, и от всего сердца помогал нам. Он был настоящий комит. Когда по праздникам Тома уезжал к своей семье в деревню, мы ночевали в его комнате. Сапожник знал много македонских и гайдуцких песен про героев. Пел хорошо, с чувством. Когда он запевал, все замолкали и с упоением слушали. И сейчас вижу его отрешенное от всего лицо и слышу любимую песню:
Зазеленел лес, Одно лишь дерево не покрылось листвой, Под ним лежит молодой герой…В коридорчике послышались шаги. Вошел дядя Михал, засмеялся.
— Здравствуй, товарищ! — сказал он и как-то особенно посмотрел на меня. Хотя он только что проснулся, глаза его светились бодростью, а подкрученный ус торчал молодцевато. Я покраснел. Что случилось? Почему такое уважение?
— Здравствуй, дядя Михал! — ответил я, недоумевая, что явилось причиной того, что мой авторитет так вырос в его глазах. Впервые он назвал меня товарищем. Заметив удивление на моем лице, дядя Михал добавил:
— Рассказали мне ребята о тебе. Вот так уничтожайте этих гадов! Ни одного не оставляйте!
Я догадался. Пройчо рассказал ему о перестрелке, которую мы вели месяц тому назад в Пловдиве, и о ликвидации в городе одного известного агента полиции. Позже Пройчо мне поведал, что когда он встретился с дядей Михалом, то сказал ему обо мне: «Ты не смотри, что он тощий и маленький. Это его пуля пробила голову агента». Что и подняло мой авторитет в глазах старого комита.
— Ну, накормила тебя Тинка? А где остальные товарищи? Живы ли, здоровы?
— Все мы живы и здоровы. В последнее время много дел: заседания, встречи…
— Так-так. Ну, крепитесь! Фашистам вроде уже скоро крышка. Да смотрите будьте осторожнее!
Я почувствовал себя польщенным переменой в отношении ко мне Михала. Шутка ли, вырасти в глазах такой личности, как он, чей дядя, Благой Карев, в свое время прославился во всем Македонском крае, а сам Михал постоянно упоминал о нем в своих рассказах.
— Уж не задумали ли вы снова разговаривать до рассвета? Михал, оставь парня в покое, пусть ложится! Разве не видишь, как он устал! — ласково посмотрев на меня, вмешалась тетя Тинка. — Давай, Моисей, я тебе постелю.
Мы поднялись. Только тогда, наевшись и отогревшись, я почувствовал, насколько же я устал.
Буквально через несколько минут я уже спал…
С Пройчо мы стали неразлучными. Нет ничего более дорогого, ничего более святого в суровой жизни подпольщика, чем настоящая дружба. Для нас это было светлое, искреннее и глубокое чувство, которое и до сих пор связывает нас. Вряд ли два брата могли быть столь близкими, столь привязанными друг к другу. Мы рассуждали трезво, избегали необдуманных и поспешных действий, в трудные минуты с одного взгляда понимали друг друга. Пройчо всегда готов был сложить голову за меня, а я — за него. Когда мы в городе старались ускользнуть от выследивших нас полицейских, мы вместе, вдвоем чувствовали себя более сильными, более смелыми, казались себе непобедимыми…
Новый, 1944 год мы встретили в Пловдиве, в родном «Кючук Париже». В полночь отовсюду загремели выстрелы. Мы с Пройчо тоже не сдержались, вынули из карманов свои пистолеты и стрельнули несколько раз в холодное звездное небо. Через несколько дней, как раз под рождество, мы решили заночевать у тети Тинки, чтобы отоспаться до полудня. Мы знали, что комната Томы будет свободной. Он уехал в деревню, а ключ оставил нам. Вечером мы тихо пробрались в комнату и улеглись в постель. Но наша мечта выспаться не осуществилась. Рано утром, когда сквозь маленькое оконце начал пробиваться зимний рассвет, мы услышали, как кто-то тихо стучит в дверь:
— Есть здесь кто-нибудь?
Мы узнали голос тети Тинки. В нем звучала тревога. В вопросе слышались одновременно и надежда, и беспокойство. Милая тетя Тинка! Наверно, она думала: «Хоть бы там никого не оказалось, хоть бы мне, старой, ночью только почудилось, что скрипнула калитка и по дорожке прошли люди».
— Есть здесь кто-нибудь?
Есть! Она не обманулась. Мы не успели еще подняться с кровати, как она стремительно ворвалась в комнату и осторожно прикрыла за собой дверь:
— Облава!
«Это надо же, как раз на рождество!» — мелькнула мысль.
Больше слов нам не понадобилось. «Облава» — это слово сказало нам все. Облава — это взрывы гранат, крики, выстрелы. Облава — это отвратительные морды полицейских. И наконец, та зловещая тишина, которая наступает после последних выстрелов из пистолета.
Я почувствовал, как сильно бьется сердце. Встал, остановился посередине комнаты и стал прикидывать, что предпринять. Мысль работала быстро. Что же делать? Нужно думать, нужно непременно что-нибудь придумать! Я посмотрел на Пройчо. Его лицо нервно подергивалось. Всегда веселый, сейчас он неподвижно стоял рядом со мной. Его глаза, ставшие неузнаваемо серьезными, как будто хотели сказать: «Неужели мы вот так и погибнем? Неужели это и есть конец? Нет, ни в коем случае, ни за что! Мы найдем выход!»
В доме не было тайника. А в сарае не нашлось бы достаточно дров, чтобы завалить нас ими. Забраться на чердак, но это старый номер — они, несомненно, и там проверят, и тогда…
На лестнице, ведущей на второй этаж, появился дядя Михал. Он вошел, по привычке пригладил свои пышные усы и устало опустился на стул. Он выглядел постаревшим:
— Что же теперь делать, ребята?
Мы поняли смысл этих слов. Наверху спали дети и внуки, а по безлюдным улицам уже сновали парные патрули. Полицейские могли в любой момент ворваться в дом и от погреба до крыши перевернуть все вверх дном. На дворе уже светало. То и дело хлопали двери и окна. День начинался. Доносились отрывочные и сердитые женские голоса:
— Да неужели же мы не люди, что вы так с нами обращаетесь?
— Дайте хоть за водой сходить.
— Вон же колодец, никуда не убежим.
А другие голоса — грубые, привыкшие приказывать — командовали:
— Нельзя!
— Не ори!
— Иди домой, и без разговоров! У нас есть приказ.
— Идем! — сказал Пройчо и начал собираться.
Мы не имели права оставаться, рисковать жизнью добрых людей.
Из груди дяди Михала вырвался тихий вздох, он словно хотел сказать: «Благодарю вас, ребята, благодарю вас, и извините. Вы же знаете, наверху дети. О себе совсем не беспокоюсь, я прожил свой век, с меня хватит. Но дети… В чем они виноваты…»
Мы поняли. Да мало ли он сделал для нас!.. Сколько раз встречал и давал приют, сколько раз кормил, сколько добрых слов сказал! Не все люди вели себя так, как он. И поэтому мы были благодарны ему.
— Нет, куда они пойдут! Волку в пасть, что ли? — вмешалась тетя Тинка.
Мы повернулись к ней. Протянув руки, она хотела задержать нас. Все ее существо излучало энергию и непоколебимость. По лицу мы прочли, что она приняла смелое и твердое решение:
— Я не выпущу вас! Ты, Михал, беги наверх к малышам, а мы тут помозгуем. Вы подумайте, а я выйду на улицу и посмотрю, что к чему.
Мы остались одни. В скромной комнатке сапожника стояла только одна узкая кровать с деревянной спинкой. На одной ее стороне кто-то нарисовал яркими красками Леду с лебедем, а на другой — темными красками — Шильонский замок. Посередине стоял низкий рабочий столик, на котором валялись в беспорядке коробочки с гвоздями, нитками, шилами и клещами. На простой вешалке, прибитой в одном из углов, висели старые вещи, передник и изношенные, запачканные сапожным варом брюки Томы. Все тот же вопрос «Что же делать?» не выходил у нас из головы. Я лихорадочно оценивал создавшуюся обстановку: Пройчо прав. Нужно уходить. Попытаемся ускользнуть.
Тетя Тинка ворвалась к нам, едва переводя дыхание.
— Уже обыскивают у соседей. Ну а вы что решили? — совсем растерялась она. — Куда это вы собрались? Никуда вы не пойдете отсюда! Вас убьют.
— Нет другого выхода, — ответил я как можно спокойнее, чтобы ее не тревожить. — Там, на улице, что-нибудь предпримем.
— Постойте! Помогите мне немного отодвинуть кровать от окна.
Мы посмотрели на нее с недоумением. Что это она затеяла?!
— Вы спрячетесь здесь, за спинкой.
Действительно, после того как мы отодвинули кровать подальше от окна, освободилось достаточное пространство, чтобы двое могли укрыться и остались бы незамеченными.
Так и сделаем! Идея мне понравилась.
Я отодвинул занавеску, протер покрытые инеем стекла и открыл их, чтобы проветрить комнату. Тома отсутствовал, и нужно было создать впечатление, что в его комнате никого нет.
Тетя Тинка вышла и долго не возвращалась.
— Ничего не видно. Вы присядьте на корточки, а я им скажу, что это комната квартиранта, он закрыл ее на ключ и уехал в деревню. Специально приведу их, пусть посмотрят в окошко. Эх, — улыбнулась она, пытаясь хоть как-то скрыть тревогу, — я пойду, а вы… — Подошла к нам, обняла и оставила нас одних.
Мы плотно закрыли дверь, вынули ключ, приготовили пистолеты и единственную имевшуюся у нас гранату и втиснулись в пространство за спинкой кровати. Мы разработали очень простой план: если нас обнаружат, я через окно брошу гранату, выскочу во двор и залягу за колодцем, откуда прикрою выход Пройчо. После этого мы, перелезая через ограды, попытаемся пробраться садами к окраине города.
Прошло полчаса, прошел час — ничего. Мы сидели за кроватью и прислушивались. Трудно сидеть в таком положении, скрючившись и сгорбившись, в ожидании и в полной неизвестности. А что делает тетя Тинка? Пройчо тихо прошептал:
— Давно я не видел свою мать. С той поры, как убили старшего брата, она очень сдала. А если сейчас с нами что-нибудь случится… не знаю, переживет ли она меня.
Я молчал. Да и что я мог сказать? Какая мать не дрожит над своим ребенком! А тетя Тинка? А моя мама?..
Уже давно наступило утро. Дети проснулись и наполнили дом веселым гомоном. Может быть, потому, что начался праздник, праздник рождества, может быть… Голоса тети Тинки не слышно, она не прикрикивает на них, не отчитывает.
Пройчо подтолкнул меня. Над моей головой висела связка сушеной рыбы.
— Давай перекусим.
Удивительный парень этот Пройчо, ему никогда не изменял его веселый нрав. Но перекусить нам не удалось.
На заднем дворе послышался топот сапог. Мы переглянулись и без единого слова крепко сжали руки, понимая друг друга с одного взгляда. «Прощай, брат! Если останешься живым, расскажи о нашей дружбе. Не забывай меня!» — «И ты меня не забывай, Пройчо!.. Мы стали братьями в борьбе, так останемся ими и перед лицом смерти!»
Но все-таки мы легко не дадимся им в руки. До нас донесся спокойный голос тети Тинки. Но мы-то знали, какого огромного напряжения это ей стоило!
— Милости просим, милости просим! Заходите, в доме тепло. Ведь сегодня праздник, так мы немного проспали, но вы нас извините.
Группа полицейских с шумом ворвалась в дом. Как-после выяснилось, на столе в кухне стоял словно бы случайно забытый с ночи кувшин с вином. И чашки оказались под рукой.
— Выпейте, ребята, согрейтесь. Вам ведь тоже нелегко ходить по такому холоду, — хлопоча вокруг них, шутила тетя Тинка.
— Служба, мы привыкли, — важно ответил старший. — Ну, на здоровье!
Они чокнулись.
— М-да, хорошо! Сколько здесь у вас человек? Кто живет в этой комнате?
— Это комната сына. А здесь спим мы с дедом. А напротив — комната квартиранта, Томы, сапожника. Он несколько дней назад уехал к себе в деревню. Решил навестить родных на праздники. Идите, идите сюда, — не останавливаясь, говорила тетя Тинка и нажала на ручку двери. — Ой, заперто, на ключ.
Старший приблизился, подергал замок и толкнул дверь плечом. Она заскрипела. Мы затаили дыхание. Пистолеты жгли нам руки.
— Он запер на ключ, запер. Если хотите, я вас отведу, через окно все видно.
«Гости» помедлили немного, но потом последовали за ней.
— Вот видите, — показала она через стекло. — Это его постель, там, на вешалке, одежда, а здесь, на столе, набор инструментов. В сарае держим дровишки, — изощрялась тетя Тинка. — А рядом — курятник.
Полицейские повертелись еще немного и ушли.
В томительном ожидании мы продолжали сидеть за спинкой кровати, затаив дыхание, дрожа от нервного напряжения и сжав пистолеты в вспотевших руках. И только через некоторое время сообразили, что уже можно покинуть тайник, и медленно расправили занемевшие спины.
Под окном мы сразу заметили маленькую фигурку тети Тинки. Она молча смотрела на нас своими добрыми глазами. Мне показалось, что ее плечи как-то сразу опустились. Она выглядела измученной, словно весь день таскала на себе тяжелые тюки. Она ни о чем не думала, ничего не видела и не слышала. Наверное, не смогла даже уловить и смысл тех тихих, от всей души сказанных нами слов:
— Благодарим тебя, мама!
ЛИЛЯНА
Тысяча девятьсот сорок третий год. С каждым днем партизанское движение в Пловдивском крае разрасталось. В Среднегорье и Родопах уже создались новые отряды. Революционная волна непрерывно нарастала. Увлекшись главным образом вооруженной борьбой, окружной комитет РМС недооценил массовую работу среди городской молодежи.
Мы уходили в горы. Наступало время суровой расправы с врагом. Только за несколько месяцев в партизанские отряды вступило более ста пятидесяти молодых ребят. Из бюро комитета первыми ушли Иисус и Перван. Я остался в Пловдиве, хотя очень хотел уйти вместе с товарищами.
«Почему я должен оставаться здесь? Да неужели я самый неспособный из всех! Они в горах, безусловно, уже участвовали в нескольких сражениях. Когда же наконец и я попаду в отряд?»
Несмотря на то что я соблюдал дисциплину, мне с трудом удавалось справиться со своим желанием.
Трогательно прошел вечер, когда мы провожали в отряд Иисуса и Первана. Долго и крепко обнимали их, извинялись за недоразумения, иногда возникавшие между нами. Умоляющий взгляд Иисуса не давал мне покоя.
— Не дашь ли ты мне свой пистолет? — решился он наконец.
Иисус страстно любил оружие.
— Ну скажи, дашь мне его? — жалобно, как ребенок, просил он.
Я молчал. Мне очень нравился мой пистолет. Он никогда не давал осечки, имел простое, но очень удобное устройство. Как же расстаться с таким чудесным помощником!
— Ну ладно, возьми, — сказал я печально.
Иисус, сияя, взял пистолет, поблагодарил и сразу же начал чистить его и наводить блеск носовым платком.
— С ним не пропадешь, он будет хорошо служить тебе, ведь он работает безотказно. — Я последний раз взглянул на вороненый ствол пистолета. Мне казалось, что у меня забирают самое дорогое.
— Ну пошли, — вмешался Перван.
Я задержал их руки. Мне стало тоскливо.
— Будьте осторожны!
Мы расстались. Тяжело, когда провожаешь близких людей, к которым привык и с кем делил радость и невзгоды…
Пловдив бурлил. Почти каждую ночь то тут, то там велась перестрелка. Организаторами молодежи в то время были Иисус, Перван и я. Нашим вдохновителем был Крум — человек, давший размах нашим делам. Мы были еще юношами, он же вступил в период зрелости. Крум, Крум, память сберегла все!
В городе тогда находилось много подпольщиков. Мы проводили налеты и диверсии и не давали властям покоя. В связи с этим из ЦК РМС пришло письмо, в котором обращалось внимание на то, что нельзя недооценивать и массово-политическую работу среди молодежи, что нельзя увлекаться только задачами, связанными с вооруженной борьбой и организацией партизанских отрядов. Позже, и декабре, пришло сообщение, что в Пловдив приедет товарищ из ЦК РМС, чтобы передать нам указания и наставления. За неделю до условленного дня в город из партизанского отряда пришел Перван…
Собрались в доме бабушки Кины. Стемнело, и стало очень холодно. У печки, в которой приятно потрескивали дрова, мы с нетерпением ждали гостя. Пронизывающий ветер набрасывался на окно, словно хотел его распахнуть и отнять у нас тепло.
— Неужели именно сегодня должна состояться встреча с представителем из ЦК? — тревожился я. — Человек может замерзнуть, смотри, какой ветер.
— Если он из ЦК, то, безусловно, это бывалый человек, — успокоил меня Перван.
Наше нетерпение росло. Время шло, работник из ЦК все не появлялся.
— Должен бы уже прийти. Уж не случилось ли что-нибудь?
— Да что может случиться? — отозвался Перван. — Задержался человек где-то в пути.
— На улицах без конца устраивают проверки документов. А если его схватили?
— Вряд ли. Товарищи из ЦК — конспираторы с большим опытом.
— Хорошо бы ты был прав! — Я встал и подложил дров в печку.
Мы замолчали. В моем сознании отчетливо вырисовывался образ незнакомца — могучая фигура, строгое, сосредоточенное лицо, проницательный взгляд и низкий голос.
Вскоре в дверь постучали. Мы открыли. Вот и дорогой гость. В комнату вошла молодая стройная девушка и приветливо поздоровалась:
— Здравствуйте, товарищи, извините, я немного опоздала.
Застигнутые врасплох, смущенные, мы промолвили:
— Ничего, ничего, милости просим.
Мы почувствовали разочарование. Наши предположения о том, как будет выглядеть товарищ, которого мы ждали, совершенно отличались от действительности. Перед нами стояла нежная девушка с каштановыми волосами и прекрасными, большими глазами. Она была одета по моде, со вкусом. Мы тайком переглянулись: «Ничего себе ответственный товарищ из ЦК!»
Она, вероятно, поняла наши мысли, улыбнулась сердечно и протянула руку:
— Здравствуйте!
Мы уже прошли закалку в бою. Мне случалось вступать в ожесточенные перестрелки с полицией и солдатами, а Перван участвовал в сражении у Фердинандово. И сейчас, глядя на это хрупкое создание, мы испытывали недоумение. Наши представления о ЦК и его авторитете не совпадали с видом этой элегантной девушки. Но деваться некуда, мы подсели к печке и занялись делами. И снова нас постигло разочарование. На этот раз нас смутила маленькая записная книжка с позолотой, в которой она отмечала что-то изящной авторучкой.
«Неужели с помощью таких вот записных книжек нами будут руководить!» — недоумевали мы с Перваном.
— Ну, что у вас, товарищи? — спросила девушка и посмотрела на нас своими на редкость выразительными глазами, над которыми изгибались красивые густые брови.
— Нет, нет! — пробормотали мы виновато.
Тогда девушка заговорила сама.
— Нам нельзя ошибаться. Любая оплошность может нам дорого стоить. — Голос ее звучал уверенно, твердо и сразу же завладел нами. — Нельзя допускать, чтобы мы стали жертвами врага. Жизнь народа — наша жизнь, и ее нужно беречь — это наш долг! Ремсисты проявляют благородную инициативу, и очень важно развивать ее. Борьба ведется не только в горах, но и повсеместно. Здесь, в городе, то же самое — каждый день наполнен борьбой! — Глаза ее загорелись каким-то особенным блеском, она волновалась.
«Так вот ты какая!» — подумал я.
— Для нас наступают решительные дни, — продолжала она. — Дни, полные героизма и славы! Необходимо восстановить связи с другими районами. Вы знаете, что большая часть товарищей, отвечавших за эту работу, находится в тюрьме, а другие ушли в горы, стали партизанами. Наша задача заменить их, справиться с имеющимися трудностями и укрепить организацию. Без этого не может быть успешной борьбы. Все зависит от нашей организованности, товарищи!
Сколько силы и правды скрывалось в этих словах! Сколько воли и энергии таила в себе эта молодая девушка!
Так мы познакомились с Лиляной Димитровой — нашей Благой. Вся она излучала какое-то очарование, которое нас привлекало, покоряло, пленяло. Милый товарищ из ЦК!
Поздно ночью к нам зашла бабушка Кина:
— На сегодня хватит, не видите разве, который час? Перекусите на скорую руку и ложитесь спать!
— О, какой у вас строгий командир! — пошутила Лиляна.
Убрав со стола, бабушка Кина сказала, что будет спать у печки, а мы втроем — в другой комнате.
— Если кто-нибудь придет, я открою, — объяснила она. — А вам не нужно выходить.
Войти в дом можно было только через кухню, бабушка Кина считала, что должна находиться там, на своем посту.
— Спокойной ночи, ребята! До завтра.
— Спокойной ночи!
В комнате было очень холодно. Печки здесь не было. Мы легли прямо на пол, Лиляна между нами, и укрылись одним одеялом. Пытаясь хоть как-то согреть ее, мы прижались к ней спиной.
Я закрыл глаза, но долго не мог заснуть. Лежал все время на боку и за всю ночь не посмел даже шевельнуться. Твердые доски давали себя знать, плечо затекло, онемело, но я продолжал оставаться неподвижным — боялся разбудить Лиляну. Рядом со мной лежала не просто нежная девушка с большими красивыми глазами.
Утром мы проснулись рано. Мучительно ныли кости. Когда Лиляна вышла из комнаты, Перван улыбнулся:
— Ну, брат, окоченел я от холода. Всю ночь не спал, боялся, как бы не шевельнуться и не разбудить товарища.
— Я чувствую себя ничуть не лучше.
Через час мы разошлись в разные стороны.
— Встретимся снова здесь же, — сказала перед уходом Лиляна. — Бабушка Кина, жди нас!
— Буду ждать, дочка! Каждую ночь буду вас ждать…
Сейчас, когда я вспоминаю все это, острая боль снова сжимает мне горло, глаза увлажняются, дыхание замирает. Передо мной встает она — Лиляна — прекрасная девушка с глубокими, умными глазами и маленькой записной книжкой в руках.
ЧЕРЕЗ РЕКУ МАРИЦУ
Мрачный и глухой лес молчал, словно скрывал какую-то тайну. Пожелтевшая трава колыхалась под холодными порывами ветра. Он завывал в кустах и ветвях деревьев и вселял в душу тихую печаль.
Несколько партизан, прижавшихся друг к другу, прислушивались к долетавшим время от времени издалека выстрелам. Эти выстрелы нарушали тишину и напоминали о борьбе.
Воспользовавшись услугами предателей, которые указывали дорогу вооруженным до зубов карателям, враг сумел нанести удар среднегорским партизанам, которые понесли серьезные потери. Погибли десятки товарищей, а некоторые, оказавшись отрезанными от своих, в одиночку или группами скитались по окрестностям, голодные, без связи, плохо вооруженные.
Отряды были раздроблены. А у порога стояла зима. Требовалось встретить ее в полной готовности. Некоторые самые мелкие группы решили перезимовать в землянках, а часть товарищей — на квартирах в селах. Помимо большой партийной и ремсистской работы перед этими группами поставили также задачи ликвидировать известных нам фашистских прихвостней и агентов властей.
Несмотря на то что события разбросали нас в разные стороны, мы собирались в местах заранее условленных явок. Вот и тогда, после блокады, нас притягивала к себе кошара старого деда Кольо. Много пришлось пережить этому поседевшему человеку. Почти весь свой век, зимой и летом, он пас калоферское стадо. Немало ночей, когда, не переставая, лил дождь и завывал ветер, мы проводили у очага в его кошаре. И тогда дед Кольо, не умолкая, рассказывал нам разные истории, и вместе с ним мы мысленно следовали по тропинкам, по которым ходили гайдуки. Никогда я не ощущал с такой силой величие Ботева и Левского, как в те незабываемые вечера у этого удивительного старика. Бывало, уже за полночь, замолкла песня ветра, стихло все, забывшись в предутренней дреме, а дед Кольо все рассказывал и рассказывал…
Однажды морозной декабрьской ночью мы застали седоволосого старца взволнованным и очень встревоженным.
— Что нового, дед Кольо? — спросил его Добрян.
— Эх, ребята, с какими только негодяями не приходится встречаться!.. Вот Иван стал предателем, собирается отправиться в Пловдив. Этому сукину сыну мало крови, пролитой здесь по его милости, так он задумал делать пакости и в городе.
Новость, сообщенная стариком, встревожила нас. Мы знали, что Иван в качестве проводника водил полицейских по горам, что именно он выдал все известные ему места расположения наших лагерей и явки, но никак не допускали, что у него поднимется рука и на окружной комитет партии в Пловдиве, с которым мы поддерживали связь через Калофер. Следовало срочно принять меры!
Надо было предотвратить провал в Пловдиве, спасти людей. Но кто смог бы это сделать?
Группа, в которую включили и меня, состояла из шести человек. Трое из нас знали Пловдив и могли установить связь с окружным комитетом партии. Это — Добрян, уроженец Пловдива, Йонко, родом из села Чоба, долгое время работавший в Пловдиве, и я.
Наша группа закончила подготовку к зимовке, в горах установила связи с близлежащими селами Остеново, Голямо-село и Калофер. Но как раз тогда…
— Вот так-то, Ватагин[11], — сказал Добрян, — пока существует фашизм, не видать нам покоя. Вчера ночью мне снились мои дети. Как мне хочется снова быть с ними!
Добрян старше всех нас. Только он имел семью — двух мальчиков и жену, — которая жила в Пловдиве. Бедный, как ему хотелось увидеть сыновей, приласкать их!
За месяц до этого нас с ним вызвали в Пловдив на конференцию.
До сих пор не могу забыть большие голубые, полные слез глаза Добряна, когда он смотрел на своих сыновей через окно дома своего соседа, где мы скрывались, когда последний раз были в Пловдиве.
— Ну что за времена! Тебя разлучают с детьми, лишают радости видеть их, заботиться о них, заставляют покинуть собственный дом! — И другим голосом, сквозь зубы, Добрян проговорил: — Но дни их сочтены!..
После короткого обсуждения мы приняли решение, что в Пловдив отправлюсь я вместе с Йонко, причем тотчас же, потому что каждая минута слишком дорога.
Йонко, Йонко, так явственно вижу твои карие глаза, твои гладкие волосы! Твоя улыбка меня согревала. Я познакомился с тобой еще в Брезове — моем родном селе. Ты появился там, кажется, специально для того, чтобы встретиться со мною. Там мы нашли друг друга, чтобы уже не забыть никогда. Мы вместе участвовали в боевых операциях и демонстрациях, но самым страшным испытанием для меня оказалась твоя смерть.
…Итак, решено: мы пойдем вдвоем с Калоферских гор через Среднегорье в Пловдив.
Стоял холодный декабрьский день. Солнце заливало нежным светом вершины окрестных гор. Сверкал Юмрукчал, давно надевший белый колпак, искрились вершины Среднегорья — выпал тонкий слой снега.
— До свидания, передайте привет Пловдиву, скажите там товарищам, что мы не отчаиваемся и, несмотря ни на что, подготовимся и весной покончим с гадами! — сказал Гычо.
Две крупные слезы покатились по щекам Добряна, он обнял меня и с трудом проговорил:
— Если доберетесь живыми и здоровыми, загляните к дяде Ивану в Каршиак…
Я ничего не ответил, но понял его. Дядя Иван — это тот самый сосед, у которого мы скрывались месяц назад. К нему во двор привели детей Добряна, чтобы он мог увидеть их через окно…
Мы простились с товарищами.
Среднегорье казалось безлюдным, мрачным и таинственным. Сейчас оно не могло укрыть своих сыновей-изгнанников, не могло их приютить. Мы перешли вброд Аджарскую реку и, обходя стороной открытые места, быстро поднялись на вершину Кадрафил. Не знаю, насколько это исторически достоверно, но люди из Свежена и по сей день утверждают, что Хаджи Димитра, после того как его ранило в Стара-Планине, товарищи перенесли в эти места и здесь, на вершине Кадрафил, недалеко от Свежена, он умер. Здесь же находится и его могила.
Молча смотрели мы на памятник Хаджи Димитру, и перед нами, молодыми ремсистами, оживал светлый образ мужественного легендарного героя! Мы стояли с шапками в руках у могилы, не в состоянии сказать друг другу ни слова, и только шепотом повторяли:
— Жив он! Там, в горах…
Партизана в любую минуту подстерегает смерть, он готов в любой миг ее принять, но мысль, что он, тяжело раненный, может попасть в руки врагов, всегда пугала его.
Донесшийся со стороны села Свежен выстрел прервал ход наших мыслей, и мы осторожно спустились по южным склонам Кадрафила. Перед нами раскинулось несколько голых возвышенностей, на них чернели узкие полоски вспаханной земли и желтел папоротник. Оглядываясь, мы быстро перешли открытые места, спустились в глубокий овраг, а когда выбрались из него, то прямо перед собой увидели село Мраченик.
Солнце уже склонялось к закату. Ледяной ветер завывал в кустах, и казалось, он вот-вот вырвет с корнем чахлые деревья. Люди укрылись в своих домах. И мы мечтали о теплой комнате, но нам нужно было спешить, спешить…
То ли нас заметили с одного из армейских наблюдательных постов около села или кто-то нас выдал, как вдруг поднялся большой шум и началась такая перестрелка, что мы не на шутку встревожились. Едва мы успели немного отойти от села, как нас стали преследовать полицейские.
Но снова родные горы укрыли нас от преследователей. Медленно спускалась ночь.
— Ускользнули, — промолвил Йонко, вытирая рукавом вспотевшее лицо, и присел на камень. — А сейчас куда, Ватагин? Мне эти места незнакомы.
— Как-нибудь выберемся, Йонко. Вот сейчас вспыхнут огоньки Пловдива и укажут нам дорогу.
Разве не к этому свету, струившемуся нам навстречу, держали мы свой путь?
Перед нами внизу раскинулась Фракийская равнина, а посередине, как большой светящийся круг, — Пловдив. Мы шли, обходя села и особенно остерегаясь нарваться на засады.
Шли молча. Уже была пройдена большая часть пути.
— Ватагин, ты голоден? — глухо спросил Йонко. — Но даже если ты и не голоден, думаю, попадись тебе теплая баница[12], съел бы ее даже и без кислого молока.
— Голодной курице просо снится, — ответил я ему. — Брось ты эту теплую баницу, пусть другие ее едят, а лучше скажи, как раздобыть хоть немного хлеба.
Мы услышали лай собак, — значит, где-то поблизости село. Какое это село, и сейчас не знаю, предполагаю — Бегово. Решили попросить хлеба в одном из домов на окраине.
Я вошел во двор, а Йонко остался наблюдать на улице. Неожиданно во дворе залаяла собака.
Под маленьким навесом появился крестьянин и что-то крикнул.
Услышав голос хозяина, собака поджала хвост. Я юркнул в дом.
За небольшим столом сидела женщина средних лет с двумя девочками.
— Добрый вечер, — поздоровался я.
Они словно оцепенели, ничего не ответили. Женщина отряхнула юбку, а младшая девочка схватилась за передник матери, прижалась к ней и уставилась на меня испуганными глазами.
— Не бойтесь, ничего плохого я вам не сделаю, я — партизан.
Хозяева дома несколько успокоились и пригласили меня к столу. «Хорошие люди, — подумал я, — в селе, очевидно, полно полицейских и солдат, а они все-таки приняли меня и даже пригласили к своему столу».
На какое-то мгновение мне показалось, что я в родном доме. Может быть, этому ощущению способствовали расписные тарелки на столе, которые очень напомнили мне мой дом. Именно в таком глиняном блюде мама, когда я был ребенком, приносила мне завтрак.
Так я и не смог понять, какую еду подали на стол, но рядом с большим блюдом, стоявшим посередине, увидел глиняную миску с крупным желтым маринованным перцем.
Я не сел к столу, а только взял кусок теплого хлеба и несколько стручков перца, завернул все это в тряпку и вышел, предварительно предупредив хозяев, чтобы они никому ничего по рассказывали.
Йонко ждал меня с нетерпением.
— Почему ты задержался? Что случилось? Принес чего-нибудь поесть?
— Все в порядке, ты только потрогай, какой теплый и мягкий хлеб.
Мы отошли от села, уселись у самой дороги и занялись хлебом и янтарным перцем.
Рассвет встретили где-то около села Калековец — в десяти километрах от Пловдива. Пловдивская равнина, которую я всегда считал одной из самых красивых в нашей стране, сейчас показалась мне голой, черной и непривлекательной.
Нам предстояло войти в город, где нас из-за каждого угла подстерегала пуля.
— Давай где-нибудь спрячем винтовки, — предложил я. — Они в городе нам только помешают, тем более что замаскировать их невозможно.
Решили двигаться вместе с рабочими бочарной фабрики, которая находилась в трех-четырех километрах восточное Пловдива, на шоссе, соединяющем город с селом Рогош.
Спрятав винтовки в заброшенном домишке неподалеку от города, мы пошли вместе с рабочими бочарной фабрики. Дул пронизывающий, холодный ветер. Мы уже совсем приблизились к городу. По одежде мы почти не отличались от идущих рядом с нами рабочих. Йонко носил сшитые из грубого сукна штаны, короткий потертый пиджак и сверху спортивную куртку из зеленой непромокаемой материи. На мне были брюки городского покроя, крестьянская обувь и короткая шуба.
Только мы добрались до первых домов квартала Каршиак и едва почувствовали себя горожанами, как шедшая впереди группа, служившая нам чем-то вроде заслона, неожиданно остановилась. Началась какая-то суматоха. Мы заметили нескольких полицейских и гражданских в мягких шляпах и демисезонных пальто.
— Это становится подозрительным. Куда же нам податься? — спросил Йонко.
Мысль работала лихорадочно. Если мы повернем назад, то вызовем подозрение, отступать некуда — вокруг открытая местность. Полицейские легко бы справились с нами. И мы пошли навстречу им.
— Спокойно, Йонко, — сказал я. — Мы — рабочие бочарной фабрики. Не забывай об оружии, но не торопись… Стрелять только по моей команде!
Когда мы поравнялись с полицейскими, они уже проверили документы большинства рабочих. Два агента в штатском направились к нам.
«Конец!» — подумал я.
— Эй, вы там, предъявите ваши удостоверения! — крикнул нам один из агентов в штатском.
— Да что вы делаете вид, будто не узнаете нас! — проговорил я. — Неужели каждый раз будете требовать удостоверения личности!
У них, по всей видимости, создалось впечатление, что мы действительно рабочие. А мы, как только завернули за угол ближайшего дома, сразу же бросились бежать вдоль улицы. Пока агенты сориентировались, мы успели удалиться на значительное расстояние от них.
— Стой, стой! — закричали полицейские вслед нам и открыли стрельбу.
Я оглянулся и понял, что стреляют в воздух.
— Йонко, не стреляй!
Агенты продолжали стрелять в воздух, решив, что у нас нет оружия и им удастся схватить нас живыми.
Они продолжали кричать и стрелять. Держали они себя довольно-таки смело, потому что с нашей стороны не раздалось ни одного выстрела. Я остановился и несколько раз выстрелил в первого из наших преследователей. Полицейские сразу же растерялись. Один из них упал, а остальные засуетились вокруг него и прекратили преследование.
Воспользовавшись суматохой, мы свернули в переулок и исчезли в темноте, надеясь, что враг потеряет наши следы, но наши надежды не оправдались.
Как только началась перестрелка, на ноги подняли полицейских из соседних участков, которые блокировали квартал. Куда бы мы ни пробовали сунуться, чтобы выбраться к центру города, нас повсюду встречали выстрелами. Улицы опустели, люди попрятались в своих домах, только мы, как птицы в клетке, которые в поисках выхода бьются о решетку, бросались из одной улицы в другую. Но оказалось, что все пути перекрыты. Нам не оставалось ничего иного, как выбираться из города.
Там, где сейчас возведены красивые здания пловдивской ярмарки, где шумит фонтан и где шепчутся тополя, где вечером целуются счастливые влюбленные, на этой поляне в декабрьский вечер мы с Йонко были окружены полицейскими со всех сторон. Нас преследовали, за нами гнались, как за бешеными собаками, а возможностей вырваться из кольца окружения практически не существовало, к тому же у нас кончались патроны.
Мы залегли на берегу реки, ломая себе голову, что же предпринять и как выбраться из этого положения.
Марица плавно несла свои воды, в которых отражались электрические фонари бульвара на противоположном берегу.
— Йонко, браток, ты умеешь плавать?
Тот не ответил, но его крепкая рука легла мне на плечо, и я понял, что он готов на все.
Единственное спасение — Марица. Маленькую надежду вырваться из окружения я видел только в том, чтобы переплыть реку. И мы бросились в холодную воду. Она схватила нас в свои ледяные объятия. Казалось, что кровь в наших жилах остановилась, перестало стучать сердце. Но мысль о том, что мы выполняем приказ партии, спасаем товарищей, придавала нам силы, а воля к жизни — сильнее всего. Молодость, устремленная к свободе, жаждала победы.
— Нас заметили, — задыхаясь, прошептал Йонко.
На противоположном берегу предательски светили электрические фонари.
Только на мгновение луна вынырнула из облаков, и перед нами вдали показался силуэт холма Сахаттепе.
— Держись, Йонко, мы молоды и нужны партии.
Мы отплыли от берега. Облава продолжалась. Потеряв наши следы, полицейские вели беспорядочную стрельбу, но, когда мы достигли середины реки, они нас обнаружили и открыли прицельный огонь. Другая группа полицейских поспешила к Старому мосту через Марицу, чтобы отрезать нам путь.
— Нет, этим гадам не удастся нас обогнать, — сказал Йонко.
— Это же надо попасть в такой переплет! Однако, посмотри, и на этом берегу люди с винтовками.
И мы увидели, что по берегу Марицы снуют солдаты. Некоторые из них остановились и стали внимательно следить за нами. Я подумал: «Это уже конец! Нам некуда податься. Значит…» Словно электрический ток, пронзила мысль о смерти. Тогда пусть это будет смерть, достойная партизан. Геройская смерть!
— Товарищи солдаты, мы — партизаны и боремся за счастье нашего народа! — крикнул я. — Сейчас наша судьба в ваших руках. Вы можете нас убить, но что это вам даст? Не стреляйте, дайте нам уйти!
Не ответив, солдаты ушли.
— Хорошие ребята, Ватагин, свои люди! — сказал Йонко.
И надежда согрела наши сердца. Снова появилась вера, что мы останемся живы, и это придало нам силы. Мы добрались до берега. Но внезапно вокруг нас вновь засвистели пули.
— Мерзавцы! — вырвалось у меня.
Мы тоже открыли огонь.
Когда пересекали бульвар, Йонко, бежавший впереди меня, вдруг упал.
— Йонко, Йонко, что с тобой? Вставай, брат!..
Я тронул его за плечо, приподнял голову. Он был мертв. Словно клещами сжало мое сердце. Но в следующее мгновение я решил, что должен продолжать борьбу и отомстить за друга.
Улицы уже наполнились народом: молва о том, что преследуют партизан, быстро облетела квартал и многие хотели сами увидеть, что происходит.
Мокрый, промерзший, я едва передвигался от укрытия к укрытию. Вокруг меня свистели пули. Я петлял с одной улицы на другую и наконец добрался до старого, необитаемого дома и залез на чердак. Здесь вместе с тетей Данкой, нашей помощницей, мы когда-го оборудовали тайник.
Голодный, грязный, потрясенный гибелью Йонко, я, скрючившись в три погибели, сидел на чердаке. Вынул оба пистолета и, пересчитав патроны, решил: один оставлю себе, а остальные — для врага.
Меня лихорадило. Я притаился в одном из наиболее укрытых от ветра уголков, так как на чердаке с одной стороны не было стены. До меня доносились свистки полицейских и топот их сапог, я слышал, как колотят в ворота соседнего дома. Им и в голову не приходило, что преследуемый ими партизан прячется в развалинах.
Я с трудом дождался ночи. И когда она наконец наступила, спустился с чердака. Крадучись, перешел через чей-то двор, перелез через ограду и очутился у дома дяди Петра и тети Данки, тихо постучал.
Неожиданно у входа зажглась яркая электрическая лампа. Я остолбенел: неужели я не успею предупредить товарищей о грозящей им опасности?
Я быстро отскочил в тень близрастущего дерева. Но тетя Данка узнала меня.
— Иванчо, да ты ли это? — произнесла она, и ее губы слегка задрожали.
У дяди Петра был маленький сын Иванчо. И когда он спросил, как меня зовут, я ответил, что и меня тоже зовут Иванчо. Так за мной и закрепилось это имя.
Появился взволнованный дядя Петр и заговорил быстро и прерывисто:
— Полицейские знают, что ты где-то поблизости. Вчера они у нас тебя подстерегали. С ними приходил и Колев. Днем они ушли, но с минуты на минуту могут прийти снова.
А тетя Данка прижалась к моему плечу. Она жалела меня, как родного сына. Потом принесла теплый чай, хлеб и брынзу.
— Милый мой, перекуси немного, выпей чаю, согрейся. И чего надо этим полицейским от хороших парней?
Я выпил чай, самый вкусный чай, который мне довелось пить в своей жизни…
— Слушай, дядя Петр, дай мне что-нибудь из одежды и обуви. Сам понимаешь, в каком я виде.
Дядя Петр засуетился.
— Раздевайся, придумаем что-нибудь.
Я быстро снял с себя мокрую одежду, надел пиджак, ботинки и брюки Петра и как солидный горожанин вышел через парадную дверь.
Полицейский, стоявший на улице у ворот, почтительно козырнул мне:
— Добрый вечер!
— Добрый вечер! — ответил я и с легким поклоном приподнял шляпу.
Я затерялся в толпе.
В тот же вечер удалось установить связь с товарищами из окружного комитета.
ЛЮБОВЬ
Только я собрался перейти через железнодорожное полотно по мосту, ведущему в «Кючук Париж», как на противоположном тротуаре заметил Нелли. Я начал мучительно соображать, что же мне предпринять, ведь вот уже несколько дней полиция упорно ее разыскивала, узнав, что она является руководителем ремсистов в Асеновградской околии. Полиция искала девушку из Пловдива, с продолговатым лицом, русыми волосами и темными глазами, стройную и высокую. Так ее обрисовали агенты, и по этим приметам полиции приказали ее отыскать. Но существовало еще одно, более тревожное обстоятельство. Сестру Нелли арестовали еще осенью, но во время судебного процесса не смогли доказать ее виновность и освободили. Теперь полицейские извлекли из архивов ее фотографию и, поскольку она была очень похожа на Нелли, размножили фото и передали во все полицейские посты, чтобы правильно сориентироваться в своих поисках. Мне поручили передать Нелли приказ Лиляны[13] — покрасить волосы в другой цвет.
Нелли шла спокойно и уверенно. Я затруднился бы определить, идет она в город по делам организации или просто вышла на прогулку. Впрочем, в те времена для наших людей бесцельное блуждание казалось маловероятным. Вечерело. Мимо пронесся пассажирский поезд. Год тому назад, в такой же вот вечер, я познакомился с Нелли. Мы полюбили друг друга… Я решил перейти на другую сторону улицы. Да разве мог я пройти мимо Нелли?! Но, сделав мне едва заметный знак пальцем, Нелли заставила меня пройти мимо. Только тогда я заметил, что за ней следом идет человек лет тридцати, с черными усами и мутными, пьяными глазами. Я сразу понял, что это агент. Имея трехлетний стаж подпольной работы, я научился опознавать их. Связав предупреждение Нелли с поведением агента, можно было установить, что он следит именно за ней. Нужно было что-то предпринять. Во мне боролись сложные чувства. Мне показалось, что я снова услышал тихий шепот Нелли, увидел ее глаза и улыбку, и я, несмотря на предупреждение, пошел следом за ней. Нелли не заметила, как я пересек улицу и оказался позади агента.
Мы шли втроем: Нелли, агент и я. Вскоре он понял, что за ним следят, повернулся и хотел сунуть руку в карман, вероятно, чтобы достать оружие, но мои слова заставили его вздрогнуть:
— Послушай, я — партизан, если только шевельнешь рукой, сразу же тебя пристрелю.
Полицейский повернул голову, ускорил шаги, и его руки повисли, вытянувшись по швам, как у солдата, стоявшего перед строгим командиром. Нелли не оглядывалась.
Я крепко сжимал в правой руке пистолет, готовый в любой миг через пальто выпустить семь пуль в ненавистного преследователя. Так мы прошли пятьдесят — шестьдесят метров. Вдруг Нелли свернула направо, и я поспешил предупредить агента:
— Иди прямо! Оглянешься — буду стрелять! Я не шучу и стреляю точно!
Агент молча продолжал свой путь. Нелли, так и не оглянувшись, исчезла в направлении католической больницы.
Через какое-то время полицейский повернулся ко мне и сказал:
— Могу ли я закурить сигарету?
— Нет!
Неожиданно на перекрестке улицы Дюстабанова появились люди. Я не сообразил, что мы находимся в районе табачных складов. Очередная смена уходила домой. Агент учел это, смешался с толпой и исчез. Уже почти стемнело, и, несмотря на все мои старания, мне не удалось обнаружить его в толпе.
Я понял свою ошибку, но поздно.
Быстро пересек две-три улицы и пошел в том направлении, куда свернула девушка. Опасность миновала. Я догнал Нелли, остановил ее. Бедная, она ожидала услышать: «Пройдемте за мной в инспекцию полиции», но увидела меня и очень обрадовалась. Ее темные глаза радостно засияли. Нелли была счастлива.
Ночь настигла нас, когда мы были уже в горах.
ПОД ПУЛЯМИ
День, проведенный с Пройчо, был чудесным. О чем мы только не говорили, когда шли на встречу с секретарем окружного комитета партии Гочо Грозевым!
Гочо Грозев пришел вместе с Василом Терзиевым точно в условленное время. Теперь мы ожидали прихода еще одного товарища, которому было поручено передать нам важную информацию.
Солнце клонилось к закату, но сумерки еще не наступили. Нам пришлось долго ждать этого товарища.
— Почему его до сих пор нет? — спросил я.
Встревоженный Гочо Грозев посмотрел на меня. Оставаться здесь дольше становилось невозможно, да и законы подпольной борьбы повелевали нам расходиться. Нас тяготила царившая на улице тишина.
— Ох, что-то подозрительна мне эта несостоявшаяся встреча! — сказал Терзиев. — Любое опоздание таит в себе опасность.
— Запахло порохом, — подтвердил Пройчо.
И действительно, через несколько минут недалеко от нас мелькнул полицейский. Он явно следил за нами. Вскоре мимо пронеслась зловеще знакомая полицейская машина. Мы переглянулись. Что же нам делать? Если мы уйдем, товарищ попадет в руки врага, если останемся — то же самое ожидает и нас. Решили не ждать, ему одному легче будет ускользнуть от полицейских.
Пройчо предложил, чтобы Гочо Грозев и Терзиев пошли вперед, а мы их прикроем от полицейских. Гочо Грозев согласился, не возразил и Терзиев.
Не успели товарищи скрыться, как за углом соседней улочки остановился полицейский «штайер» без дверок. Мы с Пройчо переглянулись и свернули в соседний переулок.
Город притих. Вечерело. Мы пробрались через двор, потом через другой. А полицейские рассыпались со переулкам, напрасно разыскивая наши следы.
— Эй, дедушка, иди сюда! — позвал я одного старика, гулявшего у себя в саду. Но тот меня не услышал, только обернулся и продолжал осматривать молодые саженцы. Был ли он глухим или нарочно избегал нас?
Повсюду слышался топот сапог, полицейские сновали но улицам и кричали, чтобы мы сдались, хотя и не видели нас. А мы стояли на каком-то дворе, готовые к бою, и молчали. Нам все это выпадало уже не впервой. Схватки с полицией стали частыми в нашей повседневной жизни. К свисту пуль мы привыкли. Ну, попадет одна из них в нас, разве без нас борьба прекратится!
Свобода, свобода, сколько раз мы сражались за тебя!
Мы выбрались из своего укрытия и вышли на улицу.
Пройчо пошел впереди, я за ним. Внезапно тишину прорезал чей-то голос:
— Стой! Кто вы такие?
И, не дожидаясь ответа, полицейские открыли огонь. Нам ничего не оставалось, как принять бой, но с одной целью — вырваться из окружения.
Наконец стемнело. Ночь вселяла уверенность. В ней мы видели свое спасение.
— Эти фонари, — вздохнул Пройчо, настоящие предатели.
Завязалась перестрелка. Пули свистели вокруг вас, пролетали над головой, вонзались в стены. Вдруг Пройчо упал. Я крепко обнял его за плечи и поставил на ноги. Ранен он не был.
— Пройчо, держись!
— Оставь меня, спасайся, не могу больше, нет сил.
— Это самообман, вставай!
Стрельба продолжалась. Над нами свистели пули, отовсюду неслись громкие крики и ругательства.
— Оставь меня, прошу тебя, — настаивал Пройчо. — Если меня убьют, расскажи обо всем товарищам и маме. Прощай, браток!..
Однако вскоре он пришел в себя. Мы пересекли несколько улиц, неожиданно стрельба прекратилась. Нам удалось уйти от преследователей. Темнота продолжала густыми волнами опускаться над городом.
Полицейские потеряли наши следы.
Мы умылись у водонапорной колонки, пересекли Цареградское шоссе.
Через несколько улиц нам встретилась Лиляна Димитрова с каким-то усатым товарищем.
— Это в вас стреляли? — спросила она. — Какие вы бледные!
— Ничего с ними не случится, — отозвался вместо нас усатый. — Революционеры закаляются в битвах.
Мы рассказали им обо всем.
— Молодцы! — воскликнула Лиляна и посоветовала нам уйти подальше от места происшествия.
Но как раз когда мы пересекали центр города и чувствовали себя в безопасности, неожиданно раздался полицейский свисток.
— Это еще что такое? — растерялся Пройчо.
— Обыкновенный свисток полицейского, — ответил я и зашел с ним в один из ресторанов.
Мы выпили по кружке пива, обменялись несколькими шутками, но при выходе прочесывавшие квартал полицейские спросили нас, не встречали ли мы двух подозрительных типов.
— Да где же мы могли их встретить, если с шести часов сидим в ресторане. Сюда они не приходили.
— Вы знаете, что надо делать, если встретите их?
— Разумеется, знаем, — засмеялся Пройчо. — Тотчас же уведомим вас.
Полицейский свисток снова раздался в ночи.
БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, МЕЛИНЕ!
Сколько ушедших в прошлое историй напомнила мне старая продавщица книжного магазина Мелине!
Однажды, гуляя по булыжным мостовым у Хисарских ворот и вспоминая молодость, я неожиданно оказался в новом книжном магазине у старой крепости. С приветливой улыбкой продавщица Мелине предложила мне выбрать какую-нибудь книгу.
Я просматривал книги на полках и никак не мог найти нужную. Старая продавщица завела со мною беседу и показала дом № 16, с которым у меня были связаны неизгладимые воспоминания. Она узнала меня.
— Да, Мелине. Это улица моей молодости…
Вся улица и холм, на котором она находится, теперь объявлены заповедником. Дома сохраняют в том стиле, в каком они построены, улицы такие же тесные и кривые, как и прежде, только кое-где сменили булыжные мостовые. Новые здесь только красиво оформленные таблички с номерами домов и названиями улиц. А на центральной улице имени доктора Чомакова появились большие вывески с наименованиями фирм, деревообрабатывающих фабрик и строительных организаций. Только ателье художников, встречающиеся на улице, остались без наименований. Увлеченные мечтой, мастера кисти пытаются сохранить романтику старого города. Дом Ламартина[14] сейчас превратился в их боевой штаб. Здесь днем и ночью обсуждаются проблемы изобразительного искусства.
Дом № 16 находится в центре квартала. Сейчас он похож на старинный маленький замок, возвышающийся над домом Ламартина, а когда-то он был боевым штабом революции в Пловдиве.
Я вошел в этот дом со смешанным чувством грусти и гордости. Все здесь говорило о прошлом, о нашей бурной юности. Старинные диваны вдоль стен напоминали о встречах и вечерах в этом доме, и казалось, воскресли погибшие герои революции, которых я никогда не забуду…
От старого Марукяна я впервые услышал о резне в Турции, о страшной судьбе армянского народа. Удивительный человек был этот Марукян! Как мастерски он умел рассказывать!
И сейчас в моих ушах звучат крики женщин и детей, скрип деревянных подвод, движущихся по выжженным солнцем дорогам азиатских земель. И все это словно воплотилось в мужественные строфы Яворова, которые Марукян декламировал с артистическим пафосом:
Изгнанники несчастные, потомки народа-мученика…— Пока добрались до Болгарии, — рассказывал старый армянин, — нам пришлось перенести много лишений. И вот поселились мы здесь, в самой старой части Пловдива, на холмах. Думали, что здесь, в этой крепости, мы находимся в самом безопасном месте.
Действительно, в старых домах с маленькими окошечками, которые снизу поддерживали деревянные балки, человек чувствовал себя, как в крепости.
Эти люди жили как-то неприметно, тихо. Как муравьи, рано утром они разбредались по табачным складам, небольшим слесарным и сапожным мастерским и мастерским жестянщиков в шумном квартале Капан.
Капан — один из центральных кварталов города и самый крупный его торговый центр. На небольшой пестрой площади, куда вливаются маленькие, тесные и неровные улицы, по которым и повозка-то не может проехать, разместились сотни всевозможных магазинчиков, окна и двери которых были увешаны товарами. Там стоял такой шум от криков продавцов и ударов молоточков медников, что все это скорее походило на ярмарку. Среди этого гама и треска почти на каждой улочке можно было встретить армянина. В такой шумной сутолоке они чувствовали себя лучше всего, потому что могли свободно и громко разговаривать на своем звучном, цветистом языке.
Вечером все замирало, и становилось невероятно тихо. Капан походил на брошенное птицами дерево, в ветвях которого опустели сотни покинутых гнезд. Каждый шаг запоздалого прохожего отдавался на булыжной мостовой, как эхо шумного, наполненного криками людей дня.
Небольшими группами армяне возвращались к себе в квартал около Хисарских ворот и исчезали в своих домах, похожих на замки, где каждый в меру своих сил боролся с нищетой.
Марукян принадлежал к числу наиболее трудолюбивых армян. В его скобяной лавке всегда толпились покупатели. Помогали ему два сына — Ара и Ончо. Мы считали, что лавка Марукяна очень удобна для встреч подпольщиков и хранения материалов. Сыновья Марукяна были активными ремсистами, приносили пропагандистские материалы почти для всего района. Сюда приходили курьеры из разных организаций и районов.
В сущности, наша активная ремсистская деятельность среди армянского населения развернулась в начале 1940 года.
Все началось с Капана, где сосредоточилась основная масса армян, и прежде всего молодежь. Кроме того, в Капане находились разные армянские массовые организации, которые следовало использовать.
Молодые армяне состояли членами туристического общества «Арзив» («Сокол»), спортивных обществ «Шанг» и «Арарат». В деятельности этих организаций принимала участие наиболее прогрессивная молодежь. Но существовали и организации с фашистским уклоном, отравлявшие сознание армянской молодежи, такие, как «Хомнтмен» и «Ташнагите».
Вот почему мы приняли решение создать мощную ремсистскую организацию в Капане на основе массовых организаций. Новой организации предстояло объединить армянскую молодежь. Однако предварительно следовало послать активных членов РМС в эти массовые организации. С этой целью решили перебросить ряд армянских ребят из других секторов в Капан. Огромную организационную работу по созданию ячеек РМС среди армянской молодежи провели Фанте, Брайко, Георгий Йовков, Герман Германов и другие товарищи.
Еще в 1940 году Ару Марукяна — одного из активнейших вожаков армянской молодежи — освободили от ремсистской работы в гимназии и перебросили в Капан.
Революционные идеи быстро зажгли армянскую молодежь. Она развернула массовую работу: армянские ребята писали лозунги, разбрасывали листовки с требованием заключить с СССР договор о ненападении. За короткий срок они собрали большое число подписей в поддержку предложений Советского Союза. Мы считали это большой победой.
В 1941 году деятельность армянской молодежи расширилась, пополнились ряды РМС, укрепилось руководство. Массовые организации стали боевыми и активными. В них выросли прекрасные руководители молодежи, такие, как Оник Марукян, Доран Парикян, Аубар Ахдаян и другие.
По вине предателя Апостола Петрунова организация РМС армянской молодежи потерпела неудачу. После отправки некоторых руководящих товарищей в концентрационные лагеря и лагеря трудовой повинности руководить молодежью доверили Онику и Аубару. Они оказались боевыми ребятами, готовыми на все во имя свободы. Характер работы изменился. На удар следовало ответить ударом. Организация взяла курс на вооруженную борьбу.
В лавке и в доме старого Марукяна ребята создали склад боеприпасов и всего необходимого для вооруженной борьбы. Глухой подвал в доме № 16 на улице имени доктора Чомакова превратился в тир. Здесь испытывали пистолеты и патроны, которые мы отправляли в отряды для боевых операций.
В 1941 году в Пловдиве уже работал Малчик. Лавка и дом старого Марукяна стали его любимым убежищем. Малчик полюбил Марукяна и проводил большую часть своего времени в его доме.
Осенью 1941 года я непродолжительное время был секретарем районного комитета РМС. Малчик проявлял большой интерес к работе армянской молодежи. Помню, как он восхищался старым Марукяном и его сыновьями, как восторженно говорил об армянах. Знаю, Малчик был до боли растроган судьбою старого Марукяна. Возможно, это объясняется тем, что его, как и армян, изгнали из родного дунайского края, и в участи этих славных людей он видел свою участь. Кто знает?!
Марукян формально не участвовал в конспиративной работе, но всегда находился в центре всех наших дел.
Помню, как-то зашел я к нему в лавку и осматривал полки, как настоящий покупатель. А старый Марукян, даже не спросив, что я желаю купить, отрезал:
— Ончо там, во внутренней комнатушке. Иди договорись с ним!
В комнатушке меня действительно ждал Ончо. Нам предстояло выполнить конспиративное задание. Я и сейчас с глубокой благодарностью вспоминаю тебя, наш добрый друг Марукян!
Не одну, а десятки встреч и совещаний провели мы в доме старого Марукяна, а позже организовали там и типографию. Этот дом стал нашим боевым штабом, крепостью, из которой мы провожали наших единомышленников в бой. В этом доме скрывались такие товарищи, как Малчик, Лиляна Димитрова, Германов, Георгий Йовков и другие.
Сейчас этот дом представляет собой историческую ценность как памятник старинной архитектуры. Но люди, входившие в дом № 16 на улице имени доктора Чомакова, узнают не только о старинной архитектуре, но и о революционной деятельности армян в Пловдиве, о боевом духе революционно настроенной армянской молодежи, о ее борьбе с монархо-фашистским режимом в Болгарии.
Кое у кого и сейчас сохранилось такое чувство, что армяне держались в стороне от борьбы против фашизма и только сочувствовали нам. Но это не так.
Даже девушки, которые отличались некоторой боязливостью, тоже включились в борьбу РМС. Первую группу из четырех-пяти девушек-ремсисток мы создали в 1939 году, но она просуществовала недолго и вскоре распалась. Удалось сохранить подпольные связи только с отдельными девушками, которые помогали нам деньгами, предоставляли квартиры для конспиративных целей, собирали средства для политзаключенных.
До сих пор я помню одну из них. Ее звали Ахавни Башмакян. Она была очень приветлива и исключительно внимательна. Помню ее еще по массовым экскурсиям в 1938—1940 годах, которые РМС организовал в Родопах. Помню, как мы пели советские песни и декламировали революционные стихи, а иногда наиболее подготовленные представители молодежи читали лекции.
Ахавни стала душой армянских девушек и главным организатором встреч. Мы называли ее сестренкой. С нею мы делились всем, даже самыми интимными своими переживаниями.
Дом Ахавни на улице Кубрат, 18, стал нашим вторым боевым штабом. Позже в этот дом мы принесли пишущую машинку и ротатор. Там печатались ремсистские и партийные документы. В этом доме в 1944 году Лиляной Димитровой был написан некролог на смерть Сашо Димитрова.
О том, что за человек Ахавни, можно судить по одному рассказу, который позже я слышал от ее подруг.
…После убийства Лиляны Димитровой произошел большой провал. Почти вся армянская молодежь, вступившая в РМС, попала в тюрьму, а кто сумел, бежал в горы.
Ахавни вместе с другими девушками арестовали. Среди них в тюрьме находилась одна женщина с грудным ребенком. Полиция создала для них невыносимые условия. В большую, похожую на яму, темную камеру затолкали десятки женщин и девушек. Их держали несколько дней без хлеба и воды, чтобы заставить рассказать о связях с РМС и выдать своих товарищей. Воздух и свет проникали к ним лишь тогда, когда одну за другой их выводили из душной камеры на допрос и неслыханные пытки. Но в самом тяжелом положении оказалась мать с ребенком.
Тогда Ахавни организовала всех женщин в камере для оказания помощи матери с ребенком. И ребенок этот стал для всей камеры родным. Ахавни первой взяла ребенка на руки и теплом своего тела высушила его мокрые пеленки. Потом все женщины одна за другой начали сушить пеленки и согревать своим теплом этого младенца. Малыш находился в надежных руках. Дни и ночи армянские девушки заботились о гражданине будущей социалистической Болгарии. Они верили в скорую победу…
Сколько ушедших в прошлое историй напомнила мне старая продавщица книжного магазина Мелине!
ПОМНИМ О БОЕВЫХ ДРУЗЬЯХ, ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ
Я специально выбрал себе комнату на одиннадцатом этаже, и при этом именно такую, в которой широкие, современного типа окна смотрят на юг и вбирают в себя, словно фотообъектив, отблески Марицы.
Симпатичная девушка с огромными голубыми глазами подала мне ключ от номера 1009. В это время ко мне подошел какой-то человек, сдержанно улыбнулся и взял у меня чемодан. Он нажал кнопку лифта, и мы поднялись на последний этаж гостиницы. Открывая мне двери, дядя Ангел — старый тесняк[15], а сейчас администратор новой модной гостиницы «Марица» — указал мне на озаренный ярким светом город и глубоко вздохнул:
— Жаль, что нет Йонко и что он не может посмотреть с высоты этого этажа на сегодняшний Пловдив. Нет больше темных переулков. Помнишь постоялый двор «Кацигра», вон там, где яркие огни? А корчма «Марица» — какое это было жалкое убежище, помнишь? Кто из нашего края не помнит ее! Сколько плетеных корзинок с продуктами доставляли из наших родных сел, чтобы мы не умерли с голоду!
Все, что говорил мне Ангел, хотя и будоражило память, но особенно меня не волновало. Я слушал его рассеянно, внимательно всматривался в новостройки и испытывал такое чувство, будто рассматриваю Пловдив из другого мира, с другой планеты.
Я широко раскрыл окно и засмотрелся на Марицу. После полуночи город затих. Только время от времени мимо проносилась автомашина или чей-то голос нарушал тишину. Небо скрылось в пелене темно-серых предвесенних облаков. Звезд не видно, а вокруг светло. Светло от неоновых вывесок, трепещущих в ночи, как светлячки. Силуэты исторических Пловдивских холмов вырисовывались передо мной, словно огромные памятники — стражи великого прошлого. Освещенный мощными прожекторами, возвышался высоко над городом памятник Алеше с поднятым мечом, которым он защитил всех нас от фашистской чумы. Я не мог отвести глаз от этого символа непобедимой силы Советской Армии, спасшей человечество от позора.
…Майор Сидоренко первым прибыл на своей боевой матине в Пловдив, и его никто не встречал. Ему предстояло предварительно уточнить все вопросы, связанные с размещением советских войск. Это был строгий человек, но когда он улыбался, то от него веяло какой-то мудрой простотой.
— Вы партизан? — воскликнул поседевший воин. — Хорошо, молодец!
Я онемел и не мог вымолвить пи слова. Ведь мне впервые выпало счастье встретиться с советским человеком. Впервые видел советского офицера. Я был удивлен: неужели это и есть советские люди? Да, оказывается, они совсем обыкновенные! Я внимал каждому его слову, запоминал каждое его движение. Готов был сделать для него все. Да и могло ли быть иначе? Вместе с майором Сидоренко мы отправились осмотреть казармы…
Где ты сейчас, советский сокол? Может быть, в генеральском мундире продолжаешь оставаться в строю или где-нибудь сложил голову?..
Сильный шум реактивного самолета нарушил спокойствие пловдивского неба и отвлек мои мысли. Я всматривался в стальную птицу, в Марицу. Мне вновь вспомнились последние месяцы борьбы с фашизмом, боевые друзья, отдавшие свои молодые жизни за победу, — Лиляна, Малчик…
Весна 1944 года наступала медленно. Ее заждались товарищи в горах. Ждали ее наступления и подпольщики в городе. С приходом весны мы выбрались из землянок и подвалов.
Мы с Лиляной шли вдоль берега Марицы, мечтая о дне победы. Стоял теплый вечер. Я на короткое время спустился в город, но не имел права там задерживаться, в горах меня ждали. Я рассказывал о деятельности бригад имени Христо Ботева, Васила Левского и Стефана Караджи, о ремсистах, составлявших большинство в этих отрядах. Затем заговорил о наших планах на будущее.
Лиляна слушала меня очень внимательно. О чем она думала? Может, обдумывала указания о дальнейшей работе, которые должна была дать мне, или просто мечтала о чем-то? Разве не могла и она спокойно гулять по набережной Марицы, разве не могла и она беззаботно перебирать волосы любимого? Я всматривался в красивые черты ее лица и видел в ней руководителя, строгого судью нашей партизанской молодежи.
Мы шли с Лиляной вдоль Марицы, время от времени умолкая и задумываясь то о птичьем весеннем гомоне, то о судьбе нашей молодости. Марица текла медленно и бесшумно. С другого берега реки доносились голоса армян. Бедные, усталые от тяжелого трудового дня, они встречали ночь грустными песнями, а мы, укрывшись в тени прибрежных кустов, продолжали строить планы на будущее.
Впервые мне довелось так откровенно разговаривать с Лиляной, и я мог глубоко заглянуть в ее глаза, в которых горела какая-то красивая мечта. Она обладала значительно более широким кругозором, чем мы, знала больше нас и умела смотреть далеко вперед. Лиляна стремилась читать все о Советском Союзе и знала о многом. Она мечтала учиться в Москве.
— Если доживем до победы, — говорила она, — поедем учиться в Советский Союз.
Я не знал, что ей ответить, такая мысль мне в голову не приходила. Я неопределенно покачал головой.
— Тебе, вероятно, не верится, что это возможно?
— Победа решит все!
— Именно победа, — добавила Лиляна. — Но до тех пор нужно бороться, как никогда еще мы не боролись. Чем ближе свобода, тем больше надо усиливать борьбу. Враг еще силен, но мы заставим его сложить оружие!
И задумалась. Какая-то птица пролетела над нами, словно бы подавая сигнал, что пора расставаться. Взор Лиляны устремился куда-то вдаль. Когда мы уходили, луна, словно светлячок, засеребрилась в ее волосах…
Цепь воспоминаний оборвалась… Но вот рядом с Лиляной встал Малчик.
И с Малчиком мы тоже гуляли в этих же самых местах. Я только что вернулся из казармы, и у меня еще после военной службы не отросли волосы. Во второй половине дня в квартале Капан всегда было наиболее шумно, поэтому мы направились к Марице.
Остановились на левом берегу реки. Присели. Я посмотрел на Малчика в надежде, что он сейчас заговорит, но тот молчал. Молчал и я. А у наших ног грустно плескались воды Марицы. Желтые плакучие ивы, казалось, стонали.
— Ты слышишь? — поднялся Малчик. — Марица плачет. Марица оплакивает Болгарию, наших погибших друзей.
Его слова тогда произвели на меня глубокое впечатление. В тот момент я был готов броситься на любого агента, вступить в бой с карателями, мстить без пощады за погибших товарищей.
Мне вспомнился 1943 год, когда нам с Йонко пришлось столкнуться на берегу Марицы с полицейскими. Здесь Йонко убили. Здесь и я мог погибнуть…
Я отошел от окон и подумал об Ангеле. Посмотрел на часы: стрелка показывала одиннадцать. Ничего. Позову старого тесняка и угощу его. Нажал кнопку звонка. Ангел словно только этого ждал — тут же пришел.
— Ангел, возьми, пожалуйста, в баре две бутылки шампанского. Что-то не спится. Хочу выпить с тобой на том месте, где могла быть моя могила.
Он вышел, через несколько минут вернулся и с шумом открыл бутылку:
— Я догадался, что именно здесь вы с Йонко вели тот бой.
Я поднял бокал, но не смог сделать и глотка. Напротив стояли Малчик и Лиляна, а голос Йонко не переставал звучать в моих ушах:
— Прощай, брат!..
СКАЖИ ИМ, МАМА, ПУСТЬ ПОМНЯТ…
Дороги, дороги,
Партизанские тропы,
Среднегорские леса и поляны,
Неужели я когда-нибудь вас забуду?!
ВСТРЕЧИ СО СМЕРТЬЮ
До рассвета оставалось два часа. Дул холодный ветер, разгоняя темные облака. Время от времени показывалась луна, освещая все вокруг неверным, безжизненным, фосфорическим светом. На севере все отчетливее вырисовывался силуэт Стара-Планины. Над всем этим господствовала мертвая и властная тишина.
Мы шли вчетвером — Штокман, Йонко, Веселин и я. Торопились. Требовалось как можно скорее прибыть на явку недалеко от села Войнягово.
Вскоре мы подошли к пенистой и мутной реке Стряме. Остановились.
— Какое сильное течение у этой проклятой реки! — сказал Веселин и тихо добавил: — Хоть бы она не оказалась глубокой.
— Возьмемся за руки и перейдем ее вброд! — сказал Штокман.
Мы взялись за руки и вошли в воду. Где-то на середине реки наша цепь разорвалась. Здесь течение оказалось особенно бурным, настойчиво пыталось свалить нас, и иногда каменистое дно ускользало из-под ног.
— Ну и противная же эта река! Вроде и не такая глубокая, едва до пояса, а какое сильное течение! — снова заговорил Штокман.
Он шел первым. За ним — Йонко и Веселин, а я — последним.
Пошатываясь и теряя равновесие из-за неровного дна реки, мы кое-как добрались до противоположного берега.
Сквозь поникшие ветви ив уже виднелись ближайшие дома села Войнягово, доносился хриплый собачий лай и мычание скотины. Справа, в направлении Стара-Планины, среди Карловской долины, возвышался небольшой, одинокий, почти голый курган. Мы направились к нему.
Когда подошли и оставалось пройти всего лишь сотню шагов, со стороны кургана донесся громкий голос:
— «Орел»! «Орел»!
Это был пароль, условленный с Карамфилом. Он командовал подразделением войняговцев в отряде имени Васила Левского.
— «Облако»! — последовал наш отзыв.
После этого из синеватого, предрассветного тумана показалась статная фигура молодого парня.
— Карамфил! — воскликнули мы в один голос.
— Здравствуйте, товарищи! — Он подошел и протянул нам обе руки.
Радостные и возбужденные, мы окружили его, обняли и забросали вопросами:
— Ну как вы здесь? Держитесь крепко?
— Пришло ли к вам новое пополнение молодежи?
— А сейчас, Карамфил, — сказал я, — представлю тебе товарища Штокмана. Он назначен к вам новым командиром отряда. С ним некоторое время останусь и я. А этих товарищей — Веселина и Йонко — возьми в свое подразделение. Оба они бывалые партизаны. Останутся у вас до весны. Чудесные ребята, будут помогать тебе в работе.
Веселин засмеялся.
— Ты, Ватагин, так нас представил, будто мы плотники из Мраченика — ведь еще неизвестно, кто кому будет помогать. Ведь этот край нам совсем не знаком.
— Товарищи, предлагаю, пока не рассвело, отправиться вон в тот лес, — предложил Карамфил. — Там проведем весь день, а к вечеру отведу вас в лагерь. Ну, пошли, здесь нас могут увидеть.
Мы последовали за ним. Вскоре вошли в лес. Когда взобрались на горный хребет, за вершиной Кадрафил уже взошло солнце. Место, выбранное нами, оказалось удобным, и оттуда как на ладони просматривалась вся Карловская долина и аккуратные села, разбросанные у подножия между Стара-Планиной и Среднегорьем. Белой лентой тянулось шоссе, связывавшее Войнягово, Свети-Климент, Малый и Большой Богдан. Оно проходило у самого подножия хребта, где мы расположились.
— Вы отдыхайте, а я останусь дежурить, — предложил Карамфил.
Мы согласились. Ведь лучше всего спится под утро, после того как всю ночь шел не останавливаясь. Когда солнце начнет приятно пригревать, любая полянка манит усталого путника прилечь.
Легли на траву и заснули глубоким сном…
Вдруг откуда-то издалека донесся тревожный и взволнованный голос часового:
— Товарищи, вставайте! По шоссе приближаются полицейские!
Я вскочил и посмотрел вниз. По дороге шли полицейские.
«Уж не напали ли они на наш след?» — подумал я.
Мои товарищи тоже встали. Веселин и Йонко, разозленные не на шутку, ругались.
— Черт возьми, нет нам покоя! — произнес Штокман.
Мы приготовились и стали ждать, не прекращая следить за полицейскими.
— Эх, хорошее у них оружие! — с нескрываемой завистью воскликнул Карамфил. — И так оно сверкает на солнце, что сил нет оторвать глаз! А ведь в нашем отряде половина товарищей не имеет оружия, хотя все они молодые горячие ребята.
Я повернулся к Штокману, но еще ничего не успел ему сказать, а он все понял и, повернувшись к Йонко, сказал:
— Йонко, следи за полицейскими.
Карамфил посмотрел:
— Ну что, померяемся с ними силами, а? Представляете, если нам удастся добыть новое оружие, какая радость будет в лагере! Да ведь скоро годовщина Октябрьской революции! Давайте отпразднуем ее как следует, пошлем свой боевой привет Красной Армии!
Мы решили устроить засаду.
— Они прошли мимо! — крикнул Йонко. — Направляются к Свети-Клименту. Я посчитал, их — двадцать три человека.
И посмотрел вдаль.
Через полчаса полицейские в синей форме вошли в село и исчезли среди домов. Свети-Климент хоть и маленькое, но смелое и непокорное село. Оно пережило много блокад, но осталось твердым и непоколебимым.
«Кого из матерей сейчас заставят рыдать эти гады?» — мелькнула мысль, и невольно вспомнил Брезово, свой родной дом. Мне рассказывали односельчане, как интернировали моего отца, мать, брата и сестру. Мать плакала. Отец осмотрел двор, вошел в хлев к скотине, стиснул зубы и махнул рукой. Потом всех моих родных взяли под стражу, заставили проститься друг с другом и отправили в разных направлениях. Арестовал их известный в селе предатель и подхалим Петр Арколо. Местный полицейский ушел, не подпалив солому, которой набил обе наши комнаты. Хорошо, что потом дядя Стойо позаботился о доме и скотине, поддержал интернированных, помог им. Добрый дядя Стойо, хотя и беспартийный, он всегда знал, на чью сторону надо встать, кому в трудную минуту подать руку.
Солнце уже поднялось высоко и стало припекать склоны войняговских гор. Голос Йонко заставил меня вздрогнуть:
— Смотрите, они возвращаются!
— Ну-ка, товарищи, займите свои позиции и стреляйте! Не забывайте, о чем мы договорились! — сказал Штокман.
Составленный план нападения, несмотря на то что нас было в пять раз меньше, все же позволял благодаря внезапной атаке разгромить полицейскую группу. Мы решили занять позицию с обеих сторон шоссе, там, где какая-то речушка пересекает его под небольшим мостом.
Штокман и Йонко должны залечь в овраге с одной стороны дороги, а Карамфил, Веселин и я — с другой.
Место оказалось удобным, хотя и абсолютно оголенным, но враг не мог нас обнаружить, так как крутизна берега служила отличным прикрытием.
Когда группа полицейских приблизится на расстояние двадцати шагов, Штокман и Йонко первыми откроют огонь. Мы же пока стрелять не будем. Естественно, полицейские, попав под неожиданный обстрел, сразу же залягут в кювет, спиной к нам. Тогда Карамфил, Веселин и я обстреляем их с тыла.
Мы спустились вниз. Обменялись рукопожатиями со Штокманом и Йонко, которые заняли свои места, и втроем перебрались через шоссе. Я проверил свое оружие.
— Ну, желаю удачи! — прошептал сверху Штокман.
— И вам! — ответили мы.
Вокруг было спокойно. Через несколько минут на повороте показались полицейские. Они шли без всякого строя, лениво, некоторые расстегнули шинели и сняли фуражки, другие несли на плечах винтовки, как палки. Они походили на стаю ленивых и сытых волков. Впереди шел старший, рослый и упитанный. Вот они приблизились на расстояние двадцати шагов. Мы уже совсем отчетливо видели их ненавистные самодовольные лица и руки, те самые руки, которые носили по селам насаженные на шесты партизанские головы и поджигали дома бедняков…
Внезапно прозвучали два выстрела. Штокман и Йонко начали действовать. Полицейские бросились врассыпную. Одни кинулись в кювет, другие залегли прямо в пыли посреди шоссе. Застрочили их автоматы. Весь огонь они направили на Штокмана и Йонко. Наступал наш черед. Единственная ручная граната, которую я имел при себе, весьма нам пригодилась. Я бросил ее в середину группы полицейских. Раздался сильный взрыв. Полицейские в панике никак не могли понять, что происходит. Одни из них вскочили на ноги и, как обезумевшие, бросились вниз к Войнягово, другие, так и не успев опомниться, падали, подкошенные нашими пулями.
Карамфил, справа от меня, целился спокойно и уверенно. Время от времени он улыбался и восклицал:
— Бейте их, товарищи! Ура-а-а!
Веселин почему-то медлил. Его «гречанка», как он называл свой греческий карабин, часто давала осечку.
— Эй, Ватагин, да мы их перебили всех! Дай-ка мне свой нож, что-то «гречанка» опять заела.
— Бери, Веселин, скоро мы ее заменим. — Не прекращая вести огонь, я передал ему нож.
И в этот момент я почувствовал, что мне обожгло локоть, и, ощупав правую руку, я обнаружил на ладони кровь.
— Ватагин, у тебя на руке кровь, что с тобой, ты ранен? — крикнул встревоженный Карамфил и бросился ко мне.
— Пустяки, царапина, — успокоил я его.
Мы быстро перевязали рану куском разорванной для этой цели рубашки. К тому времени огонь с обеих сторон прекратился. Только троим полицейским удалось ускользнуть. Больше десяти трупов валялось на земле. Оставшиеся в живых подняли руки. Штокман сурово прикрикнул на них:
— Бросайте оружие, гады, и отойдите в сторону!
Те, трусливо озираясь, послушно выполнили приказ. Штокман повернулся ко мне:
— Ватагин, иди на мое место! Ты же ранен!
Я отполз на другую сторону дороги. В этот момент раздались три одиночных выстрела. Пули зловеще просвистели совсем низко над нами. Со своей новой позиции я осмотрелся вокруг. Один полицейский залег примерно в двухстах метрах от нас и вел огонь из ручного пулемета. Похоже, что он испытывал недостаток в патронах, потому что стрелял с большими промежутками и короткими очередями. Мои товарищи спустились, чтобы собрать брошенные трофеи, а я, прикрывая их, открыл огонь по полицейскому с ручным пулеметом.
Пока я стрелял, одна из неподвижно лежавших в кювете фигур в синей форме вдруг стала подавать признаки жизни.
— Не шевелись! — громко крикнул я. — Если вздумаешь подняться, то начиню твою голову свинцом.
Человек этот пугливо обернулся и попросил:
— Умоляю тебя, братец, не убивай меня! У меня жена и дети, не стреляй, я всего лишь полевой сторож!
— Я тебе не брат, хватит разговаривать, лежи и не шевелись, если тебе дорога жизнь! — коротко отрезал я.
Полицейский, стрелявший в нас, с каким-то непонятным упрямством выпускал очередь за очередью. Я тоже усилил огонь. И тут услышал голос Штокмана.
— Товарищи, быстрее забирайте оружие и давайте отходить! Из Войнягово показались солдаты и полиция. Будьте внимательнее, перебегайте только пригнувшись!
Вдруг Карамфил покачнулся и упал с тихим стоном. Забыв об опасности, я вскочил, пересек шоссе и подбежал к нему. Схватил его за плечи, посмотрел в лицо:
— Карамфил, браток, что с тобой? Карамфил, ты слышишь меня?
Карамфил лежал неподвижно с плотно закрытыми глазами. Я лихорадочно искал пульс и не мог его нащупать. От горя у меня перехватило дыхание. Прибежали и остальные товарищи. Штокман ножом разрезал куртку Карамфила и обнажил грудь.
— Прямо в сердце, — прошептал он сдавленным голосом. — Карамфил убит, товарищи…
Стало тихо, так тихо, что я почувствовал, как кровь стучит у меня в висках. Наши взгляды встретились, но никто не проронил ни слова. Мы стояли безмолвные и потрясенные. Предательский пулемет тоже замер. Буквально в какую-то долю секунды злодейская пуля оборвала жизнь нашего друга Карамфила. Штокман первый нарушил молчание:
— Товарищи, унесем нашего Карамфила? Решайте, время дорого, нужно уходить! А то нас могут окружить!
— А если он еще живой? — отозвался Йонко. — Мы не должны его оставлять здесь, чтобы он не попал живым в руки врага! — И добавил: — Идите! Я вас догоню!
Нагруженные винтовками и автоматами полицейских, опустив голову, двинулись мы вперед. Я обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на Карамфила. Никак не мог поверить, что человек, с которым мы только что разговаривали и шутили, уже мертв. Все примолкли. Когда нас догнал Йонко, мне показалось, что уже пройдено много километров. Он присоединился к колонне, и никто из нас не осмелился задать ему ни одного вопроса. Мы продолжали свой путь. Только поднявшись довольно высоко, мы остановились и оглянулись назад. По шоссе двигались грузовые автомашины с солдатами и полицейскими, показалось и несколько легковых машин. Прибывшее подкрепление открыло сильный, но беспорядочный огонь, за нами было организовало преследование. Высоко в светлом небе угрожающе зарокотали самолеты, поднятые, вероятно, с аэродрома в Марино-Поле. Пытаясь нас обнаружить, они летали совсем низко и из пулеметов упорно обстреливали войняговские холмы. Мы скрылись в лесу, который, как нежная мать, укрыл нас. Там я предложил преклонить колени в память о Карамфиле.
— Товарищи, — с болью сказал я, — Карамфил был одним из активных и энергичных ребят в Карловском крае. Будучи еще учеником гимназии, он преисполнился ненавистью к фашизму и вступил в ряды революционной молодежи. В этом прекрасном человеке сконцентрировались самые лучшие качества революционера. Он заслужил любовь и уважение партизан.
Кто-то всхлипнул. Это вызвало во мне еще большую горечь.
— Всю свою жизнь я буду проклинать врагов, которые прервали жизнь нашего Карамфила. Всю свою жизнь буду сожалеть, что не успел сразить человека, пославшего пулю, отнявшую жизнь нашего боевого товарища, который носил в своей свободолюбивой душе ботевскую ненависть к врагам. Так поклянемся же под этим балканским небом, что мы отомстим за его смерть! Так передадим же нашу любовь к павшим товарищам, чистую и святую, грядущим поколениям, чтобы и они через много веков знали, что за нашу свободу здесь, на этом самом месте, сгорело много молодых сердец! И пусть поют песни о герое Карамфиле, как поют о его первом учителе — Ботеве, о Ботеве-воеводе!
Как жаль, что мы не имели возможности похоронить его с венками и песнями!
Мать не оплакивала его, девушка — его первая любовь — не проливала над ним горючих слез. Только родные горы по-отечески стояли у изголовья героя, став немыми свидетелями его безвременной гибели.
Но я все еще не мог поверить в то, что Карамфил погиб. И все думал, что произойдет какое-то чудо и он снова пойдет вместе с нами. И мы опять усядемся под каким-нибудь буком, и он вновь напомнит нам, как прекрасно жить и бороться.
Низкий поклон славному сыну наших гор!
Выбрав удобное место, где нас никто не смог бы обнаружить, мы присели. Тихий ветерок шелестел пожелтевшими листьями. В этой монотонной песне словно звучала скорбь об ушедшем от нас товарище.
Сейчас предстояло решить, что же нам делать дальше. Наш приход сюда, в западную часть Среднегорья, преследовал совсем иную цель. Я, как представитель штаба зоны, имел поручение отвести Штокмана в отряд имени Васила Левского, новым командиром которого его только что назначили. Йонко и Веселин направлялись в отряд для его укрепления в качестве командиров подразделений. После встречи около села Войнягово Карамфил должен был отвести нас в отряд. Но Карамфила не стало. И мы оказались в незнакомой местности. Мы не имели представления, куда надо идти, чтобы установить связь со здешними партизанами.
— Прежде всего надо поровну распределить запасы продуктов и боеприпасы, чтобы при необходимости каждый мог действовать самостоятельно, — сказал Штокман.
Самым старшим из нас был Штокман, человек с богатым опытом, он всегда мог подсказать, как нужно поступить. А при нашем положении создавшаяся обстановка не сулила радужных перспектив. Оказалось, что мы располагаем всего лишь половиной мешка картошки.
— Товарищи, — сказал я, — полицейские, безусловно, блокируют лес. Надо искать отряд Карамфила, в противном случае нам придется туго!
— Это правильная мысль, — прервал меня Йонко, — но как нам узнать, где он находится? Ведь мы в этих краях впервые! В село входить опасно, мы не знаем никого из местных жителей.
— Давайте тщательно закопаем в землю оружие, чтобы его можно было легко найти нашим людям, ведь вскоре оно понадобится, — предложил Штокман.
Разумное предложение. Веселин и я начали копать яму между корнями могучего дуба, а Йонко и Штокман старательно завернули автоматы. Мы позаботились и о том, чтобы оставить знаки, по которым смогли бы сразу обнаружить это место.
— В руках партизан это оружие будет использовано по назначению, — заключил Йонко и вытер вспотевшее лицо.
Где-то около вершины Богдан, где начали собираться темные облака, сверкнула яркая молния. Прогремел гром. После теплого и душного дня наступала дождливая ночь. Первые капли, крупные и тяжелые, забарабанили по листве. Подул ветер, поднял с земли и понес за собой траву и листья. Небо быстро потемнело, сразу же наступил вечер, словно бы его пригнали облака, ветер и дождь.
— Давайте готовить постель, пока не намокла земля, — предложил я.
Мы наломали ветвей, сделали из них что-то вроде тюфяка, и укрывшись каждый своим пальто, легли.
— Завтра решим, что будем делать. Спокойной ночи! — сказал Штокман.
Крепки партизанские нервы: несмотря на непрекращающийся дождь, мы спали как убитые.
Рано утром неподалеку от нас затрещали выстрелы. Мы вскочили.
— Оставайтесь здесь, между этими двумя тропинками! — предложил Штокман. — А я поднимусь на холм и выясню обстановку.
Мы забрались в кусты и зарылись в опавшие листья. Вскоре вернулся Штокман, усталый и запыхавшийся:
— Лес блокирован солдатами и полицией!
Словно бы в подтверждение его слов совсем близко послышались крики, ругань. С хрустом ломались сухие ветки.
— Сюда идут! — прошептал Йонко. — Вон двое, внизу между деревьями.
К нам приближались две сверкающие от влаги каски. Прильнув к мокрым листьям, я весь превратился в слух. Не смел даже пошевельнуться, думал только об одном: «Если нас обнаружат, мы едва ли сумеем вырваться…»
В это время по тропинке зацокали конские копыта. Я осторожно выглянул из своего укрытия. В седле на гнедом коне в надменной позе важно восседал офицер. Он подождал, пока двое солдат в мокрых касках вытянутся перед ним.
— Обнаружили что-нибудь? Где вы мотаетесь? А ну, быстрее!
— Их здесь нет, господин поручик, мы облазили весь холм. Они, безусловно, забрались повыше, — высказался один из них.
— Куда они денутся по такой грязи? Вам лень искать как следует. Только и ждете, чтобы завалиться спать, негодяи! Партизаны — хитрые люди, но на сей раз им не уйти от нас. Ну, чего же вы на меня уставились? Бегом марш! И смотрите в оба!
— Слушаюсь, господин поручик! — одновременно откликнулись оба.
Лошадь фыркнула и понеслась. Один из солдат обратился к своему напарнику:
— Ну и скотина же этот поручик! Еще столько крови нам перепортит, глазом не моргнет!
— Зверь, настоящий зверь, только бы не попадаться ему на глаза!
Они поговорили еще немного и пошли вправо. Наконец мы смогли пошевельнуться. Нам стало ясно, что это и есть большая блокада, о которой мы уже имели сведения, но не знали, когда она начнется. Штокман развязал свой рюкзак:
— Товарищи, пока относительно спокойно, можно поесть.
Каждый получил по холодной картофелине, это, конечно, не обед, но делать нечего.
— Будем скрываться до вечера! Как стемнеет, попытаемся выбраться отсюда, — вздохнул Йонко.
— Это единственный выход. Для таких людей, как мы, темнота — самый добрый друг, — согласился я.
Перед закатом снова пришлось спрятаться в импровизированном убежище между двумя тропинками. Совсем близко от нас пять-шесть полицейских ногами разгребали опавшие листья. Я решил не выдавать своего присутствия, пока они на меня не наступят. Потом, когда мы вспоминали об этих напряженных часах в войняговских лесах, оказалось, что все думали об одном и том же: если кого-нибудь из нас обнаружат, то он должен отвлечь внимание врага, чтобы спасти других.
Как только наступила ночь, мы почувствовали себя сильными и бодрыми. Горы окутал туман, и мелкий дождь, не прекращавшийся весь день, усилился. Мы давно уже промокли до нитки. Стали готовиться в дорогу.
— Товарищи, — сказал Штокман, — самое разумное — идти только на восток, пока не доберемся до знакомых мест. У меня есть компас. Согласны?
Мы съели свой ужин и пошли один за другим. Стояла такая темень, что я ничего не видел вокруг. Размокшая, скользкая земля мешала идти. Обувь, мокрая и облепленная глиной, стала вдвое тяжелее. То и дело теряя равновесие, спотыкаясь и падая, мы выбрались с войняговских гор. Только собрались устроить привал, как из темноты перед нами выплыли светящиеся окна. Залаяли собаки. Оказалось, что мы подошли к селу.
— Ватагин, ты не знаешь, что это за село? — подтолкнул меня локтем Штокман.
— Не знаю, я здесь не бывал.
— Дьявольские козни! — выругался Веселин. — Лучше уйдем, пока не поздно. Эти псы своим лаем поднимут всех на ноги.
— Люди, наверное, ужинают, — добавил Йонко.
Я заметил нотку зависти в его голосе и тоже проглотил слюну. Голод давал знать о себе. Мы подняли воротники пальто и направились к какому-то холму.
Штокман посмотрел на компас, а я — на часы. Время приближалось к полуночи.
— Йонко, — улыбнулся я, — уже поздно! Наверное, люди уже поужинали.
Мне, разумеется, было не до шуток, но эта способность шутить в трудную минуту является неотъемлемым качеством большинства партизан. Ведь только шутка в час испытаний могла отвлечь от невеселых мыслей. В какое село мы тогда попали, я и до сих пор не знаю.
Мы продолжили свой путь на восток.
— Идем как будто бы в чернилах, — пробубнил Веселин.
— Осторожно, яма! — послышался словно из-под земли голос Йонко.
Еще не успев отреагировать на предупреждение, я почувствовал, что куда-то проваливаюсь. Инстинктивно я протянул вперед руки, но все равно свалился вниз, вслед за мной полетел и Веселин. Яма оказалась неглубокой — всего три-четыре метра, — и никто не ушибся.
— Проклятая яма! — шепотом выругался Веселин.
— Куда запропастился мой автомат? Наверно, упал в воду.
Все занялись поисками автомата, ведь оружие для партизана — самая ценная вещь. Полчаса мы ощупывали каждый сантиметр земли, и в конце концов Веселин радостно воскликнул:
— Нашел!
Я вздохнул с облегчением. Значит, можно продолжать путь. И вот совсем рядом послышался шум воды. Совсем близко протекала река.
— Товарищи, это же Стряма! Отсюда начинаются знакомые нам места. — И я почувствовал, что ко мне возвращается чувство уверенности.
Мы ускорили шаг. Река после дождей стала полноводной, и вода ее показалась нам теплой. Глаза уже стали различать ветки на деревьях и очертания противоположного берега. Все вокруг выглядело сизым из-за раннею рассвета, который неумолимо и равномерно размывал ночную тьму.
— Ну, трудности остались позади, — улыбнулся Штокман. — Это уже знакомые места.
Компас здорово помог нам. Не успел я осмотреться, как под самым высоким деревом уже запылал костер.
Штокман предложил погреться. В это хмурое, влажное утро огонь показался нам особенно приятным. На наших хмурых лицах стали появляться улыбки.
— Ни одной струйки дыма! — воскликнул Веселин.
— Товарищ Штокман все делает точно по правилам!
Мы разулись, чтобы скорее просохнуть.
— Как только согреемся и приведем себя в порядок, — сказал Штокман, — решим, что делать дальше. И продукты найдем.
Стало совсем светло. Находясь далеко от населенных пунктов, можно было рассчитывать на относительное спокойствие. Мы заранее договорились о контрольной встрече в свеженских горах с нашими из отряда имени Христо Ботева. Уже и дождь прекратился. Укрепилась надежда, что хорошая погода поможет нам благополучно добраться до своих.
Но не всегда получается так, как тебе этого хочется. Только мы подкрепились картошкой и затоптали остатки костра, как загремели выстрелы. Лес отозвался гулким эхом, пули засвистели со всех сторон, стали падать обломанные ветки, полетели щепки.
— Отходить в горы! — крикнул я.
В промежутках между выстрелами ясно доносились топот, ругань и угрозы в наш адрес.
— Стрелять только в самом крайнем случае, — приказал Штокман и ползком стал продвигаться вперед.
Мы последовали за ним. Без единого выстрела нам удалось выскользнуть из кольца. Усталость нарастала. Вдруг слева от нас, в высоких кустах, мелькнуло несколько серых фигур, и, пока мы сообразили, что же нам предпринять, кто-то из карателей крикнул:
— Вот они, партизаны!
Другой, вероятно начальник, заревел:
— Окружай их!
Мы залегли.
Куда бы я ни посмотрел, повсюду видел фигуры солдат и полицейских.
— Вперед! Слышите, скоты!
«Только попадись мне на мушку, я сразу же заткну твою мерзкую пасть!» — подумал я, сжимая автомат.
— Товарищи, пойдем прямо на прорыв, вон там их меньше всего! — сказал Штокман.
Я ощупал свою раненую руку — простреленное место болело, но не настолько, чтобы мне мешать.
— А ну, давайте, сейчас как раз подходящий момент, пока они не замкнули кольцо окружения. Вперед! — Штокман открыл огонь по перебегающим от куста к кусту полицейским. Мы дали дружный залп, сделали перебежку и залегли. Нам удалось ввести противника в заблуждение. Прячась от пуль, они не заметили нашего передвижения и осыпали градом свинца то место, где мы до этого находились.
— Как только они немного осмелеют и зашевелятся, пойдем на прорыв! — скомандовал Штокман.
Мы ждали молча, готовые тотчас же броситься в атаку. Я наблюдал за участком впереди себя. И вот высунулись из укрытий несколько человек, повертели головой во все стороны, явно пытаясь понять, куда мы делись.
— Огонь! — крикнул Штокман.
Перебегая с места на место и отстреливаясь, мы в одно мгновение оказались лицом к лицу с врагом. И прежде чем он успел опомниться, нам удалось вырваться из кольца окружения. Тогда, несмотря на то что нас было всего четверо, мы могли уже успешно отстреливаться, не опасаясь получить пулю в затылок.
К счастью, с севера надвигались черные тучи. Загремел гром, длинная изломанная молния ударила в скалу. Подул сильный холодный ветер, и полил проливной дождь. Природа как будто хотела помочь нам. Мы предполагали, что полицейские не решатся броситься за нами в погоню. Нужно было воспользоваться благоприятным моментом. И мы пошли, даже не оглядываясь. С неба, свинцового и какого-то зловещего, на нас выливались потоки воды. Земля превратилась в такое месиво, что мы проваливались по щиколотку. Но, не переводя дыхания, мы продвигались вперед…
К вечеру очутились в знакомой калоферской местности — Коритарско. Здесь у калоферцев находились зимние кошары.
— Тут наверняка найдем чего-нибудь поесть, — сказал Йонко.
Мы промокли до нитки. Зашли в первую кошару — пусто. Ни людей, ни продуктов. Никогда Коритарско не выглядело таким нежилым. Мы обошли все кошары, но тщетно.
— Ясно, что ужин нам не придется готовить, так хоть бы отоспаться, — махнул рукой Веселин.
— В этих кошарах мы оставаться не можем! — откликнулся я. — Если враги идут за нами следом, то прежде всего станут искать нас здесь.
Всем нам хотелось передохнуть под крышей, но это оказалось невозможным. Мы спустились на два-три километра вниз по течению реки Аджарской и кое-как устроились под деревьями. Усталость давала знать о себе. Спали как убитые.
Примерно часов в шесть Штокман разбудил меня:
— Ватагин, посмотри туда, на тот холм!
На другом берегу реки, на низких склонах, раскинулись солдатские палатки.
— Лагерь! — только и смог я вымолвить.
Несколько лошадей паслось у какого-то бесформенного возвышения, покрытого брезентом. Я указал на него Штокману:
— Это наверняка пулеметы и минометы!
Йонко и Веселин отправились в разведку. К обеду они вернулись.
— Солдаты из артиллерийского полка. Уже два дня находятся здесь, в лагере. Полицейских и жандармов нет.
Мы решили не рисковать. Когда стемнело, Штокман и Йонко отправились на другую сторону реки искать свободное место, где мы могли бы пройти незамеченными дальше. Вернулись угрюмые.
— Повсюду солдаты. Если только шевельнемся, сразу же нас обнаружат, — объявил Штокман. — Нужно переждать.
— Блокада серьезная, — добавил Йонко, — поэтому-то в Коритарско пустуют кошары.
И вторую ночь мы провели на берегу реки Аджарской. Нас чуть не обнаружили. Все время мимо проходили и суетились солдаты. С занятой нами позиции хорошо просматривались крайние дома в Калофере. До нас доносился жалобный рев запертой в хлевах голодной скотины. Никого из жителей но выпускали из городка. Таи прошло целых пять дней. Выбраться пока не было никакой возможности.
На шестой день небо прояснилось. На западе высилась вершина Кадрафил, залитая оранжевыми лучами солнца, на севере виднелась часть Юмрукчала, а на востоке гордо высилась вершина Мара-Гидик. Но все их красоты мало волновали нас. Мы совсем обессилели.
Штокман с поразительной точностью распределял между нами картошку. Но и она кончалась. О костре мы не смели даже помышлять.
Йонко, самый младший из нас, не выдержал:
— Товарищи, хватит мучиться! Не умирать же нам с голоду! Предлагаю к вечеру двинуться в путь. Если нас заметят, будем драться. И будь что будет!
Мы приняли это предложение единодушно, потому что оно казалось нам наиболее правильным. Голод мучил нас вот уже целую неделю, а если мы совсем лишимся сил, то тогда…
Луна еще не взошла, когда мы отправились в путь по течению реки. Думали зайти в какой-нибудь дом за продуктами и порасспросить местных жителей об обстановке. Не успели миновать кошары в Коритарско, как Веселин остановил нас:
— Товарищи, смотрите, пчелиные ульи!
Мы вскрыли несколько ульев и с жадностью набросились на душистые свежие соты. Сколько продолжалось это пиршество — не знаю. Первым подал голос Штокман:
— Наполните свои рюкзаки!
Я носил с собой бидон из-под керосина и использовал его для этой цели, наполнили мы и кружки, которые всегда имели при себе. Потом положили в рюкзаки еще по две-три рамки.
Мы спустились к реке, чтобы умыться. Вдруг Веселин скрючился и глухо застонал:
— Больно!
Я не успел ответить, как почувствовал, что, как ножом, полоснула острая боль в желудке. Остальных тоже скорчило от боли. Мы начали кататься по земле, но никакого облегчения это не давало. Боли усиливались. У меня выступил холодный пот. Веселин шептал:
— Нет сил терпеть.
Мы ничего не могли сделать. Молча корчились от схваток более двух часов. У меня был здоровый желудок, и я впервые испытывал такие острые боли. Казалось, что я проглотил горячие угли. Но вдруг нам стало легче. Мы посидели несколько минут и, не обменявшись ни словом, поднялись. Шли долго, не могу даже вспомнить сколько-Уже наступила полночь.
Вдруг на тропинке послышался приглушенный разговор. Мы залегли. Рассветало. Мы лежали на мокрой земле и ждали. Мне уже чудились омерзительные физиономии полицейских. Так и подмывало выпустить всю обойму в тех, кто замер неподалеку от нас. Ясно, что и они нас заметили. Воцарилась тягостная тишина. Кровь бросилась в голову, и сердце наполнилось ненавистью. Семь дней мы скрывались от врагов… Молчание. Те притаились, и мы не шевелились. Так прошло минут двадцать. Но вот с их стороны мы услышали:
— Кто вы такие? Назовите пароль!
— А кто вы такие? — отозвался я. — Какой у вас пароль?
Снова тишина и молчание. Я не выдержал и приподнялся:
— Что вы за люди? Я — Ватагин.
— Да ну, ты ли это? Один?
Я узнал голос дяди Калчо и выскочил из укрытия:
— Дядя Калчо, неужели это ты?
И сразу меня охватило теплое, нежное и радостное чувство. Наконец из глубины холодного, неприветливого леса до меня донеслись не ругательства и угрозы, а дружеские голоса! Штокман, Веселин, Йонко тоже поднялись во весь рост.
— Эй, братья, как вы, живы ли? — быстро подбежал к нам дядя Калчо.
— Живы, дядя Калчо, гадам назло! — протянул я руки и обнял его. — А как вы тут?
— Все целы и невредимы.
— Только это мы и хотели услышать, товарищи! — взволнованно сказал Штокман.
Все стали обниматься, дружески похлопывая друг друга по плечу. А в это время как-то внезапно и быстро рассвело. Проснулись птицы. Природа улыбнулась. Небо просветлело, и лес засиял своей свежей чистотой.
БЛОКАДА
Темные кучевые облака, как чудовища из детских сказок, проносились над самыми крышами, разбиваясь о холмы, и исчезали где-то на востоке. Казалось, что опустевшие улицы стали шире. На тротуарах все реже раздавался звук шагов. Люди встречались только на Брезовской или Карловской улицах. В коротеньких и грязных переулках Каршиака время от времени появлялись лишь полицейские и некоторые засидевшиеся в трактирах мужчины.
До ворот нас проводила тетя Анка, тысячи раз приговаривая, чтобы мы берегли себя и, когда вернемся с гор, опять наведались бы к ней. Добродушная и спокойная, тетя Анка не раз встречала нас, как дорогих гостей. У нее мы чувствовали себя как дома. Дядя Янко вышел раньше нас, чтобы осмотреть улицу. Он, казалось, по одному запаху узнавал обстановку и мог по самому неприметному факту предусмотреть все. И это не случайно. Дядя Янко — старый конспиратор, один из создателей партийных организаций в Кричиме и Пловдиве. Он отличался необыкновенной наблюдательностью, сообразительностью и безошибочным чутьем. Через несколько минут он вернулся, улыбаясь, подбодрил нас взглядом и подал знак отправляться в дорогу.
Мы вышли из дома Янко Шопа. На улице Тича стало уже совсем пустынно и темно. Но в моем сердце было светло. Светло было от встречи с Янко Шопа, этим чудесным человеком, который ничего не боялся. Мы знали, что он готов пойти за нас в огонь и в воду. Он всегда принимал нас, как родной отец. И слова его, обращенные к нам, такие теплые и нежные, заставляли не думать о смерти, хотя она подстерегала нас повсюду.
Мы шли вместе со Слави Чакыровым. За нами на некотором удалении дядя Иван нес в мешке наши рюкзаки. Мы часто прибегали к этой уловке. Без вещей, в случае неожиданного нападения, можно было свободнее действовать, а прохожий с мешком за спиной в таком квартале, как Каршиак, не вызывал подозрений. Какими только хитростями мы не пользовались в тяжелые дни подпольной борьбы! И всегда после успешного завершения какого-нибудь задания в груди бушевало особенное чувство — радость, искреннее удовлетворение и гордость от сознания своей силы.
Вскоре мы дошли до садов на окраине города. Быстро темнело, как будто бы невидимые руки опускали перед нами занавес. Я обернулся и тихо произнес:
— Дядя Иван, давай вытащим рюкзаки.
Пока мы натягивали ремни мешков на плечи, выглянула луна, стало чуть светлее, и мы могли уже разглядеть, что делается вокруг.
— Ребята, доброго вам пути и наилучших пожеланий всем товарищам, — сказал дядя Иван.
Мы пожали друг другу руки и расстались. Этой осенней ночью мне и Слави предстояло идти на северо-восток по направлению к Среднегорью и к рассвету добраться до стрямалийских лесов, где нас должны были ждать товарищи, чтобы отвести в отряд.
Через час мы очутились среди пловдивских рисовых полей. Жидкая грязь предательски засасывала ноги. Часто мы увязали в ней по колено.
— Ватагин, — прошептал мне Слави, — если увязнем но пояс, не представляю себе, как мы выберемся.
— Давай, давай, осталось совсем немного, — ответил я. Отяжелевшие ноги едва подчинялись мне.
Кому не доводилось идти через рисовые поля ночью, тот не сможет себе представить всех наших мучений. Всегда, когда мне приходилось проезжать по шоссе, я засматривался на эти поля и удивлялся крестьянам, возделывающим свои затопленные участки, как им удается работать в этой жидкой грязи. В нашем селе никогда не выращивали рис, и это представляло для меня известный интерес, но мне никогда не доводилось непосредственно иметь дело с полем, подготовленным для посева риса. Пробираясь по колено в грязи, я вспомнил о людях, месивших эту грязь на рисовых полях в течение многих дней, и полюбил их еще больше. Нас одолела такая усталость, что просто не хватало сил перемолвиться словом.
Вдруг Слави тихо проговорил:
— Послушай, дорогой, отсюда нет выхода. То, что мы встретим здесь рассвет, ясно, но мне не ясно, как мы проведем день в этой грязи.
Через час показалось село. Мы догадались об этом по бледным огонькам и собачьему лаю. По всей видимости, это было село Калековец.
Наконец мы ступили на твердую землю и оказались на берегу Стрямы. Слева заметили деревянный мост.
— Слави, думаю, что по мосту идти опасно. Дядя Иван говорил, что там устраивают засады.
— Ну что ж, перейдем реку вброд ниже моста по течению. Заодно, может быть, удастся смыть грязь с одежды.
Мы перешли реку вброд. На противоположном берегу в небольшом молодом лесу нас ждали товарищи. Первым появился сияющий Седов.
— Что вам сказать, товарищи, добрый вечер или доброе утро? Да не все ли равно! Хорошо, что вы благополучно добрались.
Мы присели на минутку, обменялись новостями и снова пустились в путь. Молчали, потому что на дороге могла быть засада.
На рассвете остановились в молодой дубовой роще, недалеко от села Дрангово. Утро обещало, что день будет солнечный. По ясному небу проносились небольшие облака, похожие на брызги мыльной пены. Красиво. Издали донеслось мычание коров и перезвон их медных колокольчиков. Крестьяне воспользовались хорошей погодой и чуть свет вышли кто в поля, кто пасти скот.
— Люди встают, когда мы ложимся, — сказал я. — Но ничего не поделаешь, нужно отдохнуть. Двигаться днем слишком опасно.
— Ну что, поужинаем? — засмеялся Слави. — Обычно вечером мы почему-то завтракаем.
— Похоже, что нам все приходится делать наоборот, — откликнулся я.
Ничто так не вселяет в людей мужество и бодрость духа, как скромная шутка в суровой обстановке, как приподнятое настроение после бессонной ночи.
— Ну, если мы собираемся поесть, то нужно разжечь костер, — предложил Слави.
Мы развязали свои рюкзаки. Тетя Дайка набила их белым хлебом, брынзой, мармеладом да еще и медом.
Затрещал огонь. Не знаю, найдется ли хоть один партизан, который бы не любил костер. И тогда, как и всегда, костер разгорался по всем правилам конспирации, без струйки дыма. Я нарезал хлеб. Мы решили обжарить его.
— Ну, прошу к столу, — пригласил Седов.
Я только поднес к губам первый кусочек «жаркого», как мне внезапно показалось, что за нами кто-то следит. Я резко обернулся. В десяти шагах от меня, поджавшись, как для прыжка, на нас смотрела крупная полицейская ищейка с широкой мускулистой грудью и высунутым языком.
— Товарищи, вставайте! Поблизости полиция!
Мы лихорадочно собрали свои продукты и затоптали огонь. Собака, ощетинившись, смотрела на нас, но напасть боялась.
Вдруг она встала и неожиданно залаяла. И сразу же где-то поблизости с остервенением отозвались другие псы. Прогремел выстрел. С шипением в воздух взвилась желтая ракета.
— Сигнал! — промолвил Слави. — Нас обнаружили!
Коварное животное продолжало предательски захлебываться от лая.
— Проклятый пес, — заскрипел я зубами, схватил большой круглый камень и изо всех сил швырнул его в собаку. Седов тоже метнул в нее камень. Удары попали точно в цель. Собака пронзительно заскулила и отскочила в сторону. Еще несколько удачно брошенных камней окончательно отбили у нее желание преследовать нас. Мы поспешили уйти.
— Товарищи, — сказал я, — в этой маленькой роще даже комар не сможет укрыться. Полицейских, безусловно, больше, чем нас. Предлагаю добежать до златоселского леса, а туда километров десять.
— Путь впереди пока, наверное, свободен, — добавил Слави, — и у нас нет другого выбора.
Положение создалось весьма серьезное. Предстояло среди белого дня пересечь большой участок голой местности.
— Пока нас не окружили, все еще есть какая-то надежда! — проговорил Седов.
Мы вышли из рощи и остановились в полной растерянности. Перед нами простиралось ровное, свежераспаханное поле, которому не было видно конца-края. Над бороздами поднимался белый туман.
— По этому вспаханному полю идти будет трудно, — бросил я тихо.
Затрещали выстрелы. Пули срезали листья с крайних деревьев. Мы поняли все без лишних слов. Я залег, а остальные бросились бежать через поле. Я открыл огонь, чтобы задержать полицейских. Появившиеся первые фигуры в синей форме вели себя как-то нерешительно и, попав под мой огонь, сразу же бросились на землю. Только один из них, видимо наиболее дерзкий, продолжал стоять во весь рост, но потом упал, чтобы уже никогда больше не подняться. Я оглянулся назад. Мои товарищи оторвались уже метров на двести. Слави махнул мне рукой.
«Уже пора», — мелькнула мысль.
Полицейские не подавали признаков жизни. Я вскочил и помчался по небольшому склону. Сначала бежал быстро, но как только попал на свежевспаханное поле, так сразу же ноги увязли по щиколотку в грязи. Я напряг все тело. Снял со спины рюкзак и с большим сожалением выбросил его, а потом, согнувшись, бросился вперед. Засвистели пули, с тупым звуком вонзаясь в землю. Но винтовка Слави тоже не молчала: под прикрытием его огня я невредимым добрался до своих товарищей. Теперь залег Седов, а мы продолжали путь. Точный огонь Седова вынудил полицейских передвигаться ползком. Когда он нас догнал, я бросил взгляд назад. Нас преследовало множество полицейских и жандармов с собаками-ищейками. Ближе всех к нам продвинулись их фланги. Вражеская цепь растянулась.
— Хотят перекрыть нам дорогу, гады! — выругался Слави.
Началась погоня. Один из нас оставался, чтобы прикрыть остальных, пока те, отстреливаясь, отходили. Иногда преследователи настолько приближались к нам, что я ясно видел их озверевшие лица и слышал их грязную ругань и угрозы. Но они явно боялись встать и накинуться на нас в открытую и не смогли замкнуть кольцо окружения.
Только к обеду мы добрались до густого златоселского леса. Его манящая зелень вдохнула в нас свежие силы. Взбешенные полицейские к этому времени уже стали отставать. Холодный ветер обдувал мое вспотевшее лицо. Но когда я встретился взглядом со своими товарищами, то не увидел среди них скромного и всегда сосредоточенного Седова. У меня потемнело в глазах. Седов погиб…
Мы углубились в лес. Никто не проронил ни слова. Все стояли неподвижно, сняв шапки. Слезы навернулись на глаза. Я не стыдился этих слез. В тот момент сильнее всего во мне горело желание, чтобы наступил день, когда убийцы заплатят за все…
Уже к вечеру, падая от усталости, измученные, убитые горем, мы добрались до отряда Бойчо. Партизаны расположились в неглубокой, по отлично замаскированной деревьями и буйно разросшимся кустарником пади. Посты вели наблюдение с холмов, опоясывающих ложбину. Не успели мы рассказать Бойчо и его людям о том, что случилось с нами около Дрангово, как появились запыхавшиеся партизаны Владо и Пейчо. Они вернулись после трехдневной разведки. Все присели. Владо снял шапку, вытер лицо и опустил голову:
— Плохо, товарищ командир! Не только в Златоселе, но и в других селах полно солдат. Наши помощники сказали, что готовится большая блокада. Завтра, вероятно, начнут рыскать повсюду…
Пейчо нетерпеливо прервал его:
— Все дороги перекрыты!
Бойчо встал:
— Товарищи, идите сюда.
В отряде насчитывалось примерно пятьдесят человек, главным образом из района Брезова; почти все они являлись ремсистами. Самым старым партизаном был Владо, который давно ушел в горы вместе с сыном Стояном. Брезовский отряд отличался маневренностью: в случае необходимости его сразу же разбивали на небольшие группы, которые незаметно проскальзывали между селами и всегда благополучно соединялись в заранее определенном месте.
— Товарищи, — поднял руку Бойчо, — положение серьезное, началась блокада. Считаю, что нам не следует переносить лагерь в другое место. По пути мы наткнемся на полицию и солдат. Если придется вести бой, то лучше всего принять его здесь: место хорошо замаскировано и защищено.
Мы согласились. Предложение показалось нам разумным. Бойчо продолжал:
— Если нас обнаружат, отряд придется разделить на четыре отделения. Мы нанесем внезапный удар по врагу, овладеем ближайшими скалистыми высотами и будем там обороняться до вечера. Вот так, товарищи.
Партизаны стали готовиться к бою. Возле нас остались Бойчо и Боцман.
Мы поговорили еще какое-то время, уточнили некоторые вопросы и легли отдохнуть.
Нас разбудил крик Владо:
— А ну, налетай, мамалыга готова!
Я встал, потянулся. Усталость прошла, и каждой клеткой своего тела я чувствовал бодрость.
— Ого, Владо, да ты приготовил райское угощение! — засмеялся Боцман. — Мамалыгу с медом я еще никогда не ел. Браво!
Только мы успели поесть, как сверху донесся голос часового:
— Товарищи, с юга к нам цепью продвигаются каратели!
Я посмотрел на часы: было около шести. Лагерь походил на муравейник. Владо лихорадочно суетился возле своей маленькой кухни, ему никак не хотелось бросать посуду, которую он использовал для приготовления пищи. Мы снова уточнили план, и Бойчо приказал:
— Пора, занимайте свои места!
К северу от лагеря, метрах в пятидесяти — шестидесяти, проходила тропинка. Там расположилось одно отделение во главе с Бойчо. Ему предстояло командовать боем. Это было правильное решение. Бойчо, несмотря на молодость, проявил себя смелым и умным командиром. Другие отделения тоже заняли свои места. Партизаны все с большим нетерпением ждали встречи с врагом.
Послышался лай полицейских собак. Мы лежали, ждали и прислушивались. Обычно во время блокад противник поднимал неимоверный шум, и это помогало нам ориентироваться в том, откуда он наступает. И сейчас до нас явственно доносились крики идущей впереди группы.
Взорвалась граната, затем вторая. Резко прозвучали выстрелы. Группа Бойчо вступила в бой. Похоже, что среди фашистских гадов из-за неожиданности нашего нападения возникла суматоха. В промежутках между выстрелами до нас долетали крики, проклятия и ругань. Прошло несколько напряженных минут. Стрельба на тропинке заметно усилилась. Я поднял голову. Другие отделения молчали.
«Что случилось? У Бойчо кипит бой, а у других — затишье! — Мое сердце забилось в тревоге. — Ясно, что враг продвигается только по тропинке. Кто знает, сколько их? В любой момент они могут пробить оборону, ворваться на наши позиции и ударить с тыла. И тогда пьяный полицейский сброд может уничтожить весь отряд!» Эти мысли мелькнули в моей голове молниеносно. Я вскочил на ноги.
— Товарищи! — громко крикнул я. — Слушай мою команду! Пейчо, Стоян, Филипп, за мной, вперед, к тропинке, остальным оставаться на местах! Ура-а-а, бей врагов!
Мы бросились на помощь Бойчо как раз вовремя. Пять партизан сражались с десятками полицейских. Вражеские пули отламывали щепки с деревьев. Партизаны других отделений тоже прибежали на помощь. Схватка приняла неожиданный оборот. Мы отбили атаку врага. Несколько полицейских остались на поле боя. У нас жертв не было, даже никого не ранило.
— Стойте, не надо их преследовать! — остановил я чересчур вошедших в раж товарищей. — Перестрелка, несомненно, привлечет сюда новые силы противника. Займите свои прежние места, ведь мы не знаем, откуда они появятся.
Было чрезвычайно важно, чтобы мы не увлеклись преследованием спасающейся бегством группы карателей. В противном случае это могло привести к тому, что отряд окажется раздробленным, да еще на открытой местности. И когда подойдет подкрепление, нас могут окружить в поле.
Поступили правильно. Не успели мы еще полностью подготовиться, а уже завязалась новая перестрелка, на сей раз противник наступал с юга. Сейчас в бой вступило подразделение Стеньки, а вслед за ним сразу же и все остальные. Враг нас обнаружил и начал атаковывать со всех сторон. Наиболее упорно он рвался туда, где залег Стенька со своими людьми. Я направился к нему, чтобы выяснить положение. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что Стенька разжился автоматом! Я помахал ему рукой:
— Ну как там у вас? Все в порядке?
— В порядке, разве не видишь! — подмигнул мне он, указывая на свой сверкающий на солнце автомат. — Ребята не отступят!
Бой длился целый час. Врага мы разбили наголову, и он в беспорядке отступил к селу Златосел. Мы собрали трофеи и поднялись на ближайший скалистый холм, где, как выяснилось, были еще более выгодные для обороны позиции. Выставили посты.
Слави подтолкнул меня локтем:
— Ватагин, мы им задали такую взбучку, что у них штаны прилипли к телу! Убегали, окончательно потеряв рассудок. У нас же не оказалось ни одного раненого. Пусть и впредь нам так везет!
Я молчал. У меня сердце замирало от радости, от огромной радости.
— Это уже победа, — заявил я. — Враг нас будет помнить.
— Ну, что вы скажете, не отправиться ли нам в горы? — спросил Слави.
— Думаю, пока что в этом нет необходимости, — добавил я. — Противник может снова напасть на нас.
— Для надежности останемся до вечера здесь, — предложил Бойчо. — Позиции у нас прекрасные. Если они нападут, будем отбиваться, пока не стемнеет, а потом уйдем в горы.
Только Бойчо встал, чтобы сообщить об этом товарищам, как раздался чей-то крик:
— Каска! Огонь! — И выстрел нарушил тишину.
Мы умолкли. Я выскочил из-за большого камня и приготовился к бою. То же самое сделали и другие товарищи. В тот же миг прозвучал другой голос:
— Убили Миладина!.. Подождите, что вы делаете, мы же свои!
Я понял, что произошло что-то страшное, и отправился к месту происшествия. Миладин лежал мертвый с пробитой головой.
— Кто стрелял, почему? — спросил я строго.
Вместо ответа я услышал неподалеку какой-то шум. Посмотрел: два человека боролись.
— Что ты делаешь, с ума, что ли, сошел? Держите его крепче! Товарищ Ватагин, иди сюда, а то Иванчо…
Иванчо едва дышал в объятиях Пейчо, который сжал его, сколько хватало сил, и уговаривал не делать глупостей.
— Успокойся, разберемся, ты же не виноват. Война, — продолжал убеждать его Пейчо. — Слышишь, ты же не виноват, произошла ошибка.
Иванчо вроде бы и слушал, но до него явно ничего не доходило. Он до такой степени расстроился, что почти безжизненно повис на руках Пейчо.
Что же, в сущности, произошло?
Группу, в которую входил Миладин, послали собирать оружие и одежду убитых полицейских и солдат. Выполнив задание, партизаны через лес отправились к вершине, где мы занимали позиции. Миладин, который нес ворох полицейской одежды и оружия, видимо для удобства, решил надеть на голову солдатскую каску.
Иванчо, стоявший на посту, вооруженный турецкой винтовкой, подумал, что навстречу идет полицейский. Он выстрелил. Ему и в голову не пришло, что это могут быть свои.
Но после выстрела и началась трагедия. Откуда мог знать Иванчо, что идет Миладин, а не полицейский? После одержанной большой победы этот трагический случай омрачил наше настроение. Иванчо не решался смотреть нам в глаза. Он громко плакал, умолял расстрелять его или позволить самому пустить себе пулю в лоб. Ему трудно было перенести этот удар. Иванчо считал, что его место рядом с Миладином, которого он любил, как брата.
Немало товарищей погибло у меня на глазах, но этот случай был поистине ужасен. Мы не знали кого оплакивать: молодого Миладина или парализованного горем Иванчо.
Дорого обошлась нам эта победа.
КАДИЛО ПОПА НЕОФИТА
Луна появилась из-за двух курганов, которые, как вечные стражи, стояли на восточной окраине села Брезово, осветила дорогу в Чирпан, сжатые поля и отяжелевшие от крупных гроздьев виноградные лозы. Ночь стала светлой, как день, настолько светлой, что мы различали даже янтарные гроздья винограда.
Мы с Йонко шли и слушали лунную сказку ночи. Как же прекрасен наш край! До чего же приятно быть в пути в такую ночь!
Луна, словно лодка, плыла по усыпанному звездами небу. Слышалось тихое журчание Коджабеглийской реки, раздавались звуки падающих на землю налившихся сладким соком крупных яблок.
Йонко наклонился, поднял яблоко и хотел уже его надкусить, но побоялся даже этим нарушить царящий вокруг покой. И, подержав его, выпустил из рук.
Перед нами раскинулись села Брезово, Чоба, Зелениково, Дрангово, притихшие, как стада в ночи. Только собачий лай то там, то здесь нарушал тишину звездной ночи. Мы шли, и нам не хотелось даже разговаривать. Все казалось нам ясным, совсем как эта лунная ночь. Наши мечты и помыслы словно бы растворились в лунном свете.
Мы бесшумно двигались и мысленно переносились в мир детства. Вот и наше поле, вот и старая груша, под которой мы много раз ели соленый таратор[16].
Перейдя через дорогу в село Чоба, мы спустились в долину реки, к нижней окраине села Брезово. Жернова Мрывковой водяной мельницы молчали. Здесь, на этом месте, будучи детьми, мы встречались с Йонко и не раз затевали настоящую войну между мальчишками из его и нашего села. Мы изображали тогда две воюющие армии, сражавшиеся за богатые спорные пастбища.
Мы подошли к нашему кварталу, и я явственно ощутил запах роз и теплого хлеба, который с таким трудом достается крестьянам. Весь квартал спал после изнурительной дневной работы, чтобы снова встретить рассвет на полях.
Мы перелезли через ограду сада. Йонко остался стоять у стены под тенью сливового дерева, а я тихо постучал в дверь.
Мама еще не ложилась, пряла шерсть.
— Это ты, сынок? — сказала она. — Я очень испугалась, услышав стук: уж не заявились ли снова те негодяи? Каждый вечер кружат вокруг дома, тебя поджидают. Не заметил ли тебя кто-нибудь?
— Не так легко меня увидеть, мама, — успокоил я ее и поцеловал.
Отец поднялся с постели, обнял меня.
— Опасно, Генко, берегитесь, они совсем взбесились. Ходят по селу пьяные, буянят. Теперь я боюсь и за Ивана, — проговорил отец.
Брата Ивана дома не оказалось. Он поехал в город по делам, и отец беспокоился, как бы его не схватила полиция.
Мама поспешно бросилась к стенному шкафу, достала хлеб, брынзу, перец и завернула все это в какую-то домотканую скатерть. Пока я наспех закусывал, она рассказывала о том, где и что она слышала и видела.
Вчера приходил старый поп Неофит, чтобы окропить дом за здравие. Мой отец, который недолюбливал церковников, вышел во двор, но поп и не подумал убраться восвояси.
— Покроплю, — сказал он, — за здравие Генко. Может, господь бог меня и послушает. Я знаю, что Генко неплохой парень.
И отец, который сначала хотел прогнать попа, как-то сразу преобразился, даже улыбнулся в усы. Почему бы не позволить покропить дом за здравие сына, ведь поп это решил сделать из хороших побуждений.
Поп Неофит сделал несколько шагов, натянул на свое огромное широкоплечее тело епитрахиль, раздул кадило, даже насыпал в него ладан и, посмотрев через окно в небо, крикнул во весь голос:
— Да сохранит господь вашего молодца!
Мама, хоть и не очень-то верила в бога, зажгла лампадку перед иконой с изображением святого Георгия на колеснице, запряженной белыми лошадьми, и помолилась богу, чтобы он хранил меня. После этого она успокоилась, щедро угостила попа анисовой водкой и пожелала ему здоровья. Вдохновленный анисовкой, поп еще больше оживился, высоко поднял кадило и запричитал:
— Врагам пусть за зло платит сторицей, и пуля пусть его не берет! И пусть живым и невредимым вернется с победой!
Длинная молитва попа Неофита очень понравилась моим родителям. Отец, сидевший в углу, слушал его с удовольствием. Мама же все подливала в рюмку попа водки и ловила каждое его слово, будто от его молитвы зависела моя жизнь.
На прощание он обещал моим родителям, что, если понадобится, спрячет меня в церкви; в случае же, если владыка выгонит его за это со службы, то он, поп Неофит, уйдет в горы.
Молился ли он искренне — не знаю, но позже я понял, что поп Неофит был неплохим человеком. Даже в молитвах перед амвоном он упоминал и мое имя, чтобы господь бог хранил меня от злых врагов.
Когда мама рассказывала мне об этом, я невольно посмотрел в угол комнаты, и мне показалось, что я вижу попа Неофита и его дымящееся кадило. На душе стало грустно и светло.
Меня проводили: отец выглянул за ворота, мама поцеловала меня, и скатившаяся из ее глаз слеза обожгла мне щеку.
Йонко стоял в тени дерева и ждал меня. Мы перешли вброд реку и через поля добрались в горы.
ЙОЗО
Ноябрь был холодный и дождливый. Ветер пронизывал до костей; ледяной дождь, предвещавший снег, шел несколько дней подряд. Горы словно бы насквозь пропитались влагой. Не осталось сухого места ни под одним деревом.
Не знаю: приходилось ли вам бывать в горах в дождливое время? Тучи настолько низко опускаются к земле, что вместе с деревьями образуют что-то похожее на замкнутый круг. Становится трудно ходить — скользко. Ты падаешь, встаешь, снова падаешь и испытываешь такое чувство, что никогда не выберешься из этого дьявольского круга.
Люблю Среднегорье. Но сейчас, когда все заволокло туманом, когда непрерывно идет дождь, я мечтал как можно скорее выбраться отсюда. А проклятый дождь все лил и лил. Только дядя Калчо чувствовал себя хорошо под огромным плащом-ямурлуком. Нет более практичной одежды, чем крестьянский ямурлук. Он намокает только сверху, и затем уже ему не страшен никакой дождь.
— Эй, горожанин, как ты себя чувствуешь в своем наряде? — обратился дядя Калчо к Стамо, который весь съежился в своей тонкой спортивной куртке.
— Зуб на зуб не попадает! — откликнулся Стамо.
К вечеру мы попрощались с товарищами и отправились в дорогу. Добряну, Йоско и мне предстояло пробраться в Пловдив, куда нас вызывали на совещание. Эту дорогу мы хорошо изучили, ведь мы с Добряном не раз ходили в город. Но сейчас дождь создавал дополнительные трудности.
Я шел первым, за мною Йоско и последним — Добрян. Миновав дранговскую рощу, мы спустились по последнему склону и вышли на равнину. Внизу протекала бурная речка. Мы остановились около нее и затем медленно, один за другим, вошли в холодную воду.
Двигались молча. Дождь продолжался, грязь прилипала к ногам. Каждый шаг давался с трудом, и со стороны могло показаться, будто мы считаем, сколько шагов нужно сделать, чтобы дойти до Пловдива.
Обошли стороной села Дрангово и Отец-Кириллово. Вокруг только поле — ровное-ровное. Нигде ни кустика.
Наступал рассвет. Мы подошли к селу Генерал-Николаево. В этом селе у нас не было никаких связей. Местные жители отличались крайней религиозностью, признавали только попов, которые помыкали людьми как им заблагорассудится.
Что же делать? Среди белого дня идти через открытое поле — опасно, оставаться здесь — не менее опасно. Ведь укрыться было совершенно негде.
— Паршивы наши дела! — выругался Йоско.
— Войдем в какой-нибудь дом, и все! — отрезал Добрян.
Он был намного старше нас, и мы прислушивались к его словам. Рабочий из Пловдива, с большим партийным и революционным опытом, Добрян был нашим старшим другом. Мне никогда не доводилось видеть, чтобы он был с кем-нибудь груб. Говорил он тихо, медленно и немного нараспев. Ко всем относился сердечно и по-дружески, поэтому партизаны любили его.
— Решено, — снова повторил Добрян. — Просто зайдем во двор крайнего дома и там переждем!
Мы перелезли через ограду, пересекли двор и забрались в хлев. Хлев как хлев, как и все другие в этом краю. Приземистый и тесный. В нем едва разместились два ослика и тощая корова. Над хлевом находился чердак, так сказать, второй этаж, заваленный кукурузными листьями и сеном. «Комфортабельно», тепло и уютно. На посту остался Йоско, а мы с Добряном сразу же заснули. Сколько спали, не помню. Не помню также, когда хозяйка дома, женщина средних лет, вошла в хлев, чтобы подоить корову. Напуганные ее криком, мы проснулись.
— Ой-ой, мамочка! Йозо, здесь чужие!
Мы соскочили вниз: Йоско держал женщину и пытался заткнуть ей рот, чтобы она не кричала. А она металась, ведро дребезжало в ее руке, и несчастный Йоско в какой уже раз повторял:
— Ну замолчи же! Ничего плохого мы тебе не сделаем!
— Отпусти ее! — сказал Добрян.
Она посмотрела на него благодарным взглядом.
— Не бойся, сестра, мы неплохие люди, — добавил Добрян и посмотрел на нее тепло и ласково своими большими голубыми глазами.
Женщина взглянула на его доброе лицо, и ее страх мало-помалу рассеялся.
— Успокойся, мы ничего не просим, кроме разрешения провести день в хлеву.
Наконец она пришла в себя и спросила:
— А вы, случайно, не из леса?
— Мы — партизаны!
Женщина побледнела:
— Ой-ой, боже, погибли мы! Деточки мои! Уходите!.. Вчера сожгли семь домов в Стряме. Там стоят войска и полиция. Ищут Леваневского. Боже, может, кто из вас и есть этот Леваневский!.. Нас же живьем сожгут! Стоит только кому-нибудь сказать, что Леваневский побывал у нас, и тогда конец.
И она закрыла лицо руками.
— Куда же нам идти? — сказал Добрян. — У нас нет своего дома, мы даже имена свои позабыли. А ты говоришь: «Уходите».
И словно бы оправдываясь, женщина тихим голосом повторила:
— А вчера семь домов в Стряме подожгли…
— Никуда мы не пойдем. Позови своего мужа! — приказал ей Йоско, указывая на дверь.
Превозмогая страх, она позвала:
— Йозо, Йозо, иди сюда!
— Значит, мы тезки, — засмеялся Йоско. — Ну, в таком разе нам нельзя не договориться. Двое Йоско — это уже кое-что значит!
Открылись двери, и перед нами во весь свой могучий рост встал Йозо.
— Ну, друг, — сказал Добрян, — сегодня до вечера тебе придется посидеть дома.
— Люди, да как же я могу не выходить отсюда целый день, я же мясник, меня ждут в лавке.
— Ничего не поделаешь, сошлешься на болезнь, — сказал ему Добрян.
— Ну что ты! У меня отнюдь не болезненный вид! Если об этом узнают в селе, все сразу же придут сюда и подымут нас на смех.
Наконец он все же согласился с нами. Ничего не поделаешь. Заболел человек. Но не прошло и часа, как в ворота начали стучаться.
— Йозо, Йозо! Почему не открываешь лавку?
— Йозо болен, не слышишь, как стонет?! — откликнулась его жена, не выходя из дома.
И действительно, Йозо протяжно и громко стонал.
— Хм! Болен, говоришь? Да чем же это он занемог? — И шаги удалились от ворот.
— Добрян, что мы теперь будем делать, а? Не накликал бы он на нас какой-нибудь беды? — поделился своей тревогой Йоско.
Часа два мы сидели как на иголках. Но вскоре успокоились и стали ждать наступления ночи. А день, как нарочно, тянулся бесконечно. И Йозо все стонал. Стиснул зубы и стонал. Даже дети и те не смели показываться во дворе. Они поняли, что в доме что-то происходит, раз их отец слег в постель.
Незадолго до обеда хозяйка засуетилась, зарезала гуся, ощипала его.
— Что происходит? — спросили мы ее. — Неужто ты нас решила угостить?
К вечеру мы зашли в дом. Тесная прихожая оказалась заставлена большими медными котлами и разной другой посудой. Мы переступили порог просторной комнаты. У круглого стола стояли низкие стулья, а на столе красовались большие тарелки, в которых лежали куски гуся с капустой. Мы молча переглянулись, невольно проглотив слюну. Ведь сколько дней мы не ели по-человечески! Хозяева стояли в стороне и все время уговаривали нас взять еще кусочек. Несчастные, они мечтали как можно скорее отделаться от нас. Из другой комнаты доносилась возня детей. В тот день им никто не делал замечаний, не останавливал, когда они шумели и баловались. Дети и не подозревали, кому обязаны такой свободе, но охотно пользовались ею.
Стемнело.
Мы попрощались с хозяевами. Поблагодарили их за гостеприимство. На наше повторное напоминание о том, что они не должны никому сообщать о нашем посещении, они только кивали головою, словно у них язык отнялся.
На цыпочках мы добрались до ворот. И Добрян так тихо их открыл и закрыл, что вздох облегчения, вырвавшийся из груди Йозо, достиг нашего слуха.
Смешной Йозо!
ЗАСАДА
Это было летом 1943 года. Все Среднегорье охватило пламя народной борьбы. Повсюду пылали партизанские костры. Старые леса, укрывавшие когда-то Левского и Ботева, снова были полны вооруженными людьми. К востоку от Стрямы до самого Чирпана действовали подразделения славного отряда имени Христо Ботева. Но район, где родились Ботев и Левский, славившийся своими бунтарскими традициями, все еще что-то медлил. И если в июне — сентябре 1923 года этот край неизменно оказывался в первых рядах борцов, то теперь почему-то не спешил с выступлением. Это отставание, разумеется, имело свои причины. Кое-кто из местных руководителей неправильно оценил положение, создавшееся в стране. Потому, когда начали поднимать на борьбу Карловский край, возникли значительные затруднения. Товарищи, ранее ушедшие в партизанские отряды, жили обособленно. Относились ко всем с недоверием и по отношению к каждому новому партизану проявляли настороженность. Они опасались широкого развития партизанского движения. Но так не могло продолжаться. Пришлось проводить разъяснительную работу, чтобы привлечь как можно больше людей в отряды.
По решению окружного комитета партии Слави отправился на запад в Голямо-Конарскую околию, а я — в Карловскую. Вместе с Трилетовым и Любчо мы встретились с товарищами из Карловского отряда и единодушно решили приложить все усилия для того, чтобы обеспечить развертывание партизанского движения. С этой целью мы втроем — Трилетов, Любчо и я — однажды вечером спустились по крутым тропинкам к селам Видраре, Горни- и Долни-Домлен. Сельские собаки, которые обычно только и ждут, когда появится чужой человек, пока не подавали голоса. Мы приближались к селу.
— Вроде пришли, — сказал я. — Вот сады, здесь должны нас ждать.
Мы вошли в сады с восточной стороны. Любчо назвал пароль. Тотчас же с разных сторон к нам подошли несколько здоровенных мужиков из села. Кое-кто из них принес с собой оружие, другие же несли в руках только дубинки. Они подошли и стали отряхивать одежду от соломы.
«Наверно, пришли прямо с полевых работ», — подумал я.
— Здравствуйте, товарищи, — приветствовали мы их дружно.
— Здравствуйте, здравствуйте, — тоже хором ответили они и протянули нам руки.
— Где бы нам переговорить? — спросил Трилетов.
— Да здесь, у нас в селе нет чужих, и нам никакая опасность не грозит, — предложил один из крестьян.
Мы уселись прямо на земле. Подошли еще несколько человек. Несмотря на темноту, я почувствовал, что они с недоверием смотрят на нас и что их терзает одна мысль: «Неужели эта зеленая молодежь будет учить нас, что надо делать. Да разве можно им верить?»
Мы с Любчо были совсем еще молоды. Он был немногословен. Сурово и уверенно смотрели на окружающих его голубые глаза. Он крепко сжимал в руках автомат. Наблюдательному человеку больше ничего и не нужно: уже одно это красноречиво свидетельствовало о том, что за человек этот Любчо.
Трилетов был опытным партизаном и пользовался у крестьян уважением. Они знали его и прежде, да и много слышали о нем. Любчо и меня видели впервые. Я почувствовал себя уязвленным их несколько пренебрежительным отношением. Очевидно, Любчо сразу же уловил причину моего смущения. Он наклонился ко мне и шепнул:
— Не переживай, все будет в порядке.
Нас засыпали вопросами. Эти крестьяне были представителями сел Домлен и Видраре, некоторые из них были членами партии. Они обо всем спрашивали главным образом Трилетова, от него ждали ответов и через какое-то время совсем забыли о нас.
— Сами понимаете, — говорил им Трилетов, — что вы должны быть в отряде, иначе ваш край совсем отстанет, а партизаны должны быть повсюду, где только это возможно, с тем чтобы давать отпор фашистам, ускорить их гибель.
— Мы-то согласны, но полиция, когда узнает… — пробормотал сидевший рядом со мной.
— Товарищи, — сказал Трилетов, — я хочу представить вам уполномоченного штаба зоны товарища Ватагина. Он скажет вам несколько слов о предстоящей работе.
Я встал. Двое или трое крестьян подошли ближе, чтобы лучше меня рассмотреть, а остальные начали о чем-то шептаться между собой. Не теряя времени, я начал свою речь. Говорил просто и искренне, чтобы убедить их в правоте своих слов:
— Товарищи, сейчас такое время, когда надо действовать незамедлительно. Фашизм доживает свои последние дни. Именно нам с вами и предстоит покончить с ним. Всех замучили грязные дела полиции и жандармерии, вы их испытали на своем горбу. Вы знаете, как поступают палачи даже с мирными людьми. От вас, товарищи, требуется, чтобы вы влились в наши ряды, это ваш долг перед народом и вашими детьми. Нас должно быть больше, чтобы мы стали сильными и победили. Иначе мы рискуем попасть в положение наших прапрадедов, которые пятьсот лет изнемогали под турецким игом.
Меня слушали внимательно. Раздалось несколько проклятий и угроз в адрес фашистов. Значит, я попал в точку. Но когда я упомянул о численности и вооружении противника, крестьяне приумолкли. Упоминание о силах врага немного поколебало их веру. Я помолчал. Вспомнил о своем разговоре с отцом — тоже крестьянином. Год тому назад, проходя через родное село, я зашел домой. Мы сели ужинать, а отец никак не мог усидеть на месте. В конце концов он мне сказал:
— Послушай, Генко, сынок, вы правы, я понимаю, за что вы боретесь. Извел нас этот фашизм. Немцы весь хлеб наш съели, скоро, наверное, и последние лапти наши проедят. Но ты только посмотри, сколько их! Вся власть, оружие, войска, можно сказать, почти целиком в их руках! А вы? Вас горсточка, и половина из вас не имеет даже винтовок…
Я только было собрался ему ответить, но он подал мне знак рукой, чтобы я помолчал:
— Генко, я совсем не хочу тебя поучать, ты свое дело знаешь, ты уже большой. Только вот гложет меня сомнение: не поторопились ли вы? Ну, почему вы не хотите дождаться, когда русские подойдут к нашему краю?
Я похлопал его по плечу:
— Отец, наши действия имеют огромное значение, любое промедление может обернуться бедой. Мы должны сковать силы противника, чтобы помочь Советской Армии. Тогда она сможет скорее вступить в Болгарию. Стыдно сидеть сложа руки, выжидать и не участвовать в борьбе. Ведь ты же понимаешь это!
Своего отца я оправдывал — пожилой человек и беспартийный, но теперь передо мной находились коммунисты, и моя задача состояла в том, чтобы их убедить.
Снова посыпался град вопросов:
— А с женами, детьми? Что будет с ними?
— Эти гады сожгут наши дома, как только узнают, где мы.
— И оружия у нас нет, не голыми же руками будем драться против полиции?!
Вмешался Трилетов:
— Товарищи, иначе нельзя. Каждый, кому дорога родина, сражается вместе с нами в отрядах. И оружие для вас найдется. Партизанское движение постоянно растет, И Карловская околия не имеет права отставать!
— Хорошо, но удастся ли собрать достаточное число людей? — пробормотал кто-то.
— По правде говоря, пора выступить, но удастся ли это нам? — добавил другой.
— Мы знаем, что вам нелегко порвать с мирной жизнью, — заговорил я. — Но здесь собрался актив, коммунисты, а партия призывает всех на вооруженную борьбу против монархо-фашистов. Ваше место там!
— Вопрос абсолютно ясен, товарищи! — добавил Любчо. — Нечего философствовать, а давайте решим, кто сейчас же отправится с нами, потому что до лагеря путь далек.
Дальше уже все пошло гладко. Мы оставили в селе двух товарищей, а с остальными отправились в лагерь Калоферского отряда. В эту ночь нам предстояло пройти среднегорские овраги, долину реки Тунджа и к рассвету выйти к Старчовецу. Луна взошла рано, и, когда мы вброд переходили Тунджу, она уже светила слишком ярко, и это могло нас выдать. Мы отчетливо видели все вокруг. Шли мы по всем правилам — друг за другом. Трилетов, Любчо и я, как старые партизаны, шли впереди. В лесу мы чувствовали себя как дома, чего не скажешь о новичках. Несмотря на всю суровость крестьянской жизни и на хорошее знание окрестностей, наши товарищи продвигались вперед как-то неуверенно, вздрагивали при каждом лесном шорохе.
Наконец мы добрались до калоферских виноградников, занимавших все склоны Старчовеца. Трилетов остановил нас и прошептал:
— Наберем винограда для товарищей, они будут рады.
Все согласились. Неподалеку от кошары для овец мы нашли на одном участке созревшие гроздья винограда сорта калоферский мускат. Мы собирали виноград в рюкзаки и одновременно лакомились им. Первым поднялся Любчо:
— Пойдемте дальше, а то здесь открытое место и очень светло, нас могут увидеть.
До гор оставалось еще немного пути. Когда мы поднялись на Старчовецкий перевал, перед нами открылся прекрасный вид. Древние Калоферские горы, как исполины, возвышались к северу от нас. А внизу, где-то позади, в долине реки Тунджа, в свете луны вырисовывались очертания Среднегорья — этого горного хребта-красавца. Нам все казалось сказочно прекрасным. Я невольно залюбовался открывшимся передо мной видом и почти забыл, кто я и зачем здесь. И только смотрел вокруг и восхищался, опьяненный красотой гордой природы. Слева, в пяти-шести километрах к западу, раскинулся Калофер — родина Ботева. Я вспомнил об его истории — совершенно подлинной, хотя она и звучит как легенда.
…Во времена многовекового и мрачного турецкого рабства в долине, где сейчас расположен город, скрывался отряд Калофера. Калофер — смелый и дерзкий воевода — не давал спуску туркам-душегубам. Много лет в этом краю не смел появиться ни один турок. Бесплодными оказались все попытки поработителей уничтожить отряд. Сами условия местности помогали отряду удерживать этот край как настоящую крепость. Турки пытались подкупить отважного болгарского воеводу, но все их попытки оказались напрасными. Слухи о нем дошли до султана. Задумался турецкий султан и в конце концов издал грамоту, в которой предоставлял воеводе Калоферу и его людям свободу и разрешал поселиться в этом краю. Однажды воевода собрал своих молодцов и повел их в Сопот, славившийся своими красивыми девушками. Отряд Калофера появился в Сопоте как раз в праздник, когда на площади водили хоровод. Калофер приказал каждому из своих молодцов выбрать себе девушку и увезти ее на своем коне. Так воевода Калофер основал город Калофер…
Внезапно тишину нарушили автоматные очереди. Через мгновение я оказался на земле и почувствовал, как трава нежно гладит мое лицо.
«Засада!» — решил я и стал внимательно осматриваться вокруг. Но так никого и не увидел. «А куда же девались товарищи? Кругом — ни души!» Стрельба не прекращалась, и я никак не мог понять, откуда ведут огонь. Я отполз на несколько метров в сторону, снова осмотрелся вокруг, но так и не обнаружил никого из своих. Пули свистели совсем рядом, а слева от меня вспыхивали смертоносные язычки пламени. Я открыл огонь в этом направлении, но так и не понял: в цель ли я стреляю? Перестрелка настолько усилилась, что я уже не слышал знакомого звука очередей моего автомата, а только чувствовал, как он дрожит, когда я нажимаю на спусковой крючок. Пришлось постоянно менять позицию, переползая с места на место по-пластунски, и мне казалось, что земля вокруг меня превратилась уже в решето. Несколько раз я громко позвал Любчо и Трилетова, но тщетно, никто не отозвался. Сама мысль, что я остался один, не давала покоя. Все же совсем другое дело, когда в подобные моменты чувствуешь рядом с собой плечо товарища. Я снова вставил обойму в автомат и отполз к высокому кусту терновника. Вдруг совсем рядом взорвалась граната, и меня ослепило. Сильный взрыв оглушил, в глазах потемнело. Когда я пришел в себя, то в ушах гудело, а тело стало каким-то чужим и непослушным, не подчиняющимся моей воле. Я ощупал себя и уверился, что следов крови нет. Решил отступить. Осторожно отполз немного назад и скатился вниз по склону. Стрельба внезапно стихла. Наступила напряженная тишина. Только я начал обдумывать, что же мне предпринять, как справа от себя услышал голоса. Оттуда раздалась автоматная очередь. Уж не Любчо ли стрелял?
— «Остров»! «Остров»! — произнес я вполголоса.
Автомат продолжал строчить. Наверно, это не Любчо.
— «Остров», ты слышишь меня? — крикнул я громче.
Ответа не последовало.
— Послушай, «Остров», я — Белов, слышишь, Белов! — назвал я свой псевдоним. И в ответ послышался незнакомый и полный ненависти голос:
— Какой еще Белов?
— Вот такой Белов! — крикнул я и выпустил в его сторону очередь из автомата. Потом, пригнувшись к земле, спустился вниз, полагая, что враг не успел еще замкнуть кольцо блокады вокруг всего Старчовеца и, значит, путь, по которому мы пришли сюда, остался свободным. И в самом деле вскоре я оказался в безопасности, но обнаружить следов моих товарищей нигде не мог. Пройдя почти с километр, я так и не уверился в том, что возвращаюсь по той же дороге. Шел и думал: «Если не найду своих друзей, то придется подыскивать надежное убежище на весь день».
Никого из жителей этого края я не знал. И мне оставалось рассчитывать только на себя. Продолжив свой путь, я пересек небольшой овраг и очутился в чьем-то винограднике. Посредине стоял небольшой дом. Внимательно прислушиваясь, я подошел к нему. До меня донесся какой-то шум. Это пережевывал корм конь или мул. Значит, здесь есть люди. Хозяева, должно быть, заночевали тут, а возможно, уже встали, несмотря на столь ранний час. Постучал в дверь.
— Кто там? — тихо отозвался чей-то мужской голос.
Мне не хотелось рисковать, и я поэтому решил не входить в дом.
— Выйди! — попросил я. — Хочу кое о чем тебя спросить.
Из дома вышел мужчина средних лет, внимательно оглядел меня и, убедившись в том, что я не полицейский, распахнул дверь и пригласил войти:
— Заходи в дом, товарищ, не бойся, я — Петко из Калофера. А ты не из группы ли, которая нарвалась на засаду? Ты один? Нет ли убитых среди вас?
— Ничего не знаю, Петко, — ответил я. — Остался один, меня чуть не схватили. А ты не видел кого-нибудь из наших?
— Ко мне со вчерашнего дня никто не заходил, но полчаса тому назад через виноградник прошли несколько человек. Они очень торопились. Я выходил стреножить мула и не сумел рассмотреть, кто они такие.
— А ты не можешь показать, в каком направлении они пошли?
— Конечно могу. — Он встал и вывел меня на крыльцо. — Вот здесь они прошли вниз и свернули вдоль ограды соседнего виноградника.
Сердечно поблагодарив доброго Петко, впоследствии ставшего нашим верным помощником, я заторопился в том же направлении. Какова же была моя радость, когда в двухстах — трехстах метрах от дома на пароль мне наконец-то ответили. И не успел я прийти в себя, как из темноты ко мне бросился Любчо, крепко обнял меня и сказал:
— Мы все о тебе думали, товарищ Белов. Как же получилось, что ты отстал от нас? Мы как раз обсуждали: искать ли тебя или подождать? Да как же ты нас нашел?
— Ну, вас-то я всегда разыщу, — рассмеялся я радостно.
— Цел ли ты? — обнял меня и Трилетов.
— Абсолютно. Мы еще повоюем, браток! Настоящая партизанская душа так легко не сдается.
Мне стало легко на сердце и так хорошо, как стало бы любому, кто снова нашел своих товарищей, встретиться с которыми уже не надеялся.
ЦАРЬ УМЕР…
Брезовский отряд разбил свой лагерь под Бакаджиком, у прозрачного горного потока. В сущности, это был уже не лагерь, а лесной поселок. Среди буков виднелось около ста землянок. Партизаны устраивались в них по двое, по трое. Каждый вкладывал в устройство временного жилища что-то свое. Здесь, в этом отряде, оказалось трудно выделить старых партизан и новичков. Все они вместе выдержали одну из самых серьезных блокад, предпринятых врагом, и теперь их связывала настоящая боевая дружба. В отряде установился необыкновенно высокий боевой дух.
Самым веселым человеком в отряде слыл Харитон, очень изменившийся за последнее время. Ветер и солнце так над ним поработали, что от его нежного цвета лица не осталось и следа. Волосы и брови сильно выгорели и стали совсем светлыми. Он показался мне еще более гибким и подвижным, чем прежде.
Мы с Боцманом полулежали на земле, прислонившись спиной друг к другу, и внимательно слушали Харитона, призывавшего к активным боевым действиям.
— Наш отряд существует уже два года, но мы не сделали всего того, что могли бы сделать. Возможно, условия нам помешали — так думают и говорят некоторые. Мы обязаны переменить свою тактику и активизировать боевую работу.
Именно для этого вместе со Слави Чакыровым мы и пришли в отряд — поговорить с людьми, которые уже ясно поняли, что больше так продолжаться не может. Нужно переходить к наступательным действиям.
До чего же хорошо, что рядом Боцман! А тот, словно отец среди родных сыновей, с огромным удовлетворением слушал Харитона и то и дело подталкивал меня:
— Ведь именно так, не правда ли, браток?
— Блокада нас не запугала! — продолжал Харитон.
Приближалась зима, причем отнюдь не первая из проведенных брезовцами в горах. Но теперь нас стало много. Перед нами возник вопрос: где же перезимовать?
Вдруг раздался чей-то голос:
— Царь умер! Товарищи-и-и, где вы?
Партизанский лагерь расшумелся, как потревоженный пчелиный улей. Следом за часовым к нам приближался какой-то человек. На спине он нес мешок, а в руках держал посох. Немного сгорбленный, он ступал тяжело и все время опирался на него.
— Царь умер, товарищи, не слышите разве колокольный звон? С утра трезвонят по покойнику. Вот это для вас! Угощайтесь! Другого у меня нет, но груши очень сладкие!
Этот человек оказался из села Розовец, расположенного недалеко от нашего лагеря. Как только он узнал эту новость, наполнил мешок грушами и отправился разыскивать нас. А как раз в этом месте Среднегорье значительно расширяется. Ему пришлось пройти сквозь густой лес, преодолеть множество горных потоков, холмов, оврагов и ущелий. Тенистые тропинки извивались под вековыми буками, выбирались на большие поляны, заросшие папоротником, и снова скрывались в глубоких оврагах. Не зная точно нашего месторасположения, он уже полдни бродил в наших лесах, чтобы сообщить радостную весть.
Уж не думал ли он, что власть падет, как только умрет царь? Кто знает? Мы окружили его, а он все махал рукой и повторял:
— Ну же, товарищи, вы только прислушайтесь к этому колокольному звону, это же звонят по покойнику! Скатилась корона с головы царя, нешуточное это дело.
По гребню одного из многочисленных отрогов главного хребта мы выбрались на широкую поляну. Трава почти вся высохла, и потому обнажились разбросанные повсюду камни, но огромные зеленые папоротники, словно венком, покрывали хребет. На вязах и осинах появились первые вестники осени — желтые листья. Буки тоже уже начинали желтеть, но дуб, этот величественный красавец Среднегорья, все еще не поддавался, и его крона оставалась такой же зеленой, как и прежде. На этой поляне мы повели большой хоровод. Смеркалось. С треском разгорался сухой валежник, и языки пламени разогнали гнетущую тьму. Ну как описать всю прелесть ночного партизанского костра в горах?! Кругом непроницаемая стена, и видишь только лица своих товарищей. Забыв о всех невзгодах, они прыгали через костер. На какое-то мгновение они забыли о том, что им сулит ближайшее будущее. Я лежал с одной стороны от костра, а Зубок — с другой, и мне казалось, что огромные языки пламени отражаются в его светлых глазах.
Стенька встал, подбросил сухих веток в костер, который разгорелся с новой силой.
— Эх, что за костер, что за чудо! — пришел в восторг Владо.
Под большим буком напротив нас стоял Боцман. В этот вечер он почему-то искал уединения. Может быть, ему взгрустнулось.
— Эй, Боцман! — позвал его Харитон. — Давай споем — его величество преставилось!
— Запевай ты.
Мощный голос Харитона разбудил задремавший лес:
Взошла вечерняя звезда, Недельо…Песня взволновала всех. Она разливалась вширь, уносилась высоко-высоко и западала в сердце. Все слушали затаив дыхание. К певцу присоединилась и Живка. Ее бархатный голос догонял бас Харитона и вливался в него.
— Пойте, товарищи! — время от времени повторял крестьянин. — Пойте, ведь царь умер, черт бы его побрал!
ОПЕРАЦИЯ В ВИНАРОВО
Мне поручили при помощи ремсистов из подразделения Тимошкина дать оценку состоянию работы РМС в Чирпанской околии и провести мобилизацию его сил.
Руководителем ремсистов в этом краю являлся Черкез из села Омурово. Я относился к нему с особенным уважением. Резкий, темпераментный, Черкез слыл одним из смелых партизан в Чирпанской околии. Взгляд его был острым и пронзительным, как у орла. Он всегда был готов выполнить любое задание партии.
После того как мы решили все основные вопросы, Черкез предложил спуститься в чирпанские села и установить связь с ремсистами. С нами пошел и Сечко — мой старый друг еще по Пловдиву.
Мы простились со Слави Чакыровым и Чочоолу и отправились в Винарово.
От енишерлийских гор до Винарово добирались два дня. Прошли через Голям-Дол, Омурово и устроили привал в лесу около села Винарово. Остановились на склонах винаровских холмов, Черкез едва сдерживал свой восторг:
— Ты только взгляни, Ватагин, какой красивый у нас край! Ну скажи, ты когда-нибудь пробовал такой сладкий виноград, как наш? А о вине нечего и говорить! Только бы победить, тогда посмотришь, какое вино польется рекой! Наступит время партизанских свадеб. Эх, земля-землица!..
Тогда я едва ли мог предвидеть, что, окончив после войны агрономический факультет, Черкез через пятнадцать лет после победы будет угощать нас чирпанским димятом[17] в честь присвоения ему звания профессора.
Мог ли я в те дни предположить, что именно Черкез, всегда казавшийся мне рожденным для борьбы, сменит автомат на перо?!
— Эх, Ватагин, ты и представить себе не можешь, какая в нашем краю молодежь! Вот сейчас познакомлю тебя с ремсистами из села Винарово. Чудесные ребята, бойкие, смелые — настоящие чирпановцы!
Мы остановились в лесу около села. В ожидании сигнала о приходе винаровских ремсистов мы с Черкезом мечтали о будущем. Привел их Кара — так звали высокого, черноглазого и чернобрового парня с правильными чертами интеллигентного лица. Кара говорил быстро и темпераментно:
— Ну как вы живете, товарищи? Есть ли у вас продукты? Вижу, что вы хорошо вооружены. Значит, все у вас в порядке.
Рядом с ним стоял Младен и время от времени вставлял свои реплики в быструю речь Кары.
Мы подкрепились принесенной ими едой, обсудили положение в организации и поставили перед ними вопрос о массовом развертывании партизанского движения.
— Сколько в вашем селе членов РМС?
— Примерно пятнадцать человек! — ответил Кара.
Приступили к уточнению плана действий. В течение нескольких часов наблюдали за селом, определили, у кого из наших врагов есть оружие, произвели точный расчет и постановили приступить к действиям.
Решили, что молодежь должна сама организовать партизанское подразделение и, вооружившись, уйти в горы — этого требовали от нас указания партии.
Винаровские ребята вернулись домой, чтобы провести дополнительную разведку, уточнить, все ли намеченные нами люди находятся в селе, подготовить остальных ремсистов. Только на следующий вечер, после того как мы снова все обдумали и проверили, мы спустились в село через виноградники. Прохладный ветерок точно ласкал наши потные лица. А луна повисла над винаровскими полями. Мы шли молчаливые и строгие, словно нам предстояло сражаться с многотысячным противником. Перед каждым из нас стояла определенная задача. Группа Черкеза, в которую вошли Кара, Радко и еще несколько ребят, отправилась к южной околице села. Со мной пошли Сыбчо и Крум. Нам поручили атаковать село с северо-запада. Третью группу возглавил Сечко. Наше наступление началось одновременно с трех сторон. Раздались испуганные вопли фашистских прихвостней и лай собак. Откуда-то донеслись выстрелы.
Сечко улыбнулся, покрепче стиснул автомат и повел своих ребят в атаку. Я отдал один свой пистолет Круму, а Сыбчо гранату и перепрыгнул через ближайший плетень. Мне в ноги бросился черноголовый пес и заскулил.
— Это дом Ивана Манолова, — сказал мне Сыбчо. — Страшный изверг и фашист, будь он проклят!
Мы направились к дому. Хлопнула дверь, и послышался визгливый женский голос:
— Ой батюшки, разбойники! Что же ты сидишь, Иван?
Мы не заставили себя ждать. Я перешагнул высокий порог и вошел в дом. За мной туда же ворвался Сыбчо, держа в руке пистолет. Иван, сидя в постели, буквально оцепенел от испуга, потом поднял руки, безропотно сдаваясь в плен.
— Давай ружье, Иван! — крикнул Сыбчо.
— Жена, вытащи его из-за буфета! — из последних сил выдавил из себя Иван.
— Если будешь глупить, заработаешь пулю, — предупредил его Крум и поднес гранату к его лицу. — Видишь, стоит мне только снять предохранитель, как из тебя получится фарш.
— Послушай, ну зачем откладывать? — пошутил Сыбчо. — Ты же знаешь, какая это мразь.
— Ну что ты скажешь, товарищ командир, а не расстрелять ли нам его, а?
Я понял, что они шутят, и взглянул на дрожавшего Ивана.
Его жена, до сих пор с недоумением смотревшая на нас, тотчас же принесла ружье.
— Ну, на сей раз мы его простим, — сказал я, — но если он снова возьмется за оружие, то пусть пощады не ждет. Слышишь, Иван?
— Слышу, господин начальник, — захныкал крестьянин и стукнул кулаком по своей голове. — Все, конец, больше не буду, господин начальник!..
— У нас нет г о с п о д, а только товарищи! Мы боремся за свободу народа, а не за личную власть.
Я отдал ружье Сыбчо, в последний раз строго предупредил Ивана, чтобы он не смел действовать против нас, и мы направились к его соседу Димитрию. У того мы хотели отобрать ружье для Крума, но на сей раз нам не повезло. Оказалось, что у Димитрия нет оружия. Сначала мы ему не поверили и повели его за дом якобы на расстрел. В небе тускло мерцали звезды, слабый ветерок шелестел в ветвях груши, а под нею Димитрий клялся жизнью своей семьи, что у него нет ружья. Мы поверили ему, да и как не поверить, если он стоял перед нами без кровинки в лице и напоминал покойника!
Он предложил нам хлеба и брынзы, но мы отказались от всего. Нас не прельщал хлеб тех, кто был пособником фашистов.
Димитрий, провожая нас до ворот, не переставал креститься и благословлять нас за то, что мы подарили ему жизнь.
Мы прислушались. С другого конца села до нас донесся шум, плач и проклятья. Наши товарищи не теряли времени и продолжали операцию по изъятию оружия у фашистских прислужников.
Мы отправились к Гьозтепе, где был назначен сборный пункт.
Винарово утопало во мраке. Казалось, звезды вышиты золотой вязью и, как свадебной фатой, укрывают уже одевшиеся в осенний наряд бунтарские винаровские леса.
У Гьозтепе девять теней сошлись вместе.
Мы пошли по тропинке, ведущей в енишерлийские горы.
В ГОСТИ В ДРАНГОВО
Мы любовались тихим заходом солнца. Вдруг ясное небо начало покрываться мрачными тучами, стало темно. Только на горизонте оставалась розовая полоска. Продолжало темнеть, и дождевые тучи нависли над горами. Вдруг огненная стрела прорезала небо. По ту сторону Айтепе полил дождь, а с нашей, как нам показалось, розовая полоска в небе стала для него словно преградой. Не смел он приблизиться к Айтепе, под сенью которого мы, небольшая группа партизан, обсуждали план захвата власти в одном из сел. Больше того, в этот час мы жаждали захватить Пловдив, чтобы потрясти богатеев этого города. Нас переполняла ненависть. Кто-то мрачно изрек:
— И горы обозлились на нас. Жужжим, как комары, а когда же приступим к настоящим боевым операциям?
— Необходимо действовать, товарищи, причем в более крупных масштабах! — добавил Дыбов.
У меня сердце обливалось кровью. Разве я тоже не мечтал о битвах! Разве мне легко давалось бездействие! Трудно выбрать наиболее верный путь между жизнью и смертью. Облокотившись на винтовку, я часто издали смотрел на дорогие места, родное Брезово, даже ощущал запах дыма, вившегося над трубами домов и напоминавшего о домашнем очаге и свежевыпеченном хлебе. Из этих клубов дыма вдруг выплывал образ отца. Потом его сменял образ мамы, и я явственно слышал ее голос, врезавшийся в мое сердце: «Генко, береги себя, сынок. Опасно оставаться на Айтепе. Много людей там нашло свою смерть, сынок. Помнишь Бойчо? Ему голову отсекли, даже бровью не повели. И Ивану тоже. Проклятый Айтепе! Почему ты не уходишь оттуда? Возвращайся, сыночек!..»
Всего год тому назад на том месте, где я стоял, фашистские палачи обезглавили моих верных товарищей — Бойчо, Ивана и Йоско. Их захватили врасплох на западных склонах Айтепе, в лесу, когда они, замерзшие и изголодавшиеся, зарылись в опавшую листву. После короткой схватки их убили, отрезали головы, насадили на шесты и отправились в село. Ворвались в дом Бойчо. Жандармский офицер подошел к матери Бойчо и с откровенным цинизмом спросил:
— Тебе знакома эта голова? — и, бросив ей на колени голову сына, громко рассмеялся.
Но несчастная женщина уже ничего не слышала: она прижимала к груди еще не успевшую остыть голову. Ласкала волосы своего любимца и в полуобморочном состоянии проливала слезы:
— Для этого ли я тебя растила, дитятко!..
Народ проклинал фашистов и оплакивал ребят, а головы оставались на площади, смотрели на всех широко раскрытыми глазами, словно просили крестьян похоронить их.
Разве может быть что-нибудь страшнее этого?!
Наконец я пришел в себя. Посмотрел на товарищей, на небо, ощупал траву вокруг, и мне показалось, что на моих руках остались следы крови наших товарищей — героев Бойчо, Ивана и Йоско.
Наказ матери напомнил мне о том, чего нельзя забывать. О том, что до глубокой старости будет сниться мне и никогда не изгладится из моей памяти.
Напротив высились горы. Струи дождя, не переставая, лились на окропленные нашей кровью отроги. Но к тому месту, где мы находились, дождь так и не подступился. Солнце уже скрывалось за горизонт. Вероятно от испарений, мы совсем задыхались и призывали дождь как своего рода спасение. Я давно мечтал о нем. Мы умирали от голода, но еще больше от жажды. Мысленно протягивая руки к горам, я переносился в Среднегорье — туда, где мы всегда могли прильнуть потрескавшимися губами к одному из студеных горных родников. Стоя на том же месте, я шептал: «Эх, время, время! Наступит ли и для нас наконец желанный момент, когда после стольких мук мы будем иметь полное право отдохнуть у себя дома?!» В это время сверкнувшая в небе молния ярко осветила дорогу на Дрангово.
— Сегодня вечером отправимся в Дрангово! — крикнул Стенька. — Вот где развернемся, страшно будет фашистским злодеям!
Стенька угадал. В последнее время мы проявляли повышенный интерес к этому селу.
Именно такое решение принял и я, но ждал, когда стемнеет. Я посмотрел на Стеньку и молча, только взглядом, поддержал его.
Стенька являлся командиром отряда, и в его обязанности входило принимать решения. Я же, как уполномоченный штаба зоны и ответственный за ремсистскую работу в Пловдивской области, обязан был вести разъяснительную работу среди молодежи. Поэтому мы собрали руководство отряда, чтобы узаконить план, согласно которому в этот же вечер должны были овладеть селом Дрангово.
Но вот к нам пришли наши помощники из села — учитель Иван и Пеньо, мы сообщили им о нашем намерении.
— Правильно, — согласился учитель. — Это поднимет дух у населения.
Того же мнения придерживался и Пеньо, объявивший, что подобную операцию все, от мала до велика, встретят как светлый праздник. После краткого совещания мы расстались с товарищами и пожелали друг другу успеха.
Солнце скрылось за облаками. Над полем медленно опускались сумерки. Тишину нарушали только крики сельских пастушат, возвещавшие окончание рабочего дня. Несмотря на раскаты грома, на нас не пролилось ни капли дождя. У самой земли мрак сгущался. Мы все уточнили, и оставалось только тронуться в путь.
Скрывшееся в удлинившихся тенях деревьев, Дрангово едва виднелось вдали. За дубовыми рощами с трудом удавалось различить приземистые домишки села. Я шел через молодые поросли дубков неподалеку от сельского пруда, и у меня радостно сжималось сердце. Я всегда считал дранговцев своими земляками. Еще от деда я узнал, что после освобождения от турецкого ига, стремясь получить землю, они покинули родные края и пришли в Кумарларе, где арендовали землю и дома турецких помещиков, которые вынуждены были покинуть эти места.
Для дранговцев мое родное Брезово являлось административным и политическим центром. Почти каждый день они пересекали дубовые рощи и по оврагу спускались в Брезово за покупками или для того, чтобы уладить какие-нибудь дела.
Наши крестьяне посещали Дрангово по большим праздникам или же ходили туда на свадьбы родственников, потому что между ними существовали прочные и неразрывные кровные узы. Когда они работали на полях в Араболюке и Кошу-Улане, подступавших к самому Дрангову, то часто наведывались туда за водой или какой-нибудь помощью.
Самые плодородные наши нивы находились рядом с Дрангово, и в летнюю пору, вместо того чтобы с полевых работ возвращаться в свое село, мы иногда останавливались ночевать там под открытым небом. Уже тогда я подружился с дранговцами и полюбил их, как своих односельчан.
Большинство из них оказались хорошими людьми. Они всегда помогали в нашей борьбе, чем могли. Первым ушел из села в горы и стал партизаном известный сельский активист, которого мы прозвали Зеленко. В этом районе действовало подразделение Бойчо из отряда имени Христо Ботева. Хотя Бойчо давно уже погиб, мы вспоминали его имя на каждом шагу. Партизанское подразделение Бойчо ревниво хранило честь своего командира. В сознании наших людей этот умный и отважный крестьянский парень оставил такие глубокие следы, что еще долгие годы новые поколения в нашем крае не забудут его. Вот и сейчас, направляясь в Дрангово, мы говорили о Бойчо и чувствовали себя счастливыми оттого, что именно славное подразделение Бойчо, а не какое-нибудь другое, да еще и под командованием его брата Стеньки, шло подымать на борьбу родное село погибшего героя, которое с незапамятных времен подвергалось притеснениям и грабежам. Рядом со мной шагал Балканский — один из смелых партизан из Брезово. Он шептал:
— Если бы Бойчо остался жив, как бы он радовался! Сколько раз он мечтал о том, чтобы мы сходили в гости к его землякам, да вот нет его с нами!
Услышав слова Балканского, многие из нас со вздохом еще крепче сжали свои автоматы. Стенька, Харитон, Ботю и Дыбов поспешили вперед.
Брезовский отряд, в большинстве состоявший из представителей большого рода Бойчо и Боцмана, выдвинулся на одно из первых мест в нашем крае. Он все время находился в движении: перемещался с холма на холм, часто спускался в села, расположенные в долине, и почти через день осуществлял операции — карал преступников. Отряд установил постоянные и прочные связи с народом. Почти в каждом селе у него были верные помощники, готовые всегда и при любых обстоятельствах оказать ему помощь.
Вместе с отрядом Бойчо я уже вторично проходил через наш край и испытывал особенное чувство гордости и радости оттого, что нахожусь среди товарищей детства. Все они стали для меня такими же близкими и родными, как и земля, по которой мы шли, леса и горы, которые нас укрывали от врагов.
Мы приблизились к Дрангово. Отряд шел цепочкой, а я засмотрелся на восточную окраину села, откуда прежде всего ждал появления наших помощников — учителя Ивана и Пеньо, вместе с которыми днем в дубовой роще обдумывали план операции.
Залаяли собаки. Несколько крестьян вышли из своих домов посмотреть через ограду, что происходит, другие же поторопились спрятаться. В соответствии с планом партизаны рассыпались по всему селу и вскоре овладели им. Харитону поручили разыскать старосту Здравко, открыть здание общины. Но уже с первых шагов нас постигла неудача. Перепуганный староста сбежал. Харитон вернулся к нам обескураженный.
— Нигде нет этого Здравко. Его только что видели. Люди твердят, что он не уезжал ни в Брезово, ни в город, а где он — неизвестно.
Сноха Здравко, Донка, подтвердила слова Харитона.
— Да как же так, ведь я только что видела его во дворе нашего дома! Куда запропастился этот человек? Уж не перепугался ли он? Ищите, должно быть, спрятался где-нибудь в селе.
До чего только не доводит человека страх! Немного погодя Харитон привел Здравко, готового со стыда провалиться сквозь землю. Оказалось, что когда он услышал о вступлении партизан в село, то сразу же спрятался в свинарник.
— Ну что ты, Здравко? — начал я. — Вместо того чтобы встречать гостей, ты убегаешь. Мы же не караем хороших людей. Ты же знаешь, что нам все известно. Мы считаем тебя своим человеком. Ну, давай руку!
Староста расчувствовался. А был он хоть и в летах, но крупный, красивый мужчина, крепкий как дуб.
— Перепугался, — признался Здравко.
— Ну а теперь отопри здание общины и встречай нас. И в следующий раз не пугайся своих.
Здравко засуетился, но вскоре освоился и почувствовал себя среди нас бодрым.
— Ох, наконец-то я успокоился! Да почем я знал, что вы за люди! А вот оказалось, что мы даже родственники.
— Родственники, Здравко, и должны помогать друг другу.
Наши ребята разошлись по всему селу. Вскоре и пожилые, и молодые начали собираться перед покосившимся зданием общины, что находилось рядом с домом Здравко. Искренне радуясь встрече, они здоровались с нами, как с близкими людьми. Вдруг возгласы радости сменились дружным криком возмущения. Партизаны привели Тодора Сарафа — здешнего богача и ревностного слугу фашистской власти. Этот рослый мужчина, с грубым лицом, вытаращенными от страха глазами и носом, похожим на картошку, униженно молил о пощаде. Вместе с ним просил о такой милости и Райчо Велев — тоже фашистский пособник.
Народ собрался перед зданием общины. Барабан сельского глашатая призвал на площадь и малого и старого, чтобы судить фашистов. То и дело слышалось, как хлопают двери и калитки, и раздавались возгласы:
— Смерть кровопийцам!
— Да здравствуют партизаны!
Глаза Харитона так и сверкали, Дыбов словно бы выставлял напоказ свои ослепительно белые зубы, а Балканский оживленно беседовал с людьми, успокаивая их:
— Да не бойтесь же! Ведь мы все из одного с вами села, вы же нас знаете.
— Да как же вас не знать? — отвечали собравшиеся, после чего следовали рукопожатия и объятия.
Какая неожиданность: страшные «бандиты», как нас именовали фашистские власти, вдруг оказались своими, близкими людьми! Небольшое, скрытое в отрогах гор Дрангово отмечало большой праздник — праздник своего первого освобождения.
К Деяне подошла худенькая женщина с узлом, молча отдала ей этот узел и отошла в сторонку. До меня донесся приятный запах теплого домашнего пирога. Я посмотрел на эту женщину и сразу же узнал Стояну, мою родственницу.
— Да ты ли это, Генко? — спросила она сквозь слезы. — Ах ты господи, да я тебя, живого, уже оплакала! Все утверждали, что тебя убили где-то там, около Марицы.
Глядя на Стояну, мне стало грустно, и я просто не знал, что ей ответить. Хорошо, что откуда-то появилась Донка и хлопнула меня по плечу:
— Как живешь, двоюродный? Да вы, оказывается, настоящие герои!
И нам со всех сторон стали протягивать узлы, кастрюли с теплой едой, караваи белого хлеба. Раскрылись сердца крестьян, преисполненные любви и радости.
Не отстал от других и Здравко. Все еще продолжая суетиться, он вытащил винтовки, предоставленные властями общине, чтобы защищать село от партизан, и заявил:
— Вот вам ружья, ребята. Возьмите их, они новые и стреляют метко.
— Ну, Здравко, ты действительно глава села. Открывай митинг и объясни людям, кто мы такие и зачем при шли.
— Да чего им объяснять-то, ведь вы же убедились, что им все ясно, раз они кричат: «Да здравствуют партизаны!» — посмотрел виновато Здравко и предоставил мне слово. — Земляки, послушайте, что вам скажет партизанский командир Ватагин.
Сразу же установилась тишина. Все хотели услышать, что им скажут партизаны.
— Товарищи! — начал я, внимательно вглядываясь в лица собравшихся. — Мы сражаемся не на жизнь, а на смерть не ради денег и богатства, а во имя свободы для всего народа. Не думайте, что нам легко скитаться по лесам и горам, что нам самим жизнь не мила. Нет, мы любим ее так же, как и вы, но фашисты хотят отнять у нас право на жизнь. Они расстреливают наших матерей, братьев и сестер, вешают наших товарищей, отнимают плоды нашего труда. И мы, верные ваши сыновья, взялись за оружие, чтобы отомстить им за все. Недалек конец фашистской власти. Советская Армия уже близко. Мы призываем вас, дорогие братья и сестры, помогать партизанам, которые не жалеют жизни ради вас и будущего ваших детей!
Несколько минут я говорил о бесчинствах фашистов и о целях нашей борьбы. Потом я повернулся к связанным фашистским прихвостням:
— Вот ваши враги. Видите, какими жалкими выглядят они, столкнувшись с вашей силой! Мы отдаем их на ваш суд. Как вы решите — так и будет!
— Расстрелять! Все соки из нас вытянули эти мироеды! — в один голос крикнули крестьяне.
Тогда взял слово стоявший рядом со мной наш помощник — пожилой Тасьо.
— Простите их, товарищ командир. Они никого не убивали, они просто мерзавцы. Если у них осталась хоть капля совести, то пусть сами оценят ваше благородство.
Я посоветовался со Стенькой, Харитоном и Дыбовым, и мы решили освободить арестованных. Развязали им руки. У них был такой вид, как будто они возвращаются с того света. Они смотрели на нас растерянно и никак не могли поверить, что мы их отпускаем.
Митинг закончился. Отряд построился, и полилась песня:
Тому, кто любит свой народ, и Левского в груди хранит завет бунтарский…— Ну, до свидания. И не забывайте нас! Приходите снова, — просили нас крестьяне и желали нам успеха в борьбе.
— И вы нас не забывайте! — ответил им Дыбов.
— Ну, счастливого пути, товарищи! Дрангово вас не забудет!
Мы попрощались с крестьянами и отправились в путь. Но едва сделали несколько шагов, как нас догнал Райчо Узунов, на радостях хлебнувший немного больше, чем следует, анисовой водки и посему пребывавший в приподнятом настроении. Он настаивал, чтобы мы приняли его в отряд.
— Возьмите меня с собой, хочу пойти с вами.
Мы с трудом уговорили его остаться.
Начало смеркаться. Вдруг молния прорезала небо и ярким светом озарила лица провожавших нас людей. Полил сильный дождь. Над Айтепе вспыхнула молния, осветившая нам путь в партизанское Среднегорье. Дождь лил как из ведра, а мы, промокшие до нитки, шли в партизанской колонне и, несмотря на раскаты грома, пели партизанские песни.
Это произошло 2 августа 1944 года, в годовщину Илинденского восстания.
ПАРТИЗАНСКИЕ ПУТИ-ДОРОГИ…
Партийные и ремсистские организации в Голямчардакском крае с некоторым опозданием восстанавливали свою боеспособность. Весной 1944 года они быстро активизировались, и буквально за несколько дней отряд имени Стефана Караджи превратился в грозную силу. Кара и Страхил носились днем и ночью по дорогам, долинам, полям и селам, поднимая на борьбу надежных людей и всех, способных носить оружие. Этот богатый край расправил свои могучие плечи и уже в первые дни весны был готов к революционным выступлениям. Здешние жители отличались медлительностью, но уж если они обещали что-нибудь, то только смерть могла бы помешать им это выполнить.
— Поверь мне, Ватагин, всему свое время. У нас люди добрые, только не надо торопить события, — утверждал Старик. Так прозвали одного старого партизана, который первым встретил меня в этом крае, куда я прибыл в качестве уполномоченного штаба второй оперативной зоны. К хорошим людям необходимо всегда относиться с доверием и любовью. Мы именно так и поступали.
Вскоре мы разделили отряд по районам, и отдельные его подразделения оказались настолько тесно связанными с селами, что трудно было определить, где находятся партизаны и какова их численность. Мне пришлось выполнять задания среди красновской молодежи. Но вскоре пришел приказ, который меня, Христо Проданова, Васила Терзиева отзывал в Пловдив.
В стране в это время только что пришел к власти новый кабинет министров во главе с Багряновым.
На землю спускались сумерки. В отряде наступило оживление. Партизаны готовились к боевым действиям.
Со стороны Баррикад подул прохладный ветерок. После невыносимого дневного зноя ночь сулила измученным людям покой и прохладу. В долине давно уже началась жатва, и в этот тихий вечер до нас доносились приглушенные покрикивания возчиков. Люди уходили с полей и торопились попасть домой.
— Интересно, где сейчас наши матери? — произнес кто-то.
— Наши матери? — прошептал я. — Возможно, они жнут на поле какого-нибудь кулака и льют слезы, вспоминая нас.
Нам снова предстояло пуститься в дальний путь. Партизанские пути-дороги, в который раз мне придется пересечь Фракийскую равнину!
Мы простились с товарищами и ушли.
Ночь застала нас на южных склонах красновских гор. Перед нами открылся прекрасный вид: по всей долине мерцали огоньки, и казалось, что это звездное небо спустилось на землю. Наше золотое фракийское небо! Несмотря на грозящую нам опасность, мы решили устроить привал и перекусить. Все вглядывались в звездное небо и в огоньки далекого поля, напоминавшие нам о мирной жизни, о наших близких, о друзьях, оставшихся там, в селах, расположенных всего в нескольких километрах, и вместе с тем пока таких далеких.
Христо, романтично настроенный парень, не упустил случая выразить вслух свое восхищение.
— Давайте помолчим, товарищи! Ощущаете ли вы аромат родной земли? Эх, свобода, свобода!
У нас в отряде по Христо сверяли часы, потому что он вместе с одной девушкой из города поклялся каждый день в 12.00 думать друг о друге. Но в тот раз он вспомнил о ней и в неурочное время и тихо, мелодично запел нашу любимую песню:
Скажи, скажи мне, тучка белая, Откуда ты пришла, где побывала?..А потом добавил от себя то, что терзало его сердце:
— Не видела ль ты моей Танюши?
Я любил эту песню и начал подпевать Христо. Васко же, задумавшийся о чем-то, слушал нас и улыбался. Мы перенеслись в мечтах в древний Пловдив с его тысячами тайн и уже в мыслях бродили по его красивым холмам, где каждый камень был для нас таким близким и таким дорогим.
Неожиданно частые выстрелы прервали наши мысли. Пришлось проститься с мечтами и подумать о встрече с врагом. Нам предстояла сложная и опасная дорога.
— Наши нарвались на засаду, — первым заговорил Васко.
Мы прислушались: стрельба то стихала, то снова вспыхивала где-то в темноте.
— Эх, гады… скоро вам конец… — выругался Христо, смял сигарету и вскочил на ноги: — Пошли, товарищи!
Мы шагали напрямик через поля, ориентируясь на далекие огоньки, и обходили стороной села, где часто устраивали засады. Ночь выдалась ясная и тихая. Ярко светила луна, и нам казалось даже, что она согревает нас. И только время от времени она ныряла в какую-нибудь небольшую тучку, словно хотела помочь нам незамеченными обойти встречающиеся по пути села. Тогда длинные ночные тени сливались и накрывали всю долину, и мы чувствовали себя спокойнее.
Мы подошли к селу Голям-Чардак. Обошли его с северо-запада и, спрятавшись в тени большого дерева, стали прислушиваться. Жизнь в селе замерла. И только лай собак временами нарушал этот покой. В сотне шагов от нас стоял дом Стоила Кашила, куда мы намеревались зайти. Я не раз приходил в этот партизанский дом и сейчас испытывал такое чувство, будто приближаюсь к родному очагу. Мы быстро перебежали через сад, снова прислушались, стоя у задней стены дома, и тихонько постучали в маленькое окошко.
— Кто там? — отозвалась бабка Стойлица.
— Свои, отопри. Это Ватагин.
— Да ты ли это, Ватагин? Входите же, в селе спокойно. Да и Стоил здесь, только что лег, а то все читал газету.
Бабка Стойлица так ласково разговаривала с нами, точно встречала не партизан, а сватов.
В этой семье все, даже маленькая Пенка, настолько крепко связали свою судьбу с революционной борьбой, что всегда встречали нас, партизан, как долгожданных гостей. Они не могли нам нарадоваться и как будто не замечали, какой опасности ежечасно подвергают себя.
— Намедни получили письмо от Тошо. Он тебе посылает большой привет, как будто знал, что ты появишься в наших краях, — продолжала свои душевные излияния бабка Стойлица. — Эх, Ватагин, почему нет здесь моих сыновей? Кто знал, что им на роду написано гнить в тюрьмах! Пешо в Пловдивской, ну это хоть недалеко отсюда, а Тошо эти негодяи увезли аж в Варну! А мой Стоил уже собирается уйти к вам, ждет только приказа.
— Хорошо, мама, скоро фашистам уже конец, все будет в порядке. Дядя Стоил крепкий человек и отомстит за сыновей.
В этот момент дядя Стоил, уже приготовившийся к встрече гостей, вмешался в наш разговор:
— Ну хватит болтать-то, подай людям что-нибудь поесть, а уж после этого наговоримся.
Все уселись за стол. Партизан никогда не отказывается от угощения, только бы оно нашлось.
Пенка, дочь дяди Стоила, быстро обежала село и созвала все партийное и ремсистское руководство. Товарищи информировали нас о положении в селе, а мы, в пределах возможного, — о дальнейших планах и обещали, что, возвращаясь из Пловдива, снова заглянем к ним.
Обменявшись еще несколькими фразами, мы начали собираться в путь. Всему приходит конец, и, как бы хорошо мы ни чувствовали себя в этом гостеприимном доме, пришла пора уходить. Нам принесли переодеться, чтобы больше походить на мирных горожан, и, оставив у них все оружие, кроме пистолетов, мы ушли.
Дядя Стоил немного проводил нас, показал нам, в каком направлении надо идти, и мы исчезли в зеленых садах.
Луна недвижно повисла где-то в западной части неба, и тени деревьев стали еще длиннее. Нам казалось, что мы идем через лес.
Только мы обошли село Малы-Чардак, как восточная часть неба стала светлеть. Вскоре огромный диск солнца возвестил о наступлении дня.
В поля вышли крестьяне, по дорогам заскрипели телеги. Стало ясно, что нам нельзя днем идти дальше, и мы решили укрыться посреди несжатого поля.
Мы изнывали от жажды: в такой зной мы не имели ни капли воды. Вышло так, что почти повсюду вокруг нас работали люди, и нам следовало остерегаться, чтобы не быть замеченными. Хлебом мы запаслись, но о воде и не подумали. Да кто же мог предположить, что нам придется провести весь день в таких условиях! А солнце, как назло, пекло вовсю. С трудом дождавшись наступления темноты, мы тотчас же выбрались из своего укрытия.
Первым делом позаботились о том, чтобы найти воду. Наконец после получасового поиска нашли колодец, напились вдоволь и продолжили свой путь в Пловдив. Тамошние подпольщики оказались пунктуальными людьми, они давно уже ждали нас в условленном месте и сразу же повели в квартал «Кючук Париж». Там, в тесной комнатушке, мы застали нескольких товарищей. Это были пожилые люди. Все они казались нам сосредоточенными и ждущими чего-то очень важного. Немного погодя пришел еще один товарищ с кудрявой шевелюрой и усами. Он поздоровался с каждым из нас и спросил:
— А товарищи из партизанского отряда пришли?
Я встал, чтобы засвидетельствовать свое присутствие, и снова сел. Среди собравшихся я узнал Васила Маркова, Гочо Грозева и Стояна Попова.
— Давайте начнем, — предложил кто-то, и тот, что с усами, взял слово.
— Товарищи, в стране создалась сложная и весьма своеобразная обстановка. Сейчас нам необходимо иметь полную ясность о всех ходах, предпринимаемых врагом. — И он изложил точку зрения Политбюро нашей партии и оценку положения в стране, а затем наметил задачи, которые нам предстояло решать.
Товарищ из Политбюро говорил коротко и четко. Каждый из нас старался не пропустить ни одного его слова. В комнате установилась полная тишина, и никто не решался даже пошевельнуться.
Через несколько дней нам следовало пуститься в обратный путь. На сей раз на окраине города в Каршиаке нас должны были ждать товарищи, которые вместе с Гочо Грозевым и Стояном Поповым выведут нас из Пловдива. Мы договорились встретиться к вечеру, а пока находились в противоположном конце города. Вот почему нам предстояло пересечь его еще засветло. Как мы раньше не подумали об этом?!
Сразу же после обеда мы стали готовиться в путь. Группе предстояло пройти через весь город, да еще и днем.
Оделись соответствующим образом, но нам следовало прихватить с собой также и некоторые вещи, столь необходимые в горах.
Стоян Попов то и дело повторял:
— Ну, как я выгляжу? Не усомнится ли кто-нибудь в моей благонадежности?
И подкручивал кончики своих длинных усов.
— Послушай, Стоян, — подшучивал над ним Гочо Грозев, — с этими усами ты похож на старого фельдфебеля. Мы ни в коем случае не пойдем с тобой вместе. Я предчувствую, что из-за тебя могут возникнуть осложнения.
Через какое-то время пришла Фигена. Эта молодая девушка, дочь наших помощников, часто выполняла обязанности нашей связной. Красивая, с приятной улыбкой, она была стройной, как молодой тополек. В этот раз ей вменили в обязанность идти впереди нас и указывать самый безопасный путь. Фигена пригладила волосы и вопросительно взглянула: не пора ли уже идти?
Однако у нас вызывал опасения подозрительный вид Стояна Попова, обутого в новые солдатские сапоги.
— Эх, Стоян, Стоян, — засмеялся Гочо Грозев, — никуда ты не годишься с этими усами и в этих сапогах!
— Ошибаетесь, — вмешался я, — все знаменитые воеводы носили усы.
Наконец решили, что мы пойдем впереди, а Стоян в пятидесяти — шестидесяти шагах позади нас, причем по другой стороне улицы.
Солнце уже приближалось к горизонту. Город пока что казался почти безлюдным. Мы втроем шли впереди, а Стоян чеканил шаг в своих подкованных солдатских сапогах, ну совсем как фельдфебель, отправляющийся на парад в день святого Георгия. Люди оборачивались, чтобы поглазеть на него, а он только подкручивал усы, совсем как Боримечка[18], да знай себе шагал по тротуару.
Без всяких происшествий мы прошли через весь город и явились на место встречи. Товарищи повели нас в горы.
Партизанские пути-дороги, неужели я когда-нибудь вас забуду?!
ШТОКМАН
Вчера мне приснился Штокман живым и полным сил. Он стоял во весь рост, гордый и величественный.
И я решил отправиться на его могилу. Ведь такой день — 2 июня![19] Из окрестных сел, из Калофера и Карлово собралось много людей — почитателей и боевых товарищей героя. Все несли с собой цветы и венки и укладывали их на гранитный пьедестал. Кто-то встал перед памятником, наступила тишина. Оратор рассказал о боевом пути Штокмана, о дебрях и чащобах Среднегорья и Стара-Планины, где водил за собой свою славную бригаду Штокман, и показал скалу, где он закончил свой героический путь. До меня еще издали донеслись слова оратора, и я поторопился подойти поближе к памятнику. Тропинка оказалась очень крутой, и взобраться по ней было нелегко. Меня пронизывал холод. Вокруг все молчало, лишь ветерком приносило издалека песню. Именно здесь, на этом месте, около села Левски, мы любили сидеть со Штокманом. Мне запомнилось стихотворение, которое он любил декламировать:
Из каждой капли вашей крови Вырастут тысячи новых бойцов…Я шел задумавшись. Перенесясь в прошлое, я отчетливо видел перед собой Трилетова, Гынчо, Доктора, Караибряма, Минко, пришедших не только поклониться праху их боевого друга, а, как бы возвращаясь с боевой операции, отрапортовать своему командиру. Вместе с ними пришли и наши помощники: дед Петко Кынчев, старейший член партии тесняков и основатель партийной организации в Калофере, его верный товарищ и жена бабка Стойна, дед Кольо Чонков, Вакльо. На пьедестал памятника поднялся Трилетов. Он начал рассказывать о подвигах и битвах, о встречах и явках.
Когда закончилось торжество, народ разошелся, у памятника я остался один.
— Добрый вечер, Штокман! Я пришел не за тем, чтобы тебя оплакивать, ведь ты бессмертен. Ты жив и будешь жить в памяти народной. Я пришел, чтобы вспомнить путь нашей борьбы, вспомнить боевых друзей.
…Это произошло весной 1943 года, когда мы решили всю свою молодость и энергию посвятить победе восстания в нашем крае. Путь из Пловдива в Среднегорье оказался длинным и опасным. Из города я пошел вместе со Слави Чакыровым и Йонко. Нас повез на повозке дядя Кольо. Колеса поскрипывали на каждом ухабе дороги, идущей вдоль берегов Марицы. Мы проехали рисовые поля и затерялись где-то в тени деревьев. Покорные лошади шли медленно. Время от времени дядя Кольо замахивался на них кнутом и в темноте окликал нас чтобы лишний раз удостовериться, что мы на месте.
Этот бедняк выполнял боевое поручение, как самую обычную работу. Он долгие годы колесил в своей телеге по Фракийской равнине и сейчас ничего не боялся, хотя вез такой опасный «груз», каким являлись мы.
Остряк и балагур, Слави все время шутил и сам захлебывался от смеха. Вдали все явственнее вырисовывались горы. Наше волнение возрастало. Булыжные бульвары Пловдива остались где-то позади. А как меня встретит Штокман? Ох уж этот Важаров! Удастся ли нам справиться с ним?
Я молчал. Йонко, крепко сжимая в руках пистолет, был готов к любой неожиданности.
— Стой! — вдруг прикрикнул дядя Кольо на коня. — Приехали, товарищи. Это и есть западная околица села Чоба.
Мы попрощались с нашим возницей, подтянули рюкзаки, в которые тетя Данка заботливо уложила хлеб, брынзу и мармелад, и скрылись в чобенских кукурузных полях. На исходе ночи время от времени слышался лай собак. Село спало, укрытое тьмой, а на востоке уже показались первые предвестники зари и явственно вырисовывались вершины Среднегорья.
— Послушай, Слави, мы не успеем дойти, — сказал я. — Вот уже светает, и нам лучше днем не пускаться в дорогу. Села полны полицейскими и жандармами. Лучше днем переждать где-нибудь поблизости. Да и встреча назначена только на завтрашний вечер у Девичьего источника. Зачем же нам рисковать?
Мы расположились под развесистой грушей, которая росла посреди большого кукурузного поля.
Йонко взобрался на грушу, чтобы осмотреть окрестности, и подтвердил, что мы удачно выбрали место: с дерева хорошо просматриваются все дороги до самого села Брезово.
Мы даже не заметили, как взошло солнце. Наступил день. Только мы развязали рюкзаки и Слави, всегда отличавшийся знатным аппетитом, успел намазать кусок хлеба маслом, как неподалеку от нас послышался какой-то шум. Нам показалось, что в кукурузу забралась скотина. Мы схватились за оружие. Откуда ни возьмись на меже показался хилый мужчина, который вел за собой двух тощих коров. Увидев направленные на него винтовки, человек оцепенел и выпустил из рук веревку. Коровы набросились на кукурузу.
— Не бойся! — крикнул Слави. — Иди сюда! Ты кто такой и что ищешь в чужой кукурузе?
А человек даже слова вымолвить не мог. Он смотрел на нас вытаращив глаза и никак не мог решить, что же ему делать.
Я узнал его. Это был дядя Аврам из нашего села, который с трудом содержал свою семью продажей молока.
Йонко вскочил, схватил веревку и приказал:
— Привяжи коров вот здесь, наломай початков сколько хочешь и присаживайся к нам поесть.
С величайшей осторожностью, все время пытаясь поймать наш взгляд, Аврам опустился на одно колено, готовый в любой момент броситься бежать. Он заметно побледнел, и глаза его то и дело блуждали по сторонам.
— Да ты не бойся, ешь. У нас и на тебя хватит!
Аврам успокоился и не заставил себя долго уговаривать. Он наелся так, как едва ли когда-нибудь наедался дома даже на рождество или на пасху. Мы расспросили его о селе, о видах на урожай в этом году, но эти вопросы его не занимали — ему принадлежал такой небольшой клочок земли, что он на доходы с него не рассчитывал.
— По правде говоря, я тоже против фашистов, — наконец заговорил Аврам. — Я совершенно уверен, что скоро им придет конец. Вот намедни и дочка Стоянка говорила, что братушки уже близко. Да и в селе поговаривают, что горы полны партизан. Только из одного нашего села ушла уйма ребят в партизаны: Койчо, Ботьо, Генко. А раз такие хлопцы взялись за дело, значит, все будет в полном порядке.
И вдруг Аврам уставился на меня:
— А вы, ребята, откуда сами-то будете? Да как вы не заблудились в наших краях?
И он снова повернулся ко мне, осмотрел меня с головы до ног и воскликнул:
— Генко, да неужто это ты?!
Я решил сделать вид, что не узнаю его.
— Какой еще Генко?
— Послушай, да разве ты не Генко, сын Стойко? Да это же ты! Узнал я тебя. Это ты. На отца похож, на Стойко. Да ты, Генко, оказывается, жив. А знаешь ли, что перед зданием сельской общины висит объявление? Обещают деньги тому, кто тебя поймает. А кто-то даже рассказывал, что тебя убили где-то около Марицы.
Я взглядом спросил товарищей, что же мне делать. Слави понял меня, кивнул мне головой, и я решил больше не морочить голову своему земляку.
— Да так бы и сказали, что вы наши ребята, — осмелел Аврам. — Ох эти фашисты, гады… Целыми днями пьянствуют. Корчма Йоновцев битком набита жандармами, да и корчма твоего дяди тоже. Все выслеживают, как шакалы, мерзавцы… Все ждут, чтобы кто-нибудь донес о появлении партизан, но у них ничего не выйдет. Дядька Аврам не таковский. Он знает, какому богу молиться.
Мы долго разговаривали с Аврамом. На прощание еще раз хорошенько его накормили. При расставании я строго ему наказал:
— Послушай, дядя Аврам, наше дело такое: сегодня мы здесь, а завтра нас даже и днем с огнем не сыщешь. Так что ты хорошенько прикинь: если проговоришься кому-нибудь о встрече с нами, так и знай — это тебе не пройдет даром. Ни звука, понял?
— Ни звука! — поклялся Аврам. — Пусть мне ворон глаза выклюет, если я кому-нибудь хоть словечко скажу.
Мы пришли к Девичьему источнику уже за полночь. Тишина окутала горы, только из соседних сел время от времени доносилось пение петухов. На востоке занималась заря.
В условленном месте нас ждали Штокман и Морозов в сопровождении нескольких партизан. Нам с ними предстояло проделать большую работу.
Мы дружелюбно поздоровались и отправились дальше.
Если с Морозовым мы были знакомы давно, то со Штокманом встретились впервые, и поэтому он вызывал во мне немалый интерес. Этот человек как-то сразу стал мне очень симпатичен. Я с первого взгляда понял, что передо мною сын гор. Его глаза светились искренностью и теплотой. Мы двигались по тропинке. Штокман положил правую руку на мое плечо и проговорил:
— Так, значит, ты и есть Генко из Брезово? Много слышал о тебе, и мне очень хотелось, чтобы ты воевал вместе с нами. У нас здесь много неразберихи, но мы это утрясем.
Мы остановились. Предстояло пересечь большую поляну. Двое партизан из охранения предупредили, что надо соблюдать осторожность.
Штокман спросил:
— Ты выбрал себе псевдоним? Ни к чему, чтобы все знали твое настоящее имя.
— Нет, еще не выбрал.
— А ты читал книгу «Энергия» Федора Гладкова? Убедился, с какой силой и энтузиазмом советские люди строят коммунизм? Нам еще до этого далеко, но и мы пойдем по их пути после победы. Ну а если погибнем, то другие вместо нас доведут дело до конца. Взгляни на горы. Умереть в этих горах за такой народ, как наш, — это же великое дело!
Штокман словно предчувствовал свою гибель.
— Мы будем тебя называть Ватагин!
— Друзья, Морозов, Слави, это товарищ Ватагин. Отныне он будет носить это имя, чтобы оно напоминало нам о великом строительстве социализма в Советском Союзе.
Я с радостью согласился носить это новое имя. Ведь моим крестным стал Штокман! Я поблагодарил его и шутливо заметил:
— Значит, раз ты стал моим крестным, то мы уже не только товарищи, но и родственники.
Штокман рассмеялся и по-отцовски похлопал меня по плечу.
Нам предстояло еще добраться до лагеря. Двигаясь через лес, мы внимательно осматривались по сторонам. Погода стояла теплая и приятная. Дошли до местности Каваклийка. Оттуда хорошо просматривалась вся долина до самого села Голям-Дол.
— Вон та, самая близкая деревня — мое родное село Чехларе, — сказал Штокман. — Ты бывал когда-нибудь в нем?
Я утвердительно кивнул.
— Нищая деревушка, — продолжал Штокман. — Нет плодородной земли — нет и заработков, но люди у нас хорошие. Есть несколько негодяев, но они не в счет… Там, на том конце деревни, наш дом.
Сказав это, он долго всматривался в ту сторону, и я заметил, что его глаза увлажнились. Потом он рассказал мне отдельные эпизоды из своей жизни в Софии.
— В наших судьбах есть что-то общее. Мы с тобой и не крестьяне, и не горожане. Но какое это имеет значение? Сейчас важно уметь объединить людей и действовать. Действовать — это главное.
Как прав оказался Штокман!
В СЕЛЕ ДОЛНИ-ДОМЛЕН
Долгими ночами и погожими днями под зеленым шатром Буковой могилы не стихали горячие споры о боевых действиях бригады имени Христо Ботева. Наиболее горячо и страстно выражала свое недовольство и критиковала руководство бригады группа, возглавляемая Важаровым. Важаров был одним из основателей партизанского движения в Среднегорье. Он, имея хорошую теоретическую подготовку, большой житейский и партийный опыт, никак не мог стерпеть «обиду» и примириться с тем, что его не назначили командиром одной из бригад. В своем стремлении быть одним из руководителей партизанского движения в Среднегорье Важаров унизился до мелочности.
Разумеется, ошибки допускались, но разве в такое время можно было потворствовать недовольству и озлоблению, когда предстояло проделать огромную организационную и боевую работу? Важаров не смог понять этого и в своем стремлении к величию и громкой славе стал центром, вокруг которого объединилась часть партизан, недовольных руководством.
Именно поэтому решение окружного комитета партии о массовом развитии партизанского движения, принятое весной 1944 года, натолкнулось на решительное сопротивление сторонников Важарова. Как мы их не убеждали, чего только не предлагали, лишь бы договориться с ними! А в это время нам нужно было атаковать фашистские гарнизоны в отдельных селах и городах.
После тяжелой зимы сторонники Важарова, словно только что вылупившиеся птенцы, целыми днями грелись на раннем весеннем солнце и горячо спорили о том, как же быть дальше. А в это время настоящие партизаны готовили оружие и снаряжение для новых операций, которые наметили провести за лето. К Слави они относились еще более непримиримо. Возможно, потому, что он больше всего заботился о своем родном крае, где еще в ноябре 1941 года вместе с несколькими товарищами создал первый в Среднегорье партизанский отряд. А может быть, потому, что большую часть времени он провел в Пловдиве? Скорее всего, еще и потому, что он не соглашался ни на какие компромиссы и не делал никаких уступок. Нельзя забывать и о другом обстоятельстве. Многие товарищи, ушедшие в горы, считали, что те, кто остались в городах, только философствуют о восстании против монархо-фашизма.
А я и сейчас уверен, что жить на нелегальном положении и работать в городе, особенно в Пловдиве, было значительно тяжелее, чем находиться в партизанском отряде в горах.
В самом деле, прелести городской жизни оставались все такими же внешне доступными, но они таили в себе для подпольщика и самые опасные неожиданности. Требовалась большая оперативность и гибкость. Нет, жить в городе на нелегальном положении совсем нелегко. Долгие годы жизни в подполье в достаточной мере убедили меня в этом. Хотя в городе я не так уж часто голодал, но чувствовал себя постоянно неспокойно.
Но это трудно было объяснить товарищам из бригады. Большинство партизан пришли из сел, и они не могли себе представить, с какими неприятными неожиданностями приходится сталкиваться в большом городе. Да и бывшие горожане, проведя много времени в горах, уже не могли представить себе, как приходится рисковать подпольщику в таком городе, как Пловдив.
Было много разных суждений, словесных перепалок между командирами отрядов, прежде чем удалось перейти к конкретной, деловой работе. А с чего же начать? Прежде всего пришлось пересмотреть прошлое. Нам предстояло объединить усилия и составить план действий бригады для последнего штурма. Мне и Слави Чакырову поручили обойти все три бригады — имени Христо Ботева, Васила Левского и Стефана Караджи, поднять дух партизан в этих отрядах и убедить их немедленно приступить к активным боевым действиям. Слави должен был остаться в бригаде имени Христо Ботева, а мне с группой товарищей поручили посетить бригаду имени Васила Левского, а затем перебраться в Голямчардакский район, провести мобилизацию людей и перейти к боевым операциям. Сюда же прибыл и Кара, который в 1943 году критически относился к нашей деятельности. Он являлся одним из основателей РМС в Голямчардакском районе, и это обстоятельство меня особенно радовало. Высокий, стройный, с красивым и нежным лицом и всегда смеющимися глазами, он становился любимцем молодежи повсюду, где только появлялся. Почти каждый вечер мы с упоением слушали его песни и мысленно переносились в будущее.
Еще в ученические годы мы были с Карой друзьями, а впоследствии стали неразлучными и вместе мобилизовывали коммунистов и ремсистов в его родном крае.
В группу, которой предстояло пройти вместе со мной по всему намеченному маршруту, включили Гынчо, Спартака, Фантома, партизанку Гену и еще нескольких человек.
Расставаясь с товарищами, мы долго прощались с Голубем. Он пожелал мне бить врагов по-ботевски.
Голубь был честным и обаятельным парнем, немного резким, но всегда справедливым и откровенным. Прощаясь с нами, он так долго гладил мой автомат, как будто это была рука любимой девушки.
— Пусть стреляет без осечки, как под Войнягово а у Марицы!
День догорал.
Солнце скрылось за лесами на Буковой могиле. И только синеватые очертания гор еще освещались пурпурными отблесками заката. Ветер из долины шелестел в листве зеленого шатра, а вокруг, в защищенном от ветров месте, деревья стояли не шелохнувшись. Они как будто слушали старинные гайдуцкие песни и легенды, которые им рассказывала Букова могила.
«До свидания, товарищи Голубь, Доктор, до новой встречи! Возможно, здесь, а может быть, после победы, в Пловдиве!»
Около Калофера мы простились и с тамошними чабанами, с кошарой деда Кольо Чонкова, с местами, где мы вели бои. Перейдя вброд Свеженскую реку, мы остановились на возвышенности пад рекой Стряма, протекавшей неподалеку от села Долни-Домлен.
Долни-Домлен! Долни-Домлен! Даже теперь, когда я прихожу к плотине огромного водохранилища, то вижу, как на севере резко вырисовываются очертания темных вершин Среднегорья, а в холодной воде отражаются Букова могила и гора Кадрафил. Вместе с ними там отражается наш боевой путь. И когда я мысленно отправляюсь по дорогам нашего прошлого, то никогда не забываю, зачем живу.
Мы остановились в каком-то овраге и решили захватить село Долни-Домлен, возле которого, точно образуя большой и правильный круг, ярко зеленело пастбище. Это было большое село. Но мы не знали, есть ли там полиция или солдаты. Это обстоятельство усложняло выполнение нашего плана. Гынчо, отличавшийся смелостью и ловкостью, предложил молниеносно атаковать село и захватить его.
— Послушайте, товарищи, я знаю это село. Знаю старосту и одного полицейского, которых надо уничтожить, и тогда все будет в порядке.
— Но не забывай, что нас всего девять человек, а там могут быть солдаты.
— Не страшно, — настаивал Гынчо. — Если действовать дружно, можно горы свернуть.
Спартак поглаживал бороду, которая была у него, как у Ботева. Посмотрев в сторону села, он солидно произнес:
— Подожди, вот подумаем еще немного и непременно возьмем его!
Кара советовал более трезво обдумать создавшееся положение, потому что трудно вдевятером овладеть целым селом. В самом деле, это был первый случай в Среднегорье, когда ранней весной 1944 года столь малыми силами мы решались на такую дерзость.
Неожиданно наш пост, находившийся в пятидесяти метрах впереди, подал сигнал тревоги:
— Стой! Руки вверх!
Перед нами возникла массивная фигура домленского лесного сторожа.
Наша Гена, маленькая ростом, с короткой берданкой в руках, подбежала и встала перед ним.
Лесной сторож был одним из тех негодяев, которые водили жандармов по партизанским тропам. Говорили, что он один из самых верных слуг фашистской власти и этом крае. Вот как он стал предателем.
Однажды, обходя лес, он прилег в тени старого дуба. Какая-то торжественная тишина царила в молодом лесу, напоенном солнцем и ароматом цветов. От теплого и влажного воздуха сторожа разморило и начало клонить ко сну. Он почти уже задремал, когда тихие, легкие шаги заставили его вздрогнуть. Он вгляделся в просвет меж деревьями, и у него замерло дыхание: высокий парень в выцветших брюках-галифе медленно спускался по склону, держа в руках карабин. На поясе висела граната. Алчность обуяла сторожа, и, хотя руки его дрожали, он выстрелил. Партизан покачнулся и упал. Какое-то скотское наслаждение овладело убийцей. Он уже предвкушал, как ему вручат 50 000 левов — обычная награда за убитого партизана. Так он стал предателем.
Гынчо вышел из себя:
— Ватагин, отдай его мне, я с ним расправлюсь. Он виновник гибели моего брата!
Любчо, младший брат Гынчо, был чудесным парнем. Осенью он погиб вместе со Штокманом — командиром бригады имени Васила Левского. Нам не удалось точно узнать, как погибли эти прекрасные люди, но мы знали, что в их гибели повинна рука предателя.
Гынчо имел полное право отомстить за Любчо. И мы его едва удерживали.
— Подожди, Гынчо, в данный момент он нам необходим, а потом посмотрим!
Мы допросили лесного сторожа. Выяснили обстановку в селе, где в округе есть войска и жандармерия, и стали уточнять план наших действий. Жандармских частей в селе Долни-Домлен не оказалось. Перепуганный лесной сторож отвечал на вопросы четко. Мы уточнили расположение улиц и мостов через реку, где живет староста, где пьянствуют полицейские. Я все еще храню записную книжку, в которой очень примитивно набросал план села. Этот гад оживился, в его глазах появилась какая-то надежда на спасение. Отвратительный человек! Совершил столько преступлений, обагрил свои руки кровью партизан и все же лелеял надежду на прощение! Мы подмигнули Гынчо в знак того, что он уже может расправиться с ним, а сами отошли в сторону.
Не считаю нужным рассказывать о последних минутах этого подлеца и выродка.
В тот же миг мы услышали хрип. И все! Страшное, но справедливое возмездие.
Возможно, сейчас иные скажут, что мы были тогда чрезмерно жестоки. Но нас затравливали преследованиями, и к нам не проявляли ни капли милосердия. Жгли живыми и расстреливали. Отрубленные головы наших братьев и сестер насаживали на колья и выставляли на площадях. Вот почему мы были беспощадны к врагу, и особенно к предателям.
Гынчо возглавил группу возмездия. Он должен был уничтожить старосту в его же доме, а также одного из наиболее ретивых полицейских. Остальные же разделились на три группы: одна впереди — нечто вроде разведки, а остальным двоим, следовавшим за ними в ста метрах, предстояло ворваться в помещение общины. Овладев селом, мы должны были реквизировать деньги и оружие, сжечь хранящиеся в общине фашистские документы, собрать людей на митинг и отступить без потерь.
У здания общины во дворе собралось несколько чиновников и лесных сторожей. Не успели они прийти в себя, как мы арестовали их и заперли в большой комнате. Один из лесных сторожей попытался сопротивляться, даже прицелился в меня из своего карабина, но получил такой сильный удар, что сразу же очутился на земле рядом с остальными. В это же время Кара одним прыжком оказался возле двух полицейских. Укрывшись за толстым стволом старого тутового дерева, они пытались открыть стрельбу, но Кара подоспел вовремя.
— Бросайте оружие! — скомандовал он, — и идите впереди меня!
Арестованные с побелевшими лицами беспрекословно исполнили приказ партизанского командира.
Из всех нас самым грозным и внушающим страх оказался Спартак. Он стоял посреди двора, его черная борода развевалась на ветру. Он сыпал ругательства направо и налево, и перед ним задержанные покорно поднимали руки вверх.
— Да вы перед кем стоите: перед партизанским судом или перед Христом? — покрикивал он на них. — Вперед, а то перестреляю всех! Ну что вы на меня уставились, идиоты?
Арестованных мы затолкали в отдельную комнату и заставили повернуться лицом к стене. У дверей охранять их поставили маленькую Гену с ее карабином. Мы обшарили все здание общины. Отобрали несколько винтовок и пистолетов. Собрали все реестры, документы, ведомости и подожгли их во дворе, устроив огромный костер.
— Идите сюда, погрейтесь! — позвала нас Гена. — Такой огонь хорошо греет!
Только с сейфом общины нам так и не удалось справиться. Мы долго колотили по нему молотом, ковырялись в замочной скважине отвертками, но тщетно.
В селе то и дело раздавались выстрелы. Гынчо мстил за убитого брата. Немного погодя он прибежал к нам и доложил, что отыскал старосту и уничтожил его вместе о одним из полицейских.
Нам следовало быстро решить, что же делать дальше. Мы не могли созвать митинг, потому что нас было слишком мало.
Однако у общины собралось человек сто. Они молчали и только смотрели на нас глазами, полными восхищения и благодарности.
Нужно было уходить. Наш маленький отряд из девяти человек отправился на запад через реку Стряма. А заплаканные женщины протягивали нам кто хлеб, кто брынзу.
— Возьмите, ведь никто не знает, что вас ждет завтра!
Одна из женщин, одетая в траур, протянула мне большой кусок брынзы и с нежностью погладила мои волосы.
Черный платок закрывал ее лицо, но я все же увидел ее глаза, полные слез.
СУДЬБА СТРАХИЛА
Страхил — славный командир отряда имени Стефана Караджи — слег. Слег не из-за болезни, а из-за опасной раны. В самом разгаре боя в Староселе вражеская пуля угодила в него как раз тогда, когда он поднимался в атаку на врага.
А Страхил был молод и строен, с красивым юношеским лицом, лучистыми глазами и черными бровями, словно выписанными кистью художника. Он отличался исключительной ловкостью, жизнерадостностью и энергичностью. Как дикий олень, перескакивал со скалы на скалу и, как ветер, проносился по самой невероятной крутизне.
По дороге в Старосел мы шли вместе и, хотя встретились впервые, сразу же почувствовали какую-то тягу друг к другу. Страхил рассказывал мне о своем селе, расположенном в нескольких сотнях метров от холма, по которому мы спускались, о своем детстве, ничем почти не отличавшемся от моего.
— Я вырос в поле, браток, но что может дать крестьянину наша каменистая земля и эта власть, при которой нет ни правды, ни свободы! И я решил отправиться в город, посмотреть, как живет рабочий люд. Но убедился, что и там положение не лучше. Повсюду, как говорил Ботев, «ложь и рабство царят на этой несчастной земле».
Страхил прожил почти шесть месяцев в Софии, где учился на шофера. Там он не только познакомился с жизнью рабочего класса, но и установил связь со многими активными деятелями софийской молодежи.
— Если бы я еще хоть немного задержался в Софии, меня наверняка засадили бы в тюрьму. Правда, вся наша жизнь — тюрьма, но все же совсем иное дело, когда человек на свободе, да еще и в Среднегорье.
Страхил словно предчувствовал, что ему не удастся подышать воздухом родного села, и торопился рассказать мне обо всем, что лежало камнем у него на сердце.
— В армии я служил танкистом и должен признаться, что меня считали хорошим солдатом. Нам, Ватагин, нужны танки. Представляешь себе партизан на танках? Камня на камне не осталось бы тогда от фашизма.
Мы перешли через глубокий овраг, взобрались на крутой перевал и оказались около Старосела, а Страхил все еще продолжал свой рассказ.
…Солнце медленно опускалось за горизонт, но, несмотря на это, стояла необыкновенная духота. За перевалом стало еще хуже: казалось, что земля просто-таки раскалена. Вокруг нас жнецы торопились закончить жатву, чтобы к вечеру спуститься в село и отдохнуть от июльской дневной жары. Впереди шагали Гочо Грозев — представитель Главного штаба НОПА[20], Стоян Попов с пышными усами, придававшими ему внушительный вид, ну просто настоящий Тарас Бульба. А сбоку поспешал за ними мой большой друг Кара. Следом шли колонны партизан. Средна-Гора провожала нас теплым дуновением ветерка и запахом спелой ежевики.
Мы подошли к селу, и боевая операция началась. Эту крупную операцию мы осуществляли силами бригад имени Стефана Караджи и имени Бенковского, но она оказалась неудачной и стоила нам больших потерь. Первой жертвой оказался Страхил.
В сущности, он еще не стал жертвой. Его только ранили, но кровотечение не прекращалось, и следовало торопиться с оказанием ему медицинской помощи. Мы отправились обратно к местности Баррикады — самой красивой части гайдуцкого Среднегорья. Юное лицо Страхила как-то увяло, а глаза потемнели. Что же нам предпринять, как спасти славного командира?
— Давайте сделаем носилки и понесем его, — сказал Гочо Грозев и, посмотрев в ту сторону, откуда раздался выстрел, добавил: — Стреляйте, но не забывайте оставить одну пулю для себя.
Из веток мы сплели носилки и понесли Страхила.
Шли по крутой тропинке молча. Смеркалось. Взошла полная луна и осветила сельские дороги. Горы встретили нас прохладой. Над нами проносились кучевые облака. Ветер шумел в кустах. Мы шли, и рядом с нами шло горе. Природа печалилась вместе с нами.
Верные друзья Страхила по очереди несли его. Каждый хотел помочь, хотя бы в последние минуты, своему командиру и товарищу. Вихрь, его самый близкий друг, с которым они вместе росли в деревне, не отходил от него ни на шаг. Его глаза, не отрываясь смотрели на раненого героя. Сжимая кулаки от бессильной злости, он едва не плакал. Роза мокрым платком вытирала пот со лба раненого и все суетливо рылась в санитарной сумке, но не находила там нужного лекарства. Она была готова отдать жизнь, лишь бы спасти командира.
Губы Страхила едва шептали:
— Воды!.. Хоть глоток воды, товарищи… Кара здесь? Пусть Вихрь не отходит от меня!..
— Я здесь, Страхил, — успокоил его Вихрь и коснулся его потного лба губами.
Страхил закрыл глаза, стараясь превозмочь нестерпимую боль.
— Дайте пистолет, товарищи, не мучайтесь! Оставьте меня! Со мной покончено. Спасите отряд! И отомстите!
И опять смолк. А Роза все вытирала его лоб платком.
Кровь медленно сочилась из раны и капала на листья папоротника. Мы карабкались по осыпям и скалам, мрачные и сердитые. Где сейчас противник? Ох, если бы только он хоть мелькнул перед нами! А вот и Баррикады с их вековыми скалами, над которыми возвышались огромные буки. Мы остановились под их зеленым сводом и положили носилки у подножия самой высокой скалы. Кровь из раны Страхила продолжала сочиться. Я молчал, и мне чудилось, что я слышу голос Ботева, который как бы сливается с голосом Страхила:
Скажи им, мама, пусть помнят, Пусть помнят и ищут меня…Скажи им, мама, пусть запомнят эти тяжелые минуты, когда мы прощались со Страхилом! Минуты, когда мы прощались с родным и дорогим нам человеком, чтобы бесстрашно броситься в огонь борьбы!
Всю ночь мы по очереди дежурили у изголовья Страхила, всю ночь мы смачивали холодной водой его запекшиеся губы.
Рассвело. Над Баррикадами наступило утро, тихое и светлое. Вдруг расшумелись ветви деревьев. Кто-то крикнул:
— Страхил скончался, умер Страхил!..
Мы построили бригады. Все молчали. И пристально смотрели куда-то вдаль. Мы прощались со Страхилом. Кара выбрал самое красивое место между двумя большими скалами и сказал:
— Здесь будет похоронен Страхил.
Мы понесли его и положили между скал. Траурный митинг открыл Ильо. Он сказал, едва сдерживая слезы:
— Клянемся, дорогой товарищ, что отомстим за тебя. Мы не позволим врагу пройти здесь, где похоронили твои священные останки.
— Конец фашизма близок! — воскликнул Гочо Грозев. — Жизни не пожалеем, но победим врага. О твоем геройском подвиге будущие поколения будут рассказывать легенды!
Бригада принесла клятву. Дрожащими губами мы целовали оружие. Один за другим вставали на колени перед прахом Страхила. Листьями дикой герани мы усыпали его тело, а в изголовье положили зеленый венок из буковых веток. Запели «Интернационал». Казалось, что ветки буков над скалами сплелись еще крепче, чтобы создать вечнозеленую гробницу на самом высоком и живописном месте на Баррикадах.
Салют проводил Страхила в бессмертие.
СТЕФАНОВ КАМЕНЬ
Стефанов камень!.. Стефанов камень!.. С ним связаны старинная и новая легенды. Приступая и этому рассказу, я чувствую необыкновенное волнение.
В ту пору наша бригада впервые обосновалась на постоянном месте. Всем нам уже казалось, что мы ощущаем первые дуновения свободы. Но, несмотря на это, внутренние противоречия овладели некоторыми из нас. Действительно ли наступает конец нашим мучениям и начало новой жизни?
Лежа на склонах Среднегорья, мы заглядывались на дальние села и явственно чувствовали запах родного дома. Как бились неспокойные наши сердца! Казалось, этого напряжения им просто не выдержать! Мы уже не перешептывались, не осматривали подозрительно каждый куст и каждую тропинку. Зашумели буковые рощи, долины запели партизанские песни. Природа как будто заразилась нашей радостью. Стало весело на душе, в нас крепла уверенность — мы уже предвкушали победу.
И люди преобразились. Они пели, и казалось, лес подпевал им. Задымили костры, запахло горячей едой.
Штаб бригады расположился немного в стороне под раскидистыми буковыми деревьями. Здесь всегда царило оживление, все время приходили партизаны и докладывали о выполнении различных заданий. Получив указания, одни тут же уходили, а вместо них появлялись другие. Из сел поступали радостные вести. Люди уже открыто говорили о том, что фашистской власти приходит конец. И сколько бы ни пытались фашисты заглушить голос правды, как бы ни грозились разделаться с партизанами, обстановка коренным образом изменилась. Народ верил только партизанам. Крестьяне узнали о крупных успехах Красной Армии и затаив дыхание следили за ходом событий. Наступили славные дни! Советские войска громили немцев.
Одно забавное событие внесло разнообразие в нашу жизнь. По приказу штаба нам удалось освободить в селе Равногорово пленного американского летчика-офицера, бомбившего нефтехранилища и сбитого зенитным огнем. Американец, высокий и худой человек, целыми днями терзался мыслью, чем бы себя занять. Ему никак не удавалось понять смысла нашей борьбы и нашего боевого духа. Его холодному рассудку мы казались едва ли не чудаками.
Несмотря на огромное внимание, которое ему оказывали почти все партизаны, он оставался замкнутым. Он выполнял все, что ему приказывали, даже участвовал в бою, так и не поняв, за что же он воюет. Да он и не пытался разобраться в обстановке.
Невзирая на наши усилия и особенно старания девушек, проявлявших большое упорство в стремлении расшевелить союзника, американец выучил только несколько слов по-болгарски.
И как раз тогда, когда мы подшучивали над ним, как гром среди ясного неба, на нас свалилась страшная весть. В бою у Стефанова камня, около села Вырбен, погибло одиннадцать партизан.
Удар был ошеломляющим, тем более что в последнее время нас не покидало приподнятое настроение. Если зимой, осенью или ранней весной такие вести в какой-то мере были закономерными, то в тот момент, когда лес оделся в свой зеленый наряд и стал таким надежным защитником и союзником партизан, это известие действительно казалось нам невероятным.
Мы получили и более тревожные новости, свидетельствовавшие о том, что там имело место предательство. Надо было как можно быстрее расследовать этот случай. Но мы понимали, что это не только ответственное, но и сложное дело.
Я выбрался из Свеженских гор, прошел через местность Дондуково и спустился к Златоселу и Вырбену. День стоял мрачный, и я то и дело попадал в полосу тумана. Со стороны Бакаджика надвигались темные тучи, приближалась гроза. Сильные порывы ветра гнули ветви кустов. Я шел задумавшись, мысленно разговаривая с погибшими у Стефанова камня. Они просили отомстить за их гибель.
Первым в моем воображении появился Чапаев с его обаятельной улыбкой и пристальным взглядом. Воля и сила нашей молодости, возможно, нашли наиболее яркое выражение именно в его мужественном и благородном лице. Он являлся одним из тех ребят, которые сочетали в себе самые лучшие качества ремсиста. Когда Чапаев, бывало, стоял и любовался заходом солнца в горах, он неизменно шептал стихи Ботева, а знал он их немало.
Мне никак не удавалось примириться с мыслью, что Чапаева нет в живых. Какая у него была светлая и широкая душа! В памяти он сохранился все таким же, каким я его знал. Помню, мы шли с ним по полям у села Чоба, вдыхая аромат только что вспаханной земли, а он, самый старший и самый разумный из нас, завел разговор:
— Когда-нибудь здесь раскинутся сады Чобы, а вот там, напротив, на Баямлыке (так называется местность юго-западнее села), будут сплошные поля.
С нами тогда шли Дамян и Банко — земляки Чапаева. Четверо партизан — четверо друзей. Мы перешли через почти пересохшую реку и вошли в сады, где была назначена явка.
Туда пришел и Петр Запрянов — зять Чапаева. Он оказался интересным человеком и впоследствии очень помог партизанскому движению в своем крае.
Петр начал с того, что передал большой привет от Данки.
Тетю Данку, жену Петра и сестру Чапаева, мы все очень любили. Она излучала такое благородство, что с первого же взгляда пленяла собеседника.
Ни одно другое семейство в селе Чоба не принесло столько жертв в борьбе с фашизмом. Только бабка Стефаница формально не участвовала в ней, но была обо всем осведомлена. Она вырастила и выкормила всех: старший сын Кольо погиб где-то около Мадрида во время Испанской революции, и она так ничего о нем и не узнала; Чапаев и Иван стали партизанами и скитались по всему Среднегорью; Данка учительствовала и от всего сердца помогала нам. Дорогая тетя Данка! Как только вспомню о ней, так в душе тут же просыпаются самые нежные чувства. Однажды после тяжелого боя меня, замерзшего, усталого, именно тетя Данка, ничего не боясь, как родная мать, приютила в своем доме, обогрела, приласкала, спасла. Я обязан жизнью материнской теплоте ее рук.
А бабка Стефаница осталась в памяти как символ мудрости и страдания. Она всегда ждала. Ждала Кольо — самого старшего. Кто-то сказал ей, что он даст о себе знать из России, ибо разнесся слух, что он там. Ждала Чапаева. Все верила, что он не погиб и, возможно, покажется на пороге, как раньше, когда возвращался из города.
— Высохли мои глаза, Генко. Хочу плакать, а не могу. Нет слез — высохли мои глаза. Если бы один погиб, так я бы его оплакала. А то уже который год с тех пор, как исчез Кольо! И все жду. Тяжело мне так, что и слезинки пролить не могу. Большего наказания, чем это, нет на свете. Ах, этот господь как будто нарочно оставил меня жить, ждать и мучиться, — повторяла старуха при каждой нашей встрече. И все ждала, ждала…
Петр второпях рассказал, как у них дела дома, проинформировал нас о новостях, и мы сели перекусить тем, что он принес. Так прошло несколько часов, после чего мы забрались поглубже в лес над селом Чоба и уснули под летним звездным небом.
Стефанов камень! Стефанов камень! В одной старинной легенде рассказывается о парне, который, взобравшись на эту скалу, свои чувства к любимой девушке выражал в чудесной игре на свирели. Эта девушка поставила условие: тот, кто на руках донесет ее до вершины скалы, — тот и станет ее избранником. Стефан, самый отчаянный из молодых парней в селе, всегда носивший при себе свирель и часто оглашавший ее мелодиями всю округу, первым вызвался донести девушку до вершины. Он поднялся с любимой на руках на высокую скалу и захотел сыграть на свирели, но сердце не выдержало, и он упал замертво. С тех пор и ходит легенда о любви Стефана, а скалу назвали в его честь Стефановым камнем.
Я сел на скалу, с которой Пловдивская равнина видна как на ладони, и попытался представить себе мысленно новую легенду об одиннадцати партизанах. Ох, если бы я мог, как Стефан, сыграть на свирели! Если бы владел кистью, как художник Верещагин, то изобразил бы на полотне трагедию погибших орлов — моих товарищей.
И вот мне уже показалось, что они подходят ко мне вереницей, друг за другом, как приказал их командир Дочо. Первым идет Чапаев, потом Иван из села Стрелци, Иван Стойков тоже из Стрелцев, Иван — единственный партизан из села Генерал-Николаево, Иван и Юрдан из села Трилистник, Иван из Вербена, Тончо из Златосела и брат с сестрой из Падарско-Минка и Иван, Искра и Дзержинский.
Иван Йозов первым бросил вызов религиозным заблуждениям, не посчитался с упреками своих близких и земляков и стал бороться с невежеством. Попы предали его анафеме и причислили к врагам церкви, а он объявил их врагами родины.
Здесь встретились лучшие ребята из двух отрядов — отряда Бойчо и отряда Дочо. Это произошло в августе 1944 года, когда ужо явственно чувствовалось, что вот-вот взойдет солнце свободы. Брезовцы спустились с гор и разбрелись по селам, чтобы подготовить народ к массовым выступлениям против фашизма и разъяснить фальшивую политику правительства Багрянова. В эту группу включили Чапаева, Милко, Огняна и других. Здесь же, около Златосела, находился и отряд Дочо. Они встретились, чтобы скоординировать свои действия по подготовке предстоящей операции. А враг в это время бросал против нас свои последние силы и использовал все средства, стремясь нанести удар по партизанскому движению в этом районе. Он поднял на ноги всех находившихся в селах жандармов и войсковые части, которые непрестанно прочесывали леса и горы.
Рано утром, когда партизаны после холодной ночи еще только пытались размяться и хоть немного согреться, из села Златосел до них донесся звук трубы. Немного погодя разведка доложила, что, развернувшись цепочкой, к ним приближаются солдаты и жандармы. Дочо дал команду подготовиться к бою. Все начали готовиться отбить атаку. А труднейший момент наступает непосредственно перед самим боем. Именно тогда нервы берут свое и человек сильнее всего испытывает страх от неизвестности. Слух, внимание и зрение — все, как в фокусе, собрано в одной точке, а воспоминания текут и текут, как горный ручей. И тогда наступил такой момент, тем более все чувствовали, что уже близок конец нашей борьбы. Тяжело погибать молодым, да еще накануне победы. Отряд решил встретить врага огнем, нанести ему поражение и отобрать оружие, потому что многие товарищи все еще имели только одни пистолеты, а этого недостаточно.
Дочо распределил людей. Основную группу он послал в засаду. Замысел у него был простой: определить расстояние, с которого открыть огонь, нанести молниеносный удар по врагу и прорвать вражескую цепь. После этого собрать необходимое количество оружия и оторваться от противника. Наступил решительный момент. Нервы у всех были напряжены до предела. Каждый выбрал себе удобную позицию и стал ждать. Дзержинский и Искра, как всегда, залегли рядом. А Чапаев и Милко затаив дыхание укрылись за скалой.
Все началось часов в восемь утра. Солнце уже показалось из-за холмов Юнчолы и стало припекать. Жаворонки быстро взлетали над скалами и на мгновение замирали в вышине, словно хотели предупредить о надвигающейся трагедии.
Голос Дочо прозвучал строго и категорично:
— Подготовьтесь, товарищи, ждите моего приказа!
В это время на левом фланге завязалась частая перестрелка. Справа — тоже. Приближавшаяся цепь противника исчезла из поля зрения — видимо, он пытался укрыться в зарослях. Послышались стоны и крики раненых. Засвистели пули над головою, раздались взрывы гранат. Дочо посоветовался с теми, кто находился поблизости. План срывался. Враг вместо того чтобы нарваться на засаду, первым нанес удар. Дочо приказал разделить отряд на три отделения: командование первым отделением он взял на себя, вторым приказал командовать Милко, а третьим — Савинко. Положение к тому времени уже коренным образом изменилось: отступать пришлось всем к Стефанову камню — там лес был более густой. Да, но для того чтобы добраться до Стефанова камня, надо было пройти несколько открытых полян. Больше того, врагу удалось замкнуть кольцо окружения, он занял все высотки и оттуда поливал партизан свинцом. Закипел бой. Ничего, кроме криков и стонов, не удавалось расслышать.
Застонал от боли Герчо. Ему оторвало осколком гранаты по локоть руку, и она повисла на лоскутке кожи. Милко попытался подойти к нему, чтобы перевязать, но в это время между ними взорвалась вторая граната и тяжело контузила обоих.
Внезапно очередь из пулемета прошила грудь Чапаева. В залитой кровью рубашке, похожей на алое знамя, он приподнялся и крикнул:
— Товарищи, я погибаю, отомстите за меня! Смерть фашизму!
Послышался девичий голос — голос Искры, единственной девушки в отряде:
— Товарищи, не оставляйте меня в руках гадов! Убейте меня, товарищи!..
Первым к ней на помощь поспешил Дзержинский — ее брат. Раненный, обливаясь кровью, он схватил на руки сестру, еще не потерявшую сознание. Попытался вынести ее из этого ада, но ему не хватило сил. Следовало молниеносно принимать решение: время не ждало. Сестра уже теряла сознание. И в ее последнем взгляде он прочел мольбу о помощи. А кругом все гудело, эхо взрывающихся гранат разносилось по всем оврагам вокруг Стефанова камня, стоны и крики перемешивались со свистом пуль.
Дзержинский снова попытался взять сестру на руки, но силы покинули его. Отчаявшийся и ослабевший, он опустился на холодную землю. Его щека прижалась к сухой траве, столько раз служившей ему походной постелью. Дзержинский лежал, и ему, вероятно, чудилось, что он слышит, как позванивают колокольчики стада.
Потом вдруг все исчезло, а он мысленно перенесся в Тетевенские горы. Вокруг него собралось много людей, незнакомых людей, как тогда, несколько лет тому назад, когда он впервые вынужден был покинуть тихие пастбища села Падарско и в качестве интернированного прибыть в этот далекий и незнакомый край. Когда сознание на миг возвратилось к нему, перед ним снова появилась любимая сестренка, которая не сводила с него глаз: «Братец, помоги мне, братец, не оставляй меня в руках этих гадов!..» Она сделала усилие дотянуться, обнять его, по ей не хватило сил.
Дзержинский, стиснув зубы, приподнял голову, схватил пистолет и попытался приблизиться к сестре. Но у него снова потемнело в глазах, и он потерял сознание. Когда через мгновение он пришел в себя, действительность, очевидно, показалась ему страшным сном. Где он? Почему он здесь? Но это длилось недолго. Он понял, что не выполнил последнюю просьбу сестры. Патроны кончились. Он достал единственную оставшуюся у него гранату, выдернул чеку, и взрыв оборвал две молодью жизни патриотов, не пожелавших попасть живыми в руки врага.
Погибли Вырбен, Цветан, Златосел и Трилистник, а бой все продолжался. Враг продвигался вперед, предвкушая победу.
Часы показывали 10.30. Целых три часа продолжался бой. Солнце поднялось высоко над горами и освещало яркими лучами Стефанов камень.
Под одним из кустов остался лежать тяжело раненный Паунов. Остальные отошли, не заметив его. Паунов лежал не двигаясь и ждал смерти. Сознание у него не помутилось, мысль работала лихорадочно, взгляд оставался живым. Что делать? Сил никаких. В этот момент он увидел перед собой жандарма, и глаза Паунова радостно засверкали: да это же его двоюродный брат Тома! Жандарм тоже его заметил. Взгляды их встретились — их разделяло всего несколько шагов. Ведь они же выросли вместе, за одной партой сидели. Вместе на посиделках и на улице ухаживали за девушками.
— Брат, меня тяжело ранили, помоги мне!
— Я тебе не брат и тебя не знаю, — ответил озверевший Тома и выстрелил в Паунова.
Так на Стефановом камне осталось лежать одиннадцать трупов. Стефанов камень еще раз ожил в легенде.
Прошло много лет. И вот я снова на Стефановом камне. Деревья в лесу стоят с поникшими ветвями, земля пересохла, давно не выпадало ни капли дождя. Напротив меня — памятник одиннадцати. Два орла кружат над легендарной скалой, словно хотят тенями своих крыльев укрыть погибших братьев.
Как эхо прозвучал голос Гаро, пришедшего, как и я, навестить могилу своих боевых друзей:
— Товарищ генерал, здесь, на самой высокой скале Стефанова камня, пал смертью храбрых и наш Чапаев!
Я горестно вздохнул:
— Стефанов камень!.. Стефанов камень!..
МАРИЙЧЕ
Эту стройную высокую девушку со смуглым лицом и темными загадочными глазами, которые часто заволакивала печаль, мы звали Марийче. Она скрывала какую-то тайну, скрывала ее, казалось, даже от самой себя.
Еще в раннем детстве Марийче осталась круглой сиротой. Очевидно, тяга к родительской ласке и сделала ее такой сердечной. Марийче воспитывалась у своей тети. Эта бедная женщина жертвовала последним куском, лишь бы дать образование своей племяннице. И девочка старалась не остаться в долгу у доброй женщины: помогала ей в хозяйстве, а когда та болела, ухаживала за ней, целыми ночами сидела у ее изголовья. Марийче считалась одной из лучших учениц в гимназии. Особенный интерес она проявляла к иностранным языкам, которыми овладевала с поразительной легкостью.
В то время мы искали именно таких девушек, способных активизировать ремсистские организации в гимназиях. Марийче очень подходила для этой работы: за очень короткий срок ей удалось вовлечь в РМС много учениц и провести такую разъяснительную работу, что товарищи просто поражались:
— И нежность бывает обманчивой! Глядя на нее, трудно поверить, что она способна не бояться риска.
Марийче показала себя талантливым организатором, была хорошим конспиратором. Вот почему мы очень сожалели, когда она уехала изучать немецкую филологию в Софийский университет. Утешало нас только то, что по крайней мере во время летних каникул Марийче снова будет среди нас. Но случилось так, что она вернулась значительно раньше — уже в конце 1942 года, оставив мысль об учебе. В ней победило желание участвовать в борьбе.
Сразу же после своего возвращения Марийче включилась в работу иностранной комиссии при областном комитете РМС. Хотя она уже перешла на второй курс университета, но ничем не отличалась от самых обыкновенных девушек своего квартала. Держалась просто и естественно. И только глаза, в которых то и дело вспыхивали дерзкие огоньки, говорили о ее решительности. Марийче обладала еще одним прекрасным качеством: с первой же встречи она умела расположить к себе людей, заставить их привязаться к ней и полюбить ее. Своей теплой непринужденной улыбкой она покоряла сердца людей. Никто не умел так улыбаться…
Марийче получила задание поддерживать связь с комитетами РМС, связанными с партизанским движением в Среднегорье. Много дерзости и энтузиазма вложила она в эту работу. Все свое время она посвящала встречам с курьерами и помощниками партизан; без устали обходила свои районы, зачастую забывая об отдыхе и сне.
Весной 1943 года власти провели блокаду Пловдивской, Чирпанской, Карловской, Казанлыкской и Старазагорской околий. В этот трудный момент партия и РМС бросили основные силы на спасение партизанского движения. Всю свою энергию без остатка отдавала этому и Марийче — гордость нашей ремсистской организации.
Стоял апрель. Природа начала пробуждаться. Мы вышли в поле: решили потренироваться в стрельбе из пистолета. Предстояло выбрать удобное место для стрельбища. А это оказалось совсем не просто: ведь нас никто не должен был ни видеть, ни слышать. И Марийче нашла такое место. Поблизости от него раскинулись густые заросли акаций, укрывавшие нас от постороннего глаза.
— Браво, Марийче, да ты прирожденный конспиратор!
Мы познакомили ее и Сечко с устройством пистолета, с правилами стрельбы. Марийче первая схватилась за парабеллум. Мы не верили, что она сможет попасть с цель, и в шутку предложили ей в качестве мишени шайку Сечко. Но шапка пострадала — глаз у Марийче оказался точный, и рука не дрогнула.
В последний раз я видел ее около села Голям-Дол Чирпанской околии. Выглядела она веселой и жизнерадостной, как будто собралась на свадьбу. Оттуда начался ее партизанский путь. В августе 1943 года в отряда имени Христо Ботева появилась новая партизанка Наталья. И зашагала Марийче-Наталья по Среднегорским тропам, твердо убежденная в том, что победа будет за нами, что лед уже тронулся, молодость победит.
В отряде ее назначили санитаркой. Она надела зеленую штурмовку, серую кепку, рюкзак за плечи и, вооружившись пистолетом и винтовкой, в течение пяти-шести месяцев сопровождала по старазагорским селам раненого командира отряда, легендарного Чочоолу. Им удалось вырваться из многих блокад и миновать засады. Переходя с места на место, они обошли десятки сел, встречались с множеством наших помощников, с парнями и девушками. И повсюду Марийче завоевывала новых друзей, говорящих о ней с любовью.
В январе 1944 года Чочоолу и Марийче укрывались в селе Ловеч. Полиция блокировала село и приступила к повальным обыскам. Весь день наши помощники были начеку. Когда полиция явилась проверить дом, где скрывались Марийче и Чочоолу, их уже успели спрятать и замаскировать в стоге сена за хлевом. А вечером они незаметно выбрались оттуда и отправились в село Сырнево. По дороге нарвались на засаду. Завязалась перестрелка, в которой Марийче проявила редкую находчивость: с расстояния в несколько метров она выстрелила в старшего полицейского, а затем, сумев обмануть карателей, прикрыла отход якобы целого отряда, что дало им возможность скрыться. Пользуясь темнотой, они сменили маршрут и отправились в село Коларово. Здесь они снова нарвались на засаду. На сей раз полицейские пропустили их и открыли стрельбу с тыла. Командира снова ранило. Марийче осталась прикрывать его огнем, а затем оторвалась от преследователей и догнала Чочоолу.
Рано утром они добрались до села Сырнево и направились прямо в дом партизанского помощника Кирилла Русева. Но днем полицейские и солдаты, которые, судя по всему, шли по их следам, ворвались в село и начали тщательно проверять каждый дом. Чтобы не пострадал наш помощник, Чочоолу и Марийче среди бела дня, накинув на себя одежду чабанов, через южную околицу выбрались в поле, а полиция в это время рыскала в северной части села. Уже почти вечером они попали к дядьке Марину в село Трынково. Тот их радушно встретил, накормил и просушил одежду. Но присутствие партизан представляло большую опасность для хозяина дома. И тогда Марийче предложила на ночь спрятаться во дворе самого богатого жителя в селе, где полиция не додумалась бы их искать. Так обоим удалось запутать свои следы.
В апреле же Марийче снова вернулась в партизанский отряд. Весна с ее солнечными днями и теплыми вечерами, с буйной растительностью и веселыми птахами не могла не пробудить молодое сердце Марийче, не взволновать его и не породить самые радужные мечты.
Весной 1944 года наступило что-то новое в жизни людей — все с волнением узнавали, что Красная Армия перешла в наступление. И подобно тому, как весенние ветры взламывают лед, так и сила красноармейцев сметала на своем пути гитлеровцев. Просветлели лица партизан, засияли надеждой глаза, раскрылись сердца. Не смолкали песни у партизанских костров. И самой оживленной из всех была Марийче. Что-то новое, неуловимое, светлое и прекрасное появилось в ее нежном лице. А сердце переполнилось гордостью и радостью. И она то и дело напевала своим бархатным голосом:
Прекрасен ты, мой лес, Как молодость весны!..В ее глазах сверкали веселые искорки. А сколько надежд, сколько мечтаний! Ведь ей исполнилось всего лишь 22 года, а в этом возрасте мечты самые чистые и прекрасные…
Мы с Петарчо шли по каменистой тропинке.
— Вон на том холме за родником погибла Наталья, — начал он свой рассказ. — Первого июля сорок четвертого года меня вызвал командир и поручил вместе с группой партизан спуститься в село Колена и связаться с нашим помощником Георгием Хаджией. Сын Хаджии, Васил, служил офицером в карательном отряде, и Георгию через него удавалось получать ценные данные о расположении, действиях и намерениях карателей.
С этой целью мы и отправились тогда в путь. Группа состояла из шести человек. С ними была и Наталья. Отбыли из лагеря примерно в четыре часа пополудни. Шли напрямик, сначала лесом, а затем через поля и виноградники села Колена. Когда до него оставалось не больше километра, мы остановились. Собаки захлебывались от лая. Это нас озадачило. Двое из нас попытались незаметно пробраться в село, но нарвались на засаду и вернулись к своим товарищам.
Решили обойти село Колена и установить связь с моим родным селом. Но не прошли и двух километров, как снова нарвались на засаду. У нас не оставалось другого выхода — пришлось возвращаться в отряд.
Я навеки запомню ту ночь — тихую и светлую. Фракийское небо, усыпанное яркими звездами. Луну, время от времени показывавшуюся из-за туч над Чадыр-Могилой. И необыкновенную тишину. Только стрекотание кузнечиков нарушало это безмолвие…
Шли молча. Тропинка извивалась как змея. Мы остановились у небольшой горной речушки, как раз в том месте, где у древней заброшенной каменоломни она разделяется на два потока. Там соединяются несколько заросших травой тропинок, спускающихся с гор.
Тут, на этом месте, притаилась засада, — продолжал Петарчо глухим голосом. — Мы шли задумавшись. Вдруг тишину нарушил резкий гудок паровоза. Я вздрогнул, невольно оглянулся и увидел силуэт Натальи, бесшумно шедшей за мной. В этот момент из-за деревьев прогремели выстрелы. Застрочили автоматы, донеслась брань пьяных полицейских, которые набросились на нас, как голодные волки на стадо. Засада, подумал я, и мгновенно залег. Руки действовали автоматически. Открыл огонь, но стрелял наугад. Потом дополз до реки. При свете взрывающихся гранат я снова увидел Наталью. Она отстреливалась. И больше ее уж никто из нас не видел. Мы решили, что ее убили, и исчезли в ночи.
Наталья, наша Марийче, тяжело раненная в живот, осталась одна. О чем она думала? Самое страшное для партизана — это живым попасть в руки врага. Всю ночь Марийче металась от одного берега к другому, от скалы к скале. Ее кровь обагряла траву. Совсем случайно она доползла до родника, в котором решила обмыть свои раны, смочить горячий лоб. Тяжело раненная, из последних сил Марийче продолжала ползти по направлению к партизанскому лагерю.
Перестрелка давно прекратилась. В тишине зазвучали птичьи песни. Но ненадолго. На рассвете второго июля со стороны села показались группы полицейских и жандармов, людей, давно потерявших человеческий облик. Забыв о доме и родине, они, озверев, только убивали и заставляли матерей рыдать. С криками и воем каратели шли по кровавым следам. Окружив девушку, они пытались взять ее живой. «Скоро вам конец, палачи!» — крикнула Марийче и выстрелила себе в висок.
Петарчо продолжал:
— Мы всю ночь скитались в горах. Утром, когда подошли к коленскому роднику, одинокий выстрел возвестил нам о смерти Марийче…
Мы вместе с Петарчо через кустарник отправились к тому месту, где признательный народ воздвиг памятник героине. Я шел по тропинке, по которой проходили тогда и мои товарищи, а мысль перенесла меня далеко, в Пловдив, в квартал Судейский, где росла Марийче.
Мы долго молчали. Вместе с Петарчо я участвовал не в одной операции и отбивал не одну атаку. Не раз приходилось видеть смерть друзей. А сейчас что-то в душе оборвалось. Глаза увлажнились.
Тропинка стала крутой. Вокруг тишина. И только клокочущая в глубоком овраге река напоминала о жизни.
Мы подошли к месту гибели Марийче. Нарвали лесных цветов и положили их на каменную плиту.
ГОЧО ГРОЗЕВ
Оркестр звучал скорбно и торжественно. Звуки музыки были подобны вздохам. У нас слезы навертывались на глаза. Загремел «Интернационал». Несмотря на бури и метели, ледяную стужу и пули, мы отважно и бесстрашно сражались с врагом, и нас повсюду призывно сопровождал этот победный гимн — «Интернационал».
Мы мечтали когда-нибудь, после того как завоюем свободу, спеть этот гимн так, чтобы эхо разнесло его по всему Среднегорью.
— Ну, Гочо, встань же теперь, чтобы мы могли исполнить твою мечту. В нашем распоряжении военный оркестр, да и среди нас много звонкоголосых людей.
Но кругом царила траурная тишина. В гробу, украшенном позолотой, лежал один из верных сынов партии — Гочо Грозев, Боян. Дождем сыпались на него цветы. По скорбным лицам людей текли слезы. А он молчал, впервые оставаясь глухим к любви своего народа.
Мы привыкли, что жизнь героев связана с чем-то выдающимся, с каким-то подвигом, с каким-то особенным поступком. У Гочо Грозева вся жизнь была поистине подвигом. В течение всех прожитых лет он скромно совершал героические дела и закалился в борьбе, как в огне закаляется сталь.
Я стоял над его бездыханным телом, а память невольно возвращала меня в былые годы. Ведь именно тогда создавалась прочная основа нашей боевой дружбы…
Гайдуцкая весна! Среднегорские буки под лучами теплого солнца буйно зазеленели. Из-под таявшего снега появились первые подснежники. Мы поднялись высоко в горы — к подножию вершины Богдан, чтобы полюбоваться молодой зеленью и неудержимой поступью весны. Глаза разбегались от восторга при виде оттаявшей земли, дарящей жизнь травам и цветам.
Эта весна отличалась от предыдущих. Ее наступление покоряло нас: и буки мне казались выше, и травы — зеленее, и небо — голубее. А вершина Богдана — светлой и загадочной.
Что скрывалось в улыбке красавца? Может быть, он хотел напомнить нам легенды о Богдане-воеводе, об его верной дружине? Или пытался предсказать будущую нашу победу? У меня стало легко на душе и не столько из-за хорошей погоды, сколько оттого, что я стоял у подножия Богдана, у самой колыбели легендарных гайдуков. Я ощущал под ногами бурный прилив весенних соков. И вдруг во мне невольно зазвучала песня о Богдане-воеводе, которую я запел вполголоса:
Занемог Богдан — красный молодец, Девять лет он лежал без движения. Богдан матери тихо наказывал: — Сколько дней в году, мама, Столько я городов обошел, И меня, мама, ни одна болезнь не настигла И лишь дома меня отыскала. И не то меня гложет, что смертен я, Но так жаль мне коня вороного, За которым присматривать некому будет. Есть мать у меня, а она уже старая, Есть брат у меня — только он далеко, Есть жена у меня — за конем бы она присмотрела, Присмотрела б она, да уже за конем не моим. Коль умру я, Богдан, добрый молодец, Не неси меня, мама, на кладбище — Схорони у дороги проезжей. Мне построй монастырь в изголовье И у сердца сады посади, Пусть в ногах моих будет колодец, Рядом знамя пусть алое вьется И на привязи конь мой пасется…Гочо, до этого рассеянно глядевший на буки, покрытые молодыми зелеными листочками, вдруг расправил плечи и, как никогда горячо, заговорил:
— Именно сейчас больше всего необходимо, чтобы реки прошлого влились в реки будущего. Человечество воспрянет только тогда, когда сможет отдохнуть от боев. Ненависть потому пылает в нас, что мы пять веков гнулись под чужим игом. Сейчас мы сражаемся не только против фашизма, но и против векового угнетения. Послушай, Ватагин, когда я с винтовкой в руках пошел бороться против фашистской тирании, во мне воскрес гайдуцкий дух. Мы обязаны продолжить начатое ими дело, хотя они и не смогли до конца осознать его. Вот я стою на вершине Богдан и чувствую, что во мне просыпается сердце Богдана-воеводы. Когда слышу, как ты поешь о героях-гайдуках, мне кажется, что их слава бессмертна, как песня. Но кто знает, когда-нибудь…
Гочо оборвал себя на полуслове, глаза его выразили все, что было у него на душе: мы тоже гайдуки. Мы, стоящие на вершине Богдан и ждущие своего воеводу. А он находился среди нас.
Жаль, не нашлось среди нас поэта, чтобы сложить оду в честь мужественной скорби героя.
— Знаешь, — вдруг промолвил Гочо, — когда я учился в гимназии, то очень любил мечтать, хотя то время вовсе не было подходящим для мечтаний. И как бы ты думал, о чем я мечтал? О девушке, прекрасной девушке, нежной и любящей, а девушки-то были тогда от нас далеки… Мы только-только вырвались из своих сел и взялись за большое дело: предстояло создавать партийные организации и открывать людям глаза на правду.
До сих пор вижу себя в ученическом кителе и фуражке, в рваных ботинках, хлюпающих по хасковским булыжникам. Бедная мама, она в ту пору никак не могла на меня нарадоваться: «Ученым человеком станет Гочо, род наш прославит!»
Мечтала видеть меня ученым, бедная, да ничего не получилось из этого. Стал я бунтарем по профессии. Как говорил Ботев: «Не плачь, мать, не тужи, что стал я гайдуком».
Разумеется, все мы являемся настоящими борцами, прежде всего потому, что мы сыновья одной матери — Болгарии. И потому, что мы, если понадобится, готовы умереть за нее.
Потом неожиданно для меня Гочо обернулся и с каким-то благоговением прошептал:
— Болгария, ты наша родная мать!..
И зашагал по тропинке, ведущей к Баррикадам. Я следовал за ним, хотя у меня подкашивались ноги. В душе звучали его слова: «Болгария, ты наша родная мать!..»
Перед закатом мы присели отдохнуть на поляне. Гочо казался чем-то озабоченным и все молчал. Но когда встречался со мной взглядом, то издали махал рукой. Он любил меня, как сына, и доверял самые сокровенные свои тайны.
— Садись сюда, я тебе расскажу о своей муке, которую ношу в сердце еще с тех пор, когда учился в гимназии. 1917 год стал годом моего боевого крещения. Тогда мы, молодежь, основали кружок тесных социалистов в гимназии. Горсточка людей — человек двадцать наиболее передовых ребят.
Хотя мы занимались исключительно просветительной деятельностью, работа нашего кружка носила конспиративный характер. Социалисты тогда отнюдь не были в чести, и власти их преследовали. Одним словом, нам с трудом удавалось доказать свою правоту. Для этой работы нужна была не только смелость, которой мы, бесспорно, обладали, но и разум. От нас прежде всего требовалось стать примерными и сильными учениками, чтобы мы могли лучше исполнять порученные нам задачи. Да как же иначе смог бы слабый привлечь на свою сторону сильного? Чтобы стать руководителем, надо многое знать и уметь, быть умным и тактичным. Человек, не имеющий достаточной подготовки, не может быть руководителем.
Вот почему мы и ложились, и вставали с книгой в руках. Каждый стремился узнать больше. В нашем социалистическом кружке не было отстающих учеников — мы все стали отличниками.
Ну да я отвлекся от главного. Самого лучшего из нашей группы сожгли заживо. Это был Стойко Щерев — золотой парень, готовый умереть за товарища, принести себя в жертву ради других! Столько лет прошло с тех пор, а он, как живой, у меня перед глазами, и особенно в трудные минуты я неизменно вспоминаю о нем. Стойко Щерев, Васил Митев, Илия Граматиков и я были первыми руководителями нашего кружка.
Еще до привлечения Щерева к активной революционной работе я долгое время дружил с ним. Он слыл одним из лучших учеников, и мы хотели любой ценой добиться включения его в ряды наших единомышленников. Мне поручили поработать с ним. Однажды после уроков я догнал его на улице и предложил пойти на наше собрание. Стойко посмотрел на меня, улыбнулся и принял все это как нечто само собой разумеющееся.
Впоследствии он стал не только опытным руководителем и агитатором, но и бесстрашным борцом. Как и Петлешкова, палачи сожгли его заживо.
Когда мы завоюем свободу, прежде чем взяться за большие дела, мы должны воздвигнуть памятник в честь павших, чтобы живые помнили о них. Не должно быть забытых героев.
Я, кажется, совсем заговорил тебя. Спокойной ночи!
Гочо лег, склонив голову на гайдуцкий камень. Наверное, во сне ему привиделся Стойко Щерев.
Однажды летней ночью, после долгого и утомительного перехода, мы очутились в кошаре деда Кольо. Горы притихли. Усмирились ветры, как после отшумевшей бури. Бездонное небо казалось кротким и синим-синим. Луна, появившаяся из-за вершины Старчовец, печально освещала примолкшие калоферские кошары.
Дед Кольо, старший потомок Калофера-воеводы, ровесник Ботева и Левского, присев к пылающему чабанскому костру, разговаривал со своими собаками, не сводившими с него преданных глаз. Как будто рассказывал им о чем-то. Наверно, о битвах, когда-то гремевших в этих горах, о павших героях, с которыми он делился последним ломтем тяжело достающегося чабанского хлеба.
Дед Кольо был не просто чабаном. Через его кошару прошло много гайдуков, воевод и народных борцов. Здесь останавливались Левский и Ботев. О них старик сохранил самые светлые воспоминания и питал к ним теплые чувства. Жизненные бури как будто специально пощадили его для того, чтобы он передал новым поколениям бунтарские заветы Ботева и Левского. Как только заходила речь о них, из его старческих глаз, едва заметных под мохнатыми седыми бровями, катились тяжелые слезы.
Старик олицетворял собою живую историю Болгарин, и мы всегда с большим интересом слушали его воспоминания о грозных годах борьбы против турецкого владычества. И сейчас были рады приветствовать старого бунтаря.
Мы отдохнули под гостеприимным кровом деда Кольо и стали собираться в путь.
Мы вошли в густые леса Старчовеца. Остановились на хорошо защищенной от ветров скале, откуда было удобно наблюдать за окрестностями. Прямо перед нами возвышались гигантские контуры Стара-Планины. Вершина Юмрукчал, как древний герой, вонзила свой меч в небесную высь. Вершины облаков, похожие на скалы, казалось, вот-вот прольются ливнями на измученную болгарскую землю. Но мы находились в хорошо защищенном месте и поэтому не чувствовали надвигающейся бури. Мы сняли с себя рюкзаки и винтовки и свалились без сил прямо на камни. Чьи-то признательные руки высекли сейчас из этой скалы вооруженного партизана. Он вечно стоит на посту и стережет родину Ботева — город-красавец Калофер. Никогда не предполагал, что после победы на этом святом месте, где мы с Гочо боялись, чтобы в нас не угодила пуля, я снова встречусь со своими старыми помощниками — Петко и Стояном-Медвежатником. Волосы их побелели как снег, но оба они сохранили бодрость духа.
Чудесные люди эти партизанские помощники: ни время, ни годы не смогли изменить в них природные черты, присущие болгарам. Больше того, они так хорошо сохранили в памяти все события, что могут обо всем припомнить, восстановить любой образ, воспроизвести любую встречу. Мы же, не раз умиравшие и воскресавшие в прошлом, закрутившись в водовороте послевоенной жизни, усталые от повседневных дел — телефонов, заседаний, — стали понемногу забывать первые, еще несмелые шаги героического начала. А эти старые калоферцы, все такие же мудрые и спокойные, останавливались на каждом шагу и напоминали о разных событиях, которые совсем уже стерлись в моей памяти. Я не переставал им удивляться. В тот миг мне захотелось еще раз поблагодарить эту холмистую ботевскую землю за то, что она надежно, по-матерински укрывала нас от врагов. Пока мы шли, я все слушал обоих товарищей, и мне все казалось, что когда мы придем на место, то я увижу на скале Гочо.
Но вернемся в ту грозовую ночь, в которую мы с Гочо решили там заночевать.
— Гочо, — сказал я ему тогда, — ты же начал мне рассказывать о своей юности. А что было дальше?
— Да уж и не знаю, интересно ли тебе меня слушать?
— Очень интересно, Гочо.
И он продолжал:
— Наша борьба в то время была особенной. До ухода в горы каждый должен был пройти школу мужества в кружках. Когда мы стояли на вершине Богдан, я завидовал гайдукам. Зачем, спросишь ты, завидовать их нерадостной доле? Да, но они без всякой подготовки в любой момент были готовы к битвам. Пахал крестьянин, напал на него турок — и все. Он бросал соху и тут же хватался за ружье. А у нас как? Враг хитер, умеет вводить людей в заблуждение. Много надо потратить времени, пока заставишь нынешнего крестьянина бросить соху и взяться за оружие. Гайдуков не приходилось агитировать. Многовековое рабство сделало свое дело. Вместе со словом «мама» он узнавал имя тирана, отнимавшего у него материнское молоко. Ведь это пятьсот лет рабства! Но фашизм не должен продержаться у нас и года. Хотя история многому нас научила, но не все это понимают. История — это как школа: у нее есть и хорошие, и слабые ученики. Одни воспринимают все на лету, а других надо убеждать. Вот почему мы и начали с азов.
Наш кружок окреп и стал авторитетным. Ни одно событие или торжество в гимназии но обходилось без нас. Наши ребята стали единственными желанными докладчиками на всех утренниках и вечерах. Их искали для оказания помощи отстающим ученикам, особенно перед экзаменами. С этой целью к нам обращались даже наши недруги.
Учителя заметили наше влияние и превосходство над остальными учениками и начали на нас коситься. Это заставило нас пригласить их на занятия кружка, чтобы они могли убедиться в том, что мы занимаемся не конспиративными делами, а чисто просветительными проблемами.
Вскоре наша инициатива вышла за рамки гимназии. О ней заговорили в Софии. И зимой 1920 года, в декабре, если мне не изменяет память, к нам в гости приехал Ламби Кандев, которого поразила наша разнообразная деятельность. «Нигде не встречал ничего подобного, — улыбнулся Кандев. — Да, вы нащупали самый верный путь. Когда об этом узнает Дед[21], он очень обрадуется».
Эти слова Ламби Кандева особенно взволновали нас.
«Но мы занимаемся и другой деятельностью!» — вмешался Стойко Щерев.
Ламби Кандев сел за одну из парт и попросил обо всем рассказать ему более подробно. Товарищи поручили мне выполнить его просьбу.
Сначала я немного смутился, но Ламби Кандев обратился ко мне по-свойски и помог побороть смущение. Я рассказал ему, что мы проводим кампании против фашистских праздников и парадов в день святого Георгия и что к этому рабочие относятся с большим интересом.
Множество праздников существовало тогда: дни победы, фашистские обряды самого различного характера, и мы считали, что на них надо ответить своими, рабочими праздниками.
Помню, с каким энтузиазмом мы организовывали участие учеников в первомайской демонстрации 1919 года. В этой демонстрации, за которую отвечал я, участвовало свыше ста учеников.
В Хаскове — центре табачной промышленности — Первое мая проводилось очень торжественно. Мы, одевшись по-праздничному, с красными тюльпанами в петлицах, стройными шеренгами прошли через весь город. Впервые ученики из гимназии пели вместе с рабочими революционные песни, особенно песню Киркова[22] «Пусть дружная раздастся песня». До сих пор помню, как грозно звучало:
Выше голову, Рабы, рабы труда! Вы же цари на земле. Да здравствует труд!Это было для того времени исключительным событием, поднявшим дух хасковчан, но, с другой стороны, привело в ярость фашистов. Директор получил приказ наказать нас, а кое-кого даже исключить.
Должен сказать, что наш директор, образованнейший человек, воспитанный в демократическом духе, не согласился применить к нам такие крайние меры. Он даже осмелился обмануть представителей власти, заявив, что в демонстрации участвовали не ученики, а солдаты, переодетые в форму гимназистов.
Мудрец! — улыбнулся Гочо. — Жаль, что никак не могу вспомнить его имя. Память начала изменять мне.
После этого события директор стал проявлять повышенный интерес к нам, хотя и был далек от социалистических идей. Скорее всего, он хотел убедиться в правоте нашего дела, а не в нашей «вине». «Я не осуждаю верующих, — говорил он, — но и безбожников не обвиняю. Пусть каждый молится своему господу, но не делает зла другому».
Чтобы утвердить наши позиции в глазах директора, мы привлекли в свою среду сына классного наставника, чем опровергли утверждение буржуазных сынков, что якобы в нашем кружке состоят лишь безродные крестьянские дети.
Кружок стал одним из лучших в стране. О его деятельности уже знал и Димитр Благоев. Это мне сообщил Ламби Кандев, с которым мы увиделись летом 1920 года в Софии. Встретились мы совсем случайно. Когда я засмотрелся на памятник царю-освободителю, кто-то тронул меня за плечо. Я узнал Ламби Кандева. Мы поздоровались. «Юноша, что вас привело в Софию?» — спросил он. Я ответил, что, как секретарю нашего кружка, мне хотелось посоветоваться с ним по некоторым вопросам. Ламби Кандев взял меня под руку и повел в парк. Тогда-то он мне и сообщил, что рассказал обо всем Деду и тот поручил ему от его имени поздравить нас с успехами.
Когда об этом узнали товарищи, то очень обрадовались и начали работать еще более настойчиво. Позже по указанию Ламби Кандева мы создали из отдельных кружков общую организацию, при которой стала действовать секция по работе среди девушек. Она проделала большую работу. В нашу организацию влились новые силы, и это привело к тому, что мы создали еще одну интересную секцию — секцию для работы среди турецкого меньшинства. В Хасковской гимназии обучалось много турок. С большим трудом нам удалось привлечь к работе в организации 20 турок — учеников гимназии и одну ученицу-турчанку, которая потом привела за собой и многих других своих подруг.
В этот момент Гочо на минуту задумался:
— Проклятая память, да как я мог забыть имя этой турчанки?
Ага, звали ее Айша. Это была красавица с голубыми глазами. Так вот эта Айша, когда позже меня посадили в тюрьму, организовала турок, чтобы выразить протест полиции, которая якобы меня задержала незаконно, и доказывала, что я ни в чем не повинен. А в 1940 году она лично явилась на свидание ко мне в тюрьму и принесла передачу. Даже пожаловалась на то, что ее муж стал реакционером, и просила совета, как ей с ним быть.
Я посоветовал постараться его разубедить, а если это не удастся, то уйти от него.
Ее приход произвел исключительно сильное впечатление не только на заключенных, но и на тюремное начальство, которое сначала не хотело ее допускать на свидание со мною. Тогда турчанка прибегла к хитрости, выдав себя за мою сестру. Помню, как ласково она смотрела на меня и какую теплоту проявила ко мне. Совсем как настоящая сестра. Очень сожалею, что потерял ее следы и так никогда не смог сказать ей от всего сердца «благодарю»…
Так вернемся снова к молодежной организации. Я уже сказал, что у нас организаторская работа была поставлена лучше, чем у других, и поэтому мы послали в 1921 году шесть своих представителей на конгресс. Тодор Паскалев представлял нашу организацию. Никогда не забуду этот веселый майский день.
На конгрессе впервые обсуждался вопрос о работе среди трудящейся молодежи. Доклад делал Димо Тодоров. В руководство, которое мы выбрали, вошли: Тодор Павлов[23], Александр Ликов, Петр Искров и другие.
В моей памяти все еще живы встречи с Рубеном Леви и Тодором Павловым, которые на конгрессе вели упорную борьбу против анархистов.
Эта борьба продолжалась и на следующих конгрессах, особенно в 1922 году, когда со всей остротой встал вопрос о работе не только среди рабочей молодежи, но и среди сельской. По этому поводу высказывалось много мнений и велись горячие споры. Проявлялось и сектантское отношение к этой проблеме, что было вполне в духе того времени. Мы приняли решение и по ряду производственных вопросов, а также рекомендации Коминтерна, призывавшего нашу партию готовиться к нелегальной борьбе.
Должен признаться, что в то время меня несколько раз исключали из гимназии и предупреждали, чтобы я бросил заниматься политикой.
После каждого конгресса мы улучшали свою работу и усиливали влияние на неорганизованную молодежь. Несмотря на различия во мнениях по некоторым вопросам, мы до конца оставались революционерами и до конца отстаивали идею Ленина о том, что только революционным путем мы сможем освободиться от цепей.
Вот почему во время переворота 9 июня[24] мы решительно выступили против блока, незаконно захватившего власть.
Далее Гочо рассказал мне подробно, через какие перипетии пришлось им пройти в своей работе. Оказалось, что организация молодежи в Хасково даже на конгрессе отстаивала ряд своих суждений. Хасковчане вели продолжительную борьбу против различных течений в движении молодежи, и особенно против анархистов.
— Одно время, — оживился Гочо, — нас обвинили в сепаратизме. Даже приезжали специально из Центрального Комитета для проверки. Это поручили Лекову. Он прибыл к нам едва ли не с таким убеждением, что ему предстоит тушить пожар.
Первый удар обрушился на меня. Я был обвинен в связи с анархистами. Тогда Леков настаивал на том, чтобы запретить мне высказываться даже на том собрании, которое нам самим предстояло провести. Я согласился, но попросил доверить мне охрану этого собрания. Мне хотелось доказать свою дисциплинированность и невиновность. Все так и получилось. Собрание было хорошо организовано и проведено вполне спокойно. Полиция нам не помешала. В конце концов Леков убедился, что мы стоим на правильных позициях, что я не анархист.
Над Старчовцем сгустился мрак, но небо было все в звездах, которые то вспыхивали, то падали вниз и гасли где-то вдали меж деревьями. У нас под ногами благоухала дикая герань, и от этого клонило ко сну, но Гочо не спалось, хотя он много отшагал без остановки по крутым горным тропинкам. Да и говорили мы о самом дорогом в его жизни — о его молодости, которую люди всегда вспоминают не без боли.
Все это мне казалось бесконечно интересным, потому что лично мне выпала другая судьба. Окончив неполную среднюю школу, я стал рабочим. Очевидно, именно проявленный мною интерес и заставлял Гочо продолжать свой рассказ, несмотря на заметную усталость. В отличие от многих других революционеров Гочо не прославился как рассказчик и оратор, но своей непосредственностью и простотой он всегда умел увлечь слушателей. В его рассказе не было ни тени позы, ни малейшей попытки приукрасить факты, Он был для нас самородком и как борец, и как человек. Разумеется, с первого взгляда Гочо казался немного странным и своеобразным, но после первого же общения с ним это впечатление рассеивалось.
— А теперь, может быть, ляжем спать? — спросил он и посмотрел на часы. Стрелки показывали двенадцать.
— В двенадцать часов мне еще не хочется спать, — ответил я. — Мне кажется, что в этот час зреют великие события и волнующие удары курантов указывают нам путь к победе, в завтрашний день.
— Сдаюсь, — ответил Гочо. — Видно, мне придется продолжить свой рассказ.
Мне этого очень хотелось.
— Очень интересен вопрос о нашей работе в войсках, — продолжал Гочо. — Наша организация в течение непродолжительного времени сумела завязать солидные связи с солдатами и проделать очень полезную работу. Почти во всех казармах в Хасково мы создали ячейки молодежи. Первое время вовлекали в них знакомых ребят из сел и городов, а потом и остальных солдат.
Тогда мы использовали очень интересную форму работы в войсках. От товарищей из наших ячеек мы получали списки молодых солдат вместе с их характеристиками и рекомендациями.
Отобрав наиболее подходящих солдат, мы устраивали с ними встречи в городе, беседовали на различные темы и таким образом привлекали их на свою сторону. Главной нашей целью являлось разоблачение фашистских командиров и режима в казарме, а также антиболгарского характера фашистов вообще. Это делать было одновременно очень сложно и опасно, потому что в казарме существовало несколько буржуазных организаций, в которых состояли многие солдаты. Кое-где нам удалось устроить своих людей в качестве связных при штабах. Они подробно информировали нас о настроениях в армии.
Как известно, Хасково — один из крупных центров табачной промышленности, и с 1920 до 1923 года он превратится в очаг первых выступлений и стачек. Это обстоятельство дало нам возможность установить тесные связи с рабочими табачных фабрик и создать с ними единый фронт. Усилилось наше влияние и в селах, так как большинство учеников приехало именно оттуда.
Если принять во внимание, что Хасковский район в основном сельскохозяйственный и что в свое время земледельцы[25] пользовались там довольно большим влиянием, то надо признать, что во многих селах мы добились большого успеха и нам удалось создать там крепкие организации.
Первые ячейки мы организовали в селах Горни-Извор и Крепост.
В связи с переворотом 9 июня комитет партии в Хасково принял решение действовать. Он находился в боевой готовности. Должен подчеркнуть, однако, что мы допустили ряд ошибок: во-первых, дожидались приказа из Софии, во-вторых, не проявили достаточной активности и не использовали свои связи в казармах.
Начальник гарнизона — представитель земледельцев — также ждал указаний по своей линии. Но офицер Димитр Радев и еще один офицер, имени которого не помню, заставили его отдать приказ о захвате города.
Партийный комитет собрался, были приняты правильные решения, мы приготовились к активным действиям, но ничего реального не осуществили.
Гочо глубоко вздохнул, вероятно очень тяжело переживая эти события.
— Ох, это длинная история, Ватагин! Потом между нами возникло много споров. Меня послали в Софию, где я встретился лично с Тодором Лукановым. Позже нам прислали письмо, в котором указывались причины, оправдывающие многое, но только после вмешательства Васила Коларова и Георгия Димитрова из Коминтерна все вопросы, связанные с 1923 годом, были полностью выяснены.
Позже я вошел в состав ЦК комсомола, где отвечал за партийное воспитание молодежи. Я работал почти со всеми видными тогда руководителями молодежи, в том числе с Йорданкой, Сашо, Малчиком, Лиляной, Титко, Нинко, Еленой и многими другими товарищами. Где теперь все они? Нет, они и теперь не могут быть в стороне. Наверняка они на передовых линиях в городах или на гайдуцких тропах бунтарской Болгарии.
Гочо встал, опираясь на свою винтовку. Юмрукчал был безмолвен, словно хранил какую-то тайну, и от него веяло холодом, а со стороны Марагидика загадочно мигала Полярная звезда.
— Видишь ее? — растолкал меня Гочо. — Она мне сердце согревает. Там, на севере… там побывал и я. Я тебе об этом не рассказывал.
— Где?
— В Советском Союзе, на моей второй родине!
Я подскочил от неожиданности. Это показалось мне невероятным. Гочо никогда не рассказывал мне об этом. И вдруг…
Я увидел его совсем в другом свете. Как будто он принес с собой свет кремлевских звезд. И, как на экране, передо мною мелькнули тени Павки Корчагина и Штокмана, Ватагина и Чапаева, чьи имена мы унаследовали в суровой борьбе. Я вспомнил об увиденных советских фильмах, об услышанных мною песнях, которые я и сам умел петь. Мгновенно я представил себе бесконечные просторы советской земли, легендарные битвы — о них я читал в «Войне и мире». Но вот я увидел перед глазами страшные пожары войны. И мне показалось, что я слышу издалека призыв: «Вперед!»
В этот момент я вспомнил и о своем деде, часто рассказывавшем мне о непобедимой силе братушек, о великих русских людях. Вспомнил и стихи Вазова о России:
Россия, как ты нас пленила! Твое имя святое, родное, милое, Оно и во мраке нам светило…Я прислушался к шуму гор, и мне показалось, что в нем звучал мотив песни «Священная война»:
Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною, С проклятою ордой!..— Зимой 1924 года в морозную северную ночь, — продолжал Гочо, — я сел в поезд Москва — Рига с фальшивым паспортом на имя студента Константина Ризова. Меня провожали верные товарищи. Они же усадили меня к купе первого класса. Рижский вокзал оказался очень многолюдным. Куда-то торопились и молодые, и старые: одни уезжали, другие возвращались. Это были очень неспокойные времена…
Я забился в угол купе и ждал, когда состав тронется.
В купе вошел незнакомый тучный человек, который с трудом мог поворачиваться и пыхтел как паровоз. Но сумев взобраться на верхнюю полку, он жалобно посмотрел на меня, не сказав ни слова, но я понял, что он просит меня поменяться с ним местами.
Я уступил ему свое место, но не спускал с него глаз. Вдруг я заметил, что мой толстяк выворачивает карманы брюк и пиджака и выкидывает из них изорванные бумажки. Я подумал: «Похоже, что это мой коллега. Кто знает, может, он вроде меня тоже куда-то собрался? Мир широк, земля огромная, но все же судьбы людей нет-нет да и пересекаются».
Наконец мы устроились: он на нижней полке, я — на верхней. Состав набрал скорость, и каждый из нас, не проронив ни слова, погрузился в свои мысли.
Мне предстояло запомнить ряд сложных вещей и имен, которые я услышал впервые. Я должен был в случае необходимости точно знать, откуда я выехал в Советский Союз, через какие города я проехал, что я там делал, и вообще уметь убедительно рассказать свою «легенду»: ехал-то я с фальшивым паспортом и под чужим именем. Товарищи в Москве подробно обдумали путь моего следования. Мне предстояло вернуться из Москвы в Болгарию через Ригу — Берлин — Мюнхен — Вену. А это был дли меня совсем новый, незнакомый путь, новые города, в которые я попадал впервые. И, лежа на полке мягкого вагона, я думал о подстерегающих меня опасностях и о том, как из них выпутаться.
До Риги мы ехали ночью. После пересечения границы мне предстояло самому о себе заботиться, потому что я уже покинул пределы Советского Союза. До Берлина я купил билет третьего класса и пересел в другой поезд. Теперь в моем купе появилась попутчица — какая-то русская, женщина средних лет, довольно симпатичная и общительная. Насколько я понял, она принадлежала в свое время к высшему обществу, но была достаточно объективной, так как не высказывалась со злобой о новой власти в России.
Узнав, что в вагоне едет русская, пассажиры самых разных национальностей набились в наше купе, сразу ставшее центром внимания всего вагона. Разумеется, для меня в этом таилось много опасностей, потому что вместо того, чтобы ехать незаметным, я оказался в гуще людей. Естественно, у любого из них мог возникнуть вопрос: а кто этот человек, едущий вместе с русской женщиной?
Меня спасла моя попутчица, оказавшаяся весьма деликатным человеком. Она спокойно отвечала на все вопросы любопытных и даже спела несколько русских романсов.
Потом ко мне подошел какой-то немец и заговорил со мной по-немецки. Я дал ему понять, что не знаю этого языка. Но немец оказался упорным человеком. Он пригласил меня в свое купе играть в покер, и мне ничего не оставалось, как согласиться. Я даже подумал, что, возможно, среди иностранцев я меньше буду бросаться в глаза.
Наступило время обеда. Мои партнеры-немцы пригласили меня в ресторан. Мне не удалось отказаться. Я вынужден был пойти с ними. Но должен признаться, что я пережил при этом много неприятных минут, и под конец мне едва удалось отделаться от своих чрезмерно общительных спутников.
В Берлин приехали вечером. Как мы и договорились с товарищами из Москвы, я отправился прямо с вокзала в ближайшую гостиницу, находящуюся на берегу Шпрее. Устроившись, сразу же пошел в австрийское посольство, чтобы запастись визой на въезд в Австрию.
Ох, это длинная история! И что только не валилось на мою несчастную голову! Я знал всего несколько немецких слов. А в посольстве я столкнулся с изысканными господами, и мне, крестьянскому парню, пришлось с ними как-то договариваться. Сотрудница посольства, которая должна была выдать мне визу, узнав, что я болгарин, стала рассматривать меня, как диковину, и заставила ожидать, не предложив сесть. Получив визу, я отправился бродить по берлинским улицам и прогулял до поздней ночи.
На следующий день я сел в поезд, идущий в Мюнхен. На сей раз в моем купе оказалось немецкое семейство. С ними я почувствовал себя спокойнее. Сказал им, что я студент и еду в Болгарию. Они не проявили особенного интереса к моей личности. И я без происшествий доехал до Мюнхена.
Из Мюнхена в Вену ехали днем. Всю дорогу я сидел у окна, делая вид перед попутчиками, что любуюсь природой и что мне очень нравятся окрестности, мимо которых мы проезжаем.
В Вене со мной произошло маленькое недоразумение. Извозчик, увидев, что я выхожу из шикарного вагона, решил отвезти меня в самую дорогую гостиницу.
Вскоре явились двое полицейских и начали меня самым подробным образом расспрашивать, откуда еду и с какой целью путешествую. Так как я не говорил по-немецки, то они решили вызвать какого-то русского переводчика, вероятно белогвардейца. Я быстро сообразил, какая мне грозит опасность. Переводчик сразу же поймет, что я не русский, и может навлечь на меня подозрения. Поэтому я заявил, что еду в Болгарию, где скончалась моя мать, и что я непременно должен поспеть на ее похороны. Тогда старший полицейский махнул рукой и оставил меня в покое. Так мне удалось ускользнуть из рук полиции.
Через час, приведя себя в порядок, я вышел из гостиницы и встретился с Тодоровым (Иваном Генчевым-Караивановым), отвечавшим за болгарских политэмигрантов в Австрии.
Узнав, где я устроился, он поморщился и распорядился, чтобы я немедленно забрал оттуда багаж во избежание провала.
«Да ты, — сказал он мне, — попал в самую дорогую гостиницу. В ней останавливаются обычно князья и графы, так зачем же тебе, бедняку, туда было лезть?»
В Вене я встретился с двумя товарищами — Христо Петровым и Гавраилом Савовым. Мы разными путями добирались до Вены, где нам предстояла встреча.
Нас устроили в рабочем общежитии. Впервые за все свое длительное путешествие я почувствовал себя в своей среде.
Тодоров отобрал у нас паспорта, выдал новые, и я стал теперь Андреем.
В Вене я оставался месяца полтора. Там, до того как меня перебросили в Болгарию, пришлось решать ряд вопросов, связанных с моей будущей работой. Очевидно, до Вены канал, по которому проводилась переброска наших людей, функционировал более надежно, чем из Вены в Болгарию. Нам сказали, чтобы мы выдавали себя за русских белоэмигрантов. Я целыми днями изучал город и страну, занимался русским языком и готовился к своему возвращению на родину. Встречался с австрийскими коммунистами, принимал участие в их мероприятиях и собраниях.
Наконец началась непосредственная подготовка к переброске в Болгарию. Мне сказали, что принято решение послать меня работать в Стара-Загору. Туда я прибуду как студент из Европы. Я купил себе новый костюм, часы, даже трость. Мне снова сменили паспорт. Теперь я стал студентом Бело Белчевым из Варны, возвращающимся на родину.
Сначала было решено, что я проеду через Румынию и оттуда через Русе прямо в Стара-Загору. Но потом решение изменили, и я отправился через Югославию.
Ехал скорым поездом. Став уже опытным пассажиром, я не выходил из вагона ни на одной станции. Все время сидел у себя в купе и думал о Болгарии.
Что происходит в моей стране? После Витошской конференции ЦК партии обсудил 17 и 18 июня 1924 года ошибку, допущенную 9 июня. Теперь следовало исправлять эту ошибку, перестраивать работу согласно новым принципам и продолжать бороться.
Как известно, в то время партия вела очень тяжелую борьбу. Многие организации были разгромлены, сохранившиеся нужно было укреплять. Страна стала похожа на пепелище. Мы поставили тогда целью, придя в себя после полученного удара, нанести контрудар. Тот, кто пережил ужасы 1923 года, никогда бы не согласился сложить оружие.
Гочо потрогал пистолет, висевший у него на поясе, и продолжал:
— Без оружия у тебя руки связаны, а без идеологической закалки ты слеп. Коммунисты сильны главным образом идейной убежденностью. Но вернемся назад. Ты ведь помнишь, что ответил Левский, когда его спросили: «Васил, кем ты будешь после освобождения Болгарии, ведь ты бы мог и царем стать?» «Ну, если мы боремся за то, чтобы иметь царя, — сказал Левский, — то у нас и сейчас есть султан».
Вот тебе самый яркий пример любви к родине! Вот тебе пример, о котором, особенно коммунисты, никогда не должны забывать, потому что завтра, после того как мы свергнем царя, могут появиться и султанчики. Любой ценой надо преграждать путь разным корыстолюбцам, чтобы они не нарастали, как бородавки на теле народа.
После этого разговора борьба раскидала нас на различные участки, и мы с Гочо не встречались примерно месяц. Мне пришлось снова отправиться в Пловдив, а его послали укреплять другие партизанские отряды. Расстались мы неожиданно, и никто из нас двоих не предполагал, что всего через несколько дней мы встретимся в Пловдиве, на этот раз под видом тихих и мирных горожан. Я надел совсем новый костюм, очки с простыми стеклами и мягкую шляпу. А Гочо в сером макинтоше ходил по городу, заложив руки в карманы, как настоящий оптовый торговец. Мы еще издали узнали друг друга, но решили не подавать виду и пройти мимо, потому что город кишел полицейскими, да и как бы мы ни переодевались, многие из них знали нас в лицо. Ни в коем случае не следовало рисковать.
В горах нам больше так и не привелось поговорить. Мы продолжили незаконченный разговор уже после победы, когда однажды 2 июня вместе посетили партизанские места Среднегорья, чтобы поклониться могилам наших павших товарищей. Но тогда Гочо уже стал неразговорчивым и избегал отвечать на какие бы то ни было вопросы. Здоровье его резко ухудшилось. Я напомнил ему, что он ничего не рассказал мне о последующих годах своей жизни, но он только как-то неопределенно махнул рукой:
— А ты расспроси стены тюрем. Там я оставил свои четырнадцать лет. Все эти годы я недожил и недолюбил. Там остались и годы Димитра Димова, просидевшего в тюрьме еще больше, чем я. И многих других коммунистов — мучеников за освобождение Болгарии от фашизма.
С тех пор я все ждал удобного момента, когда мы с Гочо смогли бы продолжить наш разговор.
И вдруг узнал о его смерти. Много интересного и поучительного унес в могилу скромный труженик партии, наш Гочо…
Музыка звучала медленно и торжественно. Раздалось несколько залпов, отдавшихся эхом в горах.
— Прощай, Гочо!
СВОБОДА
Эх, время, время, неповторимое,
время нашей огневой молодости!
МАРШ РЕВОЛЮЦИИ
8 сентября 1944 года Первая среднегорская бригада имени Христо Ботева спустилась в село Розовец, славившееся своими революционными традициями. Народ встретил нас так, как некогда встретил русских освободителей[26]. И стар и млад вышли из своих домов, и тесные, кривые сельские улочки наполнились народом. Рукопожатия, объятия, рыдания, слезы! И вопросы, вопросы о знакомых и близких. Каждый приглашал нас в гости. Каждый приносил нам еду и цветы.
На митинге на площади выступил Морозов.
— Товарищи, — начал он, — поздравляю вас! Свобода!
И тут со всех сторон загремело:
— Да здравствует свобода!
— Слава народным партизанам!
— Настал день, во имя которого пало в борьбе столько наших товарищей, — продолжил Морозов. — Сегодня в городах и селах народ встречает партизан и братьев-освободителей. Веселитесь, товарищи, сегодня день нашего общего ликования!
Морозов никогда не считался хорошим оратором, но его слова необыкновенно всех взволновали. И долго после этого на площади отплясывали хоро.
Старый, покосившийся сельский дом превратился в партизанский штаб. Закипела работа. Впервые мы связались по телефону с Пловдивом, с тогдашним областным управлением. Поговорили довольно резко с пловдивскими военными властями и разными выскочками из их окружения. Нам отвечали растерянные голоса.
На следующий день снова связались с Пловдивом. Наши товарищи передали приказ: как можно скорее двигаться по направлению к городу и по дороге не задерживаться в селах.
Среди крестьян весть о взятии партизанами Розовца разнеслась молниеносно. Наш телефонист, особенно довольный тем обстоятельством, что служит новой власти, быстро соединял и разъединял абонентов и едва успевал отвечать соседним селам: «Вас слушают партизаны. Говорят, что не могут прийти в ваше село — торопятся в Пловдив», «Есть еще время, подождете!».
Первая ночь иа освобожденной территории!.. Эта ночь прошла в бесконечных разговорах и мечтах о том, что будет завтра.
Рассвело. Все куда-то торопились, поздравляли и приветствовали друг друга.
В отрядах закипела лихорадочная подготовка. Одни украшали свои шапки цветами, другие чистили обувь, скатывали одежду. Каждый партизан хотел блеснуть перед восторженным населением. На улицах не стихал гомон.
Дядя Смилян уже развертывал знамя бригады. Самый пожилой среди партизан, он всегда относился к нам по-отечески и с известной долей придирчивости как наставник. Этот улыбающийся балагур всегда находил, что сказать каждому из нас. Занимаясь раздачей продуктов в отряде, он обычно делал это с шутками и поговорками, скрашивающими наш суровый быт.
— Послушай, Диана, — говорил он, — нельзя же так, надо хоть немножко поправиться. Вот тебе от дядьки Смиляна еще одну ложку добавки! — И он наливал в Дианину кружку дополнительно похлебки, а та морщилась и краснела, чувствуя себя очень неудобно из-за того, что ей досталось немного больше, чем другим.
Примерно в полдень 9 сентября бригада построилась в колонну. В тесных улочках толпились люди. Все село вышло нас провожать.
Мы запели и торжественным маршем направились по шоссе в Пловдив.
Шумите, горы и дубравы, Шумите, вольные леса, Шагают смело партизаны, Народа верные сыны.В горах разнеслось эхо нашей песни, и нам показалось, что горы тоже запели вместе со своими верными защитниками. Кое-кто обернулся назад, чтобы еще раз взглянуть на вершины Братан, Бакаджик и еще раз попрощаться с родными горами, с людьми из Розовца.
Нам казалось все настолько необычайным, фантастическим, что радость и грусть слились в одно. Во главе колонны шагали Морозов, Полски, Боцман и Камен, а в нескольких шагах впереди, выпятив грудь, шел дядя Смилян с развевающимся знаменем в руках. Он выглядел торжественным и важным и, забыв о своих обычных шутках, чеканил шаг, крепко сжимая древко знамени.
Самым большим уважением пользовались наши девушки. Живка была первой женщиной-партизанкой и чувствовала себя счастливой. Мы направлялись в Пловдив, туда, откуда ей пришлось уходить в горы. Диана, более молчаливая, переживала все в себе. У нее были свои заботы: она торопилась в Пловдив в квартал Борислав. Наверно, в мыслях представляла себе встречу с братом Желязко и сестрой Мичоной, находившимися в фашистской тюрьме. Ей не терпелось встретиться и с дедом Видю — славным человеком, дом которого превратился в своеобразный штаб революции. Видю был закаленным борцом и передал эту закалку своим детям и внукам. И вот Диана представляла себе его поседевшим, состарившимся, но все же бодрым и улыбающимся.
Дорога в Пловдив вела через Зелениково, Брезово, Генерал-Николаево, Стряма. Повсюду, где мы проходили, с обеих сторон шоссе выстраивались толпы народа, собравшегося из всех соседних деревень. Сияющие от радости люди кричали, приветствуя нас красными флажками:
— Да здравствуют партизаны!
— Да здравствует Красная Армия!
— Видишь, вон там Балканский, Стенька — живы, милые!
Слышались и рыдания. Загрубевшие от работы материнские руки тянулись к нам:
— Милок, а где вы оставили моего сына?
Кое-кто выходил из колонны, чтобы обнять своих измученных тревогами матерей.
Колонна не останавливалась. А осиротевшие матери обнимали нас так, как обнимали бы своих сыновей, которые уже никогда не вернутся. Не смолкали песни. Нам бросали цветы, и время от времени кто-нибудь от восторга стрелял в воздух.
В Зелениково нас встретили несколько грузовиков, автобус и легковая машина. Колонна снова отправилась в путь, но уже моторизованная.
Встреча с брезовцами была особенно торжественной. Почти все население вышло на северную околицу села. Сотни глаз смотрели на нас, ликующие, печальные, полные теплых материнских слез.
Первой меня обняла тетя Стана — сестра отца. Мама же оцепенела и просто не знала, что ей делать.
На площади в селе торжествовала тысячная толпа народа.
— Мы требуем устроить митинг! Видите, сколько народу собралось?
Мы не смогли отказать, хотя нам и следовало торопиться в Пловдив. Выступить пришлось мне, тем более что родом я из Брезово. Я посмотрел с балкона на огромную толпу людей, собравшуюся на площади, вытащил парабеллум и выстрелил два раза в воздух. И тут уж не выдержала вся бригада, и сразу пятьсот выстрелов из самых разных видов оружия слились в единый залп. Раздалась и огненная песня нашего единственного пулемета, который находился в надежных руках Гюро. О чем я говорил после этого импровизированного салюта в честь нашей победы — теперь уже не помню. Только помню, что, задыхаясь от волнения, крикнул:
— Вечная слава героям, пролившим свою кровь во имя того, чтобы наступил этот светлый день! Родные наши матери, снимите черные платки и улыбнитесь! Ваши сыновья будут жить в веках! Тот, кто пал в бою за свободу, тот не умирает!
В село Стряма попали к вечеру. Там квартировал кавалерийский полк. О его настроении мы не имели никаких сведений. Солдаты, судя по всему, ждали наших приказов. А что будет с их полком, с командирами, которые до этого вели их в бой против партизан?
Командир полка пригласил нас на ужин. Мы приняли его приглашение, но на всякий случай обеспечили себе надежную охрану. Столы накрыли в школьном зале, и имеете с нами туда явился и Гюро со своим легким пулеметом. Так прошел наш первый дипломатический прием.
Мы уже видели перед собой Пловдив. Он весь сверкал тысячами огоньков. В революционный Пловдив, где в бедности, голоде и борьбе прошла наша молодость, мы теперь вступали свободными людьми, героями, победителями.
Все было как в волшебном сне. Вот квартал Каршиак, где прошли мои тяжелые годы, когда я работал подмастерьем. Светились пловдивские холмы, где я не раз скитался в дни безработицы. И мне вспомнилась ночь 1941 года в канун годовщины Октябрьской революции. Вместе с Малчиком мы стояли на Бунарджике, не зная, где найти убежище, и могли только мечтать о будущей счастливой жизни.
И вот теперь город ликовал, встречал нас тысячами объятий, поцелуев, засыпал цветами. В нашу честь распахнулись все окна. Эх, нет Малчика, чтобы и он порадовался вместе с нами!
Рядом со мной стоял мой друг Банко. А Боцман, этот беспредельно честный борец, жмурился от ослепительного солнца и молча улыбался.
— Помнишь, Банко, годы, когда мы с тобой работали подмастерьями? Помнишь первомайские демонстрации, когда мы шли по этой же улице с красными ленточками, наколотыми на пиджаках, и пели, а вокруг нас что-то кричали полицейские и их агенты? А потом аресты, тяжелые испытания, и снова борьба. Ты помнишь все это, Банко?
Но Банко, ошалевший от счастья, был не в состоянии вымолвить ни слова.
Разве можно забыть таких товарищей, как Штокман, Бойчо, Кючук, Любчо! О них будут слагать песни…
Партизанское движение в Среднегорье многим обязано Штокману, и его имя никогда не забудут в этих краях. При его активном содействии осенью 1941 года в партизанские отряды ушли чехларцы, брезовцы, свеженцы, омуровцы. Сурового и благородного Штокмана любили и повсюду ждали с нетерпением. Штокман был опорой отряда…
Бригада имени Христо Ботева торжественным маршем с песнями направилась к центру города, где договорились собраться все партизаны из второй оперативной зоны.
В этот сентябрьский день нам казалось, что солнце светит ярче обычного. Улицы шумели, народ ликовал. Встречать нас явились все рабочие Пловдива. Сколько любви, слез и счастья! Я никогда в жизни не испытывал такой огромной радости, никогда не чувствовал себя таким гордым и сильным, как в тот незабываемый день.
Колонна партизан вышла на площадь, где уже высились арки и трибуна.
А кругом море людей. Дядя Смилян высоко поднял наше знамя и произнес:
— С фашизмом покончено! Теперь хозяин — народ!
ГЛАС НАРОДНЫЙ
Первые дни свободы мы провели как во сне. Сколько бы мы ни мечтали о свободе, как бы ни представляли себе долгожданный день победы, наша фантазия не могла представить всего величия этого огромного события. Оно в действительности оказалось таким грандиозным, таким необыкновенным, таким счастливым!
Пловдив — этот большой революционный город, так тяжело дышавший в огне борьбы, — теперь выглядел оживленным и необычайным. Повсюду встречались люди, вооруженные, возбужденные, неудержимые в выражении своих чувств. На улицах, тротуарах, площадях — сердечные встречи, объятия, слезы, рыдания. Близкие и незнакомые, молодые и пожилые — все представляли собой одну непрестанно движущуюся волну. Люди ликовали, скорбели, выражали сочувствие друг другу. Начались первые дни жизни новой власти, первые ее шаги — шаги чего-то нового и великого. Сходили со сцены старые тузы, торговцы и генералы. Теперь Боцман, Морозов, Голубь и Дыбов стали у власти. Бороться против старого оказалось значительно легче, чем создавать новое.
Мы снова перестали спать. Да разве можно было спать в такие времена! Дядя Смилян, знаменосец бригады имени Христо Ботева, после того как мы ступили на центральную площадь города, торжественно заявил:
— С фашизмом покончено!
Но нет, с фашизмом еще не было покончено. Борьбу следовало продолжать.
Казармы кипели и стали похожи на потревоженный ульи: солдаты арестовывали полковников, срывали с них мундиры и погоны. Боян Былгаранов, как глашатай свободы, переходил из казармы в казарму, с митинга на митинг, снимал с должностей старых офицеров и назначал новых.
Пришло сообщение, что моторизованный полк из Хасково направляется в Пловдив. Офицеры царской армии возглавили и повели этот полк против новой власти. Штаб партизан поднял по тревоге свои боевые отряды и воинские части, и за несколько часов им удалось разгромить этот полк. Солдаты вернулись обратно в Хасково, но уже во главе с новыми командирами. А Харитон повел в Пловдив целую группу арестованных офицеров.
— Ватагин, говорю тебе, это разбойники! Вон того, плешивого, видишь? У него при обыске нашли уйму всякого добра. Грабил народ! Ворюга!
Арестантские помещения были забиты задержанными офицерами. В такой момент очень трудно судить, кто, какое и за что заслуживает наказание.
Вот почему мы создали военно-следственную комиссию. В состав комиссии, которой руководил Димитр Георгиев — старый пловдивский коммунист и известный адвокат, — вошел и я. В распоряжение комиссии предоставили моторизованную группу партизан под командованием Голубя.
Мы обошли все казармы в городе и повсюду быстро навели порядок. Заседали на местах, уточняли, кого и за что надо судить, а невиновных тут же освобождали.
Однажды нам сообщили, что на аэродроме в Граф-Игнатиево, всего лишь в нескольких километрах севернее Пловдива, тайно готовится заговор против власти Отечественного фронта. Командование этого авиационного полка активно преследовало партизан, а сам аэродром превратился в полицейский участок. Еще в 1943 году летчики арестовали многих наших товарищей и некоторых из них расстреляли без суда и следствия. Среди расстрелянных оказался мой друг и земляк Радко Попов. И вот когда мне предстояло принять участие в расследовании положения в Граф-Игнатиево, у меня перед глазами неотступно стоял Радко, мой дорогой, незабываемый Радко.
Я взял с собой моторизованную группу под командованием Голубя, и мы отправились в Граф-Игнатиево.
Выдался теплый сентябрьский день. Пловдив все еще бурлил. Мы проехали весь квартал Каршиак и через полчаса прибыли на аэродром.
На взлетных площадках у нескольких самолетов прогревались моторы, а офицеры и солдаты бесцельно слонялись по всему аэродрому.
— Вот уже сколько времени мы вас ждем, товарищи, — заявили они. — Ведь здесь пока еще не ступала нога ни одного из представителей новой власти. Все приспособились к обстановке и стали выдавать себя за коммунистов.
Товарищи из соседних сел, очевидно, не решались показываться на аэродроме, да и люди из полка тоже боялись появляться в селах.
Я приказал, чтобы все собрались в клубе. Трубач сыграл сбор. В скором времени весь зал был набит до отказа. Во дворе в полной боевой готовности остались лишь люди Голубя.
Собрание продолжалось более часа.
— Товарищи солдаты, господа офицеры, — начал я. — Над порабощенной Болгарией взошло солнце свободы. Прежней преступной власти Кобургов, убийц и шарлатанов, уже не существует.
— Ура-а! — закричали солдаты. — Да здравствует правительство Отечественного фронта! Смерть врагам народа!
— Да, справедливое возмездие, смерть ждет врагов! — подтвердил я спокойно. — Их будет судить народный суд, но вместе с ними он будет судить и тех офицеров, которые стреляли в патриотов. Здесь, на этом аэродроме, погиб мой верный друг и преданный сын Болгарии Радко Попов. Убийцы его находятся здесь, среди вас.
И тут началось что-то невообразимое.
Мы арестовали нескольких человек и назначили новое командование. Солдаты проводили нас торжественно, с почестями.
Было заменено командование и во всех частях Пловдивского гарнизона. Только в штабе армии нам никак не удавалось навести порядок. Командование армии отправлялось на фронт. В городе оставался лишь штаб второй дивизии во главе с полковником Стоевым. Вот они и занялись мобилизацией фашистских элементов, одевали их в военную форму и никуда не выпускали, пытаясь всех постепенно переправить на фронт, чтобы дать им возможность избежать возмездия народа.
Ни один партизан еще не переступил порог штаба. Первым в этом осином гнезде появились Димитр Георгиев, Голубь и я.
В помещении оказалось много офицеров. Они с весьма озабоченным видом входили и выходили, и все куда-то торопились. Одни из них уже надели фронтовую форму, а другие еще оставались в своей офицерской форме мирного времени.
— Митя, пошли прямо в кабинет полковника Стоева. Начнем оттуда, а потом посмотрим.
Димитр Георгиев, весьма интересный и на редкость культурный человек, пользовался в городе большой известностью и как оратор, и как постоянный защитник наших товарищей во время фашистских судебных процессов. Ему и самому доводилось сидеть во многих тюрьмах и концентрационных лагерях.
Мы вошли через главный вход. Часовой улыбнулся нам, откозырял, но не сказал ни слова. Мы проследовали по длинному коридору. Несколько офицеров рассматривали нас с явным недоумением.
— А это что еще за птицы? — спросил один из них.
— Партизаны! — отрезал я. — А вы, господа, кто такие? Ну-ка подойдите ближе!
Те засуетились.
— Подойдите ближе! Приказываю вам! — И я наставил на них пистолет.
Офицеры растерялись. Они явно не знали, что же им делать.
— Но, господа, мы же офицеры!
— Вижу! — Димитр тоже вынул пистолет. — Где здесь кабинет командира дивизии полковника Стоева?
Один из офицеров прищелкнул шпорами:
— Прошу за мной, господа!
Он торопливо пошел впереди и раскрыл перед нами дверь.
Мы очутились в комнате адъютанта. Молодой вылощенный офицер звякнул шпорами и предложил нам сесть.
— Скажите, здесь полковник Стоев? — строго спросил Димитр.
— Так точно, господа! А кто вы такие? Как доложить о вас?
— Оставайся на своем месте! — предупредили мы его и ворвались в кабинет командира дивизии. Там за столом сидел высокий мужчина лет пятидесяти, с зализанными волосами, увешанный орденами и аксельбантами. Он смотрел на нас с недоумением. Не дав ему сказать ни слова, мы направили на него пистолеты. Побледнев, полковник поднял руки вверх и пролепетал:
— Да как же так, господа, да я…
— С вашей властью покончено, полковник Стоев! Отныне вы уже не командир дивизии. Вы арестованы!
— Но, господа, я за новую власть, я ее не отвергаю!
— Нельзя же служить двум богам, господин полковник, — прервал его Димитр. — Комиссия все обсудит и решит. Перед вами члены военно-следственной комиссии. Но я еще хочу напомнить о том, что нам известны действия вашей дивизии в Среднегорье. Вам придется отвечать за сотни партизанских смертей, за тысячи черных траурных платков, господин полковник. Стойте смирно перед народными представителями!
Полковник Стоев вытянулся в струнку. Казалось, даже аксельбанты на нем потеряли весь свой блеск. Он попытался взять свою фуражку, но я его остановил:
— Обойдетесь и без нее, господин полковник. Перед народным судом все равно придется снять шапку. Прошу сдать оружие! Возьмите у него! — дал я знак Голубю.
Ребята Голубя взяли под стражу командира второй дивизии, именно той дивизии, которая проводила блокаду Среднегорья осенью 1943 года.
На следующий день часть штаба второй оперативной зоны перешла в помещение штаба армии.
Революция продолжалась.
Эх, время, время! Неповторимое время нашей огневой молодости!
НЕМНОГО О ПРОШЛОМ
Хотя я и знал, что мне нелегко будет перенести встречу с матерью погибшего партизана Бойчо, смерть которого в расцвете молодости была трагична, но все же какая-то неведомая сила все время тянула меня зайти в его дом. И однажды я очутился у калитка его дома.
— Тетя Аврамица!
Матери погибших партизан всегда начеку, всегда чего-то ждут.
Тетя Аврамица, маленькая женщина, сломленная горем, повязанная черным платком, делавшая что-то во дворе, сразу же обернулась ко мне. Она впилась глазами в мое лицо и словно оцепенела. Немного погодя она подошла к виноградной лозе, оторвала спелую гроздь и протянула ее мне своей жилистой материнской рукой, которой когда-то гладила волосы Бойчо. Поверх платья она повязала передник, как в тот страшный день, когда она несла в нем отрезанную голову сына.
Она продолжала неотрывно, сквозь слезы, смотреть на меня глазами, которые, казалось, никогда не высыхали.
— Ну иди сюда, садись рядом, — сказала она и обняла меня. — Дай я посмотрю на тебя вблизи. Когда приходит ко мне в гости друг Бойчо, мне все кажется, что вот-вот появится и он, мой ненаглядный, что ушел от меня таким молодым.
И ее слезы обожгли меня.
— Эх, Генко, — взяла себя в руки тетя Аврамица, — в детстве вы с Бойчо были очень похожи друг на друга. Ведь мы же родственники. Однажды во время жатвы я узнала, что вы подрались из-за какого-то пустяка. Сколько же я его ругала тогда! «Вам нельзя ссориться между собой и драться. Вы вместе росли, к тому же двоюродные братья. Да Генко и старше тебя».
— Мальчишкой он не дрался, тетя Аврамица, — перебил я ее и рассказал, при каких обстоятельствах мы однажды поссорились с Бойчо, с которым впоследствии стали неразлучными друзьями.
— Это все были детские шалости, — промолвила тетя Аврамица. — Бойчо славился упорством: если скажет что-нибудь, то обязательно сделает.
— И в партизанах остался таким же. Если считал себя правым, то мог хоть в огонь броситься.
— И жизни не пожалел, — вздохнула тетя Аврамица. — Хоть бы во сне мне не так часто являлся. Как увижу его, сердце начинает так сильно биться, что не выдерживаю и тут же просыпаюсь. Если б ты знал, как мне хочется приласкать его, увидеть живым. А вижу только его отрезанную кудрявую голову. Столько лет прошло с тех пор, а все никак не могу представить свой дом без него.
Хлопнула калитка, и во двор вошел дядя Аврам, отец Бойчо.
— Ах, да у нас гости! Добро пожаловать, сынок!..
Дядя Нончо, так его называли мои земляки, видно, немного выпил, но шагал легко и имел бодрый вид. Несмотря на годы и тяжелые испытания, свалившиеся на его голову, он остался жизнерадостным человеком. Небольшого роста, худой, но всегда с великолепной выправкой, он то и дело поводил то одним плечом, то другим, чтобы не соскользнула наброшенная на плечи шуба, и как-то грустно улыбался. Посмотрев на тетю Аврамицу, он вдруг напустился на нее:
— Ты опять плакала, старуха? Хватит проливать слезы! Да ты посмотри, какой у нас гость! Как будто сам Бойчо пришел к нам. Ну-ка налей нам вина, надо попотчевать гостя, а слезы прибереги для моих похорон!
Тетя Аврамица встала, вытерла уголком черного платка глаза. Только она принесла кувшин вина, как в комнату вошли Иван Гинов, Генко и Кольо.
— Старуха, а вот и еще наши сыновья. Да ты только посмотри, сколько любящих сыновей у нас!
Дядя Аврам пользовался уважением и заслуживал почестей не только потому, что вырастил двух смелых партизан, явившихся гордостью партизанского движения в Среднегорье, но и потому, что вступил в Коммунистическую партию еще в 1919 году и стал одним из основателей ее ячейки в Брезово.
Кувшин переходил из рук в руки. Дядя Аврам время от времени вдруг замолкал. Держа в руках кувшин, полный ароматного брезовского муската, он неожиданно пускался в трогательные воспоминания. А тетя Аврамица присела на низенький стул в углу. Мне казалось, что она вовсе нас и не слушает. Только иногда она вставала и приносила еще чего-нибудь поесть то из буфета, то из погреба. А старый коммунист рассказывал:
— Это произошло 9 февраля 1944 года. Выдался погожий, теплый день. В феврале редко случаются такие теплые дни. Все село вышло в поле: начали сеять вику. Я измучился пахать на двух молодых волах, которые еще не были обучены. Взял с собой и тетю Аврамицу: она вела их на поводу. Ведь молодые волы, как дети, — их надо вести за собой и напутствовать. Старый вол — совсем другое дело. Он знает борозду не хуже меня. — И дядя Аврам поднес кувшин к губам.
Мы все внимательно слушали. И не потому, что не знали о случившемся в тот день. В рассказе отца звучала и скорбь, и гордость, и какое-то поразительное мужество, покорявшее слушателей. Он уставился в одну точку и только иногда посматривал на содержимое кувшина, как будто в нем черпал мудрость. А в углу то и дело мелькал черный платок матери Бойчо и слышались ее вздохи.
— Вдруг со стороны Айтепе послышалась стрельба, — продолжил дядя Аврам. — Во мне что-то оборвалось. Я остановился посреди поля и прислушался. Жена закричала: «Там наши, Аврам, беги!»
А куда бежать-то? Айтепе далеко. Да если и пойду туда, что же я смогу сделать голыми руками? Тетя Аврамица бросила все и хотела бежать в Айтепе. Как будто предчувствовала беду.
Раздался глубокий стон. В углу, закрыв лицо руками, рыдала мать Бойчо. На черном фоне ее одежды выделялись только две жилистые руки. Дядя Аврам, видимо привыкший уже к рыданиям тети Аврамицы, рассказывал:
— Мы еще долго без толку копошились в поле. Жена, как подстреленная птица, то и дело валилась на землю и рыдала, а я не знал, что делать. Даже волы и те, как бы почувствовав наше горе, стояли не шелохнувшись. Люди в поле засуетились, бросили пахать. Немного погодя мимо прошла какая-то женщина и сквозь слезы сказала нам, что троих убили, но кого — ей неизвестно. Знать-то, вероятно, знала, да как об этом рассказать.
Я распряг волов из сохи и запряг их в телегу.
Дядя Аврам отпил еще несколько глотков и снова заговорил:
— Мы въехали во двор и стали ждать. Ждать вестей. Жена присела на крыльцо, а я занялся чем-то и не спускал взора с калитки. А перед глазами у меня все Бойчо и Стенька.
Вдруг ворота с шумом распахнулись, и во двор ворвались полицейские. «Ну все — конец!.. — подумал я. — Моих сыновей убили». Жена запричитала. А эти изверги нагло приблизились к ней и бросили в ноги три отрезанные головы. А полицейский начальник, толстяк, встал над нею и спросил: «Ты узнаешь, чьи это головы?»
Тетя Аврамица, сидевшая в углу, встала, пошатнулась и ударилась головой о стену.
— Страшная, чудовищная картина, — простонал дядя Нончо. — Жена слова не могла вымолвить. Только гладила окровавленные волосы и все причитала: «Аврам, глянь, это же Бойчо! Неужели это Бойчо, Аврам? Для этого ли я тебя растила, дитятко мое?»
Я схватил топор и бросился на полицейских. Решил изрубить их на куски. Что делал — не помню. Помню только, что меня схватили и привязали к дереву.
Полицейские потом утверждали, что они не знали, чьи это головы, поэтому будто бы и принесли их к нам в дом. Негодяи, ведь Бойчо был им хорошо известен. Как же они могли его не узнать, если за его голову предлагали столько денег!
Отрезанные головы выставили на первом этаже школы, в одном из классов в левом крыле, и всех заставляли ходить туда смотреть на них. Три дня полицейские пили и гуляли в трактирах. Живодеры пропивали 150000 левов, полученных в награду за убийство трех партизан.
Все эти события потрясли село. Люди молчали, но проклинали матерей, родивших таких извергов.
На следующий день Иван Гинов и Тотю отправились на место убийства своих друзей и ножами вырезали на одном из деревьев: «Смерть фашизму!»
— Правду я говорю, Иван? — Дядя Аврам снова приложился к кувшину. Глаза его расширились от ужаса. — После 9 сентября я отыскал одного из тех головорезов. Он мне и рассказал все до мельчайших подробностей. Оказывается, полицейские наткнулись в лесу на спавших на склоне Айтепе партизан, окружили их.
Они набросились на наших ребят, как звери, как дикари. Ох и много горя хлебнул наш народ от этих извергов! Вот хожу я теперь и все думаю: ведь и ныне встречаются люди, забывшие о том, о чем не должны забывать до конца дней своих. Никому не желаю моей участи.
Видите эту женщину? — И он указал на свою жену. — Как свеча догорает. Встань же, старуха!.. А кое-кто только о власти мечтает и как бы получше устроиться. А новое время требует от людей, чтобы они обладали сильным духом и волей Благоева и Димитрова, чувством чести, характерным для тысяч павших в борьбе за свободу. Это надо понимать…
Но… я отвлекся, а мне хочется докончить мой рассказ. Наши упорно сражались против полиции и солдат. Несколько раз Бойчо удавалось бросить в полицейских их же не успевшие взорваться гранаты. Но фашисты все стягивали кольцо окружения и убили партизан и после этого заставляли солдат отрезать им головы. Но солдаты отказались выполнить этот приказ. Тогда пойманный мною жандарм — запамятовал его имя, да и не хочу его знать, — сам отрезал три головы и принес их в село.
Когда жандарм рассказал мне об этом, признаюсь, я не выдержал и пристрелил его на том же месте, как бешеную собаку.
Люди иногда теряют человеческий облик! — подытожил дядя Аврам. — Они бывают и страшными, и великими. Когда великое победит в людях страшное, тогда на земле наступит рай. Хоть бы мне, старику, дожить до этого чуда!..
Больше уже никто не притрагивался к кувшину. В углу содрогалась от рыданий фигура женщины в черном, а дядя Аврам продолжал проклинать все, что есть в человеке от дьявола.
ЭПИЛОГ
Какая сила скрывается в понятии «свобода»! Ради нее люди идут на любые лишения и испытания. И нам, пока мы добились и завоевали себе свободу, пришлось преодолеть тысячи препятствий, принести тысячи жертв. Нам — солдатам свободы!
Братан! Братан! Вершина Свободы! Орлиное гнездо партизанских подвигов! Всего три года назад мы заложили здесь фундамент музея-памятника, и вот он уже построен. Три года назад солнечным утром на этом месте перед строем партизан, на глазах у сотен помощников партизан и сочувствовавших им, был заложен первый камень этого музея в память о павших в борьбе против фашизма и капитализма из Первой среднегорской бригады имени Христо Ботева.
Сюда пришли те, кто не жалел жизни во имя свободы. Пришли и матери погибших, но их было уже заметно меньше, чем в День победы — 9 сентября 1944 года. Многие из них ушли из жизни вслед за сыновьями, и мне стало грустно оттого, что им так и не довелось увидеть этот памятник.
Я посмотрел на скалу и увидел моего друга из Советской Армии генерал-лейтенанта Николая Викторовича Моргунова. Он приехал на открытие музея-памятника в качестве представителя непобедимой Советской Армии. Мы, бывшие бойцы партизанского отряда имени Христо Ботева, восприняли это как высокую честь. Мы обнялись с ним по-братски, и его слеза обожгла мне щеку.
Началось торжество, прозвучал рапорт. Боян Былгаранов не мог усидеть на месте: орлам, пережившим столько бурь, трудно сохранять спокойствие. Впереди меня стоял Боцман. Он старался повыше поднять знамя бригады. Дыбов поцеловал это знамя и расплакался. Матери также вытирали слезы своими черными платками.
Я поднялся на трибуну. Посмотрел на заранее написанный текст, но мысли оказались где-то далеко, и сердце продиктовало мне совсем другие слова:
— Как председатель Инициативного комитета, счастлив доложить: вот наш музей-памятник готов. Этот дом — наш дар подрастающему поколению в честь 25-летия революции 9 сентября. Завещаем его нынешним и будущим болгарам с одним наказом: пусть помнят и никогда не забывают о людях, павших в неравной борьбе.
Мне приятно сообщить, что наш памятник — это символ величия среднегорцев. Он построен нашей героической партией, давшей крылья своим орлам и научившей их не жалеть жизни во имя самой заветной цели — завоевания свободы!
Женщины в черных платках плакали. Расплакался и крестьянин, стоявший недалеко от трибуны. Он только что уговаривал матерей не плакать, а сам не выдержал.
Я продолжал говорить:
— В этот торжественный час, когда мы подводим итоги и размышляем о прошлом, я невольно возвращаюсь назад к бурным и тревожным дням нашей истории.
— Мы тебя слушаем, говори, — крикнул тот же крестьянин. — Мы ничего не забыли!
— Время идет, — продолжал я, — вот уже прошло с тех пор почти четверть века, и многое стерлось в памяти, но любовь к павшим в борьбе никогда не померкнет.
Прислушайтесь к дуновению ветра в лесу, к шепоту листьев, и вы услышите старые легенды о смелых битвах, о лучших сыновьях и дочерях этого чудесного края. Нам выпала честь передать грядущему поколению их дух и готовность жертвовать собой, их веру в будущее. И пусть наша прекрасная молодежь, как эстафету, передает дальше этот завет.
Тысячи рук протянулись к музею-памятнику, к этим причудливо-красивым вереницам холмов, скал и долин нашего неповторимого Среднегорья. Здесь природа достигла изумительной гармонии: аромат благоухающих роз сливался со сладостью янтарных гроздьев винограда, несгибаемый дух среднегорцев — с романтикой наших битв на вершине Братан. Взгляды людей невольно обратились к Фракийской равнине, где водохранилища как будто вобрали в себя слезы партизанских матерей, всю жизнь оплакивающих своих погибших сыновей и дочерей.
Я невольно посмотрел в том же направлении и подумал: «Если бы сейчас могли встать из своих могил наши товарищи и увидеть Фракию с вершин Братан и Каваклийка, Юнчалы и Кузукулука, Дерменка и Стефанова камня, Айтепе и Бакаджика, то они вздохнули бы с облегчением и благословили прекрасные плоды своих подвигов. Благословили бы и это ясное небо, под которым они заложили основы одного из самых значительных партизанских соединений в Болгарии — Первой среднегорской бригады имени Христо Ботева. Да и как могло быть иначе! Разве потомки Добри-воеводы и Ботева, Левского и Бенковского могли бы примириться с рабством? Они предпочитали смерть, ведущую к бессмертию. О, этот прекрасный народ, еще на заре XX века впитавший в себя революционные идеи Димитра Благоева! Еще тогда на зеленых полях Фракии расцвели первые алые маки революционного движения, зажглись первые маяки будущего. Уже в 1918 году по этому краю ходили первые пропагандисты марксизма. Позже, в канун 1941 года, когда партия взяла курс на вооруженную борьбу, почти во всех селах этого района были созданы сильные партийные и ремсистские ячейки. Эта часть Среднегорья стала настоящей колыбелью революции, а село Чехларе — ее первым очагом. Другого такого нет в Болгарии. Оно и сейчас символизирует наше славное прошлое. Чехларе должно стать селом-музеем, селом-героем».
— Путь нашей вооруженной борьбы, — продолжил я после короткой паузы, — это тяжелый боевой путь. В дни когда партия призвала народ свергнуть ненавистную фашистскую власть, Среднегорье забурлило и встало в первые ряды борцов. Найден Стоянов из села Нова-Махала и Сребрьо Бабаков (Морозов) из Чехларе первыми взялись за оружие и ушли в лес. С этого момента и начало разгораться пламя мужественной борьбы. Это и есть начало новой героической летописи, написанной кровью первых, — Сребрьо Бабакова, Найдена Стоянова, Колю Кючука, Сутова, Штокмана, Бойчо, Радко, Миладина, Чапаева, Благоева, Винчестера, Бурлака, Йонко, Томы, Кары, Добри, Левского, Игликова, Бистры, Гранита, Дончо, Седова, Доктора, Дыбенко, Графа, Караджи… В каждом селе появились алые маки, выросшие над свежей могилой сыновей народа, проливших за него свою кровь.
И снова установилось молчание, а потом отчетливо и долго звучали имена павших в борьбе. Со всех сторон к подножию памятника бросали осенние цветы. И нам казалось, что свинцово-серое небо, которое внезапно затянулось тяжелыми тучами, вот-вот рухнет от невыносимого горя.
— 3 ноября 1941 года при прорыве полицейской блокады в селе Чехларе раздались первые выстрелы. Так был создан Чехларский партизанский отряд. 5 ноября перешли на нелегальное положение несколько молодых ребят из села Левски, а позже из Розовца, Брезово, Зелениково, Калофера, Тыжи, Войнягово, Долно-Ново село, Омурово, Стрямы. Вместе с сыновьями уходили и их отцы.
Враг пришел в бешенство. Полиция озверела: приступила к повальным арестам и устройству засад. Но все оказалось напрасным. Никому не дано погасить то, что угаснуть не может.
Тяжелая зима 1941/42 года стала первой зимой, проведенной нашими партизанами в горах. Но народ взял их под свою защиту, всячески скрывая от врагов. Помощники партизан и сочувствующие им не только бесстрашно оберегали и защищали их от полиции, но и снабжали продуктами и одеждой. Так, первые наши партизаны, вставшие на путь Ботева и Левского, обошли вдоль и поперек всю Фракию, несли людям партийную правду, создавали новые и укрепляли существовавшие партийные и ремсистские организации. Эта зима была решающей, потому что в условиях жестокого фашистского террора выдержала суровое испытание вера первых борцов в конечную победу, и ее никто не смог у них отнять. А все потому, что семя, брошенное партией в благодатную почву этого края, дало глубокие корни, и народ принял партизан, как своих родных детей. И тогда-то родилась наша основная сила, впоследствии названная Первой среднегорской бригадой имени Христо Ботева.
Огромное значение имела и первая партизанская весна 1942 года. Тогда Среднегорье, одевшееся в новый зеленый наряд, призвало сотни новых партизан. Они приступили к устройству землянок, лагерей, сборных пунктов, прокладывали партизанские тропы.
Мы, среднегорцы, можем гордиться и тем, что не оставили без заслуженного наказания ни одного предателя, ни одного палача. Мы гордимся нашими помощниками в селах, постоянно оказывавшими нам содействие. Так вспомним же о них и сейчас и выразим им нашу благодарность за хлеб, гостеприимство их очагов и теплоту слов.
В этот момент толпа пришла в движение. Все хотели увидеть наиболее заслуженных помощников партизан.
— В мае 1942 года полиция организовала первую крупную блокаду Среднегорья. В ней приняло участие более двух тысяч полицейских и насильно мобилизованных крестьян. Топот их сапог можно было слышать на многих тропинках Среднегорья. Зловещий треск пулеметов и автоматов заставил сердца матерей сжаться от боли и не отрывать взгляда от вершины Братан. Но блокада ничего не дала полиции. Партизаны вырвались из кольца окружения.
Этой же весной партия послала в Среднегорье Ивана Самунева (Важарова) и Дечо Бутева (Штокмана). Позже к нам прислали товарищей из ЦК партии, из окружного комитета партии и из Советского Союза, среди них Георгия Жечева, Чочоолу, Васко и многих других. К тому времени окрепли наши связи с селами, значительно улучшилась партийная работа. Коммунисты из Чехларе, Розовца, Чобы, Брезово, Зелениково, Свежена, Енишерли, Омурово, Стрямы, Рыжево-Конаре, Борца, Тюркмена и почти всех сел нашего края еще плотнее сомкнули свои ряды и укрепили связи с партизанами.
Утро 14 июля 1942 года выдалось свежее и прохладное. По всему Гайдук-Конаку разносились соловьиные трели. И они единственные нарушали тишину утреннего покоя. Да едва слышные шаги партизан, которые отправились выполнять решение окружного комитета партии, доставленное Георгием Жечевым, о создании западнее реки Стряма партизанского отряда. Для него нельзя было найти более достойного имени, чем имя поэта-революционера Христо Ботева. На основании полученной боевой инструкции товарищи разработали и утвердили статут отряда и план активных боевых действий. Именно здесь, в отрогах гор, в местности Гайдук-Конак, прозвучали слова первой партизанской клятвы: «Я, народный партизан из отряда имени Христо Ботева, обещаю и клянусь перед своим народом, что с оружием в руках буду бороться за освобождение своей родины от германского рабства и за свержение фашистского правительства».
Затем партизаны пели боевой марш отряда:
По долинам и по взгорьям, По вершинам Среднегорья Мы идем — молодые партизаны, Сыновья народа…Партизаны стали все чаще проводить боевые операции. Они ликвидировали полицейскую засаду около села Славянин, овладели селом Бабек и удерживали его какое-то время, провели ряд акций в селах Вырбен, Долно-Ново, Александрове, Омурово, Розовец, Свежен, Брезово и многих других. И вскоре же были вознаграждены: радиостанция имени Христо Ботева в одной из своих передач призывала народ: «Следуйте примеру чехларской и брезовской молодежи!»
Все лето 1942 года отряд осуществлял смелые и решительные действия, приводившие в панику монархо-фашистскую власть. За это время отряд окреп. Но неожиданно он попал в другую блокаду — блокаду зимы. Дни и ночи в холодных и сырых землянках проходили в напряженной подготовке к крупным весенним операциям.
В конце марта 1943 года своры полицейских напали на следы партизан из лагеря Юнчала. Чтобы уничтожить народных партизан, полиция запросила помощи у расположенных поблизости военных гарнизонов. Девять часов подряд в оврагах Юнчалы не затихал бой. Маленькую группу храбрецов атаковали сотни полицейских. Но никто из партизан не дрогнул. Каждый гордо принимал смерть. Там погибли и стали бессмертными Кольо Кючуков, Тодор Боев, Желю Златев…
Полиции не удалось уничтожить отряд. Блокада провалилась потому, что наши помощники в селах окружили народных бойцов непробиваемой броней, а те из них, кто оказался вне кольца блокады, продолжал проводить смелые операции, отвлекая на себя внимание противника.
В своем докладе на V съезде партии вождь и учитель нашего народа бессмертный Георгий Димитров сказал: «Памятными останутся героические бои партизанских отрядов Среднегорья, против которых зимой 1942/43 года без всякого успеха было брошено 20 тысяч войск и полиции».
По решению штаба второй повстанческой оперативной зоны и по указанию Центрального Комитета партии в конце 1943 года партизанское движение в Среднегорье начало бурно разрастаться. Летом того же года в отряде имени Христо Ботева уже насчитывалось 350 партизан. Его три подразделения проводили смелые, решительные и дерзкие операции. Молодежь всегда находилась в первых рядах. Из Пловдива в родные горы, особенно в Среднегорье, ушли сотни ремсистов. Города и села переживали невиданный подъем, в них все бурлило. Надежда на скорое свержение ненавистной власти сплачивала людей. Однако наступила третья партизанская зима, и под ее снегами оказалось много партизанских могил. Среднегорье снова блокировали, но уже не на несколько дней, а на месяцы.
Врагу удалось обнаружить партизанский лагерь в районе Дерменка. Тридцати четырем партизанам, вооруженным всего лишь 14 винтовками и 7 пистолетами, пришлось принять бой с окружившими их войсками и полицией. И солнце над Среднегорьем будто померкло вместе с первыми зловещими пулеметными очередями. И снова от ужаса сжались сердца партизанских матерей. Целых тринадцать часов длился неравный бой. Погибло одиннадцать прекрасных сыновей и дочерей нашего народа. О героях Дерменка напоминает и вечно будет напоминать установленный у самой дороги гранитный памятник.
В неравном бою с врагом в начале марта 1944 года в районе Зюмбюлюк погибло еще семь смельчаков. Но несмотря на тяжелые потери, партизаны встретили весну и лето 1944 года новым приливом сил. На места убитых вставали десятки новых борцов, и 15 июля отряд переформировали в партизанскую бригаду.
И снова операции, и снова бои. Народ все радостнее встречал своих освободителей. Едва ли можно назвать село в районах действия бригады, которое бы не поддерживало партизан. Особенно отличались Чехларе, Радомир, Бегово, Розовец, Зелениково, Брезово, Белозем, Златосел, Чоба, Тюркмен, Свежен, Стряма, Борец, Вырбен, Пыдарско, Рыжево-Конаре, Омурово, Верен, Медово, Долно-Ново село, Горно-Ново село, Оризово, Гранит, Болярино, Винарово… В этих селах нас укрывали, там подпольщики всегда находили надежное убежище!
Летом последнего партизанского года враг бросил вторую дивизию на прочесывание гор, но и эта его операция провалилась. На удар мы ответили ударом. Под руководством Тимошкина партизаны разгромили недалеко от села Рубки немецкую группу особого назначения. Стало очевидным, что уже ничто не в состоянии остановить победоносное шествие бригады. В эти дни до нас все более отчетливо доносилось эхо атакующей артиллерии непобедимой Советской Армии, и это еще больше окрыляло нас. В районе между реками Тунджа и Марица не осталось ни одного села, которым бы не овладели партизаны. Фактически мы стали хозяевами положения.
И снова прозвучало как клятва:
— Бывшие партизаны Первой среднегорской бригады имени Христо Ботева постоянно находились и будут находиться в первых рядах партии. И если партия, ее Центральный Комитет и народ призовут нас на новые боевые дела, мы готовы!
— Всегда готовы! — ответил хором строй бойцов.
— Прислушайтесь сейчас к шуму леса, и вы услышите слова, сказанные на митинге 8 сентября 1944 года в Пловдиве: «Партизанская бригада имени Христо Ботева жива и наступает по направлению к Пловдиву и не сегодня-завтра будет в городе». И Первая среднегорская партизанская бригада торжественным маршем вошла 9 сентября в рабочий Пловдив. Среди нас не было только тех, кто пал в боях. Их места в строю бригады до сих пор сохраняются за ними, а слава о их боевых подвигах будет жить вечно.
Этот монумент мы построили в память о наших дорогих товарищах. Приходя к нему, мы будем встречаться с ними. Затаив дыхание, мы не раз мысленно обойдем с ними партизанские тропы, вместе с ними будем радоваться прекрасному настоящему, во имя которого они отдали свою жизнь. Всегда, когда мы, их товарищи, придем в эти места, то будем испытывать одно и то же чувство, что мы приближаемся к алтарю революции, снова принимаем присягу и, становясь чище, уносим с собой частицу этой святыни.
После этих слов у меня так забилось сердце, что я едва устоял на ногах. Я призвал всех встать на колени и первым опустился на землю. Боян Былгаранов, наш славный командир, перерезал ленту и объявил музей открытым. Мне показалось, что я пришел в гости к нашим товарищам. И на душе стало тепло и грустно…
Примечания
1
Васил Левский — выдающийся деятель болгарского революционно-освободительного движения. Организатор борьбы против турецкого ига. — Прим. ред.
(обратно)2
24 мая — День болгарской письменности и культуры, отмечается в честь солунских монахов Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку — кириллицу. — Прим. ред.
(обратно)3
Ремсисты — члены РМС, Рабочего молодежного союза. — Прим. ред.
(обратно)4
Павел — один из подпольных псевдонимов автора. — Прим. ред.
(обратно)5
Легионеры — члены одной из фашистских организаций молодежи. — Прим. ред.
(обратно)6
Бранник — член одной из фашистских организаций молодежи. — Прим. ред.
(обратно)7
Капан — западня, ловушка. В данном случае Капан — бедняцкий квартал в старом Пловдиве. — Прим. ред.
(обратно)8
Один из подпольных псевдонимов автора. — Прим. ред.
(обратно)9
«Кючук Париж» — «Маленький Париж», ироничное название квартала бедноты в Пловдиве. — Прим. ред.
(обратно)10
Комиты — борцы за освобождение Болгарии в период турецкого рабства. — Прим. ред.
(обратно)11
Ватагин — один из подпольных псевдоиимов автора. — Прим. ред.
(обратно)12
Баница — слоеный пирог, обычно с брынзой. — Прим. ред.
(обратно)13
Речь идет о Лиляне Димитровой — народной героине, члене ЦК РМС, героически погибшей в перестрелке с врагом. Автор описал ее в этой книге в рассказе «Лиляна». — Прим. ред.
(обратно)14
Французский поэт первой половины XIX века, несколько лет проживший в Пловдиве. — Прим. ред.
(обратно)15
Тесняк — представитель революционного крыла болгарской социал-демократии. — Прим. ред.
(обратно)16
Таратор — суп из кислого молока, свежих огурцов, чеснока и орехов. — Прим. ред.
(обратно)17
Димят — сорт белого винограда. — Прим. ред.
(обратно)18
Боримечка — один из героев романа классика болгарской литературы Ивана Вазова «Под игом». — Прим. ред.
(обратно)19
2 июня вся Болгария чтит память своих героев, погибших в борьбе за свободу. — Прим. ред.
(обратно)20
НОПА — Народно-освободительная повстанческая армия. — Прим. ред.
(обратно)21
Дедом любя называли Димитра Благоева — создателя и руководителя Коммунистической партии Болгарии. — Прим. ред.
(обратно)22
Георгий Кирков — один из основателей Коммунистической партии Болгарии, видный ее руководитель. — Прим. ред.
(обратно)23
Тодор Павлов — известный болгарский философ, политический и общественный деятель, член Политбюро ЦК БКП. — Прим. ред.
(обратно)24
9 июня 1923 года в Болгарии к власти пришли фашисты — Прим. ред.
(обратно)25
Земледельцы — члены Болгарского земледельческого союза, правящей партии в Болгарии до фашистского переворота 1923 года. — Прим. ред.
(обратно)26
Речь идет об освобождении русскими войсками Болгарии от турецкого ига в 1878 году. — Прим. ред.
(обратно)

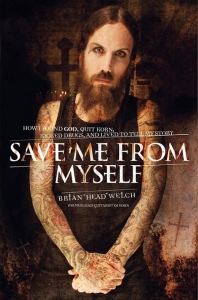



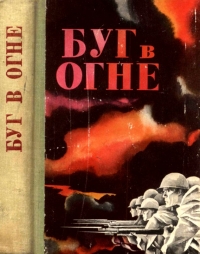

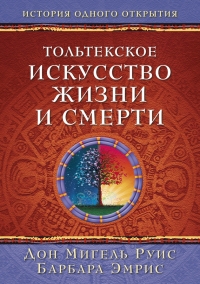

Комментарии к книге «Скажи им, мама, пусть помнят...», Гено Генов-Ватагин
Всего 0 комментариев