Анатолий Левандовский Сен-Симон
Может быть, недалеко время, когда воздадут должное этому вельможе Франции, постоянно защищавшему интересы обездоленных и угнетенных, этому гранду Испании, сражавшемуся за американскую свободу, этому потомку Карла Великого, боровшемуся за мир и счастье людей единственным оружием — логикой мысли.
Л. Алеви
На склоне лет он часто повторял:
— Жизнь моя была лишь серией опытов, которые я производил, чтобы лучше понять окружающее и сознательно приступить к построению новой социальной системы.
Безумно гордые слова! Произнося их, верил ли себе этот большой ребенок, этот мудрец с вечно юным сердцем? Ведь не мог же не знать он, вспоминая все свое прошлое, что причинно-следственная связь была обратной, ибо жизнь, ставя непрерывно усложняющиеся задачи, производила над ним многочисленные опыты, перетряхнула все его представления, его психику, мораль и выковала в горниле своем человека, который остался в веках.
Жизнь необычная, в чем-то невероятная.
И все же, перечитывая летопись этой жизни, замечаешь, что в словах Анри Сен-Симона есть доля истины.
По-разному проходят люди свой путь. Одни, с опаской приглядываясь и приспосабливаясь к нему, плетутся на поводу у событий. Другие сами творят эти события; не желая мириться с существующим, борясь с тем, что считают несправедливым, они не подчиняются обстоятельствам, но стремятся побороть их и переделать.
Сен-Симон принадлежал ко второй группе.
Он был утопистом в теории и борцом на практике. Как бы ни била его судьба, он удерживался на ногах, а затем переходил в контратаку. И каждый раз, оставаясь тем же, в чем-то становился другим.
Жизнь его, удивительно многообразная и разносторонняя, полная противоречий, контрастов и неожиданных переходов, по существу, распадается на четыре жизни.
Жизнь феодала и аристократа, кавалера де Рувруа.
Жизнь санкюлота и разночинца, гражданина Бонома.
Жизнь философа и социолога, мэтра Сен-Симона.
И, наконец, жизнь посмертную, в ходе которой сложилось новое социальное учение — сен-симонизм.
О четырех жизнях человека, которого Ф. Энгельс называл «самым универсальным умом своего времени»,[1] и призвана рассказать эта книга.
ЧАСТЬ I КАВАЛЕР де РУВРУА (1760–1789)
ГЛАВА 1 НА ГРАНИ ДВУХ ЭПОХ
Анри Сен-Симон как человек и философ сформировался в переходное время. И, быть может, именно это во многом определило неповторимое своеобразие его натуры.
Аристократ по происхождению и фамильным традициям, он еще застал «старый порядок» во Франции. Причем не только застал, но и сам был органической его частью. Фланируя среди утонченных дам и кавалеров Версаля, командуя гвардейским отрядом или сидя в библиотеке отцовского замка, он оставался графом де Сен-Симоном, родственником герцога де Сен-Симона, племянником маркиза де Сен-Симона. И он же увидел и познал становление нового строя. Сдав в архив свои фамильные грамоты и регалии, граф превратился в санкюлота, стал сотрудничать с революционными властями, занялся земельной спекуляцией, мечтал о промышленных предприятиях, голодал на чужом чердаке и присматривался к быту рабочего люда.
Две эпохи — два мира. И все это на протяжении какой-нибудь полусотни лет. Правда, лет, иные из которых стоили десятилетий, а то и веков.
Старое не проходит бесследно. Даже когда социолог Сен-Симон поставит крест на всем прошлом, он не сможет забыть о своем происхождении: в 1808 году, делая автобиографические наброски, он вновь подчеркнет, что предком его был Карл Великий и что страсть свою к славе он, Анри, унаследовал от своего двоюродного деда, герцога и пэра…
Да, он гордился своим родом, этот, как часто его называли, «последний дворянин и первый социалист Франции». И, подобно своим дедам и прадедам, родителям, братьям и сестрам, он в особенности гордился полулегендарным основателем рода Сен-Симонов.
В средние века, как и в древности, знатные фамилии любили окружать свое происхождение пышными легендами. Юлии-Клавдии вели свой род от Венеры, Люсиньяны — от феи Мелузины, а Сен-Симоны — от Карла Великого.
В приведенных примерах есть, правда, существенное различие, Венера и фея Мелузина — существа мифические, а Карл Великий — деятель вполне земной, хотя образ его и искажен позднейшими преданиями.
Реальный Карл Великий жил на рубеже VIII–IX веков. Он прославился как завоеватель, исходивший со своими войсками всю Западную и Центральную Европу. Приняв в 800 году императорский титул, Карл много внимания уделял церковной политике и распространению схоластической науки, за что некоторые историки даже окрестили его время «Каролингским Ренессансом». После смерти завоевателя его империя быстро распалась, уступив место новым государствам — Франции, Германии и Италии.
Уже начиная с IX века вокруг имени Карла Великого стала складываться легенда. Его превратили в завоевателя земли, инициатора и участника крестовых походов, в святого и полубога, своеобразного христианского Геракла. На него молились и ему подражали все последующие коронованные авантюристы: герцоги Бургундские, стремившиеся стать властителями Запада, — в XV веке, Карл V Испанский, мечтавший о завоевании мира, — в XVI, Людовик XIV, «король-солнце», тосковавший по императорскому венцу, — в XVII, Наполеон Бонапарт, пытавшийся водрузить своих орлов над Европой, — в XIX.
В эту великую легенду, которая, смешав языческие мифы с христианскими, прошла сквозь средние века и новое время, Сен-Симоны уверуют, как в молитву. Карл Великий станет не только их предком, но и их вождем, вдохновителем и постоянным образцом для подражания. От дедов к внукам будет тянуться сказ, расцвеченный сотнями удивительных подробностей и кажущийся более достоверным, нежели лик любого из предков на фамильных портретах в родовом замке.
Но есть ли хоть какое-то зерно истины во всех этих мечтаниях Сен-Симонов?
Старые хроники и генеалогические таблицы дают некоторые материалы для того, чтобы разобраться в этом запутанном вопросе.
Где-то в начале IX, а может быть, и в конце VIII века император Карл Великий выделил своему второму сыну, Пипину, небольшой удел в северо-западной части Франкского государства. Удел этот стал называться графством Вермандуа. Потомство Пипина владело им до середины XI века, когда после смерти графа Герберта IV, восьмого в ряду наследников Пипина, сын Герберта, Эд, был низвергнут и изгнан восставшими баронами. Графство после этого осталось за дочерью Герберта, Аделью, а Эд утвердился в сеньории Сен-Симон, пограничной с Вермандуа. Жан де Сен-Симон, потомок Эда, родившийся около 1144 года, уступил в 1215 году все свои права на графство Вермандуа французскому королю Филиппу II Августу. Графство вошло в состав королевского домена, а Жан стал основателем новой феодальной фамилии — Сен-Симонов.
Версия эта в целом подтверждается различными данными. Связь Сен-Симонов с графами Вермандуа несомненна, так же как несомненно и существование сеньории Сен-Симон, которая еще в середине прошлого века была центром кантона на Сомме и насчитывала 586 жителей.
Вызывает сомнение только одно, самое начальное ввено цепи: нигде нет достоверных сведений о том, чтобы Карл Великий действительно передавал Пипину графство Вермандуа, — об этом говорит лишь более поздняя традиция. Когда она родилась? Лежит ли в основе ее подлинный факт? Ответить на эти вопросы невозможно. Отсюда предположение некоторых исследователей, будто Сен-Симоны сами придумали и пустили в ход пресловутое событие, дабы приукрасить свою родословную; называют даже конкретное лицо, повинное якобы в этой фальсификации. Однако все это тоже не более чем предположение; если каролингская версия не имеет твердых доказательств, то нет и фактов, которые могли бы ее опровергнуть.
Потомство Жана Сен-Симона стало быстро разрастаться, и через несколько веков отдельные ветви фамилии отошли так далеко одна от другой, что их представители даже затруднялись установить степень своего взаимного родства.
Но в целом до XVII века Сен-Симоны ничем особенно не прославились. Их известность была связана с двумя последними столетиями «старого порядка» во Франции.
Это было знаменательное время. В безвозвратное прошлое отошли рыцарские войны и турниры, мрачные замки баронов померкли перед дворцами богатых предпринимателей и купцов. Феодализм, столетиями оплачивавший горделивую роскошь сеньоров кровавым потом крепостных, давно исчерпал свои глубинные ресурсы. Средневековый цех теснила капиталистическая мануфактура. Новорожденный буржуа экономически бил одряхлевшего феодала. Возглавляя третье сословие — девяносто девять процентов французской нации, буржуазия страстно рвалась к власти, стремясь облечь свою экономическую мощь в соответствующую политическую форму.
Но старый мир не собирался без боя сдавать вековые позиции. Бароны и рыцари, хотя и с болью в сердце, предпочли отказаться от прежних вольностей, чтобы сохранить жизнь и господство. Они пошли на предельную концентрацию власти. Феодальную вольницу сменил абсолютизм. Отныне абсолютный монарх, располагая всей полнотой власти, железной рукою осуществлял волю епископов и помещиков и подавлял их врагов.
Борьба вступала в решающую фазу.
На грани двух эпох, когда в недрах старого общества уже вызревало новое, а просветители активно подтачивали устои феодализма и абсолютизма, многие дворянские семьи, некогда знаменитые своими богатствами и земельными владениями, утратив и первое и второе, окончательно перекочевали ко двору. Перестав быть могущественными феодальными сеньорами, владельцами земель и людей, они сами превратились в людей абсолютного монарха — его придворных, полководцев, дипломатов, и место, отвоеванное ими на ступеньках, ведущих к трону, отныне становилось мерилом их социального и политического удельного веса. Иные из них добивались высоких отличий и кратковременного богатства, большинство же, оставаясь на вторых и третьих ролях, едва сводили концы с концами; но все они в равной мере были горды своим славным прошлым — полудостоверными предками и оскудевшими родовыми землями.
К числу таких сеньоров относились и Сен-Симоны XVII–XVIII веков.
Первый из них, Клод де Сен-Симон, отнюдь не был мыслителем, но зато дал всему роду положение и вес при дворе. Паж и фаворит Людовика XIII, хитрый и ловкий царедворец, снискавший полное доверие и любовь своего монарха, он был осыпан милостями и синекурами. Главный конюший и оруженосец короля, первый дворянин его свиты, губернатор одной из провинций, он стал после десятилетней придворной службы герцогом и пэром Франции.
Это был предел знатности. Как герцог Клод получил высшие сеньориальные права, включая и право высшей юрисдикции над населением вверенных ему областей; как пэр он сделался непременным членом государственного совета. Достигнув столь важных отличий, Сен-Симон решил их обосновать. Он составил особый трактат в защиту… герцогских прав! В большом историческом экскурсе он показал, что родовая знать с незапамятных времен была главной опорой трона и главной регулирующей силой государства. И если сейчас все во Франции пришло в состояние хаоса, то виной тому — забвение этой истины. Следовательно, необходимо восстановить старую иерархию должностей и дисциплину. А сделать это могут лишь самые достойные — герцоги и пэры, носители высшей власти, естественные советники короля.
Трактат Клода Сен-Симона не был литературным шедевром. Но идеи его характерны для старинного родовитого дворянства, менявшего свой облик в эпоху абсолютизма. Идеи эти в дальнейшем будут тревожить многих родственников Клода, в первую очередь его сына.
Герцог Луи де Сен-Симон, сын Клода, был наиболее знаменитым (разумеется, если не считать героя этой книги) представителем фамилии. Его положение при дворе в самый блестящий и самый критический период абсолютизма и его выдающаяся литературная деятельность в качестве летописца и судьи своей эпохи, деятельность, оказавшая большое влияние на высоко ценившего своего предка будущего социолога, требуют особого места и особого разговора. Здесь же будет приведена одна связанная с его именем история, небезынтересная как для представления о Сен-Симонах вообще, так и для уяснения места Анри Сен-Симона в кругу своих многочисленных сородичей.
В автобиографических заметках Анри читаем:
«…Я был ближайшим родственником известного литератора, герцога де Сен-Симона. Его герцогство-пэрия, его ранг испанского гранда и пятьсот тысяч ливров[2] ренты, которые он имел, должны были перейти ко мне. Но он рассорился с моим отцом и лишил его наследства. Таким образом я потерял и титулы и богатство герцога де Сен-Симона…»
В этом маленьком отрывке содержатся, по крайней мере, три неточности.
Во-первых, Анри Сен-Симон не был ближайшим родственником герцога. Историки обычно называют его внучатным племянником Луи Сен-Симона. Но это слишком приблизительное выражение, ибо философ и мемуарист принадлежали к совершенно различным линиям рода, разделенным, по словам самого герцога, в течение трех столетий одна от другой.
Во-вторых, Анри напрасно жалеет о герцогстве-пэрии и о пятистах тысячах ливров ренты — баснословной для того времени сумме. Он-то хорошо знал, что ему и в самом лучшем случае ничего бы не досталось, ибо герцог к концу жизни разорился и оставил своим наследникам только долги.
Наконец, в-третьих, ссора, о которой здесь идет речь, имела место не с отцом, а с дедом философа, Луи-Франсуа де Сен-Симоном, маркизом де Сандрикуром.
Вот как произошло все дело, если верить «Мемуарам» Луи де Сен-Симона.
Герцог, который всегда дорожил фамильной честью, заинтересовался своим отдаленным родственником, маркизом де Сандрикуром. Молодой маркиз показался герцогу человеком, достойным покровительства, и он стал хлопотать за него при дворе. Используя свою связь с министром Людовика XIV Шамийяром, герцог добился того, что Сандрикур был назначен в привилегированный Беррийский полк и через три года стал командиром бригады. Не ограничиваясь этим, герцог решил подыскать невесту для своего подопечного и вскоре выбрал ему достойную девушку из знатной семьи. Но Сандрикур опрокинул все планы герцога и вопреки его стараниям сам нашел себе подругу жизни. Он женился по любви (дело неслыханное!), причем взял жену из податного сословия, породнившись с неким Гургю, простым чиновником. Этот шаг взбесил честолюбивого герцога, который был возмущен как тем, что маркиз пренебрег его заботой, так и в особенности самим неравным браком, недостойным столь выдающейся фамилии. Герцог порвал все отношения с Сандрикуром.
Надо заметить, что достойный герцог кипятился не напрасно. Правда, в то время подобные мезальянсы начали становиться общим правилом: многие представители знатных родов женились на дочерях богатых буржуа, чтобы поправить свои финансы. Но маркиз Сандрикур, женившийся по любви, не получил большого приданого. В дальнейшем, по словам герцога, у него «было много детей, но мало денег», и родители его «скончались от горя».
Таким образом, приходится отметить, — сам философ никогда об этом не скажет, — что в жилах Анри де Сен-Симона текла немалая толика плебейской крови.
И еще одним обстоятельством знаменательна эта история. Она показывает общую черту всех Сен-Симонов, живших в XVIII веке: они были бедны. Благородны и бедны. Растеряв родовые земли, они верно служили своим монархам, кормились за счет государевой службы и умирали нищими.
Знаменитый герцог, имевший якобы пятьсот тысяч ренты, не смог уплатить своим кредиторам; маркиз Сандрикур умер в бедности; его сын, отец будущего социолога, не оставил ни су наследства; один из сыновей барона Сен-Симона, обремененный сверх меры долгами, утопился в Сарте.
Это была старинная феодальная семья, гордая своим прошлым и имеющая весьма мало в настоящем. «Длинная шпага и пустой кошелек» — называли остроумные простолюдины подобных аристократов. Шлифуя ступени версальских лестниц, получая высокие военные чины и живя за счет придворных синекур, господа эти, однако, в силу очевидной обреченности своего класса и своего круга отличались иной раз повышенной зоркостью и склонностью к верным историческим прогнозам.
Это с особенным правом можно сказать о последнем представителе старшей ветви рода — все о том же герцоге и пэре Луи де Сен-Симоне.
ГЛАВА 2 ПРЕДТЕЧА РЕВОЛЮЦИИ
В. И. Ленин блестяще показал, как талантливый писатель становится зеркалом революции, будучи от нее не только далеким, но и чуждым ей по своим социальным симпатиям, своей идеологии.[3] Нечто подобное можно сказать и о Луи де Сен-Симоне, герцоге и пэре, ревнителе привилегий родовой знати, оказавшемся в известном смысле… предтечей французской революции.
Разумеется, в отличие от великих просветителей Вольтера и Руссо Сен-Симон нигде прямо не говорит об исторической обреченности современного ему строя. Больше того: если бы ему намекнули на что-либо подобное, он, по-видимому, был бы возмущен до глубины души. Луи де Сен-Симон прежде всего роялист и аристократ. И вместе с тем несомненно прав исследователь,[4] считающий общей темой его «Мемуаров» начало падения старого порядка во Франции. Ибо, субъективно привязанный к колеснице тысячелетней французской монархии, к своему классу, своей социальной группе, Луи де Сен-Симон благодаря особой присущей ему зоркости очевидца, участника и историка, благодаря таланту писателя сумел, сам того не подозревая, вскрыть некоторые из объективных закономерностей, влекущих эту монархию к гибели, показать язвы, ее разъедающие, ее полную внутреннюю гнилость, скрытую за сверкающим фасадом абсолютизма.
Его биография достаточно характерна.
Сын герцога Клода в отличие от своего отца не блистал внешними данными. Плод позднего брака, он всю жизнь отличался слабосильем и хлипким здоровьем. Тем не менее Луи Сен-Симон прожил почти восемьдесят лет (1675–1755), причем лет весьма напряженных.
С детства он увлекался исторической литературой; с детства мечтал проявить себя на государевой службе, в первую очередь — на поле брани. Время для этого было более чем подходящее. Людовик XIV, «король-солнце», пытался навязать французскую гегемонию Европе и ежегодно посылал армии во всех направлениях. Юный тезка короля служил в привилегированных частях, участвовал в нескольких сражениях и даже командовал полком. Но в целом военная карьера ему не удалась. Он был слишком субтилен, слишком горд и не желал пользоваться обычными средствами, ведущими к успеху. Его обошли при повышении. Этого самолюбивый Сен-Симон не мог простить никому, даже «королю-солнцу», которого не без оснований считал главным виновником происшедшего. В двадцать семь лет он написал прошение об отставке. Отставка была принята. С этого и началась взаимная антипатия между Луи де Сен-Симоном и Людовиком XIV, никогда уже больше не затухавшая и явившаяся впоследствии одним из стимулов к появлению знаменитых «Мемуаров».
В основе этой антипатии лежала противоположность натур и стремлений короля и подданного. Людовик XIV, властный и нетерпимый, до предела эгоистичный, не желал признавать чьих-либо достоинств. Абсолютный монарх, стремившийся покончить с претензиями родовой знати, любил лишь людей посредственных, угодничающих и готовых безропотно выполнить его любую прихоть. Маленький герцог, постоянно толкующий о своих «правах», вечно недовольный, ворчащий, осуждающий, протестующий, к тому же предпочитавший балам и забавам Версаля уединенную работу, казался Людовику человеком по меньшей мере подозрительным. Он ищет другого источника прав, нежели воля и милость государя. Он любит историю — очевидно, в прошлом ищет оснований для недовольства настоящим. Он требует и поучает. Подобных людей — король называл их «разговорщиками» — следовало избегать: они представлялись опасными и уж, во всяком случае, нежелательными.
Что касается Сен-Симона, то он вполне разобрался в нехитрой основе личности своего повелителя. «…Я убедился, — писал он позднее, — что король никого не любит и не считается ни с кем, кроме себя самого, и сам для себя является единственной целью существования…»
Отказавшись от военной карьеры, Сен-Симон не думал совершенно покинуть службу. Молодой аристократ рассчитывал, что ему, как герцогу и пэру, будут предоставлены ответственные функции в государственном совете. Этого не произошло. Напрасно Луи, ожидая высочайшего вызова, приобрел особняк в Версале. При дворе он оставался чужим. Поневоле появился досуг, который можно было посвятить сбору материалов и записи впечатлений. Тонкий наблюдатель и превосходный стилист, Сен-Симон стал предавать свои воспоминания, горести и надежды бумаге. Вот здесь-то и пригодилась ему старая любовь к исторической литературе. Основа для «Мемуаров» была заложена.
Со смертью Людовика XIV (1715 год) звезда Луи де Сен-Симона как будто начала восходить. При малолетнем Людовике XV, правнуке покойного короля, регентом стал герцог Орлеанский, друг Луи, близкий с ним с детских лет. Регент тотчас же пригласил герцога к участию в трудам государственного совета и сделал его своим ближайшим доверенным лицом. Сен-Симон полагал, что благодаря влиянию на регента быстро добьется милых его сердцу порядков. Но и здесь он просчитался. Герцог Орлеанский думал лишь о сохранении власти да о выколачивании денег из подданных. На словах он во всем соглашался со своим другом, на деле же не был склонен ни в малейшей мере давать ход его «бредовым» идеям. Да и сам Сен-Симон оказался не на высоте. Упрямый в мелочах, он терялся перед лицом важных решений; добиваясь власти, он отклонял ее, когда власть была реальной, в частности, когда герцог Орлеанский предложил ему должность председателя высшего финансового совета и канцлера королевства. В конце концов регент совсем перестал прислушиваться к голосу своего советника и ограничивался тем, что давал ему пышные, но пустые дипломатические поручения.
Когда в 1723 году регент скоропостижно скончался, Сен-Симону только что минуло сорок восемь лет. Теперь это был вполне зрелый, много перечувствовавший и передумавший человек, ясно знавший, чего хочет, и не менее ясно видевший, что желаемого никогда не добьется. Надежда на претворение в жизнь своих мечтаний, на активную политическую деятельность явно не осуществилась. Герцог окончательно покинул Версаль и отныне делил свое время между роскошным, похожим на музей парижским особняком — золотой мечтой кредиторов — и многочисленными поместьями, давно заложенными и перезаложенными, но внешне достаточно импозантными.
Последние двадцать лет жизни, работая с настоящим подвижничеством, он истратил на завершение своих «Мемуаров».
Автор прекрасно понимал крамольность своего творения. Призрак Бастилии не раз возникал, вероятно, перед его утомленным взором, когда в ночной тиши своего запертого кабинета Луи отрывался от мелко исписанного листа бумаги. Поэтому-то он и работал в глубокой тайне, поэтому-то и не рассчитывал, что «Мемуары» могут быть опубликованы при его жизни.
Правительство, несмотря на все его предосторожности, догадывалось, чем занимается маленький герцог. Едва он закрыл глаза, как его бумаги были конфискованы и упрятаны в государственные сундуки, где они пролежали более семидесяти лет. Абсолютная монархия не имела ни малейшего желания, чтобы ее святая святых было оглашено. Мертвому искателю истины снова зажимали рот.
И все же Луи де Сен-Симон победил всех своих противников, включая и «короля-солнце». Когда в 30-е годы XIX века его «Мемуары» открыли и опубликовали, их приняли с восторгом, а автора их причислили к плеяде классиков французской литературы. Труд его получил право на бессмертие, и ныне ни один историк, занимающийся предреволюционной Францией, не может пройти мимо знаменитых «Мемуаров».
Мемуары Сен-Симона охватывают время конца XVII и начала XVIII века. Но по содержанию они гораздо шире, ибо дают представление о целой эпохе. Это огромная глыба материала: первое издание «Мемуаров» состояло из тридцати томов убористого текста. Глыба весьма неоднородна. Пласты отшлифованного мрамора чередуются в ней с массивами грубого песчаника. Иногда автор блещет остроумием, поражает непревзойденными по тонкости и точности характеристиками, ослепляет искрами предвидения; иногда же кажется банальным и плоским, усыпляет длиннотами, раздражает поучениями. Местами он почти современен: писатель словно перекликается с далекими потомками, говоря им о вещах, которые их волнуют почти так же, как и его. Но вслед за этим тянутся десятки страниц, столь архаичные по стилю, что понять их сегодня почти невозможно. Сен-Симон меньше всего озабочен единообразием своего произведения. Он пишет, как пишется, в зависимости от времени, настроения, материала, мало беспокоясь о том, как компонуется вновь написанное со старым; он стремится лишь к одному: дать все то, что хочется дать.
Но поразительное дело! Когда осиливаешь наконец эту глыбу, то видишь, что в целом ей присуща какая-то удивительная стройность, что разнородный характер стиля и материала вовсе не нарушает единства картины, что кажущейся нескладностью и шероховатостью своего письма, своими длиннотами и поучениями Сен-Симон лишь оттеняет и углубляет то главное, ради чего написаны «Мемуары».
И еще одно особенно впечатляет: глубокая искренность автора.
Исследователи много спорили о том, насколько можно верить Сен-Симону, учитывая его страстность и одержимость определенными идеями. Неоднократно указывалось также на фактические ошибки и неточности его труда. Все это и несомненно и объяснимо. Герцог был тенденциозен по своим взглядам и не мог не совершить фактических ошибок, учитывая грандиозность поднятого материала и несовершенство человеческой памяти. Но вот что представляется неоспоримым: он никогда не лгал самому себе. Он верил тому, что писал, иначе бы не писал вовсе. Ненавидя своих врагов, он никогда не рисовал их одной черной краской, точно так же как никогда не скрывал слабостей и недостатков своих друзей. Он старался быть объективным и был объективным, насколько оказывалось ему по силам. Можно ли требовать большего от мемуариста? Зато предмет своего изложения Сен-Симон знал как никто. И останься его труд неизвестным, в истории царствования Людовика XIV недоставало бы многих важных страниц.
…Утро. Главные апартаменты большого версальского дворца заполнены нарядной публикой. Камзолы из бархата и парчи, громадные белые парики, ордена, кружевные жабо, кружевные манжеты, кружевные раструбы панталон, туфли с бриллиантовыми пряжками, высокие красные каблуки… Феерически-пестрая, словно пришедшая из сказок Перро, толпа благоухает всеми ароматами парижской парфюмерии. Сдержанный шепот. Из уст в уста передаются последние сплетни, слухи, модные анекдоты…
— У герцогини Бургонской снова выкидыш. Она была на последнем месяце, а король волочил ее за собой в Марли и Фонтенбло. Теперь, пожалуй, ждать нового наследника не придется…
— Мсье, герцог Орлеанский подрался с одним из своих миньонов; у него шрам во всю щеку, который не могут скрыть никакие белила…
— Д’Аржансону пожаловали три пенсии сразу, каждую в тысячу двести ливров и каждую под одним и тем же предлогом…
— Буагильбер, начальник войск Руанского округа, дерзнувший предложить проект упорядочения налоговой системы, разжалован и отправлен в изгнание королевским летр-де-каше…
«…Зима в этом году была столь ужасной, что реки замерзли до самого устья, а вдоль берегов моря по льду можно было перевозить в телегах самые тяжелые грузы. От временной оттепели снег растаял, но затем внезапно возобновились морозы с такою же силой, как и прежде… Эта вторая полоса холода погубила все. Фруктовые деревья засохли, не осталось ни орешников, ни олив, ни яблонь, ни виноградников, умерли сады и хлебные злаки, посаженные в землю. Нельзя в полной мере представить себе страшное бедствие этого всеобщего разорения. Всякий запрятал имевшиеся у него запасы старого зерна; хлеб вздорожал пропорционально отсутствию надежды на новый урожай. Наиболее рассудительные вновь засеяли ячменем поля, находившиеся под озимыми, и этим спасли себя. Но полиция наложила запрет на подобные действия и поняла свою ошибку слишком поздно. Было издано несколько законов о хлебе, стали разыскивать запасы, по провинциям были разосланы комиссары. Однако все эти меры вместо того, чтобы помочь, довели бедность и дороговизну до высшей точки, хотя по вычислениям и было очевидно, что хлеба во Франции должно хватить на два года для прокорма всего населения, независимо от нового сбора…»
…Разговор смолкает. Величественный камердинер в голубой ливрее трижды стучит жезлом об пол, и дверь в опочивальню распахивается. Королевское «леве» началось.
…Он полулежит на подушках непомерно обширной кровати под затканным золотыми лилиями необъятно огромным балдахином. «Король-солнце» собирается в очередной раз взойти над горизонтом своего королевства. Физиономия его заспанна и помята, без парика и грима он лишен всякого величия и похож на рядового обывателя-буржуа. Эстрада, на которой возвышается кровать, окружена пестрой толпой, но уже не столь многочисленной, как в приемной: сюда вошли далеко не все из желавших. Список допускаемых на королевское «леве» составляется заранее, лакеи вышколены, обладают прекрасной памятью и хорошо знают, кого следует пропустить. Остальных — будь ты барон, маркиз или даже герцог — довольно бесцеремонно задерживают у порога — и от ворот поворот…
Самые счастливые — у изголовья кровати. Главный камердинер осторожно, двумя пальцами каждой руки стягивает с монаршего тела ночную рубашку и передает близстоящему придворному. А по рядам плывут предметы дневного облачения: сорочка, панталоны, бесконечные манжеты и жабо. Тот, кто успел подержаться за какую-либо часть королевского костюма, уже доволен; но особенно счастлив тот, кому его величество бросит в ходе одевания небрежное слово. Это великая милость, и удостоенный ею может считать себя именинником. И милости этой ждут, ее ловят с угодливыми улыбками, поклонами и реверансами…
Герцог Луи де Сен-Симон стоит несколько поодаль и тоже ждет. Ему было обещано, что король сегодня ответит наконец на его просьбу. Но тщетно ждет герцог, напрасно старается заглянуть в лицо «солнцу». Король явно избегает его взгляда. И когда вполне одетый, завитой и напомаженный Людовик в сопровождении все той же толпы покидает спальню, он также ничего не говорит Сен-Симону…
«…Цены на хлеб были одинаковыми на всех рынках королевства, а в Париже комиссары назначали их по своему усмотрению и еще заставляли продавцов повышать цены против своей воли. На громкие жалобы народа, вопрошавшего, сколь долго протянется эта дороговизна, из уст некоторых комиссаров на рынке, в двух шагах от меня, вырвался довольно ясный ответ: „Сколько вам будет угодно“. Этим ответом они как будто давали понять, что беда продлится до тех пор, покуда у народа хватит терпения!..
На всех рынках, если продавцы хлеба, оставшегося непроданным по назначенной цене к тому часу, когда рынок должен был закрываться, из жалости соглашались продавать его по цене более низкой, они подвергались наказаниям, а хлеб увозился вон…
Не произнося окончательного и твердого суждения о том, кто изобрел такой порядок и кто воспользовался им, можно сказать, что никогда до сих пор не совершалось ничего более темного, дерзкого, искуснее сотканного, приведшего к столь жестокому, беспощадному и неотвратимому утеснению. Суммы, извлеченные благодаря этой политике, были неисчислимы, и столь же неисчислимо количество народа, от этого вымершего, семейств, этим разоренных, и потоков всякого рода бедствий, какие отсюда проистекали…»
…Его величество изволит завтракать. Он сидит за огромным столом на небольшом возвышении. Поодаль восседают королева, принцы и принцессы крови, легитимированные дети. Остальные стоят. Лакеи проносят блюда: рыбу, птицу, дичь, пирожные и печенья, сыр, горы фруктов, шоколад, кофе, оранжад. Король едва притрагивается к еде, кое-что по его особому знаку предлагают его любимцам, остальное тотчас же уносят.
Подсчитано, что только на кофе и шоколад к ежедневной трапезе «короля-солнца» затрачивалось столько денег, сколько средний ремесленник зарабатывал в течение года…
Время от времени, отставив очередное блюдо, король изрекает. Он жалует и казнит. Именно сегодня за завтраком он произносит окончательный приговор маршалу Вобану, знаменитому полководцу и инженеру, гордости Франции. Король дает старику отставку и обрекает на изгнание только за то, что маршал, сам выходец из бедноты, дерзнул предложить реформу, облегчавшую непомерную нужду народа…
…А герцог Сен-Симон напрасно, переминаясь с ноги на ногу, простоял весь завтрак и пытался обратить на себя внимание монарха. Людовик и теперь не удостоил его ни единым словом…
«…Беспрерывное повышение налогов, умножение их числа и крайне строгое взыскание привели Францию к полному краху. Все вздорожало до невероятных размеров, а между тем даже за самую высокую цену нельзя было ничего купить и на лучших рынках. Большая часть скота погибла от бескормицы, но на крестьян, которые его имели, был все-таки наложен новый сбор. Многие из тех, кто в прежние годы помогал бедным, теперь с трудом поддерживали собственное существование, а иные были вынуждены сами просить милостыню. Трудно сосчитать, какая масса несчастных стремилась попасть в приюты и богадельни, раньше представлявшиеся стыдом и пыткою, сколько разорившихся приютов выбрасывали призреваемых на голодную смерть, сколько семей погибало на чердаках…»
…Монсеньер, старший дофин, отличался многими доблестями, в том числе непомерной глупостью и свирепой жадностью. Но была у него одна, впрочем, весьма простительная слабость: крайняя невоздержанность в отношении женского пола. Король знал об этом, но не мог слишком уж журить своего сына, ибо сам страдал тою же болезнью. Монсеньер привык ежедневно развлекаться с молодыми хористками, которых ему поставляли дю Мон и Фраксин, зять композитора Люлли.
Однажды произошел случай, который изрядно позабавил весь двор. В назначенный час к дофину привели одну из этих хорошеньких девиц, сопровождаемую ее подругой-дурнушкой. Монсеньер, предупрежденный, что они прибыли, отворил дверь своего малого кабинета и, схватив ту, которая была ближе, потащил ее за собой; то была дурнушка, которая поняла, что произошла ошибка, и тщетно пыталась разъяснить ее принцу… Через некоторое время вошел дю Мон и, видя красотку в одиночестве, удивленно спросил, что случилось. Та рассказала. Дю Мон стучит в дверь кабинета и кричит: «Это не та, монсеньер, вы ошиблись!» Никакого ответа. Дю Мон удваивает шум — безуспешно. Наконец дофин открывает дверь и выталкивает дурнушку. Дю Мон подводит другую со словами: «Вот настоящая!» — «Дело сделано, — отвечает монсеньер, — эту до другого раза!»
Все были поражены столь необыкновенной деликатностью принца…
«…Правительство учредило особые налоги в пользу бедных. Но вводились они с таким отсутствием чувства меры, что поставили массу плательщиков, находившихся и без того в очень стесненном положении, в еще худшее, полностью иссушив источник добровольной благотворительности. Весьма странным, мягко выражаясь, казалось и то, что король стал присваивать суммы, получавшиеся от сборов для бедных, и финансовые чины, объявив эти сборы вечными, взыскивают их публично до сего дня, как королевские доходы, с полной откровенностью, даже не меняя названия…
Граждане не переставали удивляться исчезновению денег в государстве. Король даже не оплачивал своего войска, и нельзя было понять, куда девались несметные миллионы, попадавшие в его сундуки. Никто не в силах был больше платить, ибо никто уже не оставался собою: в деревнях селяне, истощенные поборами и обесценением имущества, стали несостоятельными; иссякшая торговля не давала дохода, честность и взаимное доверие исчезли. Так, в руках короля не оставалось других способов воздействия, кроме террора, использования всей своей безграничной власти. Но сколь ни была она велика, и ее теперь уже хватало далеко не всегда и не везде…»
…После завтрака, как обычно, в сопровождении всей свиты король едет в Марли. Гуляя по парку, он приблизился к вновь отстроенному бассейну, в котором плавали карпы, и с любопытством стал наблюдать за рыбами. В это время придворная дама сообщила ему, что герцогиня Бургонская, невестка и любимица короля, вследствие преждевременных родов находится в очень тяжелом состоянии.
Король бровью не повел и продолжал кормить своих карпов. Наконец, заметив, что все в оцепенении, он с гневом воскликнул:
— Какое мне дело до этого? Слава богу, у меня есть наследник, а если бы даже он и умер, есть второй. И не все ли равно, кто мне наследует? Теперь, по крайней мере, меня оставят наконец в покое со всеми этими врачами и акушерками и перестанут мешать моим поездкам и моим желаниям.
Общее молчание стало столь глубоким, что слышен был шорох букашек в траве. Даже ко всему привыкшие придворные были потрясены столь циничным афишированием столь чудовищного эгоизма. Именно в эту минуту Луи де Сен-Симон ясно понял, что представляет собой этот «великий король»…
…Людовик, ни на кого не обращая внимания, беседовал с садовниками о карпах. Затем ушел.
«…Дороговизна всех продуктов и особенно хлеба в не меньшей степени, чем жестокие поборы, вызывала волнения в различных частях королевства, в том числе и в Париже. И хотя для охраны рынков и подозрительных мест столицы было введено в полтора раза больше войск, чем обычно, эта предосторожность не помешала возникновению многочисленных беспорядков. Монсеньер дофин на пути в Оперу неоднократно осаждался толпою, в которой было множество женщин, требовавших хлеба, так что он чувствовал страх даже среди своего конвоя, не решавшегося, опасаясь худшего, разогнать народ. Принц отделался тем, что приказал разбрасывать деньги и наобещал чудес, но, так как они не последовали, в дальнейшем счел разумным воздерживаться от посещений столицы.
Сам король в Версале слышал сквозь окна дворца громкие угрозы со стороны наполнявших улицы простолюдинов. Речи звучали смелые и решительные, жалобы против правительства высказывались горячо и несдержанно; роптали даже против монаршей особы. Дело доходило до того, что убеждали друг друга перед лицом голодной смерти не оставаться столь терпеливыми и покорными, как прежде, — все равно-де хуже не будет!..»
…День выдался на редкость суматошный и малоприятный. Помимо болезни герцогини Бургонской, что-то стряслось вдруг и с герцогом Орлеанским, младшим братом короля. То ли он слишком объелся, то ли был отравлен: несчастному вывернуло все внутренности, и он лишился дара речи…
Король был расстроен, ибо больше всего на свете дорожил своим здоровьем. Он не стал заниматься государственными делами, за обедом ел еще меньше, чем за завтраком, а затем, так как отличался мнительностью, приказал дать себе рвотное и поставить клистир. Потом спал. Благодарение небу, все обошлось…
Вечером он играл в карты. Как обычно, выиграл, и выиграл порядочно. Это его окончательно развлекло…
«Куше» прошло тоже как обычно. Среди толпы избранных в глубине своей опочивальни Людовик раздевался, и все предметы его костюма вновь поплыли по рядам. Ну вот и все. Ночная рубашка сменила сорочку с кружевным жабо, свеча погашена, дверь спальни затворилась. Спокойной ночи, ваше величество!..
…Вместе с другими герцог Луи де Сен-Симон спешит покинуть королевские покои. Ему так и не удалось поговорить с монархом. И тем не менее он доволен. Сегодня было так много интересных наблюдений! Скорее, скорее, пока все свежо в памяти, поведать их бумаге!..
«…Чтобы несколько успокоить народ, беднякам дали работу: снести возвышенность на бульваре между воротами Сен-Дени и Сен-Мартен. Труд был оплачен скверным хлебом, розданным в очень малом количестве. Поскольку хлеба многим не досталось, поднялся шум. Одна из женщин кричала особенно громко, возбуждая других. Стрелки, руководившие раздачей, пригрозили женщине, она закричала еще сильнее. Тогда ее схватили и прикрепили к столбу на железный ошейник. В один момент сбежались все землекопы; ошейник был вырван, женщина освобождена, а толпа, громя булочные, покатилась по улицам. Лавки закрывались, беспорядок усиливался, охватывая квартал за кварталом. И при этом не чинилось ни малейшего насилия над людьми, но только кричали: „Хлеба!“ — и забирали его везде, где находили…»
Французский литературовед Сбаралеа писал: «…Сен-Симон показывает жизнь во всей ее безобразной наготе. Изображая пороки высшего общества, придворных в пудреных париках, он выступает как бесстрастный реалист. Иногда кажется, будто этот феодальный герцог — современник Золя. Во многих главах у него можно встретить отрывки, от которых не отречется самый смелый натурализм. Он срывает с царедворцев Версаля, Медона и Марли ленты и кружева и показывает их в положениях, очень далеких от величия. Сам „король-солнце“ предстает перед нами не только в царственных позах. Историк то выводит его в неудержимом гневе, кидающим щипцами в министра Лувуа, то он появляется сидящим не на троне, а на стульчаке. Писатель не избавляет нас ни от какого физического падения, все изображая в подлинных чертах».
С этой характеристикой трудно не согласиться. Но, перелистав всего лишь несколько десятков страниц в одном из томов «Мемуаров», видишь, что ограничиться ею нельзя. Ибо аристократ Сен-Симон витает не только в придворных покоях. Мы видим его и на улице, в гуще народа, которому он сочувствует от всего сердца, — народа, бедствия, нищету и безмерные страдания которого он описывает с не меньшей яркостью, нежели блеск и лживость двора.
Закрывая наугад взятый том «Мемуаров», читатель не может не уловить сути дела. Вот так он и пишет, Луи де Сен-Симон, пэр и герцог, предтеча великих событий будущего. На всем его труде лежит печать глубокого пессимизма, неверия в то, что ныне происходящее может завершиться добрым концом. И невольно вспоминаешь слова «фернейского патриарха», которые хочется поставить эпиграфом к «Мемуарам»:
«Я знаю, что будет революция, хотя и не доживу до нее».
Сам Луи никогда бы не подписался под этими словами, но его труд ведет прямо к ним.
Мемуарист Сен-Симон умер за пять лет до рождения своего внучатного племянника, Анри. Но та Франция, которую он описал, мало чем отличалась от Франции, в которой протекали детство и юность Анри Сен-Симона, которая родила его первые недоумения и вопросы, первые сомнения.
Читал ли Анри мемуары своего деда? По-видимому, он знал их. Хотя бумаги герцога и были арестованы сразу после его смерти, многое, причем наиболее острое, уже ходило в списках среди родственников и друзей.
Именно то, что вычитал Анри в «Мемуарах», именно то, что увидел он в описанной дедом «старой доброй Франции», вызовет в нем в положенный час отвращение к абсолютизму и сословному строю отживающей предреволюционной эпохи.
И любопытная деталь — много лет спустя социолог Сен-Симон укажет на «век Людовика XIV» как на пролог революции, а на «короля-солнце» — как на ее подлинного виновника…
ГЛАВА 3 ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ
Будущий социалист-утопист Анри-Клод де Рувруа де Сен-Симон родился 17 октября 1760 года в Париже, в отеле на улице Бак, доставшемся его отцу, графу Бальтазару де Сен-Симону, от деда Анри, Луи-Франсуа де Сен-Симона, маркиза де Сандрикура.
Граф Бальтазар был вторым сыном маркиза. Его старший брат, Максимилиан, унаследовавший титул отца, отличался недюжинными способностями. Мечтатель и поэт, Максимилиан переводил стихи Попа, Лукиана и Оссиана, написал монографию о гиацинтах и несколько исторических эссе. Он рано бросил службу, чем вызвал недовольство в высших сферах. Большую часть жизни он провел в путешествиях.
Военный министр в своем рапорте королю назвал Максимилиана «дерзким сумасбродом». В аристократической среде поэт заслужил репутацию чудака.
А его младший брат — репутацию неудачника.
Второе было не более верным, чем первое.
Немногочисленные документы, оставшиеся от графа Бальтазара, отнюдь не позволяют считать его неудачником.
Правда, он не был крупным землевладельцем. В больших феодальных семьях земельная собственность передавалась по старшинству, и на долю младших оставалось весьма немного. Кроме парижского отеля, Бальтазар владел двумя территориями в Пикардии, в округе Сантерр: сеньорией Берни и деревней Фальви.
Сеньория Берни насчитывала восемьдесят крестьянских дворов. К ней примыкал одноименный замок, расположенный на высоком холме, замок, по выражению современника, «обширный и превосходный». Некоторые биографы Анри Сен-Симона называют Берни «родовым гнездом» семьи. Это неверно. Замок был построен лишь в первой половине XVIII века. Причем строился он для некоего богатого чиновника, у которого затем вместе с сеньорией был куплен Сен-Симонами.
Деревня Фальви, состоявшая из шестидесяти восьми дворов и церкви, вошла в семью Сен-Симонов также лишь в XVIII веке. Отец Анри получил ее от своего дяди, епископа Мецкого.
В 1773 году к этим двум владениям прибавилось третье: граф Бальтазар купил у пикардийского буржуа, господина Морле, землю и сеньорию Флокур.
Земельная собственность графа Сен-Симона была малодоходной. Из архивного документа следует, что Фальви давала всего лишь 600 ливров ренты. Все владения, вместе взятые, едва ли приносили более трех тысяч ливров в год. Для аристократической семьи это было нищенское содержание.
Но граф Бальтазар на него и не рассчитывал. По примеру своих родственников и друзей он с юных лет протянул руку к государственному пирогу. Военная служба и почетные синекуры — вот что должно было вознаградить его, вознаградить с лихвой за скудость земельных владений.
В те годы на престоле находился правнук «короля-солнца», «многолюбимый» Людовик XV. Столь же эгоистичный и мелкий, как Людовик XIV, но при этом еще более завистливый и жадный, он не умел разбираться в людях, был беспредельно ленив и не обнаруживал даже тени административных способностей.
— Пусть эта славная машина действует сама собой, — говорил он, убегая с заседания государственного совета и отправляясь к очередной любовнице. Цинизм и развращенность «многолюбимого» были поистине фантастичны. Не довольствуясь официальными фаворитками и случайными женщинами, Людовик XV завел для «тайных наслаждений» специальный «Олений парк», своего рода гарем восточного владыки. Характерно, что заведовала этим учреждением главная фаворитка короля, мадам Помпадур, та самая, которая будто бы произнесла фразу, вошедшую в историю (по другой версии ее изрек сам король): «После нас — хоть потоп!»
«Потопа» можно было ждать. Фаворитки руководили государственной политикой, и не мудрено, что политика эта вела Францию к катастрофе. Но зато придворной знати жилось лучше, чем когда бы то ни было. И тем, кто умел найти правильную дорожку в лабиринте версальских покоев, были обеспечены и должности, и деньги, и почет.
В отличие от своего старшего брата граф Бальтазар весьма преуспел на этой стезе.
В январе 1742 года, двадцати лет от роду, он вступил в дворянский Неверский полк, через год стал лейтенантом, а еще через полгода — капитаном. Затем Бальтазар получил гвардейскую бригаду польского короля Станислава, стоявшую в Лотарингии. Это была весьма почетная и выгодная должность, которая к тому же не требовала реальной службы. Чин командира бригады давал Бальтазару 6 тысяч ливров в год и не мешал ему получать еще тысячу в качестве отставного полковника королевского Русийонского полка.
Не довольствуясь этим, граф бомбардировал двор прошениями и в конце концов добился того, что министр д’Аржансон передал ему высокую, но чисто номинальную должность «великого бальи Санлиса», которую некогда занимал отец Бальтазара и которая приносила 1800 ливров в год, да сверх того две пенсии, по 1500 ливров каждая.
Таким образом, в 70-е годы XVIII века граф Бальтазар де Сен-Симон имел в целом около 15 тысяч ливров годового дохода.
Это было не слишком много, но и не так уж мало; во всяком случае, на безбедное существование даже большой семьи должно было хватить. И уже поэтому, в особенности учитывая, сколь ловко он вырывал свои «пенсии» и «пожалованья», графа Бальтазара никак не назовешь неудачником.
С легкой руки историка, не занимавшегося этим вопросом специально,[5] графа Бальтазара Сен-Симона принято считать весьма посредственным умом, угрюмым, мрачным и даже жестоким человеком.
Источники не дают оснований для подобной оценки. Граф Бальтазар был, по-видимому, человеком просвещенным, придерживающимся довольно свободных взглядов. Почитатель «Энциклопедии», он дружил с Даламбером и восхищался Дидро. Он был вхож в салоны мадам Дюдеффан и мадам Гельвеций, где собирались наиболее свободомыслящие люди того времени. И хотя в отличие от своего старшего брата Бальтазар не проявил особых талантов, он вовсе не был бездарен, о чем свидетельствуют, в частности, дошедшие до нас его письма.
Граф Бальтазар женился поздно, в тридцать шесть лет, только после того, как упрочил свое положение. Женился на своей двоюродной сестре, двадцатилетней дочери маркиза де Сен-Симона, крупного военачальника, но не слишком богатого собственника, давшего в приданое скромную недвижимость в Перонне. Бракосочетание происходило 26 июня 1758 года в церкви Фрескати, в окрестностях Меца, причем благословил молодых духовный владыка города епископ Сен-Симон, их близкий родственник.
Если сведения об отце Анри Сен-Симона не отличаются обилием, то о матери его неизвестно и вовсе почти ничего. Нет сведений ни о ее характере, ни о склонностях, ни об отношении к сыну. Не определена даже дата ее смерти. Известно лишь, что родила она девятерых детей: шесть сыновей, из которых один умер в раннем детстве, и трех дочерей. Анри был старшим из сыновей. Ему предстояло унаследовать титул и земли графа Бальтазара.
Детство Анри проходило так же, как детство сотен его сверстников из благородных фамилий. С ранних лет он был окружен гувернерами и учителями, стремившимися закалить его тело и просветить ум.
«Меня завалили преподавателями, — писал он впоследствии, — не давая времени подумать над тем, что они преподавали. В результате семена науки, воспринятые моим умом, могли взойти лишь много лет спустя после посева».
Из этих слов видно, что маленький Анри не слишком преуспевал в науках. Математика и астрономия, мифология и геральдика, латинский и греческий языки, история, богословие и добрый десяток иных предметов, путаясь друг с другом, притупляли детский ум и вызывали лишь отвращение.
Но уже в это время стал проявлять себя необычный характер ребенка. Обнаруживались его упорство, порывистость, храбрость, стремление довести до конца задуманное.
Однажды, когда совсем малышом он бегал и резвился вблизи замка, ему помешала проезжавшая мимо телега. Мальчишка, не желая уступить, лег поперек пути, предпочитая быть раздавленным, но не сойти с дороги.
Другой случай был посерьезнее. Его укусила бешеная собака. Анри собственноручно прижег место укуса горящим углем, а затем раздобыл пистолет и стал повсюду носить его с собой, приняв решение размозжить себе голову при первых признаках бешенства.
Наконец, третий инцидент, видимо, заставил графа Бальтазара очень и очень призадуматься.
Один из учителей, замечая нерадивость своего воспитанника, решил прибегнуть к испытанному средству. Он начал раскладывать на скамейке классной комнаты розги. Анри молча следил за этой процедурой, а затем опустил руку в карман, вынул маленький перочинный ножик, быстро открыл его и ловким движением вонзил лезвие в ягодицу оторопевшего преподавателя…
Эффект можно представить. Неизвестно, как отреагировал граф Бальтазар на этот факт, но в дальнейшем розги как средство воспитания к юному кавалеру де Рувруа больше применять не пытались.
По мере того как ребенок рос, он все внимательнее присматривался к окружающему миру.
Мир этот был невелик. Поздняя осень и зима — парижский отель на улице Бак, остальное время — замок Берни с прилегающей деревней. Но декорации и там и здесь были одни и те же. Большая часть дня проходила в классной комнате: познавательные науки чередовались с уроками танцев, фехтования, хороших манер. Родителей Анри видел редко — тесное общение детей и взрослых в XVIII веке не было принято. И в отеле, и в замке постоянно слонялись чужие люди: кавалеры в пудреных париках, дамы с затянутыми талиями, надушенные аббаты. Все выглядело фальшивым, ненастоящим. И разговоры были ненастоящие. Точно все господа эти играли какую-то заранее написанную и ему одному непонятную пьесу…
А за оградой замка и за стенами отеля шла своя жизнь. Тоже непонятная, но, по-видимому, настоящая. Там люди не манерничали, не делали жеманных па, но постоянно трудились. Их лица были потны, руки черны и шершавы, речь груба. Их Анри знал еще меньше, нежели лощеных дам и кавалеров из замка. Они казались каким-то совсем иным миром…
…Два мира. Совершенно различные. И уживающиеся в одном. Но почему они разные? И как уживаются? И что значат один для другого? И что вообще является самым важным на свете?..
Сколько непонятного! Кто объяснит ему все это? Где он отыщет ответ?.. Быть может, в религии?..
Но то, что трижды в неделю бормотал и заставлял выучивать на уроках богословия господин аббат, ничего не объясняло.
…Все неравенство — от бога… Общество — пирамида: на вершине — король, ниже — духовенство, еще ниже — дворянство, а под ними — третье сословие… Каждый выполняет предначертанное свыше: король царствует, духовенство молится, дворянство воюет, а третье сословие платит налоги. Так было всегда, и так будет вечно — примирись с этим. Не протестуй. Не ропщи. Когда тебя бьют по правой щеке — подставляй левую…
Но мальчик не хотел подставлять свою щеку под удар кому бы то ни было. И он видел, что этого никто не делает. И вообще, на поверку все оказывалось не таким, абсолютно не таким, как изрекал господин аббат!..
Маленький Анри имел все основания не верить своему духовному ментору.
Религия давно уже никому и ничего не могла объяснить.
Если в средние века епископы и аббаты, влияя на верующих своими «таинствами» и пышными службами, казались подлинными «властителями душ», если альфой и омегой их многовековой схоластической премудрости, которой они глушили суеверного обывателя, был знаменитый тезис «верю, ибо это абсурд», то люди нового времени вырывались из духовных оков церкви и больше не желали ни слушать абсурда, ни подчиняться ему.
XVIII век недаром вошел в историю как век Просвещения.
Третье сословие Франции, борясь за свои права, выдвинуло целую плеяду замечательных философов, публицистов, писателей, ученых, которые дали человечеству идеи, подорвавшие авторитет всех устоев старого мира: его религию, его мораль, его учреждения.
Монтескье и Вольтер, Дидро и Гельвеций, Тюрго и Кене, Мабли и Морелли — все эти и многие другие деятели эпохи Просвещения, несмотря на различия в своих взглядах, несмотря на ожесточенные споры, которые они подчас вели друг с другом, в целом представляли передовую, прогрессивную идеологию.
И судьбе было угодно сделать так, что маленький аристократ Анри де Сен-Симон уже в ученические годы познакомился с двумя выдающимися представителями этой идеологии — Даламбером и Руссо.
Мало этого.
Первый из них на короткое время даже стал для Анри самым близким человеком.
В те годы Жан-Батист Даламбер находился в зените славы.
Член двух академий, главный редактор «Энциклопедии», философ, физик, математик, он был сверх того постоянным корреспондентом «просвещеннейших» государей — Фридриха II Прусского и Екатерины II Российской. Строгий, сдержанный, казалось, знающий все на свете, Даламбер оставался непобедимым в научных дискуссиях: воздерживаясь от брани и резких выпадов, всегда корректный и немного язвительный, он бил насмерть своих оппонентов отточенно-ясными положениями и аргументами.
С графом Бальтазаром его связывало старое знакомство. Отец Анри, который давно уже чувствовал, что деньги, отпускаемые хороводу учителей, в какой-то степени тратятся даром, решил поставить точку. Он стал умолять друга принять на себя хотя бы на некоторое время общее руководство обучением ребенка.
В первый момент убеленный сединами маститый философ почувствовал себя несколько шокированным: руководить обучением тринадцатилетнего балбеса ему, двойному академику… Но затем из чувства дружбы и уважения к славной фамилии Даламбер согласился.
Много лет спустя Анри Сен-Симон будет с признательностью вспоминать эти уроки. На всю жизнь останется в памяти первый момент, когда в комнату вошел подтянутый худощавый человек с очень живыми глазами. Его глуховатый голос. Необыкновенно отчетливая дикция. И первые слова:
— Вселенная — обширный океан. На поверхности его мы видим лишь несколько более или менее пространных островов, но связь их с континентом сокрыта от нас…
…Сокрыта от нас… А можно ли открыть ее? И как?..
— Не торопитесь, дитя мое… Если бы истина представлялась нашему уму в непрерывной последовательности, не было бы необходимости создавать связующие звенья, все сводилось бы к единой истине и все другие истины были бы только различными преобразованиями ее одной…
…Все сводилось бы к единой истине… То есть к богу?..
— Пока оставим бога, мой милый… Но у нас нет именно этого необходимого руководителя; в тысяче мест цепь истин прерывается, и мы только с особым старанием, путем попыток, даже уклонений от истины можем охватить звенья цепи…
…Можем охватить… Но как же?..
— Разумом, дорогой мой. Упражняйте свою логическую мысль, пользуйтесь разумом и смело идите, куда бы он вас ни привел. Разум, хорошо направленный, умеющий делать выводы из фактов, непогрешим. Это единственное, что есть непогрешимого на нашей земле.
…Единственное, что есть непогрешимого… А вера?..
— Не все сразу, дитя мое. Вера — это шестое чувство. Оно присуще далеко не всем людям: у одних есть, а у других и нет… Впрочем, это уже из иной области. Вам лучше об этом расскажет ваш духовный наставник…
Уроки Даламбера дали мальчику необычайно много. Конечно, он далеко не во всем разобрался — всходы поднимутся не сразу после посева. И все же кое-что он понял и сейчас. Он понял значение опыта. Он понял и то, что разум руководит экспериментальными знаниями, что жизнь развивается по определенным законам прогресса, что мораль социальна и так же доступна научному изучению, как любая другая отрасль знаний.
Он твердо усвоил, что разум превыше веры, а вера — это всего лишь шестое чувство, которым наделены далеко не все люди.
И тут же сделал практический вывод.
Поскольку Анри исполнилось тринадцать лет, он должен идти к первому причастию. Ему радостно сообщают об этом. Каково же было удивление всех домашних, когда Анри после короткого раздумья заявил, что не пойдет в церковь.
Юный ученик Даламбера решил быть последовательным. Он не чувствовал в себе глубокой веры, а раз так, то зачем исполнять церковные таинства? Нет, он не станет лицемерить ни по отношению к себе, ни по отношению к другим.
Отказ был заявлен в самой категорической форме.
Граф Бальтазар не поверил своим ушам: это было слишком. Ученик просветителей, друг Даламбера и почитатель Дидро, граф отнюдь не отличался глубокой религиозностью. Как истый представитель века, он считал признаком хорошего тона слегка подтрунивать над попами. Многие аристократы, как и он, рукоплескали Вольтеру и охотно принимали в свое общество таких «развратителей», как острослов Шамфор или комедиограф Бомарше. Но одно дело мода, а другое — социальные устои. Существовали приличия, которые требовали, чтобы каждый дворянин исполнял самые необходимые обряды; чтобы он крестил ребенка, венчался в церкви, изредка причащался и, наконец, призывал священника к своему смертному одру. Конечно, какой-нибудь там Шамфор или даже Вольтер мог позволить себе многое. Но Сен-Симон, наследственный аристократ, потомок Карла Великого и внучатный племянник епископа Мецкого, не имел права отказываться от соблюдения приличий: это был бы не просто конфуз, но позор на всю родословную.
И граф Бальтазар, в других случаях человек сговорчивый, на этот раз проявляет твердость. Он простил своему сыну, когда тот с ножом бросился на преподавателя; он спустил бы еще многое, но только не такое. Анри упрям — граф хорошо знает это, — но здесь он переупрямит мальчишку.
Делая вид, будто ничего не случилось, граф лично напоминает сыну о конфирмации.
Отказ столь же тверд.
Ах так… Ну хорошо. Мальчишку можно было бы избить до полусмерти, но граф — противник телесной расправы, и, кроме того, он слишком помнит недавнее… Нет, он поступит иначе. Пусть это будет жестоко, но таким путем он сразу и навсегда переломит характер строптивому бесенку…
Аристократы той поры имели особое право: неверную жену упрятать в монастырь, а испорченного ребенка водворить в исправительную тюрьму. Несколько лет назад другой представитель знати, граф Мирабо, используя это право, заточил в тюремный замок на острове Ре своего непокорного сына, будущего революционера. Теперь граф Сен-Симон поступает точно так же. Он отправляет Анри вместе с сопроводительным письмом в крепость Сен-Лазар, одну из самых суровых парижских тюрем. Пусть-ка посидит в одиночной камере да призадумается о своем поведении, а там после чистосердечного раскаяния его можно будет и простить!..
Плохо же знал граф Бальтазар де Сен-Симон своего сына.
Известно, тюрьма не сладость, а одиночка особенно. Анри скучает. Ему обидно за то, что с ним поступили несправедливо. А главное — ему жалко, что здесь он даром теряет время, когда в мире столько интересного!
Эту идею он стремится внушить тюремному надзирателю, который приносит ему пищу. Анри пытается уговорить его, чтобы тот отпустил несчастного узника на волю.
Надзиратель хохочет. Нашел дурака! Вот посидишь здесь до второго пришествия, так завертишься волчком!..
Скучно. И почти безнадежно. Юный Мирабо в аналогичных условиях заваливал отца письмами, в которых каялся, умолял, лил слезы. Но для Анри такой путь исключен. Он не станет просить прощения, ибо не чувствует себя виноватым. Он поступит иначе.
Гимнастические упражнения и ежедневные холодные души, которыми допекал его гувернер, не пропали даром. Анри щупает свои бицепсы и с радостью понимает, что у него много силы, что он может справиться и не с таким…
…Когда тюремщик снова вошел в камеру, заключенный внезапно набросился на него, оглушил несколькими ударами кулака, вырвал связку ключей и кинулся вон из камеры…
…Ну вот он и на свободе. Но что же делать дальше? Домой путь заказан. У него есть, правда, сердобольная тетка, которая любит его до безумия; да и живет она тут же неподалеку… Решено: Анри отправится к тетке, а там — будь что будет!..
Пройдет время — и Анри Сен-Симон устыдится своего поступка. Устыдится настолько, что никогда более на протяжении всей своей жизни не вспомнит о нем. И ему будет в глубине души немного жаль отца, так разочарованного в своих ожиданиях: ведь мальчик любил графа Бальтазара, любил со всей страстностью детской души.
Но сегодня его обуревают другие чувства. Он горд, он счастлив. Тринадцатилетний ребенок, он чувствует, что стал настоящим мужчиной. И теперь он знает, знает так же твердо, как заповеди мэтра Даламбера: нет такой силы, которая могла бы сломить мужественного человека, если он уверен в своей правоте!
ГЛАВА 4 «ВАС ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА!»
«Вставайте, граф, вас ждут великие дела!»
Есть ли более затрепанная, замусоленная и выхолощенная фраза! Всякий, кто даже не знает о Сен-Симоне ровно ничего, эти-то уж слова знает наверняка. И всякий помнит, что именно такими словами будил Анри Сен-Симона в его юношеские годы камердинер, которому молодой граф приказал это делать ежедневно.
Каждое слишком общее место вызывает реакцию. И ныне историк,[6] любящий Сен-Симона как свое детище, утверждает даже, дабы похоронить банальность, будто фраза эта вообще никогда не произносилась.
Вряд ли нужен подобный скепсис. Фраза вполне в духе Анри Сен-Симона. И она как нельзя лучше отражает настроение, преобладавшее у юноши со времени первой в его жизни победы. Настроение, соответствовавшее целому этапу его биографии.
Трудно сказать, долго ли неистовствовал граф Бальтазар. Но в конце концов он все же смирился. Сердобольная тетка, видимо, хорошо сыграла свою роль. И вот блудный сын снова вернулся в лоно семьи. Правда, как явствует из более поздних писем, примирение не было полным. Что-то осталось в сердце графа Бальтазара. Что-то, чего он не смог ни забыть, ни простить. Осталось навсегда…
Занятия Анри шли своим чередом, но он интересовался ими все меньше и меньше. Мэтр Даламбер ушел. А остальные… О них лучше и не вспоминать. С завистью смотрел Анри на своего младшего брата, которого поместили в Аркурский коллеж: там хоть на что-то можно было рассчитывать…
Чем меньше внимания обращает Анри на своих учителей, тем больше он погружается в свои мысли, чувства, переживания. После бегства из Сен-Лазара он вдруг как-то уверовал в себя. Он не сомневался больше, что ему действительно предстоит совершить великие дела… Где? Когда? Каким образом? Этого он пока не знает. Но он уверен, что это будет, будет обязательно.
Теперь, потеряв Даламбера, Анри ищет нового наставника. Издали он все более внимательно присматривается к другому знаменитому философу, автору «Новой Элоизы», «Эмиля» и «Общественного договора».
Жан-Жак Руссо, вечный путник, готовился к своему последнему путешествию. Он был стар, болен, утомлен и разбит. Он сказал человечеству все, что мог и хотел сказать. Он познал и равнодушие, и ненависть, и почитание, и любовь. Теперь, доживая дни свои в тихом Эрменонвиле, на иждивении своего именитого почитателя, маркиза де Жирардена, бедный «савойский викарий» хотел одного: чтобы его оставили в покое, оставили наедине с природой, с тенистыми аллеями и заросшими беседками, с прозрачным озером и милым сердцу островом тополей.
Но это оказалось недостижимым. В последние два года жизни философа к нему, в Эрменонвиль, началось настоящее паломничество. Причем парадокс: если жил он милостью аристократа, то и паломниками были в основном аристократы, то есть те, кого Руссо презирал всю жизнь!..
Вероятно, он был мало обрадован, когда однажды утром увидел идущего навстречу юношу с гордо посаженной головой, красиво очерченным носом и большими выразительными глазами.
— Граф Анри-Клод де Сен-Симон, — представился юноша.
«Еще один фрондирующий граф», — должно быть, подумал Руссо, протягивая пришельцу высохшую старческую руку.
Любопытное совпадение. Именно в это время, быть может, тем же летом, быть может, за день или день спустя, в Эрменонвиль явился другой юноша, почти ровесник Анри, происходивший почти из одной с ним провинции. Худощавый и светловолосый, он назвался студентом Сорбонны Максимилианом Робеспьером.
К философу он явился за тем же, что и Сен-Симон.
Эти двое, чуть не встретившиеся в парке Эрменонвиля, не встретятся никогда. Тем не менее дороги их пересекутся. Робеспьер, став вождем Великой французской революции, окажет косвенное влияние на жизнь, судьбу и взгляды родоначальника утопического социализма.
Как принял каждого из них почитавшийся ими Жан-Жак, остается неизвестным. Но, по-видимому, возвращаясь в Париж, каждый унес с собой то, что искал.
Робеспьер — уверенность в близкой революции.
Сен-Симон — новые взгляды на природу и сущность человеческого общества.
Если мы не знаем точного содержания беседы Сен-Симона и Руссо, то вполне можем догадываться о ее характере.
Анри пришел к знаменитому философу, имея определенную цель. К этому времени он был знаком с основными сочинениями Руссо. Многое о его взглядах он слышал и от Даламбера. И вот теперь юноша хотел уточнить то, что прочитал в книгах и узнал со стороны. Ему было важно получить четкий ответ от самого философа на вопросы, волновавшие с детства.
И этот ответ он, без сомнения, получил.
После разговора с Руссо Анри смог глубже понять содержание его трактатов и лучше разобраться в проблемах, которые эти трактаты ставили перед современным обществом.
Так вот оно, оказывается, в чем дело!..
Два мира, к которым давно присматривался Анри, мир господ и мир тружеников, когда-то действительно были одним целым. Когда-то, очень давно, существовало естественное равенство: земля не принадлежала никому, а плоды ее — всем. Но потом жадные и жестокие начали захватывать общее достояние. Они установили частоколы и огородили свои участки. И постепенно естественное равенство сменилось искусственным неравенством, которое росло и ширилось по мере развития цивилизации, покуда не достигло нынешних пределов…
Руссо досказал Анри то, о чем избегал говорить Даламбер. Теперь наконец все становилось на свои места… Впрочем, все ли?..
Нет, многое продолжало оставаться непонятным.
Непонятно, почему женевский философ произносит анафему современному обществу: ведь если, с одной стороны, это общество принесло неравенство, то с другой — оно дало такие материальные блага, о которых древние и помышлять не могли! Руссо зовет к природе, к естественному состоянию. Но что даст природа в ее «естественном состоянии», если над ней не потрудятся человеческие руки? Руссо утверждает, что теперь, когда противоречия зашли так далеко, возврат к социальному равенству, к «золотому веку», совершенно невозможен. Но почему же? Разве улучшение благосостояния общества, появление технических усовершенствований, развитие созидающей мысли — разве все это дает меньше оснований для единства и счастья людей, нежели скудость первозданного мира с его «естественным состоянием»? И не следует ли предположить, что подлинный «золотой век» находится не в прошлом, но в будущем?..
Многое продолжало оставаться непонятным.
Удивляло и то, что Руссо в отличие от Даламбера считал веру не «шестым чувством», практически совершенно бесполезным, но чем-то очень важным, необходимым, органически присущим человеку. Правда, вера «савойского викария» имела весьма мало общего с верой католических попов.
Над всем этим надо было еще думать, думать и думать. А главное — внимательнее наблюдать подлинную жизнь. Наблюдать и действовать.
— Вставайте, граф, вас ждут великие дела!
Анри протер глаза, уселся на постели, но все еще не мог проснуться по-настоящему. В голове немного гудело. Вероятно, от выпитого вина… Ба! Вспомнил! Вчера были домашние проводы, а сегодня он едет в полк…
…Граф Бальтазар давно подумывал о том, чтобы пристроить своего старшего к государевой службе. Он надеялся, что армия отрезвит его и вытеснит из головы мальчишеские бредни, дисциплинирует и приучит к делу. Ждать приходилось только из-за возраста. 17 октября 1776 года Анри исполнилось 16 лет, а уже в январе следующего отец начал переговоры с военным министром о назначении. Юноша получил место младшего лейтенанта в Туренском пехотном полку, которым командовал его родственник, маркиз де Сен-Симон…
…Итак, на ближайшее время его судьба определилась. Прощай, отчий дом, побоку науки, долой метафизическую дребедень! Он будет военным, как его знаменитый предок Карл Великий, как его другой славный предок — герцог Сен-Симон. Здесь он найдет себя и совершит небывалые подвиги. Они ждут его!..
Пройдет время, и социолог Сен-Симон с отвращением отзовется о войне и военном ремесле. Но это будет мнение зрелого человека и философа. А пока юный граф, полный задора и необъятных жизненных сил, рвется к военной славе, подобно множеству таких же молодых дворян, считающих ратные успехи единственными, достойными их сословия.
Военная форма понравилась Анри и была ему к лицу. Но служба страшно разочаровала. Подвигами и не пахло, вместо этого нужно было торчать на плацу да следить за шагистикой; казенная квартира была тесной, провинциальный городок, в котором стоял полк, — маленьким и унылым. Попытался найти интересных людей — не нашел. Вспомнилась тюрьма Сен-Лазар. Стало так тошно, что хоть караул кричи.
Трудно сказать, до чего бы дошел молодой офицер, если бы вдруг не обнаружил простой истины: военная дисциплина была строгой только для рядовых. Что же касается дворян-офицеров, то им многое спускалось. В частности, объяснял ему более опытный товарищ, вовсе нет необходимости самому проводить учения. Это спокойно можно поручить капралу.
Когда Анри постиг сию нехитрую истину, он быстро вошел во вкус. Его неделями и месяцами не видели в полку. Вместо того чтобы являться на плац, он колесил по Франции, слушал сплетни в Версале, развлекался в Париже, а иногда навещал и отцовский замок Берни. Но он не просто вел рассеянный образ жизни, как его товарищи. Он наблюдал, словно вбирал в себя все, что видел, пытался уловить биение пульса страны, постичь современное общество во всех его проявлениях. Это молодому графу было абсолютно необходимо — ведь как-никак его ждали великие дела!..
Версаль… Сколько слышал о нем Анри от отца, сколько прочитал в мемуарах деда! Но при ближайшем рассмотрении город-дворец оказался и таким и не таким, как представлял себе юноша.
Собственно, внешне все было тем же, что и во времена «короля-солнца»: те же постройки и украшения, те же фонтаны и статуи, тот же парк. Но теперь здесь обитали новые господа, придававшие всему иной колорит, иную гамму оттенков.
При Людовике XVI, сменившем своего «многолюбимого» деда в 1774 году, весь старый ритуал бесследно исчез. Ушла в прошлое былая торжественность королевских «леве» и «куше». Новый монарх, двадцатитрехлетний неуклюжий толстяк, во время утренней церемонии почесывался и похлопывал себя по голому телу, дразнил придворных и хохотал при виде их смущения, боролся с лакеями и удирал от камердинера, пытавшегося застегнуть ему панталоны.
Кончилась эра всесильных фавориток. Людовик XVI абсолютно не интересовался посторонними женщинами, но зато оказался под каблуком собственной жены.
Марии-Антуанетте в то время едва минуло двадцать лет. Гордая и своенравная, находившаяся в расцвете красоты, королева неограниченно властвовала при дворе. По ее прихоти возводились дворцы и низлагались министры, ее любимцам выплачивались небывало щедрые пенсии и пожалования, всякий ее каприз исполнялся, едва лишь успев возникнуть.
Именно по капризу королевы был уволен в отставку Тюрго, один из самых прогрессивных деятелей начала нового царствования.
Произошло это почти на глазах Анри, в том самом году, когда он впервые появился при дворе.
Жак Тюрго, генеральный контролер финансов, был человеком незаурядным. Философ-экономист, автор ряда научных трудов и трактатов, он лучше других представлял себе существо происходившего во Франций. Понимая, что ослабить социальные конфликты, таившие страшную угрозу существующему строю, можно, лишь уменьшив неравенство сословий и установив более равномерное распределение налогов, Тюрго провел ряд важных реформ, которые, останься они в силе, могли бы способствовать развитию капитализма и сгладить многие противоречия.
— Не в руки короля я отдаю себя, а в руки честного человека, — сказал Тюрго Людовику XVI, приступая к реформам.
— И вы не будете обмануты, — ответил «честный человек».
Менее чем через два года, побуждаемый королевой, ставшей рупором придворной камарильи, монарх прогнал министра-реформатора.
Все преобразования были немедленно ликвидированы.
Двор ликовал. В день отставки Тюрго королю восторженно рукоплескали.
Но действительной героиней дня — дня, определившего долгие годы, — стала Мария-Антуанетта.
И с этого дня ее своеволие уже не знало границ.
Королева покровительствовала английским модам и английским манерам. Старинный этикет исчез вместе с величавыми камзолами и тяжелыми каретами прежнего двора; фрак и кабриолет стали такой же принадлежностью хорошего тона, как английские голубые обои и вечерний чай с ломтиками поджаренного хлеба.
Но уж совсем не по вине королевы вслед за модами из туманного Альбиона пришла эпидемия, омрачавшая жизнь светского общества несколько зим подряд. Осенью 1777 года почти весь Версаль кашлял и чихал, причем насморк сопровождался головной болью и лихорадочным состоянием. Больницы были переполнены, множество людей умерло, а врачи решительно не знали, что предпринять, и ограничивались советом не выходить из дому натощак. Болезнь эту называли фоллетом, инфлюэнцей или гриппом.
Грипп, впрочем, не нарушал новых распорядков. Балы сменялись театральными представлениями и пышными празднествами, во время которых придворные стремились предупредить друг друга в подражании и угождении своей новой властительнице.
Анри особенно поражала безумная роскошь дамских туалетов. Непомерные панье и кринолины теперь дополнялись сложнейшими прическами, на которые тратилось больше, чем на стол и экипаж. Аристократки вплетали в свои высокие парики не только огромные страусовые перья, но и декоративные снопы, деревья, горы, корабли, фантастических птиц и зверей. Рекорд побила герцогиня Лозен, явившаяся однажды ко двору с целым пейзажем на голове. Ее прическа изображала море, по которому плыла парусная яхта. У берега копошились утки, в которых прицеливался охотник. На вершине прически находился холм с ветряной мельницей, возле которой аббат любезничал с мельничихой. А у самого уха герцогини мельник вел на поводу осла.
Так как подобные прически вызывали ропот благонамеренных мамаш, то в помощь модницам были придуманы различные технические усовершенствования. Весьма широкое распространение получил, например, чепец «добрая матушка», который с помощью тайных пружин мог понижаться и повышаться в зависимости от обстоятельств.
Светские дамы, обремененные кринолинами и многоэтажными головными уборами, не пролезали в обычную дверь, а в карете бывали вынуждены стоять на коленях и низко опускать голову.
Людовик XVI ложился спать ровно в одиннадцать. Едва он удалялся в свои покои, королева и окружавшая ее молодежь выпархивали из Версаля. Причем так как всем хотелось избавиться от короля пораньше, то нередко даже переводили стрелки часов. Спешили в Париж — вековую обитель наслаждений.
Вечерняя столица сверкала всеми цветами радуги. Особенно ярко горели парк Пале-Ройяль, традиционное место любовных встреч, и Гранд-опера, где давались костюмированные балы. Перед подъездами многих домов были выставлены фонари особой формы: здесь всю ночь играли в азартные игры. Игорные салоны держали многие из знатных вельмож, имевшие от этого промысла большие доходы. Королева упивалась игрой. Она готова была играть в любой компании. Бросая на зеленое сукно по пятьсот луидоров за раз, она проигрывала баснословные суммы. Еще более увлекали королеву маскарады в Грандопера. Она любила, задрапировавшись цветным домино, смешаться с пестрой толпой и выслушивать пылкие признания случайных кавалеров, полагая, что сохраняет инкогнито. Конечно, Марию-Антуанетту всегда узнавали, хотя и тщательно скрывали это, и когда на следующий день в Версале она шепотом рассказывала о своих «тайных» похождениях, придворные прятали улыбки.
Молодые аристократы старались перещеголять свою королеву. Никогда еще разнузданность, спрятанная за этикеткой «любовь», не принимала столь широких размеров. Особенно прославились на поприще ночных похождений младший брат Людовика XVI, граф Артуа, хозяин Пале-Ройяля герцог Орлеанский и знаменитый парижский донжуан герцог Лозен. Победы Лозена исчислялись тысячами, причем он одинаково воздавал должное и хорошенькой белошвейке, и знатнейшей из придворных дам; как раз в это время он начинал входить в фавор у самой Марии-Антуанетты.
В Пале-Ройяле развлекались открыто. Герцог Орлеанский давал здесь свои знаменитые ужины, на которые приглашали наиболее красивых актрис и которые заканчивались дикими оргиями.
Так или иначе, ночью в Париже не скучали. Разумеется, не скучали те, кто был знатен, имел деньги и принадлежал к избранным.
Анри, пристроившись к свите королевы, нередко участвовал в вечерних налетах на столицу. Он повесничал не хуже других и мог бы много рассказать о своих маленьких победах.
Но значительно сильнее его занимало другое.
В Версале, в Париже и повсюду, где бы он ни был, Анри смотрел на окружающее совсем иными глазами, нем сотни его знатных сверстников.
Так же как и в годы детства, он постоянно видел два мира в одном. Наряду со старой Францией, описанной его дедом и лишь чуть-чуть изменившей свой облик, существовала и новая Франция, о которой ничего нельзя было прочитать в книгах, которая ускользала от внимания придворных мотыльков, но которая все более властно вторгалась в жизнь, требуя для себя все большего места под солнцем.
Ее Анри видел и слышал повсюду: скакал ли он по проселочной дороге, на глазах превращавшейся в широкое шоссе, сидел ли в придорожном трактире, внимая рассказу приказчика марсельской фирмы, плелся ли домой после бессонной ночи, удивляясь шуму «огневых машин» крупных столичных предприятий.
Новая Франция гордо выставляла напоказ свои достижения, мебельные и гобеленовые фабрики Парижа, хлопчатобумажные мастерские Руана и Гавра, шелкоткацкое производство Лиона, металлургические мануфактуры Эльзаса, Лотарингии и Арденн.
Она гордилась тем, что вслед за машинами, вывезенными из Англии, научилась создавать свои собственные, отечественные.
Она радовалась тому, что на ее крупных предприятиях трудились уже не сотни, но тысячи производителей.
Это была поистине новая поросль.
На суконной мануфактуре Ван-Робе работало свыше тысячи семисот человек.
На металлургических заводах Крезо, имевших несколько тысяч рабочих, были четыре доменные печи и два кузнечных горна.
На угольных шахтах компании Айзен, насчитывавших четыре тысячи рабочих, постоянно действовали двенадцать паровых машин.
Анри знал, что промышленные изделия занимали важное место в торговле страны. По официальным данным, на их долю приходилась, по крайней мере, половина всего экспорта Франции. Экспортировались сукна, полотно, шелк, парча, саржа, кружева, художественные вышивки, батист, чулки, шляпы, перчатки, веера, штофные обои, гобелены, часы, драгоценности, фигурная посуда, металлические изделия, бумага, книги, картины, мыло, свечи, зеркала, мебель и многое-многое другое.
Внешняя торговля Франции росла изо дня в день, и ее общий годовой объем давно уже перевалил за миллион ливров. Она вырастила такие города, как Бордо, Марсель, Гавр, Нант, ставшие главными портами вызова и крупнейшими судостроительными верфями. Она поставила Францию в шеренгу ведущих стран земного шара.
Новая Франция везде и повсюду, многообразно, всеми своими сторонами открывалась Анри в годы его военной службы или, точнее говоря, в годы его странствий.
И он ясно понял одно.
Новая Франция развивалась вопреки старой, старая же задерживала это развитие.
Новая строила, создавала, улучшала.
Старая под девизом «После нас — хоть потоп!» танцевала и веселилась, сжигала себя в вихре удовольствий, и все это за счет ограбления и унижения новой.
Новая стремилась вперед.
Старая всеми силами тянула назад.
Так что же делать ему, Анри де Сен-Симону, куда приложить свои юные руки, чему отдать свою беспокойную голову, на какой стезе совершить великие дела?
Происхождение, избранная профессия, семейные традиции, вереница предков от Карла Великого до графа Бальтазара — все это тащит назад — в Версаль, в круг блистательных царедворцев, в хоровод светских наслаждений, в старый, уютный и кажущийся таким незыблемым мир.
Прочитанные книги, любимые учителя во главе с Даламбером и Руссо, постоянные наблюдения, критические раздумья и, главное, сама жизнь — все это зовет вперед, к созидательному труду, к практической деятельности, полезной людям, многим тысячам людей, представляющих новую Францию.
Что же выбрать, на чем остановиться?
Окончательный выбор помогла сделать Американская война.
ГЛАВА 5 ЗА ОКЕАНОМ
Французская революция началась, как известно, в 1789 году. Но для некоторых французов она разразилась значительно раньше: за десять лет до этого.
Хронологически Анри Сен-Симон родился в 1760 году. Фактически же как личность, как человек с определенным кругом убеждений он появился лишь в 1783 году, в год своего отплытия из-за океана.
Американская война за независимость провела незримую грань в его психологии, морали и политических взглядах. То, что раньше манило, но было далеким и непрочным, теперь стало явью, непреложной истиной, закрепилось навеки.
«В Америке, — писал Сен-Симон впоследствии, — сражаясь за интересы промышленной свободы, я впервые проникся желанием видеть и в своем отечестве расцвет этого растения другого мира; с тех пор это желание господствует над всей моей мыслью».
4 июля 1776 года Континентальный конгресс провозгласил независимость тринадцати американских колоний, восставших против владычества Англии.
Однако американцы понимали, что, опираясь на одни собственные силы, они едва ли справятся со своим могущественным врагом. Поэтому еще до провозглашения независимости они послали во Францию своих тайных агентов для закупки оружия и зондажа политической обстановки.
Французское правительство не могло не испытывать удовлетворения в связи с происшедшими событиями. Англия была традиционной соперницей Франции. Незадолго до этого, в результате Семилетней войны, Франция оказалась вынужденной отдать британскому льву Канаду и территории в Ост-Индии. Теперь появлялась надежда на реванш.
Граф де Верженн, министр иностранных дел королевского правительства, обнадежил американцев. Однако, дав согласие на тайную помощь восставшим колониям, Верженн не спешил с прямым вмешательством Франции в войну: он предпочитал выждать, пока стороны основательно обессилят друг друга. Деликатную миссию сношений с американцами Верженн счел целесообразным переложить на лицо неофициальное — известного комедиографа Бомарше.
Искренний друг восставших колоний, Бомарше с большим энтузиазмом и искусством выполнял свою секретную миссию. «Ваши депутаты, — писал он конгрессу, — найдут во мне верного соратника, в моем доме — надежное убежище, в моих сундуках — деньги, а также полное содействие реализации своих заданий, будут ли они узаконенного или секретного свойства».
Помощь, полученная американскими колониями при содействии Бомарше, была огромна. Действуя от имени фиктивной фирмы «Горталес и К°», Бомарше за несколько лет переправил в Америку одежду для двадцати тысяч солдат, тридцать тысяч мушкетов, сто тонн пороха, свыше трехсот пушек, израсходовав на это более двадцати одного миллиона ливров.
Во Франции отнюдь не один Бомарше сочувствовал повстанцам. Известия о событиях в далекой Америке вызвали всеобщий восторг. Храбрость и стойкость «инсургентов» наэлектризовала умы, в особенности умы молодежи. Третье сословие Франции видело в возникавшей республике образец человеческого общества и преклонялось перед людьми, на практике осуществлявшими то, о чем мечтали передовые философы буржуазии.
Американская война захватила и значительную часть французского дворянства. Многие аристократы (таков парадокс!) открыто восхищались народом, восставшим против своего короля. Подавшие сигнал к восстанию бостонцы стали так популярны, что в великосветских салонах игру в вист заменили на игру в бостон.
Вскоре после принятия Декларации независимости молодой маркиз де Лафайет обратился к Людовику XVI с просьбой разрешить ему выезд в Америку. Король отказал, причем отказал дважды. Тогда Лафайет, не считаясь с волей монарха, снарядил на свой счет боевой корабль и вместе с добровольцами из дворян 20 апреля 1777 года покинул Францию.
Это была первая ласточка грядущей войны.
Лафайету восторженно аплодировали люди всех сословий.
После формального отделения колоний от Англии и объединения их в самостоятельное государство явилась возможность послать во Францию официального представителя Соединенных Штатов. Послом в Париж был назначен единственный американец, который стяжал европейскую известность. Это был человек разносторонних дарований, крупный ученый и политический деятель, доктор Вениамин Франклин. Он прибыл во Францию с несколькими друзьями в декабре 1776 года.
В Париже Франклин произвел фурор.
Поражались его энергии и моложавости, а еще больше — его костюму и манере держаться.
Франклин одевался, как простой земледелец-квакер.[7] Начисто отказавшись от пудреного парика, он носил шапку из куньего меха, которую никогда не снимал и которая спускалась на лоб почти до самых очков. Он был ровен в обращении, не отдавая предпочтения герцогу или министру перед простолюдином. Его домик в Пасси был открыт для всех.
В другое время столь странная фигура, вероятно, вызвала бы осуждение и смех, но теперь к нему отнеслись с восторженным почитанием. В салонах только и речи было что о Франклине. Стали носить платья, головные уборы, ткать материи «а-ля Франклин». Самые хорошенькие придворные дамы считали за честь поцеловать его, и он любезно позволял им это.
На пасху Франклин (хотя он был протестантом) приказал испечь тринадцать куличей, по числу Штатов, и угощал ими посетителей. Куличи имели громадный успех, за ними давились и, чтобы обладать кусочком, были готовы лезть в драку. Домик, снимаемый доктором, сделался местом паломничества; дорога в Пасси была постоянно запружена каретами — весь Париж стремился почтить знаменитого иностранца.
Граф Верженн, верный своей системе, продолжал затягивать переговоры. Но обойти внешне простодушного Франклина было нелегко. Приехав в Париж почти инкогнито, он держал себя с таким умением, что весьма скоро и вопреки жалобам английского посла был принят всеми министрами и вел с ними многообразные беседы. Он превосходно использовал настроение, царившее во Франции.
В декабре 1777 года в военных действиях наметился определенный перелом в пользу американцев. Чтобы нажать на французское правительство, американцы по совету Франклина вступили в мирные переговоры с Англией. Только после этого Верженн заявил, что король согласен начать переговоры о заключении франко-американского союза.
6 февраля 1778 года Франклин подписал два важных документа, определивших дальнейший ход событий. Это были договор о торговле и договор о союзе с Францией. Последний означал формальное вступление Франции в войну. Английский посол лорд Сторморн немедленно покинул Париж.
20 марта Франклин был официально принят при дворе. Ради такого торжественного случая старик согласился сбросить свое квакерское платье и нарядился в камзол из темно-красного бархата и белые чулки. Но парика, требуемого этикетом, доктор все же не надел. Волосы его были гладко зачесаны и распущены по плечам, на носу, как и всегда, красовались очки, а под мышкой он держал белую шляпу.
Франция ликовала. «Эта радость, — замечает Сегюр, — не могла бы быть сильнее, если бы дело шло о нашем собственном спасении».
Анри Сен-Симон одним из первых подал заявление, прося зачислить себя в экспедиционный корпус. Он гордо отказался от жалованья, подчеркивая, что столь святое дело не может быть оплачено деньгами…
В зрелом возрасте Сен-Симон напишет: «Американская война не интересовала меня сама по себе, но цели войны интересовали настолько, что я безропотно переносил все невзгоды».
Это писал мыслитель, смотря сквозь призму своих сложившихся убеждений. В юности все обстояло иначе. Все началось именно с «войны самой по себе», которая привлекла романтикой путешествий и подвигов, звала молодого офицера на путь славы, о котором он мечтал с детства, который, наконец, предоставлял безусловную возможность совершить долгожданные «великие дела».
В этом смысле Анри не был оригинален. Подобно ему, значительная часть молодых дворян, в том числе и аристократов, устремилась в Америку. Вслед за Лафайетом прошения подали виконт де Ноайль, граф де Сегюр, герцог Лозен, близкие родственники Анри барон и маркиз Сен-Симоны и многие другие.
Никто не предвидел, чем обернется война впоследствии, какой школой революции она станет для всех этих добровольцев, с какими идеями вернутся они из Америки.
Король и королева были ослеплены не в меньшей степени, чем другие. При встрече с Лафайетом, временно приехавшим с фронта, Мария-Антуанетта спросила:
— Ну как поживают наши добрые друзья, наши милые республиканцы?
И лишь младший брат короля, граф Прованский, более дальновидный, чем другие, не разделял общего настроения.
— Погодите, — ворчал он, — это вам даром не пройдет. Будете еще расплачиваться за ваших милых республиканцев и их порядки…
В эти же дни аббат Рейналь в своей книге «Революция в Америке» писал: «Европа устала страдать от тиранов. Она восстанавливает свои права. Отныне — или равенство, или война. Выбирайте. Все угнетенные народы имеют право восстать против своих угнетателей».
Французское министерство не выработало единого плана ведения войны, и действия его на первых порах были довольно бестолковы.
В то время как флот адмирала д’Эстена был брошен в Карибское море, маршал де Во группировал войска в районах Гавра и Сен-Мало, а граф д’Орвилье подготавливал в Бресте десантные суда для несостоявшейся высадки в Англию.
Верженн, продолжая свою дипломатическую игру, пытался втянуть в войну Испанию и Голландию. Мадридский двор вяло реагировал на все абстрактные посулы и, только когда ему был обещан Гибралтар, согласился вступить в союз. Впрочем, Испания слабо сочувствовала американцам, и от союза с ней последние выиграли столь же мало, как и французы.
Войну англичанам объявила и Голландия.
Между тем реальная помощь Вашингтону готовилась с сильным опозданием. Французские войска перебрасывались медленно, небольшими партиями.
Только весной 1779 года из Бреста отчалила главная армия, возглавляемая участником Семилетней войны, генералом Рошамбо. Армию эту, насчитывавшую шесть тысяч солдат, адмирал Терне доставил к Ньюпорту на острове Род-Айленд в первой половине июля.
Анри Сен-Симон отправился с одним из первых эшелонов.
Он оказался в числе пионеров.
Раньше других ступив на почву Америки, он раньше других познакомился с теми невероятными трудностями, которые пришлось преодолеть французам, прежде чем они смогли помочь своим американским союзникам.
Брест… В порту полная неразбериха. Несколько транспортных судов по вине капитанов столкнулись и дали течь.
Еще не вышли в море, а уже много больных. Трижды сигналили к отплытию, но как раз в это время офицеры и даже капитаны оказывались на берегу: привязанные к кабакам и случайным подругам, они ни за что не хотели проводить ночи на судах.
Наконец все готово. Но море слишком бурно, и конвойные суда, отплывшие первыми, возвращаются обратно в порт. Еще два дня вынужденной стоянки.
Анри с удивлением всматривается в новую жизнь.
Первое, что его поражает, — страшная недисциплинированность морских офицеров. Гордые и заносчивые, они презирают всех, кто не начал службу с гардемарина.
— Когда министр осмеливается прислать неподходящий приказ, — сказал как-то один из них, — мы не исполняем его и отсылаем обратно.
Офицеры разных флотов соперничают друг с другом. Брестские презрительно называют средиземноморцев «пресняками».
При этом многие из гордецов чудовищно невежественны. Один, рассматривая географическую карту, принимает Черное море за Средиземное; другой доказывает, что Тибр омывает стены Константинополя, и разуверить его в этом невозможно.
Для низших чинов жизнь на корабле невероятно тяжела. Скученные в трюмах по шестьсот-семьсот на одном судне, они едва могут двигаться. Они спят на гнилых подстилках, дышат зараженным воздухом и пьют ржавую воду, совершенно красную от долгого стояния. Их заедают паразиты. Фельдшер, который должен их лечить, не имеет самых распространенных лекарств…
Трижды в день Анри наблюдает их трапезу.
«Все эти плохо одетые, несчастные матросы собирались у шканцев, садились на палубу и получали в колодах, наподобие лошадиных, утром — жалкую порцию сухарей, которые иногда были просто несъедобны, и немного вина; в полдень — ту же скудную пищу с прибавлением куска солонины; вечером в пять часов — суп из бобов или кислой капусты…»
…Море, море и море. Ничего, кроме моря. Никаких встреч, никаких событий. Монотонная судовая жизнь. Лишь иногда с флагманского корабля слышатся звуки музыки; у адмирала — полковой оркестр, и он время от времени развлекает своих спутников…
…Месяц… Второй… Семьдесят два дня!.. Пропущены все намеченные сроки. Уж не сбились ли с пути?.. На кораблях давно нет ни припасов, ни воды; число больных увеличивается; все, кто держится на ногах, измучены до предела. И когда наконец на горизонте появляется полоска земли, в первый момент этому не верят. Она ничем не примечательна, эта полоска, но ведь это Америка!..
…Крики «ура!» летят со всех кораблей. При мысли о предстоящих победах люди оживают. К ним возвращаются одушевление и мужество, которые сейчас им будут нужны больше, чем когда бы то ни было.
Анри представлял себе Америку совсем иначе.
То, что он увидел, неприятно поражало. Ни девственных лесов, ни экзотики, ни благодатного климата. Вокруг малюсенького городка, имени которого он так и не запомнил, деревья вырублены на десятки лье. Под ногами — пыль, после первого дождя превратившаяся в непролазную грязь. Почти нестерпимая жара. Но главное — люди.
Если французы ждали от своих союзников восторженного приема, то они жестоко ошиблись. Их никто даже не вышел встречать. Улицы городка были пусты, в окнах — ни одного человека. У немногих жителей, попавшихся на пути, лица были пасмурны и неприветливы.
Лишь постепенно напряжение смягчилось.
Когда поселенцы поняли, что их не собираются грабить, а за маис, кур и свиней платят нормальные деньги, они повеселели и стали более общительными.
30 августа к генералу Рошамбо пришла депутация от одного из диких племен. Обычно туземцы не носили никакой одежды, но, отправляясь во французский лагерь, они надели парадные костюмы: рубашки, чулки и мокасины. Когда они вошли к генералу, то в знак уважения у каждого из них была обута только одна нога.
Их приняли наилучшим образом, чтобы расположить к себе и удержать от союза с англичанами. От имени французского короля им предложили подарки, состоявшие из одеяла и рубашки на брата, а затем пригласили к трапезе. Вначале дикари стеснялись, но мало-помалу успокоились и принялись за свои трубки. Чтобы они не опьянели, им давали вино, сильно разбавленное водой. Генерал велел подать самые изысканные блюда, находившиеся в распоряжении лагерной кухни.
Нравы и обычаи американцев поражали их французских друзей.
Во время одного приема американец спросил французского офицера, каким ремеслом занимается его отец.
Француз был озадачен, затем нашелся:
— Отец мой ничем не занимается, но мой дядя — маршал.
— Кузнец?[9] Ну что ж, это очень хорошая профессия. — И американец крепко пожал руку своему союзнику.
Рошамбо и Терне спешили на встречу с Вашингтоном. Ночью во время пути у их экипажа сломалось колесо. С большим трудом разыскали каретника, но он был болен лихорадкой и категорически отказался чинить.
— Даже если бы наполнили золотом мою шапку, я и тогда ничего не смог бы сделать для вас.
— Ну хорошо! — воскликнул Рошамбо. — Меня ждет генерал Вашингтон, и по вашей милости я пропущу свидание. На вас будет лежать ответственность перед родиной!
— Что же вы сразу этого не сказали? — отозвался каретник и спрыгнул с постели. — Если это дело общественное — я готов!
Все кругом казалось удивительным. Но заметили также, что жители Штатов крайне меркантильны и дорожат золотом больше, чем честью.
«Они неслыханно корыстолюбивы, — писал Ферзен в своем дневнике. — Деньги — их бог; добродетель, честь — все это ничего не стоит в сравнении с драгоценным металлом. Во всех торговых сделках они обходились с нами скорее как с врагами, чем как с друзьями…»
В тот момент, когда Сен-Симон прибыл в Америку, повстанцы переживали весьма критический период.
Победы вновь сменились поражениями.
Англичане разбили армию Вашингтона у Чарльстона и Саванны, после чего заняли Коннектикут и вторглись в Южную Каролину. Армия Рошамбо оказалась отрезанной и изолированной от основных американских сил, что обрекло ее на бездействие в течение целого года.
Усиливались внутренние затруднения.
Неограниченный выпуск бумажных денег привел к резкому падению их курса. В 1780 году курс доллара упал более чем в 40 раз по сравнению с 1776 годом. Возросшая спекуляция крайне ухудшила положение рабочих и фермеров. Солдатам по многу месяцев не выплачивали жалованья, их плохо кормили, не давали обмундирования. На этой почве вспыхнули восстания ополченцев в Пенсильвании и Нью-Джерси, с большим трудом усмиренные конгрессом. А тут еще вдруг обнаружилась измена генерала Арнольда, которому Вашингтон оказывал полное доверие. Выяснилось, что Арнольд передавал англичанам секретные документы, готовил мятеж в армии и сдачу важных стратегических пунктов на Гудзоне. После раскрытия заговора изменник с группой верных ему офицеров бежал, сжег Ричмонд и присоединился к англичанам в Коннектикуте.
Все это время Анри Сен-Симон, прикомандированный к штабу губернатора Антильских островов, маркиза Буйе, участвовал в разрозненных и малоэффективных морских операциях, базой которых была французская колония Сан-Доминго.[10]
«…Вы получили, вероятно, дорогой папа и друг, подробное описание нашей кампании от высадки у Капа[11] до прибытия в Форт-Ройяль.[12] Вы видели, сколь она была изнурительна и на суше и на море, но благодаря заботам, которые вы проявили о моем физическом воспитании, я перенес все превосходно и чувствую себя сейчас лучше, чем когда бы то ни было…
…При осаде Бристон-Хилла[13] мне дали малоприятное, но поучительное задание. Так как артиллерийский отряд не был достаточно велик, чтобы справиться со столь трудным делом, меня вместе со ста пятьюдесятью пехотинцами-канонирами прикрепили к нему. Я вместе с другими офицерами корпуса командовал батареями и нес довольно трудную вахту. Это позволило мне на протяжении осады находиться в тесном артиллерийском общении с господами англичанами; мне кажется даже, что я содействовал успешному завершению всего дела. Так как отчасти по обязанности, отчасти из любопытства я все дни и почти все ночи находился на линии огня, мои уши настолько привыкли к грохоту бомб и свисту пуль, что я перестал их замечать.
Отделался я очень легко — всего лишь несколькими контузиями при взрывах снарядов, о чем не стоит и говорить. Некоторые из моих товарищей по отряду не были столь счастливы: семь человек оказались убиты и девять — ранены…»
Письма юного офицера прекрасно рисуют его моральный облик. Теперь, в огне «святой» борьбы, он как бы стыдится своих прежних полудетских похождений и трат. Он остро переживает вынужденную материальную зависимость от графа Бальтазара — ведь он отказался от офицерского жалованья! — и пытается как-то ее обосновать и оправдать:
«…Я надеюсь, мой дорогой папа и друг, что порядок, в который я привел свои дела за последний год, поможет вам забыть безрассудства, некогда совершенные мною. Господин маркиз де Сен-Симон расскажет вам о моем поведении, которого он был свидетелем, и это побудит вас возвратить мне дружбу, утраченную отчасти в дни моей молодости; это для меня дороже всего на свете, и вы можете быть уверены, что впредь я не упущу ничего, что могло бы ее сохранить и усилить. Мои расходы, даже после того, как я упорядочил их, вероятно, кажутся вам очень значительными, я прекрасно понимаю это, но я знаю также ваш образ мыслей и то, что вы никогда не скупитесь на деньги, если речь идет о пользе ваших детей. Эта кампания очень поможет моей карьере, а следовательно, и карьере всех моих братьев, которых я люблю по-прежнему…»
Вместе с тем в письмах звучит боль нежного, любящего сердца, страдание чуткого юноши, оторванного от дома, забытого всеми, кто ему дорог…
«…30 января[14] господин де Водрейль присоединился к нашей эскадре. Он привез письма всем, и я был единственным в армии, не получившим ничего. Вы знаете, насколько это тяжело для сына, который больше всего желает заслужить имя вашего друга и который решил своим поведением заставить вас подарить ему свою дружбу. Если же некоторые глупости, некогда совершенные мною, окончательно лишили меня вашего уважения и угасили в вашем сердце отцовские чувства, которые, как мне известно, у вас всегда были, то убедите, по крайней мере, моих братьев и сестер относиться ко мне менее строго и извещать меня о вас и о нашей милой больной,[15] ухудшения состояния которой я очень боюсь…»
И снова, снова тот же мотив:
«…Возвратите же, умоляю вас, сыну, который любит вас столь нежно, ваши уважение и дружбу, и вы сделаете его счастливейшим из людей…»
Хотя армия Рошамбо и оказалась вынужденной несколько месяцев простоять в полном бездействии, ее присутствие в Наррангансетской бухте не было бесполезным. Она, так же как и сопровождавшая ее эскадра, сковывала силы англичан на севере и парализовала все их действия. Генерал Клинтон, возглавлявший северную группировку англичан, при вести о приближении войск Вашингтона подтянул свои тылы и фактически окопался в Нью-Йорке. Поэтому, когда лорд Корнуэлс, действовавший на юге, вступил в Виргинию, Клинтон не смог ему предоставить ни одного солдата. Надеясь обеспечить связь с севером по морю, Корнуэлс двинулся к виргинскому побережью и остановился у города Йорктауна.
Орлиный взор Вашингтона сразу разглядел слабое место врага. Стремясь блокировать армию независимости, англичане разбили свои силы надвое и сами шли в ловушку.
Проведя несколько отвлекающих демаршей против Клинтона, американский главнокомандующий вдруг резко изменил курс и пошел на сближение с французами.
12 июня 1781 года армия Рошамбо покинула Ньюпорт и, двигаясь быстрыми переходами, соединилась с американцами под Уайт-Плайнсом. Отсюда обе армии направились к Йорктауну. В то же время французский адмирал Граде вышел из Сан-Доминго, ведя за собой двенадцать линейных кораблей и три тысячи сухопутных войск под началом маркиза Сен-Симона. Вскоре он бросил якорь в Чизепикской бухте.
Окружение Йорктауна завершилось.
Эта смелая операция должна была решить исход всей войны.
Строго рассуждая, исход войны был решен давно.
Американцы были у себя дома и бились за свою свободу. И хотя они не имели должной военной выправки, хотя у них отсутствовала четкая субординация и часто хромала дисциплина, им были нипочем усталость и холод, лишения и болезни. Оборванные и голодные, американские солдаты, несмотря на частые поражения, с поистине непреоборимым упорством шли по следам врага.
Между тем ресурсы англичан иссякали. Накануне йорктаунской катастрофы Клинтон слезно молил министерство о присылке свежих сил. Кто знает, будь эти силы присланы, быть может, северный корпус сумел бы вовремя прийти на помощь южному.
Но министерство не прислало ни одного взвода. И поэтому Клинтон вынужден был сидеть в Нью-Йорке и наблюдать, как союзники загоняют в угол лорда Корнуэлса.
Нечего и говорить о том, сколь значительную роль сыграла помощь французов. Помощь эффективная и вовремя оказанная.
Осада Йорктауна началась в первых числах октября.
Генерал Корнуэлс обладал надежными средствами обороны. Почти весь город был окружен болотами. Его защищали покрытые палисадами окопы, кронверк и два редута, перед которыми было навалено множество мусорных куч.
Подойдя к городу, американские и французские части стали готовиться к штурму. Вверх и вниз по реке были прорыты траншеи, защищавшиеся артиллерийскими отрядами. Одним из таких отрядов командовал Анри Сен-Симон.
К этому времени Анри уже не был тем необстрелянным и полным боевого задора новичком, каким он ступил на почву Америки в 1779 году. За плечами его лежали почти три года войны. Он участвовал в нескольких морских сражениях, был ранен и отмечен командованием. И все же его боевое крещение в полном смысле слова произошло только теперь, под Йорктауном.
…С утра начался сущий ад. Сначала артиллерийская дуэль, в ходе которой Анри сразу же потерял четверых канониров. Затем атака.
Лорд Корнуэлс, понимая значение передовых траншей противника, решил уничтожить их любой ценой…
Атака была отбита.
Артиллеристы, четко выполняя команду своего начальника, шквальным огнем смяли и отбросили англичан. Но при этом лишились еще семерых человек.
В полдень в траншею Анри спрыгнул уполномоченный генерала Буйе. Он поздравил молодого офицера с победой и сказал, что сам Вашингтон обратил на него внимание. Но главное — впереди. Через два часа союзники начнут общую контратаку против редутов Йорктауна. Дело будет нелегким. Отряд Анри должен поддержать наступление и прикрыть его огнем своих батарей…
Это была самая трудная и кровавая часть операции.
Маркиз Сен-Симон, ответственный за наступление, изнемогал от лихорадки. Однако он приказал нести себя на носилках впереди колонны. Он был тяжело ранен. Раны получили многие из французских дворян. Много солдат полегло с той и с другой сторон…
…Никогда еще Анри не видел такого количества убитых. Era отряд потерял две трети своего состава — пятьдесят боевых товарищей, верных друзей, с которыми он много месяцев делил все трудности лагерной жизни, к которым привык, как к членам своей семьи!.. Пятьдесят жизней, которые могли бы дать столько полезного человечеству!..
Контратака завершилась успешно. Оба редута были заняты союзниками.
Этот день, 6 октября, Анри хорошо запомнил. И хотя он ни в чем не мог себя упрекнуть — порученное задание он выполнил блестяще, однако именно в этот день он испытал полное крушение своих прежних героических иллюзий и впервые почувствовал отвращение к войне…
Лорд Корнуэлс держался, пока рассчитывал на помощь.
Не получив ее, англичане потеряли последнюю надежду и предложили переговоры о сдаче.
19 октября Лозен в парадной форме, помахивая белым платком, поднялся на кронверк крепости.
Договорились быстро.
Гарнизон города продефилировал между двумя армиями с барабанным боем и оружием в руках; затем ружья были сложены в козлы, и к ним присоединились два десятка знамен.
На следующий день Рошамбо писал военному министру:
«Имею честь направить к вам герцога Лозена. Он принесет королю известие о сдаче лорда Корнуэлса и его корпуса… У нас восемь тысяч пленных, в том числе семь тысяч пехотинцев и восемьсот матросов; мы взяли также двести четырнадцать пушек, из них семьдесят пять чугунных, а также двадцать два знамени…»
Через несколько дней в Филадельфии главнокомандующий и конгресс производили смотр французской бригаде. Союзникам были оказаны большие почести. При пронесении каждого знамени все тринадцать конгрессменов снимали шляпы. Но особенно поразил французов сам Вашингтон.
«Все изобличало в нем республиканского героя, — писал Сегюр, — он внушал, а не предписывал уважение к себе. Он скромно избегал знаков почтения, которые ему оказывали; никто, однако, не умел лучше их принимать и на них отвечать. Он благожелательно и с вниманием выслушивал тех, кто говорил с ним, и выражение лица его отвечало еще раньше, чем голос…»
Произвели раздачу наград.
Анри Сен-Симон оказался в числе наиболее отмеченных. Вашингтон вынес ему и его отряду личную благодарность, а затем представил молодого офицера к высшей республиканской награде — ордену Цинцинната.
На этом для многих французов война окончилась. Корабли потянулись к родине. Аристократы-дворяне спешили домой. Одни из них просто соскучились по комфорту, придворным интригам и утонченным любовницам. Другим не терпелось поделиться с друзьями новыми мыслями, планами и настроениями. Третьи хотели действовать.
К ним принадлежал и Анри Сен-Симон, закончивший, по его мнению, все счеты с войной.
Он присоединился к флоту адмирала Грасса, отправлявшемуся на Сан-Доминго, с тем чтобы оттуда вернуться во Францию.
Но судьба сулила ему иное.
Из всех английских моряков адмирал Родни выделялся особенно неистовой яростью по отношению к французам. Обстоятельство это имело довольно своеобразную подоплеку.
Утверждают, будто есть люди, которые ненавидят сделавшего им добро. Если это наблюдение верно, то Родни принадлежал именно к данной категории.
В те дни, когда война еще не началась, но вот-вот должна была разразиться, Родни находился во Франции. Причем не по своей воле. Он сидел в долговой тюрьме.
Но вот в одной из английских газет появилась заметка, утверждавшая, что французы удерживают славного адмирала, боясь его военных дарований.
Маршал Бирон, возмущенный этим, поспешил в Версаль и попросил у короля разрешения уплатить долги Родни.
Разрешение было дано.
Маршал привез необходимую сумму и освободил Родни из тюрьмы, после чего тот получил возможность уехать в Англию. Вот тогда-то английский адмирал и возненавидел французов. С начала войны он бил их везде, где только мог найти: на Атлантике и у Гибралтара, возле восточного побережья Америки и в Карибском море.
Теперь, узнав, что сильный флот Грасса вышел в открытые воды, Родни во главе еще более сильного флота двинул ему наперерез.
У островов Святых противники встретились.
Развернулась битва, стоившая Грассу славы, а Сен-Симону — свободы.
Фрегат «Вилль-де-Пари» оказался в центре сражения.
Одна его мачта сбита, палуба забрызгана кровью.
Анри лихорадочно отдает распоряжения артиллеристам.
Люди валятся как снопы. Вот неприятельское ядро попадает в голову рядом стоящему канониру и раскалывает ее, словно орех. Прежде чем молодой офицер что-либо может понять, взрывная волна оглушает его и швыряет на палубу, а сверху наваливается мертвый артиллерист, заливая лицо командира кровью и мозгом…
…После короткого беспамятства Анри приходит в себя. Он все видит и слышит, но вот беда! Не может, как в кошмаре, шевельнуть ни рукой, ни ногой…
Сражение продолжается. Матросы очищают палубу, выбрасывая трупы за борт. Вот двое подходят к Сен-Симону и поднимают его. Еще секунда — и доблестный солдат Вашингтона отправится на закуску акулам…
Но нет. Судорожным, невероятным усилием он поднимает руку и проводит ею по голове. Это его спасает. Видя, что командир жив, матросы уносят его в трюм.
Пока его тащат, он лихорадочно думает: только что, проведя рукой по голове, он ясно осязал свой вытекший мозг! И он жив еще! Бедняга не догадывается, что то был мозг его убитого подчиненного…
Вместе со всем экипажем «Вилль-де-Пари» Анри попадает в плен к англичанам.
Итак, плен. Плен после того, как пройдена вся война, под самый занавес, почти у порога дома.
Пленных доставляют на Ямайку. Ничего хорошего на этом цветущем острове их, разумеется, не ожидает. Правда, с офицерами обращаются лучше, чем с рядовыми: их не заковывают в цепи и даже кормят чем-то почти съедобным.
Во время перегона в лагерь Анри, полный своих мыслей, машинально остановил взгляд на затылке проходившего мимо офицера. Англичанин почувствовал, обернулся. Глаза встретились с глазами…
Боже, как тесен мир! И — отныне Анри верит в это — он родился не иначе как под счастливой звездой…
…Несколько месяцев назад солдаты его полка захватили англичанина-лазутчика. Это был ровесник Сен-Симона, молодой человек с твердой поступью и приятным лицом. Ни один мускул не дрогнул на этом лице, когда военно-полевой суд приговорил шпиона к расстрелу. Анри, пораженный хладнокровием и мужеством врага, почему-то не поверил в его вину и почувствовал к нему безотчетную симпатию. Всего за несколько часов до приведения приговора в исполнение он сумел выхлопотать у генерала Буйе отсрочку…
Отсрочка означала жизнь. Вскоре положение на фронтах изменилось, и молодой англичанин был выпущен на свободу под честное слово. И вот теперь, при столь необычных обстоятельствах, Сен-Симон снова встретился с ним…
Англичанин занимал довольно важный пост на Ямайке. Он тотчас же взял Анри на поруки и поместил его в своем доме. Декорации изменились. Французскому офицеру вернули оружие, он был окружен любовью и заботами. У хозяина Анри была очень милая жена, которая сумела внести долю романтики в почетный плен Сен-Симона. Вероятно, он стал уже забывать о своем положении, когда вдруг пришла долгожданная весть.
30 сентября 1782 года был подписан мир, по которому Англия признала независимость Соединенных Штатов.
Вскоре Анри Сен-Симон был свободен и мог располагать своею персоной по собственному усмотрению.
Много времени спустя, на родине, он подводил итоги своим американским делам и впечатлениям.
Он пробыл в Америке с 1779 по 1783 год, участвовал в пяти кампаниях, девяти морских сражениях, был дважды ранен.
Но главное не в этом.
Он увидел и познал другой мир, мир, совершенно отличный от всего, что окружало его с детства, что было знакомо ему в старой Франции.
Мир, чем-то похожий на новую Францию и все же очень отличный от нее.
Сен-Симон будет несколько идеализировать этот мир, подгоняя действительное под желаемое.
Он преувеличит религиозную терпимость Америки, забывая об «охоте на ведьм» и салемских кострах.
Он станет излишне восторгаться социальной и политической однородностью американцев, забывая об имущественном неравенстве и о рабстве негров.[16]
Все это естественно: социологу будет нужен некий идеал, образец, которому должно следовать во всем.
Но он никогда не забудет тех реальных людей, с которыми ночевал под одной крышей, и ту действительную обстановку, в которой приходилось жить и сражаться.
Да, они были удивительны, эти люди. Они многого совершенно не знали и не могли уразуметь. Они не понимали, что такое «податное сословие», к чему сводятся «сеньориальные повинности» и за что выплачивают «пенсии во внимание к древности рода».
Им были неведомы королевские «летр-де-каше», книжная цензура и исправительные дома для дворянских сынков.
Они жили в неуклюжих домах и плохо сколоченных хижинах, разбросанных по необозримым степям, носили простую одежду, почти одинаковую у богача и у рядового колониста, имели неотесанный, провинциальный вид.
Они не отличались начитанностью и хорошим вкусом, эти твердолобые, пахнущие потом фермеры: библия была их настольной книгой, и верили они в нее столь же твердо, как и в священное право частной собственности.
Но зато они крепко держались за те принципы, которые необходимы для их бытия. Они желали иметь самоуправление, беспрепятственно торговать, поменьше платить казне и побольше получать с покупателя, они полагали, что каждый человек стоит столько, сколько может заработать.
И они строили. Непрерывно строили, не зная помех и препятствий средневековых регламентов старой Европы. Сен-Симон удивлялся: давно ли все промышленные товары были здесь привозные, а теперь работали и ткацкие мануфактуры, и гвоздильные заводы, и металлургические предприятия.
— Мы скоро вас обгоним, мистер Сен-Симон, — не раз говорили янки, хитро подмигивая.
И он знал, что это правда.
И все чаще задумывался над тем, как претворить увиденное в жизнь у себя на родине.
ГЛАВА 6 КАНАЛ
Впрочем, если читатель думает, что, получив свободу, Анри поспешил на родину, он глубоко ошибается.
В дни плена все перечувствованное стало приносить первые плоды. И двадцатитрехлетним Сен-Симоном овладела жажда. Необыкновенная жажда деятельности. Среди различных соображений и планов его особенно захватил некий проект. Для попытки реализации этого проекта, прежде чем попасть во Францию, пришлось сделать крюк в несколько тысяч километров.
Путь Сен-Симона лежал в Мексику.
В начале 1783 года он без особых приключений высадился в Вера-крусе и оттуда направился в столицу вице-королевства.
Проект родился еще во время войны.
Постоянно находясь в разъездах и присматриваясь к жизни Штатов, Анри уловил одно на первый взгляд неприметное обстоятельство.
Между восточным и западным побережьем Северной Америки совершенно отсутствовала связь. Внутренние районы страны, покрытые лесами и болотами, были непроходимы. Сейчас это, правда, мало кого интересовало. Западные районы Америки принадлежали Испании, и отсутствие налаженных путей между востоком и западом не было проблемой дня.
Но если смотреть в будущее…
Конечно, можно было бы использовать море.
Море… Его-то Сен-Симон особенно хорошо знал. И видел все возможности перебросок по воде: они были ограничены узкими пределами Карибского моря — дальше мешала суша. Дальше шли глухие районы Центральной Америки…
Как же быть?..
Пытливый ум молодого офицера деятельно заработал. Используя перерыв в военных действиях, он взялся за книги и атласы. И вскоре нашел решение.
…Чтобы попасть из Атлантического океана в Тихий, корабль должен пройти многие тысячи лье. От Канарских островов он круто поворачивает на юг, бесконечно долго каботажит вдоль Бразилии и Патагонского побережья, пока не открывается пролив у Огненной Земли. Пролив чудовищно труден, и одолеть его можно лишь с помощью опытных лоцманов. Затем надо брать резко на север и северо-запад и снова терять время — долгие месяцы, а то и годы, прежде чем удастся достигнуть ближайшей промежуточной стоянки на Филиппинах.
Этот путь открыл в 1519–1521 годах великий португалец Магеллан, в честь которого пролив и получил свое имя. Через пятьдесят лет подвиг Магеллана повторил англичанин Дрейк. С тех пор путь освоен. И он хорош, пока нет надобности перевозить слишком часто и слишком большие грузы. Он хорош, пока не играет роли темп перевозок.
Но, находясь в Америке, Сен-Симон убедился, что темпы начинают бешено ускоряться. Теперь время — деньги. Американцы быстро пробираются к западному побережью своего континента, и, когда они его освоят, потребуются регулярные и оперативные морские рейсы. Путь Магеллана в этом случае никого уже не устроит.
Есть один и притом простой выход.
Надо прорыть канал.
Изучая на досуге географию Нового Света, Сен-Симон обнаружил, что на перешейке между Северной и Южной Америкой есть весьма узкие места. Когда-то испанец Бальбоа, перейдя через одно из таких мест, первым увидел Великий океан. Вот здесь-то и надо копать. Канал не будет особенно протяженным, затраты на его устройство с лихвой окупятся в ближайшее же время.
Так родилась идея Панамского канала.
Именно ею Сен-Симон рассчитывал заинтересовать мексиканское правительство, когда пустился в свое на первый взгляд столь неожиданное путешествие.
В то время Мексика под именем «Новой Испании» входила в состав обширной, но уже клонившейся к упадку империи. Бурбоны, сменившие в XVII веке Габсбургов на испанском престоле, смотрели на эту колонию как на самую крупную жемчужину в своей короне. Со времени Кортеса богатая страна подверглась безжалостному опустошению и разграблению. Ее коренные жители, лишенные своей самобытной культуры и подвергнутые насильственной христианизации, были оттеснены в пустыни севера, где влачили жалкое существование изгоев. Немногим лучше чувствовали себя метисы — безземельные крестьяне и пастухи — пеоны. Зато гачупины[17] и креолы,[18] владельцы огромных гасиенд, богатых рудников и высокооплачиваемых должностей, проводили время в сладостной лени и любовных похождениях, занимаясь также азартной игрой, корридой и петушиными боями.
Если бы Анри искал экзотики, отсутствие которой так поразило его в Штатах, он бы нашел ее здесь в избытке. Уже на пути в Мехико он повидал столько, что позднее мог рассказывать годами.
…Справа и слева тянутся далекие силуэты гор, наверху нестерпимо голубое небо, а впереди быстро, как в сказке, сменяются ландшафты: пампасы, бурные заросли кустарника, кактусы, пальмы, агавы, потом селения…
…Шумные индейские рынки. Крикливо раскрашенные кабачки. Белые или красные домики с уютными внутренними дворами — патио, засаженными розами и апельсиновыми деревьями. И музыка. Всюду музыка и песни…
На улицах городов певцы играли на маримбос[19] и распевали кантилены[20] в честь популярных героев. По вечерам в деревнях ранчерос и пеоны импровизировали стихи, подбирая к ним мелодии на гитаре.
Кругом, куда ни глянь, — танцы, краски и цветы.
Но экзотика ныне не привлекала Сен-Симона. Его мысли и чувства целиком были заняты проектом канала.
Казалось, время для осуществления своего замысла он выбрал удачно.
Удачно по двум соображениям.
Во-первых, Испания была союзницей Франции в минувшей войне. Поэтому блестящий французский офицер, представитель знатного рода, в котором имелись испанские гранды, никак не мог оказаться персоной нон грата при дворе вице-короля; его должны были выслушать внимательно и благосклонно.
Во-вторых, именно в это время весьма благоприятно складывалась общая социально-экономическая конъюнктура. Карлос III Испанский (1759–1788), увлеченный теориями французских физиократов, провел реформы, ставившие целью поднять производство Мексики. Новый вице-король, Ревилья Хихедо, в соответствии с этой политикой несколько упростил правительственный аппарат, ослабил монополии богатых гачупинов, отменил таможенные тарифы, что создавало благоприятные условия для участия Мексики в международной торговле.
Разве в подобных условиях проект канала не дополнял все эти начинания?..
Город Мехико, резиденция вице-королей и главный центр роскоши и изящества креолов, понравился Анри и даже чем-то напомнил ему далекий Париж.
Главную площадь города окаймляли величественный собор, дворец вице-короля и ратуша. К западу, мимо монастыря святого Франциска, тянулась широкая улица Калье-де-Платерос, ведшая к тополям, фонтанам и мощеным дорожкам предместья Аламеды, за которым простиралась обсаженная ивами магистральная дорога Пасео.
Каждый день примерно в пять часов от Пасео к Калье-де-Платерос двигались кареты богатых дам, одетых в китайские шелка. Их окружали всадники, чьи лошади были украшены уздечками и седлами, тяжелыми от серебра, и кожаными попонами с серебряными колокольчиками. На кавалерах были широкие сомбреро, шелковые камзолы с золотым шитьем, зеленые или синие панталоны, отделанные серебряными пуговицами, и огромные серебряные шпоры.
Вечером, сменив весь костюм, дамы и кавалеры встречались в театре или танцевали на маскараде, куда красотки являлись в желтых, голубых и пурпурных нарядах, или же проводили время в игорных домах. В квартале Тлалпаме богатые креолки, сидя рядом с нищими и ворами, ставили на карту кучу серебра и расходились после рассвета.
В целом в мексиканской столице человеку со средствами можно было развлечься не хуже, чем в столице французской.
Но все это весьма мало устраивало Сен-Симона. С деньгами у него было довольно туго, да и развлечений он не искал. А вот с делом, которое его волновало, все оказалось много сложнее, нежели он предполагал.
Даже после реформ Карлоса III административный аппарат Новой Испании оставался достаточно громоздким. В этом Анри убедился сразу по прибытии в Мехико. Прорваться на прием к вице-королю оказалось не просто. Несколько дней ушли лишь на то, чтобы установить, с какого конца надо действовать. Бесконечные камеры, аудиенсии, кабильдос, к которым обращался проситель, ожидали взяток и тянули, ограничиваясь неопределенными обещаниями. Взяток Сен-Симон не давал и наконец, потеряв терпение, стал ломиться во дворец, минуя все промежуточные звенья.
Тогда он был принят.
Дон Ревилья Хихедо, высокий сутуловатый вельможа с бледным лицом, слушал, не перебивая и не задавая вопросов. Потом долго молчал. Когда он наконец начал говорить, Сен-Симон сразу понял, что дело проиграно.
Испанец кратко обрисовал общее положение Мексики. Оно оказывалось вовсе не таким блестящим, как можно было судить по серебряным пуговицам и шпорам кабальерос. Со времени завоевания гачупинам приходилось вести постоянную борьбу с внутренними и внешними врагами.
Главную опасность представляли леперос — бедняки, которых в одних лишь трущобах столицы насчитывалось свыше двадцати тысяч. Эти люди организовывали в горах разбойничьи банды и держали под прицелом все дороги страны. Из них выходили и легендарные герои, о которых рассказывали, будто они грабят богачей, чтобы щедро одарять пеонов и мелких ранчерос. Сейчас против бандитов организована новая полиция — акордада, которой дано право распинать на крестах всех попавшихся к ней в руки, но и эта жестокая мера пока не приносит должных результатов…
Хуже всего, что даже на креолов правительство в полной мере рассчитывать не может. Эти ленивые господа тоже мечтают о независимости и в своем кругу свято чтят память братьев Авила, некогда обезглавленных за антииспанский заговор.
Если прибавить, что стране постоянно угрожают иноземцы, что англичане организуют пиратские набеги и месяцами держат в осаде многие прибрежные города, что янки, подбирающиеся с севера, отнюдь не проявляют дружелюбия (из уважения к посетителю дон Ревилья ничего не сказал о французах), то можно составить примерное представление о трудностях, стоящих перед правительством, трудностях, которые поглощают все средства Новой Испании и не оставляют ни пезо для рискованных авантюр…
Сановник выразительно помолчал.
Что же касается торговли, то ей в ее настоящем и ближайшем будущем не потребуется ни новых путей, ни новых каналов. Она вполне обеспечена тем, что есть. А заботиться о нуждах янки — вице-король криво усмехнулся — Испания не станет. Достаточно того, что она помогла им в прошедшей войне. О своих экономических интересах пусть думают сами…
Сен-Симон не стал спорить и доказывать.
Да и что мог он доказать этому самоуверенному гранду?
Ведь по-своему гранд был совершенно прав…
Юноша оплакивал несбывшуюся мечту и не догадывался, что опередил свою эпоху ровно на сто лет. Эти сто лет его идее пришлось дожидаться, пока запросы времени не вызвали ее к жизни.
Современный ученый,[21] подробно разбирая историю с каналом, называет ее «чистейшей фантазией», «одной из причуд скучающего барина». Оказывается, в своем проекте Сен-Симон не учитывал конкретных условий: он хотел использовать для канала русла несуществующих рек…
С этим никто не станет спорить. Разумеется, Сен-Симон мало представлял себе реальные условия прорытия канала; понятно, он не измерял уровня океанов и никогда не видел своими глазами того места перешейка, где предлагал начать работы, а старые атласы, которыми он пользовался, пестрели изображениями несуществующих рек.
Однако что же из этого?
Да, несомненно, он был фантазером. Сейчас и всю жизнь.
Но разве в каждой из его фантазий не содержалось зерно истины? И разве не гениальнейшая из фантазий обеспечила бессмертие его имени?..
Опечаленный, но не обескураженный, молодой офицер тут же покинул Мексику и Новый Свет.
Отныне ему предстояло жить и действовать только в Старом.
ГЛАВА 7 НАКАНУНЕ
Отчизна встретила странника неласково: он вернулся на пепелище.
Родного гнезда больше не существовало.
Граф Бальтазар умер как раз в те дни, когда Анри посылал ему свои прочувствованные письма, ответа на которые так и не дождался. Мать переехала в Перонну, где у нее был небольшой домик. Братья и сестры разлетелись по разным местам.
Анри, как старший, должен был унаследовать титулы и земли отца.
Титул был налицо, а вот земли… земель не оказалось.
Не было больше величавого замка Берни.
Не было деревни Фальви.
Не было сеньории Флокур.
Не было ничего.
Все слопали кредиторы.
Наследник остался без наследства. Потомственный аристократ вынужден был отныне жить только на свое офицерское жалованье.
Итак, здравствуй, казарма… Опять все старое, так хорошо знакомое: маленький провинциальный городишко, скука, плац и муштра, бесконечная, бессмысленная муштра…
Кое-что, правда, изменилось в лучшую сторону: Американская война выделила его из толпы — он стал помощником командира Аквитанского полка и получил чин полковника. Его отмечали. В 1784 году инспектор армии Шастлу написал против его имени: «Хороший офицер». Два года спустя характеристика выглядела еще более лестной: «Обнаруживает много усердия и ума». Дело не ограничивалось словами. Если поначалу его жалованье равнялось тысяче пятистам ливров в год, то теперь подбросили еще тысячу, не считая единовременных наградных. Но самое главное, пожалуй, что он наконец обнаружил кое-кого из интересных людей, которых раньше никак не удавалось найти.
Полк стоял в Мезьере. А в Мезьере издавна функционировала военно-инженерная школа, в которой лекции по математике и физике читал профессор Монж.
Выходец из городских низов, сын простого уличного разносчика, Гаспар Монж был прирожденным гением. В возрасте шестнадцати лет с помощью изобретенных им измерительных инструментов он составил точный план родного города Бонна. Уже преподавая в Мезьере, он написал свой важнейший труд — «Начертательную геометрию», которая так поразила начальника школы, что тот даже запретил ее издавать.
В 1780 году Монж был избран во Французскую академию.
Когда Анри прибыл в Мезьер, Монж как раз заканчивал свои опыты, в ходе которых независимо от Кавендиша[22] добился разложения воды.
Такой человек не мог не заинтересовать жадного к знаниям Сен-Симона. Юноша стал посещать военно-инженерную школу и, невзирая на свои полковничьи эполеты, сел за парту. Его пленил этот ученый с некрасивым мужицким лицом, которое так преображалось во время чтения лекций.
Вскоре Анри сблизился с Монжем.
К сожалению, период их дружбы оказался недолгим: после 1783 года, призываемый своими академическими обязанностями, Монж покинул Мезьер и окончательно переехал в Париж.
С этого дня маленький городок потерял в глазах Сен-Симона единственное, что скрашивало будни провинциальной военной службы.
И Анри стал тяготиться ею сильней, чем когда бы то ни было.
Если большую часть года он проводил в Мезьере, то зима обычно призывала в Версаль, где молодой полковник должен был дежурить при дворе. За годы отсутствия Сен Симона в Версале ничто не изменилось. С еще большей очевидностью проявлялись неспособность и слабоволие короля, еще сильнее били в глаза самовластность и взбалмошность королевы.
Вокруг Марии-Антуанетты образовался интимный кружок, душой которого стала ее любимица, графиня Жюли де Полиньяк. Эта расчетливая и алчная хищница не только обеспечила всю свою родню за счет государственной казны, но и распоряжалась министерскими креслами, точно мебелью в собственном особняке. По ее указке на посту министра финансов бережливый Неккер был заменен легкомысленным Калонном, в правление которого Франция оказалась на краю банкротства.
Новый министр предложил весьма своеобразную систему. Для того чтобы добывать деньги, говорил он, нужен кредит; чтобы иметь кредит, нужно прикинуться богатым, а чтобы выглядеть богатым, нужно много тратить.
Разумеется, тратить было легче всего, и двор с восторгом одобрил систему Калонна. Пенсии знати стали удваиваться и утраиваться. По случаю рождения дофина король подарил королеве Сен-Клу, а себе — Рамбуйе, затратив на оба дворца около тридцати миллионов ливров. Калонн, преподнося знатным дамам конфеты, заворачивал их в банкноты крупного достоинства и между делом прикарманил двадцать две тысячи на покрытие собственных долгов.
А вот с кредитами и займами дело шло туго. Пытались надавить на провинциальные штаты, но встретили отпор. Пытались заинтересовать богатых финансистов, но встретили равнодушие. Пытались прибегнуть даже к палиативам, вроде переливки золотой монеты, но это вызвало общее озлобление и даже привело к бунтам.
Между тем общественное мнение было до предела взбудоражено «делом об ожерелье».
Кардинал де Роган, представитель могущественного дома Субизов, давно был неравнодушен к королеве. Несмотря на то, что он не только не встречал поощрения, но даже был в большой немилости, прелат, человек глупый и тщеславный, не терял надежды и ждал счастливого случая. И вот летом 1785 года, казалось, случай представился.
Мария-Антуанетта страстно любила драгоценности. Зная это, придворные ювелиры Бемер и Боссан предложили ей бриллиантовое ожерелье, не выкупленное одной зарубежной принцессой и стоившее миллион шестьсот тысяч ливров. Ожерелье это пленило воображение королевы, но недавние расходы и скудость казны заставили ее воздержаться от немедленной покупки и приостановить переговоры с ювелирами. Обо всем этом проведала ловкая авантюристка, некая госпожа Ламотт. Она обратилась к влюбленному кардиналу и уверила его, будто королева, не решаясь открыто приобрести ожерелье, мечтает о посредничестве, причем наилучшим посредником может стать он, Роган. Чтобы прелат удостоверился в истинности ее слов, Ламотт устроила ему несколько ночных свиданий с одной девицей легкого поведения, очень похожей на королеву. Легковерный вельможа был в восторге. Он купил ожерелье в кредит от имени королевы и вручил его авантюристке, немедленно превратившей драгоценности в деньги. Ювелиры, не дождавшись уплаты, отправились во дворец. Все раскрылось.
Король пришел в ярость. Мудрый Верженн советовал замять дело, заставив Рогана рассчитаться с ювелирами. Но королева, желая очиститься от подозрений, потребовала гласности, не отдавая себе отчета в том, чем может гласность для нее обернуться.
В день успения кардинал де Роган направлялся в дворцовую церковь, чтобы облечься там в архиепископское одеяние и служить в присутствии монаршей семьи. С полдороги его затребовали в королевский кабинет. Здесь в присутствии королевы и хранителя печати Людовик XVI допросил кардинала и отправил его в Бастилию. Одновременно были арестованы еще несколько человек, в том числе не успевшая скрыться Ламотт и находившийся в близких отношениях с кардиналом известный авантюрист и мистификатор Калиостро.
Суд оправдал Рогана. Зрители, присутствовавшие в зале, устроили овацию судьям, а народ, толпившийся на улице, приветствовал кардинала как героя.
Кардинал де Роган никогда не был любим народом. Но, демонстрируя свою радость, парижане разных сословий показывали, что осуждают монархию. И это всеобщее осуждение было еще более грозным симптомом краха, нежели дефицит государственного бюджета, которым завершилась эквилибристика Калонна.
Полковник Анри де Сен-Симон не мог более находиться в этой обстановке. Его томила жажда деятельности, деятельности разумной и плодотворной, а здесь… Здесь все рушилось и почва уходила из-под ног. Его товарищи по Американской войне забыли прежние мечты. Одни, ударившись в мистику, сделались клиентами Калиостро и Месмера,[23] другие бретерствовали, устраивая дуэли по каждому поводу и без повода, третьи замуровались в своих библиотеках или альковах.
А он, решив снова попытать счастья за рубежом, в конце 1785 года, даже не испросив отпуска, помчался вон из Франции. На этот раз путь Сен-Симона лежал в Объединенные Провинции Нидерландов.
Нидерланды были выбраны нашим героем далеко не случайно. Голландия была союзницей французов в прошедшей войне. Кроме того, ситуация, которая там сложилась, несколько напоминала недавнее положение в Америке.
Республика Голландия — первое в мире буржуазное государство — вырвалась из-под гнета феодализма и абсолютизма еще в XVI веке в результате победоносной революции. Но то состояние расцвета, в котором находились Нидерланды в течение столетия после завоевания свободы, давно уже кончилось. Давно уже Голландия перестала быть морским извозчиком Европы. Торговля незаметно приходила в упадок, а огромные состояния, накопленные частными лицами, распылялись в биржевой игре. Экономика страны больше не выдерживала конкуренции с английским капиталом, и прусский король Фридрих II имел все основания бросить фразу, ставшую крылатой: «Голландия — уже только лодка, плывущая за могучим кораблем».
Именно Англия играла роковую роль в событиях того периода, когда Сен-Симон прибыл в Нидерланды.
В стране назревала новая революция. Буржуазия, увлеченная либеральными идеями французских просветителей, вдохновленная провозглашением независимости Соединенных Штагов, выступила против штатгальтера[24] Вильгельма V, опиравшегося на Англию. Штатгальтер пытался окружить себя верными людьми и с помощью британского посла рассчитывал поднять мятеж против Генеральных штатов Нидерландов. Франция, естественно, тотчас же стала поддерживать голландских патриотов. Учитывая неминуемость в ближайшем будущем военных действий, французский посол по указанию Верженна стал формировать из своих соотечественников особый «батавский батальон».
В этих условиях полковник Сен-Симон оказался в Голландии как нельзя более кстати. Ибо дух Американской войны и ненависть к англичанам еще не выветрились в «солдате Вашингтона». И сражаться за свободу (хотя бы чужую) было много приятнее, чем прозябать в Мезьере или дожидаться последствий «дела об ожерелье» в Версале.
Прибыв в Гаагу, Анри сразу направился к французскому послу герцогу ля Вогюйону. Однако добраться до здания посольства оказалось не так-то просто. Улицы столицы Голландии были переполнены народом. Люди что-то горячо обсуждали, смеялись, кричали. Военная форма Сен-Симона привлекала благожелательное внимание прохожих, и на одной из площадей его едва не стали качать.
Герцог ля Вогюйон принял Анри как нельзя лучше. Дипломат школы Верженна, представитель знатного аристократического рода, он видел в молодом полковнике прежде всего человека своего круга.
Вогюйон объяснил причину оживления, царившего в Гааге. Только что Вильгельм V покинул столицу. Штатгальтер попытался поднять мятеж, а когда затея не удалась, решил уехать вместе с семьей в свой замок Лоо в Гельдерне. По существу, это было бегство. Патриоты торжествовали. Но маленькая деталь: перед отъездом жена штатгальтера, прусская принцесса Вильгельмина, имела длительную беседу с английским послом сэром Джемсом Гаррисом…
Вогюйон был весьма откровенен с Анри. Он сообщил, что подготовлен договор, который правительство Франции собирается в ближайшее время заключить с Генеральными штатами Нидерландов. Если договор будет заключен, война с Англией почти неизбежна. И вот тогда-то…
Прежде чем продолжать, Вогюйон пригласил своего гостя к обеду. Разговор был закончен после кофе, в маленьком кабинете посла, куда допускались лишь самые близкие люди.
…Да, в настоящее время это тайна. Тайна, из-за несоблюдения которой может провалиться все дело. Верженн принял решение: в случае войны будет отправлен экспедиционный корпус в Британскую Индию. Войсками командовать будет маркиз Буйе, прежний начальник Сен-Симона в Вест-Индской кампании. И поэтому, Вогюйон улыбнулся, сам бог велит господину полковнику принять участие в этой соблазнительной экспедиции. Пока же, если у него есть время, пусть займется разработкой деталей, связанных с будущим походом.
10 ноября 1785 года договор о союзе между Францией и Объединенными Провинциями был подписан. Революция быстро распространялась. Кроме собственно Голландии, она проникла в Гельдерн и Утрехт.
А полковник Сен-Симон снова засел за книги, атласы и статистические таблицы. Человек увлекающийся, он весь ушел в составление проекта. Внезапно проснулись порывы ранней юности. Охватила жажда неведомого: новых стран, новых людей, новых подвигов. Лихорадочно заработала фантазия. И вот проект с удивительной быстротой стал продвигаться вперед. Уже намечен общий маршрут, выявлены промежуточные стоянки, скалькулирована примерная смета. Анри Сен-Симон — мастер на все руки, и он делает гораздо больше, чем его просят.
И вдруг… все лопается как мыльный пузырь…
В то время когда герцог Вогюйон договаривался со своим новым компаньоном, он уже знал, что сам в Голландии не задержится. По правде говоря, Объединенные Провинции с их постоянными смутами страшно надоели дипломату — он провел в Голландии около десяти лет и считал себя достойным лучшего. Как раз в эти дни пришла долгожданная весть: Верженн удовлетворял его ходатайство о переводе на дипломатическую службу в Испанию, а в Гаагу направлялся новый посол маркиз Верак.
Герцог тепло попрощался с Сен-Симоном, надавал ему кучу советов, высказав ряд скептических замечаний о своем преемнике, и пригласил в будущем к себе, в Испанию.
С Вераком Анри не нашел общего языка. Человек простоватый и не очень далекий, новый посол никак не мог разобраться в обстановке. Ему не хватало умения и выдержки. Он пасовал перед своими политическими противниками. Между тем сэр Гаррис плел свою сеть весьма хитро. Проигравшие в Америке англичане не собирались отступать в Нидерландах. При этом они действовали настолько умело, что не давали повода к войне. С одной стороны, они всячески помогали штатгальтеру играть на социальных противоречиях различных слоев, входивших в патриотическую группу; и вскоре Вильгельму удалось перетянуть на свою сторону многих богатых буржуа. С другой — англичане явно пронюхали о затее французов и сделали все возможное для того, чтобы ее парализовать. Господин Верак своим неуклюжим поведением лишь ускорил провал.
Видя это, Анри разом остывает к задуманному делу. Он понимает: экспедиции не бывать. Да и на что ему эта экспедиция, ему, решившему посвятить себя полезной деятельности? А раз так — значит, нечего больше торчать в Голландии. Он не станет дожидаться окончательного разгрома патриотов. Пусть-ка покрутится теперь этот пень, господин Верак.
И Сен-Симон в 1786 году покидает Нидерланды.
Он снова на родине, но в Мезьер больше ехать не хочет. Да теперь в этом нет и нужды. Военный министр, узнав, что полковник Сен-Симон не заглядывает в свой полк, отдал приказ о назначении ему постоянного заместителя.
Итак, с ним церемонились, ему шли навстречу. Про себя Анри смеялся: чего же стоила вся королевская армия, если ее командиры могли свободно разлетаться по свету, точно птицы небесные!
Но и в Версале сидеть он больше не может. Ему опостылел двор, стали ненавистны сверстники-аристократы, занятые пустяками, словно не замечавшие грозных для них событий, надвигающихся с каждым днем.
Сен-Симон видит: страшный кризис зажал в тиски государство. Дефицит возрос до чудовищных размеров, угрожая полным банкротством. Калонн потерял былую самоуверенность. И, понимая, что его игра проиграна, вдруг предложил созвать нотаблей…
Анри вспоминает историю.
Последний раз нотаблей собирали сто пятьдесят лет назад! Но кто такие нотабли, чего они желают и что могут? Ведь это не представители населения страны. Это поименно приглашаемые королем знатные вельможи, лидеры судейской касты и наиболее богатые собственники! Что же в состоянии решить эти господа, когда речь идет об интересах всей нации? Не станет ли это одной из обычных представительных комедий, которым грош цена?..
Сен-Симон не верит в нотаблей.
А тут, во дворце, разыгрываются совсем другие «события».
В начале 1786 года высшее общество было потрясено двумя необычными дуэлями.
…Маркиз Куаньи подарил своей возлюбленной прелестного говорящего попугая; этот подарок, по мнению маркиза, должен был сильно подвинуть его сердечные дела. Но, к его несчастью, почти одновременно принц Монакский сделал той же особе другой подарок: он преподнес ей дивную обезьянку. И вот обезьяна, едва увидев попугая, так добросовестно его ощипала, что тот околел… Маркиз вызвал на поединок принца и был серьезно ранен.
Граф Дама, прогуливаясь по галерее, поднял оброненную кем-то розу и стал обрывать у нее лепестки. Лепестки падали на стол, за которым играли в карты несколько придворных. Один из игроков, герцог Брольи, попросил Дама прекратить свое занятие, заметив при этом, что «не видел ничего более глупого в своей жизни».
— А я, — ответил Дама, — никогда не слышал ничего глупее ваших слов… — Последовала дуэль, закончившаяся ранением Брольи…
Сен-Симона мутит от всего этого вздора. Нет, он не желает более здесь находиться! Бежать, бежать как можно скорее… Но куда? В какую страну? И с какой целью?.. Быть может, в Испанию, куда приглашал Вогюйон? А почему бы и нет? Из Испании доходят вести о прогрессивном курсе нового правительства…
Мадрид… Сонный, раскаленный докрасна город среди пустыни. Любимый город короля Филиппа II, сонного короля, мечтавшего в XVI веке о мировом господстве. Сонные гранды, сонные махи… Где он, прославленный испанский темперамент, где коррида, кастаньеты, уличные карнавалы?.. Быть может, все это есть в других городах Испании и в другое время, но в Мадриде летом 1787 года ничего этого не было.
Зато было кое-что другое, и Анри сразу же это заметил. В Мадриде открылась техническая школа и появились промышленные предприятия. Город оброс сетью дорог и каналов.
Каналов… Но канал, который должен соединять столицу с Тахо и морем, остался незаконченным. Говорят, что прорыли всего с десяток лье…
Анри с любопытством осматривает каменные плиты и металлические крепления, брошенные на произвол судьбы. Камни потемнели и выветрились, железо изъела ржавчина…
Сен-Симон вспоминает о своих неудачных начинаниях в Мексике. И вдруг — мысль: а почему бы ему не заняться этим каналом? И не доказать на практике то, что не удалось в Новой Испании?..
Когда с этим вопросом он обращается к Вогюйону, посол хохочет и треплет его по плечу. Это, разумеется, несерьезно? Он, потомственный аристократ, ведет речи, достойные чумазого подрядчика? Ну и шутник же этот милый граф!
Но граф не шутит. Он настаивает. Он с горячностью доказывает. И тогда посерьезневший Вогюйон хотя и пожимает плечами, но обещает помощь. Он сводит Анри с нужными людьми. Он знакомит его с герцогом Флоридобланкой, премьер-министром короля-реформатора Карлоса III.
Флоридобланка в принципе не против канала. Канал, бесспорно, нужен. Но как организовать все дело? И, главное, где взять средства?
Все это, оказывается, предусмотрено в плане неутомимого француза, замечательном плане, который, едва родившись, уже растет и пухнет, точно на дрожжах.
Впрочем, предоставим слово самому автору проекта.
«…Я сговорился с графом де Кабаррюсом, теперешним министром финансов, и мы представили правительству следующий проект. Граф де Кабаррюс предлагал от имени банка, директором которого состоял, снабдить правительство необходимыми средствами для прорытия канала, если король предоставит банку право взимать с этого предприятия пошлину. Со своей стороны, я предлагал набрать легион в 6000 человек, составленный из иностранцев, из которых 2000 несли бы гарнизонную службу, в то время как остальные 4000 были бы заняты работой на канале. На долю правительства пришлись бы только издержки на военное обмундирование и устройство больниц, а на остальные расходы достаточно было бы одной рабочей платы. Таким образом, при помощи чрезвычайно умеренной суммы король Испании соорудил бы прекраснейший и полезнейший канал в Европе; он увеличил бы свою армию на 6000 человек, а население своего государства обогатил бы классом, который, несомненно, стал бы трудолюбивым и промышленным…»
Хотя поддержка графа Кабаррюса, опытного финансиста и прожженного дельца, должна бы была успокаивать, проект показался всем настолько необычным (а может быть, и фантастичным), что министры только разводили руками. Опять началась канитель, живо напомнившая Сен-Симону его мытарства в Мексике: аудиенсии, комиссии и подкомиссии, комитеты и подкомитеты…
На этот раз автор проекта решил запастись терпением. Все продумано досконально, план настолько хорош, что отказать не посмеют. А пока, чтобы не терять времени, Анри присматривается в жизни Мадрида. Он замечает: улиц и дорог — хоть отбавляй, но движения на них почти нет. Изредка тащится всадник на тощей кляче, еще реже проплывает карета с гербом. Основная масса жителей Мадрида рассчитывает только на свои ноги, грузы же перевозит на ручных тележках.
Проблема транспорта всегда волновала Сен-Симона. Во время своих многочисленных путешествий, колеся по дорогам Франции, он постоянно интересовался организацией этого дела в своей стране. И теперь его вдруг осеняет новая идея: а почему бы здесь, в Мадриде, не наладить регулярное движение дилижансов?..
Сен-Симон сразу начинает действовать, использует установившиеся связи, доказывает выгодность предприятия — и добивается успеха.
Компания дилижансов, обслуживающая Мадрид и его окрестности, создана. У нее значительный оборотный капитал, и она уже начинает приносить первые доходы…
В конце 1788 года внезапно умирает Карлос III. Короля-реформатора сменил ретроград. Карлос IV очень похож на Людовика XVI: так же толст и еще более неловок и ограничен. Король-автомат — весьма удобная игрушка для проныр, карьеристов и собственной жены-развратницы. Правда, Флоридобланка пока оставлен у власти. Но проект канала окончательно застрял в недрах бесконечных канцелярий. Сен-Симону объясняют: сейчас не время. Не стоит нервничать, надо немного выждать, посмотреть, куда повернет новое царствование. Анри ждет. Но тут происходят события, которые коренным образом меняют все его планы.
Благодаря дружбе с Вогюйоном он регулярно получает сведения о состоянии дел на родине.
Там все идет из рук вон плохо.
Как и предвидел Анри, нотабли ничем не помогли правительству. Сиятельные принцы, герцоги и епископы, когда им предложили изменить налоговую систему и часть податного бремени переложить на дворянство и духовенство, пришли в крайнее раздражение: они привыкли обирать казну, но не имели ни малейшего желания пополнять ее из своего кармана!
Привилегированные не захотели помочь государству, ревниво охранявшему их экономическое и политическое господство.
Король разогнал нотаблей и дал отставку Калонну.
А затем он встретился с настоящим бунтом знати.
Парижский парламент отказался зарегистрировать королевский эдикт о новых налогах, причем — случай беспримерный в истории — не помогло даже заседание с участием короля. Желая дать решительный отпор правительству, парламентарии торжественно объявили, что право утверждать налоги принадлежит исключительно Генеральным штатам, представительному органу, не созывавшемуся уже двести лет, в который делегаты трех сословий избирались самим населением страны.
Так высшие сословия в погоне за сохранением своих привилегий нанесли страшный удар своей собственной опоре — абсолютной монархии.
Обескураженный Людовик XVI вновь пригласил к власти популярного Неккера и созвал Генеральные штаты. Это произошло в мае 1789 года.
А всего месяц спустя Генеральные штаты провозгласили себя Национальным Учредительным собранием Франции и торжественно поклялись установить новый строй и выработать конституцию.
— Да, — повторяет Вогюйон, вздыхая, — все идет из рук вон плохо!..
Сен-Симон молчит. Но он не уверен, что все так уж плохо. Быть может, наоборот, все идет очень хорошо?..
С каждым днем Вогюйон становился мрачнее.
Однажды рано утром он вбежал в комнату Анри с совершенно растерянным видом.
— Друг мой, вы слышали? Во Франции революция!..
Сен-Симон вскакивает с постели. Он снова и снова просит повторить все сначала и поподробнее…
…Король, понимая, к чему клонится дело, дал отставку Неккеру и собирался разогнать Учредительное собрание. И тогда восстал Париж. Были образованы новые муниципальные власти. 14 июля народ взял штурмом Бастилию…
Анри в восторге. Он обнимает герцога, бурно поздравляет его. Вогюйон вырывается из объятий. Он поражен. С чем тут поздравлять? С новой Жакерией?..
Они смотрят друг на друга и только теперь начинают понимать, что, в сущности, между ними нет ничего общего. Один живет прошлым, другой — будущим. Для одного революция — траур, для другого — путь в настоящую, полноценную жизнь. Один вскоре станет политическим эмигрантом, другой — строителем нового общества.
Да, вчерашние друзья, люди одного класса, одного круга, одних традиций, сегодня становятся чужими, а завтра будут врагами.
Период странствий окончился.
Анри маялся на чужбине потому, что не рассчитывал ни на что во Франции. Он видел коррупцию и маразм, разъевшие верхи привилегированного общества своей страны, и не желал разделять их позора.
Но он не ожидал революцию.
Не ожидал потому, что не знал своего народа, его отчаяния, его решимости.
Он видел финансовый кризис, поразивший государство и двор, но не мог разглядеть общий кризис, поразивший всю феодально-абсолютистскую систему. Он ничего не знал о мощной волне крестьянско-плебейских движений, на гребне которых поднялась революция.
Но когда революция началась, его охватил неистовый энтузиазм. Ни минуты более не мог он оставаться за рубежом. Бог с ними, с каналом и компанией дилижансов. Для чего отдавать силы чужой стране, если есть своя революционная родина?..
Граф Анри де Сен-Симон, кавалер де Рувруа, полковник королевской службы, внук герцога Сен-Симона и потомок императора Карла Великого, окончательно изжил себя. Его больше нет. Во Францию едет совершенно другой человек, заново рожденный, полный жажды жить и трудиться на благо революции и отечества.
ЧАСТЬ II КТО ХОЧЕТ ЦЕЛИ, ДОЛЖЕН ЛЮБИТЬ И СРЕДСТВА (1789–1801)
ГЛАВА 1 ГРАЖДАНИН БОНОМ
В древности говорили: все дороги ведут в Рим.
Весной и летом 1789 года можно было сказать: все дороги ведут в Версаль.
Уже с середины апреля со всех концов Франции покатили экипажи господ депутатов, спешивших занять места в одном из версальских дворцов, где должна была решаться судьба их отечества.
Путь некоторых был очень коротким: от Парижа до Версаля всего несколько лье. Путь других растянулся на много прогонов, рассекая десятки провинций, нанизывая вереницы городов, деревушек и постоялых дворов.
Из далекого Прованса несся Оноре де Мирабо. Широкоплечий и толстый, едва умещавшийся в своем модном камзоле, он потрясал львиной гривой и улыбался узнававшим его прохожим. Граф был в отличном настроении. Всю дорогу он вспоминал, как граждане Экса, его избиратели, упоенные восторгом и обожанием, распрягли лошадей в его карете и тащили ее на себе. Это чего-нибудь да стоило!.. Мирабо имел все основания улыбаться. Он торопился в Версаль, чтобы делать большую карьеру и большие богатства. Выдающийся мастер интриги, он предвкушал свои будущие победы…
Из провинции Дофине, лежавшей совсем рядом с Провансом, из старинного города Гренобля, отправился в путь адвокат Антуан Барнав. Он казался противоположностью Мирабо. Худощавый и стройный, очень сдержанный и молчаливый, он никому не расточал улыбок. Он был поглощен размышлениями иного порядка. Прекрасно образованный и богатый, он думал о судьбах просвещенной буржуазии и о реформах, которые во благо ее надлежит провести.
В Версаль устремились бывшие товарищи Сен-Симона по оружию: герцог Лозен, маркиз Лафайет, виконт Ноайль и многие другие. Все они были депутатами от дворянского сословия, все считали себя завзятыми либералами и все готовились проводить большую политику, исходя из старого как мир принципа: чтобы волки были сыты и овцы оставались целы.
Среди господ депутатов, ехавших в Версаль, вполне доставало недюжинных умов, хороших ораторов и превосходных законоведов.
Но лишь один из них покидал свой родной город с четко продуманной демократической программой.
Это был молодой человек с бледным лицом и близорукими глазами. Садясь в дилижанс на площади Арраса, он стыдливо прятал потертые манжеты своего старенького черного камзола, а весь багаж его состоял из дешевого чемоданишка.
И тем не менее он был много богаче Мирабо, Лафайета или Барнава. Его богатства заключались в чистых принципах, непреклонной воле и бесстрашии, с которым он был готов отдать свою жизнь в борьбе за права простых людей.
Его звали Максимилиан Робеспьер.
В Версаль, загоняя лошадей, мчался и Анри Сен-Симон.
Правда, он явно опаздывал. Не весной и не летом, а только осенью 1789 года прибыл он во Францию из-за рубежа. Да и то, прежде чем появиться в Версале, заглянул в Париж.
Для этого у него были свои, и довольно веские, основания.
Хотя вся Франция с надеждой взирала на Версаль, революция началась в столице. Пока господа депутаты произносили речи, а двор подготавливал силы, чтобы разогнать Учредительное собрание, народ Парижа решил взять судьбу родины в свои руки. И действительно, победоносное восстание парижан 14 июля сбросило со счетов все коварные планы двора и спасло буржуазную Ассамблею.
Наш путешественник прежде всего прибыл в Париж, чтобы хоть в какой-то мере почувствовать обстановку июльских дней — первых дней революции. И он не ошибся в своих ожиданиях.
Париж и в сентябре был необыкновенно возбужденным.
Улицы заполнены толпой, не расходящейся до глубокой ночи. Кафе сделались политическими клубами. Парк Пале-Ройяль из места свиданий превратился в народный форум. Здесь непрерывно выступают демократические ораторы: земляк Сен-Симона, «главный прокурор фонаря» Камилл Демулен, журналист Лусталло, страшный рябой верзила с громоподобным голосом адвокат Жорж Дантон. Люди критикуют министров, обсуждают поведение короля, поздравляют друг друга с блестящей победой.
А на всех лицах написано одно и то же: — «У нас революция!..»
Бодро продефилировал отряд Национальной гвардии. Это новая армия, армия победителей Бастилии, рожденная прямо на поле боя. Ее командиром недавно назначен маркиз де Лафайет, заработавший генеральские эполеты в Американской войне за независимость.
Новые газеты с новыми названиями. Сколько их! Но из всех выделяется одна, которую читают с особенным вниманием. Она призывает народ: «Не останавливайтесь на достигнутом! Не время радоваться и почивать на лаврах! Нельзя верить ни королю, ни Лафайету, ни министрам, ни Учредительному собранию! Будьте бдительны!..»
Газета называется «Друг народа», а издатель ее — бесстрашный Жан Поль Марат.
Сен-Симон с пристальным вниманием следит за всем происходящим. Из Парижа он едет в Версаль. Боже, какие перемены! Где весь недавний блеск, где наряды и развлечения, скачки и карточная игра в маленьких уютных гостиных?.. Двор словно оделся в траур. Самые преданные друзья срочно покидали королевскую чету: эмигрировал граф Артуа, бежали Полиньяки, господа придворные удирали, точно крысы с тонущего корабля…
Побывал Сен-Симон и во дворце «Малых забав», где заседало Учредительное собрание. С изумлением он заметил, что эта «цитадель революции» вовсе не так уж и революционна. У законодателей был весьма смущенный вид. Депутаты буржуазии всячески расшаркивались перед королем и казались больше всего озабоченными тем, как бы утихомирить «мятеж», обуздать вышедшую из берегов народную стихию…
По дороге в Мезьер Сен-Симон понял причину этой озабоченности. Франция пылала. В городах и деревнях народ выходил на улицы, разбивал местные «бастилии», низвергал старые власти. Горели феодальные замки. «Благородные», гонимые великим страхом, оставляли родовые гнезда и устремлялись в Версаль, под защиту Учредительного собрания…
В Мезьере он увидел то же, что наблюдал и в других городах. Старая королевская администрация была упразднена и заменена новым буржуазным муниципалитетом. Армия разложилась. Аквитанский полк, которым, по идее, командовал Анри, превратился в миф. Не слишком огорченный этим, полковник подает в отставку и гордо отказывается от пенсии, причитающейся за службу: он не хочет ничего более получать от уходящего старого режима.
Но что же делать дальше? Как определить свою роль в революции? Чем заняться на ближайшее время?
Его соратники по Американской войне, кажется, нашли себя. Ля Тур стал военным министром, Лафайет — начальником Национальной гвардии, Лозен и Ноайль — видными лидерами Учредительного собрания. Однако от взора Анри не может укрыться, что положение всех их весьма двусмысленно. Лафайет превратился в слугу двух господ: он лебезит и перед двором, и перед народом, и народ уже не верит герою Американской войны. Что же касается Лозена и Ноайля…
Сейчас все кругом твердят о ночи 4 августа, «ночи чудес», во время которой прославились эти двое.
На заседании 4 августа, затянувшемся до поздней ночи, депутаты дворяне торжественно принесли «жертву» нации, отказавшись от феодальных прав и привилегий в пользу крестьян. Вот тогда-то в общем хоре особенно громко звучали голоса Ноайля и Лозена.
Но во что же вылилась пресловутая «жертва»?
Когда словопрения ночи 4 августа претворились в декрет Учредительного собрания, оказалось, что крестьяне не получили от своих «благодетелей» ничего, кроме пышных фраз. Провозглашая «справедливость» и «равенство», господа Ноайль, Лозен и их присные согласились на отмену некоторых второстепенных феодальных тягот, многие из которых и так давно отпали. Что же касается главного — земли и повинностей, с нею связанных, — все здесь оставалось по-прежнему: владельцем земли провозглашался помещик, а крестьянин должен был, как и раньше, уплачивать ему ценз за пользование своим участком.
Трудно было не понять лживости и фарисейства героев «ночи чудес»: «добровольно» отказываясь от малого, дворяне рассчитывали сохранить большее — прежнее положение и прежние доходы. При этом они хотели успокоить землепашца, отвлечь его от борьбы, чтобы тем временем накинуть узду на революцию…
Такая политика совсем не по душе Сен-Симону. Он не желает иметь ничего общего с этими играющими в либерализм аристократами. Его место не в их среде.
Но тогда где же?..
В одном из поздних автобиографических отрывков Сен-Симон напишет:
«…Когда я вернулся во Францию, революция уже началась. Я не хотел в нее вмешиваться, потому что, с одной стороны, и без того был убежден в недолговечности старого строя, с другой же — испытывал ненависть к разрушению, а выступить на политическом поприще было возможно, лишь присоединившись или к придворной партии, желавшей уничтожить национальное представительство, или к партии революционной, желавшей свергнуть королевскую власть…»
Эти слова долгое время принимались биографами Сен-Симона на веру. И вводили в заблуждение. Отсюда родилась версия об индифферентности социолога к революции. Его представляли в виде некоего скептика, скрестившего руки на груди и с олимпийским спокойствием взиравшего на «безумства» бушующей «черни».
Эта легенда полностью рухнула, когда в различных архивах Франции были найдены документы, изобличившие автора отрывка в умышленном искажении существа дела. Сен-Симон писал в 1808 году, во времена, когда говорить о своих революционных заслугах было не принято. Да, кроме того, к этому времени он и сам иначе относился к революции.
В 1789–1790 годах все обстояло совсем по-другому.
Характерной особенностью интеллекта Сен-Симона было удивительное чутье на главное, определяющее, которое он умел схватить в любой жизненной ситуации. В Америке он разглядел Панамский канал, в Мадриде — компанию дилижансов, а во французской революции — аграрную проблему.
Во Франции, из двадцати пяти миллионов населения которой двадцать с лишним составляли крестьяне, основным вопросом революции был и оставался вопрос о земле и феодальных повинностях. Крестьяне, являвшиеся четырьмя пятыми французской нации, владели всего лишь третью обрабатываемой земли, в то время как остальные две трети сосредоточивались в руках дворянства, духовенства и верхушки богатой буржуазии. Между тем августовское аграрное законодательство почти ничего не дало крестьянам. Они не получили ни земли, ни облегчения повинностей, падавших на землю.
Крестьяне, бывшие основной движущей силой революции, не собирались успокаиваться. А следовательно, и революция была очень и очень далека от своего завершения.
Это прекрасно видел Анри Сен-Симон, и поэтому, желая работать на революцию, он избрал своим полем деятельности не министерство, не Ассамблею, не буржуазные салоны, а деревню, простую серую деревню.
Поздней осенью 1789 года в коммуне Фальви, в Пикардии, появился новый обитатель, поначалу приведший в полное смущение своих земляков. Черты лица его были тонки, руки белы, но он носил грубую куртку селянина и квартировал в одном из самых бедных домов. Приветливый и простой в обращении с людьми, он охотно беседовал с ними, охотно помогал. Хотя средства его, по всей очевидности, были весьма скудны, он взял на иждивение старую женщину, Франсуазу Сэнсо, племянник которой, ее прежний кормилец, погиб в одной из местных революционных стычек.
Крестьяне удивлялись тем сильнее, что многие из них хорошо знали этого человека. Ибо то был сын их покойного сеньора, молодой граф де Сен-Симон… Впрочем, он не пользовался своим титулом и даже не любил, чтобы его употребляли при обращении к нему…
Вряд ли кто из старых приятелей блестящего полковника, кавалера де Рувруа, узнал бы его сейчас в этом новом обличье…
…Он полон энергии. Он знает, что надо делать. С утра — на полевые работы вместе с крестьянами. В полдень — скудный обед. Затем — дружеские беседы, задушевные разговоры. Анри рассказывает о том, что видел в Америке, что происходит сейчас в Париже и в других городах страны, каковы задачи ближайшего будущего. Он разбирает со своими слушателями новые правительственные декреты, комментирует Декларацию прав человека и гражданина, принятую Собранием в августе 1789 года…
…Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах… Свобода личности, слова, печати, совести, общая безопасность и сопротивление гнету — вот новые принципы, священные и неотчуждаемые, принципы, которые должны усвоить и соблюдать на практике все, кто верен делу революции, — внушает своим односельчанам их добровольный учитель…
Анри не только объясняет. Он готов составить любую петицию, любой адрес в Ассамблею или иное учреждение. Его известность как подлинного друга простых людей столь велика, что из соседних деревень и городишек к нему часто обращаются с просьбой — дать деловой совет или отредактировать официальную бумагу. И он никогда не отказывает просителям.
Он председательствует на местных сходках, руководит выборами в местные органы. Однако в противоположность своим боевым соратникам, делающим в столице политическую карьеру, Анри неуклонно отказывается от всяких выборных постов, ибо считает, что «…пока продолжается революция, бывших дворян и священников опасно назначать на общественные должности…».
В феврале 1790 года, председательствуя на выборах мэра в коммуне Фальви, он произносит речь, в которой требует узаконить то, что давно уже исповедует на практике.
— В настоящее время, — заявляет Сен-Симон, — нет больше сеньоров. Все мы совершенно равны, и, чтобы графский титул не привел вас к ошибочной мысли, будто я обладаю большими правами, чем вы, я навеки отказываюсь от этого звания, которое считаю более низким, чем звание французского гражданина…
Он требует, чтобы его слова были занесены в протокол.
Не останавливаясь на этом, в мае бывший граф составляет от имени своего административного округа петицию в Учредительное собрание с призывом к отмене «позорных привилегий рождения».
Как всегда, опережая ход событий, Сен-Симон предвосхитил то, что позднее Ассамблея утвердила законодательным путем. В июне 1790 года был издан декрет об отмене наследственного дворянства и всех связанных с ним титулов и званий.
В этом году крестьянские восстания, затихшие было после августовского аграрного законодательства, вспыхнули вновь с прежней силой. Крестьянство восприняло постановления августа 1789 года как отмену всех феодальных прав, и властям пришлось «вразумлять» его с помощью штыка и сабли. В ответ на это поднялись сначала провинции юга — Керси, Перигор, Руэрг, а затем, к осени, восстания охватили северо-восток, в частности департаменты Сены и Марны, Луары и Соны.
Отдельные волнения имели место и в Пикардии. Как реагировал на них Анри Сен-Симон? Поддерживал ли он справедливые требования крестьян, поднимал ли их на борьбу?
Точно ответить на этот вопрос нельзя — прямых свидетельств не сохранилось. Но историк обладает одним косвенным свидетельством, имеющим, на наш взгляд, весьма большую ценность.
Если в начале 1790 года Сен-Симон торжественно отказывается от своего титула, то позднее он идет на несравненно большее; ибо что же может быть большим, чем отказ от собственного имени, имени, прославленного в веках, которым в годы детства и юности Анри так дорожил?
Вот при каких обстоятельствах происходит это событие.
Осенью Сен-Симон переезжает в Перонну к матери, которая имела в этом маленьком городишке свой домик. Однажды[25] он приходит в городской совет с весьма своеобразным заявлением.
Официальный протокол сообщает:
«Гражданин Клод Анри де Сен-Симон, живущий в этом городе, явился в совет и объявил, что он хочет смыть пятно своего происхождения. Он просил, чтобы его лишили имени, напоминающего ему о неравенстве, которое разум осудил задолго до того, как его обрекла на гибель наша конституция. Он потребовал, чтобы ему дали новое имя. Совет спросил, какое имя он выбирает, и он выбрал имя „Клод Анри Боном“. Совет выносит постановление: отныне бывший Сен-Симон будет называться „гражданином Бономом“, и под этим именем его внесут в список населения коммуны».
Итак, Сен-Симон больше не существует. Психологически и морально он исчез в начале революции. Теперь он исчезает и формально. Мосты к старому сожжены окончательно. Родился новый гражданин революционной Франции — Клод Анри Боном.
В этом факте особенно интересна одна его сторона.
В то время имена меняли многие. Одни — из тактических соображений, другие — из любви к революции и свободе. При этом новое имя, подобно визитной карточке, должно было отражать существо своего носителя или, по крайней мере, служить ему политической вывеской. Герцог Филипп Орлеанский станет называть себя Филиппом Эгалите («Равенство»), будущий прокурор Парижской коммуны Шометт изберет имя древнего философа Анаксагора, а будущий народный трибун Бабеф окажется тезкой римского трибуна Гракха. Имя «Боном» не менее знаменательно. Ибо бономом («простаком») во Франции издавна называли рядового крестьянина. Жак-боном — полушутливая, полупрезрительная кличка, вроде нашего «Иван-дурак», кличка, которой «благородные» в незапамятные времена наделили своего кормильца и холопа. Но Жак-боном отнюдь не покладистый страстотерпец. Время от времени он расправляет свои могучие плечи, и тогда наступает «великий страх» для всего дворянства. Именно Жак-боном поднял в 1358 году крупнейшее из крестьянских восстаний средневековья — знаменитую Жакерию, стоившую крови и жизни многим «благородным», именно Жак-боном оказался главным персонажем революции 1789 года, породившей такой ужас в сердцах аристократов. Боном — это производитель и борец, это труженик, который создает национальное богатство страны, но при этом не позволяет наступать себе на пальцы. Боном — это символ труда и борьбы, это плоть и дух французского народа.
Если прибавить, что Жакерия XIV века началась именно в Пикардии и что «Бономом» Анри Сен-Симон провозгласил себя в дни, когда по его родине прокатывалась новая Жакерия, то внутренний смысл и самого факта, и нового имени станет вполне ясен.
В свете этих обстоятельств проясняется и еще один факт, вызывавший недоумение многих биографов Сен-Симона.
Весной 1790 года, в самый разгар своей просветительской деятельности, Сен-Симон вдруг с исключительным упорством начинает добиваться у военного министра Ла Тура, своего товарища по Америке, ордена святого Людовика — награды, которая причиталась Анри за боевые заслуги и которую давали только дворянам.
Это выглядит как парадокс. Опрощенец, публично отказавшийся от своего титула и дворянского достоинства, вдруг требует дворянский орден у правительства, против которого ведет борьбу!
«Отрыжка прошлого!» — заявляют одни историки. «Фантазия!» — улыбаются другие. «Необъяснимый казус», — вздыхают третьи.
Действительность гораздо более проста и логична. Анри добивался ордена — и получил его — только для того, чтобы тут же положить на алтарь революционного отечества.
Герцог Луи де Сен-Симон.
Людовик XIV.
Мария-Антуанетта.
Графиня Жюли де Полиньяк.
Герцог Лозен.
В театральной ложе. Гравюра XVIII века.
Маленький ужин. Гравюра XVIII века.
Тюрго.
Даламбер.
Жан-Жак Руссо.
Бомарше.
Лафайет.
Бенджамин Франклин.
Вашингтон.
Капитуляция Йорктауна.
Фрагмент типографского оттиска Декларации прав человека и гражданина (1789 г.).
Взятие Бастилии.
Мирабо.
Барнав.
Робеспьер.
Дантон.
Ассигнация (1792 г.).
Моды времен Директории.
Кондорсе.
Парк Пале-Ройяль во времена Директории.
Анри Сен-Симон. Литография Энгельмана.
Шатобриан.
Жермен де Сталь.
Шапталь.
Ламарк.
Кювье.
Жоффруа Сент-Илер.
Биша.
Монж.
Лагранж.
Лаплас.
М. Лунин.
Вскоре после принятия нового имени он снова приходит в городской совет Перонны. На этот раз он приносит с собой все свои грамоты, дипломы и знаки отличия, относящиеся ко времени старого порядка. В числе их — патент на должность лейтенанта Туренского полка, приказ о производстве в капитаны, диплом полковника, деловая переписка с военным министерством и три ордена: Мальтийский крест, американский орден Цинцинната и вновь полученный орден святого Людовика.
Городской совет принимает эти реликвии и тут же выносит постановление: бумаги сжечь, ордена отправить на переплавку.
Гражданин Боном расстается с последними крупицами своего славного прошлого. Теперь уже ничто более не напоминает ему об этом прошлом.
Революция преобразила духовную жизнь Франции. Если раньше общественная мысль находила приют лишь в среде избранных, витая в великосветских салонах или ютясь в кабинетах просветителей, то достаточно было пробить первую брешь в твердыне старого порядка, чтобы миллионы людей начали втягиваться в обсуждение политических и социальных проблем, ставших для народа в не меньшей степени хлебом насущным, нежели самый хлеб.
В 1790–1791 годах не только в столице и крупных городах, по даже в самом глубоком захолустье стали возникать народные клубы и общества. В Париже, куда довольно часто наведывался Анри, особенную популярность стяжали Якобинский клуб и клуб Кордельеров. Но еще в большей степени внимание гражданина Бонома привлекал «Социальный кружок», основанный аббатом Фоше и литератором Николя Бонвилем. С осени 1790 года руководители кружка организовали «Всемирную федерацию друзей истины», в состав которой вошло более трех тысяч человек, а на заседаниях ее, происходивших в помещении цирка Пале-Ройяля, иногда присутствовало до пяти тысяч, в числе их много ремесленников и рабочих.
Фоше и Бонвиль выступали с весьма резкими социальными требованиями. «Каждый человек, — писал Фоше, — имеет право на землю и должен обладать собственным участком, обеспечивающим его существование. Он получает право владеть им благодаря своему труду, и его часть должна быть ограничена правами равных ему».
Бонвиль высказывался еще более радикально. «До тех пор, — писал он, — пока будут существовать исключительные и наследственные привилегии, предоставляющие одному то, что принадлежит всем, формы тирании могут сменяться в зависимости от обстоятельств, но тирания будет всегда существовать».
Эти идеи близки Боному. Он не только слушает и размышляет, он, как обычно, сразу же переходит к действиям. У себя в Перонне Боном организует радикальное политическое общество и сам становится его активным членом. К сожалению, никаких документов о деятельности общества не сохранилось, но, по-видимому, оно было близким по духу парижскому «Социальному кружку».
Популярность Бонома растет. Санкюлоты считают его своим другом и братом, оказывают ему новые знаки доверия. Ему предлагают должность пероннского мэра — Боном, верный своим принципам, отказывается. И лишь один-единственный раз он готов (временно!) поступиться принципами — в момент, когда общие интересы народа этого настоятельно требуют.
Это происходит в июне 1791 года.
Чем дальше шло время, тем яснее становилось, что Учредительное собрание, состоявшее из бывших дворян, епископов и верхушки буржуазии, не собирается облегчить участь простого народа. Вместо этого законодатели все больше подыгрывали двору. Наделив Людовика XVI весьма широкими полномочиями, в частности, дав ему право вето в отношении любого нового закона, принятого Учредительным собранием, они кончили тем, что вотировали «на содержание короля» цивильный лист — ежегодную сумму в двадцать пять миллионов ливров плюс четыре миллиона для нужд королевы.
Крупные собственники не жалели народных денег. Смотря на трон как на преграду силам демократии, они хотели превратить монарха старого порядка в короля буржуазии, сделать из него рычаг против народных движений. А такого короля, если он будет послушным орудием, не грех было и озолотить.
Господа из Учредительного собрания не учли простой истины: как ни золоти прутья клетки, она все равно останется клеткой. Король же, королева и их ближайшее окружение — все они чувствовали себя пленниками. Было наивным надеяться, что Людовик XVI, с детства смотревший на себя как на помазанника божьего, окруженный блестящей и раболепной знатью, монарх, усвоивший гордую, презирающую все и всех мысль «государство — это я!», согласится стать королем буржуазии, королем без дворянства и духовенства, лишенным своего величия и своих прерогатив, обреченным на роль рычага в руках новой власти.
Король и королева ни минуты не думали о примирении с новым порядком. Когда народ сорвал все попытки обратиться к силе, было решено проявить показную покорность и тайно вести переговоры с врагами революции. Для этого нужны были деньги — теперь их с избытком давал цивильный лист. Законодатели своими руками обеспечили монархии средства, чтобы она могла вести под них планомерный подкоп! Секретная агентура, возглавляемая изменившим революции Мирабо, деятельно заработала. Одновременно двор составил план действий: было решено, что король и его семья тайно уедут из Парижа, отдадутся под покровительство контрреволюционного генерала Буйе, бывшего начальника Анри, переберутся через границу, а затем с помощью иностранных государей разгромят силы революции и восстановят прежнюю абсолютную монархию.
21 июня 1791 года первая часть этого плана была приведена в исполнение: королевская семья тайно покинула Париж.
Когда столица, разбуженная гудением набата, узнала о случившемся, злость и негодование охватили парижан. Обвиняли Лафайета, пресмыкавшегося перед Людовиком XVI, разбивали бюсты короля, повсюду разыскивали оружие.
Клуб Кордельеров направил в Ассамблею адрес, требуя немедленного уничтожения монархии. Бонвиль писал: «Заметили ли вы, какие братские чувства поднимаются в вас, когда раздается набат, когда бьют сбор и короли обратились в бегство? Не нужно больше ни королей, ни диктаторов, ни императоров, ни протекторов, ни регентов! Наш враг — наш повелитель, говорю это вам ясным французским языком! Не надо Лафайета, не надо Орлеанского!»
Весть о бегстве короля с быстротой молнии облетела страну. В Пикардии все стало известно в первые же часы после столичного набата. Население ряда деревень было охвачено паникой. Распространялись слухи о новых происках роялистов, ожидали вторжения контрреволюционных войск из-за границы. Наиболее сознательные патриоты вооружались и готовились грудью защитить революционное отечество.
В Перонне царила неразбериха. Местный начальник Национальной гвардии, тайный роялист Годье, отдавал противоречивые распоряжения, а затем и вовсе исчез. Городской совет заседал непрерывно, изыскивая средства к прекращению паники и мобилизации сил на случай угрозы извне. И тогда кому-то пришла в голову мысль: надо немедленно обратиться к Боному! Кто лучше, чем он, храбрый офицер и проверенный патриот, может поднять революционный дух в национальных гвардейцах и подготовить город к обороне?..
И вот Боном в ратуше. Он немного растерян, ибо никак не может понять, чего от него хотят. Его уговаривают, упрашивают, умоляют: только он, которому верит и которого любит народ, только он, которого уважают национальные гвардейцы, может спасти положение!.. Но как?.. Очень просто! Взяв на себя обязанности начальника Национальной гвардии Перонны!
Боном встревожен. Он объясняет отцам города, что это не очень удобно. Ведь он же бывший аристократ, и он дал себе слово не занимать ни одной общественной должности, пока революция не завершена!
Его вразумляют: ради пользы народа в час, когда революция под угрозой, он должен пожертвовать этими соображениями ради отчизны.
Боном соглашается. Но одновременно ставит условие: он останется на своем посту лишь до тех пор, покуда будет длиться опасность, и, во всяком случае, не больше чем на двадцать четыре часа.
Членам городского совета не остается ничего другого, как принять это условие.
Анри немного зол на себя. Сколько раз он клялся навсегда покончить с военным ремеслом! Он не солдат. Он должен приносить пользу обществу, его дело — создавать, а не разрушать. Но, с другой стороны, ведь сейчас речь идет о революционном отечестве! Теперь он станет солдатом революции, а не значит ли это, что он будет приносить наибольшую пользу обществу, в котором свобода и равенство еще не упрочены?
В таком случае да здравствует военное дело! Да здравствует старый заслуженный военный мундир, вытащенный из нафталина и украшенный новой революционной кокардой!
Приняв решение, Боном становится твердым как сталь. Когда он появляется на площади перед выстроенными рядами национальных гвардейцев, в нем трудно узнать того доброго и сугубо штатского учителя крестьян, облик которого здесь хорошо известен всем и каждому.
Гвардейцы берут на караул. Раздается дружное «ура!». Боном приветствует своих новых боевых товарищей. Затем после церемонии принятия революционной присяги он отдает распоряжения: произвести срочные обыски, забрать все наличное оружие, выявить и взять под надзор контрреволюционные элементы. Разбив город на участки, Боном распределяет отряды. Вместе со своими помощниками он целый день скачет по городу, проверяя посты и исполнение своих приказов.
Вскоре в Перонне водворяется полный порядок.
Муниципалитет поздравляет себя с удачным выбором.
А двадцать четыре часа спустя приходит известие: король задержан и арестован. Контрреволюционные части маркиза Буйе ушли за границу.
Клод Анри Боном, которому так и не удалось помериться силами со своим бывшим начальником, немедленно подает в отставку и слагает свои полномочия.
День 21 июня 1791 года был, бесспорно, кульминационным пунктом революционной деятельности гражданина Бонома. В последующие месяцы и годы она явно идет на спад. Правда, официальные адреса и протоколы продолжают называть его «другом свободы и равенства», «стойким патриотом» и «одним из наших братьев». Боном выступает в разных городах, появляясь то в Амьене, то в Перонне, то в Камбре, но мы не видим больше его конкретных дел, его активного участия в революционной жизни провинции и страны.
Клод Анри Боном охладевает к революции.
Когда произошло это охлаждение и в чем его причина? Ответ на этот вопрос следует искать в политической обстановке, сложившейся во Франции после неудавшегося побега короля.
Король был опознан в местечке Сен-Мену, совсем неподалеку от конечного пункта своего маршрута. Карету остановили в Варенне, на глазах у передовых отрядов Буйе. Под эскортом местной Национальной гвардии и многочисленной толпы вооруженных патриотов беглецы были доставлены в Париж.
13 июля Ассамблея приступила к обсуждению вопроса о судьбе монарха. Был выслушан доклад комиссии, расследовавшей обстоятельства бегства в Варенн. Докладчик сделал вывод, что Людовик XVI должен быть объявлен невиновным; вместо него к ответственности следовало привлечь «похитителей», в первую очередь бежавшего за границу Буйе.
В последовавших прениях только депутат крайней левой Максимилиан Робеспьер отважился настаивать на виновности короля. Робеспьера объявили сумасшедшим. Его оппонент, Антуан Барнав, после смерти Мирабо ставший главным рупором крупнособственнических слоев, воскликнул:
— Подумайте, господа! Революция уже выполнила все, что должна была выполнить, и теперь ее необходимо остановить! Ибо, если она сделает еще хоть шаг вперед, то вслед за отменой королевской власти последует покушение на нашу собственность!
Законодатели бешено аплодировали Барнаву, так точно высказавшему то, что наболело в их душах.
А когда 17 июля народ собрался на Марсовом поле, чтобы подписать петицию с требованием низложить короля, против народа были двинуты гвардейцы Лафайета. На Марсовом поле произошло настоящее побоище: несколько сотен безоружных парижан были расстреляны и изрублены по приказу мэра Байи.
Бойня на Марсовом поле произвела страшное впечатление на страну. Все понимали, что бывшее третье сословие окончательно раскололось. Буржуазия, спасенная простыми людьми в июле 1789 года, теперь, два года спустя, проливала кровь своих спасителей. За избиением последовали репрессии. Лафайетисты чуть ли не разгромили Якобинский клуб. Многие демократы были арестованы.
Это был водораздел революции. Стороны четко размежевались, крупные собственники торжествовали, еще не ведая, что их победа окажется пирровой победой.
События июля 1791 года, известные под именем Вареннского кризиса, действительно привели к духовному кризису, к временным колебаниям и даже отходу от борьбы многих деятелей революции. Марат ушел в подполье. Дантон эмигрировал в Англию. Даже неподкупный Робеспьер — сама совесть революции — в эти дни делает несколько неверных шагов, словно испытывая минутную растерянность.
Удивительно ли, что растерянность охватила гражданина Бонома, вчерашнего аристократа, всем сердцем отдавшегося революции и увидевшего крах своих идеалов и надежд?
Он думал, что наступало царство свободы и равенства, а вместо этого начиналась волчья грызня; сильные избивали слабых во имя того, кто хотел удушить революцию.
Он был уверен, что с тиранией покончено, что простой народ, все эти жаки-бономы, заживут отныне счастливой жизнью строителей нового, светлого общества; а в новом обществе появились новые господа, которые выжимали сок из простых людей не менее ловко, чем это делали феодалы и аристократы.
Он разъяснял крестьянам статьи Декларации прав человека и гражданина, а новая конституция, принятая после полной реабилитации короля, сводила эти статьи на нет.
Декларация гласила: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах».
А конституция уточняла: все граждане делятся на активных и пассивных, причем политическими правами обладают только собственники — активные граждане, составляющие одну шестую нации.
Люди равны, а к избирательным урнам и в Национальную гвардию допускаются только собственники.
Люди свободны, а рабочим запрещают вступать в профессиональные союзы и бороться за свои насущные нужды.
Люди пользуются безопасностью и правом сопротивления гнету, но их могут расстреливать и крошить на куски, если это угодно власть имущим.
Так что же в этом «новом, светлом» обществе изменилось по сравнению со старым порядком?..
Для людей-борцов, подобных Робеспьеру, кризис оказался недолгим. Подлинные революционеры-демократы, пережив минуты смятения, стали еще тверже и целеустремленней. Собственники пролили кровь народа — значит, борьба не окончилась, значит, надо вести ее с большей силой и яростью, пока не падут те, кто хотел задушить народ!
И на одном из последних заседаний Ассамблеи, обращаясь поверх голов буржуа-депутатов к тысячам простых людей на улице, Робеспьер говорит:
— Нам предстоит или впасть в прежнее рабство, или снова браться за оружие!
Что же касается Клода Анри Бонома, то он рассуждает иначе. Только что во имя революции была пролита народная кровь. Так зачем же снова браться за оружие? Для того, чтобы проливать новую кровь?..
Подобно тому как в Нидерландах, увидя крушение своих планов, Сен-Симон перестал интересоваться патриотическим движением, так и теперь у себя на родине, осознав несоответствие теории и действительности, Боном потерял вкус к революции и перестал интересоваться ее дальнейшим ходом.
Попросту говоря, гражданин Боном изжил себя так же, как раньше изжил кавалер де Рувруа. Скинув грубую куртку крестьянина, Анри сбросил вместе с ней целую полосу своей жизни с ее волнениями и идеалами.
И если имя «Боном» еще сохраняется в кое-каких официальных бумагах, то с ним уже начинает успешно конкурировать, а затем и вытесняет его другое имя — Симон.
Но кто же он, этот Симон? Чем занимается? Чему намерен посвятить свою дальнейшую жизнь?
Ныне он преуспевающий делец. Ему принадлежит часть галантерейной фабрики в Бюссю, в Пикардии, а главное — он успешно спекулирует земельной собственностью, выколачивая сотни тысяч ливров чистого дохода.
Санкюлот Боном приказал долго жить.
Началось новое перевоплощение.
ГЛАВА 2 ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ РЕВОЛЮЦИЯ
Строго говоря, началось это давно.
Предпосылки были созданы еще в первый год революции.
И если Сен-Симон все разглядел, понял и тут же приступил к действиям, то виной тому была его исконная предприимчивость в не меньшей мере, чем его интерес к аграрной проблеме в целом.
Учредительное собрание унаследовало от старого порядка крайне расстроенные финансы и большой государственный долг. Депутаты буржуазии понимали: чтобы преодолеть финансовый кризис, нужны чрезвычайные и безотлагательные меры. Нужно было найти источник платежей, достаточно стабильный и по возможности неиссякаемый. Таким источником могла стать только земля. Разумеется, на дворянские земли Ассамблея посягать не собиралась: это создало бы опасный прецедент в отношении частной собственности вообще. Другое дело земельные владения церкви. Духовенство было коллективным собственником, и экспроприация у него земли ни в коей мере не нарушала буржуазных принципов нового общества.
Агентом буржуазии выступил епископ отенский Талейран, начавший свою многоступенчатую карьеру политического оборотня изменой собственному сословию. Талейран предложил секвестровать имущество церкви, утверждая, что такая мера «вполне совместима со строгим уважением к правам собственности». Епископа отенского поддержал Мирабо, и, несмотря на вопли духовенства, предложение было принято Ассамблеей: 2 ноября 1789 года вышел декрет, объявивший все церковное имущество достоянием нации.
Это был ход конем. По предварительным подсчетам, стоимость секвестрованной недвижимости составляла около четырех миллиардов ливров, что соответствовало сумме государственного долга Франции.
Превратив владения монастырей и епископов в национальные имущества и пуская их в распродажу, Учредительное собрание рассчитывало убить сразу не двух, а трех зайцев: получить средства для покрытия государственного долга, удовлетворить земельные аппетиты буржуазии и экономически заинтересовать крестьянство, дабы ослабить его борьбу против помещиков. Последнее обстоятельство, правда, было сведено почти на нет июньским декретом 1790 года, обязавшим продавать земли целыми угодьями.
Сам акт ликвидации был несложным. Государство продавало национальные имущества муниципалитетам, которые, в свою очередь, должны были перепродавать их частным лицам посредством торгов и аукционов.
Сен-Симон, который в течение 1790 года был особенно активно занят просветительской деятельностью, вникая во все горести и нужды своих земляков-крестьян, сразу сообразил, как им помочь.
Малоземелье и безземелье было одной из главных бед крестьянина. В условиях старого порядка зло это оставалось неисправимым. Теперь Учредительное собрание открывало широкие возможности для его ослабления за счет продажи национальных имуществ.
Правда, бывшие земли духовенства продавались муниципалитетам целыми массивами; такой порции отдельный крестьянин, даже зажиточный, осилить не мог. Но существовал простой выход: некий посредник, обладавший достаточными деньгами, мог покупать земли у муниципалитетов, а затем дробить их и перепродавать крестьянам частями! Так почему бы ему, Анри Сен-Симону, другу простых людей, не сделаться подобным посредником?
Почему бы?.. По очень простой причине: у него нет нужных денег. Тряхнув всеми остатками былой роскоши, взяв из банка сумму, оставшуюся после ликвидации отцовского наследства, и прибавив сбережения матери, Анри едва наскреб несколько тысяч ливров. Для задуманного грандиозного предприятия это была не сумма. Значит, необходимо привлечь капиталы со стороны. Но чтобы найти компаньона, нужно соблазнить его прибылями; а будут ли прибыли? И тут новоявленный благодетель крестьян соображает: а ведь предприятие, если поставить его на широкую ногу, сулит немалые барыши — куда большие, нежели мадридская компания дилижансов!..
И вот уже он охвачен обычной жаждой, настоящей предпринимательской горячкой. С пером и бумагой в руках он прикидывает, подсчитывает, выравнивает столбцы цифр и в изумлении ерошит свою шевелюру.
Черт возьми! Да это же просто поразительно! Помогая революции, он заработает столько, что на всю дальнейшую жизнь обеспечит себя средствами для любых затей и экспериментов!..
Расчет Сен-Симона был несложен, и в эти годы нашлось много таких же, как он, умников, смекнувших, что в воздухе запахло большой наживой.
Государство, стремясь распродать национальные имущества, предлагало покупателям весьма льготные условия. При покупке вносилась только часть стоимости (от 12 до 30 процентов, в зависимости от категории имущества), остальное подлежало рассрочке на двенадцать лет. Это значило, что посредник, приобретший у муниципалитета земли, перепродав их за наличные, мог немедленно совершить новую куплю и, повторяя этот трюк несколько раз, получал оборотные средства, намного превышавшие первоначальный капитал.
Но главное было не в этом.
Приступив к ликвидации национальных имуществ, Учредительное собрание выпустило для уплаты за них специальные государственные денежные обязательства — ассигнаты — сразу на сумму четыреста миллионов ливров. Эта сумма равнялась цене предназначенной к продаже части национальных имуществ. Вначале ассигнаты, имевшие нарицательную стоимость в тысячу ливров каждый, котировались как ценные бумаги. Однако вскоре им была придана функция бумажных денег: их стали выпускать мелкими купюрами, и они приобрели хождение наравне со звонкой монетой.
Выпуск ассигнатов означал как бы предварительное отчуждение национальной собственности. Государственным кредиторам платили долг ассигнатами, ассигнаты же принимались как предпочтительная уплата при покупке национальных имуществ. Номинал брошенных на рынок ассигнатов по закону не должен был превышать стоимости имуществ. По возвращении в казну они подлежали сожжению.
Однако расчеты законодателей не оправдались. Металлические деньги начали быстро исчезать из обращения, пришлось прибегать к принудительному курсу, но все же ассигнаты разменивались неохотно и вскоре упали на 20 процентов номинальной стоимости. Падение курса заставило увеличить выпуски, а это, в свою очередь, понижало курс, и вскоре Учредительное собрание довело сумму ассигнатов почти до двух миллиардов. Ассигнаты стали котироваться из расчета 43 на 100, но не перестали представлять национальные имущества, которые соответственно падали в цене при официальных расчетах. Легко представить, какой простор открывался отныне для земельных спекуляций!..
Действительно, купив у государства землю на ассигнаты и перепродав ее долями по курсу звонкой монеты, спекулянт на полученные деньги скупал новые ассигнаты за 50–40 процентов их номинальной стоимости, а потом расплачивался ими с государством за новые покупки. Так как казначейство принимало ассигнаты по номинальному, а не по спекулятивному курсу, каждая подобная сделка приносила немалый барыш, который возрастал в арифметической прогрессии по мере увеличения числа сделок…
Все рассчитав и взвесив, Анри начал искать компаньона и вскоре остановился на академике Лавуазье. Выбор не был случаен. Антуан Лоран Лавуазье слыл не только великим ученым — одним из основателей современной химии, но и очень богатым человеком. Происходивший из состоятельной буржуазной семьи, он в том же 1778 году, когда был избран в академию, вступил в коллегию генеральных откупщиков. Откупная система, с полным основанием ненавидимая народом, давала Лавуазье большие средства, из которых он только часть тратил на свои опыты. Зная об этом, всегда благоговевший перед учеными Сен-Симон поздравлял себя с тем, что нашел подходящую кандидатуру. Однако ему не удалось соблазнить знаменитого химика — Лавуазье не желал ни увеличивать своих доходов, ни рисковать ими. Он отказался дать деньги.
Тогда вдруг Анри осенило: он вспомнил о Редерне.
Граф Редерн работал на прусской дипломатической службе. С ним Сен-Симон впервые встретился в Мадриде, когда хлопотал о проекте своего канала. Его приятно удивило тогда, что немец в противовес многим другим очень внимательно отнесся к его планам, охотно слушал и, видимо, сочувствовал. Теперь Редерн находился в Париже. Он был богат — это Анри знал наверное — и должен был, по всей видимости, оказаться более сговорчивым, чем Лавуазье.
…Граф Редерн, вежливо улыбаясь, слушает собеседника. Взгляд его бесцветных, белесых глаз, как всегда, внимателен. Он дипломат не только по своему служебному положению, но и по своей природе, а потому умеет скрыть охватившую его радость. Сдержанно-любезный и ровный, как обычно, он слушает горячую, сбивчивую речь своего нового друга и лишь иногда вставляет слово либо задает вопрос.
Да, он и раньше чувствовал, что мадридская встреча не была случайной. Уже тогда обратил он внимание на этого крайне необычного человека, в котором уживались дикая фантазия с практической сметкой, нелепое прожектерство с духом предпринимателя. Вот и теперь он попал в самую точку. Редерн, давно присматриваясь к происходившему, ясно видел, какое поприще открывается в революционной Франции для делового человека. К сожалению, сам он, как иностранец, не мог вмешаться в азартную игру, чтобы сорвать свой куш. И вот теперь само небо посылает к нему этого сумасшедшего пророка, этого разумного безумца. Безумец представляет себе все не менее трезво и точно, чем есть на самом деле. Он, правда, воодушевлен бреднями о том, что помогает крестьянству, что продвигает вперед революцию. Редерну нет никакого дела ни до французского крестьянства, ни до французской революции. Ему очень скучно слушать всю эту болтовню, весь этот вздор. Но он слушает и всем своим видом изображает полное понимание и полную солидарность, а когда Сен-Симон со слезами на глазах устремляется к нему, он раскрывает объятия. Ну что ж, действуй, мой милый ребенок, стриги подчистую своих покупателей и французское казначейство, а потом — даст бог! — я обстригу тебя…
Итак, дружба и общность до гробовой доски. Остается обсудить деловые детали.
Редерн настолько верит своему другу, что готов предоставить ему всю свою наличность, предоставить на полное его усмотрение, ибо сам дипломат вскоре должен будет покинуть Францию. Он дает Сен-Симону сто девяносто тысяч ливров наличными — эти деньги принадлежат сестре Редерна, баронессе Штольберг — и сверх того целую кучу денежных бумаг, преимущественно акций Ост-Индской компании, которые приносят в сумме двадцать пять тысяч годового дохода. Правда, теперь эти акции несколько упали в цене, но Редерн может указать банкира, который согласится учесть их и выдать взамен изрядную сумму денег.
Анри в восторге. Он и не рассчитывал на столь блестящий успех. Одним удачным ходом он приобрел и верного друга, и необходимые средства! Можно ли было ожидать большего?
Если бы Сен-Симон обладал даром предвидения, он, вероятно, проклял бы этот момент и стал бы срочно искать другого, менее обходительного компаньона. Но будущее от него сокрыто, а потому он полон оптимизма и любви к славному дипломату.
Остается уломать банкира.
Банкир принял Анри словно доброго знакомого: рекомендация графа Редерна оказалась лучшей визитной карточкой. Это был крошечный суетливый человечек с очень подвижными руками и маленькими голубыми глазками, глубоко спрятанными под рыжими мохнатыми бровями. Прусский подданный, невшательский банкир Перрего обосновался в Париже с начала революции. Крупный финансовый воротила, он, как и Редерн, понял, что теперь здесь будет пожива. Кроме своего основного занятия, Перрего вел какие-то темные дела, сотрудничал с английским посольством и якшался кое с кем из видных политических деятелей, связанных с правительством.
Посылая Сен-Симона к Перрего, Редерн знал, что делает. Невшателец собирал падавшие в цене финансовые обязательства, в частности акции Ост-Индской компании, рассчитывая в дальнейшем с помощью сложных махинаций поднять их курс и получить немалую прибыль. Он взял у Анри его бумаги, дав под них 636 тысяч ливров, но поставил при этом условие: компаньоны должны были принять его в свое сообщество. Перрего указал Анри верного человека, на помощь которого можно было рассчитывать в Пикардии: это был связанный с банком нотариус, господин Кутт, проживающий в Перонне.
Итак, все шло как нельзя лучше. В руках нового дельца собралась сумма в 760 тысяч ливров. В январе 1791 года после трогательного прощания граф Редерн покинул Париж, и Сен-Симон остался единственным распорядителем грандиозного дела.
Он начал действовать без промедления. В течение первой трети 1791 года он скупил земель на 800 тысяч ливров. Значительная часть купленного была размельчена и тут же перепродана. Анри проявлял бешеную активность. Он привлек к делу пероннского нотариуса Кутта, завел многочисленных агентов. Даже в день 21 июня, когда сам Анри исполнял обязанности начальника Национальной гвардии в Перонне, у него шли выгодные дела в Камбре, где оперировало подставное лицо. К тому времени, когда Анри Боном разочаровался в революции, Анри Симон уже по горло увяз в спекуляциях.
Разумеется, он не забыл своих старых друзей — крестьян. Им он продавал земли по твердым ценам, без всякой выгоды для себя, стремясь лишь к тому, чтобы Жак-боном мог наконец вздохнуть свободнее. В архивах сохранились документы, показывающие, что в округе Камбре Сен-Симоном была продана прежняя собственность монастыря Восель ста двенадцати крестьянским семьям. Аналогичные сделки имели место и в других районах Северной Франции, в департаментах Нор, Соммы, Па-де-Кале.
И все же это была капля в море, мелкая благотворительность, под стать знакомому Сен-Симона, известному филантропу Ларошфуко. Что значили сто двенадцать семейств, получившие землю, по сравнению с двенадцатью миллионами, оставшимися без земли? К этому еще надо прибавить, что покупались земли лишь зажиточными крестьянами, бедняки же, не имевшие средств, в расчет не принимались.
Но главным покупателем национальных имуществ был и оставался буржуа. Именно в эти годы массами появлялись «нувориши», люди, которые, использовав революционное законодательство, обогатились и стали новыми хозяевами страны.
Типичным нуворишем был один из вождей революции, Жорж Жак Дантон, сделавший состояние на земельных спекуляциях.
Таким же нуворишем стал и сам Сен-Симон, вчерашний опрощенец и просветитель крестьян, позавчерашний отпрыск одного из аристократических родов старой Франции.
Пока Анри разъезжает по аукционам и торгам, положение в стране становится все более напряженным. В октябре 1791 года Учредительное собрание сменяется новым, Законодательным, избранным по цензовой системе из числа «активных» граждан, а в апреле следующего года Франция вступает в войну с коалицией европейских монархов.
Поскольку у власти продолжают оставаться король и крупные собственники, поскольку в генеральный штаб проникает измена, а строевые офицеры-дворяне не желают служить революции, война приносит лишь поражения, голод и разруху.
Все туже затягивает ремень Жак-боном.
Но демократы-якобинцы используют новую ситуацию, чтобы снова поднять народ. В столице возникает повстанческая коммуна. В провинциях формируются батальоны федератов, готовых помочь своим парижским братьям. Под звуки боевого гимна — «Марсельезы», федераты юга вступают в столицу, и 10 августа 1792 года санкюлоты штурмом берут королевский дворец Тюильри.
Король свергнут. Тысячелетняя французская монархия прекратила свое существование.
Очищающий ветер революции веет над страной. Власть крупных собственников уничтожена. Старая цензовая конституция больше не действует, и в новый орган верховной власти — Национальный Конвент — своих депутатов посылает весь французский народ, без деления на «активных» и «пассивных».
На первом же своем заседании, 21 сентября 1792 года, Конвент под аплодисменты всей страны провозглашает Францию республикой.
Все это, казалось бы, должно радовать Сен-Симона, старого поборника свободы и равенства. Но Сен-Симон ничего этого словно не замечает. Он настолько отошел от революции, что вряд ли его может тронуть ее новая победа. Тем более что жизненные неурядицы тоже давно отступили: в то время как Жак-боном голодает, Анри Боном имеет все в избытке, он окружен всеми жизненными благами и может с утра до вечера наслаждаться и пировать.
Впрочем, пировать ему некогда. Он настолько поглощен спекулятивной игрой, что не находит времени для остального. Жизнь его становится необыкновенно нервной, напряженной, он выматывается до полного опустошения.
«Кто хочет цели, должен любить и средства», — часто повторяет Анри. Но цель туманна, неопределенна, временами она исчезает в далеком будущем, зато средства требуют все новых сил, новой хитрости и изворотливости, средства по временам даже заставляют забывать и о цели.
1792 год приносит гораздо больше, чем предыдущий. Земельные владения «Симона и Кº» теперь раскинулись по всей Северной Франции. Вряд ли кто из его славных родственников и предков — всех этих пэров, герцогов, маркизов и баронов — имел столько земли в лучшие дни своей жизни! Теперь Анри продает гораздо меньше, чем в первое время. Он оставляет поля и деревни, луга и леса — целые массивы в своем непосредственном владении. В деревнях сидят приказчики, на пахотной земле — арендаторы Арендаторы исправно платят арендную плату, приказчики наводят порядок и посылают ежемесячные сводки. Все идет как по маслу, и, кажется, этому преуспеянию не будет конца.
А между тем на пороге год тысяча семьсот девяносто третий…
На первых порах год этот также радует Сен-Симона: государством конфискованы земли эмигрантов — значит, количество сделок увеличится во много раз.
И действительно, количество сделок увеличивается. За короткий срок Анри совершает три покупки: на 50 тысяч 386 ливров, на 18 тысяч 201 ливр и на 6 тысяч 255 ливров, в общей сумме почти на 75 тысяч ливров. Если так пойдет и дальше, то вскоре некуда будет девать ни земель, ни денег!..
Но вдруг он останавливается.
Что-то начинает его тревожить, сначала смутно, потом все сильнее. Уж не слишком ли стремительный ход событий? Да каких событий!..
21 января по приговору Национального Конвента ложится под нож гильотины бывший король Людовик XVI, «Луи Капет», как теперь его величают в народе.
Ужас охватывает феодально-монархическую Европу. Но это мало беспокоит молодую Французскую республику.
— Вам угрожали короли! — кричит под рукоплескания Конвента Дантон. — Вы швырнули им перчатку, и этой перчаткой оказалась голова тирана!
Сам Конвент превращается в поле боя. Против демократов-якобинцев отчаянно дерутся лидеры крупной торгово-промышленной буржуазии — жирондисты. Жирондисты хотят притормозить победный ход революции. Хотели бы они притормозить и победы на внешних фронтах. Они согласны даже вступить в сделку с врагами революции, лишь бы погубить ненавистных якобинцев.
Но демократы во главе со своими вождями — Маратом, Робеспьером, Дантоном не уступают Жиронде. А затем новое победоносное восстание парижского народа выносит свой приговор: жирондисты изгнаны из Конвента и взяты под арест.
Гора сокрушает Жиронду.
Это происходит в начале июня.
Вот именно тогда-то Сен-Симон и начинает испытывать первые признаки тревоги.
Вскоре он понимает почему.
ГЛАВА 3 НА ПУТИ К ГИЛЬОТИНЕ
Если бы некий вельможа старого порядка, впавший в летаргию накануне революции, затем вдруг внезапно проснулся, то, произойди это в 90-м или 91-м году, он вряд ли особенно удивился; проснись он в конце 92-го, он был бы изумлен; проснувшись же летом или осенью 93-го, он ничего бы не понял и, вероятно, решил, что сходит с ума.
Сен-Симон отнюдь не проспал всех этих лет, и тем не менее теперь ему временами казалось, что он очутился за чертой реальности.
Таковы были перемены.
От старого порядка не осталось больше ничего.
Проходя по Парижу, Анри уже не встречал своих прежних знакомых в кружевных жабо, пудреных париках и коротких шелковых панталонах; все «бывшие» либо эмигрировали, либо приняли личину санкюлотов, а санкюлоты щеголяли в длинных брюках, вязаных куртках и красных колпаках. Обращение на «вы» исчезло вместе с серебряными пряжками на туфлях, «господина» заменил «гражданин», гражданскими стали процессии и праздники, давно похоронившие традиционного католического бога. Многие исповедовали «культ Разума», а иные отказались от всякого культа. Даже календарь стал гражданским и республиканским: новое летосчисление велось от 22 сентября 1792 года — с момента провозглашения республики, а месяцы, получившие новые названия, делились не на недели, как раньше, а на декады.
Жизнь была трудной. Хлеба не хватало, у мясных лавок очереди не иссякали до поздней ночи. Но это не влияло на настроение парижан. Санкюлоты принимали деятельное участие в работе клубов, секций, революционных комитетов, заполняли галереи для публики на заседаниях Конвента, толпились в здании Революционного трибунала. Женщины стремились не отставать от мужчин. Политические страсти зачастую разгорались настолько, что посетители галерей заставляли депутатов прерывать заседание. Человек, не аплодирующий Робеспьеру, немедленно слышал угрозы и оскорбления. На улицах, в кафе, у газетных киосков — повсюду с жаром обсуждали события дня: известия с фронта, очередной декрет Конвента, приговор Революционного трибунала, выдающуюся речь в Якобинском клубе. На газеты набрасывались с жадностью. Толпились у пестрых афиш и многоцветных плакатов, расклеенных на стенах домов; тут же можно было видеть столы, расставленные цепью вдоль улицы, за которыми обедали и ужинали граждане данного квартала. Это было новое явление: братская трапеза. Мужчины, женщины, дети, люди разного положения и достатка собирались за этими трапезами, каждый внеся предварительно свой продуктовый пай. Во время еды вели оживленные политические споры, пели патриотические песни, дети читали наизусть статьи конституции. Новой демократической конституции, вдохновленной учением великого Руссо и принятой с редким единодушием: когда Конвент представил ее на утверждение народа, за нее проголосовали даже в тех департаментах, где хозяйничали жирондисты.
2 июня 1793 года обозначило важную грань.
С падением Жиронды революция быстро пошла к своему апогею.
Демократы-якобинцы, утвердившиеся отныне у власти, представляли в первую очередь интересы мелкобуржуазных слоев. Но сила их заключалась в том, что они опирались на широкие народные массы, были «якобинцами с народом»,[26] и поэтому всей их политике оказались присущи особенные смелость и широта.
Не ограничившись созданием новой конституции, якобинцы безотлагательно взялись за коренной вопрос, от которого отмахивались все предшествующие партии и группировки. Уже на следующий день после изгнания жирондистов Конвент предписал разделить на мелкие доли все поместья дворян-эмигрантов. Образовавшиеся участки надлежало пустить в продажу на льготных условиях с длительной рассрочкой. Это был удар по скупщикам, спекулянтам и земельным ажиотерам: теперь государство само, без посредников шло на удовлетворение нужд Жака-бонома. Через неделю был принят новый закон, передававший крестьянам общинные земли. А 17 июля утвердили декрет о полной, окончательной и безвозмездной отмене всех феодальных повинностей.
Эти смелые акты должны были сплотить — и действительно сплотили — вокруг Горы широкие массы крестьян. Крестьяне становились мощной опорой якобинской республики в ее борьбе с армиями интервентов и внутренним врагом. Теперь же это оказывалось необходимым более чем когда бы то ни было.
Летом 1793 года огненное кольцо все туже сжимает молодую республику.
Пять иностранных армий теснят обескровленных патриотов. Контрреволюционный вандейский мятеж, перебрасываясь в новые районы, постепенно охватывает весь запад. Англичане усиливают блокаду и высаживают десанты. А в 60 департаментах разгораются смуты, стимулируемые жирондистами и их союзниками.
Враги не пренебрегают никакими способами борьбы.
13 июля от руки подосланной жирондистами убийцы пал пламенный трибун революции — Жан Поль Марат. В тот день, когда одетый в траур Париж хоронил Друга народа, в мятежном Лионе был казнен вождь якобинцев Жозеф Шалье. Патриотов убивали повсюду. Точились ножи против Робеспьера и Дантона. Поверженная Жиронда вступила на путь разнузданного белого террора.
Все это потребовало энергичных ответных мер. И меры были приняты. Под натиском масс, ясно сознавая колоссальные трудности борьбы, якобинцы пошли на быструю и радикальную перестройку государственной машины. Считая, что в обстановке грозящих республике заговоров простое выполнение законов, предназначенных для мирного времени, было бы недостаточным, Конвент принял отсрочку вступления в силу новой конституции. Вместо этого власть сосредоточивалась в руках временного Революционного правительства во главе с Робеспьером, наделенного весьма широкими полномочиями.
— Теория Революционного правительства, — говорил Робеспьер в Якобинском клубе, — так же нова, как и сама революция, которая ее выдвинула. Было бы бесполезным искать эту теорию в трудах политических писателей, которые не предвидели нашей революции, или в законах, с помощью которых управляют тираны. Задача конституционного правительства — охранять республику; задача правительства революционного — заложить ее основы… Революционное правительство должно проявить чрезвычайную активность именно потому, что оно находится на военном положении. Для него не пригодны строго единообразные правила ввиду тех бурных, постоянно меняющихся обстоятельств, среди которых оно действует, и особенно потому, что при наличии все новых и грозных опасностей оно вынуждено беспрестанно пускать в ход все новые и новые ресурсы… Революционное правительство обязано обеспечить всем гражданам полную национальную охрану; врагов народа оно должно присуждать только к смерти…
Теория Робеспьера отнюдь не противоречила практике. Осенью 1793 года Конвент провел ряд мер, направленных на углубление революции. Реорганизовали Революционный трибунал, судопроизводство которого было упрощено и ускорено. Издали декрет о «подозрительных», согласно которому подлежали аресту все лица, «своим поведением, речами или сочинениями проявившие себя как сторонники тирании». Была организована особая революционная армия для борьбы со скупщиками и спекулянтами в провинции.
На белый террор якобинская Франция отвечала красным террором.
Меч революционного закона стал опускаться с большой быстротой и силой. После убийцы Марата, Шарлотты Корде, на эшафот вступила другая женщина, бывшая королева Франции, некогда столь изысканная и блестящая Мария-Антуанетта. За нею настал черед вождей Жиронды. В начале октября гильотина снесла голову бывшему герцогу Орлеанскому, которого не спасла его новая фамилия Эгалите. На эшафоте кончил красавчик Барнав. Среди прочих в тюрьме дожидался смертного приговора товарищ Анри по Американской войне бывший герцог Лозен.
Одновременно правительство занялось и подозрительными иностранцами — дельцами, финансистами, банкирами, которые под масками санкюлотов и патриотов давно уже плели цепь контрреволюционных интриг. Выяснилось, что эти «поборники свободы» работали на враждебные Франции державы и завлекли в свои сети кое-кого из видных членов Конвента. Среди прочих был уличен и банкир Перрего, тайный компаньон Сен-Симона, который оказался английским резидентом, распределявшим суммы за услуги по диверсии и шпионажу…
В этих условиях торговец национальными имуществами гражданин Симон (он же Боном) начинает чувствовать себя крайне неуютно. Причем с каждым днем ему становится все хуже. Он продолжает заниматься своими операциями и старается гнать от себя мрачные мысли, но мысли, как бумеранги, возвращаются обратно, и никуда от них не уйти.
Как ломает, как засасывает жизнь! Что же выходит? Сделал шаг, и дальше идет все уже совершенно независимо от тебя!.. Ведь на заре революции он был преданным патриотом, другом простого народа. Потом разочаровался и отошел. А сегодня — враг. Ну полно, враг ли?.. Разве своей деятельностью не помогает он революции сегодня так же, как и вчера? Нет, не помогает. Революция обогнала его, ушла далеко вперед, а он со своими делишками остался по ту сторону рубежа. Он занимается спекуляцией, как раз тем самым, что особенно бьет по санкюлотам, за что сейчас особенно преследуют. Ибо всякая скупка, любая спекуляция идет во вред голодающим и на пользу тиранам. Но этого мало. Он дружит с подозрительными иностранцами, один из которых бежал из Франции, а другой находится под следствием. Сам он бывший аристократ (теперь это тоже преступление), а два его брата и дядя маркиз Сен-Симон эмигрировали! Чего же еще надо?..
Действительно, за ним давно наблюдают. За ним и за его близкими, оставшимися во Франции. Вскоре от некоего гражданина Дюбуа поступает донос на его сестру Аделаиду, которая прежде дружила с «гражданкой Эгалите» (герцогиней Орлеанской), а в настоящее время «сторонится людей». Обвинение не очень страшное, и все же согласно закону о «подозрительных» к Аделаиде вполне применимо положение о национальном надзоре. 19 фримера (9 декабря) урожденную графиню Сен-Симон арестовывают, причем во время обыска у нее находят контрреволюционную литературу…
Анри встревожен. Он еще не знает, что на него самого 8 октября был сделан донос в революционный комитет Перонны и что теперь его дело находится в Париже. Не знает он также и того, что через восемь дней после ареста сестры был подписан ордер и на его арест. Однако он понимает: надо бежать, бежать из столицы куда-нибудь, где он никому не известен. И поскорее. Лучше сегодня, ибо завтра может быть поздно…
…29 фримера (19 декабря). Пасмурный, холодный день. У подъезда дома № 55 на улице Закона (бывшей Ришелье) нетерпеливо стучит копытом оседланный конь. Его владелец срочно складывает самые необходимые вещи. Ну вот и все. Попрощавшись с хозяином, гражданином Леже, Анри спускается к выходу.
Навстречу идут двое в черном. Воротники подняты, шляпы надвинуты на глаза.
— Скажите, где проживает гражданин Симон?
— Во втором этаже, — спокойно отвечает гражданин Симон, выходит на улицу, вскакивает в седло и сразу пускает коня галопом.
…Ветер свистит в ушах. Вот и предместье. Вот и ворота Сен-Мартен… Свобода!..
Но мозг упрямо сверлит одна и та же мысль. Сейчас они схватят Леже, его бросят в тюрьму как соучастника побега… Может ли он, Анри, так подло предать ни в чем не повинного человека?.. Да и на что сам он надеется? Несколько дней мучительной игры в кошки-мышки, а потом?.. Они все равно затравят его, как гончие зайца: от всевидящего ока Комитета общественной безопасности не уйдешь, не спрячешься. И тем, что он бежит, он сам заведомо признает свою вину…
Нет. Опасности нужно смотреть прямо в лицо, а не прятаться за спины других. Он не заяц. Он готов ответить на все обвинения…
Конь давно уже перешел на шаг. Теперь всадник поворачивает. Через улицы Монне и Сент-Оноре он направляется к отелю де Брион, где заседает Комитет общественной безопасности.
В тот же день гражданин Симон водворяется в Сен-Пелажи.
Сен-Пелажи принадлежала к числу тюрем особо строгого режима. Это Анри почувствовал, едва перешагнув ее порог. Это же в подробностях и деталях объясняют ему коллеги по несчастью. Да, ему не повезло. Вот, например, в Люксембургской тюрьме арестованные не знают иных цепей, кроме любовных. Они проводят восхитительные дни в объятиях прекрасных пленниц, в парке, засаженном фруктовыми деревьями, среди музыки, стихов и сплетен. Или в Пор-Либр. Там вообще нет решеток и жизнь мало чем отличается от жизни в замке — те же развлечения и тот же стол. А здесь хуже и быть не может. Заключенным не принадлежит ничего, кроме деревянной тарелки и чашки, мясо же, когда его дают, приходится разрывать руками. Всякие сношения с внешним миром категорически запрещены. Газет и книг нет и в помине, единственно, о чем разрешается писать на волю, не считая ходатайств и заявлений, — это просить белья. Одним словом, могила…
Но на первых порах тюремный режим мало беспокоит Сен-Симона. Он еще надеется, что может отсюда выйти. И поэтому, не тратя времени даром, просит перо и бумагу. Он пишет в Комитет общественной безопасности, пытаясь объяснить «ошибку»:
«…Я думаю, что арестован вместо другого, так как имя Симон, указанное в ордере, это не то имя, которое я носил, прежде чем назвался Бономом…»
Он всячески подчеркивает, что полностью порвал со своим прошлым и не желает иметь ничего общего с «бывшими»:
«…Я чувствовал необходимость отстранять от всякой общественной деятельности в период революции прежних дворян и священников, которых почти поголовно считал врагами; и я не пренебрегал никакой возможностью, чтобы внушить эту мысль моим согражданам…
…Я не поддерживал связей с бывшим дворянством ни в Перонне, ни где бы то ни было в течение всей революции; мои родственники не составляли исключения. Я горжусь ненавистью, которую испытываю к знати…»
Он подробно описывает свое славное прошлое, сообщает, что был ранен во время войны за освобождение американского народа, подчеркивает, что вернулся во Францию с началом революции. Он не забывает отметить, что не получил «ни су» наследства, что ничего не делал для двора и отказался от офицерского жалованья. Говоря о своих спекуляциях, он объясняет, что здесь также главную роль играла любовь к революции. И даже связь его с «неким саксонцем», то есть Редерном, оказалась «полезной для республики», ибо она привела к тому, что «…иностранные деньги остаются во Франции…».
«…Я не имел другого добра, кроме национальных имуществ, за которые всегда платил плодами своего труда, — заключает узник. — Разве не очевидно, что все мои интересы связаны с поддержкой революции и что, показывая себя всегда и везде одним из наиболее преданных друзей ее, я стал одной из первых жертв контрреволюции».
Это послание подписывает уже не Боном и не Симон. Теперь ни того, ни другого нет больше и в помине. Под заявлением стоит четкая подпись: «Анри Сен-Симон». Круг завершается: отныне экспериментатор, какие бы он эксперименты ни производил, не станет менять своего имени.
Он ждет. Ответа не поступает. Комитету всеобщей безопасности сейчас явно не до него. Он готов снова взяться за перо, но товарищи по заключению уговаривают: не надо испытывать судьбу. Все идет как нельзя лучше. Пускай о нем забудут, забудут покрепче. Ибо если революционные власти вспоминают о ком-либо из находящихся здесь, то это не приводит ни к чему, кроме гильотины. Особенно в такое время.
Время действительно было крайне напряженным. Если революционному правительству удалось в какой-то мере разрешить аграрную проблему, покончить с голодом и разгромить внешних и внутренних врагов, то главная опасность подстерегла его там, где меньше всего ее ожидали. Зимой и весной 1794 года обнаружился острый раскол внутри самого якобинского правительства. От группировки, возглавляемой Робеспьером, стали отделяться правая и левая фракции, тотчас вступившие на путь непримиримой борьбы.
Правые, возглавляемые Дантоном, представляли интересы нуворишей, новой спекулятивной буржуазии, выросшей за годы революции. Крайне напуганные террором и экономическими ограничениями, лидеры правых требовали «милосердия», иными словами, немедленного поворота вспять, ко времени свободного предпринимательства и неограниченной наживы. Левые во главе с прокурором Коммуны Шометтом, напротив, полагали, что революция еще весьма далека от завершения. Они требовали новых энергичных мер против спекулянтов и саботажников, усиления террора, удовлетворения интересов более широких слоев народа.
Верный ученик Руссо, боявшийся «крайностей», Робеспьер не сочувствовал ни одной из фракций. Попытавшись поначалу их примирить, он вскоре увидел, что дело зашло слишком далеко. В особенности это стало ясным после того, как было установлено, что многие из правых увязли в темных сделках с подозрительными иностранцами — шпионами и врагами революции. Тогда Робеспьер и его ближайшие соратники изменили тактику. Опираясь на правительственные комитеты, они нанесли внезапные удары правым и левым и разгромили обе фракции, вожди которых были отправлены на гильотину.
Это произошло весной 1794 года, в месяце жерминале (март — апрель).
А 14 флореаля (5 мая) Сен-Симон, отсидевший четыре с половиной месяца в Сен-Пелажи, переводится в Люксембургскую тюрьму.
Еще совсем недавно Люксембург был мечтой заключенных, как тюрьма наиболее легкого режима. Но с весны этого года «легкого режима» больше не существовало. В Люксембурге побывали Дантон и его друзья, прежде чем отправиться на эшафот, и теперь это место называют «предбанником смерти». В особенности после страшного закона 22 прериаля (10 июня). Закон этот, проведенный робеспьеристами в период агонии революционного правительства, до крайности упрощал судебную процедуру при весьма расширительном толковании понятия «враг народа».
Наступало царство «святой гильотины». За сорок пять дней, начиная с 23 прериаля, Революционный трибунал вынес 1350 смертных приговоров — почти столько же, как за пятнадцать предшествующих месяцев. Вследствие ускоренного порядка судопроизводства приговоры незамедлительно следовали один за другим и тут же приводились в исполнение. Судьба человека подчас решалась с молниеносной быстротой: в пять часов утра его арестовывали, в девять сообщали обвинительный акт, в десять он сидел на скамье подсудимых, в два часа дня получал приговор и в четыре оказывался обезглавленным! На всю процедуру — от ареста до казни — уходило менее полусуток! Теперь тюрьма превратилась в промежуточную стоянку на пути к гильотине. Но как быстро ни опорожнялись тюрьмы, поставляя жертвы эшафоту, наполнялись они еще быстрее, и невероятная, все увеличивающаяся скученность заключенных приводила к резкому ухудшению условий их содержания.
В Люксембурге дело осложнялось одним специфическим обстоятельством. Начальник тюрьмы, добродушный Бенуа, был смещен и предстал перед Революционным трибуналом как пособник врагов народа. 1 мессидора (19 июня) вместо него был назначен мрачный Гюйяр, прославившийся в качестве ассистента жестокого Фуше в период подавления лионского мятежа. Это не могло не наложить отпечатка на характер режима тюрьмы в те дни, когда в ней пребывал Сен-Симон.
…В переполненной камере не хватает воздуха. Маленькие оконца, проделанные у самого потолка, почти не дают света даже в солнечный день. По вечерам свечей не полагается, и ночь царит здесь в течение большей части суток. Прогулки по парку отошли в область невозвратимого прошлого. Из ведер с нечистотами, стоящих посреди камеры, плывут едкие, зловонные миазмы. Тошнотворную вонь издают и грязные, никогда не сменяемые соломенные матрацы. На матрацах копошатся люди. Многие из них больны, но их не переводят в больницу, иные мертвы, но их и не думают убирать…
…Ухо невольно прислушивается к стонам и хрипам, к лязгу окованной железом двери, которая открывается лишь для того, чтобы впустить очередную жертву сюда или выпустить ее на гильотину. Когда же твой черед?.. Быть может, сегодня?.. Уж не твое ли имя произнесли только что там, в коридоре?..
Сен-Симон давно потерял счет времени. Его голова затуманена, часто лихорадит, и тогда он словно проваливается в черное небытие. Но иногда наступает пробуждение. Мозг работает с исключительной ясностью. Набегают мысли, воспоминания. Снова и снова встает перед глазами весь пройденный путь…
…Ведь началось все тоже с тюрьмы. Из-за первого причастия. И это открыло глаза на многое. А потом — Америка, Нидерланды, Испания, Франция… И революция… Нет, не зря прожита эта жизнь. И она не окончена. Она не может так окончиться. Она только начинается. Ибо не может быть, чтобы все происшедшее происходило зря. Оно не может быть случайным. Оно не было случайным. Оно готовило своего избранника к чему-то важному, большому, нужному людям. Цель еще не вполне видна, но, без сомнения, цель есть. А кто хочет цели, должен любить и средства…
Много позднее Сен-Симон будет утверждать: в одну из кошмарных ночей, когда он обливался потом, задыхался, мучимый жаром, и, казалось, должен был вот-вот кончить счеты с жизнью, к нему явился его знаменитый предок, Карл Великий.
Император был облачен в длинную мантию, на голове его сверкала корона, в руках поблескивали скипетр и держава. Его лицо, подобное иконописному лику, обрамленное густой седой бородой, оказалось точно таким, каким видел его Анри тысячи раз на фамильном портрете в старом замке Берни.
И Карл сказал:
— С тех пор как существует мир, ни одной семье не выпало на долю чести дать человечеству и великого героя, и великого философа. Честь эта принадлежит моему дому. Сын мой, твои успехи в философии сравняются с теми, которые достались мне как воину и политику…
Этот рассказ мы оставим на совести Сен-Симона.
Может быть, перед нами одна из его обычных фантазий, которых столько прошло на его веку. Но не исключено, конечно, что в бреду ему могло померещиться нечто подобное им описанному.
Важно другое.
Не подлежит сомнению — и «видение» Сен-Симона является косвенным тому доказательством, — что именно теперь, в Люксембургской тюрьме, в нем произошел важнейший жизненный перелом, который вывел его в конечном итоге на путь социологии.
Перелом этот подготовлялся постепенно. И следствия его скажутся далеко не сразу. Но кульминация его началась именно здесь и именно теперь.
…С раннего детства он видел, что все люди делятся на два мира: мир тружеников и мир бездельников, тунеядцев. И где бы он потом ни находился — за границей или у себя на родине, он повсюду видел эти два мира. И везде тунеядцы господствовали над тружениками. И везде тунеядцам было хорошо, а труженикам плохо. Нормально ли это? Конечно, нет. Он рано понял, что нет. И как только понял, стал сам трудиться — создавать, организовывать и помогать людям труда. Но не преуспел в этом. Почему? Потому, что у него не было общей системы, он не знал общей науки, которая только одна могла бы указать человечеству разумный, правильный путь.
Этот путь искали. И не могли найти. Великий Руссо, отчаявшись в поисках, стал утверждать, что золотой век остался позади, что ныне вернуть его невозможно. Но это же величайшее заблуждение! Достаточно посмотреть, как развились различные отрасли науки и техники за последнее столетие, чтобы стало ясно: нет, не позади нас, а впереди, только впереди находится золотой век! Впереди подлинное счастье людей-тружеников, за ними, и только за ними, будущее!..
Сен-Симон еще раз обращается мыслью к прошедшей жизни.
Он много видел и много узнал. Быть может, побольше, чем великий Руссо. Он был и прожигателем жизни, и солдатом, и путешественником, и просветителем крестьян, и прожектером, и дельцом. Он провел много экспериментов, каждый из которых дал что-то частное. Но теперь все частные надо сложить, обобщить. И сделать выводы…
Это и будет общей наукой…
…Жар одолевает больного. Мысли мешаются. Но последняя из них, которая еще сохраняет ясность, все та же:
— Он найдет верный путь. Он выведет человечество к золотому веку…
Анри Сен-Симон не умер. Его не убила лихорадка. И не сразила гильотина. Хотя пришлось пережить еще много и жизнь продолжала висеть на волоске.
18 мессидора (6 июля) в 11 часов вечера заключенные Люксембургской тюрьмы услышали непонятный шум во дворе. Те, кому удалось добраться до окон, увидели горящие факелы и голубую форму солдат. А через несколько минут началась беготня по коридорам. Всю ночь тюремщики вызывали по спискам очередные жертвы…
Как выяснилось позднее, Гюйяру был подан донос о заговоре, возникшем якобы среди заключенных. Начальник тюрьмы тут же известил Комитет общественной безопасности. И были приняты срочные меры…
Подобные способы «очищения» тюрем широко практиковались в летние месяцы 1794 года. Специально подсаженные шпионы, подслушав неосторожные слова, брошенные в камере, составляли наобум списки мнимых заговорщиков, в которые заносились десятки, а то и сотни имен. На основе подобных обвинений Революционный трибунал провел массовые расправы среди арестантов Бисетра и Кармелитской тюрьмы. Но Люксембург дал особенно пышную жатву: по заранее составленным спискам он отправил на гильотину 156 подобных «заговорщиков»…
К счастью, имя Сен-Симона не попало ни в один из списков.
А всего через три недели после этих событий по тюрьме прокатилась неожиданная весть:
— Робеспьер пал. Царство гильотины окончилось.
Падение Робеспьера вовсе не было таким неожиданным, как могло показаться обитателям Люксембургской тюрьмы. Его предопределила длинная цепь предшествующих событий.
Сила Робеспьера и его соратников заключалась в прочности их связи с народом. Опираясь на народ, поддерживая его инициативу и двигаясь с ним нога в ногу, робеспьеристы были непобедимы. Теперь же, когда возможность дальнейшего развития революции стала пугать не только нуворишей, но и мелкобуржуазные слои, с предельной полнотой обнаружилась буржуазная ограниченность якобинцев и их руководящей группы — робеспьеристов; отсюда — разгром и казнь левых якобинцев во главе с Шометтом, отсюда — многочисленные аресты их сторонников среди простых людей. Но, обрушивая репрессии на деревенскую и городскую бедноту, робеспьеристы не выполняли, да и не могли выполнить обещаний, данных той же бедноте. Вследствие этого они стали терять опору в слоях населения, которые были источником их силы, а вместе с тем потеряли и свою былую способность смело разить врагов. И поэтому жестокий террор прериаля — мессидора обрушился на головы случайных жертв, приводя народ ко все большей озлобленности против Революционного правительства.
Этим воспользовались заговорщики — вожаки все тех же нуворишей, чтобы нанести решающий удар.
9 термидора (27 июля) Робеспьер и его ближайшие соратники были арестованы в Конвенте. Попытка Коммуны поднять восстание в защиту робеспьеристов окончилась неудачей, и на следующий день они без суда и следствия были отданы гильотине.
Со смертью Робеспьера восходящая линия революции окончилась.
Враги Робеспьера обещали открыть тюрьмы и прекратить террор. Но тюрьмы открылись лишь для того, чтобы освободить врагов народа, а жестокий террор обрушился на головы его друзей.
Царство гильотины не окончилось. Она продолжала получать свою ежедневную порцию. 10 термидора были казнены двадцать три человека, 11 — семьдесят, 12 — еще тринадцать.
Между тем, если в свое время о Сен-Симоне забыли робеспьеристы, то теперь о нем не вспоминают и термидорианцы. День проходит за днем, термидор сменяется фрюктидором, фрюктидор — вандемьером, а он пребывает все в том же положении. Проходят почти четыре месяца, прежде чем наступает его черед. Наконец 30 вандемьера (9 октября) двери тюрьмы распахиваются перед ним, и он может вдохнуть долгожданный воздух свободы.
Он просидел в заключении без малого год. Но ему кажется, что прошла вечность.
Анри Сен-Симон покидал тюрьму с совершенно определенными настроениями. Он расставался не только с арестным домом, но и с многими из своих прежних взглядов.
Разочаровавшись в революции еще на первом ее этапе, Сен-Симон не разглядел того основного, главного, что дала она обществу в якобинский период. Он увидел только экономические ограничения, тюрьму, кровь, террор. И поэтому он никогда не смог дать верной оценки Великой французской революции. Но из этого вовсе не следует, будто Сен-Симон, как утверждают некоторые историки, стал врагом революции вообще. Великий мечтатель и сейчас, и позднее, в период работы над своим учением, признавал революцию вполне закономерным и даже неизбежным этапом развития общества, утверждая, что без революции не может быть эволюционного, поступательного развития.
Вместе с тем, твердо решив, что его призвание — разработать некую общую науку, подытожив всю практику прошлого и ближайшего будущего, он, едва выйдя из тюрьмы, с головой погружается в жизнь, в практическую деятельность, в учебу, которая так ему необходима, ибо без познания не может быть созидания, а созидание — вот та все более проясняющаяся цель, которой он готов отдать все свои силы и самого себя.
ГЛАВА 4 САНКЮЛОТ-ВЕЛЬМОЖА
Это случилось 18 брюмера (8 ноября) средь бела дня.
Сен-Симон, проходивший по улице Сент-Оноре, вдруг услышал страшный шум и топот многих ног. Прежде чем он понял, что произошло, его оттеснили и едва не смяли: толпа хорошо одетых молодых людей перекрыла улицу. Отряд, вооруженный камнями и дубинками, двинулся к старой церкви, где шло заседание якобинцев…
…Это был сумасшедший кошмар. Сражение на улице. Сражение с женщинами и детьми. Мелькали чьи-то окровавленные лица, слышались вопли боли и отчаяния…
Осаждающие, подавляя числом, одерживали победу. Они выволакивали членов клуба одного за другим на двор и здесь били, терзали, топтали ногами. Мостовая окрасилась кровью. Патрули, проходившие мимо, и не подумали прекратить побоище…
…Последнее, что увидел Сен-Симон, были двери церкви. Их выломали, торжественно пронесли по улице и разбили в щепы…
Так окончил свои дни знаменитый Якобинский клуб — последний оплот революции.
Да, все снова менялось.
Сен-Симон с удивлением видит, что за время его пребывания в тюрьме жизнь стала совершенно иной.
Куда-то вдруг исчезли санкюлоты в рваных куртках, словно и не бывало красных колпаков, никто не вспоминает о «братских трапезах» или «культе Разума»; нет прежнего оживления у афиш и газетных киосков, забыто обращение на «ты». Вместо всего этого вновь появились кареты со слугами на запятках, а центральные улицы заполнили толпы нарядной, праздношатающейся публики.
Зайдя в Пале-Ройяль, Анри почувствовал, как на него дохнуло ароматом «старого порядка»: те же театры анонсировали те же фривольные пьесы, те же ювелиры и дамские портные зазывали своими витринами богатых клиентов, а маленькие ресторанчики и кафе, словно возродившиеся из пепла, по-прежнему пестрели разряженными прожигателями жизни и их подругами.
Но нет, это не был старый порядок. При более внимательном исследовании аромат оказался иным. Пудреные парики перекочевали с голов господ на затылки лакеев, главным героем дня выступал не жеманный аристократ, а богатый буржуа, и сонм кривляющихся молодых людей, так поразивший Анри в Пале-Ройяле, очень мало походил на его родовитых сверстников, с которыми он развлекался в годы юности.
Нахальный инкруаябль[27] стал полным хозяином улицы. Он усвоил особую присюсюкивающую манеру речи, от него, как от модницы, несло духами, его завитая шевелюра локонами спадала на непомерно широкие отвороты фрака, а в руке он держал короткую сучковатую дубинку, внутри залитую свинцом; это доморощенное оружие предназначалось для санкюлотов, которых банды золотой молодежи избивали в предместьях Парижа и повсюду, где ютился бедный народ.
Итак, декорации опять сменились. На сцену выступил новый повелитель — денежный мешок, и его расторопные жрецы спешили не только затмить роскошь старого дворянства, но и вогнать в землю последние остатки народной революции.
Еще больше изумился Сен-Симон, когда узнал, что все пертурбации недавнего прошлого совершенно не затронули его материальных дел. Ввергая спекулянта Симона в тюрьму, якобинские власти и не подумали наложить руку на плоды его спекуляции. Пока он отсиживал в Сен-Пелажи и Люксембурге, нотариус Кутт и другие подставные лица продолжали вести его аферы, а приказчики исправно собирали арендную плату. Теперь же, когда новые термидорианские правители снимают все экономические ограничения, земельные сделки перестают быть крамолой и ажиотер может вновь спокойно уйти в свое прибыльное ремесло. Тем более что сейчас это не только дозволено, но и модно: многие термидорианцы сами ударились в спекуляции, в Пале-Ройяле функционирует черная биржа, а вокруг так и кишат новоиспеченные дельцы.
Сен-Симон знает историю кое-кого из них.
Вот, например, Габриель Уврар.
Этот финансовый воротила, не стесняясь, рассказывает, как положил начало своим богатствам. В голодные годы в Бордо он скупил колониальные товары и через три месяца заработал на них полмиллиона. Теперь Уврар извлекал огромные выгоды из поставок на армию. Он ссужает деньгами видных политических деятелей, а его роскошно отделанный замок Рэнси славится своими пирами, которые, по слухам, мало уступают былым празднествам Версальского двора.
Или Франсуа Сеген, приятель Уврара.
Этот оригинал выдумал новый способ дубления кожи. Термидорианский Конвент немедленно выдал ему патент и предоставил два поместья для опытов. И хотя в конечном итоге из нового дубления ничего не вышло, Сеген успел нажить миллионы, которые бросил на новые спекуляции. Ныне Сеген поражает жителей столицы своим мотовством и эксцентричными выходками: у него лучшая в Париже коллекция редких картин, он собирает уникальные скрипки Страдивари, а высокопоставленных гостей принимает небритым и в халате…
Сен-Симон не желает отставать от других. Он энергичен и упорен, деньги потоком текут в его широкий карман, и он, не довольствуясь прежним, ставит новые и новые предпринимательские «опыты».
Он основывает прядильно-ткацкую мануфактуру в коммуне Бюсси.
Он создает парижскую компанию дилижансов «Молния», обеспечивающих предельно быструю доставку людей и грузов.
Он открывает бюро комиссионных услуг.
Он закладывает и финансирует большой винный магазин.
Он изобретает и пускает в продажу новые «республиканские» игральные карты, в которых прежних тузов, королей, дам и валетов заменяют строго республиканские символы: закон, свобода, равенство и т. д.
Небезынтересно отметить, что этот последний «опыт» Сен-Симона проводится в дни, когда республика уже на ущербе. Разгромив восстания санкюлотов, выступивших весной 1795 года — в жерминале и прериале — под лозунгом «Хлеба и конституции 1793 года!», термидорианцы окончательно сбрасывают маски: они отправляют на гильотину или в далекую ссылку немногих демократов, еще оставшихся в Конвенте, а затем и вообще распускают Конвент. С конца года к власти приходит новое правительство — Директория, возглавляемая продажным политиком и алчным дельцом Полем Баррасом. Баррас становится некоронованным королем Франции, а роль королевы исполняет мадам Тальен, прекрасная куртизанка, открывающая самый блестящий из салонов столицы.
Сен-Симон — миллионер.
В 1796 году его состояние — земли, предприятия, капиталы, вложенные в банки, — исчисляется четырьмя миллионами ливров и приносит сто пятьдесят тысяч годового дохода.
Как понимать все это? Неужели Сен-Симон забыл о своих планах, столь четко намеченных в Люксембургской тюрьме? Неужели он отказался от общей науки и покинул на произвол судьбы людей-тружеников, во имя которых хотел строить свой золотой век?
Ни в коей мере. Ничего не забыл Сен-Симон и ни от чего не отказался. Просто он, как обычно, немного увлекся. И поскольку судьба подвела его к новым экспериментам, он не смог пройти мимо них.
Но теперь можно и остановиться.
Он не намерен следовать дальше путем Уврара и Сегена. Довольно спекуляций, хватит винных магазинов и комиссионных бюро. Все свои предприятия он перепродает в другие руки, сам же переносит свою деятельность в совершенно иную сферу.
Сен-Симону, мечтающему о создании общей науки, все еще не хватает главного — общей идеи. У него нет стройного мировоззрения, которое подвело бы прочный фундамент под все эти случайные практические опыты. Ему недостает знаний. Следовательно, надо их получить, надо проникнуть в их мир. Казалось бы, чего проще? Садись за книги, колбы и реторты, изучай, вычисляй, размышляй. Так бы в прежнее время Сен-Симон, без сомнения, и поступил. Но теперь новоиспеченному миллионеру этот путь представляется слишком банальным.
Неутомимый фантазер успел сформулировать очередную из фантазий, которую запишет потом в своем автобиографическом наброске.
Пока молод и здоров, веди активную жизнь, знакомься со всеми видами практики, вращайся во всех классах общества, ставь самого себя в наиболее трудные, даже немыслимые, положения; изучай не только науку, но и тех, кто ее создает, — ученых, окунись в их среду, познай их мысли и отношения; впитывай в себя все увиденное, прочувствуй его, сделай составной частью себя самого.
И тогда в зрелом возрасте, под старость лет, ты сможешь резюмировать пережитое и установить общие принципы, сможешь создать то, ради чего прожил свою бурную жизнь…
Разумеется, у этой новой теории есть своя оборотная сторона. Создавая ее, Сен-Симон в какой-то мере хотел объяснить истоки необыкновенных поворотов своей «бурной жизни». И все же в первую очередь эта схема обращена в будущее.
Изжить полноту жизни, изведать все возможное и невозможное, а потом философски осмыслить — такова цель. Остается разработать средства к ее достижению.
Сейчас в моду входят салоны. Салоны держат мадам Тальен и мадам Рекамье, заводит салон знаменитая мадам де Сталь. И ему, собирающемуся изучать философов и ученых, в первую очередь нужно создать свой салон.
Для салона необходим достаточно приличный дом, расположенный в достаточно известном месте.
Сен-Симон выбирает квартал Пале-Ройяля. Квартал не аристократический, но богатый, модный, людный, квартал, который он хорошо знает и любит, в котором неоднократно проживал в былые времена.
Здесь, на улице Шабонэ, вблизи улицы Ришелье, он снимает обширный отель и верхние этажи двух прилегающих домов. Это жилье под стать князю или принцу, почти дворец. В нем-то и водворяется будущий меценат-философ вместе со своими двумя сестрами, которым предстоит роль хозяек салона.
Княжеское жилище нужно по-княжески декорировать. За этим, конечно, миллионер не постоит.
Он нанимает двадцать вышколенных лакеев. Во главе прислуги — мэтр Тавернье, выдвинувшийся в Риме, на службе у кардинала Берни. Шеф-повар Сен-Симона некогда прославил своими ужинами маршала Дюра, а метрдотель прежде исполнял ту же должность у знаменитого министра герцога Шуазеля.
Приемы Сен-Симона быстро заинтересовали весь влиятельный Париж. У него собирались крупные политические деятели, близкие к Директории. Граф Сегюр, его соратник по Американской войне, встречался здесь с Буасси д’Англа, членом правительственного совета; великие математики Пуассон, Лагранж, Монж, которого Анри знал еще в Мезьере, появлялись не реже, чем медик-философ Кабанис или основатели новой биологии Ламарк, Кювье и Сент-Илер.
Вскоре, однако, Сен-Симон с сожалением убедился, что изучать знаменитых мыслителей через салон — дело мудреное и малоэффективное. Гости много ели и еще больше пили, воздавая должное щедрости мецената. Но за столом отнюдь не изрекали великих истин — разговоры были весьма заурядны и пошлы, и вертелись они только вокруг самых обыденных вещей…
Его называли санкюлотом-вельможей. От этих лет осталось несколько описаний Сен-Симона и единственный его прижизненный портрет кисти художницы Лабиль-Гюйяр. По-видимому, он был неотразим. Красивый, очень веселый, с открытой, беззаботной внешностью, с удивительными глазами и тонко очерченным донкихотским носом, всегда изящно, но небрежно одетый, он поражал друзей чудовищной любознательностью: казалось, на весь мир он смотрит как на гигантскую лабораторию, где люди — только предмет исследования!
И вместе с тем Сен-Симон теперь и всегда проявлял бесконечную доброту к этим «предметам». Отзывчивый к чужой нужде, мягкий, снисходительный к слабостям других, он был щедр сверх всякого предела, раздавал деньги направо и налево, поддерживая любое благородное начинание, любую полезную деятельность.
Он не был равнодушен к женщинам. В них он прежде всего искал и ценил сердечную доброту, неоднократно заявляя, что без нее даже красавица лишена всякой привлекательности. Но романы его оказывались кратковременными и не оставляли в душе большого следа. Известно, что он имел дочь. Но когда она родилась? Кто была мать? Где и как воспитывалась девочка? На эти и многие другие вопросы, касающиеся личной жизни социолога, ответов нет и не будет. Сам он в одном из своих автобиографических набросков обещал рассказать о себе «множество пикантных анекдотов», но так никогда и не сдержал своего слова.
Беззаботное благополучие Сен-Симона продолжалось до середины 1797 года. А затем вдруг из-за границы приехал Редерн, и сразу все изменилось.
Граф Редерн уже давно приглядывался к деятельности своего слишком энергичного компаньона. До тех пор, пока Сен-Симон много зарабатывал и мало тратил, все обстояло превосходно. Но вдруг Редерн узнал через своих агентов, что делец перестал заниматься делом. Его доходы прекратились, траты же возросли сверх всякой меры. Как выяснилось, только за последние двадцать месяцев Сен-Симон израсходовал на свои приемы и другие прихоти свыше трехсот шестидесяти тысяч франков!..[28]
Такого расчетливый немец допустить не может и мигом оказывается в Париже, тем более что новые власти не чинят ему никаких препятствий.
Сен-Симон радостно приветствует друга. Он пытается увлечь его своими идеями и приобщить к великим планам. Но граф Редерн весьма холодно принимает все эти излияния. Его не интересуют химерические планы Сен-Симона. Вместо этого он требует раздела имущества.
Анри не имеет ни малейших возражений. По наивности он полагает, что все будет разделено поровну и он останется обладателем двух миллионов.
Но Редерн спешит рассеять его заблуждение. Он объясняет, что о равных правах не может быть и речи. Ведь именно он, Редерн, дал весь начальный капитал, и поэтому юридически он является собственником всего имущества, купленного на имя Сен-Симона!
Анри потрясен. Такого он, признаться, не ожидал. Ведь он своими руками создал все эти богатства! Он тысячи раз рисковал головой, он провел год в тюрьме и едва не угодил на гильотину, в то время как его сообщник, спокойно живя за границей, ни о чем не заботился и делал карьеру! И теперь Редерн хочет забрать у него все!..
Редерн улыбается. Нет, не все. Он просто желает разделить по справедливости. Он подсчитывает расходы Сен-Симона, преувеличивает их втрое и решает, что сто пятьдесят тысяч франков будут вполне достаточным вознаграждением «за труды» его компаньона. Себе же он оставляет состояние, приносящее сто тысяч франков в год…
Сен-Симон спорит, доказывает моральную неправоту своего вероломного друга, наконец, ссорится с ним. Все напрасно. Редерн остается непреклонным. Миллионное состояние Анри становится блефом, и сам он вдруг из санкюлота-вельможи превращается в скромного рантье.
Еще одно из перевоплощений завершилось. Что-то будет дальше?..
ГЛАВА 5 ЧТОБЫ СОЗДАТЬ, НУЖНО ЗНАТЬ
«…Граф Редерн, бывший моим компаньоном, воспользовался моей оплошностью. Он добивался богатства, я же стремился к славе. В денежном отношении он должен был меня обмануть; так в действительности и случилось…»
Сен-Симон приемлет происшедшее с истинно олимпийским спокойствием. Казалось, он просто его не замечает. Никогда не знавший цены деньгам, с легкостью зарабатывавший сотни тысяч, он не может сразу понять, какой удар на него вдруг обрушился.
Конечно, и сто пятьдесят тысяч — сумма немалая. При скромной жизни, при умении экономить ее можно растянуть надолго. Но Сен-Симон не умеет и не желает экономить. К тому же ведь ему надо держать салон!..
Правда, даже такой мот, как он, понимает, что с прежним стилем жизни придется расстаться. Прощай, отель, прощайте, двадцать лакеев и великолепный шеф-повар! Вам предстоит искать другого тороватого хозяина. Анри переезжает в новую квартиру, подальше от людных кварталов. Его жилище находится рядом с Политехнической школой, и в этом есть свой особый смысл. Сен-Симон давно усвоил, что только в салоне науку не узнаешь. Как это ни печально, все же приходится засесть за книги и колбы…
«…Много великих затруднений должен был я превозмочь. Мозг мой потерял свою гибкость, я был уже немолод, но зато обладал большими преимуществами, такими, как длительные путешествия, общение со многими выдающимися людьми и мое первоначальное образование под руководством Даламбера…»
Он много читает. Сочинения Ньютона, Локка, Декарта, Кондильяка и Ламеттри не сходят с его письменного стола. Его особенно увлекают Дидро и Кондорсе; первый своей мыслью о единстве мира, второй — жизнерадостной идеей всеобщего прогресса.
Не меньшую радость доставляют Сен-Симону сочинения Тюрго, которого он помнит еще как министра-реформатора Людовика XVI; Тюрго поражает его рассуждениями о математичности развития и об опытной проверке гипотез.
Но Сен-Симон не собирается слепо следовать за кем-то из этих философов. Он склонен критиковать Кондорсе и Ламеттри. Мало того. К этому времени он уже избирает свою стезю, по которой твердо намерен следовать дальше. Он избирает физико-политический метод исследования. В этот термин Сен-Симон вкладывает двоякий смысл. Во-первых, он уверен, что все политические и социальные проблемы должны быть поставлены на почву опытного исследования, применяемого в естественных науках. Во-вторых, он полагает, что все нравственные явления можно свести к материальным процессам бытия.
Новый подход Сен-Симона в какой-то мере опирался на уроки, полученные в детстве у Даламбера.
Но в основе его — сама жизнь с ее наблюдениями и бесконечными превращениями.
Нет, не метафизика, а только физика лежит в природе вещей. Не отвлеченно-философские рассуждения, а деятельность естествоиспытателей приносит истинную пользу обществу. Философы-просветители со своей теорией «естественного права» лишь содействовали упразднению старого порядка, создать же новый может только ум, постигший законы природы во всех ее проявлениях. А раз так, то следует порвать со старыми философскими традициями и поставить социальную науку на новые рельсы.
Отныне общественными проблемами должен заниматься не литератор и не политик-любитель, а ученый.
Следовательно, ему, Сен-Симону, для того, чтобы двинуть вперед свою общую науку, нужно прежде всего самому учиться, используя все средства и все возможности.
Ученик достаточно прилежен.
Решив сначала одолеть «физику неорганических тел», он исправно ходит на лекции и штудирует увесистые фолианты. Он сводит знакомство с профессорами и открывает для них свой дом. Пускай новый салон не так роскошен, как прежний, пусть гостей обслуживает всего лишь один слуга, но за столом мецената по-прежнему обильно кормят и подают те же отличные вина. Мало того, не задумываясь о будущем, меценат все так же щедр, когда речь заходит о том, чтобы поддержать науку. Он основывает бесплатные подготовительные курсы для молодых людей, желающих поступить в Политехническую школу, и приглашает для руководства курсами талантливого физика Пуассона. Он непрерывно ассигнует средства для постановки дорогостоящих опытов, а также печатает за свой счет «Курс медицинских наук» своего друга, доктора Бюрдена, не говоря уже о регулярных субсидиях, которые он выплачивает физиологу Прюну и химику Клуэ.
Закончив изучение физики, Сен-Симон снова меняет квартиру и перебирается поближе к Медицинской школе, ибо теперь ему придется познавать основы биологии и физиологии. Он зачитывается сочинениями отца сравнительной анатомии, Вик-д’Азира. Именно Вик-д’Азир прививает ему мысль о единстве животного мира. Но, как и прежде, Сен-Симон не намерен ограничиваться книгами. Он регулярно посещает Медицинскую школу и, словно студент, изучает все преподающиеся в ней дисциплины. Снова открыт салон, и снова ученик встречается со своими учителями не только в аудитории, но и у себя дома. На этот раз его особенно часто посещают выдающиеся физиологи и врачи — Биша, Галь, Бленвиль, Кабанис.
Каждый из них вызывает восторг и преклонение Сен-Симона: Кабанис — своим популяризаторским талантом, Галь — умением подбирать факты, Биша — научным подвижничеством.
Но особенно много дают будущему философу встречи и проникновенные беседы с Бленвилем.
Этот ученый, блестящий эрудит и знаток во всех областях естествознания, всегда умеет воодушевить Сен-Симона, экзальтирует его ум и воображение. Именно он внушает своему ученику идею систематизации всех наук и мысль о том, что роль ученого несоизмеримо выше роли любого деятеля — писателя, законоведа или политика.
Итак, новый салон Сен-Симона становится настоящей творческой лабораторией и прекрасно дополняет аудиторные занятия. Казалось бы, все хорошо, но со своими сестрами Сен-Симон расстался, и теперь салону недостает хозяйки!
Впрочем, эту беду легко исправить. Сен-Симон решает жениться и быстро находит подходящий объект.
Да, всего лишь «объект», ибо и на женитьбу этот удивительный человек смотрит всего лишь как на эксперимент, необходимый при изучении человеческой природы.
Его избранница — женщина не совсем заурядная. Александрина Гури де Шангрен, дворянка, дочь отставного военного, много видела и испытала в течение своей жизни. Она познала и тяжелое детство, и жестокие материальные невзгоды в юности, и неудачную любовь, и тюрьму. Красивая и остроумная, она презирала условности света и могла поддержать любой разговор (недаром впоследствии под именем мадам де Бавр она станет писательницей!). Это была находка для Сен-Симона, и он немедля сделал ей предложение.
Предложение было более чем своеобразным. Анри предлагал заключить контракт на три года, по истечении которых молодая женщина получала развод и заранее оговоренную сумму денег. Александрина согласилась, но поставила свое контрусловие: она станет только хозяйкой салона, брак будет чисто формальным. Это вполне устраивало Сен-Симона, ибо интимная близость лишь осложнила бы намеченный им эксперимент.
Новый салон потерял кое-кого из прежних завсегдатаев: в нем не появлялись более ни Сегюр, ни Буасси д’Англа. Но зато здесь было много веселее и сердечнее, чем на улице Шабонэ. При поддержке очаровательной хозяйки Сен-Симон расходился вовсю. Он поражал гостей блеском своей мысли и резкими переходами: то утонченно, по-аристократически любезный, то задумчиво-меланхолический, то вдруг грубо-циничный, позволяющий себе слишком смелые шутки, иной раз он выглядел просто странным.
— Зачем вы скупаете ассигнации? — спросила его как-то жена. — Они ведь потеряли всякую цену.
— Я хочу набрать их побольше, чтобы потом поджечь ими собор Парижской богоматери, — невозмутимо ответил Сен-Симон.
Подобные словесные упражнения немало содействовали тому, что в обществе за ним установилась репутация опасного чудака и даже сумасшедшего.
Впрочем, Сен-Симон весьма мало интересовался тем, что говорят о нем в «обществе», которое он презирал в не меньшей мере, чем всю фальшивую жизнь эпохи Директории.
Между тем страна была накануне новых политических перемен. Крупные собственники мало-помалу разочаровывались в Директории. Правительству Барраса не хватало стабильности. С некоторых пор оно усвоило политику «качелей», поворачиваясь, подобно флюгеру, то вправо, то влево. Когда надо было рубить голову Гракху Бабефу, организатору «Заговора равных», Баррас был не прочь объединиться с самыми крайними реакционерами и даже роялистами: но едва роялисты подымали голову, как правительство затевало явный флирт с левыми группировками!
Нет, при такой политике буржуазия не могла себя чувствовать достаточно устойчиво и надежно. Ей нужна была твердая рука, которая, покончив с воспоминаниями о революции, повела бы Францию собственников к новым экономическим победам, а может быть, и к мировому господству.
Эти настроения прекрасно уловил и использовал генерал Наполеон Бонапарт. В прошлом полководец революции, друживший с братом Робеспьера и много содействовавший победам якобинской республики, Наполеон в период Директории прославился своими завоевательными войнами в Италии и на Востоке. Понимая, что не встретит сопротивления в господствующих кругах, он улучил момент и нанес внезапный удар.
9 ноября 1799 года (18 брюмера по республиканскому календарю) правительство Директории было разогнано. Бонапарт дал Франции новую конституцию. В стране устанавливался режим консульства, при котором формально власть передавалась трем лицам, но фактически диктатором становился один человек — «гражданин Первый Консул», Наполеон Бонапарт.
Все эти перемены мало трогают Сен-Симона, ибо он обеспокоен совсем другим. Он и не заметил, как деньги стали иссякать. И вот к началу 1802 года он оказался полностью разоренным. Салон лопнул, точно мыльный пузырь. Верный своему слову, меценат дал развод и обещанную сумму жене. На оставшиеся крохи он решил совершить заграничную поездку: ему было нужно познакомиться с развитием «общей науки» в Европе.
«…Амьенский мир позволил мне поехать в Англию. Целью моей поездки было узнать, занимаются ли англичане изысканием того пути, который я предполагал проложить. Я вынес из этого края уверенность, что его жители не направляют своих трудов к физико-политической цели, что они не занимаются реорганизацией научной системы, что они не имели ни одной важной идеи.
Вскоре после этого я объехал часть Германии; я вынес из этого путешествия уверенность, что там наука находилась еще в состоянии младенчества, так как она была построена на мистических началах. Общая наука в Германии еще пребывает в пеленках, но она, несомненно, скоро сделает там большие успехи, ибо вся эта великая нация страстно стремится в данном научном направлении. Она еще не нашла правильной дороги, но найдет ее и, вступив на нее, пойдет очень далеко…»
Любопытный прогноз!
Впрочем, поездка почти ничего не дала Сен-Симону. Он видел лишь то, что желал видеть, и поэтому мало разглядел за рубежом, оставив без внимания даже Фихте и Канта. Но зато у него возник новый брачный проект…
В Швейцарии, в городке Коппе, проживает знаменитая женщина-философ мадам Жермен де Сталь. Она уже прославилась на всю Европу как писательница и политический деятель. Она недавно овдовела. Подумать только, как двинулась бы вперед «общая наука» и какое бы потомство получилось от сочетания такого необыкновенного мужчины, как Сен-Симон, с такой замечательной женщиной, как де Сталь!..
И вот он уже воодушевлен новой идеей. Он не знаком с де Сталь и даже никогда ее не видел. Но это ничего не значит. Новый эксперимент, как обычно, ставится не сердцем, а умом.
Сен-Симон приезжает в Коппе и добивается приема у Жермен. Он в подробностях и деталях развивает ей свою замечательную идею.
Де Сталь поражена. Она не знает, как реагировать на такие слова. То ли это величайшая дерзость, то ли…
Жермен разражается громким хохотом.
Посетитель, бесспорно, очень интересен и мил, но, очевидно, он не в своем уме…
Писательница любезно беседует с Сен-Симоном и категорически отказывает ему.
Так…
Ну что ж, с брачными опытами покончено.
Кстати, и деньги вышли.
Ему исполнилось 42 года. Молодость со всеми чудачествами и экспериментами осталась позади. Теперь самая пора начинать осмысливать все происшедшее.
И Сен-Симон берется за перо.
ЧАСТЬ III ЗОЛОТОЙ ВЕК — ВПЕРЕДИ (1802–1825)
ГЛАВА 1 НАЧАЛО ВЕКА
Люди провожали не год, но век.
Он уходил в ничто, этот великий век, век Просвещения и революций, век, подаривший потомкам гении Руссо и Вольтера, взбудораживший человечество и возвестивший новые принципы бытия.
Он открывал миру путь в грядущее. И это грядущее завораживало. Какое оно? Что потребует и что даст? Освободит или наложит новые цепи? Принесет мир или снова ввергнет в пучину кровавых войн? Приведет к изобилию или вновь заставит терпеть голод?..
Каков он, этот неведомый девятнадцатый век?..
В Париже с особенным настроением провозглашал новогодний тост гражданин Первый Консул. Нынешний хозяин Тюильри имел все основания быть довольным. Он добился единоличной власти: став некоронованным королем, он уже видел в перспективе империю. Быть может, он грезил и о мировом господстве. Но, вероятно, среди его видений не было еще ни снежных полей России, ни пустынного острова в океане, где предстояло ему найти свой последний приют.
А ведь от этого его отделяли всего неполные пятнадцать лет! Пятнадцать лет жестоких войн, несбывшихся надежд, славы и бесчестья…
Этот же срок придется ждать и изгнаннику — рыхлому принцу, страдающему подагрой и одышкой, — прежде чем его окончательно признают королем Франции, Людовиком XVIII. Брат казненного «Капета», граф Прованский, покинувший родину в начале революции, теперь из милости русского царя жил в далекой Митаве. Вряд ли его новогодняя ночь была особенно веселой: он знал о перемене в настроениях Павла I и догадывался, что скоро его выдворят и отсюда…
Не очень весело было и его хозяину, императору российскому, Павлу Петровичу. И в своем новом Михайловском замке, окруженный телохранителями и войсками, он чувствовал себя весьма неуютно. Его тревожила мысль: с кем дальше? Все с тем же Питтом или с Первым Консулом? Конечно, от Консула попахивало ненавистной крамолой, но он был обаятелен и заигрывал с Павлом, а Питт… Питту, как и всем англичанам, он больше не доверял… И, выбирая французскую ориентацию, «царственный рыцарь» не ведал, что подписывает свой смертный приговор. Всегда боявшийся злоумышленников и заговоров, сейчас он не предполагал, что проглядит единственный заговор, который полтора года спустя будет стоить ему короны и жизни…
Впрочем, тайный вдохновитель убийства Павла I, английский премьер Уильям Питт-младший, поднимая сегодня бокал в Букингемском дворце, также вопреки своей политической дальновидности не смог предвидеть одного, самого главного для себя: семь лет сражавшийся с французской революцией, он должен был вскоре пасть, сраженный успехами наследника революции — все того же Наполеона Бонапарта…
Да, разные мысли, предчувствия и просчеты были у властителей Европы, встречавших девятнадцатый век.
А новый век, мало заботясь об отдельных, пусть даже великих, личностях, шел триумфальным маршем по земле, неся людям великие свершения, великие загадки и великие разочарования.
Буржуазные революции в Англии и во Франции открыли дорогу победе капитализма.
Если промышленный переворот в Англии проходил уже со второй половины предшествующего столетия, то девятнадцатый век увидел пышный расцвет новой индустрии. Паровой двигатель преобразил все виды производства. Станок сменила машина, мануфактуру — фабрика, и уже весь север страны подпирал небо лесом дымящихся труб. Промышленная Англия росла со сказочной быстротой.
Во Франции буржуазная революция прошла на сто пятьдесят лет позднее, чем в Англии. Поэтому поначалу капитализм развивался здесь не столь быстро и бурно. Но революционный вихрь конца XVIII века, ликвидировавший феодальное землевладение и господство прежних привилегированных сословий, укрепил хозяйственную мощь французской буржуазии и ускорил течение промышленного переворота.
Прежде всего началась перестройка нового для Франции хлопчатобумажного производства.
С конца XVIII века из Англии стали ввозить самые совершенные прядильные устройства — прялки «Дженни», мюль-машины и ватерные машины Аркрайта. Эта новая техника, усовершенствованная французскими изобретателями Пуше, Калла и Альбером, за первые десять лет почти удвоила выпуск хлопчатобумажной пряжи, доведя его к 1812 году до 11 миллионов килограммов. Аналогичных успехов добилось и ткачество. К производству бумажных платков, которыми Руан и Монпелье славились еще в годы революции, теперь прибавилась выработка нанки, крепона, канифаса, муслина, легкой кисеи и узорного тюля, причем только департаменты Эн, Нижней Сены, Соммы и Северный стали давать в год более полутора миллионов кусков ткани.
Успехи в прядении и ткачестве хлопка не могли не отразиться на производстве шерсти, льна и шелка. В 1805 году был изобретен знаменитый станок Жакара для выработки шелковых узорных тканей, пять лет спустя Жирар дал свою льнопрядильную машину, а Доль и Ришар сумели приспособить к прядению шерсти станки, употреблявшиеся для прядения хлопка. Правда, в отличие от хлопчатобумажной промышленности здесь паровая машина была еще редкостью, и преобладание над нею гидравлических станков отсрочило замену мануфактуры фабрикой; однако и в этих отраслях текстильного производства достижения были несомненны. Так, в Лионе за первые десять лет нового века количество ткачей выросло почти в три раза, достигнув пятнадцати с половиной миллионов человек, а общий вывоз шелковых изделий в это же время давал стране до тридцати миллионов франков.
Быстро росло металлургическое производство. Вслед за Англией французская черная металлургия постепенно переходит от древесного топлива на каменный уголь. На выставке 1802 года была представлена продукция ста пятидесяти французских железоделательных заводов, причем впервые демонстрировалась литая сталь, а в 1812 году страна насчитывала уже 230 доменных и 860 кричных печей.
Развитие химической промышленности с начала XIX века поставило Францию на одно из ведущих мест в мире. Открытия Лавуазье, Бертоле и Шапталя, сделанные еще в эпоху революции, теперь приносили свои плоды. Усовершенствовалось изготовление азотной кислоты, были внедрены производственные способы получения соляной и серной кислот; последняя теперь применялась не только для растворения индиго, но и для приготовления соды по способу Леблана. Соду, производимую ежегодно в количестве двухсот тысяч кинталов, Франция начала широко экспортировать в ряд стран.
В целом рост французской промышленности увеличил оборот внешней торговли с 553 миллионов франков в 1799 году до 705 миллионов франков в 1810-м.
Все это ясно свидетельствовало, что Франция, хотя и отставала от Англии, быстро шла тем же новым курсом.
В первые десятилетия XIX века в двух ведущих государствах Западной Европы полностью победили новые формы производства.
В чем был смысл всего этого?
Не значило ли это, что «золотой век», о котором грезили поколения, наконец пришел?
Все, о чем вещали философы Просвещения, казалось, вступало в жизнь. Тяжелый сон средневековья с его невежеством, предрассудками и суевериями окончился. Начиналось долгожданное «царство разума», призванное раскрепостить и освободить человека. Так думали наследники просветительной философии, вернее — хотели так думать.
Но в действительности все обстояло по-иному.
Прошло совсем немного времени, и стало ясно, что человечество не только не освободилось от голода и бедствий, но впало в них с несравненно большей силой, чем прежде. «Разумный» общественный строй, к которому стремились пропагандировавшие революцию философы, привел лишь к увеличению пропасти между бедностью и богатством, а разрушение твердынь феодализма лишь заменило одну форму эксплуатации другой.
Англия шла в авангарде буржуазной Европы.
Ее идеологи прославляли начало нового «конструктивного» века как эпоху национального богатства и политического могущества страны.
Но на деле национальное богатство сводилось к быстрому обогащению когорты ловких дельцов, а политическое могущество — к укреплению консервативного государства, служившего их же интересам. От промышленного переворота выиграли только представители буржуазии — финансисты, предприниматели, богатые фермеры. Трудовому же населению Англии он не принес ничего, кроме разорения, нужды, нищеты.
За первые пятнадцать лет нового века заработная плата фабричных пролетариев упала почти втрое, дойдя до пяти шиллингов — ничтожной суммы, едва хватавшей на полуголодное существование; и это при шестнадцатичасовом рабочем дне! Но владельцы фабрик не останавливались на достигнутом. В целях увеличения наживы рабочих-мужчин все чаще заменяли женщинами и детьми. Детей, точно рабов, предприниматели покупали у приходских властей, на которых лежала обязанность надзирать за сиротами, и с шестилетнего возраста обрекали на каторжный труд.
Те же противоречия, все более усиливающиеся, имели место и во Франции. Но здесь они отличались своими особенностями, связанными с более медленным развитием промышленной перестройки страны.
Положение мелкой буржуазии и широких народных масс, резко ухудшившееся после падения якобинской диктатуры, становилось все более тяжелым. Обесценение ассигнатов, неудержимый рост цен и массовая безработица всей своей тяжестью обрушились на мелких торговцев, ремесленников, рабочих. Разоренные инфляцией рантье, служащие, месяцами сидящие без жалованья, обнищавшие интеллигенты — все они попадали в тиски такой нужды, что, спасаясь от голодной смерти, продавали последние пожитки.
Особенно тяжелым было положение рабочих.
И хотя промышленный переворот во Франции еще не достиг пределов, которые были характерны для ее западной соседки, рабочие здесь также ощутили первые порывы ледяного дыхания нового века: и бесконечно длинный рабочий день, и нищенская заработная плата, и эксплуатация несовершеннолетних — все это начинало входить в повседневную практику французских капиталистов. А главное — новым господам предельно помогало государство. Укрепляя господство буржуазии, правительство Наполеона обрушивало на рабочих удар за ударом. Им запрещалась любая форма организации, равно как и участие в стачках, они не имели права бороться за повышение заработной платы, и, чтобы сделать их бесправие еще более полным, гражданин Первый Консул изобрел «рабочие книжки», в которых записывались все «грехи» рабочего человека; лица же, не имевшие книжек, рассматривались как бродяги, а бродяжничество каралось заключением в «работные дома» с тюремным режимом.
Таким образом, если французский рабочий еще и не потерял свой скудный кусок хлеба, то был на пути к этому; правительство всемерно «заботилось» о его будущем.
И эти же условия, создавая предпосылки для роста предпринимательства и самой необузданной наживы, молниеносно обогащали нуворишей, теперь уже не считавших нужным скрывать свои богатства.
В начале XIX века контрасты между роскошью и нищетой достигают пределов, которым мог бы позавидовать и «старый порядок».
Так выглядел «золотой век», обещанный просветителями.
Таковым оказывалось на практике пресловутое «царство Разума».
Все это не могло не вызвать полной переоценки ценностей.
Где же он, тот «бесконечный прогресс», который восхваляли Тюрго, Кондорсе или Адам Смит? Где «сила человеческого разума», ломающая все преграды на пути ко «всеобщему благу»? Куда девались «естественные права» человека? Что сталось со «свободой, равенством, братством», провозглашенными революцией?..
Люди разочаровывались в рационалистической философии XVIII века. Начинался подлинный кризис в области философии и социологии.
Известная растерянность охватила даже самих проповедников «естественных прав» и «экономической свободы». Соратник и популяризатор Адама Смита французский экономист Сэй в своем сочинении «Об Англии и англичанах» писал:
«…Когда видишь столь деятельную, столь благородную, столь даровитую нацию, вынужденную дурной экономической системой так много работать и все-таки испытывать столько лишений; когда видишь, как страна, богатая талантами и добродетелями, позорит себя низкими преступлениями, то с горечью спрашиваешь себя: какая польза от гражданской и религиозной свободы, от свободы печати, от безопасности и собственности и от господства над морями?..»
Некоторые экономисты выступили с пессимистическими теориями, отыскивая причины неравенства и бедности в «вечных» законах самой природы. Мальтус доказывал неизбежность нищеты, исходя из роста народонаселения, а Рикардо выдвинул тезис о «естественном» низком уровне заработной платы, делающий бесплодной всякую борьбу за ее повышение.
Все громче раздавались голоса дворянских идеологов, критиковавших рационалистов справа. Они заявляли, что свобода — ужаснейший из бичей, что рабочий выигрывает от разрушения старого строя только свободу умирать с голоду. Они роптали по поводу «безбожного» каменного угля, отравляющего воздух, и проливали слезы о «старой доброй Европе», погибшей вместе с прежними патриархально-аристократическими порядками.
Столь же резко осуждали победу нового способа производства защитники гибнущего цехового строя, идеологи мелких торговцев и ремесленных мастеров. Они также мечтали повернуть колесо истории обратно и возвратить милые их сердцу докапиталистические устои бытия.
Все эти системы и построения были обречены на полную неудачу.
Попытки мыслителей найти выход из кризиса за счет возврата к прошлому были не менее наивны, чем попытки рабочих улучшить свою жизнь путем поломки машин.
Но был ли выход? И если был, то в чем?
Только в одном.
Надо было не жалеть о старом, а изменять новое.
Надо было смотреть не в прошлое, а в будущее.
Всеобщее разочарование в «царстве Разума», горький опыт буржуазной промышленной цивилизации с ее противоречиями и пороками, неясные помыслы эксплуатируемых масс о лучшем будущем — все это должно было привести к созданию новых социальных теорий.
Творцы их, подвергая сокрушительной критике капитализм, должны были искать выход не позади своего времени, не в патриархальщине и гибнущем цеховом укладе, а впереди, в построении нового общественного строя, не знающего пороков, присущих капиталистическому обществу.
Этого требовало время.
И новые теории появились.
В двух передовых странах Западной Европы — в Англии и Франции возник социализм.
Одним из родоначальников его оказался потомок герцогов и пэров, бывший аристократ, затем опрощенец, спекулянт и миллионер, а ныне — неимущий энтузиаст и мечтатель Анри Сен-Симон.
Начало века открыло перед мыслью его горизонты, на первых порах чуть ли не ослепившие.
Он не сразу разглядел главное.
Он долго мучился, прежде чем ухватил ту общую идею, раскрытию которой посвятил всю свою дальнейшую жизнь.
И все же отныне он был абсолютно уверен, что отыщет эту идею, каких бы трудов ни стоил поиск.
Начало века стало великой гранью жизни Сен-Симона, определившей еще один — на этот раз последний — поворот в его судьбе.
ГЛАВА 2 ПИСЬМА ИЗ ЖЕНЕВЫ
Ему кажется, что он прожил в этом маленьком пансионате чуть ли не всю жизнь, во всяком случае, много-много лет. И он даже в шутку называет себя «женевским обывателем»…
Вернувшись после вечерней прогулки, Сен-Симон открывает дверь своим ключом, чуть слышно проходит вдоль хозяйской половины — здесь уже все спят — и попадает в свою комнату. Остается зажечь лампу, задернуть шторы, и можно сразу приступить к делу, благо чернильница и бумага ждут с утра…
Он никогда не думал, что писать так мучительно трудно. Казалось бы, чего проще! Голова полна идей, они прямо просятся наружу — бери да предавай бумаге! Но не тут-то было. За три месяца он исписал почти сотню листов, и теперь ими хоть печь топи. Думаешь одно, а на бумаге получается совсем другое. Сколько ненужной напыщенности! Сколько бездарных словесных украшений! А суть куда-то исчезает, словно просачивается сквозь слова…
Он может работать только ночью. Днем все отвлекает. Как ни тиха Женева в апреле, все же постоянно кто-то едет, кто-то кричит, где-то играет музыка… Только теперь он понял, как могут мешать все эти звуки. Эх, сейчас бы в одиночную камеру, в Сен-Лазар, где он сиживал в детстве!..
Но шутки в сторону. Сегодня у него большое событие: он решил наконец, в какой форме будет излагать свои мысли. Он поведет рассказ в форме писем. Так легче: словно обращаешься к другу и высказываешь, что лежит на сердце. И тогда проще придумать заглавие. Ну, скажем, «Письма женевского обывателя»…
Сен-Симон доволен. Он садится за стол, чистит перо и выводит первую фразу:
«Я уже немолод…»
Какая банальность, и уже повторенная неоднократно!
Ну и что же, что немолод?..
А вот что. И дальше, с нарастающей уверенностью:
«Всю жизнь я деятельно наблюдал и размышлял, и целью моих трудов было ваше счастье…»
Сен-Симон не может не думать о недавнем прошлом и о только что увиденном. Он очень обеспокоен состоянием умов в Европе.
Не говоря уже о Франции, в Англии, Германии, Италии — повсюду, куда докатились отзвуки революционного шквала, умиротворение носит чисто внешний характер. Глубокий кризис, охвативший человечество, вот-вот разрешится новым всеобщим взрывом. Можно ли его предотвратить? И если можно, то какими средствами?..
Автор знает только один рецепт:
…поставить человека в такое положение, чтобы его личные интересы и интересы общественные постоянно находились в согласии.
Но как этого добиться?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего ясно представить структуру современного общества и проанализировать только что происшедшую французскую революцию.
По мнению Сен-Симона, общество делится на три класса:
1. Ученых и художников — творцов, шествующих под знаменем прогресса человеческого духа;
2. Собственников — людей, боящихся нововведений;
3. Неимущих, составляющих все остальное человечество и объединенных идеей равенства.
При старом порядке собственники притесняли и угнетали другие классы. Они создавали институты, учреждения и порядки, оскорблявшие самолюбие людей интеллекта. И они заставили этим ученых и художников вызвать народное движение.
Так произошла революция 1789 года.
Неимущие, руководимые учеными и художниками, уничтожили старый строй, опрокинули его архаические учреждения, низвергли господство собственников.
Ученые и художники оказались победителями.
Но победа обошлась им слишком дорого. Ибо по мере развития борьбы их армия стала выходить из повиновения. Неимущие пошли дальше, нежели хотели их вожди, и некоторые из последних стали жертвами своих же собственных солдат, а в стране утвердились голод и анархия.
Этого никогда бы не произошло, если бы собственники добровольно пошли навстречу художникам и ученым и уступили бы им то место, которое должно принадлежать им по праву.
Следовательно, грядущие взрывы можно предотвратить, лишь создав на добровольной основе новую систему взаимоотношений между классами, а для этого нужно коренным образом изменить идеологию общества и средства, с помощью которых идеология правит жизнью.
До сих пор душами людей управляла церковь во главе с римским папой. Церковь, созданная господствующими слоями старого порядка, весьма искусно играла предназначенную ей роль. Но теперь она безнадежно устарела, сделалась атавизмом, утратила право руководить. Следовательно, она должна отказаться от былых притязаний и передать духовную власть более достойным. Кто же они, более достойные? Люди науки и искусства: химики, физики, математики, физиологи, художники.
Только ученые могут правильно понять запросы времени и направить человечество к удовлетворению этих запросов. Только художники-творцы могут привить толпе понятия добра и красоты.
Но как создать эту новую систему, как изменить структуру общества, не вызывая смут и социальных потрясений?
У Сен-Симона ответ готов, и именно он-то и составляет главную цель его труда.
«…Откройте подписку перед могилой Ньютона; подписывайтесь все без различия на любую сумму. Пусть каждый подписчик назовет имена трех математиков, трех физиков, трех химиков, трех физиологов, трех писателей, трех художников и трех музыкантов.
Ежегодно возобновляйте подписку и указывайте имена, но предоставьте каждому неограниченную свободу вновь называть тех же лиц.
Сумму, собранную по подписке, разделите между теми тремя математиками, тремя физиками и т. д., которые получат наибольшее число голосов…
Потребуйте от ваших избранников, чтобы они не принимали ни мест, ни почестей, ни денег ни от каких ваших отдельных групп, но предоставьте им полную личную свободу распоряжаться своими силами по своему желанию…»
Лица, избранные по всенародной подписке, должны составить Высший совет, которому следует присвоить имя великого Ньютона. Ньютоновский совет, компетенция которого не будет знать территориальных пределов, организует общество на новых началах, на основе всеобщего производительного труда.
«Письма женевского обывателя» — подлинный гимн науке и труду.
На протяжении многих страниц автор выясняет значение и роль ученого в обществе.
Ученый — это факел, озаряющий человечество.
Это человек, который предвидит.
«…Наука полезна именно тем, что она позволяет предсказывать, и поэтому-то ученые стоят выше всех других людей…»
Но в современном мире ученый не в состоянии раскрыть всех своих возможностей — он связан по рукам и ногам условиями своего бытия.
«…гениальный человек, больше всего нуждающийся для своих работ в полнейшей независимости, всегда более или менее зависит от правительства, которое его вознаграждает; он должен усвоить дух этого правительства, покоряться освященным им формам и обычаям, должен мыслить, так сказать, по чужой указке вместо того, чтобы смело метать стрелы собственного воображения; он должен робко изыскивать средства вынести свои мысли на свет, и в конце концов он в гораздо меньшей степени выявляет себя тем, что он есть, нежели тем, чем хотят, чтобы он казался; одним словом, ему приходится дорого платить за пожалованное ему скудное вознаграждение…»
Новая система должна навсегда с этим покончить. Не будет больше унизительной зависимости науки от сильных мира, не будет людей-автоматов, механически исполняющих чужую волю, равно как прекратятся и кровопролитные войны, несущие разорение и смерть.
И когда Сен-Симон говорит об этом, в его голосе звучит истинно поэтический пафос:
«…Что может быть прекраснее и достойнее человека, чем направлять свои страсти к единственной цели — повышению своей просвещенности! Счастливы те минуты, когда честолюбие, видящее величие и славу только в приобретении новых знаний, покинет нечистые источники, которыми оно пыталось утолить свою жажду. Источники невежества и спеси, утолявшие жажду только невежд, воителей, завоевателей и истребителей человеческого рода, — вы должны иссякнуть, и ваш приворотный напиток не будет больше опьянять этих надменных смертных! Довольно почестей Александрам! Да здравствуют Архимеды!..»
Как-то не верится, что эти строки пишет потомок завоевателя Карла Великого, да еще и посвящает их другому завоевателю — Наполеону Бонапарту!
И заключение, выделенное разрядкой:
«…Все люди будут работать; все они будут смотреть на себя как на работников одной мастерской…»
Это произведение Сен-Симона было первым его трудом. Плод экзальтированного ума, полное фантастических деталей, «видений», пророчеств, оно не смогло избежать резких внутренних противоречий.
Одно из них особенно характерно.
Ньютоновский совет, по мысли автора, провозглашался высшей духовной властью с весьма неопределенными функциями.
Что же касается светской власти, то ее философ передавал… собственникам!..
Правда, он делает различные оговорки. Он требует, чтобы собственник был «просвещенным», чтобы он «работал головой», угрожая в противном случае заставить его «работать руками».
И все же собственник (пусть даже «просвещенный») должен занять ведущее место в идеальном обществе, созданном во благо всего человечества.
Это противоречие с некоторыми вариациями останется основным для всего учения Сен-Симона. И в корне его — боязнь демократической революции.
Сен-Симон глубоко сочувствует широким народным массам («неимущим» по его классификации), заботится о них, стремится создать им наилучшие условия.
Но вместе с тем боится их.
Он слишком хорошо помнит последний этап минувшей революции с его экономическими ограничениями и террором. Он слишком хорошо помнит, как угодил в то время в тюрьму и едва избежал гильотины.
И поэтому он полагает, что допускать «неимущих» к власти больше нельзя.
Писатель, который сам не сегодня-завтра должен был стать неимущим, все же опасался политического господства бедняков и был согласен на любые оговорки и компромиссы, лишь бы его избежать.
Сен-Симон прекрасно сознавал несовершенство своего первого детища. Переправив его в 1803 году в Париж, философ издал там «Письма» анонимно небольшим тиражом и не пустил их в продажу, а впоследствии и вообще «забыл» о них, отказываясь включить в число своих сочинений.
Но главные мысли, положенные в основу этого труда, автор отныне поместил в число главных идей своей будущей системы.
Одна из них — о примате науки над религией и о первостепенной роли ученых — будет тревожить его еще долгие годы.
Другая — о труде и его созидательной роли — останется ведущей навсегда.
Пройдет много лет — более трех четвертей века.
Сен-Симон давно будет спать вечным сном на кладбище Пер-Лашез.
И сен-симонизм как течение давно отойдет в прошлое.
А Фридрих Энгельс напишет:
«…Уже в „Женевских письмах“ Сен-Симон выдвигает положение, что „все люди должны работать“. В том же произведении он уже отмечает, что господство террора во Франции было господством неимущих масс… Но понять, что французская революция была классовой борьбой между дворянством, буржуазией и неимущими, — это в 1802 г. было в высшей степени гениальным открытием…» [29]
То, о чем «забудет» Сен-Симон, никогда не забудет человечество.
ГЛАВА 3 ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
Когда в начале 1805 года путешественник наконец вернулся на родину, он прежде всего убедился, что зря посвятил свои «Письма» гражданину Первому Консулу: Наполеон Бонапарт, отбросив последние следы маскировки, стал самодержцем, а республика уступила место империи.
Итак, снова перемена декораций.
Где она, легкая фривольность времен Директории? Куда девались инкруаябли с лорнетами, маленькие кафе с галантными девочками и пестрая толпа в Пале-Ройяле? Ничего этого нет и в помине. Исчезли и прежние республиканские символы. Императорские орлы сожрали трехцветную кокарду. Столицу, как и всю страну, сковала чопорность. По улицам маршируют гренадеры в небесно-голубых мундирах, новые дворяне гордо носят в петлицах ленточки Почетного легиона, а из отеля Инвалидов гремят ежедневные залпы, возвещая очередные победы императора.
Жесткий полицейский надзор и бдительная цензура давно покончили с «вольнодумством» былых времен.
Если гражданин Первый Консул, едва придя к власти, закрыл шестьдесят из семидесяти трех парижских газет, то теперь их количество ограничивалось четырьмя «носовыми платками» — мелкоформатными листочками, всеми способами и средствами прославлявшими новый режим. Слово «революция» выброшено из обихода, имена Робеспьера, Марата и даже Мирабо больше не произносятся вслух, а тайное «якобинство» карается тюрьмой и ссылкой.
Все это, разумеется, никак не может радовать Сен-Симона.
Но вот что он вскоре не без удивления замечает: император явно благоволит к ученым. Он окружил себя физиками и математиками. Монж, Лаплас и Бертоле — завсегдатаи при его дворе. Он покровительствует французской академии и не жалеет средств на поощрение научных изысканий.
Мало этого. Под эгидой Наполеона ведущие ученые страны — Монж, Бертоле, Фуркруа, Шапталь — учредив общество поощрения индустрии с целью содействия открытиям и изобретениям, а также для расширения промышленного образования. Все они воодушевлены одной мыслью — работать во имя мирного развития Франции, а их председатель Шапталь как бы олицетворяет идеального гражданина нового мира: ученый, производственник и администратор, министр внутренних дел и устроитель первых промышленных выставок во Франции, он выступил в печати с лозунгом:
«…Пусть больше не будет праздных рук и умов; пусть больше не останется ни одного бесполезного человека; пусть все науки подают нам советы, а все искусства изощряются и совершенствуются!..»
Подобный подход в какой-то мере примиряет Сен-Симона с империей. И его деятельная фантазия сразу же начинает усиленно работать.
А ведь это, ей-богу, именно то, что надо! Эти блестящие умы, непрерывно влияя на императора, могут подвинуть его на многое и именно с его помощью утвердят на земле то царство ученых и художников, которое призвано вывести человечество на правильный путь! Теперь необходимо лишь одно: чтобы все эти Монжи и Лапласы прониклись его, Сен-Симона, убеждениями. А для этого нужно работать, деятельно работать, писать и писать, пока неясные контуры, едва лишь намеченные в «Женевских письмах», не обретут плоть и кровь законченной философской системы.
Работать… Писать… Все это так, все это хорошо. Этим можно было заниматься, пока в карманах бренчало золото, а на текущем счету лежали тысячи франков. Но когда были тысячи, он бездумно швырял ими и теперь остался без гроша. Без гроша в буквальном смысле слова. Как же можно разрабатывать научные проблемы, если нет угла, чтобы приклонить голову, и хлеба, чтобы утолить голод?..
И вообще, что делать, как и чем дальше жить?
Казалось бы, есть весьма простой выход.
Когда-то Сен-Симон набил себе руку на выгодных аферах. Он спекулировал землей, строил магазины, создавал компании дилижансов. Почему бы вновь не попытать счастья? Достаточно возобновить старые деловые связи, тряхнуть ныне процветающего банкира Перрего, привлечь дошлого нотариуса Кутта, и, быть может, деньги вновь потекут рекой?..
Увы, этот способ для Сен-Симона заказан. Он не может вернуться к прошлому. Он изжил в себе спекулянта. В нем проснулся проповедник, философ, социальный реформатор. И эта новая роль, подводящая итог всей жизни, не терпит размена.
Но есть и другой выход, по-видимому более приемлемый.
В былые дни Сен-Симон собирал в своих салонах множество людей. Да каких людей! Друзья, которых он кормил обедами и поил шампанским, весьма преуспели. Буасси д’Англа занял место в сенате, а Сегюр стал министром церемоний самого императора! Это, не говоря о Монже, Пуассоне и других ученых, для которых прежде всего был открыт его кошелек и которые ныне более чем обеспечены. Так почему бы не обратиться за помощью к кому-либо из них? Ведь, наверное, каждый с радостью поддержит своего прежнего благодетеля!
Но здесь его ожидало глубокое разочарование.
Никто из прежних друзей и не подумал о том, чтобы протянуть ему руку. Напротив, теперь его едва узнавали, а иногда и не раскланивались при встречах. Всем им, почтенным и уважаемым людям, не было ни малейшего дела до этого промотавшегося идеалиста и его химерических проектов.
Видя, что перед ним захлопываются все двери, Сен-Симон решает отправить письмо. Граф Сегюр ему обязан больше, чем другие. Ведь его-то бывший меценат не только кормил и поил: во времена якобинского террора он скрывал Сегюра у себя дома, иначе говоря, рисковал головой. Такие услуги не забываются. И Сен-Симон пишет Сегюру. Он не просит денег, ему не нужно милостыни. Он надеется, что всемогущий министр даст ему место, которое обеспечит сносным заработком.
Он ждет. Проходят дни, недели, месяцы. Он продает последнее. Вслед за безделушками в лавки перекупщиков уходят костюмы, шелковое белье и малоношеная обувь. Больше продавать нечего.
Ровно через полгода Сен-Симон получает письменный ответ от графа Сегюра.
Когда он прочитал письмо, то, несмотря на всю дикость своего положения, не смог не расхохотаться. Ему захотелось разыскать графа, чтобы швырнуть ему в лицо это послание. Впрочем, Сен-Симон быстро взял себя в руки. Выбирать не приходилось…
Всемогущий вельможа холодно уведомлял своего старого друга, что подыскал ему подходящую должность: место переписчика в ломбарде. Он будет работать девять часов в сутки и получать тысячу франков в год — ровно столько, чтобы не умереть с голоду…
Бывший аристократ и миллионер кое-как заштопывает локти своего единственного сюртука и садится у застекленного окошечка центрального парижского ломбарда. В течение девяти часов он исправно выписывает квитанции, чтобы затем оставшуюся часть суток в грязной каморке при том же ломбарде употребить на свою личную работу.
Такая система быстро приносит плоды: через пару месяцев Сен-Симон уже путает день с ночью и начинает харкать кровью. И когда он почти полностью теряет надежду выбиться из создавшегося положения, он встречает человека, которого позднее назовет своим единственным другом.
Диара Сен-Симон знал очень давно, с 1792 года. Тогда, начиная свои земельные спекуляции, он нанял этого уже немолодого человека для своих личных услуг. Верой и правдой служил ему Диар в течение шести лет, вплоть до момента, когда, рассорившись с Редерном и потеряв свои миллионы, Сен-Симон рассчитал всех своих людей. И вот теперь, почти девять лет спустя, они совершенно случайно встретились на улице…
В первый момент Диар едва узнал своего блестящего хозяина, в котором от прошлого не осталось ничего, кроме донкихотского носа. Зато хозяин сразу узнал своего прежнего слугу и протянул ему дрожащую руку.
После того как Сен-Симон поведал о всех своих горестях, Диар сказал:
— Место, которое вы занимаете, недостойно ни вашего имени, ни ваших способностей.
— Но что же можно поделать? Где найти лучшее?
— Я прошу вас переехать ко мне и располагать всем, что мне принадлежит. У меня вы сможете работать, не думая о завтрашнем дне.
На глазах Сен-Симона, быть может впервые в жизни, показались слезы. Он крепко обнял этого единственного человека из всех известных ему людей…
На мансарде у Диара было тепло и уютно. Сам он, занятый службой в городе, целые дни отсутствовал. Философ работал без помех. Теперь можно было эффективно наверстывать упущенное.
Над чем же работает Сен-Симон?
Со времени «Писем женевского обывателя» он непрерывно поглощен одной и той же идеей. Его волнует социальная организация общества. Но он не считает себя вправе прямо перейти к этому предмету. Он полагает, что указания на целесообразную структуру общества можно получить только в результате систематизации всех наук. В его уме возникает грандиозный план — объединить единым принципом тела неорганические, живую природу и социальные категории. Принцип этот ему подсказывает великая астрономическая теория — закон всемирного тяготения. Доказать неограниченную власть этого закона над миром материи, разума и чувства — отныне неотложная задача философа. Он начнет со вселенной, перейдет к солнечной системе, к Земле и, наконец, изучив человечество как одно из «подлунных» явлений, выведет законы социально-нравственной организации общества.
Такова цель.
Это будет «Новая энциклопедия».
Новая энциклопедия должна радикально отличаться от прежней, знаменитой «Энциклопедии» просветителей XVIII века.
Прежняя исходила из абстрактных принципов; новая будет черпать из наблюдений и фактов. Прежняя провозглашала вечные истины; новая покажет преходящий характер всех исторических категорий. Прежняя ставила негативные цели критики и отрицания: новая предложит позитивную программу творческой перестройки.
В «Новой энциклопедии» будет показан всеобщий прогресс развития природы и общества как постоянная борьба между разными видами материи, процесс единства противоположных начал — покоя и изменчивости, устойчивости и подвижности. Все явления здесь будут представлены во всеобщей связи, раскрыть которую позволит единство познания; и если философы-просветители подходили к науке лишь как эмпирики, то отныне опытный метод будет сочетаться с постижением общих закономерностей всего сущего.
Труд грандиозный, невероятный, едва ли посильный для одного человека.
Но Сен-Симон никогда не боялся трудностей. И он уверен, что поставленная задача ему по плечу.
Буквально не разгибая спины, он трудится три года подряд. Он недоволен своей работой. Все идет не так, как надо. Мысли остаются незаконченными, выводам недостает убедительности, с одного приходится перескакивать на другое. Ему не хватает знаний во многих областях. Как нелегко орудовать со звездными мирами человеку, малознакомому с астрономией! Он высказывает крайне смелые идеи вроде утверждения об одинаковом количестве жидких и твердых элементов в солнечной системе или гипотезы о том, что мысль есть материальное притяжение «нервной жидкости»…
Надо похвалить и Наполеона — покровителя новой науки. Сен-Симон делает это крайне неумеренно. Сам себя твердо уверив в том, что император его поймет и поддержит, он приписывает Наполеону свои собственные планы и помыслы.
Впрочем, он уже не претендует на единоличное выполнение всей «Энциклопедии». Он готов пригласить других ученых к себе в помощники и составить ассоциацию, которая могла бы совместно завершить этот эпохальный труд.
Завершить… Теперь он и сам чувствовал, что до завершения было бесконечно далеко. Понимая это, Сен-Симон называет свой незаконченный опус «Введением в научные работы XIX века».
В 1808 году книга издается на средства Диара. Отпечатав ее всего в ста экземплярах, Сен-Симон рассылает их наиболее известным ученым с просьбой дать отзывы и замечания, а также согласие на совместный дальнейший труд.
Но ожидаемого ответа автор не получает.
Та же судьба ждет и следующие его работы: «Письма в Бюро долгот»[30] (1808 г.) и проспект «Новой энциклопедии» (1810 г.).
Сен-Симон огорчен, затем рассержен. Он не может понять этой холодности со стороны своих братьев ученых. Его негодование проявляется в очень своеобразной форме. Бедняк и отверженный, он вдруг снова вспоминает… о своем аристократическом происхождении и знаменитых предках!
…«Я пишу, как дворянин, как потомок графов Вермандуа, как наследник пэра и герцога Сен-Симона…» — этими словами начинает он свое вступление к «Письмам в Бюро долгот», нимало не смущаясь, что читать их придется президенту бюро Лапласу, сыну простого крестьянина.
Еще определеннее те же ноты звучат в посвящении к «Новой энциклопедии», которое автор адресует своему племяннику, Виктору Сен-Симону. Напомнив, что их родоначальником был сам Карл Великий, философ утверждает далее, что все знаменитые люди, будь то политики, как Александр Македонский, Петр I, Фридрих II, Наполеон, или ученые, как Галилей, Бэкон, Декарт, Ньютон, — все они происходили из дворян и аристократов. Сам он, Анри Клод де Сен-Симон, отложил в сторону шпагу и взялся за перо только потому, что сейчас Бэконы нужны не менее, чем Александры. Все Сен-Симоны должны быть горды до надменности именно потому, что судьба постепенно низвергла их с вершин монаршего величия до последних подданных…
Подобные выпады могут привести лишь к общему смеху.
И все смеются. Хохочут и указывают пальцами на этого горе-ученого, напыщенного дилетанта, жалкого нищего, щеголяющего своими дворянскими лохмотьями.
Из Бюро долгот наконец приходит ответное письмо. Грубый отказ от всякого сотрудничества, сопровождаемый требованием прекратить посылку книг и рукописей.
Надежды на совместную работу с учеными больше нет.
Сен-Симон, взвинченный до предела, набрасывается на Лапласа. Он печатает заявление, в котором называет ученого шарлатаном и трусом, обвиняет его во всех смертных грехах, грозит разгромить в пух и в прах все его астрономические теории…
Новые взрывы хохота. Слушайте, что говорит этот выродок! Этот фигляр, претендующий на гениальность! Клиент сумасшедшего дома!..
Но Сен-Симон уже спокоен. Он понимает, что никогда не сможет разбить астрономических теорий Лапласа. Ну и бог с ними. Пожалуй, все это не для него. Пожалуй, следует спуститься с небес на землю, из мира большого — вселенной — уйти в мир малый — человеческое общество. Там он будет чувствовать себя прочнее. А что касается безумия…
— В храм славы входят только клиенты сумасшедшего дома, — гордо заявляет он своим гонителям. — Но не все. Всего один человек на миллион успевает войти, остальные сворачивают себе шею…
И все же ему не по себе.
Он огорчен тем, что его не пожелали понять.
Впрочем, может, он и сам виноват; тоже, разошелся, расхвастался — и чем же? Тем, что презирал с детских лет: своим аристократизмом!..
Нет, так нельзя.
Появляется мысль: надо открыться, познакомить людей со своей подлинной биографией, объяснить, почему совершал он те или иные поступки, могущие показаться слишком экстравагантными…
Сен-Симон пишет одно из самых удивительных своих произведений, своеобразную исповедь, в чем-то напоминающую «Исповедь» Руссо. Здесь нет и намека на недавнюю дворянскую спесь. Философ хочет доказать скептикам их неправоту. Он хочет доказать самому себе, что все его мытарства и злоключения не напрасны — в них есть закономерность, ведущая к высшей цели…
«…В обществе существует и у читателя также должно возникнуть известное предубеждение против меня, ибо работа, которой я посвятил себя, является уже четвертой, а три предыдущие не имели успеха.
Жизнь моя, коротко говоря, представляет собой целый ряд падений, но тем не менее она не пропала даром, так как я не только не опускался, но все время поднимался, и ни одно из этих падений не возвращало меня к отправной точке. Работы, начатые мною и не доведенные до конца, надо рассматривать как необходимые опыты; их нужно считать подготовительными работами, заполнившими деятельный период моей жизни.
На пути открытий я испытал на себе борьбу прилива и отлива: я часто опускался, но сила подъема всегда преобладала над противоположной силой. Мне почти 50 лет, я нахожусь в том возрасте, когда уже уходят на покой, а я только выхожу на свое поприще. После долгого и тягостного пути я очутился у его начала…»
Но это не обескураживает Сен-Симона.
Единственное средство добиться успехов в философии, утверждает он, — это делать опыты, причем опыты, где собственная жизнь может стать наиболее существенным объектом для наблюдений. Нет ничего удивительного, что при таком методе можно попасть в любое необычное положение и испытать любую невзгоду; но выигрыш, который при этом получаешь, всегда неизмеримо выше, чем потери, которые несешь.
«…Я напрягал все усилия, чтобы узнать возможно более точно нравы и взгляды различных классов общества. Я разыскивал, я хватался за все возможности, чтобы связаться с людьми различных характеров, различной нравственности, и, хотя подобные изыскания сильно вредили моей репутации, я далек от того, чтобы сожалеть об этом.
Уважение мое к самому себе всегда возрастало пропорционально тому вреду, который я причинял своей репутации. Наконец, я имею причины рукоплескать своему поведению, ибо вижу, что в состоянии открыть моим современникам и потомкам новые и полезные взгляды; они доставят моим потомкам вознаграждение, которое я лично нахожу в живом сознании того, что оно мной заслужено…»
И общий вывод:
«…К людям такого поведения человечество должно питать наибольшее уважение; оно должно считать их наиболее добродетельными, ибо они методически способствовали успехам науки, этого единственного истинного источника мудрости…»
…Он не закончил и не опубликовал своей исповеди.
В процессе работы над нею он решил, что она бесполезна; быть может, она лишь вызовет новые издевательства…
…Много лет спустя его ученик нашел этот отрывок среди других бумаг Сен-Симона…
В том же 1810 году неожиданно обрушивается горе: умирает Диар.
На какое-то время Сен-Симон теряет интерес ко всему. Ему искренне жаль этого доброго человека, его настоящего друга, пришедшего в трудный час, когда все «друзья» отвернулись.
И потом — как же он будет теперь работать? Где возьмет средства к существованию?..
Похоронив Диара и прожив в короткое время его небольшие сбережения, Сен-Симон снова оказывается на улице.
Он опускается все ниже. Вот и дно. Самое дно самой блестящей из столиц Европы. Грязные ночлежки, харчевни, проститутки, воры. Безуспешные поиски средств к существованию. Жизнь бродяги…
…Именно в эти дни он впервые познакомился с пролетариатом.
Блуждая по городу в поисках куска хлеба, Сен-Симон забрел как-то в Сент-Антуанское предместье. И был потрясен. Потрясен настолько, что даже на момент забыл о собственном горестном положении. Нет, никак нельзя было представить, чтобы в этом богатейшем городе могло оказаться такое…
…Улочки в два-три шага шириной, немощеные и без тротуаров разделяли шеренги серых, прокопченных зданий. Ни намека на освещение и канализацию. Прямо по обочинам улиц канавы, полные зловонных нечистот.
Здесь люди ютились в низких, темных и сырых подвалах, по шесть-восемь человек в одной комнате. Они умирали не только от изнурительного труда, которому отдавали восемнадцать часов в сутки, но и от отсутствия воздуха, солнца, пищи. Их убивали алкоголь, истощение и тяжелые болезни. Здесь женщина в двадцать лет выглядела старухой, а дети не знали детства…
Сен-Симон видел рабочих, людей в синих блузах, с потухшими глазами и сильными руками, сжатыми в кулаки. Он смотрел на их жалкие лохмотья и думал об изобилии, царившем в Париже. И у него, вероятно, стали возникать новые идеи. Пока что они остались недодуманными, угасли под бременем личных забот.
Но годы спустя им суждено было воскреснуть.
Да, много любопытного увидел он в дни своего бродяжничества. И если рассуждать с точки зрения экспериментатора — то даже полезного. Но Сен-Симон давно охладел к экспериментам. Все кажется ему диким, несуразным кошмаром. Хочется закричать, чтобы проснуться. А мысли заняты одним и тем же. Несмотря на голод и лишения. Несмотря на весь ужас нищенской жизни. Одним и тем же: надо продолжать работу.
Но что значит продолжать работу? Это значит — жить.
А чем жить?..
…В одну из бессонных ночей, ворочаясь на груде тряпья и вновь перебирая тысячи несбыточных возможностей, Сен-Симон подумал о Редерне…
Бесспорно, немец его обокрал. Больше чем обокрал — глубоко ранил его душу. Но ведал ли он, что творил? Быть может, за это время он и одумался? Быть может, в нем заговорила совесть?
Идеалист всех меряет на свой аршин. Хотя Сен-Симон три года назад сделал уже безрезультатную попытку списаться с Редерном, теперь, загнанный в угол нуждой, он решает повторить ее, причем — святая невинность! — даже рассчитывает заинтересовать прежнего друга своими философскими поисками.
Граф Редерн, принявший французское подданство, к этому времени жил королем. На деньги, отобранные у компаньона, он купил в Нормандии превосходный замок Флер. Он приобрел земли, доходность которых еще более увеличил техническими реформами, занялся производством химических удобрений и торговлей кровельным железом. Дела его шли блестяще. Как и всякий преуспевающий коммерсант, он уже подумывал о политической карьере. Легко представить, сколь неприятно он был поражен, когда осенью 1811 года вдруг получил длиннейшее послание от человека, о существовании которого очень хотелось бы забыть…
Сен-Симон от всего сердца предлагает Редерну примирение. В сущности, у них ведь одинаково благородные души и одни и те же высокие порывы. Почему бы теперь им не объединиться для создания философского труда, посвященного истории человеческого разума? Как бы это было прекрасно, если бы бережливый и расчетливый Редерн соединил свои усилия с расточительным Сен-Симоном в стремлении спасти человечество от угрожающих ему зол! А пока пусть дорогой друг прочтет кое-что из работ Сен-Симона и выскажет свои драгоценные соображения…
Не дождавшись ответа, философ меняет тон. Между ними не должно быть недомолвок. Пусть друг его знает, что он претерпел страшные бедствия и рассчитывает на посильную помощь того, кто в прошлом был ему обязан довольно многим. Хлеба, книг и помещения — вот, в сущности, все, чего он просит. Он надеется, Редерн, помня прежнее, не откажет ему в таком пустяке. А чтобы установить более тесные контакты, он, Сен-Симон, готов немедленно выехать в Алансон, где проживает Редерн.
Делец настораживается. Черт возьми, отмалчиваться больше нельзя! Уж если этот безумец, не имея гроша в кармане, задумал предпринять далекое путешествие, лишь бы настоять на своем, значит отвязаться от него будет трудно. Ну что ж, пусть получит все сразу.
В чрезвычайно холодном тоне Редерн извещает философа, что не намерен иметь с ним более никаких дел. Он не станет читать его трудов и переписываться с ним. Что же касается просимой помощи, то он готов в последний раз субсидировать попрошайку с тем, однако, чтобы тот отстал от него навсегда. Если это его не устраивает, что ж, может подавать в суд.
К этому посланию богач прилагает ассигнацию в пятьсот франков…
Последнее обстоятельство не может не привести к взрыву.
Философ потрясен. Так этот тип ничего не понял, вернее, сделал вид, будто ничего не понял. Он снова наплевал в душу Сен-Симону и вместо того, чтобы проявить хоть тень справедливости, бросил ему жалкую подачку — сумму, которую в лучшие дни Сен-Симон бросал на один ужин, даваемый в честь Редерна!..
В гневе социолог клеймит демарш коммерсанта: Редерн прекрасно знает, что официальный суд не может их рассудить. Их распря — это проблема совести, чисто моральный казус, который в силах решить только третейское разбирательство. Почему же Редерн отказывается от третейского суда? Да по той простой причине, что понимает: любое непредвзятое лицо изобличит его как мошенника. Он ведь и есть мошенник, мошенник и вор, которому порядочный человек никогда не подаст руки. Так пусть же будет ему известно — Сен-Симон не намерен прощать. Он уже изготовил разоблачительную записку, в которой точно изобразил все козни Редерна и которую опубликует в ближайшее время здесь же, в Алансоне!..
Редерн смеется. Ну и дурак! Сам же проговорился и дал время, чтобы принять надлежащие меры!
И он принимает меры.
В руках у капиталиста — вся департаментская администрация, с префектом он на дружеской ноге. Он извещает местные власти: ни под каким видом не публиковать никаких статей или посланий некоего Сен-Симона! Это опасный маньяк, противник нравственности и устоев; деятельность его подрывает общественное спокойствие.
Префект отдает соответствующее распоряжение. И когда Сен-Симон приносит свою рукопись, оказывается, что ни одна алансонская типография не может ее напечатать…
Это последний удар. Проведя почти полтора года в жестокой борьбе нервов и все потеряв, философ теряет и энергию. Ему кажется, будто пропасть разверзлась у его ног. У него кое-как хватает сил, чтобы осенью 1812 года добраться до Перонны — городка, где когда-то был дом его матери и где остался хоть кто-то из знакомых, и здесь, полностью обессилев, он падает, сраженный болезнью.
…Когда Сен-Симон пришел в себя, он долго не мог понять, где он находится и что произошло. Комната казалась незнакомой, постель — слишком мягкой, и было совершенно непонятно, откуда взялась эта молчаливая женщина, дежурившая у его изголовья. Только после того, как пришел нотариус Кутт, все разъяснилось…
…Да, воистину свет не без добрых людей! И если на земле живут черствые себялюбцы вроде Сегюра или Редерна, то есть здесь и чистые, самоотверженные души вроде Диара или вот этого скромного человека в черном, которого Сен-Симон, зная давно, в действительности до сих пор никогда не знал…
С Куттом он познакомился в период земельных спекуляций. В то время нотариус точно выполнял его поручения и привлекал своей деловитостью. А теперь выяснилось, что у него есть и сердце, доброе и отзывчивое. Именно он поднял Сен-Симона на пероннской стоянке дилижансов, когда тот без памяти, в жару и бреду, был, точно куль, выгружен кондуктором. Болезнь оказалась длительной и жестокой: около месяца философ находился между жизнью и смертью. Все это время нотариус держал его у себя на квартире под бдительным присмотром членов своей семьи. Сен-Симона регулярно навещал лучший в городе врач, которому и удалось в конце концов остановить злую лихорадку…
Но даже после успешного излечения недуга выздоравливающий оставался разбитым и душевно потрясенным, с трудом выражал свои мысли и боялся, что сойдет с ума. Врач подбадривал его: без глубокого физического кризиса невозможна и великая нравственная эволюция! И действительно, едва окрепнув, Сен-Симон почувствовал необыкновенный прилив творческой энергии. Он снова готов засесть за работу — было бы где!..
Заботливый Кутт предусмотрел и это. Ему удалось связаться с родственниками. Сен-Симона, нажать на них и добиться, чтобы они сняли философу маленькую квартирку в Париже. Сверх того они обязались выплачивать ему ежемесячное вспомоществование.
Ну вот и снова обошлось… В который раз!..
По-видимому, он и впрямь родился под счастливой звездой!
Значит, можно работать.
И он будет работать, покуда хватит сил.
ГЛАВА 4 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
Среди документов, оставшихся от Сен-Симона, нет, пожалуй, ничего более страшного, чем эти несколько строк, принадлежащие его руке:
«…Будьте моим спасителем, я умираю от голода… Вот уже две недели я питаюсь хлебом и водой, работаю без огня; я продал все вплоть до одежды, чтобы оплатить издержки на переписку моих трудов. Страсть к науке и общественному благу, стремление найти способ для прекращения мирным путем страшного кризиса, переживаемого всем европейским обществом, довели меня до такой нужды. Поэтому я, не краснея, могу признаться в своей нищете и просить помощи, необходимой для продолжения моего труда…»
Этот отрывок был написан в 1812 году, в дни, когда Сен-Симон особенно напряженно трудился над двумя небольшими работами: «Очерком науки о человеке» и «Трудом о всемирном тяготении».
По-видимому, помощь родственников, приходившая нерегулярно, не давала прожиточного минимума. А завершить обе работы было необходимо, совершенно необходимо — в них автор излагал свое новое кредо. И поэтому он не счел для себя позорным сделать то, на что не решался и в более тяжелые дни своей жизни: обратиться за помощью во все инстанции, какие только имелись, — к ученым, писателям, министрам, государственным учреждениям.
Помощи не пришло, но в начале 1813 года он все же закончил обе работы. Закончил на едином дыхании, хотя от слабости кружилась голова, а перо вываливалось из рук.
Оба эти произведения, в особенности «Очерк науки о человеке», — беспримерные в философской литературе образцы хаотического изложения. Написанные в форме непринужденных бесед, они полны неожиданных отступлений и фантастических выкладок; в логическое развитие главной идеи постоянно вторгаются длиннейшие вставки; влагая свои мысли то в уста Бэкона, то в уста Сократа, автор злоупотребляет сомнительными аналогиями и надуманными схемами, в которые пытается запихнуть отобранный материал. Эти труды способны отпугнуть читателя — Сен-Симон не строит себе иллюзий, признавая их чтение «тягостным» и «малоприятным».
И тем не менее оба они стали для философа чем-то крайне важным: в них Сен-Симон прощался со своими прежними космическими завихрениями, уходил из мира наукообразной заоблачной схоластики и вступал на новые рубежи — рубежи подлинной жизни.
Это был трудный шаг. Отказаться от «Новой энциклопедии»? От сокровенной мечты, которая волновала его более десяти лет и с которой он не расстался в дни самых страшных жизненных испытаний? Нет, так вдруг, сразу отойти от всего этого было невозможно. И поэтому в новых работах еще кое-где мелькают воспоминания о солнечной системе, структуре небесных тел и основах мироздания. Но все это — лишь дань прежней увлеченности. В целом философ уже обеими ногами твердо стоит на земле и занят прежде всего «историческим человеком».
Замечательно, что, подходя к его изучению, Сен-Симон ни в коей мере не отказывается от принципов, установленных ранее. Он по-прежнему подчеркивает всеобщую связь явлений в природе и обществе, утверждает неразрывность частного и целого и настаивает на необходимости выработки единой «операции познания», в которой эмпирически-апостериорный метод, принятый философами XVIII века, в частности Кондильяком, сочетался бы с методом «априорного познания», методом выявления главных закономерностей и синтеза.
Эти общие принципы Сен-Симон и применяет к познанию исторического процесса.
По существу, перед нами философия истории.
Она далеко не закончена. В ней больше пробелов, чем истин. В ней много поверхностных заключений[31] и наспех составленных формулировок. И все же в ней есть самое главное: общая идея. Та общая идея, которую философ искал в течение всей своей жизни и которую наконец обрел, тщательно продумав все пережитое и перечувствованное.
Это идея закономерности исторического процесса.
Не по божьей воле и не в силу случайного стечения обстоятельств происходят великие события. Нет «вечных» истин, точно так же как нет и «естественного» состояния. История — это математический ряд, все члены которого идут один за другим, следуя непреложным законам развития. И поэтому, если знаешь первые и средние члены этого ряда, можешь наверняка определить и последующие.
Значит, чтобы правильно предсказать будущее, нужно прежде всего познать законы истории.
…До сих пор историки излагали только биографию власти. А между тем история политических перемен — это лишь формы, поверхностные явления исторической жизни. Существо же ее в распределении собственности, в организации хозяйства, в разделении классов…
Рисуя историю человеческого общества, Сен-Симон ищет ее глубинную сущность. В его представлении история — это постоянное нарастание, непреложный прогресс во всех областях, начиная от идеологии и кончая производством. Чтобы сделать свою мысль наглядной, Сен-Симон сравнивает общество с человеческим организмом.
Заря цивилизации — подлинное детство. В раннем детстве все внимание ребенка сосредоточено на еде, на получении пищи; добывание пищи является главной деятельностью народов, стоящих на первой ступени цивилизации. Затем ребенок начинает увлекаться строительством: он создает игрушечные крепости, возводит насыпи и прорывает каналы; этому периоду соответствует цивилизация Древнего Египта с его скальными храмами, пирамидами и ирригационной системой. Ребенок превращается в юношу, и у него возникает склонность к искусству: он пробует свои силы в поэзии, музыке или живописи. Разве не отвечает это цивилизации древних греков с их увлеченностью всем прекрасным? Юноша физически созрел, превратился во взрослого человека и устремился на борьбу с природой или занялся военным делом; это же характерно для римской цивилизации, сменившей греческую. Но вот деятельность человека становится медленнее и правильнее, воображение слабеет, уступая место рассудочности. Не этим ли путем идет и все общество по мере приближения к современности?..
Продолжая и дальше свою аналогию, философ утверждает, что человечеству, как и отдельному индивидууму, свойственны кризисы, постоянно нарушающие поступательный путь развития. Здесь Сен-Симон радикально расходится с Кондорсе, считавшим, что прогресс непрерывен. Поскольку, говорит Сен-Симон, та или иная общественная система отвечает состоянию цивилизации, она может существовать и совершенствоваться, а человечество развиваться в ее пределах. Но затем общество неизбежно перерастает систему, между ними происходит разрыв, и тогда старая система разрушается, уступив место новому, более совершенному социальному зданию.
Это значит, что исторический процесс не есть исключительно эволюционное развитие. Каждая органическая позитивная эпоха, каковыми были античность или средние века, сменяется критическим периодом: соответствие между формой и содержанием, характерное для позитивной эпохи, нарушается, содержание вступает в противоречие с формой, и это противоречие дает могучий толчок для переворота, который должен привести к следующей ступени прогрессивного развития. Наступает промежуточный период разрушительной работы, выражающийся в критике унаследованных форм, в нападении на систему управления и взглядов. С устранением благодаря этому традиционных форм и идей сложившееся новое общество вступает в новую организационную фазу.
Следовательно, история человечества — это цепь эволюционного развития, прерываемая революциями. Причем каждой общественной форме соответствует определенный умственный уклад, а всякий крупный общественный переворот совпадает с революцией в философии, верованиях и научных понятиях.
Каковы же признаки прогресса грядущего общества? Где критерии для его оценки? Сен-Симон смело устанавливает их.
«…Лучшее общественное устройство — то, которое делает жизнь людей, составляющих большинство общества, наиболее счастливой, предоставляя им максимум средств и возможностей для удовлетворения их важнейших потребностей. Это такое общественное устройство, при котором достойнейшие люди, внутренняя ценность которых наиболее велика, располагают максимумом возможностей достичь высшего положения независимо от того, куда их поместила случайность рождения. Это затем такое общественное устройство, которое объединяет в одно общество наиболее многочисленное население и предоставляет в его распоряжение максимум средств для сопротивления иноземцам. Это, наконец, такое общественное устройство, которое приводит в результате покровительствуемых им трудов к наиболее важным открытиям и к наибольшему прогрессу цивилизации и наук».
Конечно, эти четыре признака еще довольно общи. Но более подробно философ пока не желает высказываться.
Сен-Симон объявляет читателям, что он только начал свой многолетний труд, дал всего лишь общий эскиз, костяк, который должен обрасти плотью. Он строит обширнейший план будущих исследований, рассчитывая их на двенадцать лет вперед. И в заключение, повторяя мысль, впервые высказанную в «Женевских письмах», утверждает, что результатом его трудов явится реорганизация европейского общества и создание высшего экстерриториального совета ученых, который разрешит, наконец, все проблемы, волнующие земной шар.
Итак, важный шаг сделан. Основа заложена, философ превращается в социолога и отныне будет занят только судьбами человеческого общества. После долгих блужданий он вернулся к тому, что наметил еще одиннадцать лет назад в своем первом труде, но теперь уже — на новой основе. К этому привела его собственная жизнь с ее великими взлетами и падениями. К этому привело его и видение чужой жизни, жизни окружающих людей, сотен людей, тысяч людей, миллионов людей, составлявших современное ему общество.
Он не имеет средств, чтобы отпечатать новые труды. Он переписывает их от руки, создает несколько копий и опять (горбатого могила исправит!) рассылает братьям ученым, прося сделать свои пометки и согласиться на «ассоциацию». Конечно, результат тот же, что и прежде. Но на этот раз Сен-Симон не ограничивается учеными. Надеясь на материальную помощь, он обращается в государственный совет, в сенат и, наконец, к самому императору.
Момент выбран на редкость неудачно. Наполеон только что потерпел страшную катастрофу в России и со дня на день ожидает вторжения союзнических армий во Францию. Но Сен-Симон учитывает и это обстоятельство. Чтобы заинтересовать императора, он дает своей рукописи злободневное название: «Средство заставить англичан признать свободу мореплаванья».
Нам неизвестно, прочитал ли Наполеон преподнесенную ему рукопись.
Но если он, заинтересованный заглавием, хотя бы только просмотрел ее, он был бы, без сомненья, сильно удивлен.
Прежде всего императора ожидало полное разочарование. Листая рукопись, он убедился бы, что в ней нет ни слова о «средствах заставить англичан»…
Но это еще полбеды.
Легко представить ярость, которую должны были вызвать у болезненно-честолюбивого Наполеона весьма смелые политические советы, предложенные ему автором в «Посвящении»:
«…Ваше величество должно отказаться от протектората над Рейнским союзом, вывести войска из Италии, возвратить свободу Голландии, прекратить вмешательство в дела Испании, одним словом, вернуться к естественным границам Франции. Если же Вы пожелаете еще более увеличить Ваши лавры, то этим разорите Францию и окажетесь в прямом и полном противоречии со стремлениями своих подданных…»
Поскольку Сен-Симона не бросили в тюрьму — а именно таким должен был оказаться результат этих поучений, — можно предположить лишь одно из двух: или Наполеон действительно не раскрыл рукописи, или же, находясь в чрезвычайно тяжелом положении, из-за других забот он просто не дал хода делу «об оскорблении величества», на которое его провоцировали политические выпады Сен-Симона.
Так или иначе философ не пострадал.
Но уж, разумеется, материальной помощи, на которую он наивно надеялся, власти ему не предоставили.
И все же он был счастлив.
Он чувствовал, что подошел вплотную к открытию, а открытие, рожденное муках творчества, не пропадет и не исчезнет никогда.
ГЛАВА 5 НАУКА И ПОЛИТИКА
Давно не видала Франция таких суровых дней.
Зима 1813/14 года принесла не только холод, но и голод.
Поля не обрабатывались, фабрики закрывались, в торговле царил полный застой. Чудовищное увеличение налогов, 25-процентные вычеты из жалований и пенсий чиновников, бесконечные постои солдат — все это прижало людей состоятельных, а бедняков довело до нищеты. Рента упала почти вдвое, акции Французского банка не котировались, звонкая монета исчезла.
Новогодний праздник в Париже прошел, точно панихида: помимо похоронного настроения, 31 декабря 1813 года из-за отсутствия подвоза в столице нельзя было достать ничего, кроме самых необходимых съестных припасов, хотя во многих провинциях лавки были полны товаров, а подвалы — вин.
Участились банкротства. Люди несли в ссудные кассы серебро, мебель, одежду.
А по лесам рыскали летучие отряды, разыскивая дезертиров.
И весь разоренный народ, вся обезлюдевшая Франция жили одной мыслью, одной надеждой, одним желанием — дождаться мира.
Но император и не помышлял о мире.
Растерявший всех своих сателлитов, оставивший «великую армию» на полях России, добитый врагами при Лейпциге, он все еще верил в свою звезду и близкую победу.
И не упускал случая во всем обвинить минувшую революцию:
— Это все идеологам, проклятым метафизикам с их бреднями о правах народа, им, и только им, обязана наша прекрасная Франция своими горестями и несчастьями…
В январе 1814 года первые патрули союзников подошли к Компьеню. В городе вспыхнула паника. Государственные служащие получили приказ немедленно эвакуироваться в Париж.
Среди чиновников, спешно покидавших город, обращал на себя внимание стройный юноша, элегантно, но скромно одетый, бледный, но абсолютно спокойный.
Это был преподаватель истории, учитель компьеньского коллежа Огюстен Тьерри. Несмотря на всю неопределенность своего положения при создавшихся обстоятельствах, он радовался возможности переехать в столицу. Один из парижских друзей недавно сообщил ему, что философ Сен-Симон ищет секретаря, и юный историк, слышавший о Сен-Симоне, мечтал занять это место. Теперь представлялся случай, который нельзя было упустить.
В 1813–1814 годах Сен-Симон с головой погружен в работу. Его материальная жизнь почти не стала легче; он по-прежнему не имеет самого необходимого и ведет полунищенское существование. Но теперь, превозмогая нужду, он целиком отдался разработке своей системы и живет в мире идей.
Более чем когда бы то ни было философ нуждается в людях: в собеседниках, оппонентах, учениках. Без творческих контактов, без живых связей и проверки своих мыслей в спорах он не может двигаться дальше. Но в официальной науке и в ученых корпорациях Сен-Симон полностью разочаровался. Нет, не к ним, надутым гордецам, которые не видят дальше своего носа и ценят только мирские блага, не к этим окостеневшим идолам пойдет он сегодня. Он обратится к молодому поколению, еще не разъеденному жаждой наживы, более целеустремленному и чуткому. Молодежь лучше поймет и оценит его.
Как обычно, новый этап деятельности Сен-Симона связан с новым переселением. Он опять, как некогда, снимает комнату в районе Политехнической школы, известной своим либеральным духом, и заводит дружбу со студентами и профессорами. Вскоре он становится центром небольшого, но тесного кружка. Его новые друзья — математик Ашетт и физик Пекле боготворят учителя. Именно Пекле и пишет Тьерри в Компьень. А прибытие Тьерри придает деятельности кружка особую остроту.
Будущий знаменитый историк в то время был еще очень молод: ему едва минуло девятнадцать лет. Экзальтированный, восприимчивый к необычному, страстно влюбленный в историю, Тьерри искал в прошлом ответа на вопросы современности. Его политическим идеалом была конституционная свобода. Прочитав сен-симоновский «Очерк науки о человеке», он с энтузиазмом воспринял призыв философа.
Тьерри стал секретарем и единомышленником Сен-Симона. Юноша настолько подпал под обаяние своего патрона, проникся к нему такой горячей любовью, что называл себя не иначе как его «приемным сыном».
И вот новые сотрудники берутся за новый труд. Его тема — современная политика, ибо в 1814 году для Франции нет более острых проблем, нежели проблемы политические.
Разгром «непобедимой» армии в России стал началом конца империи. Поражение Наполеона подняло дух закабаленных им народов и окрылило правительства союзных государств.
Теперь они пришли к единодушному мнению, что «проклятый корсиканец» должен быть уничтожен.
Корсиканец не сдавался. Он даже одержал несколько побед над союзными войсками, вторгшимися во Францию.
Но это не могло изменить общего положения.
И дело не только в том, что были исчерпаны глубинные ресурсы страны и отмобилизованы самые юные возраста.
В Наполеоне разочаровались все те слои, на которые он опирался без малого пятнадцать лет, прежде всего — торговая и промышленная буржуазия Франции.
А без социальной опоры великий стратег оказался бессильным.
31 марта союзники вступили в Париж.
6 апреля в загородном дворце Фонтенбло, покинутый своими маршалами, Наполеон отрекся от престола. Отобрав империю, союзники вручили ему взамен остров Эльбу, пленником и правителем которого он отныне становился.
Во Франции была восстановлена власть Бурбонов. Опираясь на штыки союзников, престол занял Людовик XVIII.
Реставрация Бурбонов, разумеется, не уменьшила международной напряженности. Великие державы, созвав в Вене конгресс, делили карту Европы и грызлись за каждый клочок земли. В воздухе снова запахло войной.
Все эти события глубоко волнуют Сен-Симона. Но он подходит к ним не как злободневный публицист, а как дальновидный мыслитель. В раздорах между государствами он усматривает проявление общего мирового кризиса. Причем он уверен, что преодолеть этот кризис можно не частными мерами, а лишь созданием единой международной организации, учрежденной на совершенно иных началах, нежели Венский конгресс.
Сен-Симон проектирует великую европейскую федерацию, которая откроет человечеству новую эру. Вечный мир начнется с примирения и слияния двух главных соперников — Англии и Франции, к которым постепенно присоединятся все другие государства Европы. Конечно, этому объединению должна сопутствовать политическая реформа, которая установит единый парламентарный строй и единые законы, освобождающие народы от произвола монархов.
Если это произойдет, кризис окончится и люди обретут великие возможности для улучшения своей жизни. Если же все, как обычно, ограничится сделками между отдельными государствами — будет новый переворот, предвестники которого и сейчас уже налицо. Политическое всевластие возвратившейся с Бурбонами знати, пренебрежение к промышленности, налоговый гнет — все это возбуждает повсеместное недовольство и может окончиться только общим взрывом, который распространится из Франции на другие государства Европы.
Таково содержание книги «О реорганизации европейского общества», написанной Сен-Симоном при содействии Тьерри и изданной в декабре 1814 года.
Книга заканчивается оптимистическим прогнозом:
«…Воображение поэтов поместило золотой век в колыбели человеческой расы, в обстановке невежества и грубости; скорее надо было бы поместить там век железный. Золотой век человечества не позади нас, а впереди, и заключается он в усовершенствовании общественного порядка; наши отцы его не видели, наши дети когда-нибудь к нему придут. Наша обязанность — проложить им путь…»
В этих словах — самое главное.
Это квинтэссенция всех трудов Сен-Симона, смысл его дела и жизни.
Золотой век… Впервые философ узнал о нем почти сорок лет назад. Из беседы с Руссо. И тогда же впервые усомнился в том, что золотой век безвозвратно утрачен.
А теперь уверен в обратном.
Золотой век впереди, и философ найдет его, найдет во что бы то ни стало.
Вот только бы покончить с войной.
Но чтобы покончить с войной, приходится заниматься политикой…
Эта работа имела неожиданный успех и вскоре вышла вторым изданием.
Сен-Симона начинают признавать. У него объявляются покровители, его приглашают в салоны. И особенно поражает всех, что он оказался пророком: новый взрыв, который он предсказывал, почти тотчас же произошел.
Всеобщее недовольство, вызванное реставрацией Бурбонов, не было тайной для Наполеона. Воспользовавшись нерасторопностью своих стражей, он бежал с Эльбы и 1 марта 1815 года, высадившись на южном побережье Франции, с отрядом в тысячу солдат двинулся к столице. Войска, высланные против «узурпатора», переходили на его сторону, крестьяне и ремесленники приветствовали его криками: «Долой попов!», «Смерть эмигрантам!», «На фонари аристократов!»
20 марта Наполеон вступил в Париж.
Людовик XVIII бежал за границу.
Начался период, известный в истории под именем «Ста дней».
Сен-Симон принял происшедшее без восторга. Но — так уж несовершенна человеческая память — вскоре он снова начал тешить себя надеждой на Наполеона-реформатора. Его подкупило то, что император, стремясь упрочить свое положение, приласкал кое-кого из старых демократов. Да и сам Сен-Симон неожиданно для себя получил государственную службу: по протекции бывшего члена революционного правительства, Лазаря Карно, его назначили на должность библиотекаря Арсенала. Философ срочно пишет брошюру «О мерах против коалиции 1815 года», где повторяет идею о слиянии Франции с Англией, теперь, конечно, под эгидой Наполеона…
Надежда и на этот раз оказывается тщетной.
18 июня 1815 года союзники разбивают императора при Ватерлоо, и через несколько дней он снова отрекается от престола, вторично освободив его для Людовика XVIII.
Наполеона отправляют на остров святой Елены, а Сен-Симона изгоняют из библиотеки Арсенала.
Он, впрочем, особенно не горюет. Теперь его литературное положение упрочилось. И главное, он кое-что понял.
Оказывается, наука и политика — вещи не такие уж несовместимые.
Во всяком случае, политика помогла ему выплыть на поверхность.
А теперь можно будет целиком отдаться любимой науке.
ГЛАВА 6 МЫ — ИНДУСТРИАЛЫ
Осень… Осень в природе, осень в его жизни: как-никак исполнилось пятьдесят пять. Сердце начало давать перебои, появилась одышка. Но он не замечает этого. Он молод и счастлив, словно юноша. Никогда он не был так бодр и работоспособен, никогда так не радовался каждому новому дню, пусть даже мрачному и дождливому.
Потому что наконец он создал основы своего учения. Пусть пока еще не все стало на свои места, пускай есть много недодуманного и недосказанного в деталях, но в общем создал.
И еще радует его то, что теперь он не одинок. Напротив, он окружен людьми и прежде всего — молодежью. Все это — верные друзья, готовые поддержать и морально и материально: что бы он делал без них, когда его уволили со службы!
Но все это — в прошлом. Больше никакой службы. Он будет заниматься только тем, что считает делом своей жизни.
— Философ, — любит повторять Сен-Симон, — плод осени, даже скорее зимы.
И поясняет свою мысль:
— Хорошо выражают то, что хорошо понимают. И теперь, в результате многолетних трудов, я в состоянии изложить свои мысли четко и убедительно, а это главное для философа.
Да, теперь он пишет совсем иначе, чем пять лет назад. И внимают ему иначе — без колкостей и насмешек.
Основная посылка:
«…Всякий анализ настоящего, взятый изолированно, как бы искусно он ни был сделан, может дать только весьма поверхностные или даже совершенно ложные выводы, так как такой анализ склонен беспрестанно смешивать и принимать один за другой два вида элементов, которые в политическом организме существуют всегда совместно, но которые весьма важно различать: это пережитки угасающего прошлого и зародыши восходящего будущего…»
Отсюда следует:
нужно с великим вниманием отнестись к прошлому. Глубокое философское наблюдение над прошлым помогает понять настоящее и будущее и отделить пережитки умирающей системы от элементов системы утверждающейся. Иначе говоря: анализ движения цивилизации позволяет дать воззрения, управляющие людьми.
Исходя из этого, философ обязан:
сначала постичь смысл исторического процесса, потом воспользоваться полученными выводами как критерием для оценки настоящего и начертания будущего и, наконец, внушить эти идеи современным общественным силам, экзальтировать их в пользу принципов, установленных философским путем.
В целом сущность исторического процесса Сен-Симон уяснил себе уже давно.
Теперь он стремится конкретизировать выводы и направить их в настоящее.
Если раньше философ был погружен в седую древность, начиная от заселения Земли, то сейчас его значительно больше интересует время, близкое к современности, прежде всего — последние четыре столетия.
До XV века, подчеркивает Сен-Симон, в обществе безраздельно господствовали богословские идеи, носителями которых являлось духовенство, светскими же властителями были землевладельцы-феодалы. Это была феодально-теологическая фаза в развитии человеческого разума. Но великие открытия в сфере опытных наук, перешедших в Европу от арабов, освобождают людей из-под духовной опеки богословов. Начинается критика феодально-теологической системы, приводящая к ее дезорганизации и разрушению.
В области духовной удары наносятся Лютером, Коперником, наконец, философами-просветителями XVIII века.
В области светской удары наносятся плебеями, сделавшими громадный успех в теоретических знаниях и научившимися их практически применять.
Венцом этой борьбы стала французская революция конца XVIII века, которая, по мнению философа, продолжается до сих пор. В противоположность многим своим современникам Сен-Симон не считает революцию в том смысле, как ее понимает, уродливым отклонением от предписаний природы. На его взгляд, это не отклонение, а кризис роста, кризис неизбежный и своевременный, без которого не могут возникнуть условия будущего. Революция делалась народными массами, но руководили ею люди отвлеченного склада — метафизики и юристы. Они были сильны оружием своей критики, но ничего положительного создать не могли. Их догматы — свобода, равенство, братство — сами по себе не имели никакой цены, ибо были лишены конкретного содержания и превращены в самоцель. Эти люди думали о формах власти, а нужно думать о существе жизни. Они были заняты отвлеченной политикой, а нужно заниматься конкретным производством.
Сен-Симон подробно поясняет свою мысль, избрав в качестве примера понятие «свобода».
Что же такое свобода?
Философы XVIII века изображали ее как некий абстрактный идеал, к которому должен стремиться общественный договор.
Но это не более чем софизм.
«…Люди не соединяются для того, чтобы стать свободными. Дикари соединяются для того, чтобы охотиться, чтобы вести войны, но, конечно, не для того, чтобы обеспечить себе свободу, так как для этого им было бы лучше остаться изолированными…»
Свобода — это не цель, а средство, поскольку она сама предполагает какую-то цель: ведь бесцельная свобода становится абсурдом!
Но какова же цель свободы?
Только одна: производительный труд.
«…Истинная свобода состоит совсем не в том, чтобы члены общества по своему желанию могли сидеть сложа руки; такие наклонности должны сурово подавляться всюду, где они существуют; свобода состоит, напротив, в возможно широком и беспрепятственном развитии способностей, полезных обществу как в светской, так и в духовной области…»
Метафизики и юристы, запутавшиеся в своих абстракциях, понять этого не смогли. И поэтому революция не выполнила своих задач и привела к военной деспотии Наполеона Бонапарта.
Теперь следует пролагать дорогу к новой, позитивной эпохе, и болтовня о свободе должна уступить место индустриализму. Философия XVIII века была критической и революционной, философия XIX века будет организующей и созидательной. Она станет индустриальной в той же мере, как индустриальна вся жизнь современного общества…
…Индустрия, индустриал, индустриализм — это термины, новые для Сен-Симона. Они появились в его словаре только теперь и отныне навсегда займут в нем ведущее место.
Идея труда как главный жизненный принцип давно привлекала внимание социолога. Уже в первом своем произведении, в «Письмах женевского обывателя», он утверждал: «Все люди будут работать». Даже в разгар своих космогонических увлечений он никогда не забывал об этом принципе. Но в полной мере он разовьет его лишь сейчас, разовьет настолько, что сделает основой своего нравственного учения и попытается даже заменить им евангельское учение о любви.
Некоторые биографы Сен-Симона склонны ведущую роль в новом повороте мысли философа уступать экономистам Сэю и Адаму Смиту.
С этим трудно согласиться.
Конечно, Сен-Симон хорошо знал и даже популяризовал сочинения Сэя и Смита. Безусловно, он испытывал на себе в какой-то мере их влияние, точно так же, впрочем, как и влияние ряда других своих современников и предшественников.[32]
И все же ни Сэй, ни Смит, с которыми он во многом расходился, равно как и ни кто-либо другой, натолкнули Сен-Симона на новый подход к проблеме, волновавшей его уже многие годы.
Сен-Симон никогда не был кабинетным ученым. С детских лет страстно интересуясь жизнью, он постоянно вторгался в нее, наблюдал, экспериментировал, делал практические выводы. И его новую теорию родила сама жизнь, в тех ее формах, которые стали характерными для первых десятилетий нового века.
Вторая реставрация Бурбонов дорого обошлась французскому народу.
По условиям мирного договора Франция должна была уплатить союзным державам полтора миллиарда франков контрибуции и в течение пяти лет содержать на своей земле оккупационную армию.
Вместе с Людовиком XVIII на родину возвратились орды дворян-эмигрантов, мечтавших свести счеты с ненавистными «бунтовщиками». Поднялась новая волна разнузданного белого террора. «Хартия», «дарованная» монархом, была лишь жалкой пародией на конституцию. Палата депутатов, прозванная самим королем «бесподобной», состояла из крайних реакционеров, пытавшихся восстановить феодальные порядки и грозивших отобрать у крестьян землю, некогда принадлежавшую дворянству и духовенству.
Однако за всеми этими внешними фактами внимательный наблюдатель мог различить и иные явления.
Реакция оказалась бессильной приостановить промышленный переворот, бурно проходивший во Франции в годы революции и Наполеона. Огромные запасы золота, вывезенные императором из Европы, оплодотворили французскую промышленность. За первые годы реставрации в три раза увеличилась переработка хлопка, почти в два — переработка шерсти, значительно шагнула вперед металлургия. Каменный уголь окончательно вытеснял древесное топливо. Все более расширялось применение машин, работавших не только на водяных, но и на паровых двигателях. Все это, разумеется, вызывало повышенный спрос на квалифицированный технический персонал.
В прежнее время наука не была связана с мастерской. Производственные процессы были настолько просты, машины настолько несложны, что владелец или директор предприятия мог входить во все детали производства, не нуждаясь в помощи специалистов.
Теперь все изменилось. Технические усложнения тесно связали фабрику с наукой. Появились высшие технические школы, воспитанники которых, готовясь занять командные посты на производстве, заменяли прикидку на глазок математическими вычислениями и лабораторными исследованиями. Год от года рос и укреплялся новый социальный слой буржуазной интеллигенции, занятой организацией промышленности.
Все это не могло укрыться от пытливого взгляда Сен-Симона, тем более что в его кружок входил ряд бывших учеников Политехнической школы и лиц, непосредственно связанных с производством. Творческая мысль, философа получает новое направление. В эпоху реставрации социолог вдруг изменяет своему прежнему символу веры и от чистой науки обращается к производству. Главным объектом его исследований становится не ученый, как прежде, а производитель, индустриал.
Кто же такой этот индустриал в трактовке Сен-Симона?
Индустриал — понятие многообразное. Ученый вовсе не сброшен со счетов — он тоже индустриал, но индустриал теоретический. А вот практические, прикладные индустриалы — это предприниматели и организаторы производства, инженеры, механики и рабочие. Но ими дело не ограничивается. К индустриалам следует причислить банкиров, художников, артистов, архитекторов, земледельцев, плотников, писателей, поэтов — одним словом, всех, кто трудится, создает, творит, организует. В целом все они составляют 24/25 французской нации.
Индустриал — это работник. Его противоположностью является лентяй, человек праздный, ничего не производящий, живущий за счет общества. По мнению Сен-Симона, к числу таких тунеядцев следует отнести в первую очередь дворян-аристократов и буржуа-рантье: эти люди не создают, а потребляют созданное другими. Рядом с рантье и аристократами стоят юристы и «метафизики» — лжеученые. Правда, когда-то, на грани средневековья и нового времени, в «критическую» эпоху, те же юристы, борясь с привилегиями феодалов, приносили пользу. Но в настоящее время они совершенно не нужны обществу: живя устаревшими понятиями, они лишь мешают производительному труду.
Между тем все эти тунеядцы и по сей день играют основную роль в государстве. Метафизики и юристы захватили в свои руки все правительственные учреждения, а аристократия, уничтоженная революцией, вновь возродилась как опора трона.
Философ, некогда возлагавший великие надежды на Наполеона, теперь пытается увлечь своими планами Людовика XVIII. Он обращается к королю с открытыми письмами. Он предостерегает: Людовик XVI погиб потому, что принял сторону старой знати, Наполеон лишился трона, так как создал новую знать; Людовик XVIII, сохранивший обе знати, старую и новую, рискует вдвойне, ставя под угрозу и свою власть, и страну, ибо в настоящее время всякая система, опирающаяся не на индустриалов, должна неминуемо разложиться и погибнуть…
…Долгое время индустриалы были бессильны в политическом отношении. Это объяснялось тем, что они распадались на множество групп, работавших каждая по своей специальности и лишенных взаимных контактов. Теперь все изменилось. Через посредство банков промышленность объединена и имеет в своем распоряжении огромные денежные средства, делающие ее самой мощной силой в государстве.
Так не значит ли это, что и политическая власть должна принадлежать ей, и только ей?..
Да, король, если он хочет сохранить трон и престиж, должен незамедлительно передать все управление в руки индустриалов. И кто же смог бы лучше управлять, чем они, привыкшие руководить производством, знающие нужды страны и больше всего заинтересованные в экономии государственных средств?..
Это будет великий переворот, но произойдет он мирно и постепенно. Он ничем не напомнит прошедшую революцию, ибо окажется проведенным сверху. И хотя пойдет он на пользу всему французскому народу, инициаторами его должны стать выдающиеся промышленники, административные способности которых уже проверены на практике.
Сен-Симон настойчиво обращает внимание своих читателей на коренное отличие нового индустриального строя от всех предшествующих ему политических систем. В прежние времена имело место воздействие людей на человека; теперь же будет только воздействие людей на вещи. Это значит, что угнетение и эксплуатация окончатся. И сбудется то, что реформатор считает главнейшей целью всех провозглашенных им истин: максимально улучшится участь класса, у которого нет иных источников существования, кроме собственных рук.
Сен-Симон имеет в виду рабочий класс, который до этого он же сам включил в класс индустриалов…
Здесь заключено главное.
И здесь же — камень преткновения.
До сих пор все мысли и общая система социолога были вполне логичны и даже отдельные противоречия не нарушали их стройности.
Это же противоречие ставит под вопрос всю систему.
Сен-Симон искренне сочувствовал пролетариату. Он, испытавший все превратности судьбы и познавший дно жизни, искренне хотел максимально улучшить положение рабочих.
Но путь, который для этого избрал он, был абсурдным.
Неужели великий мыслитель, произвольно включая рабочих в один класс с предпринимателями, не видел, что его «индустриалы» — чисто искусственная категория: у одной ее части оказываются все орудия и средства производства, а у другой — только труд? Неужели он не понимал, что эти группы непримиримы, что предприниматель никогда добровольно не откажется от эксплуатации рабочих, что в этом, собственно, и состоит его основная производственная цель?
По-видимому, в какой-то мере и видел, и понимал.
Поэтому в дальнейшем он и выделил рабочих в особый класс, вопреки своей прежней классификации.
И поэтому же он неоднократно подчеркивал: вся беда в том, что предприниматель не всегда вникает в нужды рабочего и не всегда может быть понят рабочим. Пока промышленники будут составлять кучку, отделенную от рабочих, пока они не заговорят языком, понятным для рабочих, последние, вместо того чтобы находиться под руководством естественных вождей, то есть тех же предпринимателей, будут добычей интриганов, желающих смут во имя захвата власти…
Но кто же они, эти «интриганы»?
Философ не мог забыть якобинскую диктатуру, во время которой сам столько натерпелся. Он не хотел ее повторения. Желая действовать только мирным путем, он полагал, что свою философию следует внушить не низам, но верхам нового индустриального общества, которые более благоразумны и которые не допустят «смуты».
А верхи, после того как Сен-Симон достаточно их «просветит» и «воодушевит», употребят все свои силы на облегчение участи низов…
Значит, все дело заключалось в правильном «воспитании» промышленников.
Бедный мечтатель! Он искренне верил в это! И поэтому, несмотря на свою гениальность, остался только мечтателем.
Такова была, в ее главных чертах, социальная теория Сен-Симона, созданная им в годы Реставрации.
Следует, однако, подчеркнуть, что раскрывалась теория эта постепенно и свой законченный вид приняла лишь в последних произведениях философа.
На первых же порах, до 1818 года, в период продолжающегося сотрудничества с Тьерри, Сен-Симон еще отдавал известную дань либерализму, борясь прежде всего за свободу промышленности и выступая против политических притеснений, свойственных монархии Людовика XVIII.
ГЛАВА 7 ДЕЛА И ЛЮДИ
В годы Реставрации Сен-Симон вполне мог бы взять для себя девиз молодого Золя: nulla dies sine linea.[33]
Он работает буквально не покладая рук, оттачивает свои мысли, совершенствует формулировки, издает новые и новые произведения.
И постепенно его начинают окружать новые люди.
Причем люди недюжинные.
Это не только ученые и артисты, не только поэт Беранже, автор «Марсельезы» Руже де Лиль, художники Шеффер и Сент-Обен или известные книгоиздатели братья Дидо. Это «индустриалы», те самые «капитаны промышленности», к которым он взывает в своих трудах и царство которых намерен установить в ближайшем будущем.
В тесной квартире Сен-Симона стали появляться предприниматели и банкиры. Старик Перрего, некогда столь близко знакомый с Сен-Симоном-спекулянтом и совсем раззнакомившийся с ним в годы его нищеты, встречался здесь со своими коллегами Делессаром, Ардуэном, Лаффитом и Казимиром Перье. Близкими друзьями философа стали промышленники Ришар-Ленуар, Виталь-Ру и Терно.
Двое из этих деятелей сыграли особую роль в жизни Сен-Симона в этот период.
Жак Лаффит был сыном ремесленника. Провинциал, прибывший в столицу на поиски заработка, приказчик у Перрего, затем его компаньон и наследник, он стал с 1814 года главным управляющим Французского банка. Богатейший человек страны, член палаты депутатов и один из лидеров либеральной оппозиции, Лаффит готовится к большой политической карьере. К Сен-Симону он проявил повышенный интерес и в 1816 году учредил постоянную ренту на нужды философа.
Лидером либеральной оппозиции был и Луи Терно, один из самых знаменитых фабрикантов своего времени.
Наследственный мануфактурист, он в возрасте 16 лет взялся за управление отцовской фабрикой, приносившей убыток, и в короткий срок сумел поднять ее прибыли. Эмигрировав в годы революции, он вернулся во Францию после термидора и занялся производством шерсти. Обладая умом и хваткой, Терно за несколько лет добился неслыханных успехов.
Один историк называл его «бесспорным главой сукноделия в Европе».
Терно имел фабрики и конторы в Седане, Лувье, Байонне, Реймсе, Париже, Сент-Уэне и еще в двадцати восьми городах страны. Его мануфактура в Седане насчитывала 24 тысячи рабочих. Он держал отделения в Ливорно и Неаполе, располагал агентствами в Англии, Испании, Германии и пытался утвердить их в Португалии и России.
Терно выступал как новатор производства, внедрял машины и технические усовершенствования, создавал новые ткани (например, широко известный французский кашемир, называемый «кашемиром Терно»).
С Сен-Симоном он особенно сблизился после одного характерного случая.
Однажды, в 1817 году, выступая в палате, Терно провозгласил принцип равных прав в торговле и в знак протеста против особых привилегий, утвержденных за одним представителем знати, публично отказался от баронского титула, которым его раньше пожаловал Людовик XVIII.
Это был жест, но жест приятный Сен-Симону, некогда отказавшемуся от своего графского титула перед городским советом Перонны.
Философ написал Терно, заявив, между прочим, что «первый индустриал, который пренебрег феодальной кличкой, заслуживает воспевания, увековечения в картинах, гравюрах и скульптурах».
Так же как и Лаффит, Терно оказывал солидную материальную помощь Сен-Симону.
На первый взгляд все это может показаться странным.
Что нужно было промышленникам и банкирам, этим прожженным дельцам, верным рыцарям наживы, от скромного философа? Почему вдруг с такой настойчивостью они стали искать его общества?
Господа эти старались не случайно: их загипнотизировал «индустриализм».
Всех их весьма интересовала теория Сен-Симона, разумеется, не в той ее части, которая призывала к улучшению участи рабочих, а в той, которая сулила власть промышленникам.
Капиталисты и фабриканты не сразу разобрались в новом учении. Они увидели одну из его сторон и жадно к ней потянулись, ибо им стало казаться, что социолог стремится лишь обосновать право капитала на политическую власть в стране. И это всех их заинтересовало настолько, что в течение какого-то времени они даже не жалели денег на «бредни» Сен-Симона.
Используя полученные субсидии, философ развивает бурную деятельность.
В 1817–1818 годах он в сотрудничестве с учениками издает четыре выпуска сборника «Индустрия». На заглавном листе «Индустрии» стоит эпиграф: «Все через промышленность, все для промышленности», а в первом номере Тьерри, обращаясь к «индустриалам», провозглашает конец всех войн: «Ваше оружие — искусство и торговля; ваши победы — их прогресс, ваш патриотизм — благожелательность вместо вражды!»
Сен-Симон становится модным.
Когда он появляется на улице в длинном дорожном плаще или нарочито небрежном костюме, его необычная фигура привлекает общее внимание, и то там, то тут раздается почтительный шепот:
— Смотрите, вот он, наш известный философ, господин Сен-Симон!..
Его приглашают в салоны, и сам он снова заводит маленький салон, где собираются разнообразные знаменитости. Беранже посвящает ему стихотворение, в котором именует его «человеком, переделывающим общество», а Руже де Лиль пишет в честь его «Гимн индустриалов», который должен стать «Марсельезой» промышленности.
Желая сделать приятный сюрприз своему другу, Терно пригласил его как-то на свою фабрику, в Сент-Уэн, где хор рабочих впервые исполнил новый гимн перед большой толпой слушателей.
«Слава вам, сыны индустрии!..»
Припев подхватывают все, он призывно звучит над площадью, и кажется, что заветная цель уже достигнута!..
Как-то наконец упорядочилась и его личная жизнь.
Он больше не меняет жилищ и поселяется на своей любимой улице Ришелье, близ Пале-Ройяля, в доме № 34, на втором этаже, рядом с квартирой, где некогда умер Мольер.
Новые «апартаменты» Сен-Симона хорошо известны всему Парижу и описаны много раз многими посетителями.
Эта маленькая квартирка состояла из прихожей, кухни, помещения хозяйки, а также большой комнаты, выходившей окнами на улицу и служившей Сен-Симону спальней, столовой и рабочим кабинетом.
Посетителя поражала бедность этого жилища.
Комната была почти лишена мебели: кровать, стол, кресло и несколько стульев составляли все ее убранство.
Но исключительные опрятность и чистота — свидетельства расторопности хозяйки — заменяли достаток и скрашивали нищету.
Была и хозяйка.
Женщина, с которой Сен-Симон связал свою судьбу в последние годы жизни, оказалась для него подлинным даром небес.
— Я знавал многих холостяков, — говорил друг Сен-Симона Леон Алеви, — но счастливым из них казался только он один…
Жанна-Жюли Жюлиан была на двадцать лет моложе своего друга. Она не получила образования, но имела природные ум и такт. К Сен-Симону она относилась с уважением дочери и преданностью сестры.
Обязанности мадам Жюлиан были многообразны.
Она приготовляла пищу, шила, стирала, убирала, писала под диктовку философа, составляла копии с его рукописей и даже переплетала их.
Но, главное, она была другом и самым близким человеком.
Из своих родственников Сен-Симон виделся лишь с двумя. Его часто навещали дочь и любимый племянник Виктор.
У мэтра свои привычки, отстоявшиеся за много лет. Сен-Симон имеет обыкновение работать по ночам — в тиши и покое лучше рождается мысль. А так как в связи с обилием ежеминутно рождающихся мыслей он сам не в состоянии последовательно их записать и нуждается в помощи секретаря, мадам Жюлиан приходится дежурить при нем всю ночь. Днем он работает с Тьерри и еще с одним секретарем. Во время работы с ними Сен-Симон иногда так увлекается, что бросает диктовать и долгие часы проводит в беседах и спорах. Спит философ только утром. После обеда он забирается в большое кресло и просит мадам Жюлиан:
— Принесите мне какой-нибудь роман, только поглупее!
Сюжет и автор для него безразличны, просто надо дать мыслям иное направление и на короткий срок отвлечься от своих теорий…
Как он выглядел в это время? Какое впечатление производил на окружавших его людей?
Сохранился официальный документ, дающий основные приметы Сен-Симона:
«…рост — пять ступней и пять пальцев,[34] волосы — коричневые, глаза — серые, нос — орлиный…»
А также словесный портрет, составленный его секретарем в 1816 году:
«…рост пять ступней и восемь[35] пальцев, черты лица правильные, физиономия интеллигентная и благородная, широкая грудь, пропорциональные члены, крепкая конституция, ум живой и проницательный, характер сильный, настроение обычно серьезное, но не печальное… Огромный интерес к людям, величайшая снисходительность к слабостям…»
Протокол сухой, но достаточно впечатляющий.
Кроме того, десятки частных свидетельств.
Лазарь Карно, в изгнании, своему сыну:
— Вот человек, которого объявили экстравагантным; но он сказал за свою жизнь гораздо больше разумных вещей, чем мудрецы, которые над ним издевались… Это очень оригинальный ум, очень смелый, и идеи его заслуживают внимания философов и государственных деятелей…
Алеви после первого знакомства:
— Я не разговаривал и десяти минут с Сен-Симоном, а уже был поражен живостью его ума и способностью схватить главное…
И даже враг-пасквилянт не может не признать:
«…Личность благородная, мужественная, блистательная…»
Да, все, кто видел его в это время или имел с ним дело, остались очарованными его личностью.
В старости Сен-Симон был так же обаятелен, как и в далекие дни своих пышных приемов. Манеры его были настолько утонченными, что повергали в смущение неопытных простаков.
— Последний дворянин… Настоящий аристократ!.. — не без зависти говорили все эти промышленники и банкиры, окружавшие социолога. Но за хорошими манерами «последнего дворянина» отнюдь не скрывалось бездушие, столь характерное для типичных аристократов-кукол XVIII века. С ними тесно сочетались простое и сердечное отношение к людям, чуткость, желание помочь в беде. В этом да еще, конечно, в самоотверженной преданности идее, по-видимому, и заключался секрет того обаяния, которое влекло к философу самых различных людей — от безусых юнцов-студентов до прожженных воротил мира наживы.
Среди новых знакомств его особенно увлекла встреча с одним русским, с которым он сблизился в 1817 году. Русского звали Михаил Лунин. Это был стройный и красивый молодой человек, блестящий офицер, по слухам — отчаянный дуэлянт и кутила. Философ был поражен тем жгучим интересом, с которым Лунин отнесся к его идеям. Они подолгу беседовали. От Лунина Сен-Симон узнал многое о России, о русском царизме и крепостном рабстве.
Сен-Симон быстро понял, что под легкомысленной внешностью русского скрывается глубокий, пытливый ум и чуткая душа. Он полюбил Лунина и впоследствии называл его одним из лучших своих учеников.
При расставании Сен-Симон взгрустнул:
— Опять умный человек ускользает от меня! Через вас я бы завязал отношения с молодым народом, еще не иссушенным скептицизмом. Там хорошая почва для моего учения…
В тот миг философ и не подозревал, сколь далеким окажется путь Лунина — будущего декабриста от «мирных» методов его системы…
Когда Сен-Симон горевал, что от него опять уходит умный человек, он знал, что говорит.
В том же 1817 году его покинул Тьерри.
Какова была причина размолвки?
Позднее Тьерри станет утверждать, будто в основе ее лежали особенности характера Сен-Симона, его нетерпимость к чужим мнениям. Учитель хотел якобы единолично господствовать в их «ассоциации», а Тьерри требовал свободы и, когда увидел, что не добьется ее, прекратил сотрудничать с мэтром.
Это объяснение «приемного сына» философа грешит субъективизмом. Причина расхождения лежала значительно глубже, и первые симптомы ее обнаружились значительно раньше 1817 года.
Сен-Симон и его ученик отличались друг от друга не столько характерами, сколько общей направленностью своих идей.
Сен-Симон был философом, человеком больших проблем.
Тьерри по всему своему складу являлся типичным либералом-публицистом.
Сен-Симона волновали социальные задачи.
Тьерри интересовался в первую очередь политически злободневными вопросами.
Именно Тьерри тащил учителя к политическим аспектам в период 1813–1814 годов, когда они создавали «Реорганизацию европейскою общества» и другие совместные труды.
Однако политика никогда не являлась для философа самоцелью. Он был готов временно уступить талантливому ученику и поддаться его напору.
Но только временно.
Между тем Тьерри продолжал и дальше действовать в том же плане. И вскоре оказалось, что философ и публицист совершенно по-разному смотрят на главный объект своих исканий — на народ.
Тьерри под народом подразумевал прежде всего «образованную публику», иначе говоря, собственников. Неимущих при этом он величал не иначе как «чернью».
— Эта шайка составляет лишь формальную численность населения, — говорил он.
Тьерри не был оригинален.
Политический либерализм эпохи Реставрации не знал народа. Либералы в своих призывах к свободе не выходили за пределы «политической нации», то есть ста тысяч французов, которым ценз разрешал парламентскую политику, к простонародью же, populace, относились с презрением и злобой.
«…Они живут день за днем и в ежечасной борьбе с нуждой не имеют ни времени, ни физического и умственного покоя, чтобы иногда поразмыслить, как управляется страна…»
Под этими словами одного из лидеров группы подписался бы и Тьерри.
Подобные взгляды никак не могли устроить Сен-Симона.
Философ, как известно, делил людей не на «собственников» и «чернь», а на «тунеядцев» и «работников», причем к первой категории относились многие из тех, ради кого ломал копья Тьерри (например, буржуа-рантье), а ко второй — рабочие, пролетариат, тот самый populace, который вызывал лишь презрение у либералов.
На этой почве сотрудники не могли не разойтись, и они разошлись.
Разрыв не сопровождался какими-либо декларациями. Внешне Сен-Симон и Тьерри сохраняли добрые отношения и продолжали встречаться.
Впрочем, боль от потери для Сен-Симона в какой-то степени оказалась компенсированной. Именно в те дни, когда ушел Тьерри, появился новый, не менее талантливый ученик, юный Огюст Конт.
Будущему основателю позитивизма в то время шел двадцатый год, и накануне встречи с Сен-Симоном он пережил глубокий духовный кризис.
Романтик трогательных чувств и смелых идей, Конт был питомцем Политехнической школы, так хорошо знакомой Сен-Симону. Политехническая школа издавна славилась своими республиканскими настроениями.
Когда Наполеон бежал с Эльбы, учащиеся школы, как и многие другие демократы, восторженно приветствовали императора, считая его защитником свободы, поднесли ему адрес и выразили желание сражаться под его знаменами.
К числу наиболее пылких поборников нового режима принадлежал и Огюст Конт.
Он, называвший революцию 1789 года «возвышенным восстанием», думал, что «философское» пребывание на острове совершенно изменило Наполеона и у него «нет теперь другого честолюбия, как стать вождем свободного народа и совершенствовать цивилизацию во Франции».
«Сто дней» промчались быстро. А пробуждение от надежд и иллюзий оказалось страшным…
Правительство Реставрации прежде всего позаботилось о том, чтобы наказать «вольнодумцев» за «предательство». Придравшись к пустому поводу, Людовик XVIII в 1816 году закрыл школу.[36]
Для Конта это был весьма тяжелый удар.
Очутившись за стенами школы, он начал с того, что написал страстную политическую статью, которая, к счастью для него, в то время не увидела света.
Он одинаково осуждал «военный деспотизм безумного Бонапарта» и «подлые козни заговорщика и тирана Людовика XVIII». Он раскрывал ужасы белого террора, сравнивая его с террором 1793 года, и пророчил великие потрясения в будущем.
Шло время, и мысли Конта становились все безрадостнее. Он разочаровался в людях и решил бежать в Америку. Но тут он вдруг случайно узнал, что философ Сен-Симон ищет секретаря. Это был выход — о Сен-Симоне молодой человек слышал много необычного.
Действительность превзошла все его ожидания.
Огюст Конт, юноша сентиментальный и пылкий, легко расточал свои восторги. Но восторг, который вызвал в нем философ, был ни с чем не сравним.
В письмах к друзьям молодой человек на все лады превозносил этого «пламенного и благородного борца», обладающего «самыми дальновидными взглядами в философии».
«Это превосходнейший человек! — восклицает Конт. — Один из тех немногих, чьи действия, писания и чувства в полнейшей гармонии и неизменно верны себе».
Излагая биографию Сен-Симона, его новый ученик подчеркивает, что этот «сын знатнейшей семьи» совершенно не похож на других либералов знатного происхождения, которые при всех своих принципах находят удовольствие в графском или герцогском титуле. Сен-Симон, напротив, отбросил аристократизм и феодальные привычки, «он обладает важнейшими социальными качествами; он искренен, благороден и любим всеми, кто его знает… Он никогда не льстил Бонапарту, а при нынешнем правительстве никогда не искал милостей при дворе, хотя и мог их легко добиться по праву своего рождения…».
Одним словом, упоение полное.
Сен-Симон располагал к себе всех, с кем имел дело. Мудрено ли, что он совершенно покорил этого впечатлительного юношу, покорил настолько, что вскоре Конт даже отказался от своего секретарского жалованья?..
Правда, если восторг чрезмерен, то мало надежды, что он продлится долго.
Но пока Конт был трудолюбивым и верным помощником Сен-Симона. Именно в период секретарства Конта произошли события, нарушившие мирное течение жизни философа.
ГЛАВА 8 «ПАРАБОЛА»
1817 год был годом испытаний для Сен-Симона не только потому, что его покинул Тьерри.
Почти в это же время ему пришлось разойтись еще кое с кем из своих новых почитателей, на деньги которых он издавал свои труды.
Яблоком раздора стал четвертый выпуск «Индустрии».
В этом выпуске Сен-Симон сделал довольно резкие выпады против правительства, и многие из именитых друзей автора, испугавшись возможных последствий, поспешили заявить о своем несогласии с написанным.
Они не ограничились устным заявлением.
Группа подписчиков «Индустрии» в октябре 1817 года обратилась с соответствующим письмом к министру полиции.
Такова была первая трещина, образовавшаяся в отношениях Сен-Симона с его «индустриалами».
Правда, на этот раз дело до полного разрыва не дошло. Причиной тому было некоторое потепление в политической обстановке Франции, наметившееся с конца 1818 года.
Происки ультрароялистов во главе с графом Артуа испугали слабого Людовика XVIII, особенно после того, как был открыт тайный заговор гвардейских офицеров, собиравшихся арестовать министров и низложить короля.
Людовик, отшатнувшись от крайних, согласился вручить министерство либералам.
29 декабря 1818 года премьер-министром стал умеренный монархист Деказ.
Либеральное министерство, несмотря на яростное сопротивление правых, провело кое-какие послабления, в частности приняло законы о печати, отменявшие предварительную цензуру и понижавшие ответственность журналистов перед властями.
Новые друзья Сен-Симона — либеральные фабриканты и банкиры были полны радужных надежд. При их поддержке философ выпустил в свет сборник «Политик», а затем и первую тетрадь сборника «Организатор». Здесь, между прочим, был помещен небольшой памфлет Сен-Симона, позднее названный «Параболой».
«Парабола» весьма характерна для настроений социолога. В ней как бы на живом примере показано, насколько необходимы стране индустриалы и насколько бесполезны привилегированные.
Предположим, говорит автор, что Франция внезапно потеряла пятьдесят своих лучших химиков, пятьдесят физиологов, пятьдесят математиков, такое же количество поэтов, инженеров, земледельцев, каменщиков, плотников, кузнецов и прочих производителей, всего в числе трех тысяч человек. Это была бы национальная катастрофа, и понадобилось бы, по крайней мере, столетие, чтобы оправиться от подобного бедствия. А что бы случилось, если бы страна сохранила всех этих людей труда, но потеряла брата короля, его племянников, их жен, придворных, министров, маршалов, кардиналов, епископов? Ничего. Ибо потеря даже тридцати тысяч подобных «деятелей» не нанесла бы никакого вреда государству. Мало того. Она принесла бы огромную пользу, ибо все эти герцоги и епископы, принцы и маршалы, коснеющие в невежестве и суевериях, бесконечно ленивые и падкие на разорительные удовольствия, в сущности, не кто иные, как величайшие преступники и казнокрады, ежегодно обворовывающие нацию на сотни миллионов франков, да еще, сверх того, карающие своей властью тех, кого обворовывают.
Воистину, вздыхает Сен-Симон, современное общество представляет картину мира, перевернутого вверх ногами, где неспособные управляют способными, безнравственные учат добродетели нравственных, а злодеи судят невиновных…
Среди прочих бесполезных людей, исчезновение которых было бы благом, автор упомянул и герцога Беррийского, племянника короля, сына наследника престола.
«Парабола» была опубликована в ноябре 1819 года.
А три месяца спустя произошло событие, приведшее к серьезным политическим последствиям в стране и к некоторой встряске в жизни Сен-Симона.
Вечером 13 февраля 1820 года, после окончания новой итальянской оперы, герцог Беррийский в сопровождении свиты выходил из театра. У самых дверей к нему быстро подошел неизвестный, задел принца плечом и побежал дальше. Герцог Беррийский зашатался и рухнул на землю. Неизвестный успел всадить ему в правый бок длинный нож. Рана была смертельной. В пять часов утра герцог скончался на раскладной кровати в одной из комнат театральной администрации.
Неизвестный был схвачен. Он оказался простым седельщиком, и имя его было Лувель.
— Чудовище, — воскликнул герцог Клермон-Лодев, державший убийцу за локоть, — что побудило тебя совершить столь гнусное дело?
— Желание освободить Францию от одного из ее злейших врагов, — ответил Лувель. И тут же прибавил: — Бурбоны — это тираны и самые жестокие враги моей страны.
И когда несколько часов спустя Деказ лично, беря показания у Лувеля, задал вопрос:
— Кто были ваши сообщники?
Лувель, не задумываясь, ответил:
— У меня не было сообщников.
Если сам убийца был вполне уверен в своих словах, то правящие круги Франции, аристократы и «ультра» допустить подобного не могли.
Дело Лувеля вызвало настоящую бурю.
Господа придворные не забыли, что не так уж давно по приговорам подобных Лувелей к подножью гильотины скатывались головы королей и принцев. Неужели же теперь можно было согласиться с тем, чтобы у такого не оказалось сообщников? Нет, из этой истории нужно было сделать прецедент и разгромить свободомыслящих, в какие бы одежды они ни рядились!..
На следующий день в палате во время чтения протокола предыдущих дебатов к трибуне подбежал депутат правой Клозель де Кусераг.
— Господа! — воскликнул он надрывно. — Я прошу председателя вынести обвинительный акт против господина Деказа как сообщника убийцы!..
Одновременно с этим в печати выступил Шатобриан:
«…Наиболее виновной является не та рука, которая нанесла удар…»
Участь Деказа была решена.
Но этого лидерам «ультра» показалось мало. Уж если сводить счеты, то сводить их до конца!..
Вот тут-то они и вспомнили о «Параболе» Сен-Симона. Действительно, обвиняя Деказа как пособника, можно ли было спустить подлинному вдохновителю убийства?
Однажды поздно вечером в квартире на улице Ришелье появились странные визитеры.
Это были двое блестящих офицеров придворной гвардии.
Господа эти явились для того, чтобы предупредить Сен-Симона: его возмутительный поступок так просто не сойдет ему с рук. Офицеры лихо крутили усы и поминутно хватались за сабли, но красноречие их заставляло желать лучшего. Видимо, бедняги, весьма решительные в начале своего демарша, теперь растерялись и чувствовали себя смущенными, в особенности потому, что столкнулись с ледяным спокойствием философа.
Сен-Симон знал, как нужно вести себя с подобными красавцами. Он ожидал вызова на дуэль, но на это лейб-гвардейцы не пошли. Наткнувшись на стену молчания, они наконец стали что-то мямлить и сами замолчали. Хозяин вежливо выслушал их до конца и проводил до двери.
Он много смеялся, рассказывая об этом близким. Те, впрочем, не разделяли веселого настроения философа. И они были правы. Неудавшаяся вылазка гвардейцев была лишь первой ласточкой грядущих неприятностей.
В марте 1820 года королевский прокурор с номером «Организатора» в руках выступил перед трибуналом первой инстанции департамента Сены, требуя привлечь к судебной ответственности писателя Сен-Симона, виновного в нравственном соучастии с убийцей и в оскорблении принцев королевского дома.
Председатель суда немедленно вызвал обвиняемого.
Но пристав с повесткой, отправленный на квартиру Сен-Симона, не застал хозяина: тот, ни о чем не подозревая, на несколько дней уехал из столицы.
Это обстоятельство ничуть не остановило мужей закона, и трибунал вынес приговор в отсутствие обвиняемого: Сен-Симон признавался виновным и приговаривался к трем месяцам тюрьмы, штрафу в 500 франков и уплате судебных издержек.
Друзья философа были в панике.
Огюст Конт, не на шутку расстроенный происшедшим, тем более что он, как секретарь писателя, непосредственно участвовал в одиозном номере «Организатора», поспешил отмежеваться. В письме к приятелю он заявил, что будет от всего отказываться, — из осторожности он никогда не подписывал статей, — и что если уж мэтру суждено «быть повешенным», то пусть сам разделывается за свои грехи…
По-видимому, в ходе этой истории былые восторги пылкого юноши сильно потускнели…
К удивлению всех, Сен-Симон воспринял удар совершенно иначе. Он не только не был расстроен, но, напротив, проявил живейшую радость.
Прежде всего он отправил прокурору письмо, в котором выразил благодарность за то, что обвинитель обратил внимание широкой публики на его социально-организаторскую работу.
Затем, подав приговор на обжалование в высшую инстанцию, философ засел за новый труд — «Письма к присяжным».
Сен-Симон ясно и недвусмысленно аргументировал свой образ действий.
«…Если я и виновен в отсутствии уважения, то уж, во всяком случае, не к принцам королевского дома, а ко всей современной политической системе. Мое преступление состоит единственно в том, что я показал отсталость нынешней системы управления и указал путь, по которому следует идти, чтобы достигнуть лучшего социального порядка…»
И далее он вновь развивает мысль, которая волновала его все предшествующие годы:
«…Кризис, в состоянии которого общество находится вот уже тридцать лет, требует полного изменения существующей социальной системы… Кризис этот состоит исключительно в упадке теологической и феодальной системы, на смену которой идет система индустриальная и научная. И он будет неизбежно продолжаться до тех пор, пока эта замена не совершится…»
Этот необыкновенно упорный человек снова добился своего: из судебной волокиты, которая должна была его засосать, он сделал политическую трибуну, с которой еще раз во всеуслышание высказал свои идеи!..
Присяжные оправдали Сен-Симона.
И это был его высший триумф, ибо на какой-то момент философ уверовал, что его социальная мысль пробила путь к своему скорому воплощению.
ГЛАВА 9 КРИЗИС
В жизни этого человека нет ничего постоянного.
Каждая его удача на поверку оказывается миражем, за каждым его взлетом с фатальной неизбежностью следует падение.
Проходит короткое время, и Сен-Симон снова погружается во мрак; его душа и ум испытывают такие терзания, каких он не знал в самые страшные дни голода и нищеты, и вконец измученный философ в марте 1823 года решается на самоубийство.
Что же привело его к столь неожиданному и роковому решению?
Историки так и не смогли разобраться в этом вопросе.
Одни склонны все приписать неуравновешенности Сен-Симона, его способности поддаваться порывам; другие находят объяснение в новых материальных заботах философа, начавшихся с 1822 года.
Без сомнения, и то и другое имело место. Сен-Симон легко переходил от восторга к отчаянию, и его финансовые дела в это время действительно сильно пошатнулись.
Но ведь подобное бывало и раньше, бывало неоднократно. Достаточно вспомнить период его научных исканий. Разве можно придумать более отчаянное положение, чем то, в котором он находился в 1808–1811 годах?.. И тем не менее тогда он не дрогнул. Ни на миг не пришла к нему мысль о смерти. Напротив, с редким стоицизмом перенося невзгоды, он работал и боролся, готовый на все во имя своей мечты.
Так что же случилось теперь?
Остался лишь один документ, который может служить исходной точкой при попытке ответить на этот вопрос. Это письмо Сен-Симона к фабриканту Терно, написанное непосредственно перед покушением на самоубийство.
В письме есть слова:
«…я убедился, что Вы были правы, говоря мне, будто потребуется много времени, чтобы внимание публики обратилось на работы, которые уже давно только одни и занимают меня. Поэтому я решил попрощаться с Вами…»
Выходит, что великий энтузиаст, терпевший голод, холод и всяческие лишения ради своей идеи, усомнился в том, что идея одержит победу, во всяком случае при его жизни.
Но почему же?..
В 1820–1822 годах Сен-Симон совершает поездки по городам Франции. Он осматривает многочисленные предприятия — мануфактуры и фабрики, с целью познакомиться на практике с жизнью своих «индустриалов».
У нас нет отчетов социолога о результатах его поездок, но есть кое-какие косвенные свидетельства о его размышлениях по этому поводу.
Именно в статьях и брошюрах указанного периода звучат постоянные жалобы на то, что предприниматель пренебрегает нуждами рабочих и поэтому действия его могут привести к нежелательным последствиям.
А вот и прямой упрек тому же Терно:
«…Господин Терно — мануфактурист, и его символ веры имеет большой недостаток в том отношении, что он вовсе не народен — он совсем не может быть понят рабочими…»
По-видимому, во время своих поездок философ воочию убедился в том, что его «индустриалы» — это не совсем то, что он себе представлял. Сен-Симон видел, в каких тяжелых условиях живут рабочие. Невольно ему вспоминались личные впечатления времен его нищеты, когда в поисках куска хлеба бродил он по Сент-Антуанскому предместью. Увы, с тех пор ничто не изменилось! Те же трущобы, а нищета, пожалуй, даже еще более вопиющая!..
И философ неизбежно приходит к весьма печальному для своей теории выводу: «индустриалы» не хотят жить по законам, которые он для них писал. Одна их часть — предприниматели загребают деньги и богатеют, но при этом совершенно не думают об улучшении жизни другой части, то есть рабочих. Наоборот: развитие промышленности и обогащение хозяев приводит к еще большему ухудшению участи тружеников!
Отсюда его жалобы и предупреждения в адрес предпринимателей. Но жалобы мало помогают. Они лишь приводят к нарастающему конфликту между философом и его покровителями. Трещина, уже наметившаяся в 1817 году, растет и ширится. Господа капиталисты все отчетливее начинают понимать, что ставили не на ту лошадь: они имели дело с фантазером и человеколюбцем, вовсе не заботящимся об их прибылях! Выходит, что они даром тратили время и деньги!..
А тут еще изменилась и общая обстановка. После убийства герцога Беррийского больной и сильно одряхлевший Людовик XVIII выпустил из рук бразды правления. Король всецело подпал под влияние своей фаворитки, госпожи дю Кайла, послушного орудия в руках графа Артуа. Ультрароялисты потеряли чувство меры. Новый премьер, архиреакционер Виллель, душил народ и даже либералов заставил перейти на полулегальное положение. В этих условиях фабрикантам и банкирам стало не до забав.
И вот Сен-Симон начинает замечать, что его именитые друзья вновь охладевают к нему и становятся все более сдержанными. А затем вдруг прекращаются субсидии, и он снова на мели.
Все это вместе взятое, вероятно, и было той цепью причин, которые в совокупности привели Сен-Симона к жестокому внутреннему разладу и вызвали кризис, из которого он не видел выхода.
Что же получалось? Двадцать лет прошло со дня опубликования его первой работы, а мир по-прежнему равнодушен к его социальным прогнозам, и сильные все так же угнетают и душат слабых.
Это значит, что социолог никогда не увидит всходов посеянных им семян.
А если так, то для чего же жить?..
Минутная слабость, перешедшая в минутную убежденность…
9 марта Сен-Симон под разными предлогами удаляет из квартиры всех домашних, закрывает двери на ключ и садится к столу. Он исписывает несколько листков бумаги, запечатывает их и достает из ящика пистолет.
Сталь холодит руку. Сен-Симон долго рассматривает оружие, потом заряжает его семью крупными дробинами и кладет на стол. Он философ и должен умереть как философ. Полное спокойствие духа, никакой суетливости!..
Рядом с пистолетом Сен-Симон кладет часы. Он назначает время и погружается в размышления. Не людям, не делам, а идеям будут посвящены его последние часы, только идеям…
Стрелки неумолимо движутся. И когда наступает положенный миг, философ спокойно поднимает пистолет и спускает курок…
Неудача! Выстрел он слышал, и боль обожгла все его существо, но он жив! Жив и, кажется, не собирается умирать!..
…Но что же делать дальше? Глаз вытек, и кровь заливает лицо…
Сен-Симон вспоминает, что рядом с его квартирой, на той же площадке, живет врач, доктор Сарлардье. Кое-как прикрывая лицо платком, он идет к врачу, но того не оказывается дома. Философ возвращается и садится на кровать. Что ж, надо подчиниться неизбежному, а пока не тратить времени даром…
…Когда Конт вместе с врачом распахнули дверь комнаты Сен-Симона, они увидели странную картину: человек с вытекшим глазом сидел в спокойной позе и сосредоточенно думал…
— Объясните мне, милейший Сарлардье, — сказал он, увидя вошедших, — каким образом, имея в мозгу семь дробин, я продолжаю мыслить?..
Не тратя времени на ответ, врач осматривает рану странного пациента и пытается отыскать дробины. Шесть он находит на полу, но седьмой нет нигде — следовательно, она застряла в мозгу. Врач не скрывает от Сен-Симона серьезности положения: медицина бессильна, жить пациенту осталось считанные часы — к ночи вспыхнет воспаление мозга…
— Ну что ж, — спокойно констатирует Сен-Симон, — значит, надо употребить оставшееся время на разработку наших теорий. — И он предлагает Конту заняться делом…
Делом… Даже перед лицом смерти философ не в силах о нем забыть…
Правда, дело достаточно серьезное.
Между учителем и учеником давно уже нет прежнего взаимопонимания. Пылкий и переменчивый Конт сильно охладел к «превосходнейшему человеку» — ему кажется, будто философ эксплуатирует его и хочет воспользоваться его мыслями. Сен-Симон прекрасно понимает настроение молодого человека. И сейчас он стремится облегчить его задачу.
Сен-Симон настоятельно требует, чтобы Конт на той части нового совместного труда, составление которой ему поручено, четко обозначил свое имя…
Философ чувствует, что ученик опять ускользает от него, и это не может не влить еще одну каплю горечи в его смертную чашу. Но, по крайней мере, все должно быть поставлено на свои места…
Усиливающаяся боль заставляет прервать беседу.
А к вечеру мучения раненого становятся настолько нестерпимыми, что он просит вскрыть себе вены.
По-видимому, все кончено.
Но нет.
Не такой человек Сен-Симон, чтобы так просто уйти из жизни.
И при этом не завершив своего дела.
Утром недостающую дробину находят в камине — значит, мозг не поврежден.
К вечеру Сен-Симону становится лучше.
Еще день, еще неделя — и он здоров.
На место изменивших друзей приходят новые. Правда, это уже не банкиры и фабриканты, это в основном люди небогатые, но они искренне готовы помочь и рискнуть своими сбережениями ради общего дела. Деньги на новые издания найдены, и философ, словно стремясь усиленной работой искупить минутную слабость, снова в строю и снова полон энергии.
В конце 1823 года выходит из печати первый выпуск «Катехизиса промышленников», а в следующем году — три остальные выпуска. Третий выпуск был подписан Огюстом Контом, а Сен-Симон лишь ограничился предисловием к нему, в котором разъяснил наметившиеся между ним и Контом расхождения.
«Катехизису промышленников» было суждено занять особое место в научном наследии Сен-Симона.
Это наиболее зрелый труд социолога.
В нем четко собраны и сгруппированы его главные идеи и общая философская система дается в наиболее развернутом виде.
И вместе с тем на всем этом труде лежит печать недавнего кризиса, чуть ли не ставшего смертельным для философа.
Печать раздумья: как примирить непримиримое?..
ГЛАВА 10 «КАТЕХИЗИС ПРОМЫШЛЕННИКОВ»
Для «Катехизиса промышленников» прежде всего характерна некоторая переоценка ценностей.
Сен-Симон ни в коей мере не отказывается от своей «индустриальной» теории, и индустриал по-прежнему его главный герой. Но акценты расставлены несколько иначе, чем в «Промышленной системе» и других более ранних работах: чувствуется, что философ окончательно порвал с либералами и сильно разочаровался в своих вероломных друзьях — банкирах и фабрикантах.
В отношении либералов философ беспощаден и приговор, вынесенный им, — это смертный приговор.
Подчеркнув, что либеральная партия порождена феодализмом и что ее лидеры — это буржуа-рантье, крупные военные и юристы, Сен-Симон утверждает:
«…Истинный девиз главарей этой партии таков: прочь отсюда, чтобы я стал на твое место; их показная цель — уничтожение злоупотреблений, а настоящая цель — использование их в своих выгодах…»
В противоположность либералам индустриальная партия отражает интересы всего французского народа. Она, и только она, способна руководить политикой страны. Но и с ней далеко не все благополучно — теперь философ это хорошо знает на основании личного опыта:
«…Вглядитесь, каков сейчас уровень сознания промышленников, и вы увидите, что они не чувствуют превосходства своего класса; почти все они желают выйти из него, чтобы перейти в класс дворян. Одни добиваются пожалования в бароны, другие (и таких больше) спешат предложить приобретенное ими в промышленности состояние потомкам франков[37] на условиях, чтобы те соблаговолили взять в жены их дочерей. Они далеки от того, чтобы поддерживать друг друга, и стремятся вредить друг другу в глазах властей…»
Тут же достается и банкирам:
«…Банкиры всех стран спешат предлагать всем правительствам промышленный кредит, не останавливаясь в своих промышленных операциях перед мыслью, что они соединяются с обломками феодализма и удлиняют время подчиненного положения, в котором до сих пор промышленный класс находится у других классов…»
Как же ликвидировать все эти неполадки? Как добиться, чтобы «капитаны промышленности» поняли свое подлинное призвание и не уклонялись от прямого пути, на который их вывел философ?
Для этого, уверяет Сен-Симон, необходимо прежде всего до конца разработать и шире распространять новое учение. Надо заставить «…людей, наиболее отличившихся своими способностями в разных областях, соединить усилия, чтобы завершить организацию промышленной системы во всех ее деталях и побудить общество в целом эту систему осуществить…».
«…Необходимо, чтобы промышленная доктрина была распространена; необходимо, чтобы наиболее влиятельные промышленники получили вполне ясное представление о том, как следует для наибольшего процветания промышленности использовать ученых, артистов, военных, юристов и рантье. И только тогда король сможет употребить с пользой свой авторитет, чтобы поставить промышленников на высшую ступень общественной лестницы…»
Король?.. Но при чем же здесь король?..
Надежда на монарха была одной из наиболее стойких иллюзий великого мечтателя. Ее Сен-Симон пронес через всю свою литературную жизнь. Сначала уверовав в Наполеона, теперь он все свои упования возлагает на «легитимного» монарха. Ему нет нужды, что Людовик XVIII, хитрый и слабый старик, обманул одну за другой все партии; он не становится более зорким и теперь, в 1824 году, когда умершего короля сменяет под именем Карла X его брат, твердолобый реакционер, граф Артуа; философ, исходя из концепции об исконной, идущей от раннего средневековья, дружбе между королем и «индустриалами», полагает, что король заинтересован в установлении власти промышленной партии[38] и поэтому должен проложить дорогу к этой власти. Тем более что сделать это не так уж и сложно. Король предложит выдающимся финансистам — лидерам промышленной партии составить новый бюджет, который отразил бы переход экономической власти к индустриалам; палаты не посмеют не утвердить этот бюджет, ибо союз короля с промышленниками — сила, которая им не по плечу; и тогда мирно, без нарушения законов и конституции, новая система начнет проходить в жизнь.
Следовательно, король — это всего лишь рычаг новой политики; он нужен лишь для того, чтобы обеспечить мирное внедрение новой индустриальной системы и этим актом закончить революцию.
В «Катехизисе промышленников» Сен-Симон вновь возвращается к проблеме Великой французской революции. И разрешает эту проблему несколько иначе, чем раньше. Он дает высокую оценку революции.
По его словам, главная заслуга французской революции состоит в том, что она «…уничтожила рабство, тяготевшее столько веков над промышленным классом…».
Сравнивая французскую революцию с английской, он ставит первую значительно выше второй.
Английская революция заставила дворян, юристов, военных, рантье и государственных чиновников управлять делами нации в интересах промышленности; французская революция, произойдя полтора столетия спустя, сделала несравненно больше: она уничтожила институт дворянства и подчиняет юристов, военных, рантье, чиновников повелениям индустриалов.
Этого еще нет (поскольку, по мнению Сен-Симона, революция еще не закончилась), но это должно произойти в самом ближайшем будущем.
Отсюда вывод: указанная особенность французской революции ставит Францию впереди Англии и всех прочих государств мира. И поэтому Франция перейдет к новой системе первой.
Англия последует за ней.
А затем, «…когда промышленный режим будет установлен в Англии и во Франции, прекратятся все бедствия, на которые было обречено человечество во время его перехода от правительственного режима к промышленному; так как силы всех правительств на земле уступают промышленной силе Франции и Англии, то кризис будет окончен, потому что не будет больше борьбы и все народы на земле, пользуясь покровительством объединившихся Франции и Англии, будут быстро, один за другим, по мере развития их цивилизации, переходить к промышленному строю».
Таким образом, в «Катехизисе промышленников» Сен-Симон подчеркивает универсальный характер своего учения и объявляет индустриальную систему системой мирового развития.
Много внимания и места в своем новом труде автор уделяет управлению при новой системе. И здесь его мысль, как бы отталкиваясь от самого раннего, «забытого» произведения, написанного им двадцать два года назад, завершает свой полет.
В «Письмах женевского обывателя» Сен-Симон говорил о том, что духовная власть в новом обществе будет сосредоточена в руках ученых и художников, светская — в руках собственников.
Теперь эта концепция значительно меняется.
В «Катехизисе промышленников» власть также разделена, но разделена иначе: духовная — в руках ученых, светская — в руках индустриалов.
Теперь собственника заменяет индустриал.
В этой замене существо всей эволюции, проделанной социальной мыслью Сен-Симона за неполные четверть века.
И тут же обращает на себя внимание еще одно обстоятельство.
Если в «Письмах» автор превозносит ученых и ставит их на первое место в обществе, то теперь ученый должен уступить главную роль промышленнику.
Он поясняет свою мысль:
«…Ученые оказывают очень крупные услуги промышленному классу, но получают от него еще более крупные; они получают от него свое существование; промышленный класс удовлетворяет их насущные потребности и их физические склонности всякого рода; он доставляет им все орудия, которые могут быть полезны им для выполнения их работ…»
Исходя из этого, вся реальная власть в новом обществе будет сосредоточена в руках Совета промышленников, ученые же сохранят в своей компетенции исключительно моральное руководство: сгруппированные в двух академиях, они будут подчиняться Высшей научной коллегии и продвигать в жизнь промышленную доктрину.
Сен-Симон полагает, что дальнейшее развитие индустриальной системы приведет к постепенному отмиранию государства. Государственная власть, выполнив роль рычага в утверждении новой системы, должна превратиться в чисто административную, а затем и вовсе исчезнуть. Новые органы будут осуществлять плановое руководство всем народным хозяйством страны. Вслед за Францией устремятся другие народы, и, продвигаясь по цепочке, индустриальный строй охватит весь земной шар…
Но как же обстоит дело с «самым многочисленным и бедным классом» общества? Неужели философ совсем забыл о нем?
Отнюдь нет. Именно мыслями об этом классе был вызван его духовный кризис. И теперь Сен-Симон старается точнее уяснить место и роль пролетариата в грядущем обществе.
В этом же 1824 году он пишет несколько отрывков, посвященных специально рабочему классу.[39]
Философ утверждает, что за время революции «беднейший класс» вырос, окреп и раскрыл свои способности в деле хозяйственного строительства страны. И сельский и городской пролетариат оказался на высоте положения: в годы голода, разрухи, упадка производства он сумел не допустить до национальной катастрофы и спасти французскую промышленность и торговлю от постоянной дани иностранцам.
Благодаря стойкости рабочего класса хозяйство страны не только избежало краха, но и сумело достигнуть значительных высот.
«…В действительности… производство всякого рода продуктов бесконечно выросло после и даже во время самих бедствий; в действительности люди, до того занятые во всех торговых и фабричных заведениях в качестве простых рабочих, стали предпринимателями и руководителями работ, причем они оказались более искусными и деятельными, чем их предшественники. Таким образом, сейчас Франция гораздо более процветает, больше производит и имеет большее значение в земледелии, промышленности и торговле, чем до революции, хотя большая часть теперешних руководителей всеми этими предприятиями вышла из народа…»
И вывод:
«…Так как пролетарии достигли таких же успехов в основах цивилизации, как и собственники, закон должен признать их полноправными членами общества».
Из этих экскурсов видно, что Сен-Симон несколько изменил свое представление о пролетариате. Хотя он и пытается доказать, что между рабочими и промышленниками нет непроходимой пропасти, но все же теперь он выделяет пролетариат в совершенно особый класс.
Но видно и другое: великий мыслитель так и не смог подняться до понимания особой миссии этого класса. Для Сен-Симона до конца его дней пролетариат останется пассивной массой, страдающей частью общества, горькую участь которого необходимо облегчить, но который сам своими силами облегчить ее не может: это удается лишь одиночкам, выбившимся в ряды промышленников и торговцев.
И отсюда все последующие поиски философа, поиски, которые так и не смогли привести к положительным результатам.
Духовный кризис первой половины 20-х годов, несмотря на свою длительность и силу, не сломил Сен-Симона.
Напротив, он сделал глаз философа более зорким, слух — более чутким, ум — более острым.
В 1824 году писатель разглядел и уточнил многое из того, что раньше привлекало его внимание в гораздо меньшей мере.
Но на один вопрос, самый трудный и страшный для социолога, он так и не сумел ответить. А вопрос этот чем дальше, тем неотвязнее сверлил и мучил его:
— Как воссоединить «расколовшихся» индустриалов? Как заставить предпринимателей и рабочих любить друг друга?..
ГЛАВА 11 НАШЕ ДЕЛО В НАШИХ РУКАХ
В мае 1823 года происходит знаменательная встреча, во многом определившая последующее развитие учения Сен-Симона.
Учитель встречается с наиболее преданным из своих учеников, который не только не покинет его в дни, когда уйдут Тьерри и Конт, но и понесет дальше его знамя, хотя и сослужит при этом едва ли не самую плохую службу своему наставнику как мыслителю.
Этим учеником был Оленд Родриг.
Выходец из богатой семьи, сын бордоского финансиста, Родриг отличался большими математическими способностями. В течение ряда лет он преподавал математику в Политехнической школе, затем был директором ипотечной кассы. Когда он встретился с Сен-Симоном, ему было двадцать девять лет. Философ сразу же произвел глубокое впечатление на молодого человека. Воспользовавшись тем, что Конт прекратил свои секретарские обязанности, Родриг занял его место и с тех пор не оставлял учителя до конца.
К сожалению, Родриг увлекался не только математикой, но и религией. Он был подвержен мистическим настроениям, находил в христианстве великие нравственные достоинства и ждал духовных откровений от Сен-Симона.
Именно в сотрудничестве с Родригом Сен-Симон и написал свой последний труд со странным и претенциозным названием «Новое христианство».
С богом у Сен-Симона были старые счеты.
В далекие времена детства из-за отказа от первого причастия будущий социолог сидел в исправительном доме; с тех пор он не стал более религиозным и в своей философии не оставлял места потусторонним силам. Граф Редерн в одном из писем прямо обвинял своего бывшего компаньона в атеизме. Это не совсем точно. Сен-Симон не был законченным атеистом. По временам, когда этого требовали тактические соображения, он был не прочь вспомнить о боге, а иногда даже, для вящей убедительности, вкладывал в уста божьи свои собственные речи. Но все это были скорее риторические фигуры, чем убежденность, и, когда дело доходило до серьезного, философ обходился без богословия. Напротив, он неоднократно подчеркивал, что религия была необходима в свое время, в средние века, а сейчас ее место должна занять наука. В «Очерке науки о человеке» он заявлял без обиняков, что теперь вера в бога больше не нужна, ибо с ней не мирится здравый смысл. Признание всеведения, всемогущества и всесовершенства божества ведет к неразрешимым противоречиям. «…Размышляя о богословской системе, нельзя не поражаться громадностью расстояния, отделяющего ее от современного состояния наук…»
Всю свою индустриальную теорию Сен-Симон строил на чисто рационалистической основе. Особенно характерен в этом смысле его только что вышедший труд «Катехизис промышленников».
И вдруг — «Новое христианство»!
На первый взгляд — отказ от всех прежних, неоднократно повторенных истин. Раньше — отрицание «слепых верований» и замена их «положительными доказательствами», теперь — признание «божественности христианской морали», которая якобы должна руководить человечеством; раньше — утверждение, что мир идет за учеными, теперь — выдвижение на первый план нового духовенства; раньше — «экономические интересы», теперь — религиозная проповедь.
Что это? Отрицание всего прежнего миросозерцания? Боязнь божьего возмездия за былое неверие? Старческий маразм философа, теряющего ясность мысли?
Ничего подобного. Мысль 65-летнего Сен-Симона ясна не менее, если не более, чем двадцать лет назад. Он не вычеркивает ни единого штриха из своего мировоззрения. Просто он подводит логическую черту, которая должна дать общий итог.
Сен-Симон всегда был дуалистом, признававшим существование двух независимых начал — материального и духовного. И если прежде все его помыслы были заняты материальной стороной учения, то теперь, стремясь завершить его, он обращает основное внимание на духовную сторону.
Сам он в религии не нуждается — с него достаточно тех выводов, которые можно сделать на основании опыта и точных наук. Будущее человечество, воспитанное в обстановке индустриального строя, также не будет в ней нуждаться. Но теперь, в переходный период, когда современное поколение слишком сроднилось с идеей бога, без религиозных верований обойтись нельзя. И поэтому необходимо приспособить религию к потребностям нарождающегося промышленного строя, создать такое мировоззрение, которое облегчит переход к будущему. В этом суть дела.
А отсюда и тот главный тезис, который выделяет Сен-Симон в «Новом христианстве».
«…Согласно принципу, богом данному людям в качестве правила поведения, они должны организовать общество способом, наиболее выгодным для наибольшего их числа; во всех их работах и действиях целью их должно быть возможно более быстрое и возможно более полное улучшение морального и физического существования самого многочисленного и самого бедного класса. В этом, и только в этом, заключается божественный элемент христианской религии…»
Итак, Сен-Симон снова думает о рабочем классе, о пролетариате, и только о нем. Снова самое горячее желание философа — добиться максимального улучшения жизни основного непосредственного производителя современного общества.
И снова он идет по пути, уже проторенному в «Индустриальной системе», «Катехизисе промышленников» и других работах этого периода. Он заботится о низах, но верит только верхам. Заботу о пролетариях он предоставляет промышленникам.
Правда, теперь он уверен в них гораздо меньше, чем прежде. Реальная жизнь показала ему, что предприниматель, «вождь производства», — это далеко не тот человек, которого раньше философ принимал за эталон добродетели. И поэтому, отчаявшись в других средствах, Сен-Симон, стимулируемый Родригом, решает обратиться к божьей помощи и взвалить на плечи бога задачу, с которой не справился сам.
Религия Сен-Симона ставит перед собой одну главную цель: заставить фабриканта заботиться о нуждах рабочих, внушить ему, что это первостепенная его задача, ввести моральную гарантию того, что индустриальный строй действительно раскрепостит бедняка…
Весьма странная, несбыточная мечта, идея, которая не внесла в теорию Сен-Симона ничего, кроме путаницы. Ибо то, что он считал средством, многие из его учеников приняли за цель. Так получилось и с Родригом, который сотрудничал с Сен-Симоном во время написания его последнего труда и который издал «Новое христианство» в год смерти философа.
Да, 1825 год был последним его годом. Смерть торопила великого мечтателя. Его здоровье, подорванное прежними испытаниями, внезапно сдало.
В апреле, буквально на следующий день после выхода «Нового христианства», Сен-Симон заболел. Поначалу болезнь не внушала больших опасений — философ продолжал работать. Он успел прочитать книгу Огюстена Тьерри «Завоевание Англии норманнами» и дал высокую оценку первому большому труду своего бывшего ученика. Вместе с Родригом он деятельно разрабатывал план проектируемого журнала «Производитель».
Но затем слег. И вскоре стало ясно, что больше ему уже не подняться.
В конце апреля больного по его просьбе перевезли в более тихий и зеленый район — в Монмартрское предместье. Здесь вокруг него собрались все ученики и друзья. Родриг не отходил от постели мыслителя и читал ему вслух «Новое христианство». Несколько раз вместе с Родригом пришел новый поклонник, Бартелеми Анфантен, восхищенный последней книгой учителя. Часто бывали Леон Алеви, доктор Байи и юрист Дювержье.
19 мая состояние больного резко ухудшилось. Родриг пригласил знаменитых врачей — Галля и Бруссэ. Галль, хорошо знавший Сен-Симона со времени Директории, пришел первым. После короткого осмотра он констатировал отек легких и заметил, что жить больному осталось недолго.
Бруссэ подтвердил диагноз.
В эти последние часы Сен-Симон был очень активен. Он хотел умереть как философ. И умирал как философ. Невзирая на боль и слабость, он говорил, говорил, говорил, словно желая перехитрить смерть, стоявшую за его плечами. О себе он не думал совсем.
— Вы очень страдаете? — спросил его в шесть часов вечера доктор Байи.
— Нет, — ответил Сен-Симон.
— Как, разве вы не испытываете боли?
Умирающий с бледной улыбкой взглянул на врача.
— Сказать так значило бы солгать, но какое это имеет значение?.. Поговорим о другом…
— Какая голова! — прошептал Бруссэ, уходя. — Какое величие духа!..
Сен-Симон был настолько погружен в свои мысли, что, когда спросили, не хочет ли он повидаться с дочерью — самым дорогим для него существом, больной категорически отказался.
— К чему тревожить ее? — сказал он. — Мои последние минуты должны быть посвящены только моей системе.
Точно так же не пожелал он принять и племянника Виктора, хотя нежно его любил.
— Помните, — говорил он, обращаясь к ученикам, — что для совершения великого дела необходима страстная увлеченность… Целью трудов моей жизни было создать всем членам общества широчайшие возможности для развития их способностей…
Его очень волновала судьба журнала.
— Вот уже двенадцать дней я только и занят тем, что указываю вам средства для успешного проведения этого дела, и теперь в течение трех часов силюсь изложить сущность моих идей на этот предмет. Сейчас я могу вам сказать только следующее: вы приближаетесь к эпохе, когда хорошо рассчитанные усилия должны увенчаться величайшим успехом. Плод созрел, и вам остается сорвать его…
Пульс становится все слабее, слабеет и голос…
В последний раз философ с усилием поднимает руку и шепчет:
— Наше дело в наших руках…
…В девять часов вечера его не стало…
Его хоронили 22 мая. Собрались все, пришли даже Конт и Тьерри. Похороны были гражданскими — акт большой смелости в дни, когда час от часу усиливалась католическая реакция.
На могиле выступали Леон Алеви и доктор Байи.
Алеви сказал:
— В то время когда люди в свои предсмертные часы думают о друзьях, родных, о себе самих, Сен-Симон свои последние минуты отдал тем, кто работает, тем, кто страдает, той великой семье, чьи интересы он защищал, которую усыновила его душа…
…Может быть, недалеко то время, когда воздадут должное этому вельможе Франции, постоянно защищавшему интересы обездоленных и угнетенных, этому гранду Испании, сражавшемуся за американскую свободу, этому потомку Карла Великого, боровшемуся за мир и счастье людей единственным оружием — логикой мысли…
Через несколько дней после похорон мадам Жюлиан писала дочери философа:
«Я поставила ему памятник на кладбище Пер-Лашез от вашего и моего имени; на камне нет ни хвалебных стихов, ни титула, просто: Анри Сен-Симон, умер 19 мая 1825 года, в возрасте 65 лет. Это не помешает потомству признать в нем великого человека. Ведь могилы Мольера, Лафонтена и других гениальных людей столь же скромны…»
Сен-Симон умер нищим. После него остались долги: 153 франка за прокат мебели, 150 франков за лечение, 135 франков — булочнику.
Долги уплатила мадам Жюлиан с помощью друзей покойного.
Какова была дальнейшая судьба этой самоотверженной женщины?
Мы этого не знаем. Известно лишь, что в июле 1825 года она оставила свою квартиру и поселилась в маленькой комнатке на улице Сент-Андрэ. Долгое время она состояла в переписке с дочерью Сен-Симона Каролиной-Шарлоттой. Что касается последней, то она проживала в Париже, была дважды замужем и умерла в 1834 году, оставив троих детей — мальчика и двух девочек, следы которых затерялись в сутолоке жизни.
Любимый племянник Сен-Симона Виктор, сын сестры философа Аделаиды, сделал военную карьеру, но умер бедным, как и все Сен-Симоны. Его единственной заслугой перед потомством было первое более или менее полное издание знаменитых «Мемуаров» своего далекого предка, герцога Луи де Сен-Симона.
А в общем, со смертью самого знаменитого из Сен-Симонов некогда знаменитый род угас, растаял, испарился и не подарил миру больше никого, кто мог бы своим именем украсить страницы истории.
Но если Анри Сен-Симон не оставил семьи в юридическом смысле слова, то его уход совпал с зарождением большой духовной семьи, взявшей знамя из слабеющих рук философа и готовой нести его дальше, сквозь любые препятствия.
Сен-Симон умер — сен-симонизм начал свое историческое бытие.
ЧАСТЬ IV КАЖДОМУ ПО СПОСОБНОСТЯМ (1825–1864)
ГЛАВА 1 УЧЕНИКИ
Их было трое.
Вообще-то их было гораздо больше, но трое с самого начала стали вожаками, общепризнанными толкователями и продолжателями дела учителя.
Первым был Оленд Родриг.
Свою программу он изложил вскоре после смерти Сен-Симона.
— Я родился иудеем, но мой отец желал сделать из меня человека не прошлого, а будущего; я никогда не выполнял обрядов иудейства… Однако я не принял и христианства. Мой ум, развившийся на изучении опытных наук, не мог усвоить его устаревших догматов, уже три века назад павших под секирой протестантизма и философии. Кто же я? Атеист? Нет! Я — сен-симонист!
Исполненный искреннего энтузиазма к личности учителя и религии будущего, всегда готовый на героизм самоотречения, до конца остававшийся рыцарем своей идеи, Родриг оказался как бы хранителем учения, первоапостолом новой веры.
Вторым пришел Бартелеми-Проспер Анфантен.
В 1825 году ему минуло двадцать девять лет. При взгляде на этого молодого человека, женственно-красивого, всегда изящно одетого и изысканно-грациозного, никто бы не подумал, что его влечет в неведомые дали философии. А между тем это было именно так.
Сын разорившегося банкира, ученик Политехнической школы, исключенный в годы Реставрации за приверженность к Наполеону, Анфантен перепробовал ряд профессий и побывал в ряде стран, в том числе и в далекой России, где два года служил в одном из петербургских банкирских домов. Вернувшись в Париж, он устроился в ипотечную кассу, директором которой был Родриг, и одновременно вступил в одно из тайных обществ, которыми кишела столица. Родриг и познакомил его с Сен-Симоном, когда философ находился уже на смертном одре.
Личность учителя и его последние труды произвели на Анфантена неизгладимое впечатление. Он покинул тайное общество и поклялся Родригу в верности неожиданно обретенной системе.
Учитель умер — и его труд остался в руках двух друзей как завещание, как евангелие новой веры, как неиссякаемый источник их вдохновения.
Вскоре к двум присоединился третий. Это был Сент-Аман Базар.
Почти столь же красивый, как Анфантен, но красотой мужественной, новый сообщник в чем-то сразу оказался самым значительным из троицы. Во всяком случае, несмотря на неполные тридцать четыре года, он имел за плечами больше, чем его оба новых друга, вместе взятые.
Незаконнорожденный, он познал тяжелое детство с беспросветной бедностью и горечью обид. Но уже с ранней юности Базару казалось, будто ему принадлежит особая миссия. И эту миссию он постоянно стремился угадать. В двадцать два года он храбро сражался в рядах Национальной гвардии Сент-Антуанского предместья против вторгшихся во Францию войск коалиции, за что был произведен в чин капитана и награжден орденом Почетного легиона. В годы Реставрации, служа мелким чиновником, Базар всецело отдался борьбе против Бурбонов. Сблизившись с группой молодых республиканцев, он организовал общество французских карбонариев, написал для него устав и ряд других документов, имевших хождение во всей стране. В 1821 году Базар поднял республиканское восстание в Бельфоре, но оно было быстро подавлено, и его главный организатор был вынужден спасаться от вынесенного заочно смертного приговора. Начались годы скитаний. От смерти Базар ушел, но в карбонарском движении полностью разочаровался, поняв его ограниченность и бесперспективность. Именно тогда в его руки попали сочинения Сен-Симона, всецело пленившие воображение молодого человека. Он познакомился с Родригом, который ввел его в общество сен-симонистов.
Анри Сен-Симон. Портрет неизвестного мастера.
Руже де Лиль.
Генерал Бонапарт.
Огюстен Тьерри.
Огюст Конт.
Жак Лаффит.
Деказ.
Герцог Беррийский.
Князь Полиньяк.
Родриг.
Базар.
Анфантен.
Фурье.
Современная карикатура на Карла X.
Луи-Филипп. Карикатура Домье.
Революция 1830 г. (Уличный бой 28 июля).
Разгром газеты «Насьональ».
Фурнель.
Дверь дома в Менильмонтане.
Анфантен в форменном костюме сен-симонистов.
Автограф письма Сен-Симона.
Титульный лист первого издания «Нового христианства».
Лионское восстание 1831 г.
Анри Сен-Симон.
Сент-Аман Базар обладал удивительно логичным умом и убеждающей речью. Он ловко оперировал абстрактными понятиями и умел доказать каждый свой тезис. Проникнув в сен-симонизм, этот политик и диалектик сразу взял верх над своими товарищами. Правда, его преобладание было чисто внутренним и не имело ничего общего с показными эффектами.
В отношении же эффектов пальмой первенства владел Анфантен.
Базар был несколько сух и академичен, Анфантен увлекал своих слушателей; Базар шел от разума, Анфантен — от чувства. Человек более красивый, чем красноречивый, скорее эмоциональный, чем даровитый, Анфантен обладал особым, стихийным очарованием в глазах толпы, и его пафос имел чисто гипнотическое воздействие.
Базар стал мозгом новой школы, Анфантен — ее сердцем.
Перед такими дарованиями Родриг вскоре спасовал и с искренней готовностью признал превосходство своих блестящих друзей. Он сохранял, однако, авторитет единственного ученика Сен-Симона, работавшего с учителем и принявшего из рук умирающего пророка его учение.
Впрочем, было ли это учение?
Анри Сен-Симон, необыкновенный человек и великий мыслитель, большую часть своей творческой жизни пребывал в условиях, мешавших планомерному труду. Он многое начал, но ничего не завершил. Он подарил потомству глубочайшие мысли, но не создал законченной философской системы. В его книгах была уйма противоречий, которые он и не думал примирять. Сложить мысли и воззрения социолога в единое учение значило создать нечто новое: несвязное надо было связать, недодуманное додумать, неразработанное разработать.
Этому и отдали все свои силы ученики Сен-Симона.
Сама жизнь заставляла их ускорить осуществление своих замыслов: им приходилось действовать в новой социальной обстановке.
После 1815 года, в условиях мирного времени, промышленность Франции вступила на путь бурного развития. Промышленный переворот, который до сих пор проходил здесь медленнее, чем в Англии, стал набирать темпы. Машины внедрялись в самых различных отраслях промышленности, сила пара заменяла человеческие руки, и даже нарождалось собственное машиностроение. Все большую роль приобретала биржа, где снова начали котироваться иностранные ценности.
Буржуазная Франция переживала эру процветания.
Именно в эти годы покойный Сен-Симон стал прославлять своего индустриала.
Но эра процветания оказалась недолгой.
Как раз в год смерти Сен-Симона благополучие и преуспеяние получили страшный удар, который разом обнажил все язвы буржуазного общества.
В 1825 году разразился первый в истории кризис перепроизводства.
Люди не сразу поняли, что произошло.
Рынки забиты товарами, которых никто не покупает: нуждающиеся в них не имеют средств, а имеющие средства в них не нуждаются. Так как товары не находят сбыта, фабрики закрываются, банки прекращают платежи, сотни тысяч людей — рабочие, мелкие вкладчики, ремесленники — разоряются и становятся нищими.
Если людям труда было плохо до этого, то теперь стало невыносимо плохо.
Небывалая нужда, слезы, вопли, для многих — голодная смерть…
Счастлив был великий мыслитель, что не увидел этих дней! Иначе многое пришлось бы ему переделывать в своих построениях!
Но ученики все это увидели и пережили.
И поэтому новая задача встала перед ними во весь свой гигантский рост. Кризисный год заставил их многое передумать и уточнить. С самого начала своей деятельности они должны были пойти дальше учителя.
Уже в июне 1825 года, осуществляя предсмертную волю Сен-Симона, Родриг, Анфантен, Базар в сотрудничестве с другими соратниками покойного — среди них оказался и бывший ученик философа Огюст Конт — организовали на акционерных началах первый сен-симонистский журнал — «Производитель». Основная задача журнала сводилась к тому, чтобы познакомить со взглядами Сен-Симона широкие слои читательской публики, прежде всего тех, на содействие и поддержку которых можно было рассчитывать.
Но этим ученики не ограничились. Они стали помещать на страницах «Производителя» материалы, которые были их собственным достоянием, результатом дружеских встреч, споров и бесед. Некоторое время в «Производителе» печатался и Конт.
В первом номере журнала сен-симонисты наметили основы новой философии. Они провозгласили, что философия будет отныне только позитивной как в своем методе, так и в своей цели. Она отбросит рассуждения о непознаваемости мира, о неизменности политических и социальных категорий. Она отбросит мысль о приспособлении к новым условиям старых, отживших свой век учреждений и понятий. Ей будут одинаково чужды католицизм с его феодальной основой и либерализм с его индивидуалистическими устремлениями.
Сен-симонисты наносят новые удары либеральной партии.
Либерализм строил свои концепции и системы на метафизических данных вне времени и пространства, без конца изобретал и отменял конституции, приводил к полной анархии в политике и угрожал нравственности. Достаточно напомнить, что в течение последних лет господа либералы добрый десяток раз меняли свои взгляды и убеждения. Они кричали о свободе в 1789 году, о равенстве в 1793-м, о национальном суверенитете в 1795-м, о собственности в 1796-м, о славе в 1800-м, о мировом господстве в 1810-м, о религии и законности в 1815-м…
Нет, политические формы либерализма ложны в своей основе. Политика должна исходить не из отвлеченных идей, а из конкретного изучения общества и его развития. «Индивидуализм» и «свобода» сыграли свою роль в борьбе с отжившими порядками. Они очистили мир, но не могут его оплодотворить. Теперь творческая роль должна принадлежать науке. В научно организованном обществе нет почвы для угнетения, а следовательно, и для борьбы за свободу.
Но какая же именно наука даст базу новой философии?
Сен-Симон указал ее. Эта наука — история.
Ныне история приближается к точным наукам. Это, по существу, социальная физика. И поэтому, как правильно утверждал учитель, задача историка — не только подобрать и классифицировать факты, но и открыть законы их связи.
В свое время Сен-Симон показал, что история — это математический ряд событий, все члены которого взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Теперь сен-симонисты заявляют о двух параллельно идущих социальных рядах, которые в совокупности и составляют историю человечества.
Один из этих рядов следует по восходящей линии, другой — по нисходящей; один постепенно приобретает мощь и значение, другой — теряет их.
Эти ряды — ассоциация и эксплуатация.
Ассоциация — это сплочение людей, эксплуатация — результат их разобщенности; ассоциация говорит о силе и могуществе человеческого общества, эксплуатация свидетельствует о его слабости.
На заре истории люди были полностью разобщены. Ассоциация почти равнялась нулю. А эксплуатация была безграничной и проявлялась в форме рабства.
Постепенно люди начали сближаться. Для европейцев такой объединяющей силой сделалось христианство. Ассоциация поднялась на одну ступень, и на столько же опустилась эксплуатация: рабство уступило свое место крепостному праву.
На смену христианству пришла философская мысль XVII–XVIII веков. Она содействовала еще большему сплочению людей на основе роста образованности и критики существующих порядков. Великая революция, вызванная просветительной философией, разрушила феодальные преграды, и это был еще один шаг вперед в смысле ассоциации. А эксплуатация настолько же отступила назад: крепостное право сменилось наемным трудом.
В грядущую, индустриальную, эпоху общество придет к полной ассоциации, которая сплотит всех производителей мира. Естественно, эксплуатация в этом случае сойдет на нет, праздных господ больше не останется и «…пользование благами будет распределяться в прямой зависимости от работы каждого члена ассоциации».
Так ученики вплотную подошли к тому, что логически вытекало из системы учителя, но никогда не было им высказано и сформулировано.
Это был принцип социализма.
Остался лишь шаг до того, чтобы провозгласить и развить этот принцип.
Если в целом сотрудники «Производителя» трудились довольно дружно и действовали согласно единому плану, то с течением времени все же начали намечаться две тенденции, которые хотя и не вступили в противоборство, но определенно противостояли одна другой.
Часть редакторов, возглавляемая Базаром, полагала, что нужно прежде всего развивать социальные взгляды учителя.
Другая часть, возглавляемая Анфантеном, гораздо больше внимания уделяла религии и проблемам чувства.
Наука и индустрия, говорили они, — это не цели, а только средства: они должны поставить человека в условия, наиболее благоприятные для развития сердечного чувства к слабым, любви к социальному порядку и обожанию мировой гармонии.
Выступая против либерального индивидуализма, Анфантен требовал, чтобы ему был противопоставлен религиозный догматизм, который только один и способен увлечь широкие массы. И уж если говорить о победе ассоциации над эксплуатацией в индустриальную эпоху, то не следует забывать и об идеологии этого времени: подобно тому как зачаткам ассоциации в средние века соответствовало христианство, так полной ассоциации будущего должно соответствовать новое христианство, завещанное учителем.
Точка зрения Анфантена победила. Ему удалось фактически возглавить журнал, взяв на себя большинство редакционных статей и всю переписку с читателями. Оленд Родриг во всем поддерживал Анфантена.
Впрочем, до разрыва дело не дошло. Учредители, прекрасно понимая, что польза дела требует единства, пока еще шли на взаимные уступки и старались не обнаружить зародившихся разногласий. А в октябре 1826 года «Производитель» прекратил существование, и часть его бывших сотрудников покинула ряды сен-симонистов.
ГЛАВА 2 ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕНИЯ
Три вождя не ослабляли коллективной деятельности.
Анфантен вел корреспонденцию с бывшими подписчиками «Производителя», внушая им свое толкование сенсимонизма. Базар тщательно собирал и изучал наследие учителя, а Родриг старался поддерживать добрые отношения между двумя своими единомышленниками.
Именно в это время Базар проявил бурную энергию, взял на себя основное бремя и показал всю свою работоспособность и блеск своего ума. Придя к мысли о необходимости дать связное и общее изложение системы Сен-Симона, он построил объемистый курс лекций, которые затем с благословения других членов школы прочитал несколько раз парижскому обществу.
Лекции эти, начавшиеся 17 декабря 1828 года, происходили раз в две недели, по средам, в специально снимаемом помещении на улице Таранн.
Базар не был краснобаем.
Но он говорил веско, вдумчиво, серьезно; все его поучения отличались ясностью и обоснованностью; и когда он выходил на трибуну с табакеркой между большим и указательным пальцами, публика замирала…
Лекции Базара имели большой успех. Количество слушателей увеличивалось с каждым разом, и вскоре зал на улице Таранн уже не вмещал всех желающих.
О сен-симонизме заговорили.
Появились средства, и учредители смогли приступить к основанию нового журнала — «Организатор». Одновременно в том же 1829 году они отредактировали лекции Базара и издали их отдельной книгой под заглавием «Учение Сен-Симона. Изложение».
Но это было не просто «изложение». Новая книга углубляла и развивала многое из того, что было лишь намечено учителем. Она стала самостоятельным вкладом в историю социалистических идей.
Сен-Симон не успел в равной мере разработать различные части своего учения. Если он достаточно ясно выявил свою общую философско-историческую концепцию и дал анализ существующего строя, то гораздо менее четкими были его представления о будущем обществе, близость которого он провозгласил.
Именно на этом будущем и сосредоточивал в первую очередь внимание новый труд сен-симонистов.
Развивая мысль, высказанную учителем в «Катехизисе промышленников», его ученики рисуют картину в мировом масштабе. Для них нация — пройденный этап, категория отживающей эпохи. Они отрицают мелкие самодовлеющие хозяйственные единицы или ассоциации. В их представлении ассоциация — это единое хозяйство на территории всего земного шара.
Этой ассоциации свойственны совершенно новые формы социального бытия.
Понимая, что основой нынешнего строя является частная собственность на орудия и средства производства, Базар наносит ей смертельный удар.
В настоящее время собственность зачастую сосредоточена в руках людей праздных и ленивых, которые используют ее не для того, чтобы создать изобилие и счастье всему человечеству, а для того, чтобы самим эгоистически наслаждаться благами. Мало того. Эти бездельники и тунеядцы передают собственность по наследству себе подобным и таким образом прочно закрепляют историческую несправедливость.
При переходе к новому строю прежде всего должно быть отменено право наследования. Единственным наследником орудий и средств производства должно стать государство, которое затем сможет передать их достойным, и не для безделья, а для труда.
Распределение орудий и средств производства будет централизованным. Им будет руководить центральный банк — организация, свободная от пороков современного общества, получающая сведения о потребностях областей и районов от специальных банков, обслуживающих отдельные отрасли промышленности. Через эти специальные банки орудия труда смогут распределяться между отдельными работниками.
Это распределение будет справедливым. Больше получит тот, кто более способен и может больше создать. Точно так же и вознаграждение будет соответствовать способностям и труду. Будь ты рабочий, заведующий мастерской или директор предприятия, заняв место в обществе соответственно своим способностям, ты будешь вознагражден соответственно своим заслугам.
Каждому по способностям, каждой способности — по ее делам — таков основной принцип нового общества.
Таким образом, исчезает принципиальная разница между предпринимателем и рабочим. Исчезают социальные антагонизмы и классовая борьба. Нет более эксплуатации. Освобожденное человечество все свои силы отныне обращает на завоевание природы.
Это было важнейшее место системы Базара и его коллег.
Развивая дальше положения, высказанные на страницах «Производителя», сен-симонисты провозгласили принцип, которого не сформулировал их учитель, — принцип социализма.
В чем причина этого сдвига?
В преждевременной смерти учителя? Или в повышенной зоркости учеников?
И в том и в другом, а точнее, в изменении социальной обстановки и социальной среды, из которой выходили сторонники сен-симонизма в 20-е годы.
В свое время Сен-Симон обращался прежде всего к промышленникам, банкирам и верхушке технической интеллигенции. Капиталисты его окружали и давали ему средства на издание его трудов. Естественно, что эта группировка «руководителей производства» и занимала центральное место в его «индустриальной системе».
Но очень скоро капиталисты разобрались в том, что сен-симонизм, несмотря на кажущуюся тенденцию выдвижения их на первый план, отнюдь не их идейная программа. Слишком уж много внимания философ уделял «самому многочисленному и самому бедному классу» и, что важнее всего, поставил целью своей системы всемерное улучшение условий бытия этого класса. Такая программа, какими бы религиозными специями она ни приправлялась, не могла устроить фабрикантов и финансистов, и они начали быстро отходить от сен-симонизма.
В последние годы учителя состав его школы начал меняться. И когда он умер, то свое учение он оставил не «индустриалам», не «руководителям производства», а низовой технической интеллигенции, весьма радикально настроенной и после кризисных лет весьма близкой по своим симпатиям к рабочему классу. Виднейшие сен-симонисты — Базар, Бюше, Ипполит Карно[40] и многие другие пришли к новому учению из тайных республиканских обществ. Естественно, что этих людей в учении Сен-Симона пленяло как раз то, что отталкивало крупную буржуазию, — чаяния «золотого века» социальной справедливости и организованного труда. Но как раз эта часть учения Сен-Симона была особенно неясной, недодуманной, недоработанной. И поэтому Базар со своими единомышленниками именно на нее и обратили основное внимание, стремясь ее додумать, доработать, довести до состояния предельной ясности, сделать осью сен-симонистского учения.
В этом — ключ к пониманию сильных сторон книги Базара.
И в этом же — ключ к пониманию ее слабости.
Ибо, несмотря на все свои субъективные желания выйти за рамки буржуазного мира, сен-симонисты вследствие социальной ограниченности своей среды объективно не были в состоянии это сделать. Попытавшись подвести под социализм исторический фундамент, они оказались неспособными полностью порвать с сен-симонистской идеей «бесклассовости индустрии», не смогли понять исторического значения революционной борьбы пролетариата, оценить рабочий класс как активную силу, а не только как страдающую, эксплуатируемую массу.
Отсюда — отрицательное отношение к революции, идеализм, стремление уйти в область чувства и заменить классовую борьбу религиозно-мистической мешаниной.
Да, в своем «изложении» Базар не смог полностью противостоять Анфантену и Родригу. Развивая социальную часть учения Сен-Симона, он не оставил без внимания и ее религиозной оболочки.
«Евангелие от Сен-Симона» получило здесь свое дальнейшее толкование и углубление.
Отказавшись от мысли учителя о постепенном отмирании государства, ученики пренебрегли и другой его мыслью — о временном характере новой религии. Напротив, увековечив и первое и вторую, они как бы слили их в понятии теократической, духовной власти в обществе будущего.
Человек должен, трактует «Изложение», жить и расти в любви, разуме и силе, причем любовь имеет первостепенное значение. Следовательно, люди, в которых преобладает любовь, — естественные вожди общества и хранители религии. Они-то и составляют новое духовенство. Их глава — верховный первосвященник, носитель высшей любви — источник и олицетворение власти. Он не выбирается, он сам назначает себя на этот великий пост, от него исходят все социальные блага, он сам выдвигает своих помощников в области духовной и в области индустриальной, словом, он — живой закон.
Основная задача первосвященника и его клира — воспитать человечество для новой жизни, приучить его к ассоциации. Идея социального воспитания и приводит сен-симонистов к восстановлению культа со всеми его внешними атрибутами, вплоть до исповеди.
Непонимание и недооценка роли пролетариата — силы, без которой невозможно создать «всемирную ассоциацию трудящихся», — с одной стороны, и отход от учения крупных предпринимателей и банкиров — с другой, заставляют сен-симонистов возлагать свои упования на иерархию духовных руководителей как на спасение от всех бед в настоящем и будущем…
В то время когда Базар создавал «Изложение» и продвигал его в массы, Анфантен тоже не бездельничал. Письменно и устно, в корреспонденции своим читателям и на митингах, организованных в разных местах столицы, он всячески рекламирует себя как проповедника «нового евангелия». Он сравнивает себя с апостолом Петром и блаженным Августином, он вещает от имени бога, и его речи беспрестанно переходят в проповеди и пророчества. И наконец, словно поддаваясь некоему внушению свыше, он прямо указывает на себя как на «первосвященника будущего»…
Впрочем, к чему ждать будущего? Не проще ли уже сейчас, когда его, Анфантена, боготворят многие из слушателей и слушательниц, провозгласить вожделенную иерархию?..
С этим вопросом он обращается к Родригу, и тот, как обычно, полностью поддерживает его.
Остается уломать Базара.
Когда Анфантен предложил Базару немедленно «покончить с анархией» и установить сен-симонистскую церковь, которую возглавили бы они оба, бывший карбонарий пришел в замешательство.
Такого он, признаться, не ожидал. Его в первую очередь волновали социальные проблемы, он думал о том, как облегчить положение масс и как внедрить в них идею ассоциации, он пошел даже на уступки в вопросе религиозном, но рассчитывал, что в данном случае речь идет о чем-то далеком, что произойдет весьма и весьма не скоро…
— Нет, скоро, и даже немедленно, — парирует Анфантен. — Всякое дело надо начинать сначала, а началом является утверждение новой догмы и иерархии, которая будет воспитывать народ…
Базар требует времени на размышление. Он размышляет две недели. Он не очень уверен в правоте своего соратника. Ему кажется, что тот начинает совсем с другого конца…
Но, как и прежде, Базар не хочет раскола. Сила сен-симонистов — в единстве. Единство же можно сохранить лишь в том случае, если не идешь на взаимные уступки.
Не замечая того, что уступки совсем не взаимны, что пока уступает он один, Базар наконец отвечает согласием. Родриг, который в течение этих двух недель не отставал от него ни на минуту, проливает горячие слезы радости.
31 декабря 1829 года происходит трогательная сцена.
В присутствии массы «верующих» Оленд Родриг произносит большую программную речь.
Назвав себя «живым преданием», единственным учеником Сен-Симона, по настоянию которого читалось, перечитывалось и изучалось божественное творение философа «Новое христианство», Родриг заявил затем, что отныне он передает «управление школой» в руки Анфантена и Базара и чувствует живейшую радость, что обрел более достойных руководителей, нежели он сам…
Речь Родрига заканчивается аплодисментами и братскими поцелуями слушателей.
Затем выступает Базар. Он чувствует себя не очень ловко и слегка запинается. Пытаясь оправдать свою капитуляцию, он говорит об отличии сен-симонистской религии от христианской и о неразрывной связи между духовными и социальными проблемами…
Все это, однако, не спасает от раскола.
Группа сторонников социальной направленности учения, возглавляемая бывшим редактором «Производителя» Бюше, декларирует свою позицию и покидает зал.
Радость «единства» отравлена…
События конца 1829 года и установление сен-симонистской церковной иерархии во главе с Анфантеном и Базаром нанесли серьезный удар по сен-симонизму как социальной философии. Последствия этого шага должны были сказаться в скором будущем.
Но тут произошла июльская революция, которая, несмотря на враждебность учеников Сен-Симона к революционной борьбе, сыграла им на руку и кратковременно вознесла их на небывалую высоту.
ГЛАВА 3 ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ
Они предлагали свою систему как средство против революции.
Каждый из них утверждал: если человечество нам поверит и проникнется нашими взглядами — больше не будет ни политических, ни социальных потрясений. В результате мирного, эволюционного развития общество в короткий срок придет к изобилию и счастью.
Но жизнь, не веря их внушениям, шла своим чередом. Розовая водица красивых слов не могла утолить жажды угнетенных, воздушный пирог «социальной гармонии» не мог их насытить. И когда мера терпения переполнялась, эволюцию сменяла революция.
Так получилось и в 1830 году.
Карл X любил хвастать, что не менял своих убеждений и взглядов со времен «старого порядка», когда он был еще только младшим братом короля, графом Артуа.
Это была правда. Человек ограниченный и недалекий, новый король жил древними, давно уже сданными в архив истории заповедями.
В царствование Людовика XVIII он возглавлял партию «ультра» — крайних монархистов, мечтавших восстановить абсолютизм. Теперь, оказавшись у власти, он устремился к своей заветной цели с неудержимым рвением. Пребывая в наивной уверенности, будто конституцию поддерживает лишь кучка интеллигентов, король полагал, что восстановление власти дворянства и духовенства не встретит сопротивления со стороны «его доброго народа».
Уже в 1825 году, в первый год своего царствования, Карл X издал законы, глубоко возмутившие широкие слои французов. Он заставил налогоплательщиков возместить бывшим эмигрантам один миллиард франков — стоимость земель, конфискованных революцией, и ввел жестокие кары за проступки против католической церкви. Эти законы были тем более ненавистны, что совпали с кризисным годом, принесшим народу разорение и неслыханную нужду. Но все это, разумеется, ни в коей мере не могло остановить Карла X. Двигаясь шаг за шагом в принятом направлении, он создал в 1829 году кабинет, состоявший из «ультра», причем главой его поставил своего любимца князя Жюля де Полиньяка.
Жюль Полиньяк был весьма зловещей политической фигурой.
Сын фаворитки Марии-Антуанетты, он, равно как и его семья, обворовывал казну и вызывал справедливую ярость народа еще при «старом порядке». В годы революции Полиньяк возглавлял эмигрантов и непрерывно строил козни против родины. Вернувшись после падения Наполеона, он показал себя как враг конституции, заядлый клерикал и мракобес.
Выдвижение такого деятеля на главную роль в государстве не могло пройти без эксцессов. Сильное возбуждение страны отразилось в печати. Общественное недовольство приняло такие размеры, что король долго не решался созвать палаты. Когда же наконец в марте 1830 года они были созваны, палата депутатов немедленно потребовала отставки кабинета. Король распустил палату. Однако новые выборы закончились полным поражением сторонников Полиньяка.
«Ультра» решили идти напролом и одним ударом сломить общее сопротивление.
В воскресенье, 25 июля Карл X принял своих министров в загородном дворце Сен-Клу.
Его величество только что вернулся с прогулки и был в отличном настроении. Сбивая стеком грязь с дорожных сапог, он приветливо кивнул министрам и подошел к столу, где лежали переписанные набело и подготовленные для подписи ордонансы…
Ордонансы… Само это слово веселило короля. Нет, черт возьми, он добьется своего! Он сломит проклятую оппозицию и оставит в дураках господ либералов! Он нарочно выбрал эту форму. Ордонансами в средние века называли указы или законы, издаваемые от лица короля. Теперь, восстановив этот древний обычай, он как бы сбрасывает со счетов конституцию: раз король издает от себя указы, значит конституции остается молчать!
Карл X чуть не рассмеялся вслух от удовольствия. Он еще раз взглянул на министров. Князь Полиньяк, высокий и стройный, пододвигая ордонансы, морщил красивое лицо в угодливой улыбке. Гернон-Ранвиль и Шантелоз, несмотря на свое старание скрыть это, выглядели угрюмыми. Маленький д’Оссэ лихорадочно шарил глазами по стенам.
Король сел к столу. Он еще раз перечитал хорошо знакомый ему текст. Ордонансов было четыре. Они распускали вновь избранную палату, вводили строгие правила против либеральной печати, на три четверти сокращали число избирателей и лишали палату права вносить поправки к законопроектам.
Это перечеркивало конституцию.
По существу, это был государственный переворот.
Как-то он удастся? Не случилось бы чего неожиданного…
На секунду Карл почувствовал страх. Его лошадиная физиономия вытянулась еще больше, чем обычно. Зрачки сузились. Подняв перо, он некоторое время неподвижно держал его над бумагой.
Но быстро успокоился. Вспомнил слова префекта полиции Манжена, который обещал, что Париж не пошевельнется.
— Чем больше я думаю об этом, господа, — обратился он к министрам, — тем более убеждаюсь, что иначе поступить невозможно!
И король быстро подписал ордонансы, не ведая, что подписывает свое отречение от престола…
— Что вы там ищете? — шепотом спросил Полиньяк д’Оссэ, все еще изучавшего стены зала.
— Портрет Страффорда! — так же шепотом ответил морской министр.
Полиньяк решил, что его коллега слегка рехнулся. Но д’Оссэ знал, что говорил. Все прошедшее утро он думал о министре английского короля Карла I графе Страффорде, который одиннадцать лет покрывал беззакония своего монарха и которого тот на двенадцатом году выдал парламенту для суда и казни. Уж не ждет ли и их, добровольно взявших на себя ответственность за авантюры Карла X, та же самая участь?..
26 июля ордонансы были опубликованы в правительственной газете «Монитер».
В этот день Париж еще жил своей обычной жизнью, и Полиньяк, просматривая очередной рапорт префекта полиции, мог узнать, что «самое полное спокойствие продолжает царить во всех районах столицы». Происшествия были обыденно-незначительны: из 470 безработных 200 получили места на предприятиях; четверых человек арестовали за воровство, шестнадцать — за бродяжничество; двое детей заблудились на улицах. Словом, все как вчера, позавчера, как месяц назад, как каждый день.
Но уже к вечеру положение изменилось.
На улицы высыпали встревоженные люди, у многих в руках были газеты. Люди громко выражали свое возмущение.
Биржа объявила, что акции упали на шесть процентов.
Собрание сотрудников оппозиционной печати, состоявшееся в редакции газеты «Насьональ», приняло коллективный протест против ордонансов, объявив их незаконными.
Бурные митинги и демонстрации произошли в Пале-Ройяле. Демонстранты скандировали:
— Да здравствует конституция! Долой министров!
Поздно вечером, возвращаясь из оперы, Полиньяк едва спасся от преследовавшей его толпы.
Впрочем, все это была лишь прелюдия. На следующий день лозунги изменились, Вместо «Долой министров!» стали кричать «Долой Бурбонов!».
Утром 27 июля большинство типографий оказались закрытыми. Отряды жандармов громили редакции прогрессивных газет и разбивали печатные станки. Рабочие-печатники, увлекая за собой трудящихся других специальностей, растекались по улицам. Повсюду воздвигались баррикады. Произошли первые схватки с правительственными войсками.
Командующим войсками в Париже король назначил Мармона. Это был самый ненавистный из генералов, запятнавший себя грязной изменой Наполеону в период «Ста дней». Его назначение лишь подлило масла в огонь.
Полиньяк объявил город на осадном положении. Однако он старался успокоить короля. «Мой долг, — писал он в Сен-Клу, — сообщить, что слухи, распространяемые сеятелями паники, сильно преувеличены. В сущности, все сводится лишь к простому волнению. Если я ошибаюсь, то готов ответить головой вашему величеству».
Господин Полиньяк зря трудился. Голова всей монархии Бурбонов держалась на своем дряблом теле еще менее прочно, чем его собственная.
Карл X отнесся с полным доверием к словам своего любимца. В Сен-Клу царила обстановка беззаботности. Ни один из параграфов дневного придворного ритуала не был отменен; в полдень король отправился на обычную прогулку, затем забавлялся с внуками, а вечером играл в карты. Партия виста проходила за столом, поставленным как раз против балкона, с которого были видны вспышки зарева в Париже и доносился звук набата.
Но король делал вид, будто ничего не замечает.
В ночь с 27 на 28 июля к восстанию примкнули тысячи новых участников: рабочие и ремесленники, отставные солдаты и офицеры, бывшие карбонарии и студенты Политехнической школы. К ним присоединилась и часть бывших национальных гвардейцев, сохранивших свое оружие.
Улицы пересекали сотни баррикад, сооруженных из булыжника мостовых, опрокинутых телег, мебели, бочек, срубленных деревьев. Повстанцы овладели Арсеналом, Ратушей и собором Парижской богоматери. На башнях развевались трехцветные знамена революции.
В этот день Мармон писал королю:
«…Это уже не волнение, это революция. Ваше величество немедля должны принять меры для успокоения народа. Честь короны еще можно спасти: завтра, боюсь, будет поздно…»
Письмо осталось без ответа.
Главнокомандующий сделал попытку провести контрнаступление. Четыре колонны были двинуты против площади Бастилии и Ратуши. С великим трудом преодолев завесу из всевозможных предметов, бросаемых на их головы из окон и с крыш, солдаты овладели несколькими баррикадами и разобрали их. Но это была детская забава: едва войска прошли, баррикады выросли снова…
К вечеру Мармон потерял две с половиной тысячи солдат — треть своего войска. Несколько полков целиком перешли на сторону повстанцев.
Когда, в полном отчаянии, генерал вновь написал в Сен-Клу, он получил ответ: «Держаться и ждать приказаний завтра».
Но «завтра» уже не было.
29 июля повстанцы взяли Лувр и Тюильри.
Лишь тогда осознали в Сен-Клу серьезность положения.
В три часа дня Карл X подписал отмену ордонансов и дал отставку Полиньяку. Его уполномоченные отправились в Париж, чтобы известить об этом население столицы. Однако вскоре они вернулись. Глава делегации д’Агу, обращаясь к королю, произнес только одно слово, то самое, которым накануне Мармон закончил свое письмо:
— Поздно!..
Да, монархии Бурбонов было поздно, слишком поздно бить отбой. Революция одержала полную победу. И не для того проливали кровь повстанцы, чтобы прощать ошибки и злодейства врагам.
Карлу X оставалось лишь отречься от престола и вместе со своими присными бежать из Франции.
Но логика событий была такова, что воспользовались ими совсем не те, кто их творил. На баррикадах умирали рабочие, а плодами их победы насыщалась буржуазия.
Власть сосредоточилась в руках кучки крупных финансистов, вожаком которых был прежний благодетель Сен-Симона банкир Лаффит. Вооруженные силы революции возглавил престарелый Лафайет, соратник Сен-Симона по Американской войне, а затем неудавшийся генерал первой французской революции. Именно эти двое сделали все возможное, чтобы протащить на освободившийся престол одного из своих.
7 августа королем Франции был провозглашен Луи-Филипп Орлеанский, представитель младшей ветви Бурбонов, близкий к финансовым кругам и крупным обуржуазившимся землевладельцам.
Июльские события во Франции всколыхнули всю Европу.
Они ускорили революцию в Бельгии, вызвали волнения в государствах Германского союза, способствовали восстанию поляков против российского царизма, активизировали национально-освободительное движение в Италии и проведение либеральных реформ в Швейцарии.
Под их непосредственным влиянием произошли народные выступления в Англии, ускорившие долгожданную парламентскую реформу.
Во Франции июльская революция навсегда преградила дорогу призракам «старого порядка».
Низвергнув династию Бурбонов, покончив с господством дворянско-клерикальных элементов, она превратила Францию в типичную буржуазную монархию. Больше не было надобности воевать с попытками реставрации абсолютизма и феодализма и обосновывать историческую неизбежность победы буржуазии. И поэтому именно теперь представители демократических кругов стали особенно пристально вглядываться в будущее.
В числе их оказались и сен-симонисты.
Правда, поначалу они несколько растерялись.
Июльская революция явилась для них полной неожиданностью. В их планах революция вовсе не была предусмотрена, напротив, они полагали, что их мирная деятельность предотвратит всякое подобие революции.
Поэтому 28 июля вожди сен-симонистской школы обратились к своим сторонникам с призывом сохранять спокойствие и не вмешиваться в борьбу. Революцию в этом воззвании они рассматривали лишь как симптом анархии, царившей в современном обществе.
Однако некоторые видные сен-симонисты, в том числе Карно, увлеченные народным движением, приняли участие в уличных боях.
А затем постепенно и руководство школы, осмысливая происходящее, начало переосмысливать свои прежние взгляды.
30 июля сен-симонисты выпускают прокламацию, в которой трактуют революционную борьбу как возможное средство социального переворота. Высоко оценив революцию XVIII века, они признают июльские дни завершением этой великой борьбы. Заклеймив позором праздных, живущих чужим трудом, прокламация восхваляет народ за разрушение старого феодального порядка и призывает закрепить победу, навсегда отменив привилегии рождения и установив принцип оценки людей по способностям и по труду.
Стремясь использовать революцию в целях своей пропаганды, сен-симонисты сочли возможным принять участие в совещаниях представителей политических партий у Лафайета. На какой-то момент они даже поверили в фантастическую возможность употребления диктатуры Лафайета для реализации программы своих социальных преобразований.
Впрочем, вскоре вожди сен-симонизма разобрались в том, что революция не достигла своей цели.
В письме Анфантена, опубликованном 1 августа, уже звучит разочарование. Автор письма не уверен даже, можно ли назвать все происшедшее революцией? Что изменилось в социальной организации Франции? Ничего. Некоторые имена, цвета, национальный герб, титулы — таковы завоевания этих «дней траура и славы». И все это потому, что у народа не нашлось достойных его вождей. Такими вождями, единственно способными обеспечить народу результаты его победы, могли бы быть только сен-симонисты…
Но разочарование разочарованием, а в целом они прекрасно сориентировались в обстановке. В 1830–1831 годах их пропаганда достигла максимальных пределов. Овладев либеральной газетой «Глобус» и приспособив ее к своим целям, они также печатали и распространяли всевозможные брошюры и агитационные материалы, читали лекции и устраивали многолюдные митинги. Сторонники сен-симонизма теперь исчислялись не десятками, а сотнями, и их ячейки, помимо Парижа и Безансона, имелись в Монпелье и Тулузе, Меце, Лионе и Бордо.
О сен-симонизме начинают говорить за границей.
Многие иностранцы, приезжающие во Францию, видные деятели литературы и искусства, искренне увлекаются новым социальным учением и становятся активными членами сен-симонистских общин. Композитор Ференц Лист регулярно посещает сен-симонистские собрания в Париже, а поэт Генрих Гейне даже посвящает Анфантену одну из своих книг.[41]
Сен-симонисты совершают пропагандистские поездки по соседним странам и добиваются там известных успехов. Они организуют свои филиалы в Бельгии, а в Англии и Германии вербуют отдельных сторонников из числа радикально настроенной интеллигенции.
Джон Стюарт Милль в 1831 году писал одному из ведущих сен-симонистов:
«…Если ваше общество сумеет уберечься от раскола, если оно будет продолжать пропагандировать свою веру и увеличивать число сторонников так же быстро, как в течение двух последних лет, тогда для нас сверкнет луч света во тьме. Но даже если этого и не произойдет, все равно сделанное не пропадет даром».
Осторожный Милль предвидел все возможности и в чем-то оказался пророком.
Но в целом на данный момент это был триумф.
И он был бы еще более полным, если бы сен-симонистам не пришлось вдруг столкнуться с движением, очень им близким по основной идее, но претендующим на независимость и оригинальность.
Этим движением был фурьеризм.
ГЛАВА 4 КОТОРАЯ ИЗ ДВУХ?
Лет через семь после смерти Сен-Симона на той самой улице Ришелье, которую так любил основатель индустриальной системы и где он прожил свои последние годы, поселился другой мечтатель, имени которого было уготовано не менее славное будущее.
Его имя было Шарль Фурье, но он предпочитал, чтобы его называли «мэтром Фурье».
Человек этот не отличался представительной наружностью. Маленький и худощавый, он вечно сутулился и ходил шаркающей походкой. Но его седая голова была величавой, а лицо раз видевший потом уже не мог забыть никогда.
Он обладал челом античного мыслителя. Хотя орлиный нос его вследствие удара, полученного в детстве, был несколько согнут влево, эта асимметрия почти не замечалась, ибо глаза сразу приковывали внимание собеседника и заставляли забывать обо всем остальном. Большие, голубые, детски-наивные, они по временам вспыхивали страстным огнем и словно метали молнии. Но большей частью они оставались мечтательно-грустными. Эту грусть и даже горечь подчеркивали и тонкие губы Фурье, всегда плотно сжатые, с опущенными углами.
Горечь и скорбь философа вызывал окружающий мир.
Фурье ненавидел общество, в котором жил.
Общество цивилизованных, две трети которых не работают вовсе и существуют за счет других, а эти другие, хотя и выбиваются из сил, едва сводят концы с концами.
Он ненавидел мир, в котором богатство порождало бедность.
Сам он жил бедно.
В его убогой комнатушке почти отсутствовала мебель и только груды рукописей, покрытые пылью, выглядывали из всех углов. Поэт Гейне, во время своих прогулок часто встречавший Фурье, замечал куски черствого хлеба, торчащие из его карманов. Но Гейне не знал, что этим сомнительным лакомством старик будет делиться чуть ли не со всеми кошками своего квартала…
Он никогда не смеялся.
Часто окружающим казалось, что он их не видит и, даже разговаривая с ними, витает где-то далеко.
Так оно и было в действительности.
Иногда в разгар интересной беседы он вдруг хватал карандаш и начинал что-то быстро записывать. Когда его захватывала идея, он размышлял над ней без устали, не засыпая по шесть-семь ночей подряд, пока не находил решения.
Фурье любил одиночество, редко бывал в театре или салонах, куда его, как модного философа, старались зазвать и где он сидел как истукан, уклоняясь от разговоров и не отвечая на вопросы. Только с друзьями, которые насчитывались единицами, он чувствовал себя свободно и мог говорить долгие часы, не замечая усталости.
Но куда бы мэтр ни отправлялся, ровно в двенадцать он всегда был дома. Ибо в этот час он терпеливо ждал «кандидата», которому через печать было известно, что «основатель социетарной школы» готов у себя на дому в это время вступить с ним в переговоры об организации пробной фаланги…
Фаланга… Вот уже тридцать лет, как это слово владеет всеми помыслами Фурье.
Да, без малого тридцать лет прошло с тех пор, как он опубликовал свой первый труд — небольшую статью, в которой лишь чуть приоткрыл завесу над будущим.
А сегодня он автор известных книг, многотомных исследований, основатель и глава социетарной школы, и он уже не раз описал это будущее во всех подробностях и деталях. Он ясно видит его.
И, главное, теперь философ совершенно уверен, что будущее можно приблизить.
Только бы нашелся «кандидат» — финансист или государственный деятель, который даст средства на организацию первой фаланги!
Но что же такое фаланга?
Фаланга — это ассоциация производителей. Это особая организация, построенная на принципе соответствия частных и общих интересов, в основе которой лежит гармоническое притяжение страстей, иначе говоря, в которой отдельные ее члены могут рационально применять свои способности и увлечения на пользу себе и обществу.
Фаланга строится в первую очередь на сельскохозяйственной основе. Однако ее члены не пренебрегают и различными промышленными работами. Для разного рода работ организуется ряд серий. Каждая серия занимается отдельным видом труда; существуют серии плотников, ткачей, огородников, садоводов, скотников и многие другие. Исходя из того, что человеку свойственно стремление к разнообразию, гармонический строй фаланги дает возможность свободно выбирать желаемую серию и даже работать во многих сериях таким образом, чтобы труд в каждой не превышал полутора-двух часов. В результате труд не только не отупляет, но превращается в труд-наслаждение, удовлетворяющий одну из высших страстей человека — страсть к творчеству… Свойственная же людям страсть к интриге приводит к соревнованию трудовых групп и серий, что повышает производительность труда и увеличивает доходы фаланги.
Члены фаланги будут обитать в роскошном и удобном дворце, в совершенном по своей планировке и отделке фаланстере. Фаланстер состоит из жилых комнат, залов для отдыха, библиотеки, гостиницы, церкви, мастерских, магазинов, помещений для животных, кладовых и амбаров. Все здания, составляющие фаланстер, соединены между собой крытыми улицами-галереями, защищенными от непогоды и резких температурных колебаний. Поэтому, подчеркивает Фурье, здесь можно в январе обойти все магазины, танцевальные площадки и залы для собраний, не имея понятия, тепло или холодно на улице, идет ли там снег или дует ветер.
Жилые помещения фаланстера сдаются за особую плату, и каждый снимает то, что отвечает его средствам. На этих же началах организовано и питание: все члены фаланги питаются в общих столовых, но имеют различные меню в зависимости от своей состоятельности.
Фаланга — акционерное предприятие.
Сам фаланстер, а также земельный участок, на котором он расположен, инвентарь, строительный материал — все это создается и покупается на деньги, собранные от продажи акций. Точно так же и доход фаланги распределяется не только соответственно труду, но и соответственно внесенному капиталу. Весь доход делится на двенадцать частей. Пять двенадцатых приходится на долю труда, три — на долю таланта, четыре — на долю капитала. Высокий процент дохода на капитал, полагает Фурье, привлечет в фалангу богачей, прибыль которых здесь будет большей, нежели они получают в современном обществе.
Хотя в фаланге состоят и бедные и богатые, Фурье утверждает, что между ними нет и не может быть серьезных противоречий, поскольку каждый член фаланги заинтересован в ее процветании, зная, что только в этом случае будут возрастать его личные доходы. Отсутствие наемного труда приводит к тому, что бедный смотрит на богатого как на коллегу, с которым тесно связано и его благосостояние. С течением же времени, полагает философ, наступит полное слияние различных общественных классов: богачи, вовлекаясь в общественный труд, станут такими же производителями, как и бывшие бедняки; бедняки же смогут покупать акции и станут вследствие этого получать доход не только от труда, но и от капитала. Так, постепенно, ассоциация устранит все общественные пороки и установит полную гармонию.
Свои социальные труды Фурье создавал, погрузившись в них всецело. Отсюда та убеждающая конкретность, которая как бы материализует мечту. Для великого мечтателя, впрочем, эта мечта была больше чем реальность, и он жил в ней больше, нежели в своей серой действительной жизни. Сказка фаланстера казалась ему былью; привыкший к скудному столу из-за своей постоянной бедности, он смаковал изысканные яства гармонийцев; всегда плохо одетый и осужденный жить в нищенской обстановке наемного жилища, он обитал в великолепных дворцах-фаланстерах, разбивал невиданные цветники, кроил красивые костюмы, устраивал веселые праздники; никогда не испытавший подлинной любви и счастья быть любимым, он рисовал себе счастье мужчин и женщин, наслаждавшихся свободной, полноценной любовью; трагически одинокий в буржуазном мире эгоизма и наживы, он грезил социетарным строем всеобщего братства.
Необыкновенная убежденность философа в своей системе и как бы овеществление этой системы в его трактатах не могли не содействовать тому, что за ним, как за вождем, пошли десятки, а затем и сотни последователей, несмотря на все его чудачества и фантастические теории, которыми он сопровождал свою главную, ясную как день программу.
Социетарная школа Фурье, начавшая складываться в конце 20-х годов, вербовала свои кадры из тех же социальных слоев, что и школа Сен-Симона: это были в основном представители мелкобуржуазной демократической интеллигенции, разочарованные результатами революции и критически настроенные к современному им буржуазному строю. Именно эти люди с восторгом зачитывались критикой «меркантильного духа» в произведениях Фурье и, переносясь на крыльях фантазии в «гармоническое» общество, не жалели своих усилий для того, чтобы ускорить его приход.
Фурье был противником революции. Он считал, что новое общество может быть создано лишь мирным путем. И однако, для него, как и для учеников Сен-Симона, июльская революция 1830 года не прошла бесследно.
Напротив, она окрылила его.
На этот раз старый мэтр поддался общему настроению и в течение нескольких месяцев был очень возбужден. Его сразу осенила идея: поскольку вне ассоциации для людей не может быть счастья, то новые правители, захватившие власть в результате народной победы и обязанные думать о людском счастье, не смогут обойтись без него, Фурье, в своих социальных планах!..
И старик без устали строчит письма, десятки писем, сотни писем всем, всем, всем: Лаффиту и Лафайету, палате депутатов, ее комиссиям и подкомиссиям, новым министрам и новому королю. На Луи-Филиппа он возлагает особые надежды и даже некоторое время считает его основным возможным и весьма вероятным «кандидатом»…
Повысили свою пропагандистскую активность и ученики Фурье. Разбросанные по разным углам страны, они писали, публиковали, организовывали, агитировали.
Но все они, равно как и сам мэтр, вскоре убедились, что на пути их деятельности растет и ширится почти неодолимое препятствие.
Этим препятствием был сен-симонизм.
Две школы, близкие по своему существу, столкнулись лбами. А так как сен-симонисты были лучше организованы и сверх того лучше сумели использовать ход и результаты революции, они оказались в выигрышном положении и удерживали пальму первенства в своих руках.
Это обстоятельство выводило из себя Шарля Фурье.
О сен-симонизме он знал, конечно, давно. Самого Сен-Симона он презирал до глубины души и величал не иначе как «ученым адвокатом торговцев». Но со временем, видя растущие успехи школы, Фурье стал более внимательно следить за ее деятельностью и даже как-то побывал на одной из лекций Базара.
Лекция произвела на него впечатление, но в совершенно определенном смысле: Фурье решил, что следует «уловить» сен-симонистов и обратить их в свою веру.
Он немедленно отправил Анфантену экземпляр своей последней книги и письмо, в котором предложил молодому человеку перейти в лоно фурьеризма. Анфантен ответил вежливо, но холодно. Он отказался от личной встречи, дал понять, что не собирается менять знамени, и, в свою очередь, переслал Фурье сочинения Сен-Симона.
Казалось бы, куда уж яснее!
Но Фурье не желал успокаиваться.
Через несколько дней он снова послал Анфантену длиннейшее письмо, в котором критиковал учение Сен-Симона. Его адресат и на этот раз не вышел за рамки вежливости, но на критику ответил критикой, и притом в явно ироническом тоне.
Фурье был и изумлен и раздосадован. Он считал свое предложение великодушным и выгодным для «этой секты», и вот его не понимали и не принимали!..
С тех пор мэтр говорил о «секте» не иначе как с озлоблением, увеличивающимся еще и оттого, что его собственные ученики всячески расписывали успехи сен-симонистов и рекомендовали даже кое-что позаимствовать из их учения. Пылая негодованием, Фурье опубликовал в 1831 году брошюру «Ловушки и шарлатанства сект Сен-Симона и Оуэна», полную желчи, сарказмов и грубых выпадов, причем, кроме сен-симонистов, здесь досталось и его английскому собрату, уже изруганному им ранее в одном из своих трактатов…
Что же их разделяло?
Почему соперничество между ними, обнаружившееся в начале 30-х годов, сопровождалось таким ожесточением?
Сен-симонисты и Фурье по-разному понимали сущность «ассоциации».
Сен-симонисты, следуя за своим учителем, считали, что в основе общности людей должно быть промышленное развитие.
Фурье отдавал явное предпочтение сельскому хозяйству.
Сен-симонисты мыслили в мировом масштабе и представляли себе ассоциацию как хозяйственное единство всего человечества.
Фурье разбивал мир на отдельные замкнутые комплексы; его фаланга охватывала сравнительно небольшой коллектив — от 1600 до 2 тысяч человек.
По этим пунктам, несомненно, сен-симонисты шли впереди социетарной школы.
Но нельзя не заметить, что старый Фурье проявил повышенную зоркость, критикуя своих соперников: наряду с большим количеством несправедливых упреков в их адрес он тонко подметил главную отрицательную тенденцию, которая в это время все отчетливее стала обнаруживаться в сен-симонизме.
Этой тенденцией была дальнейшая теократизация учения Сен-Симона, все большее сползание его в область поповщины и мистики.
И результаты этого должны были сказаться в самом ближайшем будущем.
Пока мечтатели спорили и сводили счеты друг с другом, жизнь продолжала идти своим чередом.
Все более явственно обозначались последствия июльской революции, и все яснее становилось, что народу и в первую очередь рабочему классу она не принесла ничего, кроме новых бедствий.
Правда, конституция Луи-Филиппа не могла не учесть народной победы. Права палаты депутатов были несколько расширены, избирательный ценз немного понижен. Административный аппарат и офицерский корпус очистились от дворян-реакционеров. Сверх того была восстановлена Национальная гвардия и отменена цензура.
Но этим дело и ограничилось.
Полицейско-бюрократический аппарат государства остался неизменным, хотя и перешел в другие руки. Остались в силе и все жестокие законы, направленные против рабочих.
Продажная пресса на все лады расхваливала нового короля, «короля-гражданина», подлинного «отца народа», монархия которого являлась «лучшей из республик». Это он предпринял специальные работы в Тюильри, чтобы прокормить три сотни рабочих! Это он, в круглой шляпе, с зонтиком и в калошах, без всякой охраны беседует с домохозяйками, стоящими в очередях! Это он заставляет королеву лишать себя самого необходимого, только бы облегчить положение несчастных!
Но несчастные хорошо знали, что Луи-Филипп, богатейший из богатейших, делает все для того, чтобы поддержать промышленников и финансистов, и стремится согнуть в бараний рог людей труда.
А потому рабочим только и оставалось продолжать борьбу. И они продолжали ее с удвоенной яростью.
Первые годы царствования «короля-гражданина» ознаменовались необычайным ростом тайных революционных обществ, стачек и восстаний.
Цитаделью борьбы стал крупнейший промышленный центр Франции город Лион.
В 1831 году вспыхнуло беспримерное по силе и размаху восстание рабочих шелкоткацкой промышленности Лиона.
Оно началось 21 ноября после вероломного нарушения предпринимателями новых сдельных расценок. Но это был лишь повод. В основе восстания лежала классовая ненависть, накопленная за многие годы нищеты, унижений и рабства.
Лозунгом восстания были слова, вышитые на черном знамени: «Жить работая или умереть сражаясь!»
После трехдневной вооруженной борьбы, на которую поднялось все рабочее население города, повстанцы разбили правительственные войска и овладели Лионом.
Десять дней рабочие удерживали власть в своих руках.
Это было впервые в истории.
3 декабря войска, присланные из Парижа во главе с маршалом Сультом и наследником престола герцогом Орлеанским, потопили восстание в потоках крови. Более десяти тысяч «инсургентов» были высланы из города.
Но это не сломило мужества лионского пролетариата.
Два года и четыре месяца спустя вспыхнуло второе рабочее восстание в Лионе.
Для того чтобы его усмирить, использовали артиллерию. Шесть дней сопротивлялись повстанцы регулярной армии. Войска взрывали дома и уничтожали целые кварталы.
На этот раз лионский пролетариат сражался и умирал на баррикадах под красным знаменем.
И с этого момента красное знамя стало символом борьбы мирового пролетариата.
Лионцы не были одиноки. Париж и Гренобль, Сент-Этьенн и Шалон, Люневиль, Клермон-Ферран и многие другие города страны выразили классовую солидарность с городом-героем.
Это был поворотный этап в классовой борьбе не только Франции, но и всей Европы. На историческую арену выступил новый борец — рабочий класс.
До сих пор во всех революциях и больших социальных движениях рабочие шли в фарватере у других классов и социальных групп.
Теперь они показали себя как самостоятельная историческая сила, причем сила, которую можно временно разбить, но нельзя победить.
Будущее оказалось за ними.
И с этих пор ни у сен-симонистов, ни у фурьеристов уже не было будущего.
Ибо путь, на который они звали массы, остался далеко позади.
Нет, не эволюция, не «любовь во Христе» и не классовый мир, а революция, только революция, исключительно революция могла привести пролетариат к победе. Правда, революция не такая, как та, что произошла в 1830 году.
Но какая же?
Этого люди пока не знали. И ответ на этот вопрос человечеству могли дать не мечтатели, не утописты, искавшие нового бога и обновленную мировую любовь, а совсем иные учителя, учение которых основывалось не на мечте, а на подлинном научном фундаменте.
Мир ждал отныне только этих учителей. И в положенный час они пришли.
ГЛАВА 5 РЕАБИЛИТАЦИЯ ПЛОТИ
Нет, напрасно, совсем напрасно огорчался старый мэтр Фурье, видя успехи сен-симонистов.
Успехи эти были непрочными и кратковременными.
Летом 1830 года они достигли своего апогея, а уже осенью следующего пошли на спад.
Сам внезапный переход вождей от принципиальной аполитичности к крайнему политическому авантюризму не мог не вызвать замешательства среди рядовых членов школы.
Что же получилось? Они отрицали революцию, а теперь приветствуют ее первые результаты! Они отрицали роль политической власти, а теперь заигрывают с Лафайетом! Как понимать это все и чему верить впредь?..
Пришлось Базару, главному мыслителю школы, выступить с особой декларацией, где он попытался свести концы с концами. В опубликованном вскоре после июльских дней «Суждении о последних событиях» он подчеркнул, что все происшедшее — результат божьей воли. Революция, согласно взгляду Базара, лишь средство к тому, чтобы свободно вести сен-симонистскую пропаганду. Именно поэтому они и приветствуют данную революцию. А вообще-то, сейчас надо думать не о революции, а о новой «власти любви», осуществляемой «лучшими людьми».
Разъяснение было не очень убедительным. Концы с концами не сходились. Не прояснили положения и ближайшие действия «отцов».
«Лучшие люди» продолжали трудиться над созданием сен-симонистской церкви. Она быстро усваивала все признаки религиозной общины и особый ритуал.
«Верующие» распадались на ряд степеней. Члены одной степени были «братьями и сестрами во Сен-Симоне» и одновременно «дочерьми» и «сыновьями» для старших членов, советы которых они должны были выполнять беспрекословно как приказы. Всем «верующим» был присвоен единый форменный костюм: голубые фраки и белые брюки для мужчин, платья особого покроя для женщин.
«Верующие» регулярно встречались. С начала 1831 года их сборища стали ежедневными. Они происходили в пяти местах Парижа, чаще всего на улице Таранн и на улице Монсиньи.
На высокой эстраде полукругом рассаживались члены высших «степеней», составлявшие «коллегию», остальные заполняли зал. При появлении Анфантена и Базара все вставали и отвешивали поклоны «отцам», после чего начиналось «собеседование».
Темы «собеседований» были разные.
Иногда устраивались публичные исповеди, во время которых каждый без утайки рассказывал собравшимся о своих «падениях» и «грехах»; при этом «верующие» проливали слезы и обменивались «братскими поцелуями» в знак всепрощения и любви.
Но чаще всего на «собеседованиях» выступал Анфантен. Здесь была его главная трибуна, с которой он поражал своих слушателей «откровениями» и «пророчествами».
— Буржуа и ученые ушли от меня, — говорил Анфантен. — Мы пролетарии…
Действительно, в невозвратимо далеком прошлом было время, когда сен-симонизм вербовал своих сторонников из буржуазии. Теперь «отцы» все больше стремились к тому, чтобы привлечь «самый многочисленный и бедный класс». На какое-то время им удалось добиться успехов своей пропаганды в рабочей среде. Вскоре из рабочих была составлена особая «степень», в состав которой входило около 300 человек. Ею ведали жена Базара и инженер Фурнель, большой энтузиаст социального сен-симонизма.
Здесь дело не ограничивалось «собеседованиями» и «братскими поцелуями». Для рабочих была организована даровая медицинская помощь, созданы общественные столовые и даже учреждены «коммуны», где каждый член, сдав свои доходы, получал жилье и бесплатный стол. В «коммуны» шли безработные и люди, имеющие недостаточный заработок. Эти общежития оказались очень убыточными, вследствие чего просуществовали недолго.
И вообще контакты с рабочим классом были кратковременными.
Людей труда отталкивало равнодушие, проявляемое «отцами» к социальной борьбе пролетариата, в частности к лионскому восстанию 1831 года. Рабочие чувствовали себя неравноправными в сен-симонистской «церкви». Они очень подозрительно относились к религиозной стороне учения, к иерархии и теократии вождей. Некоторые из них даже были склонны видеть в сен-симонистской религии «новый маневр иезуитов».
А главное — они не видели пути, на который мог бы их вывести сен-симонизм.
Пути действительно не было. Дороги расходились. Ученики и последователи великого социолога все более приближались к состоянию маразма.
Таков уж закон жизни — сделав шаг по наклонной плоскости, неизбежно делаешь второй, третий и затем начинаешь бежать.
Создав религию, нельзя было ограничиваться одними моральными нормами. Нужно было создать и догму.
Это прекрасно понимал Анфантен. Его все больше мучила мысль о догматике новой церкви. Он судорожно перебирал различные варианты. И наконец нашел.
Новое христианство должно принципиально отличаться от старого.
В человеке две стороны — дух и плоть.
Некогда христианство провозгласило восстановление духа.
Новое христианство должно провозгласить восстановление плоти.
До сих пор плоть считалась чем-то низменным, недостойным.
Ее нужно реабилитировать.
Разве это не просто? Просто, как все гениальное!
Чудак Сен-Симон! Чего он возился со своими «индустриалами», зачем ему было копаться в каких-то законах производства, если основное — это сам человек, материальное, плотское существо со всеми своими физическими потребностями и желаниями!
И вдохновленный «отец» рукой, дрожащей от прилива чувств, выводит тезисы своей новой догматики.
До сих пор о человеке всегда говорили как о чем-то абстрактном, подразумевая под человеком только мужчину. Этим страдал и сам великий Сен-Симон, который во всех своих сочинениях лишь единожды употребил слово «женщина».
Между тем человек — это мужчина и женщина вместе. Следовательно, все общественные и личные функции люди должны выполнять не в одиночку, а парами, и любовь, являющаяся основой общества, — это прежде всего физическая, половая любовь.
Она может быть очень разной, ибо люди не одинаковы. Есть постоянные и есть переменчивые, есть отелло, но есть и донжуаны, а в соответствии с этим и увлечения могут быть глубокими или мимолетными. Закон Христа унизил переменчивый тип, сен-симонизм должен его возвысить. Связь между мужчиной и женщиной основывается только на чувстве, все равно, прочном или мимолетном, и это чувство не может быть заменено никаким принудительным законом. Свобода половых отношений вытекает и из грядущего экономического строя: там, где не будет права наследования, исчезнет и экономическая база единобрачия.
Остается вопрос: можно ли эту свободу сделать полной?
Нет, говорит Анфантен (не замечая, что противоречит сам себе), полной ее сделать нельзя, ибо тогда можно зайти слишком далеко. Свободу полов нужно регулировать, но регулировать осторожно, применяя чисто моральные формы руководства.
Это будет обязанностью жреца и жрицы новой любви.
Ведь первосвященник — тоже парное существо, мужчина и женщина вместе.
Верховная чета должна социализировать разные типы любви, в одних случаях «умеряя чувственную распущенность», в других — «разогревая оцепенелые чувства».
Пары верующих должны учиться любви у жреца и жрицы.
При этом в целях большего влияния на верующих верховный жрец может вступить в физическое общение с женщинами низших «степеней»; этот способ воздействия должен быть вообще разрешен всем членам высших степеней по отношению к членам низших…
Так иерархия принимала новые формы.
От учения Сен-Симона больше не оставалось ничего.
Сен-симонизм заменялся анфантенизмом.
Новый апостол понимал, что нужно действовать осторожно.
Нельзя было сразу открыть верующим догму во всей ее полноте: это могло привести к взрыву. Вследствие этого поначалу Анфантен не отказался целиком от социальных задач и не мешал общественной деятельности своих соратников.
Сен-симонистская газета «Глобус» продолжала публиковать материалы по самым различным экономическим и социальным вопросам. Талантливые публицисты Пьер Леру и Мишель Шевалье посвящали свои статьи не только проблемам будущего, но и в первую очередь ближайшим реформам, которые должны были проложить к нему путь.
Сен-симонисты ратовали за улучшение системы народного образования, требуя всеобщего обучения. Они предлагали ликвидацию косвенных налогов, столь обременительных для бедняка, и замену их единым прямым подоходно-прогрессивным налогом, который заставил бы в большей степени раскошелиться богача. Постоянным нападкам со стороны сен-симонистов подвергался и Французский банк; они считали необходимой отмену привилегий этого банка и создание ряда свободных банков, использующих средства населения для оказания эффективного кредита рядовым производителям.
Вместе с тем, верные старому лозунгу Сен-Симона «все для промышленности, все через промышленность», ученики выдвинули целый ряд проектов промышленного строительства, уделяя особое внимание улучшению средств связи и постройке железных дорог.
В области искусства их «индустриальная» линия, впрочем, выглядела довольно своеобразно: на страницах «Глобуса» сен-симонисты рекомендовали уничтожение памятников старины, не соответствующих духу эпохи, и использование театров исключительно для проповеди новой морали.
Между тем «новая мораль» продолжала свое победное шествие.
Анфантен устремился к заоблачным высям пророчеств. Во время «собеседований» он доводил верующих до экзальтации, до нервных припадков и истерических воплей, особенно влияя на боготворивших его женщин.
Затем постепенно начал приоткрывать главное.
Базар сразу понял и выразил энергичный протест.
Так вот к чему привела политика попустительства! Вот чего он добился, стремясь сохранить единство! Единства все равно нет и в помине, а его уступки лишь погребают все учение!
Нет, теперь надо бороться, чего бы это ни стоило, иначе все погибнет!
Сопротивление оппозиции оказалось настолько серьезным, что Анфантен предпочел отложить решение вопроса, дабы собраться с силами.
Но это было лишь кратковременное перемирие. Вскоре борьба возобновилась с новой яростью.
Чуть ли не ежедневно стали устраиваться закрытые «собеседования». «Коллегия» просиживала ночи напролет, обсуждая отдельные стороны новой догмы. Верующие доходили до обмороков. Так продолжалось три месяца подряд, пока с Базаром не сделался нервный удар.
11 ноября 1831 года он официально заявил о своем выходе из «церкви» и провозгласил себя единственным вождем сен-симонизма.
Но вождем он уже не мог быть. Силы прежнего карбонария оказались надломленными. Он уехал в деревню, где и пробыл последние месяцы своей жизни.
Анфантен торжествовал.
Хотя вслед за Базаром ушли наиболее способные и активные сен-симонисты, в том числе Карно, Леру, Трансон и Жюль Лешевалье, с ним все же осталось большинство, основной костяк школы.
Его цламенно поддерживал Оленд Родриг, «хранитель учения». Он провозгласил Анфантена единственным «верховным отцом» (до подыскания жрицы) и, проливая горячие слезы, беспрестанно восклицал, словно хотел внушить слушателям:
— Мы — сен-симонисты!..
В январе 1832 года Анфантен наконец полностью открыл верующим свою новую догму и стал ее широко пропагандировать. Это привело к прозрению и Родрига. «Хранитель учения» постепенно начал понимать, что «учения»-то, в сущности, уже и нет. Все холоднее и холоднее относясь к «верховному отцу», которого сам же провозгласил, Родриг наконец не выдержал. Месяц спустя он покинул «отца» и выпустил свой манифест, в котором также назвал себя «главой сен-симонизма».
Родриг прожил еще восемнадцать лет. Свою деятельность он сосредоточил главным образом на издании сочинений Сен-Симона.
Итак, Анфантен остался единоличным повелителем.
Его жар не остывал, хотя дела общины шли все хуже и хуже. Вслед за рабочими стали разбредаться интеллигенты, мелкие ремесленники, обыватели. Новая вера пугала простых людей. Они никак не могли взять в толк, почему жены должны покидать мужей, а дети не должны знать родителей и почему все это будет содействовать принципам социального коллективизма?..
Церковь теряла провинциальные ячейки. Распалась община в Меце, заявила о самороспуске община в Тулузе. Начались преследования со стороны властей, закрывавших «собеседования» за проповедь «безнравственных мыслей». Базар и Родриг грозили судебными процессами. Фонды, прежде столь обильные, быстро иссякли. Надо было предпринимать какие-то экстренные меры…
20 апреля в последнем номере «Глобуса» Анфантен опубликовал свой новый манифест. В весьма напыщенных выражениях «верховный отец» напоминал о своей великой задаче — «освободить женщину и пролетария». Он сообщал, что ныне осуществление этой задачи откладывается, ибо он вместе с сорока «избранными» удалился в уединение, дабы как следует подготовиться к будущей миссии.
Это был конец.
Впрочем, концу предшествовала довольно длительная агония.
ГЛАВА 6 АГОНИЯ
У Анфантена был свой дом, большой загородный особняк с пристройками и запущенным садом. Особняк находился в Менильмонтане, пригороде Парижа. Туда-то и направилась братия «избранных», чтобы пройти испытание и очищение трудом и молитвой.
Они прожили там четыре месяца, причем почти половину этого срока сохраняли полное затворничество и не общались даже с собственными женами.
Так повелел «верховный отец».
Сам он пребывал в меланхолической задумчивости и выходил только к общим трапезам, но даже и тогда говорил мало.
Он обдумывал свою «великую миссию».
Рядом, в Париже, проходили горячие дела. Рабочие, разгадав политику «короля-гражданина», не желали ему повиноваться. В мае 1832 года столицу снова опоясали баррикады и в Сент-Антуанском предместье опять загремели ружейные залпы.
Звуки выстрелов долетают и до Менильмонтана, но сорок затворников не вслушиваются в них. До этого ли им сейчас! Они усердно метут дорожки и занимаются нравственным самоусовершенствованием, ожидая времени, когда можно будет зажить в согласии с новой догмой.
У них бывают свои события, поважнее, чем баррикадные бои.
В Париже правительственные войска расстреливают рабочих, а в Менильмонтане «верховный отец» сообщает сногсшибательную новость: он изобрел усовершенствование к костюму верующих. Отныне под голубой фрак будет надеваться алый жилет особого покроя, застегивающийся не спереди, а сзади. Так как владелец такого жилета может его застегнуть лишь с помощью другого лица, то этот предмет туалета будет приучать к сотрудничеству и коллективизму.
«Избранные» потрясены. Они проливают слезы восторга и обмениваются «братскими поцелуями».
По случаю изобретения жилета вдоль дорожек сада проходит торжественная процессия с пением религиозных гимнов, а на балконе вывешивается флаг.
Между тем у «отца» зреют новые планы.
6 июня он объявляет, что период полного затворничества окончен.
Действительно, к чему мучить себя и разжигать любопытство других? О менильмонтанском особняке и так уже ходят кое-какие слухи… Ну что же, пусть посмотрят! Отныне дважды в неделю будут допускаться «визитеры» — все желающие познакомиться с жизнью общины!..
Визитеров оказалась масса. Любопытные, жадные до зрелищ парижане толпами устремились в «обитель», желая проверить, какие чудеса там творятся. В иные дни число посетителей доходило до десяти тысяч. И не мудрено! Посмотреть было на что!
1 июля изумленные визитеры могли наблюдать, как здоровенные бородатые «братья» в белых брюках и алых жилетах маршируют парами, с кирками и лопатами на плече и громко поют под аккомпанемент рояля:
Постройки древнего Вавилона, И пирамиды Египта, И храм Соломона, И готические соборы средних веков — Все они пигмеи по сравнению С нашим храмом!..А затем на балконе снова вывешивается флаг, и «братья», продолжая петь, начинают работать: они рыхлят заступами землю и перебрасывают ее с места на место.
Это символически должно означать «постройку храма»…
Наблюдатели почесывают затылки, а кто-то из более расторопных догадывается сбегать в ближайший полицейский участок.
Появляется комиссар в сопровождении солдат и выдворяет посторонних, «братьям» же предписывает немедленно прекратить «непристойный спектакль»…
В таких мирных забавах незаметно проходят день за днем, пока вдруг не раздается гром с ясного неба, гораздо более страшный, чем ружейная пальба парижских баррикад: вся братия вызывается в суд. Анфантен и двое его помощников должны ответить «за безнравственные деяния».
27 августа слушается их дело.
Сорок апостолов, построившись парами, на глазах у изумленной публики шествуют пешим строем из Менильмонтана во Дворец правосудия.
Этот процесс доставил много веселых минут столичным буржуа. Зал суда был переполнен нарядной публикой. Дамы с любопытством лорнировали подсудимых, облаченных в голубые фраки и алые жилеты, застегивающиеся на спине. То и дело раздавались громкий смех и иронические аплодисменты.
Свидетелей приглашают к присяге. Каждый из них, прежде чем ее дать, обращается к Анфантену с вопросом:
— Разрешаете ли вы, отец? — и, получив вместо ответа отрицательный кивок головой, отказывается от присяги.
Хохот не умолкает. Но вот наконец Анфантену дают слово, и сразу наступает тишина. Публика с нетерпением ждет, что скажет этот великий проповедник, как построит он свою защитную речь?..
…Он бледен и заметно волнуется. Его красивое лицо искажено судорогой. Он начинает говорить — и все поражены: где же прославленное красноречие, повергающее людей в безумие восторга?
Речь Анфантена была вялой и бессвязной. Она все время вращалась вокруг двух тем: женщины и плоти. Подсудимый провозгласил себя «предтечей женщины-мессии», он долго и нудно говорил о том, какую власть имеет сила чувства и что может сделать человек с помощью одного, скажем, взора…
Это положение Анфантен пожелал проиллюстрировать. Он устремил на судей пристальный взгляд и смолк. Он молчал и смотрел так долго, что разгневанные члены суда прервали заседание…
Все эти шутки, разумеется, принесли подсудимым мало пользы и лишь позабавили публику.
Прокурор пустил в ход тяжелую артиллерию. Были прочитаны отзывы Базара и Родрига, убийственные для подсудимых. Сен-симонизм свидетельствовал против сен-симонизма!..
Суд приговорил «верховного отца» и его двух ассистентов к году тюрьмы и штрафу в сто франков каждого. Остальные отделались лишь штрафом.
Кроме того, по предписанию суда на улицах была вывешена афиша, извещавшая о роспуске «так называемого общества сен-симонистов»…
Афиша, в сущности, была излишней. Общества и так больше не существовало.
Осталось лишь несколько чудаков, которые тщетно пытались возродить погибшее дело.
Пока Анфантен отсиживал срок заключения, один из братьев, Барро, организовал небольшую группу для поездки на Восток. Барро был преисполнен надежды, что там удастся найти «женщину-мессию», «верховную жрицу», ту самую недостающую супругу «отца», без которой не может установиться иерархия новой религии…
В пути братья случайно оказались на одном корабле со знаменитым итальянским революционером Джузеппе Гарибальди, которого попытались обратить в свою веру. Попытка не увенчалась успехом, как, впрочем, и все путешествие: Барро, правда, добрался до Константинополя, но «женщину-мессию» так и не нашел…
Между тем «верховный отец» вышел из тюрьмы.
Испытывая явное охлаждение к религии, он отказался от поисков августейшей супруги и вместо этого решил заняться практической деятельностью. Видимо, вспомнив о юношеских начинаниях учителя, мечтавшего когда-то о Панамском канале, Анфантен увлекся идеей Суэцкого, о необходимости которого в это время много писалось в европейской прессе.
«Отцу» удалось воодушевить кое-кого из старых соратников.
Были подняты инженеры и рабочие, и в 1833 году вся компания отбыла в Египет.
Переговоры с турецким правительством не дали результатов, на которые рассчитывал Анфантен. Ни турецкого султана, ни вице-короля Египта заинтересовать проектом канала не удалось. Вместо этого энтузиастам предложили заняться ирригационными работами на Ниле.
Почти четыре года в невероятно тяжелых климатических условиях, не отступая перед многочисленными трудностями, маленькая колония Анфантена строила дамбы и плотины. Но затем, когда неожиданно вспыхнувшая эпидемия холеры вырвала из ее рядов наиболее деятельных членов, остальные дрогнули и стали покидать Египет. Не выдержал и сам «отец». В 1837 году он вернулся во Францию, больной и разбитый, без всяких средств к существованию.
Долгое время после этого он жил в нищете, обращаясь даже к благотворительности.
Но потом ему повезло. Он пристроился к железнодорожному предпринимательству, стал директором одной из крупных линий и провел последние годы жизни как обеспеченный человек.
Имя его соперника, Родрига, еще раз мелькнуло на страницах истории в 1848 году.
Февральская революция, низвергнувшая «короля-гражданина», воодушевила «хранителя учения» и вывела его из многолетней спячки. 9 марта он принялся развешивать на стенах домов Парижа плакаты, призывавшие к новой организации труда и банков, к ассоциации капиталистов и рабочих. Родриг попытался внушить эти идеи новому правительству, неоднократно выступал на митингах и в клубах, но все это не принесло практических результатов. Почти всеми забытый, он умер в 1851 году, незадолго до государственного переворота Луи-Наполеона.
Анфантен пережил своего бывшего соратника на тринадцать лет, но не совершил в эти годы больше ничего выдающегося.
Что же касается школы, то ее давно уже не было и в помине. Некоторые из ее последователей перешли в фурьеризм. Но большинство, отказавшись от социальных утопий, погрузилось в добропорядочную буржуазную деятельность. Из бывших сен-симонистов вышли превосходные приказчики, служащие контор и банков, правоверные редакторы и журналисты. Отщепенцы буржуазной интеллигенции, оставив былые мечтания, вновь возвращались в свою привычную и излюбленную обстановку.
Так окончился сен-симонизм. Историки формально считают его концом год смерти Анфантена.[42]
Но 1864 год навечно вошел в историю человечества совсем не по этой причине.
В 1864 году Маркс и Энгельс основали I Интернационал, указавший рабочему классу мира тот единственно правильный путь, до которого так никогда и не сумели добраться ни Сен-Симон, ни его ученики.
ГЛАВА 7 ОТ СЕН СИМОНИЗМА К ПОЗИТИВИЗМУ
Наш рассказ о Сен-Симоне был бы неполным, если бы мы не вернулись к одной фигуре, уже мелькавшей на страницах этой книги и на первый взгляд не имеющей прямого отношения к судьбе великого мечтателя и его школы.
Речь идет о втором ученике Сен-Симона, Огюсте Конте.
Мы предвидим удивление читателя.
Действительно, к чему еще раз вспоминать об этом деятеле? Разве не была встреча с ним лишь эпизодом в творческой биографии Сен-Симона? Разве не покинул он учителя и не пошел своей дорогой, совершенно отличной от сен-симонизма? Ведь не стали же мы — и вполне резонно — углубляться в последующую жизнь и деятельность Огюстена Тьерри, хотя он на каком-то этапе и считал себя «приемным сыном» Сен-Симона!..
Все это так, но в случае с Контом есть одно обстоятельство, усложняющее задачу биографа Сен-Симона, обстоятельство, через которое просто не перешагнешь. Вот уже около полутора веков проблема взаимоотношений Сен-Симона и Конта и еще в большей степени проблема взаимосвязанности их учений остаются идейным полем боя в мировой историографии. Сторонники Конта по сей день всячески третируют Сен-Симона,[43] словно сводят счеты с его тенью во имя своего духовного апостола и вождя.
Основные положения контистов можно сформулировать в следующих трех тезисах.
1) До встречи с Контом Сен-Симон фактически ничего не сделал. Чудаковатый барин, безалаберный, легко меняющий род занятий и убеждения, он фантазировал в самых различных областях, но не создал единого учения.
2) Сотрудничество Конта с Сен-Симоном было совершенно бесполезным для первого, но много дало второму: Сен-Симон благодаря Конту научился систематизировать факты и мысли, он заимствовал ряд важнейших идей Конта, и эти-то идеи стали рациональным зерном сен-симонизма.
3) Поскольку Конт ничего не почерпнул у Сен-Симона, позитивизм Конта является абсолютно самостоятельной, независимой философской системой, имеющей в противовес сен-симонизму непреложную духовную и практическую ценность.
Мы постараемся разобрать приведенные тезисы по существу.
Но для того чтобы подойти к этому разбору, необходимо хотя бы в общих чертах познакомиться с биографией Конта и уяснить основы его философской системы.
Огюст Конт родился 19 января 1798 года. Следовательно, он был на 38 лет моложе Сен-Симона: в год их встречи, когда учителю исполнилось 57 лет, ученику было всего 19.
Сын сборщика податей в Монпелье, Конт окончил местный лицей, где выделялся своими математическими способностями, затем переехал в Париж и поступил в Политехническую школу.
Его юношеские искания, обстоятельства встречи с Сен-Симоном и первоначальный восторг по отношению к «мэтру» нам уже известны.
Тесное сотрудничество Сен-Симона и Конта продолжалось в течение пяти с лишним лет (1817–1822).
Оно было внутренне нарушено после того, как Конт завершил третью тетрадь «Катехизиса промышленников» — первое из своих подписанных произведений.[44] Впрочем, внешне разрыва еще не произошло. В предисловии Сен-Симон расхваливал труд Конта, последний же «с удовольствием» объявлял себя учеником Сен-Симона.
Мы помним, что Конт присутствовал на похоронах Сен-Симона и помещал свои статьи на страницах «Производителя» — первого печатного органа сен-симонистов.
Окончательный разрыв Конта с сен-симонизмом произошел в 1826 году, причем Конт декларировал свою позицию тем, что его философские убеждения находятся в непримиримом противоречии с религиозной тенденцией школы.
Разойдясь с прежними единомышленниками, молодой философ решил упрочить свое положение в ученом мире. Успех его «Системы позитивной политики», заслужившей одобрительные отзывы Гизо и Гегеля, навел Конта на мысль о необходимости пропагандировать свои идеи. В том же 1826 году он начал читать у себя на квартире курс позитивной философии, имея среди своих слушателей таких ученых, как Бленвиль и Александр Гумбольдт.
Однако профессорская деятельность Конта вскоре оказалась прерванной. После третьей лекции он впал в психическое расстройство, в припадке которого бежал из Парижа. По-видимому, кроме чрезмерного умственного напряжения, здесь сказалась и серия неудач, преследовавших философа в личной жизни.
В ранней юности он сошелся с замужней женщиной, много старше его, от которой имел дочь и массу неприятностей. Потом, познакомившись в публичном доме с проституткой Каролиной Массен, пленился ею настолько, что в 1825 году вступил с ней в гражданский (а позднее и в церковный) брак. Союз этот оказался неудачным. Каролина, обладавшая сильным характером, третировала своего супруга и доводила его до исступленных припадков ревности. Во время одного из таких припадков он чуть не утопил жену в озере, другой же раз сам пытался утопиться в Сене.
Помещенный в психиатрическую лечебницу, а затем отданный на попечение жены, Конт выздоровел, в начале 1829 года дочитал свой прерванный курс и повторил его снова при большей аудитории.
Воцарение Луи-Филиппа (1830 год) на первых порах ничем не порадовало Конта. Прежде всего за отказ вступить в Национальную гвардию его бросили на несколько дней в тюрьму. Философ попытался наладить контакт со своим бывшим почитателем Гизо, получившим портфель министра просвещения. Золотой мечтой Конта была кафедра истории математических и естественных наук в университете. Но устные и письменные просьбы по этому поводу, обращенные к Гизо, не дали положительных результатов. Министр давно забыл о своем лестном отзыве на первый труд Конта и ныне не пожелал иметь ничего общего с «полоумным фанатиком». Философу пришлось приналечь на частные уроки. Но затем он получил место репетитора и экзаменатора в Политехнической школе и смог жить безбедно.
К этому времени относится начало работы Конта над главным трудом жизни — «Курсом позитивной философии». Создавая свой «Курс», Конт отказался от чтения газет, журналов и книг, в том числе даже таких, которые непосредственно относились к разбираемым им проблемам. Этот странный прием философ назвал «мозговой гигиеной» и практиковал его в течение двенадцати лет, пока не увидел света шестой и последний том «Курса» (1842 год).
Едва окончив свой труд, Конт рассорился с коллегами по Политехнической школе, вследствие чего потерял место и жалованье. Пришлось обращаться к частной благотворительности. Джон Стюарт Милль, узнав о бедственном положении своего учителя, организовал в Англии подписку и прислал Конту значительную сумму денег. Конт счел эту субсидию «выражением общественной обязанности» к его «нравственной магистратуре» и потребовал ее возобновления в следующем году. Возмущенные англичане отказали. Тогда философ обратился с «циркуляром к приверженцам позитивизма на всем Западе», требуя материальной поддержки для себя как создателя и единственного авторитета нового учения. Подписка, установленная учеником Конта Э. Литтре, оказалась довольно успешной и затем возобновлялась ежегодно.
Разделавшись с «Курсом позитивной философии», Конт стал все больше углубляться в нравственные и духовные проблемы. Он пришел к убеждению, что «позитивная философия» должна завершиться «позитивной религией», а сам он обязан стать первосвященником этой религии.
Формирование новых взглядов было ускорено внешними событиями.
В 1842 году Конт окончательно разошелся с Каролиной. А три года спустя произошла встреча, наложившая неизгладимый отпечаток на всю его дальнейшую жизнь.
Клотильда Во была женой лишенного прав преступника. Женщина вполне эмансипированная, она занималась самообразованием и даже пыталась писать. Ей было тридцать лет, когда Конту исполнилось сорок семь. По-видимому, эта дама обладала как раз теми качествами, которые отсутствовали у бывшей супруги философа: женственностью, сердечным чувством и нравственной чистотой. Как бы то ни было, она полностью покорила Конта, пленила его воображение, овладела его умом. Между Контом и Клотильдой установилась тесная, хотя и чисто платоническая, связь.
Связь продолжалась ровно год. Ее оборвала внезапная смерть Клотильды.
Однако любовь Конта к Клотильде не только не иссякла с ее смертью, но, напротив, еще более возросла, превратившись в мистический культ обожания. Алтарем этого культа сделалось кресло, в котором обычно сидела Клотильда, а обряды состояли из песнопений и молитв, ежедневно совершаемых безутешным влюбленным.
Теперь центр тяжести увлечений Конта был окончательно перенесен из области науки в сферу религии. В результате появился второй фундаментальный труд Конта с тем же заглавием, которое он некогда дал своей ранней работе, — «Система позитивной политики» (4 тома, 1851–1854 гг.), целиком посвященный новой религии.
Отныне и до самой смерти Конт был занят только своей первосвященнической миссией и практическими попытками внедрения «позитивной церкви».
Он умер 5 сентября 1857 года.
К этому времени его покинули многие бывшие ученики, в том числе ближайший из них — Литтре, не пожелавший следовать за своим наставником в мистические дебри его «позитивной политики».
В современной истории науки принято рассматривать позитивизм как философскую систему, созданную Контом преимущественно в период работы над «Курсом позитивной философии». Последующий, мистический период обычно отсекается как «нехарактерный» для Конта. Тон в подобном подходе задал еще Литтре, утверждавший, будто последний двенадцать лет жизни (со времени встречи с Клотильдой Во) Конт находился в состоянии тяжелого умственного расстройства.
Вряд ли с этим можно согласиться. Нам думается, что уход в религию весьма характерен для Конта, логически вытекает из всех его предыдущих поисков, и в последние двенадцать лет жизни философ был не более сумасшедшим, чем во все предшествующие годы. Кстати говоря, это подтверждает и решение, принятое во время официального процесса по делу о завещании Конта. Однако обо всем этом после. А пока станем на общепринятую точку зрения и рассмотрим позитивизм как науку, оставив в стороне его религиозный аспект.
Создавая «Курс позитивной философии», Конт ставил прежде всего следующую цель: объединить умственный мир человечества на твердой почве положительных (позитивных) наук, совершенно исключив второстепенное, спорное, наносное. Рассматривая историю человеческого общества как отражение различных категорий мышления, Конт в отношении этих последних устанавливал закон трех стадий, имевший, по его мнению, безусловный характер. Согласно этому закону человеческий ум проходит последовательно три стадии развития: теологическую, когда все явления объяснялись божественным произволом, метафизическую, когда человек стал мыслить отвлеченными категориями, и, наконец, позитивную, когда вместо теологии и отвлеченных истин появляются точные науки. Теологической стадии соответствовало общество, в котором господствовали жрецы (священники) и военные, в метафизической на смену им пришли законники и адвокаты, в позитивной их место должны занять промышленники и ученые.
В настоящее время, объяснял Конт, образованное человечество находится в критическом состоянии, его раздирают умственная анархия и раскол, поскольку теологические и метафизические попытки объединения потерпели крах. Это бедствие может прекратить только такая система мышления, которая с всеобъемлющим характером прежней теологии и метафизики соединяла бы достоверность точной науки. Такую систему и представляет позитивная философия, общая наука, основанная не на фантазии и отвлеченных понятиях, а на бесспорном фактическом материале наук, как последнее обобщение их данных.
Позитивная философия, однако, не является чем-то самодовлеющим. Ее роль состоит прежде всего в том, чтобы установить связь между отдельными науками, систематизировать их, дать их классификацию. Конт строит эту классификацию в порядке убывания общности и простоты. Во главе наук стоит самая общая и простая по содержанию математика, затем следуют астрономия, физика, химия, биология и социология. Этой-то последней, наиболее частной и сложной из наук, Конт уделяет особенное внимание, посвящая ей три тома из шести, составляющих «Курс».
Социология — наука о человеческом обществе, «социальная физика», как именует ее Конт. И подразделения этой науки названы у него терминами, взятыми из механики: «социальная статика», учение о спокойном состоянии общества и «социальная динамика», учение о его движении. В основе «социальной статики» лежит «закон порядка», олицетворяющийся семьей, коллективом граждан и правительством. В основе «социальной динамики» находится «умственный прогресс», развивающийся согласно пресловутому «закону трех стадий». Отсюда девиз Конта «Порядок и прогресс», девиз, лучше всего формулирующий социальный идеал философа — классовую гармонию «позитивного» общества.
На этом пока остановимся. Ибо сказанного вполне достаточно, чтобы приступить к задаче, намеченной в начале главы: постараемся выявить взаимосвязь между сен-симонизмом и позитивизмом, следуя трем вышеуказанным тезисам.
1) Сторонники позитивизма правы, когда заявляют, что до встречи с Контом Сен-Симон не создал единого учения; мы видели, впрочем, что он не создал его и после указанной встречи: окончательно оформили и систематизировали мысли учителя только его ученики, в первую очередь Базар. Но из этого вовсе не следует, будто до появления своего гениального секретаря и сотрудника Сен-Симон «ничего не сделал» как философ, занимаясь исключительно «фантазированием в различных областях».
Год рождения Конта как раз совпадает с временем, когда Сен-Симон, закончив период «экспериментов», приступил к построению общей науки. Именно применительно к этому году он писал: «…я возымел проект открыть новое поприще человеческому уму — поприще физико-политическое…»
Когда Конту было всего четыре года, Сен-Симон написал свой первый труд — «Письма женевского обывателя», где впервые наметил контуры своей будущей системы и выдвинул лозунг, оставшийся до конца ее главным пунктом: «…Все люди будут работать…»
Когда Конту исполнилось четырнадцать лет, Сен-Симон в одном из писем к Редерну утверждал: «Частные науки суть элементы общей науки, которой дали имя философии. Эта наука с пассивной стороны есть свод или итог приобретенных знаний, а со стороны деятельной она есть указание новых путей науки и обзор средств для проведения новых открытий и довершения уже начатых. Рассматривая относительный и позитивный характер науки в ее целом и частях, мы находим, что и целое, и части должны были сначала иметь характер предположительный, затем они должны были принять характер наполовину предположительный и наполовину позитивный, и, наконец, вся наука и части ее должны получить вполне позитивный характер. Мы теперь достигли того момента, когда первый хороший свод частных наук составит позитивную философию…»
Да не посетует читатель на длинную цитату. Она необыкновенно важна. Из нее следует, что в дни, когда Конт штудировал математику в лицее Монпелье и не подозревал о своем призвании, главные компоненты его будущего учения оказались уже провозглашенными и учение в целом было названо. И все это сделал «безалаберный» Сен-Симон…
Ко времени встречи учителя с учеником учитель если и не сформулировал полностью, то уж, во всяком случае, продумал свою «индустриальную теорию» и уточнил отдельные ее стороны. Им были написаны «Письма женевского обывателя» (1802), «Введение в научные работы XIX века» (1807–1808), проект «Новой энциклопедии» (1810), «Очерк науки о человеке» (1813), проспект сборника «Индустрия» (1817) и многие другие труды.
А ученик? Ученик, как мы видели, не имел ничего, кроме трогательных чувств в сердце и сумбура в голове.
2) Все вышесказанное уже является достаточным ответом на второй тезис контистов. В самом деле, если Сен-Симон обладал какими-то определенными взглядами, а юный Конт еще ничего не имел за душой и обретался в стадии поисков, то, безусловно, пользу от сотрудничества мог получить отнюдь не Сен-Симон, но только Конт.
Конт, надо отдать ему справедливость, поначалу и не пытался этого отрицать.
Вот что говорил он 18 апреля 1818 года в частном письме: «…благодаря сотрудничеству и дружбе с человеком, обладающим весьма глубокими философскими взглядами, я узнал многое, чего бы тщетно искал в книгах, и за шесть месяцев нашего знакомства интеллект мой приобрел больше, чем я один мог бы достичь в течение трех лет…»
Признание знаменательное: двадцатилетний Конт просто поражен глубиной взглядов своего наставника. Ученик, точно губка, впитывает откровения, преподносимые учителем; именно эти откровения указывают ему путь, который он сам не обнаружил бы и за несколько лет.
Кажется, все ясно. Но почему же в таком случае мог возникнуть тезис о бесполезности сотрудничества с Сен-Симоном для Конта и о «важнейших идеях», которые Сен-Симон почерпнул у своего ученика?
Почему? Да только потому, что с некоторых пор это стал утверждать сам Конт, а его последователи в дальнейшем лишь обыграли и приукрасили его доводы и аргументы.
В мае 1824 года также в частном письме Конта звучат уже совершенно иные мотивы.
Конт подчеркивает серьезный разлад между ним и Сен-Симоном. Оказывается, учитель — «нетерпимый эгоист, с которым может ужиться только посредственность», Сен-Симон «считает себя исключением из общих законов физиологии и думает, что для него лет не существует», а между тем ему бы давно пора отказаться от философии — в ней он ничего не может больше создать…
Конечно, здесь чувствуется обида: письмо относится ко времени истории с третьей тетрадью «Катехизиса промышленников», написанной Контом и встретившей некоторые возражения со стороны Сен-Симона. Автор письма не скрывает своих истинных чувств — уязвленного самолюбия, — подвинувших его на эти горькие упреки. Сам он в восторге от своего труда, тем более что многие лица высказались о нем весьма лестно…
И все же в конце письма есть строки, перекликающиеся с первым отзывом: «…Я, несомненно, умственно многим обязан Сен-Симону, поскольку он могущественно помог мне принять философское направление, теперь окончательно мною усвоенное…»
Следовательно, даже обида, даже чувство оскорбленного самолюбия не могут удержать молодого Конта от признания того, что он «многим обязан» человеку, который вывел его на избранный путь…
Но на этом справедливость Конта иссякает.
Отныне в его отзывах не будет ничего даже отдаленно напоминающего чувство благодарности: напротив, чем дальше, тем в большей степени станут звучать ожесточение, глухая, а затем и открытая ненависть к тому, перед кем юноша Конт когда-то благоговел.
Нет необходимости приводить все эти отзывы; вполне достаточно ограничиться одним, последним, сделанным в 1853 году. В предисловии к 3-му тому «Системы позитивной политики» Конт заявляет о «пагубной связи своей первой молодости с неким развратным жонглером…». Раньше он решительно отделял Сен-Симона от сен-симонистской школы и «жонглерами» называл последователей Анфантена; теперь, оказывается, «секта» во всех отношениях достойна кумира, которого сама себе сотворила. Эта «секта» явилась распространительницей басни, будто философия Конта получила толчок от идей Сен-Симона, «мнения более смешного, нежели гнусного». Если «энтузиазм юноши» когда-то заставил Конта «приписывать Сен-Симону все идеи, какие возникали у него самого», то теперь «иллюзия рассеялась», и Конт ставит своего бывшего «мэтра» ниже второстепенных публицистов — «он менее литературен, хотя настолько же лишен образования». Его «мимолетный блеск» создан исключительно «разнузданным шарлатанством, лишенным всякой истинной заслуги…».
Так, действительно, можно говорить только в последний раз, ибо дальше идти уже некуда.
Но в чем причина этого нарастающего ожесточения? Что заставило Конта отказаться от своих прежних признаний и ступить на путь ненависти и клеветы?
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно внимательнее присмотреться к основателю позитивизма, попытаться выяснить его нравственную физиономию.
В зрелые годы у Конта мало что осталось от юношеской сентиментальности и пылких чувств. Он как бы высох, наглухо затворившись в своей умственной келье. Его «мозговая гигиена» не была случайным явлением. Эгоцентрик, человек, проникнутый убеждением, что только он способен сказать решающее слово, Конт со злобой относился ко всем, кто перед ним не падал ниц. При этом сознание его постоянно омрачалось манией преследования, он в каждом видел врага, стремящегося украсть его мысли, его новые термины, а потом злорадно профанирующего их перед широкой публикой.
Конт не ценил преданности, хороших отношений, дружеских чувств. Достаточно ничтожной размолвки, малейшего подозрения — и он отвергал и топтал людей близких, многим жертвовавших ради него. «Конт был способен менять мнение о людях сообразно с чувствами, которые к ним испытывал», — с грустью замечал Литтре. Милль выразился еще яснее. По его мнению, Конт был несправедлив к Сен-Симону, «как и вообще ко всем, кто переставал ему нравиться». И Милль и Литтре на себе испытали изменчивость и несправедливость своего патрона.
И вот мыслителю подобного склада, углублявшемуся дальше и дальше в бесконечные пещеры своих систематизаций, приходилось постоянно помнить: «А ведь начал-то все другой!.. Ведь толчок (да и не только толчок) позитивной философии дал Сен-Симон!..» Впрочем, если бы Конт даже попытался это забыть, все равно ничего бы не вышло: сен-симонисты устно и письменно, на страницах своих журналов и в брошюрах, напоминали ему вновь и вновь: «Ты вор!.. Ты отступник!..»
Как же он мог пережить такое?
Как мог не отмстить тому, кто был невольным виновником всех его мучений?..
Пословица гласит: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав».
Конт в глубине души должен был чувствовать свою неправоту. И ему не оставалось ничего другого, кроме как сердиться. И он сердился. Ругал и поносил последними словами того, кому был обязан столь многим.
3) Да, многим. После рассмотренного выше нам не придется особенно долго доказывать читателю ату очевидную истину. И, возражая современным адвокатам Конта, пытающимся обосновать тезис о независимости построений своего подзащитного, мы возвратимся лишь к некоторым важнейшим схождениям в сен-симонизме и позитивизме, оперируя только материалами, приведенными в этой книге.
Прежде всего — само название системы Конта.
«Позитивизм»… Это понятие изобретено Сен-Симоном в период его раздумий о «Новой энциклопедии» (1807–1810 гг.). Именно тогда, противопоставив грядущие труды XIX века сделанному в век Просвещения, Сен-Симон подчеркнул положительный, позитивный характер новых наук по отношению к прежним, носившим критический, отрицающий, негативный характер.
Понятие «позитивизм» проходит в той или иной форме почти через все сочинения Сен-Симона. Точно так же как и «позитивная философия» — общая наука, над которой великий мечтатель размышлял еще со времени Люксембургской тюрьмы.
Конт много толкует об обстановке, в которой возник его позитивизм. Эта обстановка — всеобщий разброд и раскол, кризис человеческой мысли и самого человечества. Перед нами излюбленный тезис Сен-Симона, тезис о критическом состоянии европейского общества как основном результате продолжающейся революции.
Главная цель Конта — объединить человечество на почве позитивных наук. Но разве не эту же цель ставил перед собой Сен-Симон в период исканий 1802–1815 годов? Разве не этой идеей проникнуто уже первое его произведение «Письма женевского обывателя»?
Конт особенно гордился открытой им новой наукой — социологией, «социальной физикой», как он любил ее называть. Термин «социология» Сен-Симон не употреблял. Зато «социальная физика» — его выражение. И большую часть своей творческой жизни он отдал именно «социальной физике».
Говоря об обществе будущего, Конт устанавливает, что основными фигурами этого общества окажутся индустриал и ученый. К подобному выводу Сен-Симон пришел задолго до встречи с Контом. Так кто же у кого мог заимствовать этот вывод?..
Сказанного уже достаточно. Но главное впереди. Главным мерилом взаимосвязанности сен-симонизма и позитивизма являются классификация наук — главное философское достижение Конта — и закон трех стадий — его любимое детище.
Выше мы говорили о контовской классификации наук и о принципах, положенных в основу этой классификации. Следует заметить, что классификация наук Конта — это именно та часть его системы, которая особенно высоко оценивается в современной историографии. И в этом нет ничего удивительного. Классификация Конта была не только наиболее совершенной для своего времени, но и открывала путь многим подобным разработкам последующих авторов (Ампера, Сент-Илера, Спенсера и др.).
К сожалению, многие исследователи (причем не только контисты) забывают о том, что подлинным творцом этой классификации был не Конт, а… Сен-Симон.
В период своих раздумий об «общей науке» (1802–1813 гг.) Сен-Симон очень интересовался взаимосвязью различных наук. Именно тогда он выдвинул тезис о соответствии характера каждой науки самой природе явлений. Исходя из анализа различных явлений, Сен-Симон разделил все науки на четыре основных класса: астрономические, физические, химические и физиологические, причем, верный своему «физико-политическому» методу, учение об обществе он включил в понятие «физиологии». Математику Сен-Симон считал самой общей из наук, дающей материалы для построения всех других. Таким образом, у Сен-Симона сложилась вполне определенная последовательность в цепи наук: математика — астрономия — физика — химия — физиология.
Сравним ее с системой классификации Конта: математика — астрономия — физика — химия — биология — социология.
Мы видим различие только в последних звеньях: Конт разделил физиологию на биологию и социологию.
Конечно, это огромный шаг вперед, большое достижение Конта. И все же в целом нельзя отрицать существа основы классификации и подлинного ее автора.
К этому можно добавить следующее.
Давая свою классификацию, Сен-Симон объяснил еще один принцип, лежавший в ее основе. Этот принцип сводится к постепенному усложнению основы наук. Так, говорит Сен-Симон, человек прежде всего познакомился с астрономическими явлениями, поскольку они проще явлений химии или физиологии. Мы видели, что этот же принцип был положен в основу классификации Конта.
Переходим к закону трех стадий.
Сам Конт признается: он высоко оценил свой первый труд (третью тетрадь «Катехизиса промышленников») только потому, что там впервые изложен «великий философский закон» — закон трех стадий. «Этот основной закон, — утверждает Конт, — должен быть в настоящее время отправной точкой для всякого философского исследования о человеке и обществе». «Курс позитивной философии» Конт также в первую очередь посвящает «основному социологическому закону», стремясь теоретически обосновать его всеобъемлющее действие.
Столь же высоко оценили закон ученики и последователи Конта. «Именно это необъятное открытие, — пишет один из них,[45] — вызвало к жизни и окончательно установило социальную науку».
Однако Конт открыл свой закон только в 1822 году.
Между тем уже в «Письмах женевского обывателя» (1802), классифицируя науки в порядке их развития, Сен-Симон берет два понятия: «воображение» и «наблюдение». Одни науки, как астрономия или химия, говорит автор, уже вышли из стадии «воображения» и пришли к «наблюдению»; другие, например физиология, все еще пребывают в стадии «воображения». Сен-Симоном намечена и промежуточная стадия, когда человек смешивает факты наблюдаемые с воображаемыми и получает «элементарную галиматью».
По существу, перед нами ядро трех стадий.
Гораздо отчетливее та же мысль выражена Сен-Симоном в приведенной выше цитате из письма к Редерну. Напомним ее: «…мы находим, что и целое и части (науки) должны были сначала иметь характер предположительный, затем они должны были принять характер наполовину предположительный и наполовину позитивный, и, наконец, вся наука и части ее должны получить вполне позитивный характер».
Наконец, в «Очерке науки о человеке» (1813) Сен-Симон уточняет ранее сказанное и отчетливо выделяет две стадии умственного прогресса, одна из которых связана с «господством религиозной системы», другая — с «господством единого закона»; здесь же автор употребляет и термин «метафизические воззрения», характеризуя переходную эпоху.
Таким образом, за много лет до встречи с Контом Сен-Симон уже обнаружил все три компонента контовского закона и наметил связь между ними. Осталось дать общую формулировку.
Общую формулировку… Запомним эти слова.
А пока что завершим наши сопоставления удивительно точными словами Энгельса: «Конт все свои гениальные идеи заимствовал у Сен-Симона…» [46]
Думается, все приведенное выше является достаточно наглядной иллюстрацией к этим словам.
Мы подходим к самому основному, решающему, что отличает Сен-Симона от Конта. Это различие очень тонко отметил сам Сен-Симон в предисловии к третьей тетради «Катехизиса промышленников». Воздав хвалу своему ученику, предложившему «лучшее из всех когда-либо написанных» на эту тему произведений, учитель вместе с тем упрекает его за то, что «научную способность» он поставил выше «индустриальной и философской». Что значит «научная способность» и почему Сен-Симон противопоставляет ее «философской»? В другом месте этого же текста Сен-Симон называет «научную способность» «аристотелевской» и этим дает нам ключ в руки. Аристотель, великий философ древности, пользовался колоссальным авторитетом у средневековых схоластов и ученых-эрудитов XVII–XVIII веков главным образом как отец формальной логики. Если Сен-Симон, говоря об «аристотелевской способности», имел в виду именно данный аспект (а на это указывает сам факт противопоставления им «аристотелевской» и «философской» способностей), то приведенное выше замечание учителя на первый труд ученика приобретает весьма большую остроту. В целом оно принимает следующий вид: вместо того чтобы заниматься жизненными (индустриальными) и философскими проблемами, Конт основное внимание уделил формально-логическим построениям!..
В этом заключена суть проблемы.
Сен-симонизм и позитивизм произросли из общих (сен-симонистских) корней. Сен-Симон бросал новые мысли — Конт формулировал их. Сен-Симон давал направляющую идею — Конт загонял ее в оболочку логики. Сен-Симон гениально фантазировал — Конт строил систему. И постепенно, создавая бесчисленное количество логических ячеек и камер, Конт уверовал, что это и есть главное, что его систематизация и классификация вырастают в подлинную позитивную науку, грандиозную постройку, за бортом которой остается «безалаберный» Сен-Симон со всеми своими бессвязными мыслишками и потугами на оригинальность.
Пусть правильно поймет нас читатель: мы вовсе не хотим преуменьшать научных заслуг Конта. Без сомнения, позитивизм нельзя свести только к сен-симонизму: в философии Конта есть и оригинальные черты, выходящие за пределы мысли его учителя. Нельзя не признать также, что многие положения Конта сыграли важную роль в развитии естественных наук, в частности биологии. И, разумеется, не случайно Всемирный Совет Мира вынес решение, согласно которому прогрессивная общественность разных стран в 1957 году отмечала столетие со дня смерти Конта.[47] Все это, однако, выходит за рамки задачи, стоящей перед нами. Рассматривая здесь только проблему взаимосвязи позитивизма и сен-симонизма, мы еще раз подчеркнем: Сен-Симон не просто дал толчок научной мысли Конта, но и предложил ему почти в готовом виде все основные элементы его будущей философии. Конта же в отличие от Сен-Симона увлекал прежде всего сам процесс построения новой системы («аристотелевская способность»). В этом заключалось творческое своеобразие Конта. В этом была его сила, но и его слабость.
Чем выше росло здание позитивной философии, тем больше восхищался собою зодчий, тем горделивее презирал он все и вся, не умещавшееся в тесных пределах его логических камер. Но когда наступил момент завершения, когда строитель закончил свой труд и пожелал заглянуть внутрь, дабы узнать, что там, он с ужасом увидел: перегородки стоят на местах, камеры соответствуют заданным размерам, но за всем этим не обнаруживается главное.
Камеры и ячейки позитивизма были пустыми — системе Конта недоставало сердцевины.
И, поняв это, принципиальный враг религии обратился к богу.
Да, такова была горькая ирония судьбы Огюста Конта. Он жил чистой наукой. Он разошелся с Сен-Симоном, усмотрев религиозный крен в его учении. Он порвал с сен-симонистами, не желая признавать их церкви. И кончил тем, что, завершив логический круг своих построений, пришел, так же как и его соперники, к религии и церкви.
Последний шаг подготовлялся исподволь.
Уже в заключительных главах «Курса позитивной философии» Конт, признав индивидуального человека «пустой абстракцией», выдвигает понятие человечества в целом, которое рассматривается им как единый организм с единой умственной и нравственной организацией. Оставалось наделить этот организм единой душой, что Конт и проделал в «Системе позитивной политики».
Бог Конта — «Великое существо». Оно обладает внешним и внутренним единством. Внешнее, или объективное, единство выражается в солидарности всех людей, живущих на земле, обусловленной общими порядками внешнего мира. Внутреннее, субъективное единство, или душа, «Великого существа» образуется единством любви к нему всех индивидуальных душ, прошедших, настоящих и будущих. Каждый индивидуальный элемент «Великого существа», каждый человек проходит два последовательных существования: прижизненное, или объективное, когда он прямым, но преходящим образом служит «Великому существу», и посмертное, или субъективное — вечное, поскольку его служение пребывает в своих результатах, а сам он — в памяти потомства. Чем дальше развивается человечество, тем больше элементов переходит в субъективное, вечное существование и тем более живущее меньшинство должно подчиняться ушедшему большинству. «Мертвые управляют живыми», — резюмирует Конт. Иначе говоря, истинный прогресс состоит в том, что судьба живущих людей все более определяется высшею, совершенною и независимою от них волею…
Со свойственным ему педантизмом Конт занялся формальной стороной дела. Он продумал культ новой религии, разработал ее организацию и иерархию. И по мере углубления в детали он все отчетливее стал сближать свою религию с… католицизмом!
«Великое существо» Конт олицетворил в женщине-матери с ребенком на руках — подлинной христианской мадонне. Он заявил, что для отправления позитивного культа лучше всего подойдут католические храмы. И, наконец, попытался договориться о совместных действиях ни много ни мало как с передовым отрядом католической реакции — орденом иезуитов!..
Генерал ордена отверг проект Конта о «…религиозно-политическом союзе для искоренения протестантизма, дуализма и скептицизма и преобразования всего человечества на католическо-позитивных началах…».
Но это не обескуражило «первосвященника позитивизма», и только смерть пресекла его дальнейшие попытки к сближению с иезуитами.
Заканчивая экскурс в позитивную религию, мы не можем удержаться от сравнения, которое напрашивается само собой.
И Сен-Симон и Конт одинаково кончили тем, что обратились за помощью к богу.
Но если Сен-Симон полагал, будто религия поможет ему раскрепостить пролетария, то Конт, сближая новую церковь с официальной идеологией, заведомо шел в услужение к господствующему классу своей страны.
Это сопоставление тотчас же вызывает ряд других, и ими будет лучше всего завершить очерк о Конте.
Мы установили близость позитивизма и сен-симонизма, тесную генетическую и фактическую зависимость первого от второго. Казалось бы, позитивизм, более поздний по времени, должен был чем-то обогатить теорию Сен-Симона, сделать шаг вперед по сравнению с ней.
В действительности и в общефилософском плане, и в особенности в области социологии он делает шаг назад, и в этом легко убедиться, сравнив основные концепционные положения обеих систем.
Сен-Симон был дуалистом, но в его построениях — мы видели это постоянно — элементы материализма занимали весьма существенное место.
Конт, бывший идеалистом всегда, к концу жизни превратился в воинствующего идеалиста, призывавшего к искоренению не только скептицизма (читай: материализма), но даже и дуализма.
Сен-Симон рассматривал развитие общества как поступательное, эволюционное движение, закономерно прерываемое революциями; всю историю он делил на следующие друг за другом «органические» и «критические» эпохи.
Конт не был чужд идее развития, но понимал движение природы и общества исключительно как эволюционное, считая революции уродливым отклонением от нормы, приносящим только вред человечеству.
Сен-Симон выступал с позиций, враждебных буржуазному строю. Он стремился создать такое «индустриальное» общество, в котором было бы «максимально улучшено положение самого многочисленного и самого бедного класса».
Общественным идеалом Конта была гармония между классами, опирающаяся на буржуазный принцип «порядка и прогресса». «…Я убежден, — говорит Конт в 1848 году, — что позитивизм не замедлит быть призванным на помощь порядку, как единственная доктрина, способная выдержать грозный натиск всемирной анархии, которая все больше и больше сказывается в нашей стране».
Сен-симонисты, развивая мысль своего учителя, считали, что частная собственность на средства производства постепенно отомрет, а орудия производства будут распределяться в зависимости от способностей производящих членов общества.
Конт неоднократно подчеркивал, что частная собственность на орудия и средства производства является вечной, надысторической категорией.
Нельзя не согласиться со следующим утверждением: «Разрыв с сен-симонизмом принес социологии Конта непоправимый вред. В недавнем прошлом ближайший сотрудник и помощник Сен-Симона, остро критиковавшего и осуждавшего эксплуататорские отношения современного ему общества, Конт сделался апологетом этих отношений, активным защитником капиталистического строя».[48]
Сен-симонизм при всех своих слабостях, ошибках, заблуждениях, комических сторонах был теорией, звавшей к социализму.
Позитивизм Конта при всех своих строгих систематизациях, наукообразных разглагольствованиях, «смелых» мыслях и невероятных «откровениях» нес в себе прежде всего «узкое филистерское мировоззрение»[49] реакционной буржуазии, больше всего на свете озабоченной сохранением своего господства.
Факт этот сам по себе является лучшей оценкой позитивизма и наиболее справедливым приговором его создателю как социологу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитель умер раньше, чем создалась его школа.
Но духовно Сен-Симон пережил сен-симонизм.
Во весь свой рост певец индустриализма виден только с далекого расстояния — таков последний парадокс этой столь богатой парадоксами жизни.
Современники не поняли и не оценили его.
«…В нем видели только нечто вроде странного безумца, не знающего, как размотать свои деньги и свою жизнь…»
Он встречал «…лишь насмешки и неблагодарность; люди проходили мимо него с иронической улыбкой или просто отворачиваясь; ни единого одобрения, ни одного дружеского жеста…»
Таковы отзывы прессы в год смерти великого мыслителя.
В судьбе его особенно поражает: все боготворившие философа его же и предали; любимые им ученики приложили максимум стараний, чтобы исказить образ учителя и вызвать у потомков отвращение к памяти о нем.
Его первый ученик Тьерри собственноручно выдирал у сотен экземпляров своей книги титульный лист, на котором некогда подписался как «приемный сын Сен-Симона».
Его второй ученик, Конт, как мы видели, пошел много дальше. Восторженный почитатель, прежде расточавший неумеренные восторги в адрес Сен-Симона, кончил тем, что величал своего учителя «развратным жонглером». «Сердце и ум этой личности, — писал Конт, — точно обрисовываются в циничной характеристике, какую он сам дал своей жизни: он делил ее на две половины, одна из которых посвящалась покупке идей, другая — продаже их…»
Исходя из подобных оценок, Анфантен имел все основания называть Конта «новым Иудой», предавшим того, кому был обязан всем.
Впрочем, сам Анфантен, а вместе с ним и другие «правоверные» сен-симонисты причинили учителю не меньшее зло, чем ученики, от него отступившиеся.
Все биографы Сен-Симона единодушно жалуются на трудности, связанные с попытками восстановить жизненный путь социолога, и в первую очередь на отсутствие конкретных фактов, необходимых для биографии.
Эти жалобы справедливы. Фактов действительно не хватает. Их мало вообще и становится исчезающе мало по мере того, как от зрелых лет социолога мы переходим к его формированию, к юности и детским годам, столь важным для понимания его личности.
На первый взгляд это кажется странным. Анри Сен-Симон принадлежал к известному дворянскому роду. Жизнь подобных ему, проходя у всех на виду, всегда оставляла многочисленные следы не только в документах, но и в воспоминаниях, записках, мимоходом брошенных репликах современников. Даже если бы он и не стал знаменитым впоследствии, о нем должно было остаться много сведений. Возьмем, к примеру, современника Сен-Симона, такого же, как и он, аристократа, такого же, как и он, участника Американской войны, неоднократно упоминавшегося в этой книге герцога Лозена. Биограф[50] этого ловеласа, позднее неудавшегося генерала революции, сумел восстановить его жизнь если не день за днем, то, во всяком случае, год за годом. Не менее хорошо известна жизнь и деятельность кое-кого из родственников Анри, в частности его предка, герцога Луи де Сен-Симона.
А вот с ним самим дело обстоит совсем иначе.
Но почему же?..
…Быть может, именно потому, что впоследствии он стал слишком знаменитым. Он создал школу, ученики которой смотрели на него как на бога. И поэтому именно ученики сделали все для того, чтобы исказить образ своего бога в его прошлом. Бог должен быть благим. У бога не может быть отрицательных черт. Бог не может совершать необдуманных поступков. Бог должен быть окружен сиянием. Прошлое бога должно соответствовать будущему…
Понятно, при таком подходе все в прошлом, что не отвечало определенным канонам (а не отвечало им весьма многое), полностью отметалось и игнорировалось.
Поздний сен-симонизм не постоял в этом смысле даже перед прямым подлогом. Анфантен, готовя к печати сочинения учителя, вымарал из них все места, где Сен-Симон скептически отзывался о боге и церкви. Еще бы! Отцам новой церкви никак нельзя было допустить, чтобы ее идейный авторитет, пророк и даже бог мог оказаться маловером!..
Одним словом, ученики Сен-Симона навели такой «порядок» в его жизни, что вот уже больше столетия историки не могут в ней разобраться.
Действительно, вплоть до сего дня в мировой историографии не было сделано ни одной серьезной попытки создать научную биографию Сен-Симона.
Все, кто писал о нем, четко распадаются на две группы:
хулители, ненавидящие, враги
и
почитатели, обожающие, друзья.
Враги искони не жалели пыла и чернил, чтобы ославить ненавистного «жонглера». Чаще всего они и в глаза не видели сочинений Сен-Симона, но, черпая все из десятых рук, произносили свой приговор с твердостью неподкупных судий.
При этом, если одни из них, наиболее умеренные, только утверждали, будто в учении Сен-Симона «нет ни одной самостоятельной идеи», поскольку «все свои наиболее здравые мысли он почерпнул у Конта»,[51] то другие не останавливались и перед тем, чтобы, невероятно искажая жизненный путь философа и его взгляды, делать из него какое-то чудовище, превращать его этику и мораль в подлинный букет лицемерия и лжи. Оказывается, он и «хладнокровно спекулировал на общественных бедствиях», и, в качестве «позорного ренегата традиций XVIII века», «льстил каждой новой власти», и «прославлял теологическую реакцию», и добивался «союза капитала с интеллигенцией против невежественного и бедного класса».[52] Этой традиции следуют даже те из современных контистов, научный аппарат которых безукоризнен и которые всячески выставляют напоказ свою «объективность».[53] Находились, наконец, авторы не без остроумия сопоставлявшие Сен-Симона с Оуэном и Фурье, но имея одну только цель: доказать, что все трое одинаково «презирали лучшее в людях и потворствовали самым низменным страстям» в целях установления «всеобщего рабства».[54]
Для всех этих направлений, какими бы оттенками они ни отличались друг от друга, характерно нечто общее: они сваливают в одну кучу и Сен-Симона и сен-симонистов, чтобы, обыгрывая слабости и комические стороны последних, тем прочнее обесславить первого и взвалить на его плечи все вины, не имеющие к нему никакого отношения.[55]
Так и друзья философа, его верные почитатели и ученики, организаторы и члены сен-симонистской церкви в этом плане принесли только вред своему учителю.
Но еще больший вред принесли они Сен-Симону как авторы его жизнеописаний.
Агиография философа начала складываться сразу же после его смерти. Его энтузиасты-ученики наметили первые ее черты. Две ранние и считающиеся классическими биографии социолога были составлены при их прямом или косвенном участии. Первая, принадлежавшая перу Г. Юббара, была просмотрена Родригом (опубликована в 1857 году). Вторая, написанная Г. Фурнелем (1833), давшим наиболее подробную для своего времени библиографию сен-симонизма, целиком следовала устным традициям школы. Эти биографии похожи друг на друга, как две родные сестры. Им свойственны одни и те же тенденции, одни и те же авторские приемы. Обе они одинаково напыщенны и бесцветны, обе в равной степени проникнуты духом фатальности, обе почти не дают конкретного материала, зато переполнены вневременными анекдотическими подробностями. Они легли в основу большинства позднейших аналогичных работ; отсюда и очевидная скудость последних.
Известный перелом произвела лишь книга Леруа «Подлинная жизнь графа Анри де Сен-Симона», вышедшая в 1925 году.
Максим Леруа много лет занимался Сен-Симоном и его учением. Обожая своего героя, автор поставил целью поднять все материалы, способные пролить свет на его жизненный путь. Писатель обследовал различные архивы Франции, перекопал сотни досье и нашел много новых документов. Некоторые из них имеют непреложную ценность. Так, благодаря находкам Леруа мы узнали, что Сен-Симон лгал, когда в 1808 году пытался уверить, будто находился в стороне от Великой революции. Выяснилась его доля участия в событиях той бурной поры, обнаружились его настроения и мысли, от которых потом он так старательно пытался отречься…
И все же не следует переоценивать книгу Леруа. Прежде всего это не биография. Это скорее полемика, полная публицистического накала. Автор и не пытается связно изложить материал. Он озабочен другим. Как и всякий счастливый первооткрыватель, он стремится превознести найденное им, а заодно и зачеркнуть все то, что было сделано до него. В частности, он пытается свести на нет даже то немногое, по-настоящему ценное, что имеется в работах Юббара и Фурнеля. А потому, если в одном «подлинная жизнь» Сен-Симона несколько и проясняется, то в другом она затемняется еще больше, чем прежде. Кроме того, возражая против идеализации Сен-Симона в трудах своих предшественников, сам Леруа идеализирует его в еще большей степени, превращая утопического социалиста в основоположника чуть ли не всей современной социальной мысли.
Этим, кстати говоря, Максим Леруа вольно или невольно подыгрывает современным «первооткрывателям» Сен-Симона на Западе.
Да, сейчас вдруг о Сен-Симоне вновь вспомнили и заговорили. Правда, новых оригинальных биографий социалиста не появилось. Не найдено также каких-либо новых фактов, могущих заполнить старые пробелы. Но зато очень много толкуют о «переосмыслении» Сен-Симона; о том, что до сих пор его-де неправильно понимали и трактовали.
Особенно усердствуют в этом плане буржуазные идеологи за океаном.
Если одни из них представляют учение Сен-Симона в виде некой эклектической похлебки, находя в нем элементы социализма, финансового капитализма, технократизма и даже фашизма,[56] то другие — и таких большинство — вообще отказываются видеть социалистические черты в этом учении.
— Нет, — говорят нам сегодня, — не социализм, а народный капитализм провозгласил Сен-Симон!..[57] Именно он — подлинный основатель сайентизма, гениальный пророк постиндустриализма!..[58]
…«Сайентизм»… «постиндустриализм»… — новомодные словечки, которые прикрывают отнюдь не новую сущность. Стремясь всеми способами сгладить острые противоречия современного капиталистического общества, ослабить классовую борьбу, обновить идейные подпорки под колеблющимся зданием монополий, современные «сайентисты» лихорадочно ищут поддержку и обоснование своему «неокапитализму» в прошлом. И, вновь «открывая» Сен-Симона, они пытаются его сложную, многообразную и крайне противоречивую мысль втиснуть в прокрустово ложе своих надуманных концепций современного мира.
Подлинные место и роль Анри Сен-Симона как социолога и философа с предельной ясностью выявили в своих трудах великие основоположники научного коммунизма.
К. Маркс, досконально знавший труды Сен-Симона, относился к нему с большим вниманием и интересом. Выделяя его из числа других социалистов-утопистов и характеризуя его взгляды, Маркс подчеркивал, что на протяжении своей творческой жизни Сен-Симон не был одинаков, что, начав с прославления буржуазного общества в противовес феодальному, он в конце концов «выступил как выразитель интересов рабочего класса и объявил его эмансипацию конечной целью своих стремлений…».[59]
Чрезвычайно высоко ценил родоначальника утопического социализма и Ф. Энгельс, называвший его «самым универсальным умом своего времени».[60] Энгельс писал: «…у Сен-Симона мы встречаем гениальную широту взгляда, вследствие чего его воззрения содержат в зародыше почти все не строго экономические идеи позднейших социалистов».[61] Но и Энгельс подчеркивал противоречивость взглядов Сен-Симона, указывая, что у него «…рядом с пролетарским направлением сохраняло еще известное значение направление буржуазное».[62]
В. И. Ленин считал французский социализм, одним из родоначальников которого был Сен-Симон, входящим в число трех источников и трех составных частей марксизма.[63] Вместе с тем В. И. Ленин исключительно четко выявил историческую слабость утопического социализма:
«…Он критиковал капиталистическое общество, осуждал, проклинал его, мечтал об уничтожении его, фантазировал о лучшем строе, убеждал богатых в безнравственности эксплуатации.
Но утопический социализм не мог указать действительного выхода. Он не умел ни разъяснить сущность наемного рабства при капитализме, ни открыть законы его развития, ни найти ту общественную силу, которая способна стать творцом нового общества…»[64]
В этих словах — ключ к пониманию сущности сен-симонизма и исторической роли его основателя.
Идея социального равенства всегда привлекала человека.
Она прошла сквозь дым костров далекого средневековья в призывах Дольчино, Джона Болла и таборитов; ее провозглашали на заре нового времени Томас Мор и Кампанелла; о ней грезили лучшие представители просветительной философии предреволюционной Франции.
Сен-симонизм родился в новых условиях — в огне революций и первых побед буржуазии над феодализмом. Это и обусловило его отличия от прежних уравнительных теорий, его более углубленный и разносторонний характер.
Разумеется, весьма существенную роль играла и яркая индивидуальность основателя новой школы. Анри Сен-Симон вынес из жизни богатые и разнообразные впечатления, по-своему переработанные его творческим гением. Его пристальный взгляд на окружающий мир сумел где-то разорвать покровы над прошлым и будущим. Он оставил людям наследство, явившееся важным вкладом в сокровищницу нетленных идей.
Главное в учении Сен-Симона — последовательный детерминизм, признание всеобщей объективной закономерности и причинной обусловленности всех явлений природы и общества. Ни один мыслитель до Сен-Симона не смог выразить этот принцип с такой ясностью и полнотой, никто не сумел так ярко показать его всеобъемлющее значение. В этом смысле Сен-Симон далеко опередил не только рационалистов XVIII века, но и всех предшествующих творцов ранних коммунистических учений, равно как и социалистов-утопистов — своих современников.
Не случайно Ф. Энгельс ставил Сен-Симона на одну доску с Гегелем.[65] Французский социолог внес в свою философию элементы диалектики. Подчеркивая всеобщую взаимосвязь явлений и многообразную связь частного с целым, Сен-Симон высказывал догадку о единстве противоположных начал в природе. Характеризуя процесс движения как постоянную борьбу твердой и жидкой материи, он отмечал взаимозависимость покоя и изменчивости, устойчивости и подвижности.
С замечательной последовательностью использовал он все эти выводы при истолковании существа исторического процесса. На человеческое общество Сен-Симон смотрел как на закономерно развивающийся, целостный организм, который объединяет своих членов не только определенными философскими, религиозными и моральными принципами, но и общеполезной трудовой деятельностью, являющейся естественной необходимостью и обязанностью человека и создающей связь между людьми. Тем самым Сен-Симон заложил основы социологии.
Сен-Симон правильно подметил отсутствие непрерывности в прогрессе исторического развития; он указал на чередование эволюционного движения с революционным. В его социальной теории есть даже зародыш понимания классовой борьбы и ее роли в исторических переворотах; Ф. Энгельс обратил на это внимание, характеризуя первый труд философа.[66]
Сен-Симон высоко оценивал промышленное развитие своего времени и сулил «индустриализму» большое будущее. Однако абсолютно не правы нынешние идеологи империалистической буржуазии, называя великого философа «певцом капитализма». Сен-Симон понимал и критиковал отрицательные стороны буржуазного общества и стремился покончить с ними на основе последующего роста и расширения производства, причем будущее этого производства он представлял себе в общенациональном и даже мировом масштабе, чем, кстати говоря, его учение выгодно отличалось от современных ему систем Фурье и Оуэна.
Сен-Симон с гениальной прозорливостью предвидел, что в области экономических отношений в дальнейшем господство над людьми заменится господством над вещами. Аналогичный процесс, по его мнению, должен был произойти и в сфере политических отношений: государственная власть, все больше превращаясь в чисто административную, в конечном итоге была обречена на растворение в чисто общественной, организующей деятельности людей грядущей эпохи. Для этих последних великий мыслитель ставил основную конечную цель: максимальное улучшение жизни самого многочисленного и самого бедного класса.
Сен-Симон подошел к идее социализма.
Однако его социализм оставался утопическим, и учение его, несмотря на свои сильные стороны, было обречено на полную неудачу.
В основе этого лежит идеализм концепции Сен-Симона.
Действительно, основное содержание исторического процесса Сен-Симон видел в росте человеческих знаний, причем экономическое, хозяйственное развитие всегда мыслилось им как одно из проявлений развития интеллектуального. Трактуя прогресс человеческого общества, Сен-Симон полагал, что все эти закономерности являются лишь отражением прогресса человеческого разума. Каждая стадия в формировании общества, утверждал он, должна сначала возникнуть в голове мыслителя, который затем поведает ее человечеству и с помощью последнего добьется проведения в жизнь.
Одним из таких мыслителей, провозвестником фазы «индустриализма» Сен-Симон считал себя самого.
Именно поэтому он действовал с такой непоколебимой уверенностью. Именно поэтому без тени смущения прописывал он свои рецепты королям и смело становился в позу посредника между капиталистами и рабочими. И именно поэтому в конечном итоге его ожидал полный крах.
От пророка до бога всего только шаг; этот шаг был сделан учениками философа, и тогда социальное учение превратилось в религию.
Историческая судьба сен-симонизма вполне закономерна.
В первые десятилетия XIX века еще не сложилось условий для возникновения научного социализма.
Буржуазно-капиталистический строй еще только утверждался. Крупная промышленность едва зарождалась и не обнаруживала полностью всех присущих ей внутренних противоречий. Фабрично-заводской пролетариат, уже безмерно страдавший, не сознавал, однако, своих классовых целей и не был способен к самостоятельным политическим действиям.
Все это не могло не отразиться и на современных социалистических теориях: и сен-симонизм, и фурьеризм, и учение Оуэна были столь же незрелы, как и общество, в котором они создавались.
Сен-Симон и его ученики, выступавшие в начале XIX века с критикой буржуазных порядков и с обоснованием нового общественного идеала, не были способны раскрыть подлинные законы капиталистического мира и понять историческую роль пролетариата. Они видели в нем лишь обездоленную массу, невзгодам которой пытались помочь. Но ни Сен-Симон, ни сен-симонисты не могли распознать в рабочем классе ту общественную силу, которая была способна положить конец эксплуатации и новому рабству. Напротив, они полагали, что защищают интересы общества в целом, и поэтому стремились убедить богатых в необходимости преобразований, ставящих целью улучшить участь бедных. Они не сомневались, что можно добиться социальной гармонии, применяя только мирные средства и даже с помощью существующих правительств.
Разумеется, это были несбыточные надежды, и несбыточность их становилась более и более очевидной по мере того, как проходило время.
С развитием капитализма пролетариат все тверже становился на ноги и все решительнее отметал иллюзии, которыми его пытались усыпить.
В начале 30-х годов рабочий класс Франции на баррикадах Парижа и Лиона впервые показал свои исторические возможности.
И с этого времени звезда сен-симонистов закатилась.
Ненужные больше передовому человечеству, они ушли в замкнутую келейность религии и сектантства.
А пролетариат, отыскивающий свой путь в борьбе, нашел других учителей.
Ими стали Маркс и Энгельс.
Маркс и Энгельс открыли миру глаза на подлинный ход истории.
Они указали пролетариату на его великую миссию.
И на его грядущую диктатуру как на промежуточный этап на пути к коммунизму.
Они вывели великую идею из области мечтаний и подняли ее до уровня науки.
Но при этом они высоко оценили и мечтателей, своих предшественников, впервые указавших людям недоступные для себя горные выси социальных красот будущего.
Сен-симонизм как религия, как эталон практической деятельности давно и безвозвратно погиб.
Сен-Симон, извивы его необычной жизни, его героический поиск и его подлинные открытия всегда будут увлекать и навсегда останутся дороги человечеству.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ СЕН-СИМОНА И СЕН-СИМОНИСТСКОЙ ШКОЛЫ
1760, 17 октября — Родился Анри-Клод де Рувруа де Сен-Симон.
1773 — Домашним обучением Анри руководит Даламбер; за отказ от первого причастия Анри заключен в тюрьму Сен-Лазар; бегство из тюрьмы.
1775 (?) — Встреча с Руссо.
1777 — Анри зачисляется младшим лейтенантом в Туренский пехотный полк.
1779 — Отплытие за океан для участия в Американской войне за независимость.
1781, октябрь — Анри участвует в битве под Йорктауном, решившей исход войны.
1782 — Плен на Ямайке.
1783 — Анри в Мексике, пытается договориться с вице-королем о прорытии канала; возвращение во Францию.
1785–1786 — Сен-Симон в Нидерландах.
1787–1789 — Сен-Симон в Испании; попытка договориться о прорытии канала между Мадридом и морем.
1789, осень — При известии о начале революции Сен-Симон возвращается на родину и ведет просветительную деятельность среди крестьян в Пикардии.
1790, февраль — Официальный отказ от графского титула.
1790 — Заключение договора с Редерном о покупке и перепродаже «национальных имуществ». Начало земельных спекуляций Сен-Симона.
1791, июнь — Сен-Симон на короткое время занимает пост начальника Национальной гвардии Перонны.
1793, 19 декабря — Арест и заключение в тюрьму Сен-Пелажи.
1794, 9 октября — Освобождение из тюрьмы.
1795–1796 — Конец земельных спекуляций Сен-Симона и его «промышленные опыты»; открытие салона и встречи с политическими деятелями и учеными.
1797 — Ссора с Редерном и потеря состояния.
1797–1801 — Годы учебы Сен-Симона; встречи с философами и учеными.
1801, 1 августа — Сен-Симон женится на Александрине-Софи Гури де Шангрен.
1802 — Окончательное разорение Сен-Симона; развод с женой; путешествие по Швейцарии, Германии и Англии; начало литературной деятельности.
1803 — «Письма женевского обывателя».
1805–1812 — Годы нищеты и творчества.
1806 — Служба в ломбарде; встреча с Диаром.
1808 — «Введение в научные работы XIX века».
1810 — Проспект «Новой энциклопедии». Смерть Диара.
1811–1812 — Переписка с Редерном.
1812, осень — Болезнь Сен-Симона; жизнь в Перонне и в Париже.
1813 — «Очерк науки о человеке» и «Труд о всемирном тяготении».
1814 — Встреча с Тьерри. «О реорганизации европейского общества».
1815 — «О мерах против коалиции».
1815–1816 — Начало интереса к «индустриалам»; банкиры и промышленники — новые друзья Сен-Симона.
1817 — Встреча с Луниным; уход Тьерри и приход Конта.
1817–1818 — Сборник «Индустрия».
1819 — Сборник «Политик».
1819–1820 — Сборник «Организатор».
1820, март — апрель — Судебное разбирательство из-за «Параболы».
1821 — «Об индустриальной системе».
1822 — «О Бурбонах и Стюартах».
1823, 9 марта — Покушение на самоубийство.
1823–1824 — «Катехизис промышленников». «Рассуждения литературные, философские и промышленные». Разрыв с Контом; встреча с Родригом.
1825 — «Новое христианство».
1825, 19 мая — Смерть Сен-Симона. Начало сен-симонистской школы.
1825–1826 — Журнал «Производитель».
1829 — «Учение Сен-Симона. Изложение».
1829, 31 декабря — Провозглашение иерархии. Начало сен-симонистской церкви.
1830–1831 — Подъем пропагандистской деятельности сен-симонистов после июльской революции.
1831, осень — Начало упадка сен-симонизма; разрыв Базара с Анфантеном.
1832, апрель — Уход «избранных» в Менильмонтан.
1832, август — Процесс Анфантена и окончательный распад сен-симонистской церкви.
1864 — Смерть Анфантена. Официальный конец сен-симонизма.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии. Соч., т. 4.
К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология. Соч., т. 3.
Ф. Энгельс, Анти-Дюринг. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20.
Ф. Энгельс, Развитие социализма от утопии к науке. К. Маркс, и Ф. Энгельс. Соч., т. 19.
В. И. Ленин, Три источника и три составных части марксизма. Полн. собр. соч., т. 23.
В. И. Ленин, Карл Маркс. Полн. собр. соч., т. 26.
А. Сен-Симон, Избр. произв., тт. 1–2. М., 1948.
«Изложение учения Сен-Симона». М., 1961.
A. Аннекштейн (Арк. А-н), Анри де Сен-Симон, его жизнь и учение. М.—Л., 1926.
B. Ф. Асмус, Огюст Конт (1798–1857). «Вестник Академии наук СССР», 1957, № 9.
М. П. Баскин, О. Конт и его место в истории мировой культуры. «Вестник истории мировой культуры», 1957, № 6.
Р. Ю. Виппер, Социальная философия сен-симонизма. «Мир божий», 1901, № 12.
B. П. Волгин, Сен-Симон и сен-симонизм. М., 1961.
C. Вольский, Сен-Симон. М., 1935.
А. И. Герцен, Былое и думы, т. I (части 1–3). М., 1958.
Н. Е. Застенкер, Анри де Сен-Симон. История социалистических учений. М., 1962.
И. Иванов, Сен-Симон и сен-симонизм. М., 1901. («Ученые записки Московского университета», отделение Историко-филологического факультета, вып. 30.)
Б. М. Кедров, Огюст Конт и классификации естественных наук. «Вестник истории мировой культуры», 1957, № 6.
Н. П. Огарев, Частные письма об общем вопросе. Избранные социально-политические и философские произведения, т. I. М, 1952.
Г. В. Плеханов, К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Соч., т. VII. М.—Л., 1925.
Г. В. Плеханов, Французский утопический социализм. Соч., т. XVIII. М.—Л., 1925.
Н. Г. Чернышевский, Июльская монархия. Полн. собр. соч., т. VI, Спб., 1906.
Б. Н. Чичерин, Сен-Симон и его школа. «Вопросы философии и психологии», 1901, XI–XII.
Les oeuvres de Saint-Simon (oeuvres de Saint-Simon et d’Enfantin). P, 1868.1875, tt. XV–XL; rééd: 1966, tt: 1–6.
Saint-Simon, Oeuvres choisies, vol. I–III. Bruxelles, 1859.
Doctrine de Saint-Simon. Exposition. P, 1924.
P. Ansart, Saint-Simon. P., 1969.
P. Ansart, Sociologie de Saint-Simon. P., 1970.
H. R. d’Allemagne, Les saint-simoniens. 1827–1837. P., 1930.
E. Durkheim, Le socialisme, sa définition, ses débuts: la doctrine saint-simoniènne. P., 1928.
S. Charléty, Histoire du saint-simonisme (1825–1864). P., 1931.
H. Gоuhier, La jeunesse d’August Comte et la formation du positivisme. Т. II. Saint-Simon jusqu’à la Restauration. P., 1936. Т. III. Saint-Simon de 1814 à 1825. P., 1941.
G. Gurvitсh, Les fondateurs français de sociologie contemporaine, fasc. I: Saint-Simon sociologue. P., 1941.
G. Hubbard, Saint-Simon. Sa vie et ses travaux. P., 1857.
M. Leroy, Le socialisme des producteurs: Henri de Saint-Simon. P., 1924.
M. Leroy, La vie véritable du comte Henri de Saint-Simon. P., 1925.
F. Manuel, The New World of Henri Sen-Simon. Cambridge, 1956.
F. Manuel, The prophets of Paris. Cambridge, 1962.
F. Perroux, Saint-simonisme du XX siècle et création collective. P., 1964.
G. Weill, L’école saint-simoniènne, son histoire, son influence jusqu’à nos jours P., 1896.
G. Weill, Saint-Simon et son oeuvre. P., 1894.
Примечания
1
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 23.
(обратно)2
Три ливра середины XVIII века приблизительно соответствуют одному золотому рублю.
(обратно)3
В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 206–213.
(обратно)4
И. Гревс.
(обратно)5
Ж. Мишле.
(обратно)6
М. Леруа.
(обратно)7
Квакеры — религиозная секта, основанная в Англии в XVII веке и получившая затем широкое распространение в Северной Америке.
(обратно)8
М. J1 е р у а.
(обратно)9
Слово «маршал» (maréchal) по-французски означает также и «кузнец».
(обратно)10
Остров Гаити.
(обратно)11
На Гаити.
(обратно)12
На Мартинике.
(обратно)13
Крепость на острове Сан-Христофор.
(обратно)14
1782 года.
(обратно)15
Речь идет о матери Анри.
(обратно)16
Сен-Симон вспомнит о рабстве в Америке в одном из своих последних трудов в 1824 году: «Что касается Соединенных Штатов Америки, то в Виргинии и в других южных штатах еще держится рабство негров, а в северных штатах существует многочисленный класс людей, так называемых обязанных, которые в течение срока своей обязательной работы находятся в настоящем рабстве…»
(обратно)17
«Люди со шпорами», уроженцы Испании.
(обратно)18
Потомки испанцев, родившиеся в Мексике.
(обратно)19
Род ксилофона.
(обратно)20
Старинные песни.
(обратно)21
А. Гуйе.
(обратно)22
Г. Кавендиш (1731–1810) — английский физик, в 1784 году опубликовал труд, в котором определил воду как соединение кислорода и водорода и указал способ разложения воды.
(обратно)23
Месмер — врач-шарлатан, обладавший якобы силой «животного магнетизма», позволявшей исцелять людей и производить чудеса. Особенным успехом пользовался около 1784 года, позднее был разоблачен и покинул Париж.
(обратно)24
Штатгальтер — верховный правитель Нидерландов.
(обратно)25
М. Леруа датирует этот факт 20 сентября 1790 года. А. Гуйе относит его к более позднему времени.
(обратно)26
В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 32, стр. 216.
(обратно)27
Так называли представителей модничающей буржуазной молодежи.
(обратно)28
С 1795 года во Франции вместо ливров был введен счет на франки (франк равняется одному ливру).
(обратно)29
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 269.
(обратно)30
Отделение Географического общества.
(обратно)31
Так, например, Сен-Симон, продолжая линию своего «физицизма», ставят в основу «науки о человеке» «физиологические знания»; эта незрелая идея философа, волновавшая его много лет, в какой-то мере перекликается с современной буржуазной лженаукой — сциентизмом.
(обратно)32
Мы уже говорили в этом смысле о Вик-д’Азире, Бленвиле, Кабанисе, Дидро, Кондорсе и др. А. Гуйе увеличивает этот список, считая, что Сен-Симон много заимствовал у ряда второстепенных мыслителей своей эпохи, в том числе у Бональда, Шарля Конта, Дестюта де Траси, Шарля Дюнуайе. Однако доказательства Гуйе не всегда убедительны. Кроме того, все это говорит лишь о хорошем знакомстве философа с современной социальной мыслью — ни один из перечисленных писателей не ослабил оригинальности учения Сен-Симона.
(обратно)33
«Ни дня без строки» (латин.) — выражение это впервые встречается в «Естественной истории» Плиния Старшего (23–79).
(обратно)34
Старинные меры длины: ступня (англ. фут) — ок. 33 см. палец (англ. дюйм) — 1/12 ступни; следовательно, по официальным данным, рост Сен-Симона был приблизительно равен 1 м 80 см.
(обратно)35
Видимо, описка: рост преувеличен на 3 пальца (8 см). В этом случае рост Сен-Симона был бы равен почти 1 м 90 см.
(обратно)36
Год спустя правительство было вынуждено вновь открыть ее.
(обратно)37
По господствовавшей тогда теории французские аристократы были потомками франков, завоевавших Галлию в V–VI веках.
(обратно)38
Сравнивая в этом плане историю Франции и Англии, Сен-Симон приходит к выводу: «…Во Франции короли соединились с промышленниками против дворянства, в то время как в Англии дворяне соединились с промышленниками против королей…»
(обратно)39
Они были изданы в начале следующего года в сборнике «Рассуждения литературные, философские и промышленные».
(обратно)40
Младший сын известного деятеля Великой французской революции Лазаря Карно.
(обратно)41
Впоследствии он снял это посвящение.
(обратно)42
В начале XX века наблюдалась попытка возрождения школы в форме так называемого неосен-симонизма; участники движения даже попытались возобновить издание журнала «Производитель». Нечего и говорить, что, подобно многим другим неотечениям этого времени, неосен-симонизм не имел ничего общего со своим прототипом. Его основатели, лидеры высококвалифицированной буржуазной технической интеллигенции, стремясь создать идеологическую основу для урегулирования обостряющихся социальных конфликтов капиталистического общества, полностью отказались от элементов социализма, содержавшихся в учении Сен-Симона. Попытка эта была столь же беспочвенна, как и все выступления современных идеологов империалистической реакции, стремящихся представить Сен-Симона неким пророком и провидцем «организованного капитализма», «сайентизма» и т. п.; об этом смотри в заключении.
(обратно)43
Об этом смотри в заключении.
(обратно)44
В 1824 году Конт переиздал этот труд под заглавием «Система позитивной политики».
(обратно)45
Пьер Лаффит.
(обратно)46
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 39, стр. 327.
(обратно)47
Обо всем этом смотри в работах В. Асмуса, М. Баскина и Б. Кедрова, указанных в нашей библиографии.
(обратно)48
М. Баскин.
(обратно)49
Слова Ф. Энгельса. См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 39, стр. 327.
(обратно)50
Г. Могра.
(обратно)51
Э. Литтре.
(обратно)52
И. Робине.
(обратно)53
А. Гуйе.
(обратно)54
М. Рейбо.
(обратно)55
Этому смешению в какой-то мере, по-видимому, обязано и сравнительно слабое распространение сен-симонизма в России. Но, конечно, главное — «индустриальная» теория была совершенно чуждой русской действительности того времени и поэтому могла привлечь в какой-то мере лишь наиболее передовые слои интеллигенции. Сен-симонизмом увлекались Герцен и Огарев; Герцен оставил об этом проникновенные страницы в «Былом и думах». Впрочем, и Герцен позднее разочаровался в сен-симонистском учении, указывая на его «религиозную форму» как на явный упадок. Первая серьезная работа о Сен-Симоне и сен-симонизме была написана в России И. Ивановым в 1901 году.
(обратно)56
Ф. Манюэл.
(обратно)57
Д. Бернхейм.
(обратно)58
Д. Белл.
(обратно)59
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 25, ч. 2, стр. 154.
(обратно)60
Там же, т. 20, стр. 23.
(обратно)61
Там же, т. 19, стр. 196.
(обратно)62
Там же, т. 20, стр. 18.
(обратно)63
В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 40.
(обратно)64
Там же, стр. 46.
(обратно)65
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 23.
(обратно)66
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 269.
(обратно)
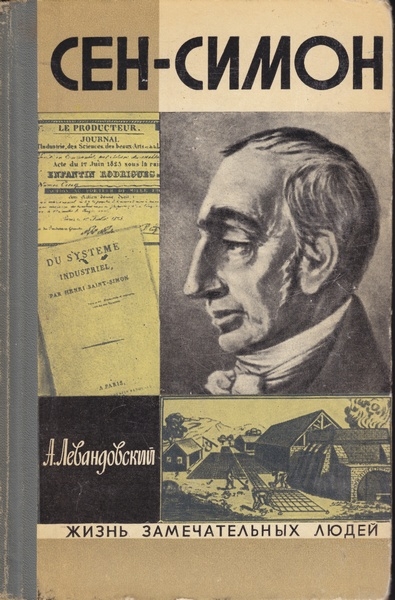


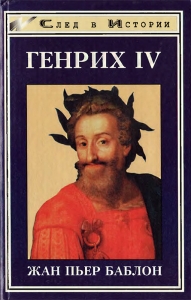

Комментарии к книге «Сен-Симон», Анатолий Петрович Левандовский
Всего 0 комментариев