Избранное
ПАМЯТЬ, ЛЮБОВЬ, И ТРЕВОГА
Один из рассказов Михаила Шевченко начинается так:
«У меня необычная чернильница. Это граната Ф-1, лимонкой ее называют. А похожа она больше на земной шар. Насечка ее — как меридианы и параллели Земли. По насечке и проходят границы разрыва, и каждая доля между меридианами и параллелями — смертоносный осколок.
Отлита моя лимонка незадолго до войны. Много лет назад я вывинтил из нее похожий на авторучку капсюль-взрыватель. А вместо, него вставляю авторучку».
И дело тут не в причуде, не в стремлении поразить оригинальностью своего рабочего «интерьера».
Необычная чернильница — память о погибших друзьях детства, которым посвящен рассказ «Граната». Друзья детства — испокон веков это сочетание слов как будто источало элегические воспоминания о счастливой, невозвратимой поре. В рассказах Михаила Шевченко на нем лежит отсвет военного пожара, и детские имена и прозвища возникают как бы в траурной рамке:
«Вместе мы окончили перед войной пятый класс. Вместе бегали в кино смотреть «Тимура и его команду». Вместе жарились на берегах Черной Калитвы и камышовыми удочками ловили в ней красноперок… И только праздновать конец войны мне пришлось одному…»
(«Граната».)«В ту метельную ночь Илюшка погиб»
(«Метельная ночь»).А то врывается в самое сердце обобщение! Герой повести Михаила Шевченко «Только бы одну весну» пишет отцу:
«…только на нашей улице — столько не вернется с войны!.. А сколько таких улиц в России!..»
Так случилось, что я никогда не бывал в родных краях Михаила Шевченко — на воронежской земле. Но поистине, сколько таких улиц в России, переживших вместе с нею неслыханные испытания, отдавших ей своих сыновей, вместе с нею пылавших в огне войны и потом встававших из развалин и пожарищ! И многое из того, что, как подпочвенные воды — реку, питает творчество автора этой книги, родственно и знакомо и мне, и многим другим читателям по собственному опыту, пусть даже приобретенному совсем в других селах и городах, на разных участках тогдашнего тысячекилометрового фронта.
Литературный путь Михаил Шевченко начинал со стихов. В его стихотворении «Оккупация» рассказано, как мальчик встречает свой день рождения за сочинением стихотворной листовки, которую собирается расклеить вместе с другом.
День рождения здесь не просто случайная дата: так и впрямь рождается поэт и, что, вероятно, важнее, — гражданин, борец, пусть еще неумелый во всех этих качествах, но отважный. Кстати, если обратить внимание на время создания стихотворений и басен, рассказов, повестей и литературных портретов Михаилом Шевченко, то увидишь, как крепнут эти качества, как высвечивается честная и добрая гражданская позиция писателя.
Герой уже названной повести, Игорь, старше автора на четыре года (сам Михаил Петрович Шевченко родился в 1929 году). Он почти мой ровесник, и, читая его так и не отосланные домой и отцу на фронт письма, ловишь себя на том, что строчки этого наивного мальчика-юноши воскрешают многое-многое в твоих собственных воспоминаниях и перекликаются с лучшим из того, что было создано нашей литературой в разгар войны и последующие десятилетия.
К тридцатилетию Победы журнал «Дружба народов» опубликовал выдержки из писем фронтовиков — студентов Литературного института имени Горького, куда через несколько лет после войны придет учиться Михаил Шевченко. Некоторые из авторов этих писем стали впоследствии известными литераторами, другим же не довелось дожить до победного часа, и, читая про шевченковского Игоря, я как бы слышу их голоса.
Есть в Игоре нечто кровно близкое и его сверстнику — лейтенанту Владимиру Антокольскому, безвременной гибели которого посвящена лучшая поэма его отца, и, скажем, сравнительно недавно «явившемуся на белый свет» чистому и трогательному Борису Костяеву из повести Виктора Астафьева «Пастух и пастушка».
Это — прекрасное родство! Но есть у Игоря родня и самая ближайшая, хотя, казалось бы, бесконечно отдаленная от него буквально всем — «местом, временем и обстоятельствами действия», выражаясь языком изящной словесности.
Речь идет о герое другого произведения писателя — «Кто ты на земле. Повесть о маленьком современнике».
Как ни светлы краски, которыми старался передать автор самую суть своего первого героя — молодого, романтически настроенного человека рубежа тридцатых — сороковых годов, война — да и не только война — густо подмешала в его портрет свои багрец и черноту, кровь и пепел.
По сравнению с этим неприхотливая вроде бы летопись жизни маленького Максима, при всех детских, а то и отнюдь не детских невзгодах, в ней случающихся, — конечно же сияющая, радостная акварель.
Однажды, когда уже отпраздновавшему свой первый «юбилей» — пять лет! — мальчику приходит запоздалая посылка от деда с бабушкой, он ликующе восклицает:
«Папа… ты думал, мой день рождения кончился? Нет! Он продолжается!..»
В известном смысле можно сказать, что и вся книга — это день рождения; может быть, надо сказать величавее, громогласнее, чуть ли не в библейском духе: день творения человека.
Его «творит» многое — весь окружающий мир: люди, книги, музыка, природа, звери, птицы…
Старый-престарый сказочный мотив: герой по дороге помогает то одному, то другому существу, а они потом в свою очередь «отдариваются» сторицей, выручая его из всяких бед и передряг, — в сущности, есть глубокое и доброе нравоучение о должном взаимоотношении человека с миром.
И маленький герой Шевченко уже начал эту свою дорогу. Он полон любопытства, интереса, доброжелательства ко всему, что встречает на своем пути, и в этом — залог его будущего. Не скажу по привычке: светлого, — мало ли как оборачивается жизнь! Но, во всяком случае, глубоко человечного.
Примечательный эпизод: радуясь устроенному ему в очередной (уже девятый!) день рождения, Максим говорит отцу: «Ты все хорошо придумал, папа. Но мне жаль, что у тебя не было ни одного такого дня рождения».
Это дорого стоит. Боюсь, что в своих, ныне преобладающих родительских хлопотах насчет сытого, уютного и беспечального времяпрепровождения наследников немногие сумели исподволь заронить в них драгоценнейшее зерно живого сочувствия ближним и дальним, сострадания, даже, если хотите, стеснительности какой-то перед лицом иной, менее удачливой и благополучной судьбы.
Тут начинает приоткрываться весьма существенная черта этой внешне столь простодушно-хроникальной книги, свидетельствующей о родстве с первой повестью писателя.
Человек, прочитавший рассказы Михаила Шевченко о его военном детстве, частично проведенном в оккупации, — «Граната» и «Метельная ночь», — легко сумеет поставить их в связь со скупыми обмолвками повествователя в книге о Максимке.
Рассказчик «Повести о маленьком современнике» — не просто нежный отец, но и человек, который своим живейшим и заинтересованным соучастием во всех делах, радостях и горестях ребенка как бы восполняет утраты, потери, известную ущербность собственного детства, когда, как сказано в «Гранате», его в иные дни, если следовать оккупационным «правилам», «могли расстрелять по меньшей мере четырежды», в том числе за самые самоотверженные и добрые поступки (скажем, за помощь пленным).
К тому же он еще и, не побоимся громких слов, наследник и продолжатель тех традиций воспитания, которые сделали Игоря — Игорем.
В неотосланных письмах этого героя есть эпизоды, в которых ясно ощутимо благодарное понимание всего, что как бы мимоходом, между прочим дал Игорю отец, открывавший сыну глаза на живую прелесть мира («…Остановись и погляди на облака над озером!.. видишь, кочка похожа на Голову из «Руслана и Людмилы»?»).
И вот этот-то огонек сочувствия, понимания, любви и человечнейшей печали как бы передается из поколения в поколение.
«…Ты бы мог больше», — мысленно обращается Игорь к отцу-бухгалтеру. Эта, может быть, все же и излишней определенностью выраженная мысль затаенно слышится и в воспоминаниях об отцовском увлечении фотографией:
«Сколько снимков! Сколько негативов! Ты их, наверное, никогда не напечатаешь все».
И та же мысль-чувство в самом наивно-трогательном, поистине детском, варианте порождает огорчение Максима, что у отца не было в детстве таких же праздников, как у него самого.
Так за смешными выходками и словечками героя возникают иные, более серьезные и мужественные темы. В союзе и взаимной тяге отца и сына угадываешь и воздействие определенных житейских обстоятельств, заставляющих обоих искать друг в друге опору и отраду, устанавливать между собой понимание и единомыслие по очень важным для каждого, хотя и целомудренно не называемым вслух, вопросам их ежедневного бытия (вспомним, что и Игорь «в письмах… которые он посылал домой и отцу в армию, о ранении и контузии, о болезни и тоске своей… не обмолвился ни единым словом»)!
Да, хорошо, что не «забоялся» писатель посвятить нас во все радости и тревоги своего отцовства.
Вообще почти все из написанного Михаилом Шевченко — откровенно, я бы даже сказал — обезоруживающе автобиографично. Пронзительно-искренней распахнутостью он может обычное интервью превратить в волнующий рассказ о материнской доле. Он не «отрекается» ради литературной условности от отца с его не прошедшей за десятилетия тоской по умнице Лорде («в тридцать третьем голодали не одни люди»; тут поистине: «То конь был — нет таких коней! Не конь, а человек»!), с его наивным и скупым рассказом о пережитых войнах («…бабьего крику хватало всю жизню…) и простодушным огорчением, почему это Мишка Кошевой не поверил Григорию Мелехову… Болит душа автора и за порушенную войной судьбу одинокой Груни, жаждущей ребенка («…знала б, для чего живу») богатыря-односельчанина Деда Поляка (он «умер от голода и холода по дороге в Сибирь…»).
Все эти люди входят в мир современников — и взрослых, и подрастающих.
Запоминаются шевченковские литературные портреты. Писателю повезло. Он встречался, а то и дружил с достойными людьми в литературе. Думаю, читатель посмотрит на них его глазами, полюбит его любовью.
«Избранное» Михаила Шевченко составляет небольшой том.
Но ведь главное — «как наше слово отзовется»! В одном из многих читательских писем о повести «Кто ты на земле» говорится:
«Часто нам, взрослым, некогда, и мы думаем: он пока ребенок, вот подрастет, тогда ему все расскажу. А потом вдруг спохватываемся: он вырос, и теперь ему некогда нас выслушивать, у него своя жизнь. И остаемся мы с невысказанной болью, как с камнем, «на всю оставшуюся жизнь».
Заронить в сердце человеческое эту благородную тревогу — значит сделать не так уж мало. Ведь сколько таких улиц в России, где делают свои первые шаги, задают свои первые недоуменные вопросы, совершают свои первые важные поступки наши «маленькие современники» и где — кто с надеждой и любовью, кто равнодушно и вяло — следят за этим разные люди, одинаково называющиеся — родители.
Сколько таких улиц! И сколько жизненных проблем!
В одном из стихотворений Михаил Шевченко вспоминает, что «в детстве был обманут ясным небом»: с него стали падать фугаски…
Понятная тень тревоги за судьбу «маленьких современников» и взрослых лежит на многих страницах этой книги («Вселенная стонет от гула летающих крепостей…»).
И когда в повести «Дорога через руины» двое людей, чья собственная молодость начиналась на развалинах и пепелищах, смотрят на спящего мальчика, мне слышится здесь звенящая и требовательная нота, которую я не умею выразить лучше, чем давними словами Николая Тихонова:
Все будущее в облике ребенка Стоит и просит защитить его.Андрей ТУРКОВ
ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ
ПОПУТЧИЦЫ
Поезд внезапно сбавил ход, вагон накренило, закачало, и я проснулся, уцепившись рукой за край полки, чтобы не грохнуться на пол.
Был третий час ночи. Вагон, едва освещенный тускло горевшей лампочкой, спал. Окно купе в дороге приоткрылось, и сырой холодный ветер, теребя занавеску, дул мне прямо в лицо; врывался железный шум движения поезда, а сквозь шум — тяжелые вздохи паровоза: он шел на подъем.
За окном чернела ноябрьская земля.
Поезд вошел в лес, темнота за окном сгустилась.
До Мичуринска, где мне предстояла пересадка, было далеко. Укладываясь поудобнее на жесткой полке, я собирался опять уснуть, когда уловил внизу, подо мной, разговор женщин.
— И ты, Настя, тож хоро-о-ша. Подруга называется, — медленно, беззлобно говорила одна. — Боялась познакомить. Съела б я твоего братца!
— Та я ж тебя познакомила, — возразила Настя.
— Ага! Уже когда я вас с чемоданами на улице побачила, уезжал он. Спасибо за такое знакомство… Шоб раньше зайти до нас? Посидели б… От он уехал, и все. Думаешь, чудачка, шукать я стала б его? Ни за шо! Он сном и родом ничего б не знал. Та и тебе и в рот бы не влезло, шо у меня твой племянник растет.
Помолчали. И снова:
— Грунь, а Федька-кондуктор?.. Он вроде б то и клин под тебя подбивает. Статный та хороший собою…
— Скажешь тож! Якими ж я очами его жинку встречу? Другое дело — брат твой: уехал, и все… Шо б ему сталося? А у меня б хлопчишко рос, знала б я, для чего живу. Тебе-то хорошо-о… У тебя целых трое…
— Ой, Грунечка, та и правда! Я про це и не подумала, — удрученно проговорила Настя. — А чуешь, он обещался на то лето… Я и не подумала.
— Не подумала… То-то и оно, шо не подумала, — по-прежнему беззлобно ответила Груня. И неожиданно тепло и ласково заключила: — А брат твой так на Гришу моего скидается — и русявый такой, и росту высокого, даже каблуки наружу стаптывает, в точности як Гриша…
Мне показалось, что Груня улыбнулась при этих словах.
Обе женщины, как и я, в поезд садились в Россоши; туда они, чтобы наверняка уехать, прибыли километров за пятнадцать с соседнего разъезда — на разъезде поезда хотя и останавливаются, но почти никогда не предоставляют мест для тамошних пассажиров.
Во время посадки женщины суетились, с грохотом двигали по тамбуру свои деревянные красные чемоданы. Настя была большегрудая веснушчатая толстуха, пуговицы ее железнодорожной шинели, казалось, вот-вот отлетят, а вся шинель разлезется по швам — так сильно она была натянута на тучной Настиной фигуре. Необычайная подвижность Насти вызывала удивление. Груня, наоборот, была сухощавая, с узким худым лицом, на котором выделялся длинный нос; одета она была в фуфайку и сапоги. Глядя на суетливость Насти, она растягивала в снисходительной улыбке полные губы, при этом открывалась щербина спереди в верхнем ряду зубов.
От окна сильнее тянуло холодом. Но я не шевелился, боясь прервать разговор.
Поезд между тем останавливался. По вагону, согнувшись под огромным полосатым узлом, не вмещавшимся в проходе, громыхая чайником, к тамбуру протискивался коренастый старик с запорожскими усами и сизым носом.
— Девчатушки-лапушки-и, побережи-ись, — будил пассажиров его бас.
Разбуженные люди с ворчливой готовностью убирали свисавшие в проход ноги — голые, в чулках, в носках домашней вязки.
Я осторожно приподнялся на локте и посмотрел вниз. Груня, не сняв ни сапог, ни фуфайки, лежала на спине, отвернувшись к стене и закинув руки за голову. Сквозь выбившиеся из-под косынки волосы розовела мочка уха, на покачивающейся серьге тускло вздрагивал отсвет лампочки. Настя, потупясь, сидела возле и пухлой, короткопалой ладонью то и дело сметала с подола юбки что-то невидимое.
Обе не замечали ни остановки поезда, ни веселого старика, ни меня.
Поезд постоял минуты две. Потом поплыли назад перрон с оголенным палисадником, вокзальчик, увешанный лозунгами, зевающий дежурный по станции в помятой шинели, с желтым фонарем в руке. Снова к поезду подступила темнота, застучали колеса, отдаваясь где-то в самом сердце.
В тамбуре хлопнула дверь, в служебное отделение прошла заспанная проводница.
— Шо ж, пора на покой, — сказала Груня.
— Ты извиняй меня, — ответила Настя. — Виновата я…
— Ничего ты не виноватая… Просто приходит мне в голову разное-подобное… — не сразу отозвалась Груня.
Настя ушла в соседнее купе. Там затрещала полка, послышалось кряхтенье, а вскоре — похрапывание.
За окном далеко-далеко всплыли огни. Они ринулись навстречу поезду, потом исчезли, и стало еще темнее.
Я спустился со своей верхотуры.
— Вам некуда притулиться? — не глядя на меня, сказала Груня. — Сидайте, я встану.
Она поднялась; одергивая юбку, отодвинулась в угол и начала поправлять волосы. Присев напротив, я хорошо видел и не узнавал ее. Грунины глаза, еще недавно холодноватые и грустные, скажи, будто кто заменил. Живые, с теплым отсветом лампочки, они хранили в себе только что высказанные ею мысли и делали близким и желанным ее похорошевшее лицо.
— Я помешал вам отдыхать, — сказал я.
— Не, ничего… Шось не спится, — ответила Груня.
— Надо бы поспать. Ехать небось далеко?
— Ехать до Ленинграду. С подругой захотели отпуск прокатать.
— Лучше бы с мужем, интереснее…
Она вскинула голову и долго смотрела на меня, точно догадываясь, что я подслушал разговор.
— Немае мужа.
— Что, и не были замужем?
— Як вам сказать…
Груня ответила не сразу. Она помолчала, вздохнула и вдруг заговорила с той откровенностью, с которой всегда говорят или с давно знакомым человеком, каким, видимо, была ей Настя, или только однажды, в дороге, со случайным попутчиком, когда ты уверена, что никогда с ним больше не увидишься.
— Як вам сказать, була я замужем чи ни… Гуляла я с одним парнем в сорок первом году, с Гришей Соловейковым. Наш, с разъезда, плотничал в колхозе. С полгода гуляли. В июне пожениться надумали. Батько и маты мои — суперечить, чересчур молода була я, семнадцатый годок шел всего-навсего. Та чи нас удержать!.. Свадьбу назначили на воскресенье. А оно такое выпало на мою долю — воскресенье. Була я в тот день и счастливая, и несчастная… Як же! Разом и свадьба, и прощание… В понедельник — от тебе повестка. А во вторник нацепил Гриша сумку на плечо, и проводила я его в Россошанский военкомат. В Россоши — товарный эшелон… Сидали мы вчера в поезд, я все-все припомнила. Уехал он, як в воду канул… От и понимайте, була я замужем чи ни… Вскорости принесли бумагу, шо Григорий Ефимович Соловейко — убитый под городом Могилевом. Товарищи его прописали. Через ту бумагу и сына не доносила до сроку, родила я его слабеньким… Умер… От тебе и замуж…
Груня замолчала и глядела в темноту за окном, будто вслушиваясь в железный шум поезда.
— Целые годы никто мне любый не був, — тихо продолжала Груня. — А сейчас за кого пойду? На разъезде у нас дворов полтораста. С каждого на войну брали мужиков. А с войны пришло четверо… За кого ж я пойду? Ровесников немае, побили, молодым я стара. Голова, бачите, в паутине… Оглянешься — девки сидят, никто их не берет. Кому ж я нужна? Який из нашего брата, простого железнодорожника, норовит на инженерше жениться, даром шо она постарше его годов на десять. А мне не за кем було учиться. Я стрелочница… Та и не хочу я подобного…
Поезд мчался мимо безвестного поселка. В степи железный шум и вздохи паровоза скрадывались пространством, среди строений они почти оглушали.
— Надоело одной, — железный шум не забивал голос Груни. — На работе, на людях забываешься, а придешь до дому… Рада, шо наморишься, скорее спать. Та не всегда обманешь себя… Хуже всего на праздники. Подчас нишо не милое. От в Ленинград еду, кой-чего из барахла купить. А на шо мне? Для кого надену его?
— А что, если вам на какую-нибудь большую стройку податься? Там множество людей, там легче встретить человека по своим годам, — сбивчиво посоветовал я.
— Оно-то так. Та у меня маты стара. Под восемьдесят уже. На кого ее бросить? И батька, и трех братов тож война сгубила…
Груня вздохнула.
— А шо, кажете, по годам найти, то не иначе вдовца с детями. А оно… оно своих хочется…
— Грязи! — объявила заспанная проводница. — Кому нужны Грязи?
Купе через два от нас молодая женщина в темном демисезонном пальто присела на корточки перед девочкой лет четырех-пяти.
— Мы сходим в Грязях, — говорила она, застегивая на девочке серую заячью шубку.
Полусонный ребенок еле держался на ногах, валился на плечо матери.
— Проснись, Сима, — женщина легонько шлепала девочку по подбородку. — Ну, проснись. Сейчас папка нас встретит.
Застегнув шубку, женщина поднялась, достала из-за обшлага пальто зеркальце и посмотрелась в него.
— Пойдем к выходу. — Она взяла девочку за руку. — Ступай вперед.
Когда мать и дочка поравнялись с нами, ноздри у Груни задрожали, глаза заблестели, она часто-часто заморгала ими, отпрянула в угол и отвернулась к окну.
Я вышел в тамбур и закурил.
Женщину и девочку встретил милицейский капитан. Он взял Симу с площадки тамбура на руки, помог сойти женщине и понес дочку к вокзалу. Жена с баулом шла сзади и снова посмотрелась в зеркало.
Когда я вернулся в вагон, Настя по-прежнему похрапывала, а Груня лежала на полке, поджав ноги, накрыв голову платком. До Мичуринска она не шевельнулась. Может, уснула.
На рассвете небо затянули тяжелые тучи. Запыленное стекло рябили дождевые капли.
1955
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ТРАМВАЙ
Я хочу рассказать об одном случае из моей запоздалой молодости. Знаете, бывает такое желание — непременно рассказать…
Так вот, то было раннею весной, как это поется, лет тридцать с гаком тому назад. Да с хоро-о-ошим гаком… Тогда я приехал в Москву, на первый курс Тимирязевки. Места в общежитии мне не досталось, и я снял угол у одной старухи, недалеко от Земляного вала. Существовал на небольшую стипендию да пульманы разгружал на Курском вокзале… Жилось туговато, но все-таки лучшего времени в моей жизни уже не было. Несмотря на свои двадцать семь лет (учиться я начал поздно), был я страшным романтиком. Да, по сути дела, и остался им… Я повсюду искал чистоты и совершенства. А любовь, разумеется, ставил на самый высокий пьедестал.
Так вот. В ту пору, будучи первокурсником, ехал я однажды к своему товарищу, Володе Родникову. Между прочим, как точно иногда подходит человеку фамилия! Володя и в самом деле родниковой души был парень. И по взглядам на любовь мы с ним были единомышленники. Он закончил Тимирязевку и с шуткой уехал из Москвы: еду, дескать, в Полесье искать свою Олесю… Вы, конечно, помните купринский рассказ!.. Убили гитлеровцы одареннейшего агронома Родникова. Партизаны Белоруссии помнят его…
Так вот, качу я на трамвае номер четырнадцать к Володе в Лефортово. Это, знаете, возле Немецкого рынка. Стою на передней площадке и читаю книгу, «Вешние воды» Тургенева… Тогда столица приобретала славную привычку — читать в метро, троллейбусе… И в этом я походил на заправского москвича.
Ну, значит, еду. И вот трамвай остановился на Разгуляе, и в вагон вбежала девушка лет девятнадцати. Торопливо простучала каблучками по тротуару и легко взлетела по ступенькам вагона.
Я сразу увидел ее… Я тут же понял, что давно ждал ее… Как сейчас вижу: держа в левой руке сумочку, она повернулась к кондукторше и протянула правую за билетом; голова ее немного запрокинута, — казалось, от тяжести длинных кос; губы приоткрыты, она часто дышит, — видимо, девушка долго бежала, чтобы непременно поспеть на этот трамвай. Взяла билет. Прошла к единственному свободному месту у передней площадки, откинула полу пальто, села, достала из сумочки книжку и собралась читать. Еще когда она стояла возле кондукторши, я мысленно встал рядышком — она была чуть выше моего плеча…
Про свою книгу я забыл. Я смотрел на нее. Смотрел так, что она почувствовала мой взгляд и подняла глаза… За всю жизнь я уже не видел таких глаз. Темно-карие, почти под цвет ее темных волос, в густых, загнутых до самых бровей ресницах, большие, они казались еще большими, оттененные коричневатостью под ними. Ее глаза выражали и неподдельную скромность, и сознание своего достоинства, и девичью наивность, и внезапно поражающую нас, мужчин, женскую мудрость. Взглянув, она не могла не понять меня…
Она еще ниже склонилась над книгой. Но прошло минут… Впрочем, не знаю, сколько прошло времени, а она не перевернула ни одного листка. Она не читала. Увидела, что я догадался об этом, и смутилась.
Мы долго молча глядели друг на друга. Я был раскрыт перед ней, как книга в ее руках. Она поняла это и покраснела. И мне вспомнились лермонтовские стихи: она была прекрасна, как мечта…
Так вот, так мы и ехали. Она то поднимала на меня глаза, то опускала их, а я, не отрываясь, глядел на нее. И думал. О себе думал, об всей своей жизни… Я ведь мог понравиться ей. Без ложной скромности, тогда я был весьма недурен собой. В академии меня считали серьезным человеком. И я уже был в будущем: я получаю диплом, мы с ней едем на юг родной России, украшаем его лесами; я пишу книгу о восстановлении лесов и посвящаю эту книгу ей — ведь все прекрасное в жизни сделано благодаря ей…
Когда я вернулся из будущего на переднюю площадку трамвая и посмотрел в окно, я понял, что проехал и Лефортово, и Чешихинский переулок и еду там, где никогда не бывал. «А Володька ждет меня, чтобы вместе писать доклад к профсоюзному собранию», — подумала шальная моя головушка.
На очередной остановке, не помню ее названия, я вдруг сказал девушке: «Из-за вас я так далеко укатил…»
К ней повернулся весь вагон. Лицо ее вспыхнуло. Я прыгнул с подножки. И понимаете, едва прозвенел звонок и лязгнули колеса, едва проплыл в окне, как в портретной раме, ее профиль, едва я сообразил, что трамвай уходит, я чуть не закричал в отчаянии: «Зачем же я вышел! Мне надо быть с ней!» В последнюю минуту, кажется, она тоже хотела что-то сказать, она даже привстала.
Но было поздно. Трамвай завизжал, скрываясь за поворотом. «Почему я не заговорил с ней? Зачем я вышел — писать никому не нужный скучный доклад?.. Нет, надо догнать ее, все объяснить!..»
Дождавшись попутного трамвая, я проехал до конца маршрута. Ее нигде не было.
К Родникову в тот вечер я не попал. И ничего страшного, конечно, не случилось. Володя написал доклад. И все было преотлично. А я… я долго бродил по Москве…
Потом я много раз садился на четырнадцатый трамвай и проезжал по всему маршруту, из конца в конец. Но ее нигде не находил.
Шли годы. Второй, третий, четвертый курс… Я знал наизусть маршрут четырнадцатого трамвая. В день получения диплома я прошел пешком по его маршруту. Днями я ездил, бродил по улицам Москвы, по музеям, ходил в театры… Но ее так и не встретил…
В войну тоже ждал нечаянной встречи с ней. Война ведь столько людей сдвинула с мест. Но нет!..
Года четыре назад довелось снова быть в Москве. Пенсию хлопотать ездил. Конечно же побывал у Земляного вала. Прошел до Разгуляя. Теперь там, по улице Чернышевского, троллейбусное движение. Четырнадцатого трамвая и в помине нет. Постоял я на Разгуляе, повспоминал… Где-то она?..
Вот вам и мой рассказ. Все это может показаться несущественным. Но, понимаете, последнее время, не знаю — почему, все чаще вспоминаю этот случай… И опять весна. Недалек день, когда глухарей будем слушать. Жду не дождусь… Считанные весны в запасе у меня, старого глухаря…
1957
МЕТЕЛЬНАЯ НОЧЬ
Женька осталась одна.
Кутаясь в бабушкину фуфайку, рукава которой свисали до колен, она расхаживала по комнате. Было холодно: окно покрылось наростами льда.
«Почему бабушка не может посидеть дома? — думала Женька. — Утром же привезла она этого перегара. И опять — за ним!» Женька даже себе боялась признаться, что ей страшно без бабушки.
Последнее время, когда не стало дров, Варвара Васильевна целыми днями торчала с Женькиными санками на станции, у немецкой пекарни; из шлака, который выбрасывали немцы, она отбирала неперегоревшие куски. К пекарне она отправлялась как на работу, в одни и те же часы; отправляясь, приказывала Женьке никуда не уходить из дому.
Неузнаваема стала Варвара Васильевна. Началось с памятного второго дня войны, когда Женькиного отца, бабушкиного зятя, плечистого рыжеватого плотника Ивана Кобзаря, провожали на фронт. У Кобзарей на всяких празднествах всегда пели. А в тот день, крепко подвыпив, пели особенно много и как-то неистово, одну песню за другой… И как всегда, верховодила бабушка. Все пели, сидя за столом, а она, большая, с короной седых волос, стояла над всеми, раскинув руки. Женьке казалось, что бабушка руками поднимала высоко высоко свой голос.
Может, и пропели бы до утра, если бы не странный случай с бабушкой. Стала запевать она свою любимую украинскую «Из-за горы-горы та буйный витэр вие». И уже встрепенулись бабушкины брови, дав знак приготовиться всем к подхвату песни, уже взлетели руки, чтобы свести хор воедино, как вдруг голос ее оборвался…
«Ой, та який же буйный витэр повияв на нас!» — вскрикнула она и, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты. Напрасно допытывались у нее, что стряслось. Уткнувшись в руки, она молча лежала на погребице, пока все не разошлись. Никто не узнал, что произошло простое. Во время пения Варвара Васильевна увидела, как дочь ее, Нюра, Женькина мать, стояла у печки и бледная, растерянно покусывала кончик фартука, а Женька вертелась возле раскрасневшегося от жары и водки отца и прижималась к его груди своей льняной, с косичками, головкой. Точно так же глядела она, Варвара Васильевна, в августе четырнадцатого года последний раз на своего Семена, а маленькая Нюра терлась у его колен.
Спустя три месяца со дня проводов бабушка снова лежала на погребице. В дом Кобзарей пришла бумага о гибели Женькиного отца под городом Гомелем, и бабушка припомнила похоронную на своего Семена в октябре того же четырнадцатого года.
А через неделю, в первую же бомбежку, убило Женькину мать. Две немецкие бомбы угодили в железнодорожный клуб, а мать работала там уборщицей. Бабушка и заведующий клубом, сухонький желтолицый человек, которого она называла сердечником, искали мать среди пахнущих взрывчаткой развалин, но так и не нашли…
Странной с тех пор стала Варвара Васильевна. Она почти не разговаривала. Лишь иногда внезапно брала Женьку за плечи, притягивала к себе и подолгу смотрела ей в глаза — смотрела так, что Женьке становилось страшно. А последнее время она целыми днями таскала уголь…
Во дворе, возле сеней, заскрипели шаги. Потом пискнула дверь, и в сенях кто-то начал отряхиваться. «Вернулась!» — с радостью подумала Женька, вскочила на кровать и, натянув на голову фуфайку, упала на подушку и притворилась спящей. Ей нравилось, когда бабушка, поверив, что Женька спит, гладила ее рукой по голове, поправляла фуфайку, а то и укрывала одеялом и, довольная, тихо усаживалась рядом, как это когда-то делала мать…
Звякнула щеколда; в облаке холодного воздуха вместо бабушки показался мальчишка. Проворно захлопнув за собой дверь, он снял варежки и, нагнувшись, стал сбивать ими с ботинок снег.
Женька выглянула из-под фуфайки.
— Ой, я думала — бабушка!.. Где ты пропадал столько, Илюш? Раздевайся! — Она спрыгнула с кровати, закатала рукава фуфайки и начала расстегивать пуговицы Илюшкиного пальто, сшитого из байкового красноармейского одеяла.
Илюшка Евсюков был единственным сыном рано овдовевшей железнодорожной проводницы, жившей на соседней улице. Женька училась с ним в одной школе. До оккупации они успели закончить шестой класс. Начитавшись книжек, хотели удрать из дому в поисках неизведанных земель; в один день их разоблачили: Илюшку — по бельевой веревке, которую он стащил у матери для связывания плота, а Женьку — по большой сумке сухарей, обнаруженной бабушкой на чердаке. Ох и попало ж им тогда!..
Горечь неудачного побега помог им забыть гайдаровский Тимур. Они, как Тимур, сколотили команду и охраняли соседские сады. Женькино имя счастливо совпадало с именем героини гайдаровской повести, и Илюшка втайне завидовал ей и жалел, что его зовут не Тимуром…
Уже во время войны Илюшка однажды исчез из города. Женька, потрясенная гибелью отца и матери и странной молчаливостью бабушки, внезапно поняла, что она одна-одинешенька.
Бродя по улицам, Женька часто, сама того не замечая, оказывалась у Илюшкиной хаты и с отчаянием вспоминала, что она не найдет его там. В те дни Женька сняла со стены школьный снимок, на котором между Илюшкой и Женькой примостилась вертлявая хвастунья Ритка Недосекина, и спрятала его в свой альбом. Снимок сделался ее тайной. Женька подолгу рассматривала его, когда бабушка куда-либо уходила из дому.
Перед самой оккупацией, душным июльским днем сорок второго года, Илюшку привел домой пожилой усатый лейтенант в полинявшей гимнастерке, сдал его матери и сказал, что, мол, Красная Армия пока обойдется без таких «шпингалетов».
А когда город заняли оккупанты, немецкий комендант приказал всем жителям, начиная с двенадцатилетних, явиться на биржу труда; за неисполнение приказа — расстрел. Илюшке было четырнадцать. Отправили его на аэродром, километров за пять от города; там он колол дрова для кухни, таскал уголь, мыл посуду. Домой добирался поздно, падал, едва раздевшись, на кровать и тотчас засыпал, чтобы с зарей быть уже на ногах.
Женька редко видела Илюшку и очень обрадовалась его приходу.
— Есть хочешь? Раздевайся! — тормошила она его.
— Некогда, Жень. Я по делу, — заговорил Илюшка, застегиваясь. — Вчера фрицы привезли на кухню машину книжек. Думаешь, зачем?.. Дров не хватает, они и топят ими, скоты. И знаешь, откуда книжки? Из нашей библиотеки. Школьной! Я по штампику узнал. Помнишь, треугольничек такой? В начале и на семнадцатой странице ставили?..
Женька всматривалась в Илюшку и с трудом улавливала смысл его слов. Каким он стал, Илюшка!.. Худющее лицо обветрено, глаза ввалились, шея тонкая, как она только держит его большую курчавую голову.
— И знаешь, Жень, что я придумал? Давай из библиотеки перетаскивать книжки к нам! А то фрицы их все попалят. Хочешь, айда сейчас? Вдвоем больше перетащим. Мешки — вот они!..
Илюшка похлопал себя по груди.
— Ой, ну конечно. Сейчас же айда! Сейчас же! — затараторила Женька, еще не совсем понимая, на что соглашается. — А как же бабушка?.. — спохватилась она вдруг.
Женька хотела было уже отказаться, но неожиданно для себя решилась: «А-а, успеем, обернемся, она и не узнает!..»
Срывался мохнатый снег. Ветер продувал сквозь платок и чулки. Женька вздрагивала. Шли по Кузнечной улице. Чем ближе подходили к школе, тем напряженнее Женька озиралась. Ей казалось, что любой встречный мог догадаться, куда и зачем они идут.
Школа была рядом с железнодорожным вокзалом. В нижнем полуподвальном этаже размещались шестой класс и библиотека. Их соединял длинный коридор. Одно окно библиотеки выходило в привокзальный сквер. Через это окно ребята и решили пробраться к книгам.
— Оно и открывается лучше других, — сказал Илюшка. Он его осмотрел накануне.
Усиливался ветер. Затевалась метель. Илюшка и Женька ползли через сквер. Неожиданно к школе подкатил грузовик. Из кузова выпрыгнуло с десяток немцев. Толкаясь и галдя, они побежали мимо часового в парадную дверь.
Женька невольно сжалась.
— Принесло же их! — проворчал Илюшка. — В нашем классе живут…
Минут через десять Илюшка и Женька были у окна. Прислушиваясь, Илюшка осторожно растворил его и спустился в комнату; Женька — следом.
В библиотеке было холодно и сыро. Из пяти стеллажей уцелел один. Затянутый паутиной, он был прижат горой книг в угол, и немцы, видимо, ленились вытаскивать его.
Илюшка достал из-за пазухи армейские вещмешки, молча бросил один Женьке и, опустившись на колени, стал перебирать книжки.
Женька стояла не двигаясь. Как переменилась эта знакомая, почти родная комната! Ничто не напоминало о тишине, чистоте и свете ее, как будто никогда и не сидела здесь за столиком с читательской картотекой, будто и не ходила меж стеллажей Ирина Ивановна, маленькая добрая горбатая женщина. В этих жестоко разбросанных по полу книжках была все ее жизнь. Где она теперь? Женька подняла с полу зачитанный томик сказок Пушкина. На титульном листе внизу синела чернильная отпечатка: «Неполная средняя школа № 24».
Родная школа!.. Давно ли она гудела от ребячьих голосов! Давно ли Ирина Ивановна приглашала шестиклассников помочь ей перетирать книги? Как-то среди приглашенных был и Илюшка… Какое это счастье — рассматривать книжки, бережно перекладывать их с полки на полку!.. Кто-то предложил игру: каждый берет книжку и все честно говорят, читали ее или нет. Кто больше прочитал?.. Илюшка всех опередил. Женька была второй. Тогда она была так рада этому! И сейчас, всматриваясь в сосредоточенное лицо Илюшки, Женька ждала, что и он вспомнит ту игру…
— Где теперь Ирина Ивановна!.. Не знаешь, Илюш?
Илюшка не ответил. Он вскочил с коленей, резко схватил Женьку за плечо и толкнул в угол, за стеллаж. Туда же бросил мешки и юркнул сам. Женька не слышала, как загудел коридор от грохота сапог, и поняла, в чем дело, только тогда, когда дверь библиотеки распахнулась и на пороге показался немец. Высоченный и голенастый, с узкой впалой грудью… «Прямо Паганель», — подумала Женька. В руках у него была большая корзина из-под овощей; рукава кителя были закатаны: вероятно, он стряпал. Переступив порог, немец швырнул корзину на книжки, засвистел и направился к книжной горе, ловко поддевая носками сапог разбросанные по полу томики. Они с шелестом падали у самого стеллажа.
Из класса доносились галдеж и смех.
Немец начал было набрасывать в корзину книги, но вдруг перестал свистеть, повернулся к окну и уставился на него, полураскрыв рот. Немец, видимо, знал, что окно всегда было затворено, и почуял неладное.
Ребята сидели не шелохнувшись. Сердце у Женьки колотилось так, что она отчетливо слышала его стук и с ужасом думала, что стук может их выдать.
Немец настороженно оглядел комнату, пожал плечами, чихнул и подошел к окну.
— О, ферфлюкте винд! — пробормотал он. С минуту постоял, прислушиваясь. Потом затворил окно, снова засвистел и стал бросать книжки в корзину.
Когда немец сказал «проклятый ветер» и затворил окно, Илюшка неслышно глубоко вздохнул.
Наконец, взяв нагруженную корзину, немец ушел. Коридор прогудел и затих.
— Сиди пока. Я один наберу, — шепнул Илюшка и выбрался из-под стеллажа.
«Не-ет, это не Паганель…» — подумала Женька о немце и, привстав, почувствовала, как подламываются ноги. В руке был зажат пушкинский томик.
Женька торопливо сунула его за пазуху.
Смеркалось, когда они вылезли из библиотеки. Валил густой снег. Они быстро переползли сквер, пересекли привокзальную площадь и, минуя двор бывшей конторы Сельхозснаба, вскоре добрались до заснеженных задов.
— Фф-у, ну теперь можно и не спешить. — Илюшка, идя впереди, обернулся и тихо засмеялся. — Струсила, когда он вперся? А вообще ты молодец… Только окна за собой закрывать надо.
Женька смущенно улыбнулась. Она еще не совсем опомнилась от пережитой опасности, но спокойствие Илюшки передавалось и ей. Уходил страх, шагать по глубокому снегу становилось легче; даже лямка тяжелого вещмешка не так больно врезалась в плечо.
Остановились передохнуть в молодом вишняке. Присели на мешки.
— А книжки знаешь какие несем? Фф-у, жара! — заговорил Илюшка и снял ушанку. — Знаешь какие?.. Сказки Андерсена, «Жизнь и приключения Максима Горького», а Том Сойер и Гек Финн так рядом и лежали. И Тимур — с нами! А вот про путешествие Амундсена — помнишь, голубая книжка, — жаль, не нашел. Наверно, к длинногачему в корзину попала… Зато капитана Немо, Гавроша и деда Щукаря избавили от огня! И деда «Десять процентов», помнишь, у Паустовского? А в твоем мешке «Маугли» Киплинга, кажись, как раз та, что вместе читали, в зеленом переплете. Помнишь? У тебя же «Дикая собака Динго», «Сказки братьев Гримм» и «Как закалялась сталь» со штыком и веточкой на обложке…
Илюшка встал и подошел к вишенке. Она была вровень ему и стояла какая-то таинственная в снежном наряде.
— Жень, а правда ж здорово! Из-под носа у фрицев столько книжек утащили! Завтра еще сходим и еще. А наши придут — вернем в школу. А знаешь, наши скоро придут…
Илюшка очистил вишневую ветку от наледи и подозвал Женьку к себе.
— Гляди, как набухли почки. Стоит пригреть солнцу, и вишня зацветет…
Женька посмотрела на готовые раскрыться темные почки, на Илюшку, и неожиданно ей захотелось прижаться к нему.
— Илюш, стой, не шевелись. И не гляди на меня! — сказала она и решительно подошла к нему. Он послушно отвернулся. Снег падал ему на голову, на плечи. Илюшка был сказочный. «Сейчас обниму его и поцелую. Ну, хотя бы в щеку», — подумала Женька и тут же испугалась своего желания.
— Ты весь в снегу. Надень шапку, простудишься, — скороговоркой сказала она не своим, странным голосом и стряхнула снег с его волос. — Пошли…
Илюшка повернулся к ней.
— Жень, я хочу тебе сказать…
«Неужели он думает о том же?» У Женьки стало сухо во рту.
— Я верю тебе, но ты смотри. — Илюшка приложил палец к губам. — Завтра чуть свет взлетит в воздух бомбовый склад аэродрома. Поняла?! Только — язык за зубами!..
Женьке было радостно оттого, что Илюшка доверил ей такую тайну. В то же время ее огорчило, что он сказал не то, что она хотела.
— Я проносил на аэродром бикфордов шнур, — сказал Илюшка, надевая шапку. — Знаешь, взрывают которым…
С восхищением и нежностью глядела на него Женька.
— Что ты, глазастая? Пошли. Давай подмогну.
Он поднял Женькин мешок.
— Ох, тяжеленный. Давай чуток отложим здесь. Я вернусь и заберу.
«Глазастая, — думала Женька, глядя, как Илюшка складывает под вишней стопки книжек. — А правда, какие у меня глаза?..»
Дошли до Евсюковых, когда стемнело.
— Книжки в сарае спрячу, — сказал Илюшка. Они простились.
Пройдя через двор, Женька очутилась на улице. Шла не торопясь. Хотелось идти и идти. Метель крепчала. Женька сняла варежки и подставила руки снегу. Хорошо!.. А почему она, Женька, раньше не замечала, как красива их улица, — широкая, прямая? Только зачем почти у каждого дома странные машины — тупоносые, как чудовища какие-то… А Илюшка? Он хороший, Илюшка…
Женьке захотелось петь. Утром по улице проходила колонна немцев и пела про свою Лили Марлен. А неужели они, Илюшка и Женька, никогда не будут петь свои песни?.. Не-ет, Илюшка сказал — наши скоро придут… Никто на свете, никто, кроме нее, Женьки, не знает, что Илюшка — самый лучший…
— Куда ты запропала, бисова дитына? — словно издалека долетело до Женьки, и она увидела бабушку. Опираясь на палку, Варвара Васильевна шла навстречу. — Дэ тэбэ бис носэ? Я вже з ниг сбылась, шукаю тэбэ.
«И чего она ругается?» — недоуменно подумала Женька. Она не могла понять, почему может ругаться бабушка. Она бросилась на шею, целовала ее холодные щеки и ласково говорила:
— Бабуня, ты же у меня умочка. Но ты ничегошеньки не знаешь. А правда, у меня глаза большие?
— Я зараз поломаю палку о твою задницу, воны ще бильше стануть… Ось-ось бомбежка начнется, а тэбэ немае… Мэни осталось ще тэбэ лишитьця — ото и всэ…
И пусть будет бомбежка. Пусть сердится бабушка, а ей, Женьке, хорошо! Потому, что есть на свете Илюшка. Потому, что она с ним спасает свои книжки. И просто потому, что хочется петь!..
Когда вошли в комнату, Женька сняла со стены коптящий каганец, подошла с ним к тумбочке, на которой стояло зеркало, и посмотрелась в него. На нее глядели непонятные ей глазищи…
И скажи ей тогда кто угодно, что она больше никогда не увидится с Илюшкой, Женька ни за что бы не поверила…
В ту метельную ночь Илюшка погиб.
Он пошел за оставшимися в саду книжками. Их было немного. Он решил пробраться еще раз в школу. И пробрался. И набрал книжек. И уже возвращался домой, уже был недалеко от дома, но наткнулся на немецкий патруль и был убит очередью из автомата.
Перед утром, когда Варвара Васильевна отправилась за углем, над аэродромом взметнулось огромное, вполнеба, зарево; тяжело задрожала земля, донесся гул взрывов.
Женя стояла во дворе и, восторженно глядя на зарево, думала об Илюшке, о скорой встрече с ним…
1962
ГРАНАТА
У меня необычная чернильница. Это граната Ф-1, лимонкой ее называют. А похожа она больше на земной шар. Насечка ее — как меридианы и параллели Земли. По насечке и проходят границы разрыва, и каждая доля между меридианами и параллелями — смертоносный осколок.
Отлита моя лимонка незадолго до войны. Много лет назад я вывинтил из нее похожий на авторучку капсюль-взрыватель. А вместо него вставляю авторучку.
Гляжу я на свою чернильницу и вспоминаю войну, родной город, домик друзей моего детства.
Низкий, под большой камышовой крышей, будто придавившей его, он кругом, от палисадника до сарайчика во дворе, зарос терновником. Сквозь терновник проглядывают окна с покосившимися ставнями. Палисадник весь в лопоухом табаке.
Домик Араджановых. Домик моих друзей.
…Это было в декабре сорок второго года, в последние недели фашистской оккупации.
Накануне освобождения пятеро суток бомбили наши. Бомбежку мы с мамой пересидели в погребе у знакомых на окраине города. Утром шестого дня возвратились домой. Снимали мы маленькую комнату недалеко от Араджановых, на улице Сталина, — немцы называли ее именем своего фюрера. Улица вся была изрыта бомбами. Валялись разбитые, перевернутые машины, трупы солдат.
Одна бомба угодила в гараж, пристроенный итальянцами к соседнему сараю. Стекол в единственном нашем окне как не бывало. В комнате было холодно, пыльно, земляной пол был весь в штукатурке и стекле. Мама принялась за уборку, и я побежал к Араджановым. Не терпелось увидеть Миника и Борьку.
Подходя к их домику, радостно подумал: «Я же знал!.. Я знал, что тут не упадет ни одна бомба!..» Домик стоял невредим.
Дверь коридора была открыта. В коридоре, на перевернутом ведре, сидел, низко опустив голову, Арам Семенович. Крестом лежали на коленях его большие, со вздутыми венами руки. В правой была зажата трубка. «А Миник говорил, что отец бросил курить…» — мелькнуло в голове. Когда я вошел в коридор, Арам Семенович не шевельнулся. Миник рассказывал, что часто до войны отец, приходя с работы, с чугунолитейного завода, засыпал сидя, пока мать готовила ужин. Может, он и сейчас уснул? Так почему же в коридоре? Холодно…
Возможно, в то самое время, когда я вспоминаю Арама Семеновича, он выходит из дому. Он сгорблен, будто держит на себе невидимую ношу; из-под старой военной фуражки выбиваются седые, отливающие синевой волосы, фуфайка его расстегнута, обвисшие ватные штаны забраны в пестрые шерстяные носки.
Прихрамывая, — он контужен еще в гражданскую, — шаркая калошами, идет старик к вокзалу. Редко поднимает глаза. Иногда что-то бормочет. Возле привокзальных складов он принимает дежурство от своего напарника, перебрасывается с ним двумя-тремя фразами о погоде, о международных новостях и, закурив, усаживается где-нибудь в тени, по-восточному скрестив ноги. Стрелочники и приезжие шоферы хорошо знают старого сторожа товарной конторы: крепче его самосада не найдешь во всем районе.
Старик охотно делится куревом. Протянет знакомцу сатиновый кисет и мягко скажет:
— Табака хочешь? Кури, пажялста…
И снова сидит молча. Будто думает одну и ту же, никогда не покидающую его думу. После дежурства так же шлепает домой.
С неясной тревогой отворил я тогда дверь в комнату. Мария Матвеевна стояла перед стеной и смотрела на часы-ходики, маятник которых раскачивался беззвучно.
— А Миник и Боря дома, тетя Маруся? — спросил я, переступая порог.
Мария Матвеевна медленно повернулась ко мне, помолчала. И вдруг высоким-высоким голосом (я до сих пор слышу его):
— Воло-одя, сыночек!..
Она опустилась на табуретку и откинулась к стене. Тяжело дыша, дрожащей рукой стала развязывать платок на шее. Сухие воспаленные глаза торопливо бегали по комнате, останавливаясь то на лежанке, то на сундуке, то на этажерке с книгами.
— Все… все здесь, а их нету… — заговорила Мария Матвеевна; рукой она погладила угол стола, облитый чернилами. — Вот… уроки учили… и нету… нету родимых моих…
Она закрыла лицо руками.
— И я сама… сама во всем виновата!..
«В чем она виновата? Что значит — их нету?» — думал я. Но расспрашивать не решался. Присев напротив Марии Матвеевны, я ждал, когда она заговорит. И она заговорила.
Двадцатого числа, под утро, Боря разбудил ее. Еще сквозь сон услышала Мария Матвеевна — он ворочается на лежанке, всхлипывает. Вскочила — и к нему. «Что с тобой, сынок?» — спрашивает. «Да ничего», — говорит он, а у самого, слышно, зуб на зуб не попадает. «Ты замерз? Сейчас укрою». — «Нет, мама… Мне такое страшное приснилось…» И рассказал. Будто сидит он в горнице. Темно. Мать вроде должна засветить лампу, а она входит без лампы. «Что же это?» — думает Боря и от страха — в угол! А она черной тенью на него. «Не надо, ма-а!» — закричал он и проснулся…
Мария Матвеевна укрыла его старым жакетом, примостилась рядом, обняла. Руки-ноги у него холодные как лед, а лоб мокрый. «Спи, сынок, — сказала. — Ты небось неудобно лежал, тебе и привиделось». Обычно Боря избегал ласки, а тут прижался к матери и уснул.
Знала бы она, что последний раз обнимает его…
А сон в руку пришелся. Днем хлопцы из дому куда-то подевались. Ушли с полдня и пропали. Где они? Припомнит Мария Матвеевна сон — сердце разрывается. Мало ли куда ввяжутся, а немцы-то лютуют.
К вечеру улицу запрудили машины. Понаперло фашистов, будь они трижды прокляты, через них-то все и стряслось!.. Слышит она, лопочет: «Русь бом-бом, русь бом-бом». Понятно, наши бомбить будут. Уйти бы загодя, а хлопцев нету. Туда-сюда — нету. Господи, чего не передумала!
А думать ей было о чем в тот день.
Я сидел дома и обедал. Грыз колючую серую макуху и запивал пустым кипятком. В окне показался Борька. Я сразу увидел его. Будто ждал, хотя я не ждал Борьку. Просто сидел и грелся кипятком.
— Айда на лыжах! — крикнул он, жмурясь от солнца.
— А Миник с нами? — спросил я.
— Как всегда, — ответил Борька.
Миник и Борька были братья-близнецы. Обычно близнецов трудно различить, но, глядя на Миника и Борьку, никто и не подумал бы, что это братья. Они совершенно не были похожи друг на друга. Миник пошел в отца-армянина — смуглый, горбоносый, худощавый. И звали его так с легкой руки отца. На самом деле он был Мишкой. А Борька — полная противоположность брату. Невысокий синеглазый крепыш, он походил на мать-хохлушку. Братья почти всегда во всем соперничали. Миник старался командовать Борькой, а тот не подчинялся ему. Но в обиду друг друга никогда не давали.
Я напялил ушанку и пальтецо, из которого, как говорили, уже вырос, сунул в карман горсть колотой макухи и был готов к походу. Мама по привычке поправила на мне ушанку, застегнула верхнюю пуговицу пальто и наказала никуда не лезть, никого и ничего не трогать. С тех пор как отца взяли на войну и особенно когда пришли немцы, мама, кажется, только и делала, что боялась за меня.
Миника и Борьку я догнал у итальянских гаражей в конце улицы. Братья шли молча. Гаражи были пусты. Лишь часовой, засунув руки в рукава и прижав к себе карабин, прохаживался по улице. В своей широченной, как бабья юбка, шинели с множеством складок под туго затянутым поясом он и был похож на старую деревенскую бабу. Пританцовывая в промерзших ботинках, итальянец искоса поглядел на нас из-под надвинутой на лоб шляпы с пером.
Каждый раз, проходя мимо гаражей и видя часовых, мы торжествовали. Это мы заставили итальяшек часами танцевать на морозе.
Еще недавно гаражи не охранялись, и мы катались с них на лыжах. Взбираясь на камышовые крыши, нарочно проламывали их. Итальянские шоферы возвращались под вечер и не замечали проломов, а наутро, если случалась ночью метель (а в ту зиму метели были частыми), «макаронники» с трудом откапывали машины из сугробов, проклиная свою мадонну. Пробовали искать виновных, да поди найди их — каталась ведь гурьба ребят. Пришлось выставить часовых.
Миновав гаражи, мы свернули в Кооперативный переулок. Оставалось пересечь шоссе, и мы — на Песках. Пески — большие холмы на окраине станционного поселка, изрытые ямами и оврагами. Жители брали там песок на свои стройки. Оттуда уже доносились голоса лыжников.
У шоссе мы остановились. По шоссе, завывая, двигались две тупоносые немецкие машины. Одна проехала мимо. Другая поравнялась с нами и остановилась. Из кабины вышел немец. Длинный, в пилотке; уши, чтоб не мерзли, закрыты бархатными наушниками. Немец поманил нас к себе пальцем. Я взглянул на Миника. Он побледнел, как-то неловко, словно у него болела спина, присел и стал поправлять крепления. Борька торопливо пошел к немцу.
А тому вздумалось покататься. Он приказал Борьке снять лыжи, взял их и пошел через шоссе на гору. Мы с Борькой — за ним. А Миник выждал, пока мы отойдем, обошел машину и затерялся среди ребят у подножия горы.
Немец поднялся на гору и приладил лыжи к сапогам. Поодаль выжидательно глазела на него притихшая детвора. Немец долго не решался спускаться. Водитель высунулся из кабины и, смеясь, что-то кричал ему. И вот он тронулся. До половины горы держался. Но, набрав скорость, сбился с лыжни. Мгновение — и немец нелепо взмахнул руками и под восторженный ребячий визг зарылся в сугроб. Лыжи сорвались с сапог и понеслись к шоссе. Борька побежал за ними. Водитель вылез из кабины и, схватившись за живот, хохотал. Мимо незадачливого лыжника (вот как надо!) стремительно пронеслось несколько хлопцев — в расстегнутых пальтишках, в залатанных валенках, в лихо сбитых на затылки треухах. А немец поднялся и, ругаясь, вытряхивал снег из-за воротника, из сапог. Потом долго искал наушники.
Борька с лыжами в руках подошел к нему.
— Пан, еще раз, — сказал он.
Немец шагнул к Борьке и ударил его кулаком по лицу. Борька упал. Рыжая медвежья шапка его отлетела в сторону. С криком «вэк!» — вон! — немец пнул его сапогом и полез по снегу к машине.
Борька молча встал. Из носу текла кровь.
— Скот-тина, — сказал он вслед немцу. Потом повернулся ко мне: — Где Миник?..
К нам подъехали ребята, сочувственно смотрели на Борьку, ругали немца. Борька не замечал их. Отряхиваясь, он искал глазами Миника. Заметив его на склоне горы невдалеке от нас, помахал ему палкой.
Когда мы отошли от ребят, Борька потер нос снегом. Кровь идти перестала. Борька сказал:
— Попалась бы эт-та скотина подальше от поселка… У Миника лимонки… Знаешь, когда фриц позвал нас, я думал — ну, капут…
Так вот почему побледнел Миник при встрече с немцем! Вот почему Борька с готовностью предложил ему лыжи!..
— А зачем вы с лимонками? — спросил я.
— Много будешь знать — скоро состаришься.
— Нет, правда, — сказал я. — Это те самые?
— Те самые.
В июле сорок второго, после отступления наших, мы нашли в лесу ящик с гранатами. Борька хотел глушить ими рыбу. Но Миник не дал. Мы припрятали гранаты за поселком, под кучей железного лома.
— Ты, Вовк, никому ни слова… — сказал Борька. — В концлагере нужно оружие — пленным. Ну, мы и тащим лимонки. Оставим в нашей землянке. Помнишь, в лесу? А добрые люди возьмут их. Понял?
— Понял, — сказал я. — Значит, побег?
— Скоро состаришься, — снова уклончиво ответил Борька и рванул от меня в сторону. — Догоняй! — Он вовсю работал палками, за ним взвихрилась снежная пыль и светилась радуга.
Я шел по лыжне Борьки и думал о пленных.
Вспомнилось, как однажды осенью я отправился на станцию добыть какого-нибудь топлива. Падал мохнатый мокрый снег. Во дворе станционной пекарни я наткнулся на груду шлака. В нем всегда можно было найти кусочки несгоревшего угля. И только достал я из-за пазухи мешок, только присел на корточки — за пекарней послышался шум:
— Подтянися! Не ломать строя!..
Я кинулся к забору. В большую щель было видно, как в переулок из-за угла пекарни выходила колонна пленных красноармейцев. Их гнали с работы, с железной дороги. Пленные были грязные, небритые, одеты-обуты — кто во что. Кто в ботинки, кто в рваные валенки, кто совсем босой. Гимнастерки без поясов, ватники, рваные шинели. Какой тут строй?! Пошатываясь, свесив головы, люди еле волочили ноги. По бокам — конвоиры с автоматами: немцы и русские полицаи.
Пленные в последнем ряду отставали, и полицай, молодой мужчина в немецком френче, подгонял их, размахивая автоматом:
— Не ломай строя! Подтянися!
В конце колонны едва брел усатый красноармеец в расстегнутом ватнике. Полицай подскочил к нему и ударил прикладом в шею, тот согнулся под ударом и, заплетаясь ногами, пробежал несколько шагов. Потом остановился, устало повернулся к полицаю и закричал:
— Что ж делаешь, гад! Я ж тебе в отцы… Ты же русский… Выслуживаешься, паразит вонючий!..
— Топай! Топай! Отец нашелся!.. — огрызнулся полицай, тыча в пленного автоматом.
Ближний к забору немец с автоматом наготове шел спокойно и курил. Он как будто был уверен, что все идет правильно, все это обыденно и составляет полный, удовлетворяющий его порядок. Он лишь слегка морщился, точно его раздражал излишне громкий крик.
Может, все обошлось бы благополучно. Но, когда колонна поравнялась с пекарней, чьи-то добрые, но неосторожные руки выбросили в окно, прямо в колонну, пять-шесть буханок хлеба. Что тут началось! Целый день работавшие на холоде голодные люди, забыв все на свете, разом, с криком и руганью, ринулись на буханки, разрывали их, роняли куски на землю, поднимали и вместе с грязью совали в рот.
Они не слышали предупреждающей стрельбы вверх. Они опомнились только, когда конвоиры стали стрелять по ним. Опомнились и кинулись кто куда — врассыпную. Не знаю, удалось ли кому убежать. В глухом переулке, сжатом забором пекарни и стенами складов конторы Сельхозснаба, бежать было некуда. Люди падали под автоматными очередями. Стреляли и немцы и полицаи. Потом в упор пристреливали раненых, которые не могли подняться.
Не знаю, как я остался жив. Я глядел на расправу оцепенело, даже не сообразил лечь или пригнуться у забора. Когда оставшихся в живых угнали, я увидел, что забор изрешечен пулями.
Потом я шел среди убитых. Меня трясло как в лихорадке. Неделю я не мог спать по ночам. И плакал, плакал…
А теперь мы можем спасти живых!.. Я заметил, что уже не иду, а бегу по Борькиной лыжне.
— Понял! Понял! Понял! — кричал я в такт своим шагам и, догоняя Борьку, влетал в радугу.
Мы подъехали к Минику. Опершись грудью на палку, он рисовал Чарли Чаплина. Он всегда рисовал на снегу Чаплина — в котелке, с усиками, улыбающегося. И тут я увидел, что Миник необычно толстый.
Борька стал что-то говорить о стычке с немцем.
— Черт с ним, — сказал Миник. — Ты Вовке объяснил, куда мы?
Борька кивнул.
— Ну, нате и вам штуки по три, — сказал Миник, — а то тяжело…
Остались позади Пески. Вдали синел лес. Снежная равнина будто лежала на огромном горне, и невидимые мехи выдували из-под снега солнечные искры.
Лес встретил нас тишиной. Сосны дремали, укутанные снегом. Незаметно для самих себя мы стали говорить шепотом.
Землянка наша была в молодом сосняке, на крутом спуске к пойме реки. Вход в нее обозначала единственная в сосняке береза. Под последней ступенькой входа мы вырыли яму и сложили в нее гранаты. Десять штук. Тщательно прикопали. Замаскировали прошлогодней хвоей. Потом мы сидели в землянке и грызли мою макуху.
По пути домой мы еще долго катались на Песках. В город вернулись поздно. Улица наша была забита машинами. Озабоченно галдели немцы и итальянцы. А мы шли вдоль дворов, счастливые и гордые. Шли мимо шелестящих на ветру фашистских приказов, по которым нас в тот день могли расстрелять по меньшей мере четырежды. За хранение гранат. За связь с партизанами. За помощь пленным. И просто за то, что мы были такими, какими были.
— Смотри-ка, сколько их понаехало! — сказал Борька. — Вот бы дать нашим сигнальчик! Зря мы, что ли, морзянку зубрили?..
— Потише ты. Не все сразу, — отозвался Миник.
Прощаясь, мы условились, что я завтра приду к Араджановым и мы снова отправимся в лес. И — да простится нам! — мы не помнили о родных домах.
Но в родных домах о нас помнили.
Насилу дождалась ребят Мария Матвеевна. Миника она прямо не узнала. Всегда серьезный, а тут пришел — сияет. Борька ввалился весь в снегу. Она накинулась на обоих. «Душа изболелась, негодники! А вы про отца-матерь забыли. Ужинайте скорей, да пойдем до бабушки. А то тут бомбежки не миновать».
Миник поел, взял с этажерки книжку, за пояс ее. «Я — куда угодно!» А Борька подошел к лежанке и говорит: «Мама, как мне не хочется идти туда!» — «Нет, сынок, пойдем, у бабушки не бомбят. Там самый край города, там немцев не бывает». А Борька опять за свое.
Она к отцу. И тот: нечего, говорит, ходить, в случае чего, в своем погребе пересидим. «Ну и сиди! А я пойду и детей заберу!»
Бывает же так: делает что-нибудь человек и сам не ведает зачем… Арам Семенович согласился идти. Что б ему настоять на своем! А теперь ее попрекает — на что детей из дому тянула?.. Ох, дети, дети! Недаром она целый день металась. Чуяло ее сердце беду.
Пошли они. Бабушка живет не близко — в Мамоне. Верст семь с гаком от станции. Ветер всю дорогу навстречу, скажи, будто заворачивал их. А она все подгоняла своих…
Возле заболотовского моста — часовой. «Хоть бы нас не пропустили», — сказал Борька.
Пропустили их. Часовой итальянец был. Немец бы, тот завернул, а то и забрал бы еще. Прошли часового. Вскоре ветер стал стихать. А добрались до бабушки — и совсем затих. Чего, мол, теперь стараться? Глядите, немчуры тут еще больше. Машина на машине. Гуд стоит — себя не слышишь. Заворачивал же вас — не смейте, мол, сюда, а теперь чего ж…
А летчики будто этого и ждали — чтоб буря стихла. Началась бомбежка. Сидят они в кухне, Арам Семенович и Мария Матвеевна. Хлопцы в горнице. Немецкий фонарь карбидный им засветили. Бабушка с ними. Привязалась она к близнецам. Миника любила. Уж как любила. Говорила, из него ученый должен выйти. А и мог бы, он как учился!..
Долго бабушка сидела с хлопцами. Потом послышалась возня. И вдруг выскакивает бабушка из горницы, простоволосая, ноздри ходуном ходят: «Иди, Маруся!.. Иди, не слажу с Борей!.. Поставил фонарь на подоконник и то откроет занавеску, то закроет. Какой-то, говорит, азбукой сигнал еропланам дает. Указует, куда бомбить. Да нешто с неба увидишь, где немцы, а где люди! Иди образумь его!»
Да только сказала…
— Зачем? Зачем ей было там падать! Поля ведь рядом… А она прямо возле дома, оско-олочная-я…
Очнулась Мария Матвеевна и — в горницу. Вот он, перед ней на полу лежит, Боря. Вытянулся. Вельветка на груди пробита слева. Наверно, и не трепыхнулся, бедный. Глаза широко раскрыты и губы чуток. Руки — в стороны, ладошками кверху. Вот-вот скажет: «Мама, зачем мы пришли сюда?..» Закаменела она. Ни кричать, ни заплакать не в силах.
Миник умер перед рассветом. Его ранило в спину. Арам Семенович перенес его в кухню. Миник лежал боком на диване. В головах — книжка; вон она, на столе…
Рядом неподвижно стояла бабушка. Арам Семенович ходил из угла в угол. Миник, взглянув на мать, тихо и отрывисто сказал: «Мама… не ругайся… сигналить я придумал… Бить их надо!..» Помолчал и снова: «Мама… а Борю… сильно поранило?» Не видела Мария Матвеевна ни взглядов Арама Семеновича, ни его знаков. Взяла и бухнула: «Борю-то, сынок, совсем…».
И зачем сказала ему? Может, он потому и не выжил?..
— В один день я родила их, в один и лишилась… За что, за что такая кара?..
Мария Матвеевна надолго замолчала. Сгорбившись, она стала совсем маленькой. Пусто было в доме. И так тихо, что мне стало знобко. Невольно я взглянул на часы. Они стояли.
Я поднялся и прошел в горницу. На столе лежала раскрытая книга: «Война и мир». Третий том…
Потом она сказала, не поднимая глаз:
— Убивало бы нас вместе. На что нам теперь жизнь. В дому как в могиле. Днем о них думаешь. Заснешь — во сне их видишь. Все спасаешь, уводишь куда-то… Во сне удается спасти, а проснешься… С них и карточки нету. Сколько раз говорила, давайте снимемся…
Я простился и вышел в коридор. Арам Семенович сидел по-прежнему неподвижно. И вспомнилось, как, бывало, по вечерам, когда мы заиграемся на улице, Арам Семенович басил в форточку: «Мина, Бора — дамой пара!» И мы провожали братьев, со смехом повторяя отцовскую фразу. Теперь он никогда не скажет так…
Кончилась война. В праздничные дни бродил я по нашим местам. В землянке под нижней ступенькой входа, гранат не оказалось. Значит, они пригодились…
Я сидел, оглушенный тишиной. В кармане у меня нашлись кусочки макухи. Я грыз их, ощущая черствую горечь.
…Жили три друга-товарища в маленьком городе Эн… Мне тогда казалось, что это про нас. Вместе мы окончили перед войной пятый класс. Вместе бегали в кино смотреть «Тимура и его команду». Вместе жарились на берегах Черной Калитвы и камышовыми удочками ловили в ней красноперок. Вместе оказались в оккупации. И только праздновать конец войны мне пришлось одному…
За станцией, в тайнике, под кучей лома, оставалось еще одиннадцать лимонок. Хотел я взорвать их, да раздумал. Десяток отнес в военкомат. Одну оставил себе. В память о друзьях.
1968
ТОЛЬКО БЫ ОДНУ ВЕСНУ Повесть в письмах
П. Ф. Шаповалову
Я не знал этого человека, который был старше меня всего лишь на четыре года — четыре военных года… Ко мне попали его письма, и я многое узнал об их авторе. Думаю, что и читателям интересно узнать о нем.
П и с ь м о п е р в о е
28 августа 43-го
Здравствуйте, папа, мама и Глеб!
Отослал вам недавно письмо и пишу снова.
На прошлой неделе побывал я в местах боев за Москву. Вы себе представить не можете, какая страшная была рубка, сколько положили тут и немцев и наших. Вспоминались слова, которые приписывают Наполеону: что, дескать, при Бородине французы показали, как побеждать, а русские — как оставаться непобедимыми. Наполеон хоть на какое-то время мог считать себя победителем — ведь тогда Москва была сдана. Фашисты же не добились и этой победы, но взять Москву хотели во что бы то ни стало, и положение наше было тяжкое. Об этом не пишут. Но я слыхал. Немцы подошли к столице так близко, что уже рассматривали город в бинокли. Говорят, в обороне сам Рокоссовский с пистолетом в руках ходил в атаки… Часто спасали дело танкисты. И как спасали! После боев — можете себе представить! — гусеницы танков были багровыми…
Однажды в лесу под Апрелевкой — помните предвоенные грампластинки с песнями, на них надписи: «Апрелевский завод грамзаписи», помните? — так вот под той самой Апрелевкой мы наткнулись на наш «ястребок». С какой скоростью надо было падать, чтобы чуть ли не до половины врезаться в глину, прошитую корнями сосен. Мы с трудом откопали его, вырубая коренья. В сплющенной кабине был летчик, вернее, то, что когда-то было человеком… Не знаю, что страшнее: видеть саму смерть или это… В полусгнившем комбинезоне нашли документы… С пятиминутной карточки смотрел на нас молодой парень, почти мой ровесник. С таким хорошим глазастым лицом. Где-то ждет этого парня мать, а может, девчонка-одноклассница…
Был я и в подмосковных селах, освобожденных от оккупантов. В одном селе мы помогали перезахоронить погибших в оккупации мирных жителей. Во рвах мы откапывали расстрелянных немцами. Даже таких, как наш Глебик, они убивали. Скрюченные, изуродованные, порой грудные дети лежали в ямах… Не могу понять все это: мужчины, взрослые люди, солдаты — расстреливали малышей, беззащитных, ни в чем не повинных малышей!.. Жутко. Ведь у них же есть Гете и Бетховен!..
В нашей части много ребят, у которых поубивали родителей, братьев, сестер.
Вы меня простите, но порой мне даже стыдно, что у меня, у нас все так благополучно и все живы-здоровы.
Когда видишь такое, когда слышишь обо всем этом, становится не по себе. Для того ли я подгонял возраст и стремился в армию, для того ли обивал пороги военкомата, чтобы теперь заниматься черт-те чем! Каждый день с утра до вечера — ать-два, ать-два. И так два месяца, с тех пор, как попал в резерв.
Два рапорта писал. Просился на фронт. Пока нет ответа.
30 августа 43-го
А резерв надоел. И занятия здесь бесполезные, и харчишки по третьей категории. Цены на все высокие. Мое любимое кислое молоко, например, стоит 100 рублей литр. Разве хватит солдатских денег?
В свободное время брожу по лесу, собираю малину, которой в Подмосковье очень много, и думаю — как вы там в Тамбове?
Здесь весь июль шли дожди: не было ни одного дня без дождя. Зато грибов в лесу уйма! Но дичины нет: по-видимому, сказывается близость Москвы, хотя есть и очень хорошие лесные уголки. Леса хмурые, темные: осина да ель. Сосны и березы встречаются реже. В июле по вечерам в полях хоть постукивали редкие перепела, а по берегу маленькой речонки надрывался коростель. Теперь и это пропало. Запахло сентябрем. Зори стати прохладными. Солнце заходит багровое, неприветливое, а утром показывается часам к восьми — пока-а выберется из тумана до сереньких облачков на горизонте. Дни уже нежаркие, с какой-то осенней синевой в небе.
Нет, это не Тамбов! Нет просторов Чистого, Лисанькиного. Нет топей, нет осинового болота с белыми гривами. Это возможно только в Тамбове.
А весенние разливы, шиканье селезней, блеянье бекаса и вдали — приглушенное бормотанье…
А тихий август с кряканьем чирят на зорях, с шумным подъемом материка… и выстрел бездымный…
А сентябрь… росистая трава с темными полосами от Эриного галопа…
Где еще можно видеть такое? А главное — когда?..
Как вы живете? Где папа? Поздравьте его за меня с днем рождения и пожелайте всего наилучшего, и прежде всего — здоровья. Пишите все.
Передавайте привет Павлу Ивановичу, Раисе Ивановне и вообще всем-всем.
Крепко-крепко вас целую.
Остаюсь ваш Игорь.
П и с ь м о в т о р о е
21 декабря 1943 г. Москва
С Новым счастливым годом, дорогие папа, мама и Глеб!
Шлю вам свои наилучшие пожелания. Желаю вам всего-всего доброго в новом 1944 году. Встретьте его как можно лучше, выпейте и за меня. Где мне придется встречать Новый год — не знаю. И вообще-то обстановка, по-видимому, будет далеко не новогодняя. Пока что должен явиться на ст. К. (километров 20 за Смоленском), а дальше куда — посмотрим. Наверно, буду наконец воевать.
Вот разобьем фашистов — вернусь на Тамбовщину.
Может, это будет весна — пойдем с папой на тягу, постреляем селезней на Чистом или Карасевом, послушаем глухаря…
Будет лето — можно собирать землянику или побродить по полям и болотам с Эрой в поисках перепелов и бекасов. Как она, старушка, — долго ли протянет?..
Будет осень — чирята, дупеля, вальдшнепы… Уцелел бы Ивашенцев[1]. Берегите его.
Ох как странно звучат для меня охотничьи слова! Ведь правда, счастья никогда не замечаешь, а только ждешь его. И вдруг вспоминаешь прошлое: ведь это было счастье!..
Иногда я так одинок почему-то и так хочется видеть все-все, чем недавно жил.
Писем от вас почти не получаю. Как вы живете? Вы все вместе? Или папу уже взяли на фронт?.. Напишите!.. Знаю, вам тяжело. Но что поделаешь? Всем нелегко.
Еще раз желаю счастья в новом году. Тысячу раз крепко-крепко целую.
Ваш Игорь.
П и с ь м о т р е т ь е
7 января 1944 г.
Дорогой папа!
Это письмо пишу из госпиталя.
Я жив, но не здоров. Дело в том, что меня ранило (в левую руку) и контузило одновременно. Это случилось в ночь с 31 декабря на 1 января. Видно, судьбе угодно так: новогодний подарок.
Вот как это произошло.
Поездом нас доставили на станцию К., недалеко от Смоленска. А дальше поехали на машинах. Поздно вечером 24 декабря добрались до какой-то мертвой деревушки. Несколько торчащих труб над пепелищами да два-три сарая без крыш. В полукилометре от бывшего селенья чернели траншеи переднего края.
Мы тихо разгрузились и построились.
К нам подошел невысокий старший лейтенант. Полушубок — нараспашку, грудь — вся в орденах и медалях. Столько орденов я ни у кого не видел. Позже я узнал, что это знаменитый на весь фронт разведчик Маскаев. Кажется, кабардинец по национальности. Маленький, черный, глаза подвижные и насмешливые. Везучий страшно. С первых же дней войны на фронте, и ни одна пуля не задела его, ни один осколок не царапнул. И что ни поиск — то, смотришь, офицера притащил. А это — орден. Немцы орут через нейтралку: «Ну, попадешься же ты нам, Маскаев!..» — «Ничиво! — отвечает он. — Пака ми вам попадайся — ви уже маи руки попадался!..»
Ну вот, подошел он к нам.
— Есть ли среди вас ахотники… — и закашлялся.
Я тут же сделал шаг вперед.
А он прокашлялся и сказал:
— Есть ли среди вас ахотники пайти разведка?
Я опешил: о такой охоте мне и в голову не приходило. А уж он ко мне подошел, белые-белые зубы — к самому лицу.
— Ти ахотник?
— Так точно, — говорю, — охотник. Но в разведку не ходил.
— Ничиво. Хароший ахотник может становиться хароший разведчик. — Помолчал и добавил: — И маленький — харашо. Ранят-убьют — тащить легко-легко… — И рассмеялся громко.
От его смеха у меня мороз пошел по спине.
Из строя вышло еще несколько ребят.
— Нэт, нэт, мне многа нэ нада. Ище адин, — сказал старший лейтенант.
На сегодня хватит. Устал.
8 января
Четыре дня натаскивали меня, как мы с тобой когда-то натаскивали Эру по вальдшнепам. И должен тебе сказать, что при тренировке работал я не хуже Эры. Притом, знаешь, что я открыл — ты меня будто всю жизнь готовил в разведчики, так пригодилось то, чему ты учил, чего я сам толком не знал за собой. На поверку вышло: я хорошо ориентируюсь в любой местности, хорошо слышу, бесшумно хожу; пригодилась и моя наблюдательность.
Маскаев был мной доволен. И мне это было по сердцу. Я лишь боялся: что будет там, в деле?
В поиск вышли вчетвером 31-го в 22.00. По маякам, вслед за саперами, ползли через кустарник по сугробам. Через пойму реки, через камыши. Утиные, наверно, места. Но сейчас там даже утке негде сесть: по всей пойме — мина на мине. Один неверный шаг — и все, поминай как звали.
Я полз следом за Петей Харченко. Было тихо. Но немцы то и дело швыряли ракеты. Мы замирали, пока ракеты горели. Когда ракеты гасли, мы, ослепленные на какое-то время, лежали неподвижно, а потом, осмотревшись, двигались дальше.
Веришь, у меня не было ни малейшего страха. Я и сам себе не верил, что не боюсь. Только полз и думал: «Не так давно охотился на дичь. Теперь пришел черед на людей. И кто знает, чем кончится новая охота…»
И что ты думаешь? Мы наткнулись на немецкую разведку. Она шла к нам. Может быть, с расчетом, что мы будем праздновать новогоднюю встречу… По правде говоря, у меня до сих пор такое чувство, что Маскаев знал маршрут вражеской разведки. Откуда знал, как — непостижимо! Но он знал. На то он и Маскаев!
Мы пропустили немцев поближе к нашей обороне. А потом сами следом. Они спустились в пойму и устроились под обрывом на правом берегу реки. Мы тут как тут. «Хенде хох!» И автоматы на них.
До сих пор не помню, как все произошло. Да я всего и не видел: началась потасовка. Помню свои действия с той секунды, когда передо мною как из-под земли вырос огромный фашист… Я автомат на него — сейчас срежу!.. А он хватает ручищами за ствол моего автомата и тянет на себя. Я жму изо всех сил на спусковой крючок — автомат не стреляет…
Потом, после боя, я доискался, в чем дело. Я таскал патроны в вещмешке насыпом, как говорят. Вещмешок есть вещмешок: то бросаешь его в кузов автомашины, то со всего размаху падаешь с ним на землю по команде старшего лейтенанта. На патронах образовались вмятины, в диск патроны вошли свободно, а в патроннике получился перекос. И вот я изо всех сил жму на спусковой, но автомат молчит.
Кажется, что все это длится бесконечно. Ну, думаю, все — погиб. Руки у меня сделались мокрые, прямо течет из-под них по прикладу. Немец же сильнее меня, и вот-вот я окажусь в его лапищах!
— Да стреляй же!.. — матюкнулся где-то рядом Маскаев и в тот же момент — хлобысть фашиста по голове прикладом своего автомата.
Немец раскинул руки, будто удивился такому повороту дела, и рухнул на бок. А на Маскаева сзади бросился другой немец.
Маскаев вертанулся, захрипел, — наверно, немец схватил его за горло. Секунда — и они оба падают. В это время вспыхивает ракета, и я вижу сверкающий нож в руке у немца.
Я тут же вспомнил про свой нож, выхватил его и всадил фашисту куда-то в шею. Он застонал и обмяк на Маскаеве…
Кончилось все тем, что два немца были убиты. Был убит и Петя. И знаешь, о гибели Пети и сообщить некому. У него нет ни отца, ни матери. Они умерли с голоду в тридцать третьем году, рос Петя в детдоме где-то под Харьковом, учился в железнодорожном училище. Когда наши оставили Харьков, он пристал к воинской части. Месяца три назад Маскаев взял его к себе. Раз пять он ходил на задания. Маскаев восхищался Петиным бесстрашным хладнокровием и представил его к «Звездочке». И вот он, не успев получить ее, лежит на плащ-палатке — неожиданно длинный-длинный. И некому сообщить о его гибели…
Мы с Маскаевым связали оглушенного немца и потащили к нашим траншеям. Третий наш разведчик тянул на плащ-палатке Петю.
Враги услышали шум и открыли минометный огонь. Мы торопились выйти из-под огня и выдохлись. Уж больно тяжел был немец. Но оставалось уже недалеко до своих. И помню, меня ослепило и сильно толкнуло в плечо…
Очнулся — передо мной белая стена. У самой стены, на раскладушке, весь в бинтах человек. Наконец сообразил: я в госпитале. Монотонный, непрерывающийся звон в голове мешает сосредоточиться. Левая рука и вся левая сторона — как не моя. Хочу приподняться и с ужасом понимаю, что тело меня не слушается. На правой руке сустав перед кистью распух. Я немного вывихнул ее при ударе ножом.
Не знаю, сколько я лежал в полузабытьи, но вдруг отчетливо увидел белые, крупные, ровные зубы Маскаева, его двигающиеся твердые губы. Увидел, а слышать — ничего не слышу.
Маскаев посидел возле меня, достал из кармана гимнастерки маленький — дамский, как у нас говорят, — пистолет и сунул мне под подушку. Нацарапал на бумажке, что пистолет того немца, который тянул меня за автомат вместо того, чтобы застрелить из этого пистолета. И еще нацарапал: «Язык — перьвый зорт! Поправляйся, дарагой!» Не знаю, зачем Маскаев дал мне этот пистолет. Но я был рад подарку. Помнишь, мальчиком я мечтал о пистолете? А потом хотел удрать на финскую войну? Помнишь?..
Пришли делать перевязку.
11 января
Делали не перевязку, а операцию. Вынимали осколки из руки. Без всякого наркоза, его нет во всем госпитале. Боль страшная. Выковыряли — больших и малых — осколков семь. Хорошо, говорят, что хоть кость цела. Только трещина небольшая.
Стал чуть-чуть слышать, хотя по-прежнему сильно кружится голова. И перед глазами — круги, круги: розовые, фиолетовые. А усну — все снится, как мой нож входит в шею фрица. И тошнит меня даже во сне. Вспоминаю, как ты не мог смотреть на подранков. Тебя мутило, и ты уходил, когда начинали чистить рыбу. Признаюсь, и меня всегда тяготило в охоте убийство.
Но эта моя охота отличалась от прежней. Не убей мы их — они убили бы нас.
Я понял: как привыкаешь к охоте на дичь, так можно привыкнуть и к этой охоте… И это требуется от нас, и мы подчиняемся этому требованию. Только я иногда думаю — человеческое ли дело убивать друг друга? И человек ли я еще или?.. Но если я теряю что-то человеческое, то виноват не я сам. Нет, нет и нет! Виноваты те, которые идут на меня с оружием, чтобы убить меня; те, которые давно перестали быть людьми…
А все-таки — каково будет возвращаться к Человеку!..
Не знаю, сколько пролежу здесь. Говорят, что повезут в Смоленск. Руку мне загипсовали. Она совершенно мертва. Даже пальцы не шевелятся. Но где-то внутри себя чувствую и пальцы, и всю руку.
Не показывай это письмо маме. Его не надо бы писать даже тебе. Но знаешь, мне легче как-то, когда я все написал. Да я и не мог не написать тебе.
Целую крепко, твой Игорь.
P. S. Ты, пожалуйста, не волнуйся за меня. Рана заживает. Все будет хорошо. Многим — вот они рядом на койках — потяжелее, чем мне.
А мне, я думаю, так случайно и так здорово повезло. Тем, что я попал в разведку. Я как-то по-новому гляжу на людей. Как они, вот эти лежащие рядом, при всей, казалось бы, ожесточенности их сердец, как они добры ко всему живому! И как все живое приобретает для меня небывалую многозначительность!
Знай, ты никогда-никогда не покраснеешь за меня.
Твой И.
П и с ь м о ч е т в е р т о е
23 января 44-го
Добрый день, дорогие мои.
Удивительно теплая стоит зима. Мягко. При такой погоде русаков тропить. Да нет, самого затропили.
Я уже привык к ране. Боль ровная, устоявшаяся. В спокойном состоянии почти не замечаешь ее. Гипс с руки сняли. Кисть теперь шевелится и пальцы немного, но в локте рука не разгибается.
Рана довольно большая, долго виднелась кость, но теперь мясо осело и закрыло ее. Вообще-то рана была меньше, ее разрезали. Смотреть на нее я не могу: мутит. Самое страшное — это перевязки. Повязка присохнет, ее отдирают безжалостно. У меня пот выступает, и кричу так, что стыдно после становится.
Неужели я таким маленьким выгляжу? Все врачи говорят: «Вы с двадцать пятого года? Ребенок!..» Не верят, что мне уже двадцатый год (ну, минус семь месяцев, которые прибавил, чтобы меня взяли в армию).
В Смоленске я лежал всего четыре дня. Двадцатого января привезли меня в Наро-Фоминск. Семьдесят километров не довезли до Москвы. Говорят, придется пролежать здесь месяца полтора. Из полевого госпиталя меня некому было сопровождать. История болезни была у меня все время на руках. Я мог бы (с большим трудом, конечно) добраться до Тамбова. Но вдруг там меня не приняли бы в госпиталь? Что тогда? А хорошо бы в родном городе полежать!..
О вас я думаю часто. И сейчас вот вижу ясный морозный день. Тени в саду длинные и синие-синие. Снегири сидят красные. Надулись и гудят. Пробежаться бы на лыжах! Или выехать покараулить русачка. Ночь. Кругом тишина. Лыжи поскрипывают. Луна золотою порошею осыпала даль деревень. Помните, у Есенина?
Скорей бы выйти из госпиталя!..
Пишите чаще. Желаю вам всего наилучшего. Привет Дементьевым и всем-всем.
Крепко целую, ваш Игорь.
И з п я т о г о п и с ь м а (отцу)
26 февраля 44-го
Значит, ты тоже воюешь?
Что ж, скоро и я двинусь на фронт. Рана зажила. Не совсем, правда. Кровоточит еще иногда. Но все же. Как я писал уже, после госпиталя был в краткосрочном отпуске дома. Отпуск пролетел, как один день. Кажется, только приехал — и тут же надо уезжать. Многое-многое я перечувствовал дома как-то по-новому. Как-нибудь опишу подробнее.
После отпуска меня направили на переподготовку в г. (зачеркнуто). Опять не повезло. Ведь мог же я попасть в Тамбов.
Программа переподготовки уплотненная. Занимаемся день и ночь. Вернее, день работаем, готовим танки на фронт. Ночью учимся.
Близится весна. За танками приезжают молодые хлопцы. Вот они сейчас сидят на башнях и жмурятся под солнцем. А завтра — третья скорость!..
Не помню, писал ли я тебе о своей беде. Я все еще плохо слышу. И два раза падал на улице: мутнеет в голове, перед глазами — и без сознания. Наш врач говорит — это от контузии.
Можешь меня поздравить — отныне я офицер. Лейтенант.
Скоро поедем ближе к фронту.
Как мне хочется на Север! Давно-давно хочется. С той поры, далекой поры, когда прочел я книжки об Амундсене.
Книжки, книжки! Как я по ним соскучился!
Я часто думаю о тебе. Если б увидеться — наговорились бы! Мне порой кажется: я уже так долго живу. По меньшей мере, три жизни: одну — до войны, другую — в разведке, третью — теперь. И знаешь, с самого детства я жду чего-то большого. С самого детства. Жизнь человеку ведь и дается для большого. И может быть, это большое уже свершилось. Или свершится завтра.
Что я буду делать после войны? Иногда мне так хочется писать. О своих ровесниках, об их судьбе. О нас с тобой. Об охоте. Все так ясно в мыслях. Но как подумаю — страшно становится. Писать — это же… это же… Это же — всходить на эшафот. Нет, не могу подыскать точных слов.
Прости.
Обнимаю тебя, Игорь.
И з ш е с т о г о п и с ь м а (отцу)
4 марта 44-го
…Мне осталось совсем немного тут побыть. Со дня на день жду отъезда.
Ты просил написать о моей специальности. Специальность интересная и хорошая. В работе чувствую себя свободно. Правда, за танки переживаю. Не шутка: стоит танк вроде исправный — и вдруг не может идти в атаку. То ли потому, что не ладится что-то в вооружении, то ли не хватает боеприпасов.
Я часто-часто вспоминаю случай с моим автоматом в разведке. Тогда все произошло из-за моей халатности. И я теперь хорошо помню об этом. Знаешь, беру в руки снаряд, а вижу патрон с вмятиной. И уж все-все тщательно осматриваю и тысячу раз проверяю. Чтоб все в каждой машине было нормально. Ведь что предстоит экипажам, уходящим в бой!.. Думаю, что про нас сказано: «Мы — дети страшных лет России» (кажется, Блок).
…Уже март, и заметна теплота солнца. Сосульки тают. Снег посерел. Скоро глухари будут чертить, набухнут брови у тетеревов. А потом разольется Цна. Над нашим домом жаворонки запоют, в садах зашныряют вальдшнепы. Откроются в полной красе Чистое и Карасево. И селезни будут жвякать. Вижу, как они греются на солнышке, блестя брачным опереньем. Их теперь долго никто не будет беспокоить…
Когда все это увижу и услышу?
У меня одни карточки. Они молчат и молчат. Но я-то знаю, что они хотят сказать.
Серые просеки в нашем бору.
Эра стоит по перепелу.
Ты, Павел Иванович и Николай Михайлович возвращаетесь с перепелиного тока.
Мама — среди моря ромашек, с букетом…
Это все мне родное и близкое, от чего так легко зарыдать.
Ну, хватит.
От Глеба и мамы получил письмо. Им трудно. Выслал им аттестат. Знаю, и тебе трудно. Постарайся не принимать близко невзгоды. Так лучше.
Будь здоров. Игорь.
P. S. Ты пишешь, что попал в интенданты. Думаю, это тебе ближе и по возрасту, и как счетному работнику.
А я часто-часто вспоминаю, как ты читал мне Тургенева. Вспоминаю наше уединение с ним. То ли дома, то ли в березовой роще у Чистого. Мне тут подвернулась школьная хрестоматия с несколькими рассказами из «Записок охотника», и я с ней не расстаюсь. Ты прав: какое чудо — его пейзажи! Я хорошо их чувствую. А порой — прости меня — я себя чувствую… Тургеневым. Или, например, Петей Ростовым… Не смейся. Это правда.
Твой И.
П и с ь м о с е д ь м о е
13 июня 44-го
Добрый вечер, папа и мама. Рад, что вы вместе.
Значит, мама все-таки решилась приехать к тебе. Ну, да ты же не на передовой.
А я два месяца как живу в Ленинграде. Об этом можно было только мечтать. Красивый-красивый старый Питер! Какая архитектура! Какие памятники! Я не знаю украинской ночи, но вы, видимо, не представляете белую ночь! Нева. Старинные мосты с чугунным литьем. Шлемы церквей… Это надо видеть!
Мне уже пришлось побывать во многих местах за городом.
Петергоф! Я не видел там ничего, что говорило бы, что здесь были парки, фонтаны, памятники, аллеи. Все уничтожили, сволочи! Никак! Никак не могу понять, что же случилось с человечеством, что оно допускает рождение таких людей… Как-то я был на симфоническом концерте, слушал симфонию Шостаковича. Не посчастливилось ли вам слушать ее? Гениальная вещь, честное слово! Особенно первая часть. На вас идут механические двуногие существа. Только такие, только они способны уничтожать все живое на земле.
Я смотрю на развалины Ленинграда, думаю о них, а во мне — музыка Седьмой симфонии. Ее трагическое начало — начало войны. А хочется, ох как хочется дожить и до финала. До победного финала!.. Верю в него всем сердцем и всем сердцем жду его. Но как же трудно дожить до него, даже если не сидишь сложа руки! Впрочем, я всегда, с самого детства, был нетерпелив. Но как хочется, чтобы скорее-скорее было людям хорошо-хорошо!
…По самому берегу Финского залива сосновый бор. У берега большие валуны, как лысины. А дальше — сплошная вода, куда ни глянь. Такой широкой воды я не видел еще. И над ней — белая ночь!.. Вид этот — будто неизвестная картина Айвазовского!
На днях поеду на Ладожское озеро. Все мои поездки — по делам службы, я ведь оружейный техник. Вот мне и приходится ездить в подразделения.
Живу в городе, при штабе. Местом службы нельзя быть недовольным. Послал меня сюда один капитан из отдела кадров армии ПВО; он учился в том же училище, что и я недавно. Только в тридцать девятом году.
Хорошо здесь. Но как бы ни был красив Ленинград, если бы мне дали выбор, я бы уехал либо на фронт (я же могу делать больше, чем делаю), либо в Тамбов. Но на фронт не пускают, говорят, нужен здесь, да и здоровье подводит. А в Тамбов как теперь попадешь?.. Средний, Чистое, Карасево, Хмелинка, Бугры, Канава… Из-за одних названий будешь тосковать. «Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий…»
А там остался Глеб. Как он один?
Эра! Я как-то недавно видел ее во сне: она бежала и несла в зубах щеночка. Почему-то думаю, что ее нет. Нет той Эры, лучше которой никто не работал по вальдшнепу, которая выбегала на улицу при словах: «Мама идет», «папа идет». Я не могу об этом спокойно писать…
Там осталось лучшее в мире ружье. Больше этого уже не будет. Когда я думаю об этом, я чувствую, какой я усталый, какой я маленький… Но какой же я маленький — 29 апреля у меня нашли седые волосы. Правда, меня это не трогает. Однако я теперь иногда чего-то страшусь. Может быть, того момента, когда придется уйти. Где-то я читал или папа мне говорил, что, когда люди перестанут бояться смерти, жизнь на земле прекратится. Но что делать? Ведь само рождение таит в себе неизбежную смерть… У Энгельса сказано еще больше: жить — значит умирать… Тогда какая разница — когда…
Знаете, я снова полмесяца пролежал в госпитале…
Рана открывалась. Вышло еще три осколка. И что-то плохо с головой.
Видно, я уже отвоевался.
Но мне все-таки повезло. Я жил «во дни торжеств и бед народных». Я счастлив, что моя жизнь сложилась именно так. Сложись она по-иному, я не перенес бы, не передумал и не перечувствовал бы всего того, что перенес, передумал и перечувствовал, что делает человека человеком.
Самое большое в судьбе моего поколения — война. Настолько большое, что уж и не знаю, будет ли большее. Сегодняшними делами и чувствами обязаны мы будем измерять свои взаимоотношения после войны. Только бы всегда, как в последние три года, находить настоящее свое место в жизни.
Прости меня, папа, но ты по своему складу ума и характера, по своему пониманию людей и природы не бухгалтер, хотя проработал им добрых два десятка лет и сделал немало хорошего. Но ты бы мог больше. Хотя мне легко говорить. Прости. Не перечитываю это письмо, чтобы не исчеркать его. Знаю, написал кое-что нехорошее. «Я так грустно сегодня настроен…» Еще раз прости.
Пишите чаще. Очень редко получаю от вас письма.
Целую крепко. Ваш Игорь.
P. S. Хорошо, что от Эры есть щенок. После войны ты сразу демобилизуешься. И опять станешь грозой для вальдшнепов и бекасов.
И.
П и с ь м о в о с ь м о е
13 августа 44-го
Как быстро бежит время, папа!
Вот прошел июль, кончились белые ночи.
«Тихо август прилег ко плетню…»
Август. Было время, когда с таким нетерпением ждал его. Заранее начинаешь снаряжать патроны. Бесчисленное множество раз вынимаешь из шкафа ружье, без конца вскидываешь и заглядываешь в стволы, а мысли уже там, на болотах. Эра при виде ружей, сапог, сумки тоже чувствует — скоро вырвется на свободу!
В августе у меня единственное желание — пойти на любимые озера и отстоять вечерний перелет. Переждать ночь у костра между шепчущихся сосен; выстоять утреннюю зорю, закатив парочку красивых дуплетов, а главное — видеть, как начинается и кончается день, побывать там, где нет суеты.
Я все вспоминаю об Эре. Что она думала, когда ты ее отвел к чужим перед отъездом в армию? Она прибегала домой. Хотела хоть кого-нибудь видеть из своих, прыгнуть на грудь и, может быть, понять, почему так, что она больше не нужна. И ее коснулась война.
У меня нет никаких изменений. Только работы много. Она запущена и запутана. Я решил привести ее в должный порядок. Так что сейчас я и начартснабжения, и завделопроизводством, и оружейный техник, и оружейный мастер.
Но ничего. Справлюсь.
Узнать бы, где Маскаев. Я часто вспоминаю его. И хорошо думаю о нем. Сложный он человек. Он мог рассмеяться после шутки, что меня легко будет тащить, когда убьют, — такой я маленький и удобный. И он же нашел время прийти ко мне в госпиталь, принести подарок…
Интересно, как он будет возвращаться к мирному времени.
Никогда не забуду ночь перед уходом в поиск. Думал о всех вас. О себе. О своей однокласснице, Наде Журавликовой, в школе ее Журавликом звали. Она возвращала мне записки с моими признаниями в любви… Тогда я так страдал от этого. А теперь и вовсе… Надя добровольно ушла радисткой на фронт и погибла где-то в белорусских лесах…
О многом передумал я в ту ночь. Меня можно обвинять в самонадеянности, но я не нашел, за что бы нас всех можно было укорять когда-нибудь. Спасибо вам.
На свои скромные зарплаты вы делали все-все, чтобы мы с Глебом росли в чистоте и не были голодны; вы делали все, чтобы мы отзывались на добро и справедливость. Радовался я, что и мне наконец выпадает счастье жить — пусть хоть несколько часов или, может быть, минут! — под стать людям удивительных судеб, людям революции и гражданской войны, людям, которыми я восхищался мальчиком, которым я завидовал, кого боюсь и называть, — так они недосягаемы до сих пор!.. И боялся, что глупо как-нибудь погибну, так и не приблизившись к ним — хоть на минуту!
Теперь мне кажется, что чище, чем в ту ночь, я не жил никогда.
Прости мне громкие фразы. Ты никогда не любил их. Но я сегодня так думаю и не могу думать иначе. И счастлив, что не могу иначе.
Папа, ты совершенно не пишешь, как живешь. У тебя ли мама? Как только она выедет в Тамбов, напиши. Я вышлю ей аттестат. Глеб тоже что-то долго молчит.
Вот пока и все. Пиши, пожалуйста, чаще, хоть понемногу.
Целую, Игорь.
П и с ь м о д е в я т о е
5 января 1945-го
…Когда я итожу то, что прожил…
Вспоминаю: я совсем маленький — Гока, как я сам себя и как ты меня называл. И первая сохранившаяся в памяти охота.
Поздняя осень тридцать первого, кажется, или тридцать второго года. Ты, я и Коро на болоте. Перед нами бочажины, поросшие желтой осокой. Коро отказывается работать. Рыжие гаршнепы. Без Коро взяли четырех. Мокрые ноги…
Как давно это было!
Гораздо позже я прочел все твои записные книжки — перед отъездом в армию. Есть в одной из книжек запись об этом дне. Мне стыдно стало за мои тогдашние ощущения. Как они отличаются от твоих! Ты был на болоте. А что тебя преследовало? То, что в семье нечего есть, что не в чем ходить. Что нет дров. И в конце концов, нет своей собаки… Мне и сейчас стыдно, что я не почувствовал тогда этого.
…Вспоминаю тебя с фотоаппаратом. Сколько снимков. Сколько негативов! Ты их, наверное, никогда не напечатаешь все.
Вспоминаю тебя на Чистом.
— Гока, остановись и погляди на облака над озером!
Вспоминаю тебя на бекасиных болотах.
— Гока, ты видишь, кочка похожа на Голову из «Руслана и Людмилы»?
А твое обучение Эры! Ты научил меня понимать охоту. Благодаря тебе я полюбил родную природу… Если б можно было вернуть прожитое!
Предложи мне кто-нибудь одну весну с тобой и после нее — ничего, я соглашусь. Только бы одну весну. Ты и я… все перечувствовать, и можно уйти. Апрель. Ты и я…
А сейчас огромный город, поражающий своей красотой, творениями Растрелли, но все-таки давящий камнем, бетоном, асфальтом…
Я иногда захожу в охотничьи магазины. Слушаю разговоры охотников…
У меня усилились боли в голове. Часто я очень плохо вижу.
Желаю тебе бодрости и здоровья.
Твой сын Игорь.
P. S. Да, ты помнишь, я писал тебе о разведчике Маскаеве? Он жив! Я читал о нем в газете. Хочу написать ему.
А еще, знаешь… Переслали мне последнюю записку Нади. Последнюю перед отъездом в школу радистов. Всего девять слов. «Князь Игорь, родной! Я всегда-всегда любила тебя! Журавлик». Вот так — мы все в эти годы любили, но, значит, любили и нас… Журавлик, Журавлик…
П и с ь м о д е с я т о е
9 ноября 46-го
Давно не писал…
Не знаю, с чего начать тебе это письмо, папа.
Нынешней весной два месяца отлежал в госпитале. Опять открывалась рана. Да еще, говорят, спятил…
Прошел медкомиссию, признали негодным к военной службе.
В конце июня был четыре дня в Тамбове.
28 августа демобилизован.
Теперь я не у дел.
С 9 по 30 сентября был в Тамбове.
Что написать о нем? Вторая Эра стала большая. Красивый щенок, складываются красивые формы. Но что из нее будет, трудно сказать. С ней некому заниматься.
Павел Иванович, видимо, писал тебе, что охоты были бедны. Брал и я в руки «Александра Петровича» — не тот он стал, запущен. Да и я не тот стал…
И все же, наслушавшись разговоров о «нету дичи», без надежды пошел я 12 сентября на лесные озера. И правда, утки было мало. Первый же поднятый чирок был бит. И недалеко, шагах в пятнадцати, но я не нашел его. Больше не в кого было выстрелить.
На вечерней заре налетела стайка чирят. Выбил трех.
Затем налетели три материка. Взял одного. Это было над Карасевом. Вот и вся охота.
Следующий весь день пролежал дома. Сказалось, наверное, напряжение стрельбы. Сильно болела голова. Глаза запеленало. В полдень уснул. И снится — вроде в бою, на меня прет немец, вскидываю не автомат, а ружье почему-то и вместо врага своего вижу перед стволом… себя. Понимаешь, сам в себя стреляю. И просыпаюсь. Сердце как не выскочит…
Слишком часто донимает меня все это. Дня два не находил себе места.
22-го рано снова пришел в лес. Первым прошел осиновые полоски. Ничего нет. Около узкоколейки поднялся вне выстрела один долгоносик. Позже поднялся еще один и улетел.
Взбираясь выше по узкоколейке, увидел трех тетеревов на соснах. Подходил осторожно и прозевал вальдшнепа. И тетерева не подпустили. В круглом осиннике был один вальдшнеп. Взял его дуплетом.
В сухом осиновом болоте нет ни грибов, ни вальдшнепов. Около него, в березняке, поднялся вальдшнеп и пошел на угон. Конечно, упал. Взял я его и пошел к широкой просеке.
Стреляют в лесу мало. Кому стрелять?.. Случайно я встретил на улице одноклассницу. Надину подругу. Помнишь, когда я лежал с воспалением легких, в восьмом классе, меня проведывала смешливая веснушчатая девчонка?.. Она рассказала. Из ребят нашего класса пока живы я и еще один парень. Одиннадцати хлопцев — они все были старше нас на год — нет. Кто — под Сталинградом, кто — на Курской… А кто — неизвестно где…
Я вспомнил в лесу про ребят и пошел домой. Один вышел к узкоколейке. Чувствовал себя плохо.
Вечером выступал в своей школе. Попросила Нина Тимофеевна, бывшая наша классная руководительница. Ты ее должен помнить — она преподавала литературу и русский язык, высокая белокурая женщина, у нее своеобразная манера ходить — немножко вытягивать шею в такт шагам… Сдала она. Виски засеребрились. Муж ее (помнишь летчика при последнем до войны отстреле лосей?) был сбит, тяжело ранен и умер в госпитале.
Знаешь, мне показалось, что я почувствовал ровесницу в Нине Тимофеевне. И она вела себя со мной, как с равным… В глазах школьников я был, конечно, герой, они долго не отпускали меня. Видел бы ты ребят!.. Я узнавал в них недавнего себя, наивного и чистого. И думал: хорошо, что мы в школе именно такие — наивные и чистые. И знал, предельно ясно знал, что так надо — я попаду на фронт.
29-го собирался с Павлом Ивановичем снова на охоту. Зашел к нему в 6 утра. Но он не пошел. Был дождь. Я все же решил идти.
Это последняя охота.
Назавтра надо было уезжать.
В Ленинграде мне рекомендовали одного крупного врача. Надеюсь, он установит точный диагноз и поможет.
Вот еще найти бы такую работу, чтоб было побольше свободного времени! Устроюсь и начну писать. Кажется, пора начинать.
Словом, на сей раз мне хотелось поскорее уехать…
Дождь сыпал беспощадно. Я обошел все лучшие места. Но ничего не поднял. Вымок до нитки. Дай, думаю, спущусь в низа, меньше вымокну.
Прошел просекой на Тулиновские бугры. Иду тихонько, и вот впереди, шагах в двадцати, на просеку выходит лось, огромный рогач концов на восемь.
Я оторопел и остановился. Долго так стояли — смотрели друг на друга. Он как ручной. Потом я крикнул, махнул рукой, и он пошел вдоль просеки, положив рога на спину. У меня было такое радостное состояние, как будто я встретил хорошего человека.
Спускаясь с бугров, оврагом, на краю его поднял неожиданно вальдшнепа. Правым мажу, но левым поправился и далеко уже достал. Через несколько шагов со дна оврага поднимается еще один и не успевает пролететь и двух шагов…
Вышел из лесу, миновал Ченки, и вот — Канава. Ее не узнать. Задичала. Сразу же поднялась курочка. Сгоряча убил. Бекас начал попадаться только в самом углу Канавы. Поднял штук двенадцать, пять убил. С этим вернулся домой.
Половину добычи оставил маме и Глебу. Есть ведь нечего. Они перебиваются с воды на картошку. Да и картошки не достать. А половину отдал Настасье Прохоровне. Помнишь, в глубине двора живет, во флигеле? Муж ее погиб на войне. А она одна с четырьмя детишками мал мала меньше. Слесарит на заводе.
А вообще, только на нашей улице — сколько не вернется с войны!.. А сколько таких улиц в России!..
Ты знаешь, маме уже многие говорили, что она счастливая. Тем, что мы с тобой живы. И я чувствую себя виноватым. Хотя в чем же я виноват?..
За все охоты я доволен собой. Но после тяжко себя чувствовал. Знаешь, после войны я, наверное, не смогу охотиться, не смогу стрелять в живое… И еще одно. Все время неотступно перед глазами вы и Эра. Даже страшно — вдруг мелькнет рядом видение… Вижу и мальчика Гоку, он навсегда остается здесь…
А меня 30 сентября поезд помчал на Север.
Во мне как будто все умерло. Даже письма серьезно не могу написать. Пишу в перерывах между головными болями. А перерывы все реже и реже, ни к чему не годен… Зачем и кому такой я нужен?..
Вернувшись в Ленинград, написал рапорт с просьбой отправить на фронт. Потом еще один.
Наконец прошел медкомиссию. Вернее уговорил одного друга пройти за меня. Все сошло удачно.
И вот снова на фронт! Кончать войну.
Говорят, надо бы мне оперировать правый глаз. Оказывается, в нем есть тоже осколки, к они грозят слепотой. Когда — никто не знает. Через полгода, через год. Значит, опять каменный дом, халаты, уколы… Скажу тебе правду — думал о том, что надо вовремя уйти. Чтобы не быть людям в тягость. Лафарг, кажется, говорил об этом. Помнишь? И он вовремя ушел. Это удел сильных… Одни раз — прости меня, пожалуйста, — я поднимал к виску… маскаевский подарок…
Но нет. Такой конец — не мой конец. Не хочу, чтобы тебе стыдно было за меня.
Целую тебя. Твой Игорь.
P. S. Может быть, еще встречусь с Маскаевым.
А с тобой? Неужели мы с тобой так больше и не увидимся?
* * *
Больше не увиделись.
Игорь был убит в одном из боев под Кюстрином.
А письма эти он не отправлял. Мать обнаружила их в полевом сумке сына, присланной ей его товарищами. Потертые листки ученической тетради, свернутые вчетверо, лежали на самом дне, перевязанные крест-накрест суровой ниткой.
В письмах же, которые он посылал домой и отцу в армию, о ранении и контузии, о болезни своей он не обмолвился ни единым словом.
1971—1972
ДОРОГА ЧЕРЕЗ РУИНЫ Повесть
Все произошло в ночь под Новый год, и все было похоже на новогоднюю сказку или новогодний сон.
Проснувшись среди дня первого января, Михаил Сергеевич Кобзарь думал о случившемся с недоверием к своей памяти. Может быть, всего этого и не было?
Впрочем, разве редко мы т а к думаем обо всей своей жизни?..
Далеко за полночь в одном из подмосковных домов отдыха после сдержанных проводов старого года и несдержанной шумной встречи нового — с шампанским, с многочисленными тостами за счастье, которого всем вечно не хватает, с объятиями и поцелуями, когда новогоднее веселье пошло на спад, — Михаила Сергеевича пригласил к себе сосед по коридору, журналист молодежной газеты.
Михаил Сергеевич помнил полутьму комнаты, горящие свечи и прекрасно сервированный его женой-хлопотуньей стол. Водка, настоянная на мандариновых и лимонных корочках, вино, соки, помидоры, бутерброды с кетовой икрой, селедкой и сыром, порезанные на крохотные ломтики; в каждом торчала пластмассовая вилочка, — бери и ешь!.. А перед этим опрокинь холодную литую серебряную стопку-наперсток.
Два года назад Михаил Сергеевич развелся с женой и теперь ощущал в праздничной комнате тот создаваемый умными женскими руками уют, по которому он — это вдруг открыло его хмельное сознание — соскучился, и ему тут же захотелось благодарить хозяев за приглашение, за то, что он почувствовал в этой полуосвещенной новогодней комнате.
Но он молча сидел в темном углу между столом у окна и шкафом, слушал веселый гомон собравшихся гостей, большинство которых он видел впервые; они рассаживались кто где мог — на диване, на кроватях и стульях. Время от времени Михаил Сергеевич в своих мыслях уходил куда-то далеко от этой компании; возвращаясь, снова слушал людей, видимо, знавших друг друга.
— Ой, как мы вовремя уединились!.. — облегченно вздыхала сидевшая за столом женщина с обнаженными плечами; морщины на шее скрывал желтый шарфик. — Признаться, я уже не знала, куда деться от гама и бестолковщины столовой!
— Еще бы! Целый вечер суета! — откликнулся ее муж, чернобородый, похожий на цыгана, одетый в красную рубашку; все говорили: для того чтобы наступающий Новый год был счастливым, надо его встречать в красном.
Леля, девочка-хозяйка, в темной плиссированной юбке, делала последние необходимые поправки на столе, как художник на картине.
— Все ли в сборе? — Она оглядела собравшихся. — Нет главного закоперщика — Витеньки…
И тут-то распахнулась дверь комнаты, и на пороге, раскинув руки, Виктор Борисович кого-то — не видно было еще кого — приглашал в комнату.
— Друзья, для всех вас — новогодний сюрприз! — Радостный голос Виктора Борисовича стряхнул с Михаила Сергеевича дремоту. Он поднял голову, раскрыл глаза и вместе со всеми повернулся к двери.
Мимо Виктора Борисовича, изящно приподняв маленькой рукой подол длинного вечернего платья, в комнату вошла высокая женщина. И первое, что все увидели, — белозубую ее улыбку. Следом вошел мужчина спортивного вида, плечистый, русый, нос клювом. Мягкие серые глаза его тоже улыбались, словно лишь оттого, что он увидел, как все заулыбались идущей впереди него женщине.
— Позвольте, — сказал Виктор Борисович, — представить вам наших гостей: Надежда Антоновна… А может, лучше просто Надя?
— Да, конечно, — согласилась женщина.
— Так вот, Надя и Андрюша Скорынины.
Гости поклонились. Андрей, расстегнув пиджак, присел на тумбочку возле двери. Наде уступили место в самом центре комнаты, перед столом, напротив женщины с шарфом на шее.
— Что пьем, Надюша? — не затихал Виктор Борисович.
— Я — водку, — решительно ответила Надежда.
— Леля, — он повернулся к жене, — стопочку?
Леля в ту же минуту поставила перед Надеждой серебряный наперсток. Виктор Борисович наполнил его.
— Друзья, мы с вами поздравили друг друга с праздником. Давайте пожелаем новогодних радостей и нашим гостям! — предложил Виктор Борисович, слегка поклонившись и Надежде, и ее мужу.
Надежда встала и высоко подняла стопку.
— Мы не будем в долгу, — сказала она, обращаясь глазами к мужу. — И вам всем благополучия в Новом году!
К Надежде потянулись руки со стопками. Михаил Сергеевич тоже привстал и поднес к ее рюмке свою. Надежда, не обернувшись, чокнулась с ним и выпила, запрокинув голову и отставив мизинец.
«Зачем я сюда пришел? — подумал Михаил Сергеевич. — Сын… Где он? Спит или мотается с ребятами по дому?.. Надо бы уйти…»
Однако уходить ему не хотелось. Если сын спит, Михаил Сергеевич будет один.
— Друзья, — снова заговорил Виктор Борисович. — Самое приятное, что я могу вам сейчас сообщить, в этот вечер, вернее, в эту ночь, — он сделал паузу, — Наденька будет петь.
Он захлопал в ладоши. Захлопали все.
— Да, — просто сказала Надежда. — Я готова спеть. Но подо что?
Виктор Борисович обхватил руками свою лысеющую голову.
— Черт меня возьми! — воскликнул он. — Совсем забыл!.. О-о-о! — застонал он и выбежал из комнаты.
Все расхохотались.
Надежда уселась на стуле спиной к Михаилу Сергеевичу. Он откинулся к шкафу и увидел перед собой полнеющие плечи, поблескивающие кольца волос на шее.
— Можно у кого-нибудь сигарету? — Надежда подняла свою небольшую ладонь.
Ей тут же протянули несколько сигарет.
— У вас «Золотое руно»? — спросила она бородатого цыгана. — Я возьму, хорошо?
До прихода Скорыниных в комнате никто не курил. Но никто не возразил, когда закурила Надежда. Она жадно затягивалась, закидывала голову и выпускала дым к потолку.
Все молчали. Вскоре вернулся Виктор Борисович. В руках у него была гитара.
— Вот вам! — протянул он ее Надежде.
— Спасибо. Но я не играю, — ответила она.
— Кто может? — Виктор Борисович обвел всех взглядом.
Все, переглядываясь, пожимали плечами.
— Конечно, я могу и без сопровождения, — сказала Надежда, относя сигарету от себя. — Но с аккомпанементом легче бы…
Виктор Борисович растерянно стоял с гитарой.
— Можно пойти в кинозал, — грустно сказал он. — К фортепьяно… Но там сейчас еще полным-полна коробушка… Да и не тащить же все туда?
— Нет-нет, — поспешила успокоить хозяина Надежда. — Ни в коем случае! Здесь у вас очень хорошо.
Виктор Борисович положил гитару на шкаф и присел рядом.
— А ты же когда-то играл, Витюш, — сказала жена.
— Что ты, Леличка! Аккомпанировать Наде?.. Где мне! Не смогу!
— Ничего, — сказала Надежда, вставая. — Что же спеть? Сейчас докурю… Налейте мне еще, пожалуйста.
И в это время встал Михаил Сергеевич, за спиной Надежды дотянулся до лежащей на шкафу гитары, — все увидели, какой он высокий. Виктор Борисович застыл с бутылкой и выжидательно глядел на Михаила Сергеевича.
— Мишенька, вы играете?
— Попробуем, — ответил неопределенно Михаил Сергеевич и тихо потрогал струны. — Ее надо настроить.
Михаил Сергеевич, ни на кого не глядя, как будто он был один, положил на колени гитару, потер пальцы и наклонился над ней.
В комнате установилась тишина ожидания. «Черт!.. Зачем я приперся сюда? — досадовал на себя Михаил Сергеевич. — Дернуло же меня согласиться… Да еще браться за гитару…» Перебирая струны, он поднял глаза и увидел Надежду, повернувшуюся к нему и пристально глядевшую на его руки.
— Слушайте, — Надежда погасила в пепельнице сигарету. — А право же, хорошо!.. Свечи. И эти чуть слышные аккорды… А?
Михаил Сергеевич повернулся с гитарой к Надежде — перед ним была ее улыбка. На правом ухе он увидел коричневую клипсу. Он задержал взгляд на ней, словно смутно что-то припоминая.
— Кажется, настроились, — сказал он. — Что вы будете петь?
А сам — уже свободнее — прошелся по ладам. Потом снова поднял глаза и увидел не клипсу, а родинку на мочке уха. Коричневую. Со сверкающим пушком.
Михаил Сергеевич откинулся к спинке стула и расстегнул воротник рубахи, хотя в комнате еще не было душно.
«Не целуй ее. Ты меня оглушаешь», — откуда-то донесся до него шепот. Звуки старинного романса как бы откликнулись ему.
«Не пробуждай воспоминаний минувших дней, минувших дней. Не возбудишь былых желаний в душе моей, в душе моей…»
Надежда выслушала вступление и попросила начать еще раз. Она волновалась — как будет звучать ее голос в этой комнате, как Михаил Сергеевич будет вести аккомпанемент.
Голос зазвучал полно и глубоко, и пение захватило и ее, и гитариста, и всех гостей. Входя в романс, она входила и в какие-то свои, близкие к романсу воспоминания… Под конец она остановила взгляд на Михаиле Сергеевиче, и ему нужен был этот ее взгляд — пальцы сами брали единственно верные аккорды, верный темп, верное звучание.
— Вас зовут Миша? Мишей, да?.. — задумчиво, как бы про себя, проговорила Надежда, когда закончила романс.
И, вскинув голову, обеими руками пригладив волосы, сказала:
— Начните еще что-нибудь.
Михаил Сергеевич почувствовал, что он готов сейчас исполнить любую ее просьбу, что он готов предугадать любое ее желание. И ему — в который раз — пришли на ум слова Льва Толстого из «Крейцеровой сонаты». Он знал их наизусть.
«Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что делает?.. Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу…»
Там у Толстого есть и другие суждения, противоречащие этим, но он был согласен только с этими. Музыка подчиняет людей, заставляет их объединяться. Давным-давно, еще не подозревая о существовании толстовских слов, он познал это в детстве, в родной деревне, когда выходил с балалайкой за двор, на улицу, и пел частушки. «Сяду я на лавочку, возьму балалаечку. Как ударю по струнам, приходите, девки, к нам!..» Приходили девки, приходили бабы, приходили мужики. Приходили после долгого и тяжкого дневного летнего труда. И пели под его балалайку, сбросив с плеч тяготы дня.
«…Забывать себя, мое истинное положение… Кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу…»
«Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица, давно позабытые…»
Гости заулыбались, будто он узнал их тайное желание послушать именно этот романс. Надежда, выжидая время вступать, стояла у шкафа, держалась за спинку стула и напряженно глядела то на левую руку Михаила Сергеевича с опустившимся до самого локтя рукавом, то на него самого. Ее явно что-то тревожило. Михаил Сергеевич заметил тревожный взгляд Надежды и, не находя причины его, наклонился над гитарой и ожидал ее вступления. Он давно не играл на гитаре и боялся, что не сумеет как следует сопровождать прекрасное пение Надежды. А то, что она пела прекрасно, — в этом не было никакого сомнения. Он настолько хорошо это чувствовал, что первые же слова романса сильно, до слез, взволновали его.
Надежда была настоящей драматической актрисой и, кроме пения, играла каждый романс, не повторяясь, открывая в нем новую глубину чувств, заставляя слушателей переживать то, что заключено в романсе. Казалось бы, запетые слова вдруг звучали первозданно и обретали в сердце каждого слушателя свой изначальный смысл.
Михаил Сергеевич это понимал. Он поднимался до понимания истинного в пении и музыке, и в этом заключалось его счастье. Несчастье же его, как он думал, заключалось в том, что он не мог подняться до исполнения музыкальных произведений так, как он их чувствовал и понимал. И сознание этого приносило ему длительную боль, почти физическую боль.
— Надя, где вы учились? — спросил Виктор Борисович.
— Воронежское музыкальное. Затем консерватория, — Надежда присела передохнуть и взяла сигарету.
— Московская?
— Нет. В Свердловске.
«Воронежское… Неужели?..»
— А нельзя ли что-нибудь из репертуара Рады Волшаниновой? — попросил гость, похожий на цыгана.
— Да, пожалуйста! — вразнобой загалдели гости. Каждый из них теперь хотел услышать любимую вещь и ждал удобного мгновения, чтобы высказать свое желание.
— Надя должна же и отдыхать, — вклинился Виктор Борисович.
Михаил Сергеевич молча сидел, положив уставшие с непривычки руки на деку гитары.
— Ничего. Я не устала. — Надежда повернулась к Михаилу Сергеевичу. — А вы, Миша?
— Я как вы… — Михаил Сергеевич поднял голову. Надеждина родинка была у самых глаз.
«Не целуй ее. Ты меня оглушаешь!..»
Так это же та самая Надя. Надеждинка!
Михаил Сергеевич взял знакомые аккорды. И вновь все переглянулись.
«Я ехала домой, душа была полна каким-то для меня совсем неясным счастьем…»
— Слушайте, это прекрасно!.. Да, вечер романса!..
— Нет! Целая ночь романса!..
«Я е-ха-ла домо-ой…»
Да, она ехала домой. А он?
В середине августа 1946 года Михаил Сергеевич — тогда просто Мишка — получил долгожданное письмо. Сердце стучало где-то в горле, когда он разорвал казенный пакет со штампом музыкального училища. Он до сих пор хранит это письмо.
«Тов. Кобзарь Михаил Сергеевич! Музыкальное училище г. Воронежа вызывает Вас на 26 августа 1946 года к 10 часам на экзамены».
Подписи — директор и секретарь.
Мать, прервав побелку стен хаты, стоя посреди двора, обрызганная известью, прослушала письмо. У нее дрогнули губы. Она заволновалась — из дому уезжал единственный сын.
— Не надо, мамо. Теперь же все хорошо. Вы остаетесь в своей хате. Не надо. Я буду писать…
— Та спасибо, ридненький. Я ничего… Я не плачу, — мать дрожащими губами еле выговаривала слова. — Я припоминаю, як ты — маленький ще був, годика два тоби минуло — находил дощечку, вбивал в нее гвозди, натягивал на них нитки, трогал их, як струны, та и прислонял мени до уха. «Ты посюсяй, мамо! Посюсяй!» Послушай, значит!.. И откуда воно оце у тэбэ?.. Як ты ждав балалайку! А гитару, помнишь, як мы купили?.. И не отступаешься ты!..
«Я е-ха-ла домо-ой… Двурогая луна светила в окна душного вагона…»
Нет, не было луны. Был ранний августовский вечер. И был вагон. Товарный вагон.
Мишка не захотел, чтобы мать провожала его. На то была причина. Мать думала, что сына придет провожать какая-нибудь дивчина и он стесняется. Но дело было в другом. У Мишки мало было денег. И он задумал добраться до Воронежа на товарняках. Узнай об этом, мать всполошилась бы.
В Россоши ему повезло. Едва он пришел на станцию, на платформу у пакгаузов, где ожидали отправки сформированные составы, как увидел отправляющийся на Лиски товарный поезд. Он взобрался на тормозную площадку, поставил баян под тормозное колесо, накинул на него ремень футляра, чтоб баян не двигался от тряски в пути, и поезд тронулся. Когда, величественный, как корабль, проплыл мимо элеватор, Мишка увидел сразу за садами свою хату — высокая труба над камышовой крышей. Матери за двором не было. Не знал он, что она пошла к железной дороге в надежде увидеть его. Но поезд прошел раньше, и ей пришлось вернуться ни с чем, простояв у железной дороги до захода солнца…
В Сагунах Мишку согнал с площадки кондуктор, рыжий, с запыленными глазами мужик. Как ни просил Мишка довезти его до Лисок, тот и слушать не хотел.
— Давай уматывай с поезда! — кричал он. — Знаем мы вас! Шастаете тут по вагонам! Вали отсюдова, а то штрафану!..
Мишка слез с площадки и пошел в голову поезда. Кондуктор потопал в хвост. Площадки, как назло, не попадалось. Уже пробовали тормоза.
Мишка побежал вдоль состава, задыхаясь. Баян колотил по боку, обрывая плечо. Вагоны, вагоны. И все — без тормозных площадок. И вот один вагон — открыт. Мишка поравнялся с ним в тот момент, когда поезд тронулся. Мишка на ходу снял с плеча ремень, подбросил на руках баян и поставил его на пол вагона. Ухватившись за край стенки, подпрыгнул и уперся коленкой в скобу-ступеньку. Подтянулся, вскинул правую ногу на пол и влез в вагон. Не вставая с полу, отдыхивался.
— Еще один! — услышал он над собой неожиданно и вздрогнул. Повернул голову на голос и увидел брезентовые сапоги, голенища в гармошку. Поднялся. Перед ним стоял парень в галифе и гимнастерке с темными следами погонов. Года на три старше Мишки. Военная фуражка на затылке, в углу губ — папироса.
— Тебе некуда было сесть? — процедил парень сквозь зубы. В верхнем ряду сверкнула — под цвет его глаз — латунная фикса.
— А ты шо? Закупил вагон? — огрызнулся Мишка, переводя дыхание.
— Заткнись! — Фиксатый схватил Мишкину кепку за козырек, натянул ее до самого подбородка и скрипуче хихикнул.
Мишка поднял козырек, поправил кепку, оттащил баян в угол вагона и отряхнулся.
— Далеко собрался? — не отставал Фиксатый.
— До Лисок, — нехотя ответил Мишка.
— Ха! И тебя папочка встречать будет?
Мишка не понял, о каком папочке идет речь.
— Чего не отвечаешь, раз спрашиваю? — наглел Фиксатый, оглядывая Мишкин футляр. — Вон ее, — он указал рукой в противоположный угол, — папочка встретит. А тебя?
Тут только Мишка увидел, что они не одни в вагоне. В углу, скрестив руки на груди, будто защищаясь от удара, стояла девушка в серой блузке. Гладко расчесанные на пробор волосы, голова втянута в плечи. По груди, под рукой, к поясу спускалась толстая коса с малиновым бантом на конце. Девушка исподлобья глядела то на Мишку, то на Фиксатого.
Мишка сразу понял, что произошло что-то неприятное для нее.
— Кто и где меня встретит — не твое дело, — сказал он, отодвигая баян в глубь угла.
— Смотри, какой смельчак, — недобро ухмылялся Фиксатый, расставив широко ноги.
Вагон качало. Поезд набирал ход.
— Отстань! — резко сказал Мишка и присел на баян.
— Пойми их… Та — не лезь, этот — отстань… — сказал, сверкая своей латунью, Фиксатый. — Вы что? Сговорились, что ли?
Мишка молчал.
— Тебе-то против меня чего хвост задирать? — несколько примирительно сказал Фиксатый. — В самом деле, куда едешь?
— Поступать в музыкальное, — ответил Мишка откровенно, предполагая, что тот отстанет от него.
— О-о, полюбуйтесь, какой культурный! Значит, это у тебя баянчик? Да? — Он толкнул ногой футляр.
— Полегче. — Мишка сжал кулаки и почувствовал озноб.
— Может, ты нам сыграешь чего? И мы развеселимся? А? — присел на корточки Фиксатый. — Я очень люблю культурную музыку!
Он достал из кармана галифе немецкие сигареты и закурил.
— А ты любишь культурную музыку, Надя? — Фиксатый повернулся к девушке.
Девушка не ответила. Руки по-прежнему были сомкнуты на груди.
Фиксатый поднялся, сделал несколько глубоких затяжек, швырнул сигарету в дверь, вернулся к Мишке и оперся плечом о стенку вагона.
— Слушай, — заговорил он полушепотом. — Хватит трепотни. До Лисок уже недалеко… Знаешь что? Давай вместе э т у… — он кивнул на девушку. — Помоги… Орет и царапается, зараза…
Фиксатый потрогал рукой ссадину на своей скуле.
— Давай! Девка что надо. Я щупал! И-эх!.. — Он в предвкушении оскалил фиксу, латунные глаза его сверкнули.
Мишка взглянул на девушку. Она слушала Фиксатого и, кажется, еще больше сжалась, глядя исподлобья холодно. И с Мишкой произошло то, что происходило с ним в крайних случаях: он сначала действовал, а потом уже разбирался в своих действиях.
Мишка мгновенно напряг ноги и, вскочив, ударил Фиксатого головой в челюсть.
— Убирайся, гад! — закричал он, не чуя себя.
Фиксатый клацнул зубами, отлетел до закрытой двери, упал и стукнулся о дверь боком; фуражка откатилась к стенке.
Девушка бросилась мимо открытой двери к Мишке и стала за его спиной.
— Ну с-сука! Культурный музыкантик! — Фиксатый медленно поднимался с пола и сплевывал кровь. — Музычкой своей ты не займешься. Эт-то я тебе гарантирую! Я в детдоме не таких пришивал!..
Встал, рукавом размазал кровь по подбородку.
— Зуб высмалил, сука! Я с тобой рассчитаюсь. На баянчике твоем поиграют другие!..
Он нагнулся и вынул из-за голенища финку.
— И ты за его спину?.. Тварь!
Он сузил свои латунные глаза, поднял финку в левой руке, двинулся к Мишке, приседая.
Для Мишки неожиданностью был нож, но еще большей неожиданностью было то, что Фиксатый оказался левшой. Еще в школе от военрука Ройкова, бывшего разведчика, перенял Мишка приемы защиты при нападении. Не раз они выручали его в мальчишеских потасовках. Но тогда же, на уроках воендела, Мишку нередко обманывал, перекидывая нож из руки в руку, единственный в классе левша Вовка Тесля. Мишка припомнил это, едва увидел, как Фиксатый занес в левой руке финку.
«Захватить руку с ножом, — лихорадочно забилась у него мысль. — Руку с ножом!..»
Мишка вскинул баян над головой.
— Иди!.. Иди, гад! — закричал он. — Иди, я размозжу тебе черепок!
Фиксатый остановился посреди вагона, спиной к открытой двери. «Садануть бы его, чтоб вылетел из вагона! Бить баяном, придерживая за ремень!..»
Мишка пошел вдоль стенки. Напротив двери, держа над собой баян, ухватив рукой ремень, приостановился. Мимо проплывали поля и темные в собственной тени посадки. Уходил хороший августовский вечер. Фиксатый с финкой в руке стоял спиной к двери…
«Броситься! Грозить баяном, а ударить ногой. Толчком. По центру. Ему не за что будет ухватиться…»
Мишка кинулся на Фиксатого. Девушка, не понимая его маневра, закричала. Фиксатый, будто разгадав Мишкин замысел, отпрыгнул в сторону, в угол, где только что загнанно жалась девушка. Мишка отступил. «Болван! — выругал себя мысленно. — Фиксатый, отскочив, мог схватить меня за руку и с ходу швырнуть в дверь…» От этой мысли Мишка мгновенно взмок и вдруг вспомнил про свой пояс — гордость его перед ребятами, морской пояс с медной, залитой свинцом бляхой.
Все еще держа баян над головой, крикнул девушке:
— Сними пояс! С меня! С меня сними пояс!
Девушка обхватила его сзади дрожащими руками, расстегнула пояс и вынула из брючных петель.
Фиксатый стоял в нерешительности. Мишка заметил его нерешительность. Враз поставил баян на пол, выхватил у девушки пояс, сложил вдвое — бляхой к концу.
Фиксатый двинулся к закрытой двери. Мишка петлей надел на руку пояс и шагнул на середину вагона. Поезд мчался на всех парах. Фиксатый, видимо, понимал: медлить нельзя. Уже начинались меловые горы. Значит, скоро Дон, а там и Лиски. Он понял, что запросто Мишку не взять. Но уверенности ему придавал нож. Фиксатый полагал, что Мишка сможет только обороняться. Мишка же, выйдя на середину, внезапно прыгнул к Фиксатому и что было сил ребром бляхи хотел ударить по руке с финкой. Фиксатый успел отдернуть руку к груди. Тогда следом же — на этот раз удачно! — Мишка рубанул Фиксатого по левому плечу. Тот застонал от боли, прислоняясь к стенке; финку взял в правую руку. От стенки бросился на Мишку.
«Руку с ножом!..»
Мишка рванулся навстречу, удачно перехватил левой рукой занесенную над ним руку Фиксатого с финкой, правой уцепился за воротник его рубахи и, падая на спину и уперев колено в живот Фиксатого, отчаянно рывком кинул его через себя.
Падая на Мишку, Фиксатый, как ему показалось, полоснул-таки по Мишкиной шее; в тот же миг снизу ворвалась в его глаза серая лента железнодорожной насыпи; он выпустил нож, пытаясь ухватиться за дверной косяк, но, подтолкнутый Мишкиными ногами, не смог дотянуться до него и с диким воплем вылетел из вагона…
Мишка, не понимая всего, что произошло, лежал, распластавшись, у самого края пола. Ветер освежал мокрый его лоб, шевелил мокрые волосы.
Все болело. Внутри была противная дрожь. Под левой рукой было что-то теплое. Он поднял руку. Она была в крови.
Мишка сел, достал из кармана носовой платок, промокнул кровь. Выше кисти наискось наливалась кровью ножевая рана.
Мишка зажал рану платком.
— Подожди, — засуетилась Надя. — Я сейчас!..
Она сняла с себя блузку, разорвала ее и замотала лоскутом раненую руку.
— Очень болит?
— Не-ет, — ответил Мишка. Рана и правда не болела. — Зачем блузку-то извела?
— Молчи! Есть еще… выходная.
Она отошла к своей кошелке, достала из нее голубую в белый горошек кофту и надела ее. Опустилась рядом, поджала ноги, ткнулась ему в грудь. Мишкиного подбородка касались вздрагивающие ее волосы, пахнущие летом и еще чем-то неведомым. Он приподнял над волосами здоровую руку, хотел погладить их, но не посмел и отстранил Надю от себя.
— Мне так страшно! — сказала она.
Мишка повернулся к двери и посмотрел вниз. Серовато-желтой лентой летело полотно встречной линии железной дороги. Мишка снова ощутил озноб. Он представил, как Фиксатый грохнулся на гравий, на шпалы, на рельсы, и вздрогнул.
— Знаешь, он как в воду нырнул, — сказала Надя, видимо поняв, о чем думал Мишка.
— Хорошо нырнул. Черт с ним!..
Он встал, увидел фуражку Фиксатого на полу и подцепил ее носком ботинка. Она взлетела на ветру и как перекати-поле закувыркалась вслед за поездом.
— Что тут есть еще его? — Мишка огляделся.
— Вон мешок какой-то, — показала Надя на тряпье в углу вагона.
Мишка выбросил ногой и мешок. Вновь взглянул на ленту железнодорожного полотна. «Все могло быть наоборот…» — подумал он и с ужасом представил мать. «Мне сон нехороший снился, сынок…» — сказала она утром.
— Как тебя зовут? — спросила девушка.
Мишка назвался.
— А ты как очутилась с ним? — спросил в свою очередь.
— Да мы в Подгорной сели. Я гостила у бабушки, в Саприне. Бабушка проводила меня до станции. Поездов все не было и не было. Мне стало жалко бабушку. Она старенькая. А ей надо было еще обратно идти. А поездов все не было и не было. Тут подходит к нам э т о т. «Чего ждете? — говорит. — Поездов? На Воронеж? А можно на товарняке до Лисок. А там до Воронежа — рукой подать. Я как раз туда еду». Мило так улыбается. Зубом светит. Ну, я и развесила уши. А тут бабушку было жалко… Я и согласилась ехать с ним до Лисок. Бабушка долго не хотела, чтоб я ехала так. Но я уговорила ее. А он… только отъехали… Начал… блузку разорвал…
— А в Сагунах почему не сошла?
— Он не пустил. А потом божился — не будет лезть.
Надя поднялась.
— Почему люди т а к и е? — грустно сказала она. — Почему? Им веришь, а они…
— Не все же… — возразил Мишка.
— Да-а-а…
Поезд подходил к Лискам. Уже переезжали Дон.
— Тебя в самом деле ждет отец в Лисках?
— Не-ет, это я придумала. Чтоб он забоялся.
Мишка шагнул к баяну.
— Тогда собирайся. Попробуем на пассажирский попасть.
Надя послушно сунула лоскутки блузки в свою кошелку.
На лискинском вокзале народу было — яблоку негде упасть. Они уселись на перроне. У Нади в кошелке оказался кусок хлеба, завернутый бабушкой в тряпицу. Мишка принес кружку кипятка, и они проворно поели.
— Миш, а вдруг он появится тут?
— Думаю, это не скоро будет, — сказал Мишка, — Ты представляешь, на полном ходу пропахать по насыпи?.. Не волнуйся.
— А зачем ты едешь в Воронеж? — спросила Надя.
— Я правду сказал. Поступать в музыкальное.
— Ой, а как же ты будешь теперь? — Она показала на перевязанную руку. — Как будешь играть-то?
Мишка пошевелил пальцами.
— Ничего вроде…
Надя задумчиво посмотрела на него.
— А ты именно в Воронеж и хотел?
Мишка помолчал.
Он мечтал о Москве.
Как-то на тетрадном листке бумаги нарисовал гриф — на нем были музы и музыкальные инструменты. В центре надпись: «Консерватория «Мечта». Внизу текст:
«Тов. Кобзарь! Вы вызываетесь на экзамены в консерваторию «Мечта» к 25 августа 1945 года. Явка обязательна. Директор…»
И сам замысловато расписался.
— Знаешь, мамо, я показал бумажку хлопцам — поверили. Понимаешь?
— А ты все ж таки мечтаешь за музыку? — волнуясь, сказала мать.
— Да! — горячо шепнул он.
«Сынок родной, — думала мать. — Батька немае. Грошей немае. Одежки-обувки немае… От вона яка, музыка…» А вслух сказала:
— Ну, потерпи. Вот закончится война…
Мишка терпел.
Вот закончится война…
Однажды прибежал из клуба домой и стал рассказывать о кинофильме, который только что видел. В нем, оказывается, играла главную роль двоюродная сестра отца. Значит, она живет в Москве, думал Мишка. Тут же написал ей письмо, без обиняков прося помочь поступить в какое-либо музыкальное училище. Шли недели. Ответа не было. Так Мишка и не дождался его. Потом узнал, что в Тамбове есть музучилище. Там жила родная сестра отца. Тут уж Мишка попросил лишь сообщить об условиях приема. Ответа тоже не последовало. Видно, испугались тетки, как бы Мишка не стал для них нахлебником.
По-мальчишески разобидевшись на родичей, Мишка понял, что надеяться он может только на самого себя.
Вот закончится война…
Весной 1946 года он услышал, что открыто музыкальное в Воронеже. Это ближе к дому. И он решил ехать в Воронеж.
Он мечтал о славе. Он представлял, как уедет после войны в консерваторию. Скажем, как Петька Говорков в кинофильме «Музыкальная история». Окончив консерваторию, вернется в родной город знаменитым музыкантом. Сойдет с поезда — в сером костюме, в шляпе с лентой, с легким лакированным чемоданом в руке; на другой будет свернутое демисезонное серое пальто, точь-в-точь как у директора яйцебазы, где до войны работал отец. Мишка будет идти со станции, непременно встретит кого-либо из своих сверстников; они с трудом будут узнавать его. С пожилыми людьми он будет здороваться, приподнимая шляпу, и старики, когда он пройдет мимо, будут долго из-под ладони смотреть ему вслед и гадать — чей же это сын?..
— Ты знаешь, я подумала: а вдруг бы ты сегодня не ехал в Воронеж? Что б со мной было?
— Теперь уж об этом не надо, — успокаивал Надю Мишка.
— Знаешь, я тоже мечтаю о музыкальном. Но мачеха не хочет. Долдонит: иди да иди работать!
— А где мать?
— Убило в сорок втором. Когда эвакуировались… Мы бежали по Студенческой. Бомба грохнула рядом. Маму на месте. А меня откинуло волной… А у тебя есть родители?
— Одна мама. А батька… немцы забили. В оккупации.
Мишка снова перенесся в дни перед отъездом в Воронеж. Он заканчивал строить погреб. Притащил со свалки раму от немецкого грузовика, положил ее на яму, застелил досками, всяким железом и присыпал землей. Погребица была готова, и он легко вставил ее в квадратную дыру рамы. Взмокший, присел отдохнуть и уловил материн взгляд на себя. Она стояла под абрикосом и глядела на него.
«Господи! Что б я без него? Без моего родненького помощника?..»
С самого утра она стирала для Мишки, сушила, гладила, то и дело украдкой поглядывая на него. Она вспоминала сына маленьким, лет пяти-шести, в коричневой в клеточку рубашонке, в коротких штанишках. В гости приехали братья мужа, Иван и Михаил, командиры Красной Армии. Собрались все за столом. Сын взобрался на колени Ивана, трогал пальцем его ремни, петлицы, пуговицы со звездочками.
— Ты кем будешь, Мишук? — спрашивал Иван.
— Музыкантом! — выпаливал Мишка.
— О-о! Красной Армии музыканты нужны!
Иван наливал Мишке в лафитник глоток кагору.
— Давай, музыкант!
И Мишка запросто опрокидывал рюмку, как взрослые.
— Ваня, шо ты робишь? — переживала мама.
— Ложку кагора детям даже поп в церкви дает! — отшучивался Иван.
Потом все пели. А пели всегда здорово — в два-три голоса. Пели старинные украинские песни, романсы. Вся улица собиралась под окном послушать.
Мишка, бывало, усядется в сторонке, слушает и обливается слезами. С мальства не мог он слушать спокойно песни и музыку.
Вспомнились матери и другие слезы… Раз он прибежал от сестры мужа. Прибежал заплаканный. Он играл там на балалайке, когда в дом вошел деверь Дмитро. Увидел Мишку, вырвал из рук у него балалайку и вытолкнул из кухни.
— Марш отсюда! Хай батько тоби купит инструмент — тоди и грай!
С полгода мать упрашивала отца купить Мишке балалайку. Все не могли стянуться. То ботинки нужнее были, то пальтишко. А уж когда привезла наконец из Россоши шестиструнку, он не расставался с нею. Спать ложился и ставил ее в головах. Ночью проснется и протягивает руку, ощупывает ее — на месте ли? Ощупав, спокойно засыпает.
«На баянчике твоем будут играть другие…» Мерзавец! Знал бы он, как Мишка шел к нему. Баян — последняя Мишкина надежда.
Вскоре семья переехала жить в город Россошь.
В городской школе Мишка научился играть на мандолине, а перед самой войной — на гитаре. В школьном оркестре играл.
Жили Кобзари на улице Фрунзе. По соседству квартировал старый учитель. Вечерами он выходил во двор и подолгу играл на скрипке.
Мишка стеснялся подойти к нему. И все-таки желание поближе увидеть скрипку, а может быть, и подержать ее в руках победило.
Учитель, больной и одинокий, оказался приветливым. Мишка, едва взял скрипку в руки, потрогал струны, понял, что строй скрипки схож со строем мандолины. Смущало лишь отсутствие ладов. На удивление учителю Мишка сразу стал подбирать знакомые мелодии.
— Считайте, что это и ваша скрипка, приходите и играйте, молодой человек! — мягко сказал он.
И Мишка приходил.
Он забросил футбол, перестал рыбачить и целыми днями и вечерами играл на скрипке.
Раз в выходной день пришел учитель к Кобзарям. Отец был дома. Учитель вошел в комнату, остановился на пороге, покашлял и жалобно, как показалось Мишке, сказал: «Знаете, ваш мальчик очень талантливый. Вы должны послать его в Москву учиться музыке. Непременно!.. Вы понимаете, очень талантливый…» — «На шо? — сказал отец. — Он и так играет на всех инструментах».
Мишка перевел глаза на мать. Она стояла у печки и разогревала на сковородке картошку. Недоуменно взглянула на отца, потом на учителя. Ей так неудобно было за слова отца. А учитель понял, что союзником Мишки будет мать, и уже обратился к ней: «Мальчику надо учиться музыке. Вы понимаете? Мальчик будет играть про-фес-сио-наль-но», — сказал он и ушел.
В тот же день отец и мать поругались. Отец, как только вышел сосед, сказал, что какого, мол, черта, мешаться не в свое дело. Учиться — в Москву!.. А на какие деньги? Кто с ним, девятилетним шкетом, поедет туда, в Москву? И где он там будет жить?..
Мать стала укорять отца в жадности, в нежелании позаботиться о единственном сыне. Мишке казалось, что она тут же готова собрать вещички, взять его и уехать в далекую Москву ради него. Но он понимал, что нельзя же в самом деле оставить отца и уехать. В то же время в ушах звучали тихие и твердые слова: «Мальчику надо учиться музыке…»
Мать присела у духовки и заплакала. «Як жаль, шо умерла тетя Даша, — сказала она. — Була бы она живая, ты бы, сынок, сразу поехал в ту Москву…»
Бездетная материна сестра, умершая в Москве четыре года назад, так любила Мишку, что даже просила мать отдать его ей…
«Мальчику надо учиться музыке…»
Эти слова потерялись в грохоте сорок первого года.
Вот закончится война!..
В дни немецкой оккупации в хату Кобзарей иногда сходились соседские бабы.
— Миша, сынок, заграй шо-нибудь наше.
Однажды Мишку за игрой на гитаре застал немец.
— О-о! Шпилен-шпилен! Гут. Давай-давай!..
И запел:
— Вольга-Вольга, муттер-Вольга!.. Давай-давай!..
Когда немец ушел, отец — он тогда еще был жив — сказал зло:
— Муттер-Вольга… Подожди, растак твою… Она ще покаже тоби «муттер»!..
— Надя, а вам сразу удалось найти свой путь? Как это получилось?
— Было это давно. После войны. Страшно сказать, как я уже стара… А помог мне один парень. Старше меня он был года на два — на три. И, между прочим, звали его… Мишей!
Надежда повернулась к Кобзарю.
А тот задумчиво перебирал струны.
— Скажите, Миша, где вы учились играть?
— Нигде, — покачал головой Михаил Сергеевич.
— Удивительно! Вы так глубоко чувствуете музыку. Вам бы непременно учиться! — говорила женщина с шарфиком на шее. Все кивали в знак согласия.
Надежда долгим взглядом поглядела на Михаила Сергеевича.
В Лисках они сели на пассажирский поезд 165-бис. Когда он прибыл, они зашли с хвоста. Искали свободную подножку или сцепление. Почти у каждого вагона толпились мешочники. Пришлось пройти чуть ли не весь состав.
Поезд лязгнул буферами, Мишка подсадил Надю на ступеньку ближайшего вагона.
— Пробирайся на буфера. Видишь, там железная полка. Становись на нее и держись за скобу, вон прямо перед тобой.
Сам с трудом вскочил на подножку. Баян оттягивал плечо. На рывках поезда баян вело по ходу. Едва удерживался. Затекали руки.
Мишка просовывал руку за поручень, обнимал его и прислонялся щекой к нему. Долго стоять так было невозможно, он переступал с ноги на ногу. Поглядывал вниз, чтоб не оступиться. Поглядывал бегло — от несущегося перед глазами полотна кружилась голова.
— Миш, Миш, давай баян сюда! Давай поставим его на полку, и я сяду на него, — закричала Надя, сверкая глазами. — Можно? Тебе легче будет стоять. Или иди сюда. Тут можно вдвоем!
Мишка осмотрелся, попросил подвинуться чуть в сторону стоящего впереди мужика с мешком у ног. Тот поворчал, но подвинулся, освободил края ступенек. По ним Мишка пробрался на верхнюю ступеньку, осторожно снял ремень с плеча, подал его Наде; сам поддерживал на весу баян.
— Гляди под ноги, — предупредил ее.
Надя ухватила относимый ветром ремень. Мишка, не упуская его тоже, шагнул на буфер, плавающий, как буй по волнам, и они поставили на полку баян. Надя уселась на нем. Мишка почувствовал великое облегчение, стал рядом и загородил ее от пространства между буферами; как пряжа в ткацком станке, вытягивалась насыпь железной дороги.
— Не смотри вниз, — сказала Надя, — кружится голова.
Мишка намотал ремень на руку, нащупал место ногой, чтобы стать на полную ступню, и невольно вслушивался в грохот поезда.
Давно смерклось. Не видно стало посадок и полей. Все вытягивалось в одну черную полосу.
— Не засни, пожалуйста, — сказала Надя и встала. Лицо ее светлело у самых его глаз. — Не засни смотри.
«Не спать! Не спать! Не спать!» — начали выстукивать колеса на стыках. Надя просунула горячую руку у него под мышкой и, обняв, держалась за него. Изредка во тьме шептала:
— Тебе удобно стоять? Ты не заснул? Не спи. Мне страшно — не засни.
«Не спать! Не спать! Не спать!» — стучали колеса.
— Миш, ты рассказывай что-нибудь. А?
Говорить было трудно. Надо было кричать, чтоб слышать друг друга. Мишка видел во тьме ее глаза, ощущал ее, прижавшуюся к нему. Она то и дело засыпала. Он чувствовал, как она тяжелеет, как падает ее голова ему на грудь, и крепче прижимал ее к себе. При торможении или рывке она в испуге просыпалась и опять кричала:
— Ты не засни, Миша. Не спишь?
Впервые Мишка подумал о странностях жизни. Сегодня утром он и не подозревал о существовании Нади. И вот они едут, прижавшись друг к другу. Как будто давно-давно знакомы.
Город был во тьме. Лишь в здании, приспособленном под вокзал (вокзал был разбомблен), тускло горели две-три лампочки. Они освещали сонные серые лица людей. Спали кое-как. Кто улегся на скамейках и тяжелых дубовых диванах с выжженными буквами НКПС[2] на спинках. Кто прикорнул у стены. Кто прислонился к спящему соседу. Во сне придерживали руками мешки, сумки, чемоданы, подкладывали их под себя, полами пиджаков и кофт прикрывали детей.
Духота. Грязь. Запах пота. Храп. Сопенье.
— Пойдем прямо к нам, — предложила Надя. — Это не очень далеко.
— Как к вам? — не понял Мишка.
— Очень просто. Я расскажу дома про все. Ты же меня спас. Ты понимаешь?
— Ну и что? — У Мишки слипались глаза. — Нет. Не пойдем сейчас. Боюсь за баян. Еще отнимут ночью.
— Ну ладно, — сказала Надя. — Давай до утра тут. Тебе когда в училище?
— Послезавтра.
— Ну, вот у нас и побудешь. А?
Мишка кивнул.
Болели ноги. Болели плечи. Болело все. И очень хотелось спать. Они нашли в зале у обшарпанной стены свободное место. Поставили баян к стене. С обеих сторон уселись на полу, положив руки на баян, а на руки — головы, так что утащить его было невозможно, и уснули голова к голове, слыша дыхание друг друга. Уже засыпая, она шепнула:
— Ты не бойся за баян. Я услышу… Обяза…
И ладонью коснулась его щеки.
Мишка проснулся от того, что услышал стон. Стонала во сне Надя. Она отводила от себя руку, будто отгребала воду, и выдыхала со стоном: «Уйди! Уйди же!.. Ну, прошу тебя, уйди-и!»
Мишка легко потрепал Надю за плечо.
— Ой! — Она встрепенулась, кулачками стала тереть глаза. — Ой, знаешь, этот с фиксой приснился. Вроде приставил финку к груди мне… Фу, гадость!
— Ладно, — сказал Мишка. — Поспи еще.
Она послушно прилегла и спала еще с час. Мишка сидел рядом. Смотрел на ее полураскрытые губы, на нервно подергивающиеся руки. Под утро тоже уснул.
Разбудил их милиционер.
— Далеко едем, граждане? — спросил он. — Давайте освобождать зал на уборку. Поторопитесь, граждане!
Торопить их не надо было. Они тут же вышли из вокзала.
Всходило солнце. Затевался яркий день. Пока стояла прохлада.
Они перешли сквер с изуродованными бомбежкой деревьями — без вершин, с ободранными ветками, с иссеченными осколками стволами. На скамьях сквера лежали и сидели люди. Крохотная девчурка, разбросавшись, спала. Над ней склонилась совсем молодая женщина, прикрыв веки. Платок ее сбился набок, из-под него курчавились седые волосы.
Надя несколько раз оглянулась на нее.
— Знаешь, она так похожа на маму. Мама тоже поседела в первые месяцы войны. Когда похоронки пришли. Сразу на двух братьев. Чуть не в один день…
Перешли площадь. Поднялись по улице, миновали огромное здание управления железной дороги и пошли проспектом.
Что это был проспект — гласила табличка на углу полуразрушенного дома. На самом деле это была расчищенная и подметенная дорога среди руин. Город казался мертвым. Справа и слева, вблизи и вдали возвышались каркасы сгоревших и разрушенных домов. Деревья, распахнув зеленые ветви, будто хотели укрыть их.
Оглядываясь по сторонам, Мишка шагал легко, хотя чувствовал еще дорожную усталость. Все ему казалось нереальным.
У Кольцовского сквера Надя приостановила его. Прямо перед ними на площади высились гигантские развалины.
— Это был обком, — сказала Надя. — Красивое здание. Еще немного пройдем, свернем направо и к нам.
— Нет, Надя, давай сходим к училищу, — сказал Мишка. — Я хочу посмотреть. Ты знаешь, как пройти туда?
— Господи, какой ты нетерпеливый! Зачем в такую рань?
— Не знаю. Но давай сходим!
В стороне от проспекта повсюду громоздились груды щебня, кирпича, штукатурки. Мишке подумалось, что вся жизнь его, вся его дорога к тому, к чему он сейчас шел, была похожа на эту улицу — в развалинах, в камнях. Он не замечал, как они шли. Он вспомнил родной городок, бесконечные бомбежки, отступление наших, вторжение немцев, оккупацию, освобождение, гибель друзей, родных… Сколько их!.. Одних он хоронил сам. Другие загинули где-то вдалеке от родного дома. Третьи… От них не осталось ничего — они попадали под бомбы, снаряды… А вот он… он жив, он — у самой заветной цели!..
Мишка отвлекся от своих раздумий только тогда, когда увидел на фронтоне уцелевшего дома табличку с названием улицы — Среднемосковская.
Это было чудом после того, что видел Мишка на всей дороге сюда. Как будто перешли они какую-то границу. Улица была целехонька. Над тротуаром склонялись большие деревья. Мишка посмотрел на Надю и улыбнулся. Она увидела перед собой счастливого человека.
— Тебе хорошо, Миш?
— Очень! — сказал он.
И вдруг произошло то, чего он сразу не понял. То ли в нем что-то пело, то ли вокруг него. Но он услышал пение и какие-то иные звуки. Они приближались. Они становились явственнее. Замедлив шаг, он зажал уши руками. Непонятные звуки и пение прекратилось. Открыл уши — снова зазвучали.
Через несколько минут Мишка и Надя остановились у двухэтажного дома, за кирпичной оградой.
У ворот на ограде была вывеска. Из открытых окон, несмотря на ранний час, в синее утро, в листву окружавших дом деревьев, в небо, в сердце неслось пение, звуки скрипок и фортепьяно. Дом будил музыкой новый день земли.
У Мишки перехватило дыхание. Он снял с плеча баян, поставил его у ног Нади и попросил подождать его. Надя молча кивнула.
Мишка с колотящимся сердцем вошел в ворота, пересек двор. У двери почувствовал такие сильные удары в груди, что они качали его. Только на секунду он задержал поднятую руку и все же открыл дверь. Перед ним, через коридор, у гардероба, сидела пожилая женщина-вахтер.
— Вы к кому?
— Я приехал поступать учиться.
— Приемные экзамены завтра, — спокойно, с явным сознанием значительности пояснила она.
— Я знаю… — замялся Мишка. — Но можно мне пройти по училищу?
Женщина пожала плечами, улыбнулась и молча развела руки.
Длинный коридор был свежевымыт. От него исходила прохлада. Двери комнат были закрыты. Почти за каждой играли и пели. Слева у окна стоял большой стенд, оклеенный исписанными бумагами. Мишка подошел к стенду и отыскал списки допущенных к экзаменам. Класс скрипки… фортепьяно…
«Счастливчики! — подумал Мишка. — Только бы поступить! А там я буду заниматься и на пианино! Чайковский тоже начал поздно…»
Список поступающих в училище по классу баяна висел у края стенда. В списке было двадцать семь фамилий. В середине была и его фамилия, причем с ошибкой — Кабзарь. Он усмехнулся. «Ну и ладно, хоть горшком назовите…»
Мишка поднялся на второй этаж. Двери. Двери. Двери. На каждой табличка. Класс преподавателя Давидовича. Класс преподавателя Чистякова… Кто же будет у него, у Мишки? И где будет его класс?
Спустившись снова на первый этаж, он увидел канцелярию. «Угу, завтра сюда и приходить…» Он приостановился у входной двери. «Ну что ж, до завтра».
Он простился с дремавшей вахтершей. Дверь прикрыл за собой тихо.
— Ой, как ты долго! — сказала Надя. — Ну, выяснил все?
— Не все. Но себя в списке видел!
— Поздравляю! — Надя протянула ему свою узенькую ладошку.
Да, прибран был только центр города. Чуть от центра — лежали руины. Деревья своей листвой не в силах были укрыть разрушения войны.
Свернув со Среднемосковской, Мишке и Наде пришлось перебираться через развалины. Оазисом показались два дома среди множества стен, изрешеченных пулями и осколками, зияющих дырами и пустыми проемами окон и дверей, закопченных и обожженных в огне бомбежек и артиллерийских налетов.
— Просто не представляю, как остался цел наш дом, — говорила Надя, увлекая Мишку за собой.
Спотыкаясь о глыбы железобетона, Мишка и Надя добрались до подъезда двухэтажного желтого дома; многие окна его были заткнуты подушками и ветошью. На стенах темнели выбоины — следы пуль и осколков.
Вошли в полутемный сырой подъезд. Остановились перед черной клеенчатой дверью. Надя оглянулась на Мишку, улыбнулась ему и глухо постучала. Не открывали долго. Потом за дверью послышалось шуршанье. Кто-то подошел; наверное, прислушивался. Надя еще раз постучала.
— Это я, Капитолина Сидоровна! — сказала она.
— Кто? — переспросили за дверью.
— Ну я, я, Надя!
За дверью снова зашуршали. Откинули крючок вверху, потом внизу. Повернулся ключ внутреннего замка, и дверь наконец отворилась. Перед Мишкой и Надей стояла полная, в ярком цветастом халате женщина. Одной рукой она держала дверь, как будто на случай, если надо будет немедленно прихлопнуть ее, другой подняла очки над низким лбом.
Надя перешагнула порог, потащила за собой Мишку.
Капитолина Сидоровна посторонилась недоуменно.
— А кто это с тобою? И незля ли потише входить?
Хозяйка так и сказала «незля», и Мишка понял, он — гость нежеланный.
— Сколько раз я вам твердила: не незля, а нельзя, — сказала Надя, сняла с Мишкиного плеча баян и понесла его в глубь квартиры.
— Не тебе меня учить! Что это за ящик такой?
— Это музыкальный инструмент, Капитолина Сидоровна! — игриво и чуть с издевкой пояснила Надя. — Баян называется. — Она остановилась перед трюмо и ахнула: — Ой, да погляди, какая я! А ну-ка ты?.. Как же мы смотрели?
Только теперь они разглядели, как запылены и грязны.
— Представляю твой видик в музучилище! — рассмеялась Надя.
Мишка молча стоял на пороге Надиной комнаты. Его удивляла перемена в Наде. Она вдруг стала говорливой и решительной.
— Ты чего не проходишь? Проходи сюда. Раздевайся. Сейчас будем мыться. Мы же с тобой как домовые!
— Так объясни мне, кто это такой.
— Сейчас вымоемся. Сядем завтракать — я вам все разъясню. Это мой спаситель. Вот кто!
— Тогда сымай, парень, баретки и проходи.
Мишка не двигался.
— Полуботинки свои сними, — сказала Надя, пряча улыбку.
Мишка снял туфли и по коврику прошел в Надину комнату. Присел на табуретку перед трюмо, взглянул на себя — боже, одни глаза сверкали; руки и лицо — как у трубочиста. Он снова почувствовал усталость, ломило спину.
Комната вся была заставлена мебелью: столы, столики, тумбочки, стулья. На полу, вперекрест, лежали оранжевые дорожки. По углам в небольших кадках возвышались до потолка фикусы, у окна красовалась пальма.
Где-то в глубине квартиры, куда скрылась Капитолина Сидоровна, слышался голос Нади. Она, не дожидаясь сбора за столом, рассказала мачехе о происшествии в дороге.
Мишка оглядывал комнату и будто вернулся в свое раннее довоенное детство — в тишину, чистоту и цветы.
Капитолина Сидоровна появилась на пороге Надиной комнаты.
— Ишь ты какой! — В руках у нее был бинт. — А ну, покажь руку.
— Нет-нет, я сама перевяжу, — крикнула из коридора Надя. — Я сама. Сначала надо промыть!
Через час, освеженные мытьем, они сидели на кухне за большим под белой скатеркой столом и пили чай. На тарелках перед ними лежали бутерброды с колбасой, которой Мишка не видел года четыре, и баранки — сухие, хрупкие баранки, про существование которых Мишка забыл.
— Больше до чаю ничего не припасла, — говорила Капитолина Сидоровна, подливая в цветные чашки чай. — У вакуации жили, так у нас все было, а возвернулись сюда — хужее живем.
«Ничего себе хужее, — думал Мишка, обливаясь потом, пьянея от запахов колбасы и чая. — А как те там, в руинах?..»
— Постыдитесь жаловаться, Капитолина Сидоровна, — сказала Надя. — Поехали бы вы к бабушке да поглядели, как живут люди. Рады-радехоньки куску макухи!
— Тебе я все не так говорю. Давно знаю, — недовольно ответила Капитолина Сидоровна. — Вот возвернется отец, я…
— Жалуйтесь, жалуйтесь! — Надя подняла обе руки и закивала головой.
Потом, как школьница за партой, сидела и ждала, когда Мишка напьется чаю. После завтрака вернулись в Надину комнату. За шторой, оказывается, была дверь на стеклянную террасу, всю освещенную солнечным светом.
— Видишь, это нам папины рабочие пристроили! Хорошо?.. Вот тебе диван. Подушка. Можешь взять сюда баян. Как твоя рука? Будешь заниматься?
Перевязка раны вызвала боль. Но Мишка не стал говорить об этом.
— Да. Позанимаюсь… А кто твой папа?
— Начальник автоколонны… Ну, я пойду уберу со стола. А то кудахтанья не оберешься.
Когда Надя вернулась на террасу, Мишка спал, уткнувшись носом в стенку дивана. Надя укрыла его старой — от родной матери осталась — шалью, которой укрывалась сама, постояла, потрогала Мишкин вихор и на цыпочках вышла с террасы, притворив за собою дверь.
— Нет, друзья, все-таки гитара — черт знает что за инструмент! — воскликнул красный цыган. — За самое-самое берет! Ей-богу! Я так рад, что сын учится на гитаре!.. Давайте еще по маленькой! За Надю! За эту ночь!.. Все-таки Новый год — давайте!
— Ты прав, Эдик! — воскликнула его жена, женщина с шарфиком. — Сколько самых дорогих воспоминаний под эту чертову гитару. Как это?.. «И каждый думал о своем — о чем-то дорогом». Точно. Посмотрите друг на друга. Давайте пригубим! Ты прав, Эдик! За Надю!.. «Нехотя вспомнишь и время былое…» Эх, знаете, пела и я когда-то… Да и сейчас иногда… Подведем баланс — и с девчонками… Вы думаете, счетные работники — сухари черствые?.. Наденька, еще что-нибудь! Пожалуйста!
Проснувшись, Мишка с трудом вспомнил, где он. Огляделся. Встал, прикрыл плотнее дверь террасы, вынул из футляра баян и начал готовиться к завтрашнему дню. Играл гаммы, этюды, народные русские песни, которые разучивал для экзаменов. Ныла раненая рука, но он играл до вечера, пока не вошла к нему Капитолина Сидоровна.
— Эт ты завсегда так? — спросила она. — Кажный день?
— Что? — не понял Мишка.
— Кажный день, говорю, так много пиликаешь?
— Да, Капитолина Сидоровна. Играть надо помногу. Иначе пальцы ходить не будут.
— Гм… Да ты и сам с ума сойдешь. И рядом кто с тобою — чокнется от столькой музыки. Ей-богу!.. Я в доме, где-то аж в своей спальне, и то голова разболелася.
Мишка смущенно снял с плеча ремень и осторожно уложил раненую руку на мехи баяна.
Капитолина Сидоровна ушла. Он все же еще немного поиграл. Походил-поразмялся по террасе. Снова прилег на диван. И тут же уснул.
Спал и чувствовал — на него смотрят. Проснулся — так и есть. На диване рядом с ним сидела Надя, запахнутая в материну шаль.
— А я уж давно возле тебя. Выспался?.. Ты так сладко спал, мы тебя не стали будить. Я все-все отцу рассказала. Он зашел сюда, поглядел на тебя сонного и ушел. И знаешь, ты понравился ему. Вот!.. — От волнения она встала и заходила по террасе. — Папа уехал в командировку. Приедет — я тебя с ним познакомлю. Он сказал мачехе, чтоб ты у нас жил, пока будешь сдавать экзамены. Понял?.. Есть хочешь? — Она пододвинула табуретку с двумя тарелками на ней и с чашкой. — Бери вот мясо, картошку и хлеб. И вот чай. Вишь, я накрыла, чтоб не остывал. Ешь давай!..
Мишка слушал Надю и не верил, что все так сложилось. Все волнения матери перед отъездом были как раз о том, где ему быть в дни экзаменов. Он мысленно увидел мать — босую, ноги в глине, с подоткнутой юбкой.
Он сел и принялся за еду. Странно было то, что он не стеснялся Нади, как будто он был знаком с ней много-много лет. Странно было и то, что она так свободно с ним себя вела. Ему было даже забавно, как она заботится о нем — чем-то напоминая мать.
Вот и сейчас она, словно мать, сидела и смотрела, как Мишка уплетал хлеб с мясом.
— Слушай, Миш! А ты — только честно — напугался в вагоне? А? Как ты пошел на нож!.. Мне и сейчас страшно, — ужас!..
— Честно, — ответил он. — Напугался. Только уже потом… когда Фиксатого не было…
— Как это?
— А так. Представил все. Как Фиксатый собьет меня. Всадит нож тебе. Или уволокет баян… А ты знаешь, что для меня баян… Вдруг бы промазал им, когда хотел ударить Фиксатого, и разбил бы к черту… Ты понимаешь, что это?.. Знаешь, как я дожидался его?.. Но это я все потом представлял. У меня всегда так. Продумываю потом…
— А как ты дожидался, расскажи. Ну, пожалуйста.
— Потом как-нибудь.
— Нет, не потом. Прошу тебя, Ми-и-иша! — Надя пододвинулась еще ближе и положила руку ему на колено; брови ее приподнялись, большие глаза уставились в него. — Я немедленно все-все хочу знать. Ну, пожалуйста!..
— Ты так просишь, будто от этого шут знает что зависит.
— Да! Зависит! — почти прокричала Надя. — Зависит!
— Просто мне все-таки здорово повезло, — сказал Мишка и замолчал, задумавшись.
— Ну, так расскажи!.. А ты всегда мечтал стать баянистом?..
— Нет, мне хочется по-настоящему играть на пианино. — Мишка тяжело вздохнул. — Но где же нам взять было такие деньги, чтоб купить пианино? Если бы мы продали все-все, что у нас было и есть, все равно не хватило б… Да и учиться надо было начинать с четырех-пяти лет. А я только в десять узнал, что есть такой инструмент… Но все-таки, если поступлю, буду одновременно учиться и на пианино.
— Конечно, поступишь! — выкрикнула Надя нетерпеливо. — Почему это ты не поступишь?.. Ну, а как тебе повезло? Расскажи!
— В общем, так. Долго мне до сегодняшнего дня плутать пришлось. Не смейся только. Знаешь, где я учился? Даже в птицетехникуме. Да. Учился на лучшем отделении — технологическом. Я же поступал как отличник. Понимаешь, в седьмом классе надо было решать, какую профессию выбрать. У матери я один. Она делала для меня все. Выдыхалась. А я не знаю, как будет завтра. Шла ведь еще война. Придется ли учиться после десятилетки? Или нет? А специальности никакой. Решил приобретать специальность… В городе нашем есть медшкола, птицетехникум и педучилище. Куда идти? Маме наговорили: станет техноруком на птицефабрике — все у вас будет, все в ваших руках. Я-то махнул бы в музыкальное уже тогда. Но… Вот эти «но». Баяна нет!..
И пошел я в «птишню», — так у нас называют птицетехникум. Курощупами дразнили нас соседи из педучилища. Начал учиться, понял: не то, не для меня. Бежать? Куда? Куда побежишь в середине года? Кое-как тянул на тройки. А разве я б был троечником в музучилище?.. Нет, нужен баян!.. И стал я подумывать, как купить баян. На баяне я уже играл, и довольно прилично. У меня дружок был с баяном, Степан Божко. Так я дневал и ночевал у него. Ну вот… Начал я искать баян. В магазинах их не было и нет. Нашел один в Чернышовке, — село есть такое. Километрах в восьми от нашего города. Баян — не ахти. А хозяин просит за него восемь тысяч. И ни капли меньше. Как чует, нужен мне позарез инструмент. Где столько денег взять?.. И тогда мама продает скатерть — она купила ее в молодости еще, когда замуж за отца собиралась, специально в Ленинград ездила на заработки. Продает атласный отрез — отец перед войной из Минска привез на одеяло. Продает платья свои… В общем, все-все, что берегла как память про свою молодость, про отца… Все продала. Осталась в чем ходила в будни… Да еще в долг залезла. Три тыщи пришлось занять… И мы отправились за баяном. Отвалили восемь тысяч. Ни копейки не уступил куркуль чернышовский… Никогда не забуду тот день! На обратном пути ударил дождь. Да такой — с громом, с молнией! Шли босиком. Промокли до нитки. Несли баян по очереди. Скользко. Раза два я падал… Но не было людей счастливее нас в тот день!..
Кое-как заканчивал я первый курс птицетехникума. Есть баян — значит, надо ехать в музыкальное! Но… Опять «но»…
Подумал-подумал я — нельзя ехать. Как же я брошу мать в чужой квартире? Что она сможет одна?.. Своей халупы у нас не было. Наш дом разбило немецкой бомбой. Пять лет уже мы шатались по частным квартирам. А ты знаешь, что это значит? Не там сел, не там встал. Не там прошел. Вечно ты виноват, а хозяин прав… Вот и думай тут!..
А тем временем нам с матерью выделили усадьбу. И стал я баяном зарабатывать на хату. Меня приглашали играть на свадьбы, на дни рождения, на всяческие праздники. И я играл, а играл я — не сочти за хвастовство — всегда честно, не подводил компаний. Играл за деньги. Играл за просо, за кукурузу, за макуху — жрать ведь нечего. Играл за доски — пригодятся на хату. Играл за бревна. За то, чтобы привезти песку или глины; за то, чтобы дали лошадь с повозкой на день: привезти камыш из Морозовки — нужно на стены, на крышу… Черт знает за что я только не играл! А ты знаешь, что значит играть в компании, да еще пьяной?.. Я играл сутками напролет. Уже на ногах не стоишь — а им давай «барыню»! Уже руки баян не держат, а им песняка давай!.. На улице мороз за тридцать, пальцы коченеют на ледяных клавишах — а ты играй, так-перетак!.. Передохнуть я мог только в двух случаях: либо надо выпить-закусить, — тут баянисту первая чарка! Либо перекур устраивать!..
— И ты пил и курил? — Надя подалась к Мишке.
— И пил. И курил, — вздохнул он. — Все было… В конце концов начали строить хату. Поднарядил я одного старика соседа. Мать из кожи лезла. И кое-как поставили мы камышовую халупу в три окна. Не сразу, конечно. Когда поднакопилось материалу — целое лето провозились.
Тут узнал я, что в педучилище преподают музыку. Учат играть на скрипке. И перешел туда. На второй курс. Правда, поморщился директор — у меня же одни тройки за первый курс «птишни». Но принял. Мужиков-то в училище и до сих пор — раз-два и обчелся.
И вот нынешней весной кое-как влезли мы в свою хату. И тогда я пошел к директору педучилища — давайте мне, говорю, документы, хочу уходить. «Как уходить? Какие документы? До сессии полмесяца. Предпоследний курс… Ты без пяти минут выпускник! Ты что, рехнулся?» — кричит он на меня. А я ему свое — не буду сдавать экзамены. Мне это не нужно. Я еду в музыкальное. «Ты и так хорошо играешь, — говорит директор. — Руководишь нашим оркестром. Выступаешь по радио, на концертах. Чего тебе еще надо?» Хочу быть настоящим музыкантом, отвечаю.
Поругались мы. И все же документы я забрал. Главное, мне нужна была справка об окончании семилетки — там же все пятерки. Стало быть, мне не сдавать экзамены по общеобразовательным. Только по музыке.
Весну и лето готовил я программу. И опять же закончил отделку хаты. Наличники на окна сделал. Покрасил все. Погреб вырыл. Сгондобил сарайчик. Вот и все.
Мишка умолк. И долго молчал. Надя тоже сидела молча.
— Скоро рассвет, — тихо сказал он. — Иди-ка ты спать.
Она будто не слышала его.
— Миш, ты никому не скажешь? — зашептала вдруг.
— Про что? — спросил он тоже шепотом.
— А вот про что… Закрой глаза.
Она наклонилась к нему, обхватила руками за шею и крепко прижалась губами к его щеке.
Мишке показалось — его бросили на раскаленные угли. Когда он открыл глаза, Нади на террасе не было…
«Снился мне сад в подвенечном уборе, в этом саду мы сидели вдвоем. Звезды на небе, звезды на море, звезды в сердце моем…»
Экзамены Мишке показались шуткой. Ничего серьезного, на его взгляд, не происходило. Всех поступающих вызывали по одному в классы. Невольно он отмечал только то, что после каждого вызова становилось все меньше людей в коридоре. Мишка удивлялся, как это не суметь выстучать карандашом заданный ритм, как не назвать взятые пианистом ноты, не спеть их. Но многие этого не могли сделать. Их тут же отчисляли, не допуская к дальнейшим экзаменам.
Мишка все сдал хорошо. Когда он играл песню «Меж крутых бережков» и старательно выбирал басовую партию (как раз — раненой рукой), в класс вошла высокая, в длинном платье, величественная женщина с пышной седой прической и густыми черными бровями. Она оперлась на фортепьяно, будто собралась петь, прослушала Мишку и спросила:
— Вы откуда, молодой человек?
Мишка назвал свой город.
— Николай Ксенофонтович, — обратилась она к экзаменатору. — Вы не заметили? Каждый год к нам с юга области приезжают вот такие талантливые ребята. Помните Зою Саенко? Тоже баянистка. — Снова повернулась к Мишке: — Поздравляю вас. Вам ведь больше ничего не сдавать.
— А можно мне, — осмелел Мишка, — можно кроме баяна и на пианино заниматься?
— Занятия по фортепьяно у вас будут обязательно. Но ежели вы хотите заниматься больше — ради бога. Скажите, каков, а?
Из двадцати семи человек, поступавших по классу баяна, приняты были трое. Один слепой с абсолютным слухом. Другой — инвалид войны. Третий — Мишка.
Он не мог опомниться — как все оказалось просто. Первая его мысль была — дать домой телеграмму. «Нет, приеду и все расскажу», — решил он.
Во дворе Мишка присел на скамейку у ворот. Как-то не верилось: все так просто. Присев, он понял — все-таки волновался. И из-за самих экзаменов. И при разговоре с экзаменаторами. И из-за всего, что происходило на его глазах все это утро.
Из училища вышел парень в солдатской гимнастерке. На широком раздвоенном подбородке — синеватый шрам. На носу тоже шрам. Парень курил, глубоко затягиваясь. Поравнялся с Мишкой, спросил:
— Приняли?
Мишка счастливо кивнул.
— А я сгорел… Рука не годится, — он отвел от себя правую руку и посмотрел на нее, как на чужую, ненужную. — Кисть плохо работает… Ранение… Нет, сказали, Девицын, фортепьяно вам, голубок, заказано! Легко им говорить, а мне… Я в окопах бредил музыкой…
Он швырнул окурок к ограде. Притоптал его носком кирзового сапога.
Мишка торопливо натянул манжет рубашки до половины ладони раненой руки, чтобы не видна была повязка. «А если б Фиксатый резанул сильнее… И я бы тоже не сдал экзамены…»
Мишка похолодел. Встал смущенно. Что сказать?
Парень достал из кармана галифе папиросу и опять закурил.
— А тебя приняли? Да?
Мишка кивнул, пошел со двора, не оглядываясь. Пошел быстрее. Потом почти побежал от чужой боли. Ему хотелось кричать встречным о своей радости. Он вдруг подумал: единственный человек в городе, кому он может сказать о ней, — это Надя.
Он не чуял под собой земли. Баян казался ему невесомым, как в день покупки. Небо светилось голубизной. Встречные улыбались Мишке и даже оглядывались на него.
А липы вдоль тротуара бросали Мишке под ноги первые свои золотые листья.
Надя на пороге, при мачехе, обняла его и запрыгала в восторге.
— Я ни капельки не сомневалась! Поздравляю! За стол!
Она побежала в свою комнату.
— Будем пировать здесь! А не на кухне!
Она достала из-за трюмо бумажный сверток, развернула его и поставила на стол шампанского.
— Это папин подарок нам! — сказала Надя удивленной Капитолине Сидоровне. — Да, папа сказал: сдаст Михаил экзамены — отпразднуйте все. Вот!
После выпитой рюмки Надя раскраснелась.
— Миш, ты умеешь из «Первой перчатки»? Помнишь?
Мишка взял баян, прошелся по клавишам, вспоминая знакомую мелодию. Надя пробовала подпевать.
— Нет, надо чуть-чуть выше.
Мишка взял выше. И Надя запела. Запела взволнованно, неожиданно чистым-чистым голосом.
«Милый друг, наконец-то мы вместе. Ты плыви, наша лодка, плыви…»
Видя, что Мишка удивлен, она вскинула радостно брови — да, вот так я умею петь, и мне хорошо петь с тобой.
«Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви…»
Она пела, будто говорила ему — да, это мне хочется и песни и любви. Ты понимаешь? Он глядел на нее, и в его сердце — он это впервые ясно чувствовал! — жила и песня, и любовь.
— А хочешь, спою тебе еще? Пела одну песню эвакуированная, в Сибири. Мужа у нее убило под Ленинградом… Она та-ак пела! Если б ты слышал!.. Я, конечно, не так… Ну, давай. В этой же тональности.
Надя встала возле Мишки. Повернулась к окну. И вдруг издалека-далека, еле слышные, донеслись щемящие звуки. Они нарастали. Они сливались в мелодию той, безымянной, бесконечной в своей просторности, русской песни, в которой, боже мой, и слов-то почти нет, а как же она берет за душу!..
«Ой, взлета-а-ала… Ой, лета-а-ла го-орлинка-а-а да рядом с я-а-асным со-о-околом…»
Вскинув голову, Надя вела причудливую мелодию, по-прежнему глядя в окно и, может быть, видя и заснеженную Сибирь, и ту обездоленную женщину. И Мишке показалось, что он раньше уже где-то слышал эту песню и что она живет в нем; что он знал ту женщину, которая пела ее, — женщина была похожа и на мать его, и на соседку тетку Химку, и на многих женщин военной поры.
Одними аккордами поддерживал Мишка пение — не по-девичьи вдумчивое и сердечное.
«Ой, да попал сокол в бурю че-о-орную-у-у, да по-лома-а-ала буря крылья соко-о-линыя-а-а…»
На пронзительно-звенящей высоте оборвала Надя песню и опустилась на стул. С минуту молчала. Потом сказала, как выкрикнула:
— Хорошая, правда?
Пригубила вина и уже тихо спросила:
— Примут меня в музучилище?
— Думаю, да, — уверенно ответил Мишка. — С таким голосом и слухом… А кроме… ты так переживаешь…
— Все! — Надя решительно встала. — Через два года кончаю десятый — и в музыкальное!
— Слепой сказал — посмотрим, — отозвалась мачеха.
— Только музыкальное, — твердо сказала Надя.
К вечеру они вышли погулять. Прошли до Петровского сквера. Спустились вниз к реке. Под старой разлапистой вербой, выброшенная на берег, лежала вверх дном лодка. Они уселись на нее.
— Ты очень хороший, Миш, — сказала Надя. — И я тебя поцелую.
— Тогда я тебя поцелую дважды. За тот раз. Ладно? — перешел на шепот Мишка, удивляясь тому, что он сказал.
— За какой тот? Никакого раза не было.
Мишка повернулся к Наде и увидел — у самых своих глаз — на мочке ее уха родинку и прижался губами к ней.
— Не целуй ее. Ты меня оглушаешь, — Надя шептала, запрокинув голову. Потом вскочила.
— Ой, я не знала, что люблю целоваться. Только, чур, ты никому про это. Ладно?
Они гуляли до поздней ночи. Несколько раз Надя приостанавливала Мишку и говорила:
— Мне так хорошо. Но почему-то и грустно. Почему?
Мишка пожимал плечами.
За рекой, далеко над лесом, взошла луна. В ее свете руины города казались сказочными замками…
— А вы сами поете, Миша? — спросила хозяйка стола.
— Немножко когда-то пел.
— Наверное, украинские песни? Спойте.
— Да, спойте украинское, — присоединилась к просьбе и Надежда.
Михаил Сергеевич давно т а к не пел.
«Дывлюсь я на небо та й думку гадаю, чому ж я не сокил, чому не литаю? Чому мени, боже, ты крылец не дав? Я б землю покинув та й в небо злитав!..»
Нет, землю не покинешь.
Утром следующего дня Мишке в училище та самая величественная женщина, которая вчера расхваливала его, сказала, что училище своим ученикам не предоставляет общежития. Училище помогает инвалидам войны оплачивать квартиры. А таким, как Мишка, оно помогать не может. Стипендия сто шестьдесят рублей — и все.
Мишка сначала не понял сути сказанного. Нет общежития — он снимет комнату. Он не будет медлить.
Мишка отправился на поиски квартиры. В ближайших домах, возле училища, оказалось, либо уже жили такие же, как он, учащиеся, либо не сдавались квартиры. Мишке отвечали: нет или самим тесно.
Чем шире становился круг поисков, тем чаще Мишка спускался в подвалы.
В одном подвале встретила его женщина. У ног ее ползала девочка с испачканными свеклой щеками.
— Да, угол можем сдать, — сказала хозяйка. — Нам нужны денежки с энтой кралей.
Она взяла девочку на руки и хотела было подбросить над собой. Да вовремя спохватилась. Иначе девочка стукнулась бы о сводчатый потолок. Мишку проколола насквозь мысль о том, как больно бы девочка ударилась.
— Никак не привыкну. Проклятый, висит над темем, — ругнулась хозяйка; потом сказала Мишке: — Вот там, за ширмой, устроит тебя? Сто пятьдесят рублей цена.
Мишка сделал три шага к окну. На широком подоконнике была постлана тряпка. Поверх лежала какая-то кацавейка.
— Тут моя кралечка глядит на улицу, — подала голос хозяйка.
В окне мелькали ноги.
— У нас с ей игра есть. Узнавать по ногам, кто прошел. Да, Лиленька? Знаешь, дорогой, сколько ног проходит? И в сапогах, и в туфельках-лодочках, я до войны такие износила — одну пару, и в галошах, и босых — о, сколько их, босых!.. Всякие ноги. И по ним человека видишь! Во!..
Словно снега бросили за шиворот Мишке. «Боже мой, — подумал он сокрушенно. — Глядеть на свет дня и видеть одни ноги. Изо дня в день!..»
Вправо от окна стояла койка. За ней — раскладушка. Их разделяла ширма — старое солдатское одеяло. По краям оно было растрепано, бахрома походила на вермишель.
— На раскладушке спит кралечка. За ней можно еще одну койку поставить. Под стеной места хватит, — пояснила хозяйка. — А хошь, ты поближе ко мне?
Мишка взглянул вдоль серой сырой стены. «Рядом с н е й?» Он посмотрел на хозяйку. Свет падал ему на лицо, и она уловила его недоумение.
— Что? Не нравится?.. Ой, да ты молоденький… Какая нужда в город-то пригнала?
— Учиться музыке, — тихо ответил Мишка.
— На чем же ты музыканишь?
— На баяне.
— О-о, — протянула хозяйка, покачивая на руках дочку. — Что ж ты, и тут будешь играть?
— А как же?
— Ну, милый! Тогда мы не сойдемся. Мне, знаешь, хватает вот этой музыканши.
Она ребром ладони вытерла нос девчушке.
— И денег твоих не надобно!
Мишка выбрался из подвала и облегченно вздохнул.
В подвалы он больше не заходил. Квартир в уцелевших и полуразрушенных домах не попадалось. Лишь на окраине, на спуске к реке, он нашел уютный — в садике — домик. В нем жила старуха, подслеповатая, согбенная годами. Она согласилась сдать Мишке маленькую отдельную комнату.
— Я с тебя, сынок, дорого не возьму. Другие берут по полтораста, а мне — сотню заплатишь, и довольно, — говорила старуха, пристально разглядывая постояльца.
«Шестьдесят рублей останется на еду», — радостно подумал Мишка.
А старуха, глядя вприщурку, продолжала:
— Токо еще уголька али дровец добывал бы… И играй себе на здоровье! Играй, я все одно туга на ухо.
— Где ж я добуду дров да угля? — прокричал Миша, наклонившись над старухой.
— Уж где добудешь, — развела руками старая, как будто показывая простор для Мишкиных возможностей.
К вечеру Мишка не чуял ног. И к вечеру же понял, что ему оставаться на учебу, о которой он столько мечтал исступленно, к которой всю свою жизнь стремился, невозможно. Простой расчет сделал он неожиданно для себя. Стипендия — сто шестьдесят рублей. Если даже он найдет квартиру, в которой согласятся терпеть его ежедневную игру на баяне, он должен уплатить хозяевам не менее ста тридцати — ста пятидесяти рублей. Как же ему жить от стипендии до стипендии?.. Как жить?.. От матери он ждать ничего не мог. Где она, школьная техничка, добудет ему помощь? Она там сама будет и холодать, и голодать. Ей там самой дай бог стянуться на свои нужды!.. Нет, больше ни копейки не возьмет он у нее!..
А если квартира возле училища — то еще дороже. Хозяева понимали выгодность их жилья…
Так что же делать?
Мишку охватило отчаяние. Значит, выхода нет. Значит, надо отступать тогда, когда все, казалось, было преодолено. Нет, никуда ему из дома не уехать. Единственное, что для него, — кончать педучилище. Он представил лицо директора — бровастое, в оспинках, победно усмехающееся: «А что я тебе говорил?..»
Мишка шел не ведая куда. Среди пустынных развалин присел на груду бетона с торчащими железными прутьями. Так что же делать? Ходить на вокзал разгружать вагоны? Мишка слышал о таких студенческих заработках. Но это… Сегодня взяли на разгрузки, а завтра разгружать нечего. А от стипендии — в кармане ни копейки… Зарабатывать бы игрой, как дома. Но для кого же здесь играть? Люди живут под землей — им не до веселья…
Мишка долго кружил по развалинам. Наконец очутился у Кольцовского сквера. От него он помнил дорогу к Наде. Что он ей скажет? Если бы баян был с ним, он пошел бы на вокзал.
— Куда ты пропал? — Надя встретила Мишку возле дома.
Мишка молчал. С трудом держался, чтоб не заплакать.
— Что случилось? — тормошила она его.
Вошли в дом. На террасе Мишка сдавленно рассказал ей все.
— Ничего не остается, как уехать, — выдохнул он.
— Погоди ты, уехать!.. Погоди! — Надя ломала пальцы и нервно ходила по террасе. — Погоди!.. Знаешь что? — Она решительно повысила голос. — Ты будешь жить у нас! Да, у нас. У нас же три комнаты. В одной будет отец с н е й. И по одной нам с тобой. А? Погоди!
Надя выскочила с террасы. Какое-то время в квартире было тихо. Потом до Мишки стали долетать голоса Нади и Капитолины Сидоровны.
— Ты не своевольничай! — кричала Капитолина Сидоровна. — Тута я хозяйка, а не ты!
— Я знаю, отец бы согласился! — отвечала Надя. — Он ведь на нож шел за меня. Поймите же. Он хороший!
— Мы его и приютили. Но завсегда жить у нас…
— Да это ж недолго… Завсегда… Будут же отстраивать дома. И дадут ему общежитие. Это ж год, может, всего! У нас же комната пустует!..
— Ничего себе — год! — кричала Капитолина Сидоровна. — Год!.. С ума сойдешь от пиликанья.
— Да что вы говорите такое? — кричала Надя.
Капитолина Сидоровна не слушала ее.
— А что он будет есть? Кто его будет обстирывать?
— Еды у нас полно! Как вам не стыдно! А стирать… я ему буду стирать! Я! Я люблю его! Я выйду за него замуж!
— Что-о-о? — заорала Капитолина Сидоровна. — Что ты мелешь?
— Да! Да! Да! То, что вы слышали!
— Видали ее! В шестнадцать лет замуж! Отец возвернется… Я тебе дам замуж!.. Мне и вас хватает. Да еще примак тут!..
Мишка бросился в квартиру. В коридоре, закрыв лицо руками и упершись лбом в стену, стояла Надя. Поднятые плечи ее вздрагивали. А в дальней комнате, посредине, высилась Капитолина Сидоровна в своем цветастом халате, с засученными рукавами. Повернувшись вполоборота к Наде, подбоченясь, она выглядела неприступной и непреклонной.
— Мы тебя как человека… — перекинулась она на Мишку. — А ты девочку с пути сбиваешь.
— Не смейте так, — закричала Надя, отпрянув от стены, — не он — вы сбиваете! Вам все мало! Мало! Вы всю войну хапали! Люди воевали, а вы… Иди работай! С пятого класса гоните… А я буду учиться! Понятно вам?.. Боитесь все — кто-то объест вас!..
— Ну, не надо ссоры, — взял ее Мишка за плечи. — Или я немедленно уйду.
— Никуда ты не уйдешь ночью! — еще громче закричала Надя. — Она бы всех разогнала.
На террасе Надя понемногу стала успокаиваться.
— Как же так? — всхлипывала сокрушенно. — Завтра еще поищем. Как же… Столько вытерпеть… Ну, ведь правда, ты же мог бы жить у нас. Три комнаты. Люди видел как живут? А у нас же все есть. Отец же все добывает. Ему можно!.. Только и он в ее дуду!..
Она упала на диван. Закрыла лицо руками.
— Ладно, успокойся, — ласково говорил Мишка. — Успокойся, хорошая, добрая Надя. Надежда. Надеждинка…
Она поднялась, вытирая мокрые щеки.
— На-деж-дин-ка, — произнесла по слогам. — Меня никто так не называл… Что ты будешь делать?
— Уеду завтра… заканчивать педучилище.
— Я буду узнавать… Будет общежитие — ты приедешь, — встрепенулась Надя. — Приедешь? Я буду узнавать… И потом я тоже пойду в училище. Приедешь?..
— Приеду, — шептал Мишка, но не верил в это.
Вот закончится война…
Утром Надя обежала своих подруг. Ни у одной ничего не добилась. Свободных углов или квартир никто не знал.
В канцелярии Мишку встретила та же величественная женщина. Точно так же, как директор педучилища, она удивленно спросила:
— Как это забрать документы?
— Мне негде жить, — мрачно сказал Мишка.
— Это… товарищ… — Директриса поднялась над столом; она, видимо, хотела назвать Мишку по фамилии, но забыла ее и отвела взгляд в сторону. — С жильем мы, вероятно, кое-как помогли бы вам все-таки… со временем…
Она пошла было Мишке навстречу, потом вернулась к столу, взяла какую-то бумагу. Глядя на нее, тихо сказала:
— Хуже другое, дорогой Кобзарь… Телеграмма вам…
Директриса протянула бумагу Мишке.
— Кто у вас дома, кроме мамы?
— Никого, — машинально ответил Мишка, не понимая, зачем с ним говорят об этом. Он пробежал глазами телеграмму и тоже ничего не понял — так далек он был от того, что произошло дома.
«Мать подорвалась на мине. Ефимия Карповна».
«Ефим… Карповна… Какой Ефим? — думал растерянно Мишка. — А-а, соседка, тетка Химка!.. При чем она тут? Почему на мине?..»
Мишка не помнил, как вышел из кабинета в коридор. Темно было перед глазами. Директриса шла рядом, положив руку на его плечо.
— Тут уж мы ничего… Держитесь, милый. Если с мамой благополучно… приезжайте…
«…Подорвалась на мине».
Может, ошибка? Может, телеграмма не ему?..
Выйдя из училища, Мишка остановился у ворот, где вчера стоял искалеченный солдат, и посмотрел на бумаги в руках. Справки. Об окончании семилетки. О сдаче приемных экзаменов. Пятерки в обеих. И вот с ними, с пятерками, он вынужден оставить училище — этот дом, этот двор, где звучит музыка, — то, чем он жил столько, сколько помнил себя. Еще несколько минут назад отъезд должен был ошеломить, унизить, убить его. Еще несколько минут назад Мишка, хотя и пришел за документами, колебался — уезжать или нет. Он готов был еще и еще искать жилье и верил, что нашел бы; потом он все равно смог бы и подзарабатывать.
Но сейчас все это уже не имело для него того значения, которое имело несколько минут назад. Телеграмма, которую он вместе со справками держал в руках, непонятная, всей душой не принимаемая телеграмма, сразу же отодвинула, сделала ничего не значащим все то, что долгие годы было смыслом его жизни. Он знал, что должен немедленно и — чувствовал — навсегда уехать отсюда.
Мишка мысленно увидел вчерашнего солдата-калеку. По-разному война сделала одно и то же жестокое дело — и для того солдата, и для него, Мишки.
Вот закончится война…
«Мать подорвалась на мине…»
Мишка шел по разрушенному городу. Мишка думал обо всем том, что он потерял за свою короткую жизнь, за свои семнадцать лет. Война лишила его отца. Лишила друзей, тех, с которыми бегал босиком по одной улице, с которыми сидел за одной партой. Война убила в нем детство, преждевременно состарила его. Она отняла у него музыку, то, что было его радостью и надеждой на счастье. И, наконец, — мало ей всего этого! — она отнимает мать…
Вот закончится война…
Война кончилась.
Кончилась ли?.. Нет, она еще бьет по самому сердцу. Она убивает живое. Все кругом в руинах. И они, эти руины, останутся на земле до тех пор, пока будет жива человеческая память.
«Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать».
Прав Лев Толстой! О, как трагически он прав!..
Мишка вышел к Петровскому скверу.
Было безлюдно. Посредине — без фигуры великого царя — торчал постамент. Блестели на нем жестяные буквы «Петр I». У подножия сиротливо лежал якорь с цепью.
Мишка шел по проспекту Революции. Руины города предстали руинами, а не сказочными замками.
Сказки не было.
Была обнаженная жестокая явь. Был разрушенный и оскверненный человеческий труд. И кем же? Самим человеком! Тем, который надменно кичится собою как высшим созданием природы!..
Из-за управления железной дороги на проспект вышла колонна пленных немцев. Их вели на работу — растаскивать руины, те, которые они усердно оставляли за собой по всей Европе. Немцы шли и пели; один, длинный, со сбитой на ухо пилоткой, играл на губной гармошке. Пели что-то маршевое. Немцы — большие любители маршей. Мишка это знал.
Впереди них и позади шли наши автоматчики.
«Если бы однажды провалилась европейская цивилизация, я пожалел бы только об одном — о музыке…»
Кажется, тоже Толстой. Что же тогда — ржавый визг немецкой губной гармошки? Новое слово в европейской музыке?..
Насупившись, до боли сжав зубы, глядел Мишка на колонну. Эти немцы где-то здесь ж и л и, в городе, занимали какое-то оставшееся в целости помещение; их только что к о р м и л и… А он…
Мишка остановился. Он не мог идти рядом с колонной, эдак невинно поющей под губную гармошку…
Теперь там восстановлены дома, построены новые. По проспектам и улицам, во дворах домов растут липы и каштаны; разбиты парки и скверы. Бронзовый Петр Первый стоит на постаменте. Как будто не было разрушений, убийств, крови.
Но на этих местах погребены сотни тысяч людей, сотни тысяч судеб. Руин нет — руины есть. И вечно будут — руины человеческих сердец.
Можно поднять из руин жилища и сады. Можно все перестроить. Но как изменить прожитую жизнь?..
Нади не было дома. Мишка поблагодарил Капитолину Сидоровну за приют. Попросил ни в чем не винить Надю.
На вокзале стоял эшелон — ехали демобилизованные. В вагонах раскрыты двери; состав увешан портретами Сталина, плакатами, ветками зелени. Мишка смотрел на смеющихся, поющих, пьющих солдат и плохо соображал, что же с ним произошло.
Он подошел к глухой стене какого-то ларька. Сел на футляр. Сидел, облокотившись на колени, обхватив руками голову. За эшелоном маневрушка таскала вагоны, колеса постукивали на стыках.
Сразу после освобождения города от фашистских войск Мишка с ребятами катался на лыжах в Песках. Наткнулись на кем-то оставленную без предохранителя итальянскую гранату — такую красную баночку. Старушки подбирали их — приспособить вместо лампадки. Старухам отрывало руки, выбивало глаза.
Оставленная граната лежала на лыжне. Кто-то мог подорваться на ней. Надо было взорвать ее. Били снежками, били камнями — не взрывалась.
Тогда Мишка предупредил ребят, чтоб ничего не бросали. Сам подбежал к гранате, схватил ее и, едва размахнулся, едва она вылетела у него из ладони, — все это произошло в две-три секунды, — граната разорвалась. Мишка упал на колени оглушенный. Руку отбросило назад. И надо же тому быть! Взрывная волна и все осколки ушли от него, ушли в противоположную сторону. Перед Мишкой метрах в полутора темнело на снегу овальное пятно от взрыва. Звенело в ушах. Кисло было во рту. Но ни один — даже самый крохотный — осколок не коснулся его.
— Ну, Кобзарик, кто-то молится за тебя, — сказал Мишке школьный друг Илько Тютюник.
Мишка знал — молилась мать.
«Что с ней сейчас?.. Зачем я тогда остался на земле? — вдруг подумал Мишка, вслушиваясь в стук колес маневрового паровоза. Стук звучал все явственней… — Зачем теперь жить?..»
— Ты чего, парень, голову повесил? — На плечо кто-то положил руку. — Отстал от поезда, что ли?
Мишка откинулся к стене ларька. Над Мишкой склонился пожилой солдат. Без пилотки, пушистые усы, руки крепкие, узластые, с закопченными махрой пальцами.
— Отстал, — сказал Мишка. И подумал: «Так отстал, что уже не догнать…»
— Куда тебе надо? — Солдат присел перед ним на корточки. — Не кручинься. Куда ехать-то?
— Домой. — Мишка поднял глаза.
— Ох, как ты смахиваешь на моего братюньку. С сорок первого не видел его… Так где дом-то?
— В Россоши.
— Это ж нам по пути. А ну, айда со мной!
Солдат крепко взял Мишку за плечи, поднял, накинул себе на руку ремень футляра.
— Никак гармонь?
«Я выйду за него замуж!» Это конечно… — думал Мишка, шагая за солдатом. — Но как она хотела, чтоб я жил у них…»
Пересекли свободные пути. Подошли к раскрытому вагону.
— Хлопцы! Братюньку нашел! — закричал солдат. — Принимайте!
Мишка и глазом не успел моргнуть, как очутился в вагоне, среди сидевших на растолоченном сене солдат.
— Сейчас он нам рванет че-нибудь!
Солдат открыл футляр, вынул баян и протянул его Мишке.
— Ну-ка, брат!..
Мишка обвел взглядом притихших солдат — сколько он видел их вот так, на концертах в клубах, в госпиталях, — и ударил по самому больному:
«Давно я не видел подружку, дорогу к знакомым местам. Налей же в железную кружку свои боевые сто грамм! Гитару возьми, струну подтяни, солдатскую песню запой! И камень родной омоем слезой, когда мы вернемся домой!..»
Мишкин голос металлически звенел. Солдаты подхватили припев. Один развязал вещмешок, достал из него бутылку, к нему потянулись руки со стаканами, кружками, банками, крышками от котелков.
— Эх, мать честная!..
— Ну и братишку ты нашел!
«И камень родной обмоем слезой, когда мы вернемся домой…»
— Ми-и-иша-а! Ми-и-иша! — послышалось близко.
Мишка оборвал песню. Бросил баян на сено. Кинулся к двери. Внизу у вагона стояла Надя.
— Хорошо… что ты… — она не могла отдышаться, — что ты играл. А то бы я не нашла. Уезжаешь? — У нее скривились губы. — Уезжаешь, значит? На вот тебе! — Она протянула газетный сверток. — На дорогу… А может, подождать надо?
Мишка передал сверток солдатам и спрыгнул к Наде.
— Бери девку с собой! — крикнул кто-то из солдат. — С такой не пропадешь!
Мишка ничего не слышал. Он глядел на Надю, на ее заплаканное лицо.
— Ты приедешь? Приедешь? — Ее глаза ждали ответа. — Я люблю тебя!..
— А у меня маму…
Лязгнули буфера. И Надя не услышала его.
— Давай, хлопец. Поехали!
Надя шагнула к нему.
— Я буду ждать тебя!
— Спасибо!.. Спасибо за все! — крикнул Мишка и побежал за покатившимся вагоном. Солдаты подхватили Мишку.
Надя одна стояла между рельсов — тоненькая, в синем платье-клеш, раздуваемом ветром от движения поезда.
— Ты чего ж? Брал бы ее с собой! — разглядывали Мишку солдаты. — Не скучно было бы.
— А нам и так не скучно. Рвани, парень, еще какую!
— Ты перво-наперво спросил бы, ел ли он чего!
Кто-то сунул Мишке банку консервированных крабов и хлеба четверть буханки. Кто-то протянул стакан с красным вином.
— Не много ли? А впрочем, рвани, чего уж там!
Мишка отпил с полстакана и налег на закуску. Вино вскоре закружило голову. Он с новой болью вспомнил все тревоги последних дней, и закуска застряла в горле. «А про маму и не успел Наде…» — подумал Мишка.
— Ну чего? — придвинулся к нему усатый знакомец. — А?
— Не лезь ты человеку в душу, — сказал сержант со множеством орденов на гимнастерке. — Стало быть, есть причина. Видел, она тоже вся исходила слезьми.
И тогда Мишка рассказал о своей поездке, о телеграмме.
Солдаты молчали. Сержант скрутил козью ножку и грубо выругался:
— Растудыт-твою в войну… Скоко ж она, проклятущая, бед на наши головы свалила!
Тронул Мишку за плечо.
— Не горюй, сынок. Лишь бы с матушкой обошлось! А прочее… Ты видишь? — Он замахал обрубком правой руки. — Видишь, нету пальцев? А я тоже, браток, наяривал на баяне. Не веришь?
Сержант взял баян, вскинул ремень за плечо, культяпкой обнял корпус, а левую просунул под ремешком к басам. И заиграл «страдание» на одних басах.
— Смекаешь?.. «Дед с печки упал да в лоханку попал. А в лоханке вода — намочилась борода!..»
Вагон грохнул от смеха. А сержант застрадал снова: «Ваньке брюки шили-шили, хороши да хороши. А девчата ходют следом — покажи да покажи!..»
— Во дает!
— Моли бога, парень, что живой остался! Да еще с руками и ногами. На-ка, играй, брат! — Сержант протянул Мишке баян.
— Давай еще нашенскую, солдатскую! — хмельно зашумели наперебой.
Мишка нагнулся над баяном и играл всю дорогу. Играл. Пел.
Солдаты слушали. Подпевали. Переговаривались. То шепотом. То по-пьяному — выкриками.
— Да, конечно, надо бы… в это самое училище…
— Не зуди ты! Парню и без того…
— Че там! Девки и так все его будут!
— Га-га-га!..
— Ха-ха-ха!..
— Да хватит вам!
«Не сбы-лось. Не сбы-лось. Не сбы-лось», — выстукивали колеса вагона.
Как насмешка судьбы — теперь Михаил Сергеевич живет метрах в ста пятидесяти от музыкальной школы. Ему уже полвека, пальцы его огрубели; все реже садится он за пианино, все реже — вот так случайно, как в эту новогоднюю ночь, — берет он в руки гитару или баян; в будничных заботах некогда даже подумать о музыке. Но изредка, придя с работы, он ставит на проигрыватель любимые пластинки, укладывается на диван, гасит свет и во тьме слушает Бетховена, Скрябина, Чайковского, Вагнера…
К нему заглядывают домашние и, слава богу, в темноте не видят его слез.
По пути на работу или с работы, идя в магазин за продуктами, просто гуляя, он норовит пройти мимо школы, заглянуть в окна, со светлой завистью, любуясь мальчишками в синих форменных куртках со скрипками в руках, девчонками в белых передничках, склонившимися над клавиатурой фортепьяно. Часто он заходит в школу, видит, как в вестибюле снуют дети: то с уроков бегут к ожидающим их родителям, то бегают и галдят в перерывах между уроками.
Одна отрада у Михаила Сергеевича — сын его среди этих ребятишек; и здесь, в школе, и дома поет сыновняя скрипка…
«Если б я родился в Москве… Или просто позже родился. Сегодня музыкальная школа есть и в родной деревне…» — думает он иногда, глядя на ребят.
Когда у него не ладится в буднях, он думает — это потому, что всю жизнь он делает не свое дело; будь он музыкантом, у него все-все было бы иначе. И на работе. И в семье. И в сердце.
Но нет. Иначе никогда не будет. До конца дней.
До конца дней будет болеть сердце по несбывшемуся, будет он вспоминать все-все, чем были наполнены его детство и отрочество, все-все, что вспоминает всегда, слушая любимую музыку, садясь за фортепьяно…
Надежда стояла над притихшими людьми. Она всегда волновалась, когда приходилось петь, особенно среди незнакомых людей, даже в узком кругу. Но сейчас ее волновало еще и то, чего она не ожидала сегодня, но что ждала долгие годы. Волею случая рядом с ней оказался человек, который был первой ее любовью, благодаря которому она когда-то почувствовала в себе и друга, и женщину, и актрису.
Как обычно во время пения, она похорошела и выглядела моложе своих сорока восьми лет. Она видела, как посматривал на нее муж, читала на его лице и любовь к ней, и ревность, и гордость — вот сейчас все слушают ее, все в нее — муж не сомневался в этом! — влюблены, но она его, он ближе всех к ней; потом он будет выслушивать похвалы и принимать это как должное.
Это всегда не нравилось Надежде, но сегодня просто раздражало ее. С ней рядом сидел человек, который больше мужа имел право на эти чувства. Она знала его таким, и многие годы таким он оставался в ее памяти и таким предстал перед ней два часа назад. Нет, он сейчас перед ней поднялся еще выше, чем во всегдашних ее воспоминаниях.
Надежда не хотела бы для мужа никаких испытаний. Но она не была уверена, что муж безоглядно пошел бы на бандитский нож, как это сделал когда-то сидящий рядом человек.
Михаила Сергеевича она узнала не сразу. Он ведь так изменился за… за сколько же? За тридцать с лишним лет. Она помнила его юношей. А перед ней — седой мужчина. Юношу напомнили ей его глаза, открытые, искренние, все обнажающие. А когда он взял гитару и опустился рукав, Надежда увидела чуть заметный шрам выше кисти — как след погасшей звезды.
Перед ней был он. Тот, спасший ее от бандита; тот, который спал у них на террасе, а она сидела и рассматривала его, трогала пальцем смешной его вихор; тот, назвавший ее однажды — единственный раз! — Надеждинкой; тот, благодаря которому она стала певицей; тот, кого она так ждала в музыкальном училище — они вместе пришли к нему в далекое августовское утро, может быть, он и п о с л а н был лишь затем, чтобы спасти ее и привести в училище; тот, который всю жизнь казался ей навеки потерянным и, может быть, потому самым дорогим.
— Давайте прервемся на чуть-чуть, — предложила она.
И все тотчас согласились.
Надежда нетерпеливо выждала время, пока подходили к ней, говорили комплименты. В паузах поглядывала на Михаила Сергеевича. Он сидел задумчиво и перебирал тихо струны, не разрушая уют. Теперь, когда она совсем узнала его, она узнавала его во всем — в движении рук, в повороте головы, в распахнутых глазах.
Потом окликнула Михаила Сергеевича.
— Я вам так благодарна!
— И я вас от души благодарю, — встал Михаил Сергеевич навстречу.
Гости стали выходить из комнаты. Мужчины торопливо закуривали.
— Покажите мне ваш дом, — сказала Надежда Михаилу Сергеевичу и взяла его под руку.
Они отделились ото всех и пошли по коридору. Вошли в оранжерею. Цветы — Михаил Сергеевич не знал их названий — касались их плеч. Она протягивала руку и ласково трогала листья.
— О чем вы думаете? — спросила.
— О вас… о нас…
— Значит, узнали? И до седин не разучились краснеть? — Она крепко прижала к себе его локоть. — И я… как только шрам… на руке у вас.
— Да… зарубка осталась… — отозвался Михаил Сергеевич.
Они поднимались по лестнице на второй этаж. Михаил Сергеевич повернулся к Надежде и вновь увидел родинку ее.
— Странно называть вас на «вы», — сказала Надежда.
Голос дрогнул. Глаза заблестели.
Вошли в кинозал. Он был пуст. Прошли на сцену.
Михаил Сергеевич сел за рояль.
— Помните прощание у эшелона? — спросила Надежда, взяла стул и села рядом. — А что было потом?
— Потом? — Михаил Сергеевич тихо перебирал клавиши. — Потом окончил педучилище. Не был принят в Московский университет.
— Почему?
— Посылая документы, я не приложил справку, что как отличник отпущен на учебу. Пошел в наш учительский, на филфак. Это уже было числа пятнадцатого сентября сорок восьмого. Жилось трудно. Не хватало нам маминой пенсии и моей стипендии. Пришлось уйти на заочное. А тут подвернулся мне мой любимый директор педучилища, пригласил работать преподавателем пения и музыки. В родном педучилище. Я тогда прилично играл на скрипке. Прилично, конечно, в рамках программы училища… Закончил заочно учительский, затем пединститут. Видите, все довольно обычно. После института работаю в школе, в Подмосковье. Преподаю язык и литературу.
— Ну, а почему же вы не вернулись в музучилище?
— Не мог… — тяжело вздохнул Михаил Сергеевич. — Не мог оставить мать одну… Вы вспомнили наше прощание… Тогда, у эшелона, я не успел сказать про телеграмму в училище… Мама копала картошку в огороде. А при немцах там были гаражи. Они их заминировали. И мама наткнулась на мину… Пришлось отнять ногу… Разве я мог оставить?..
Помолчали.
— Господи, целая эпопея, — вздохнула Надежда. — Ну, а в личном плане?
— В личном?.. Был женат. Разошелся. Сынишка остался со мной. Учится в пятом классе. Вот мы с ним тут на зимних каникулах… Сейчас, — Михаил Сергеевич взглянул на часы, — да, спит, наверное.
— А почему разошлись?
Михаил Сергеевич грустно улыбнулся.
— Не будем в такой час об этом… А как складывалось у вас? — Михаил Сергеевич пристально вглядывался в ее лицо, будто сам хотел узнать в нем прошлое ее.
— Я поступила в музыкальное. И ждала вас… Потом уехала в Свердловск, в консерваторию. Потом работала в Сибири, в филармониях. Долго не выходила замуж. Жила с шальной мыслью — а вдруг встретимся. Лет двенадцать, как поженились с Андреем. У нас девочка. Чуть поменьше вашего. Андрей любит ее, — она помедлила, — любит меня…
— Это я вижу, — тихо сказал Михаил Сергеевич.
— А почему вы не написали?
— Я писал. Раза два. Но ответа не было.
— Я не получала. Видно, письма попадали мачехе… Да, отец все-таки порвал с ней…
В фойе послышался шум. В двери ввалилась вся компания.
— А-а-а, вот они где!
— Ребята, а они спелись!
— Наденька, что-нибудь под рояль!
Андрей, пошатываясь, подошел к сцене.
— Спой, Надюш, — сказал он. — Я так люблю…
Надежда поднялась, выпрямилась.
— Что же спеть?.. Все романсы… О, я спою…
Она прислонилась к роялю, сложила руки на груди и потупилась. С первых же звуков Михаил Сергеевич узнал песню.
«Ой, взлета-а-ала… Ой, лета-а-ала горлинка да рядом с я-а-асным соколом. Ой, да попал сокол в бурю че-о-орную, да полома-а-ала буря кры-ы-ылья со-о-околиныя-а-а…»
Сидящие в зале не знали этой песни; слушали не шелохнувшись. Надежда уже сошла со сцены, присела в стороне, устало откинувшись в кресле, — только тогда все как бы очнулись.
Михаил Сергеевич не слышал гула в зале. Он думал о том, что Надежда — та, далекая девушка, задумавшаяся над судьбой одинокой эвакуированной женщины, — и не подозревала, что через много лет будет петь эту песню как песню о нем — о Михаиле Сергеевиче, о себе…
— Друзья, поглядите, какая метель! — прервал кто-то молчание.
Вьюга била по окнам космами снега.
В вестибюле Надежда сказала:
— Пойдемте, я взгляну на сына. Можно?
— Конечно.
Сын лежал на боку, выпростав из-под одеяла руку с завернувшимся рукавом байковой пижамы, и дышал неслышно.
Надежда долго смотрела на него. Наклонилась, поправила рукав и поцеловала в голову.
— Как они трогательно спят, — шепнула она. — А он похож на нее… — И подумала: «А мог бы — на меня…»
Надежда отошла от кровати и оглядела комнату. На шкафу увидела скрипку. Повернулась к Михаилу Сергеевичу.
— А моя — пианистка… Пусть хоть они будут счастливы!.. Мир так тревожен… Я так боюсь за них…
Она грустно улыбнулась. Открывая дверь, оглянулась на спящего мальчика и молча вышла.
Когда они вошли в оранжерею, Надежда остановилась и остановила Михаила Сергеевича. Потом взяла в обе руки лицо его и поцеловала.
— Простите, не провожайте меня, пожалуйста. Я разревусь при всех.
Отстранившись от него, Надежда пошла, наклоняясь вперед, как против ветра.
Михаил Сергеевич вернулся к себе. «А если бы я тогда нашел ее…» — думал он растревоженный.
Долго в темноте ходил по комнате. Прислушивался к сонному дыханию сына. Поглядывал на зажженную во дворе елку. В морозном тумане она казалась опавшим листком, на время украшенным разноцветной электрической гирляндой.
Лег спать утром.
Проснувшись среди дня первого января, Михаил Сергеевич вспомнил о случившемся с недоверием к своей памяти. Все, что произошло в ночь, было похоже на новогоднюю сказку или новогодний сон.
А может быть, всего этого и не было?
28 марта — 22 июня 1981
КТО ТЫ НА ЗЕМЛЕ Повесть о маленьком современнике
Ты еще ни за что не в ответе,
Жизнь ведь только-только дана.
Что ты значишь на старой планете?
Что тебе готовит она?
От года до двух
МАПИШКИНЫ СТУПЕНЬКИ
Сын стоит перед желтым одуванчиком. На цветке копошится пчела. Потрогать бы ее пальчиком! Но это никогда не удается. Она прямо из-под пальца улетает.
— А-а, папа! А-а-а! — кричит и оглядывается сын. Была тут — и нет. Куда делась?
— Улетела пчела, мальчик.
— Уетея псея, — повторяет сын.
Ковыляет к крыльцу. Я пониже прибил перильца. Сын держится за них рукой и поднимается по ступенькам. Поднимается на одну, стоит и посматривает — кому бы рассказать об этой радости!
— А-а! (Это значит: смотрите же — поднялся!)
Из-за угла дома показывается мой институтский товарищ. Он видит сына и вскидывает руки, удивленный.
— Как тебя зовут, малыш?
Сын притихает, отворачивается. Он застенчив. Проходит минут пять, пока он признает Николая Михайловича за своего. Начинается разговор. И тут нужен переводчик. Переводчиков у сына трое: баба, мама и я.
— Так как же тебя зовут?
— Мапима, — отвечает сын, а сам поднимается на ступеньку. (Максим, значит, перевожу я.)
— А какие у тебя есть игрушки?
— Удё (ружье). — Максимка морщит лоб, вспоминает. — Какука (колонка), енёсек (пенечек — вон там, на полянке перед домом).
— А что растет возле пенечка?
— Циты. А псея уетея (так, понятно).
— А где ты живешь?
— На даце (тоже переводить не надо).
— А кто с тобой живет на даче?
Максим чувствует себя совсем свободно. Он поднимается на крыльцо и отвечает:
— Папа (ступенька)… мама (ступенька)… баба (ступенька). Нятитя… (Нятитя — это столяр и печник Никита Никитич, Максимкина любовь. У него есть молоток, гвозди — чего только нет!)
— О, да ты, Мапима, уже большой мальчик! — говорит гость.
Максимка поднимает плечи, отворачивается и закрывает руками свои любопытен — стесняется.
— Мапишка-а, пойдем гулять! — кричит соседская девочка Таня со своего крыльца.
Максимка торопливо спускается по ступенькам и бежит к девочке.
Смотрю ему вслед. Потом — на крыльцо. На Мапишкины ступеньки. Ступеньки в мир…
КЛЮЧ
Максимка целыми днями играет на манеже у шкафа. Манеж — это деревянная площадка с деревянной оградой. Через ограду Максимке не перелезть, и бабушка спокойно убирает квартиру или стряпает на кухне.
Но Максимку манят к себе и телевизор, и этажерка с книжками, и тумбочка с пузырьками. С манежа все это не достать, и мальчик начинает плакать. Он горестно складывает ручонки на ограде, кладет на них свою большую светлую голову и скулит. Из голубых его глаз катятся по щекам крупные слезы обиды.
— Чем бы увлечь внука? — беспокоится бабушка. Предлагает ему разные игрушки: мяч, обезьянку Читу, — ничто не отвлекает Максимку от обиды.
И тогда вспоминается ключ от шкафа. Он торчит в замке. Бабушка вынимает его из скважины и протягивает внуку. Ключ — любимая игрушка Максимки.
Мальчик тут же умолкает. Берет ключ, идет через манеж к шкафу, дотягивается рукой до скважины замка, вставляет в нее ключ и восторженно хлопает ладошками.
Ключ от шкафа — ключ Максимкиного успокоения.
…Как-то бабушка чистила на кухне рыбу и наколола палец. Палец сильно распух. Пришлось забинтовать его. Максимка сразу заметил повязку и цепко схватил бабушку за палец. Бабушка вскрикнула от боли, на глазах ее выступили слезы.
— Внучек, родной… — приговаривала она и бережно поправляла повязку.
Максимка увидел слезы на бабушкиных глазах и сначала оторопел. А потом подбежал к шкафу, вынул ключ из замка и закричал:
— Баба! На! На!
ЕЩЕ О КЛЮЧЕ
Раз летом Максимка и бабушка долго гуляли. Наступило время обеда. Они вернулись с улицы к дому, взобрались на крыльцо, и вдруг бабушка обнаружила, что у нее нет ключа от квартиры. Ключа не оказалось и в кармашках Максимкиного пальто.
Бабушка заволновалась. Внук и она ходили к пруду, были на волейбольной площадке, возились у колонки. Где потерян ключ?
— Максимка, где ключик? — спрашивала она и снова обшаривала карманы. — Где ключ, мальчишка?
Максимка взял бабушку за руку и потянул за собой. Они спустились с крыльца, пересекли двор, вышли на улицу, прошли вдоль забора по асфальтированной стежке, миновали два соседских дома и между кустами акации пробрались к лавочке.
— Оть юсик, — сказал Максимка.
Ключ лежал на лавочке.
ЧАПАЙ
Максимке нравится ездить на мне верхом.
Как-то взобрался он ко мне на спину, и я вприпрыжку бегал по комнате, махал рукой, как саблей, и кричал:
— В атаку! Чапай никогда не отступал! Ур-ра-а!..
— Уа-а! — кричал Максимка над моим ухом.
А дня через четыре он опять на моей спине. Взобрался, толкает ножонками в бока и кричит:
— Я — Ципай! Я — Ципай!
Я — Чапай, значит. Кричит, а у самого горят глаза, а сам рукой, как саблей, машет. Прямо как в атаке.
ПЕРВАЯ ФРАЗА
Максим на диване выстраивает в ряд машины. Это называется — деять гаясь (делать гараж).
За окном туда-сюда ходят соседки. Он знает их всех: Вававу — Варвару Михайловну, Изю — бабу Лизу, Натату — школьницу Наташу.
Играет Максим и то и дело бубнит все известные ему слова, будто заучивает их: атабу — автобус, апапа — лопата, яись — яичко и т. д. А когда кто-то проходит под окном, Максим подбегает к подоконнику, прижимается щекой к стеклу и долго провожает взглядом прохожего.
Прошла мимо Варвара Михайловна. Наверное, в сарай за дровами. Ссутулилась. Ток-ток — мелкие шажки.
Максим подбежал к окну и как закричит:
— Вавава, дать апапу!.. (Варвара, дай лопату.)
«Хорошо! — подумал я. — Может быть, у нас вырастет рабочий человек».
ВОЛНЕНИЕ БАБУШКИ ГРУНИ
Из Россоши приезжает бабушка Груня. Я встретил ее на Казанском вокзале. Она сразу о внуке: как он, что он?
Последний раз бабушка видела его в мае, когда пятимесячный Максим жил у моих родителей в Россоши.
С тех пор прошло почти полгода.
— Не забыл ли он меня? — волновалась бабушка.
Она заговаривала об этом и в метро, и в электричке — уже на пути к нам, в Лукино. Я вспомнил нашу встречу с Максимом по пути с Кавказа. Нас с женой он не узнал, хотя мы не виделись всего двадцать дней. Мы были страшно огорчены. Жена давала клятвенное обещание — никогда не расставаться с сыном… Теперь я вспоминал это и волновался вместе с бабушкой. Максим был ей и дедушке Пете теперь ближе всех нас…
Добрались до квартиры. Суета встречи. Бабушка Груня разговаривает со свахой, а сама, вижу, ждет не дождется встречи с внуком.
А он только что проснулся. Стоит в кроватке в своей байковой рубашке, кулачками протирает глаза.
Бабушка Груня вошла к нему. Максим спросонья секунды две молчал. А потом расплылся в улыбке и протяжно сказал:
— Ба-ба! Ба-а-ба!..
«Что ж ты так долго не приходила?!» — слышалось в голосе. И, как полгода назад, выставил ей ладошки для поцелуев.
А бабушка Груня схватила внука на руки, прижала его к себе, ходила по комнате и твердила только одно слово:
— Признал!.. Признал!.. Признал!..
ДОГАДАЛСЯ
Сидят на диване бабушка Груня и Максимка. Рассматривают картинки в какой-то книжке о животных. Вот нарисован медведь с поднятой лапой.
— Шо это он говорит? — спрашивает бабушка.
— Па-апа! Пиивет! — сразу отвечает внук.
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН
Гуляем вечером. С железным лязгом проносятся поезда, гудят автобусы по шоссе у кладбища. Максим не обращает на них внимания. Это уже привычно.
Неожиданно с церквушки: бом-бом. Вечерний звон.
Максим засуетился у меня на руках, повернулся на звон.
— Бом, бом, мальчик, — говорю я.
Повторять встречные звуки стало обычным. Максим изображает их вслед за мной. Но мне они хорошо знакомы, и я порой, как и на этот раз, воспроизвожу звук машинально. Бом-бом вообще.
Максим повторил вслед за мной не тотчас. Вслушался, а потом:
— Мбо-о-ом… Мбо-о-оммм!..
Очень точно. Тут и протяжность звука. И наплыв одного взрывающегося удара колокола на затихающий другой. Настоящий звон.
КОГДА МАМЕ ПЛОХО
Бабушка Наташа часто думает вслух. Вот она садится за стол, раскрывает журнал, надевает очки. Читать собирается, а сама рассуждает:
— Что-то мне нехорошо. Болит под лопаткой. Сердце, наверное. На погоду. Сейчас выпью корвалолу. И все. Перестанет.
Она встает из-за стола.
— Где же мой корвалол? В серванте или в тумбочке? Сейчас найду и выпью…
Она всегда прячет свое лекарство, забывает, куда прячет, долго ищет его, находит наконец и пьет.
Максим затаил дыхание и следит за бабушкой.
А вечером с работы приходит мама Люда. Усталая-усталая. Максим не дает ей присесть, тянет за руку к дивану или к этажерке.
— Мапишка, подожди, — говорит она и освобождается от Максима. — Мне нехорошо.
Максимка заглядывает матери в глаза и бежит на кухню к бабушке.
— Баба, нади кававов! Нади кававов!
ЧТО ТУТ СКАЖЕШЬ?
Кончилось лето. Дачники с ребятишками уехали в Москву. Соседской шестилетней девочке Тане стало скучно. Теперь она чаще вертится возле нашего крыльца и ждет — когда Максимка выйдет на улицу.
Танина мать ругает дочь за это. Она на нас почему-то сердится и не разрешает дочке играть с Максимом. Когда мать дома и следит за Таней из окна, Таня сторонится Максимки. Сегодня девочка забыла строгий наказ и гуляла с Максимкой до самого обеда.
Шел снежок. Дети лепили снежную бабу, катали друг друга па санках. Обоим было весело и хорошо. Вместе они отправились и на обед.
Но когда я отряхивал сына на террасе, вдруг за стенкой раздался гневный голос Таниной матери:
— Кому я говорила, не подходи к нему! Кому!..
И послышались шлепки.
Я поспешил увести сына в дом.
А вечером мы снова вышли гулять и встретились с Таней. Она опять подбежала к Максимке. За ней подошла и бабушка ее. Она, может быть, тоже сердилась на нас, но играть с Максимом Тане разрешала.
Максим повернулся к девочке и неожиданно сказал:
— Уди, Таня. Уди. Мама тебя угать будет.
Я опешил. И Танина бабушка смутилась и ничего не сказала.
Что тут скажешь?
ОТДАТЬ ДИМЕ…
Летом у соседей жил дачник Дима. Он был рыжий, веснушчатый и подвижный — как ртуть. Был он постарше Максима месяцев на восемь. Сперва Максим с ним подружился. Ходил следом. Играл с ним в песке. Отдавал ему свои игрушки. А потом Дима все испортил.
То он отнимал велосипед у сына. То предлагал ему грузовик, а когда Максим протягивал руку, чтобы взять машину, Дима вместе с машиной убегал. Раз пять в день Максим плакал от Димкиных проказ.
И он невзлюбил Диму. Стоило Диме появиться рядом — Максим просился на руки или тянул меня за полу пиджака куда-нибудь подальше от обидчика.
Максимкину нелюбовь к Диме решила использовать мама. Когда сын не хотел что-нибудь есть, мама говорила: «Не хочешь — отдам Диме». И Максим тут же все съедал.
Как-то мама предложила сыну бутерброд. Максим отвел мамину руку и сказал:
— Отдать Диме…
Сколько мама ни билась — так и не взял бутерброд.
— Неть, отдать Диме…
А сам лукаво щурил глаза. Где он, Дима? Хватит обманывать, мама!
ВАЛЕНКИ
Шла зима. Максиму купили первые валенки. Попались сразу и калоши на них.
Максим пришел в восторг. Валенки точно на его ногу и катаны. И калоши так привлекательно сверкают.
Максим вразвалку прошелся по комнате, разглядывал свою обновку. Потом посмотрел в зеркало и сказал:
— А у папы неть…
Мы переглянулись и пожали плечами:
— Чего нет?
— У папы неть, — повторил Максим и перевел взгляд на наши ноги.
И вдруг все стало ясно. Мама стояла в теплых кожаных сапогах, бабушка Наташа — в валенках, а папа — в летних ботинках.
ВОРОБЕЙ НА ДАЧЕ
Летом Максима привлекали необычные дачные дома соседей. Он едва начинал говорить, и одно лишь его «а» имело добрую сотню значений. Как-то он оживленно заакал, показывая пальцем на колонны соседнего дома.
— Дача, мальчик, — сказал я.
— Даця, даця, — повторил Максим.
— Да, и мы живем на даче.
— На даце, — как эхо отозвался Максим.
С тех пор и пошло: папа на даце, мама на даце, баба на даце… А вчера идем мы с ним уже по заснеженной улице. Из-под ног взлетел взъерошенный воробей и уселся перед окошком пустующего скворечника на березе. Максим повел вслед за воробьем пальцем и сказал:
— Ообей на даце.
И я вдруг подумал, что нам, видимо, долго еще не дадут квартиру и придется снова зимовать в деревне. Я посмотрел на своего пытливого птенца и тоже сказал:
— Да, воробей на даче…
«УДЁ-ГИТАЯ»
Нашли на улице деревянное игрушечное ружье. Максим очень обрадовался.
— Это ружье, мальчик, — сказал я.
— Удё! — повторил он и поднял находку над головой.
— Да, ружье…
Максим с минуту рассматривал его, а потом взял, как я беру гитару, — наперевес и заиграл. Правой рукой перебирал невидимые струны и притопывал ножкой.
— Что же это делает Максим? — спросил я.
— Мапима игает на гитае, — ответил Максим.
Если бы у нас, взрослых людей, ружья так просто превращались в гитары!..
ПЕРВЫЕ СТИХИ
Максим давно уже рифмует.
Вот он держится руками за решетку кровати, подпрыгивает, и на каждый прыжок у него рифма:
— Таня — ланя — паня — саня — баня — игаганя…
Недавно приехал к нам семилетний мальчик Вадим — Максимкин дядя. Как-то играют они на кухне. Слышу — Максим фантазирует:
— Дядя Вадя спит в помаде…
— А Мапишка где? — спрашивает, улыбаясь, бабушка.
— А Мапима в сёкояде! — тут же отвечает Максим. Вот тебе и первое стихотворение.
ДРУЖЕСКИЙ КОНЦЕРТ
Купил я Максиму маленькое фортепиано «Звенигород». Каждый его клавиш волшебно звенит под пальцами.
Прошло два дня. Раз вечером смотрю, сын усаживает к решетке дивана плюшевого Мишку, рядом — куклу Таню, обезьянку Читу и крошечного желтого утенка.
Усадил. Поставил на диван фортепиано, открыл его и стал играть. Минуты две с упоением колотил пальцами по клавишам.
На полузвуке оборвал игру. Резко поднялся и зааплодировал.
Друзья сидели недвижимы. Они, вероятно, были поражены музыкой.
— Все. Асхадись, — сказал Максим и стал отнюдь не по-дружески расшвыривать их с дивана.
Концерт был окончен.
«ТЯНИ, ПАПА!»
Выходные дни. Ура!.. Вот покатаемся на санках!.. Скорей одевать Максимку! Скорей одевайся, папа! Скорей доставать санки из-под террасы! Скорей!..
И мы на улице.
Падает снег. Тропинку вдоль дворов заносит. Никто не гуляет. А мы едем! Едем мимо дворов. Сворачиваем в глухой переулок. Его совсем занесло. Пробиваемся сквозь сугробы. Снег падает Максимке на шапку, на пальто, на валенки. Мальчишка смеется — счастливый.
Едем… Выбираю места поутоптанней. Все трудней пробиваться. Уже взмок. Останавливаюсь и оглядываюсь.
Деревья под тяжестью снега опустили ветви, будто руки по швам. В переулке — просторнее и светлее обычного. А снег все падает, кружит…
— Тяни, папа! — кричит Максим и поднимает на меня свои любопытные глазенки со снежинками на ресницах. — Тяни, папа!..
И я двигаюсь дальше. И чувствую, как тает снег на лице. И опять, что ни остановка — веселый крик Максима: «Тяни, папа!..»
Возвращаемся к дому. Из калитки выбегает смеющаяся мама.
— Ой, я тоже хочу с Мапишкой!
И усаживается на санки.
— Тяни, папа!..
Проходят выходные. В понедельник, чуть свет, по сугробам натаскиваю воды из колодца от Сетуни, угля и дров, завтракаю наспех, прощаюсь с сыном и бегу на электричку. Надо поспеть на работу.
Под террасой стоят Максимкины санки. Мельком взглядываю на них. И вновь мне слышится: «Тяни, папа!..»
УТРЕННИЙ ВОПРОС
— Папа! Папа! — слышится в бабушкиной комнате. Максим проснулся. Этими словами он начинает свой день. С папой он и засыпает вечером.
Папа — на первом месте. Играть — с ним. Читать — с ним. Есть — у него на коленях… Из всех зовущих рук он предпочитает руки папы. По вечерам он тянет бабушку на станцию встречать папу, хотя с ним вместе возвращается с работы и мама. Она идет впереди, ближе к сыну… Но Максим старается пробежать мимо нее, увернуться от ее расставленных рук — скорее к папе.
Мама огорчена. Она всячески старается завоевать Максимкино расположение. И игрушки ему! И конфеты! Даже купленное папой вручает мама. Но все остается по-прежнему.
— Я еще не видела таких детей! — говорит порой бабушка Наташа. Ее раздражает «нелюбовь» к маме.
— Папа! — зовет проснувшийся Максим.
— Мама, — слышится бабушкин голос.
— Папа, — повторяет Максим.
— Ма-ма, — бабушкин голос громче.
— Папа! — громче и голос Максима.
— Мама! — будто вталкивает это слово бабушка.
— Папа! Папа! Па-апа-а! — раздраженно кричит Максим.
Мама Люда спит. Чтобы не смущать бабушку, я медлю выйти к сыну. И думаю: «Что и как объяснить маме и бабушке, чтобы не обидеть их?..»
ЛУЧШЕ ГУЛЯТЬ
Снимает с нижних полок этажерки книги и аккуратно складывает их в стопки на сундуке. Сосредоточенно посапывает — увлечен занятием.
За стеной разговор. Там общая кухня — соседи стряпают. Сегодня выходной. К ним наехало гостей. С самого раннего утра хлопают двери, беготня, смех, крик…
Максим уже привык к коммунальному общежитию. Но когда что-то загрохотало, он крикнул:
— Вавава, не геми! (Варвара, не греми!)
На кухне оживленный разговор. Шум.
— Вавава, не кичи! (Варвара, не кричи!) — снова просит Максим.
Но на кухне за грохотом и криком не слышат Максимкин глас. Пойдем, мальчик, на улицу. Сегодня хорошая погода!.. Да, лучше мы пойдем гулять.
И мы начинаем одеваться.
КРАСНЫЙ ФРОНТ
Зашел ко мне старый институтский товарищ.
— Рот фронт, Максим! — сказал он. У него обыкновение так здороваться.
Максим вскинул кулачок:
— От фонт!
С тех пор у нас и повелось.
— Рот фронт, Максим! — говорю я при встрече или прощании с ним.
— От фонт! — звонко кричит сын и вскидывает к плечу правый кулак.
И ОПЯТЬ — КЛЮЧ
С террасы мы вкатили стиральную машину в прихожую, Максим тут как тут. То снимал шланг, то крутил стрелку часового механизма, то начинал раскачивать всю машину.
Внутри ее что-то болталось и еще больше привлекало мальчишку.
Мама отгоняла Максима от машины. Вчера на помощь ей снова пришел ключ от шкафа. Максим увлекся игрой с ключом и вроде забыл про машину.
Но когда маме понадобилось в шкаф, он оказался закрытым. А ключа у Максимки не было.
— Мапишка, дай ключик! — требовательно сказала мама.
— Неть юсика, — был ответ.
— А где же он?
Максим показал на стиральную машину.
— В матине юсик.
— В машине? Да когда ж ты успел его туда сунуть? — удивленно спросила мама.
Она сняла с машины кастрюлю с компотом и приподняла крышку.
Максим засуетился. Принес из кухни свой стульчик, приставил его к машине, взобрался на него и давай заглядывать под мамины руки. Вот они достали отжималку, вот ручка отжималки, вот палка для помешивания белья при стирке… Максим смотрел во все глаза, прикасался к вещам и без конца тараторил:
— Мама тостаеть… мама тостаеть…
А мама осмотрела все внутри, а ключ так и не нашла.
— Где же ключ, Максим?..
А сын сидел на полу и жадно рассматривал никелированную ручку отжималки.
Мама уложила все вынутое в машину и опять спросила про ключ.
Сын, успокоенный и довольный, встал, отряхнул руки, пошел на кухню и приподнял клеенку на столе. Под ней, на углу стола, лежал ключ.
…Максиму очень хотелось знать, что там, в машине. И он придумал, как это сделать.
ИДИ, СЫН, ДАЛЬШЕ!
Пришвинская весна света.
Вышли гулять. Максим попросил лыжи. Встал на них и пошел. Медленно, но для первого раза верно.
Прошел по аллее через двор. Я открыл перед ним калитку, и вот он на улице. Щурится от солнца, оглядывает все вокруг.
— Иди вон туда, на лыжню! — сказал я. — Вчера вечером я проложил ее…
— На езню! На езню! — подхватил Максим.
Проваливаясь по колено в сугробы, я помог ему добраться до лыжни. Он сделал несколько шажков, радостный повернулся ко мне.
— Мапима посёй по езне!..
— Все правильно, мальчик. Иди по лыжне. И еще дальше!..
КОГДА ЕЩЕ НЕ БЫЛО ДВУХ
Взял под мышку книгу. Отошел к порогу, остановился и прощально машет рукой:
— Дё идання!
— До свиданья. Ты куда, мальчик?
— На таци, в кою, — отвечает.
— На станцию? В школу? Рано еще в школу.
— Неть-неть, не янё.
Но в школу Максимке все-таки рано. Через три дня ему будет всего лишь два года.
Год третий
ОН ЗНАЕТ!
По радио передают песни военной поры — песни моего детства. Те, которые я пою Максиму у его колыбели.
— Узнай песню, — показывает он пальцем на транзистор.
Нарочно отвечаю неточно.
— Эх ты, папа! Это же «Дороги»!..
В голосе гордость. Он знает!
Я САМ!
Сварил ему яйцо. Очистил и подношу.
— Ешь.
— Нет. Дай я сам!
Должен сам расколоть скорлупу. Сам очистить.
ЧУЖИМИ РУКАМИ
Вышли гулять. Берет меня за руку и молча тянет за собой. Иду. Вокруг дома. Мимо квартиры дяди Валеры. По тропке к калитке. Сворачивает направо. И прямо к… смородине.
Показывает на ягоды.
— Ам… Ам…
— Рви сам, — говорю.
— Пальчик колет.
Значит, сам уже пытался.
Не вышло.
Давай-ка, папа, нарви.
ПЕРЕД СНОМ
Укладываю спать.
Затихает. И вдруг спрашивает:
— Папа, ты мой?
— Конечно, — отвечаю.
Обнимает. Тут же засыпает.
Так бывает часто. Девочка, наверно, задавала бы этот вопрос маме. А может, и нет.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ДЕТСКОМ САДУ
Отвел его в детский сад. Вечером спрашиваю:
— Ты что делал в садике?
— Тебя искал, папа.
— А как же ты искал?
— Ходил по всем комнатам. И тебя не было. Почему ты ушел?
КОГДА КОНФЕТЫ ГОРЬКИ
На следующий день снова надо идти в детский сад.
— Не хочу туда, — заплакал Максим. — Не хо-чу-у!..
— Почему? Там же хорошо.
— Нет. Нехорошо! Там меня… бьют.
— Не может быть! Ты обманываешь.
— Нет, не хочу! — твердил он свое. — Там все-все гойко, папа. Там конфеты гойкие!..
Попробуй устоять перед таким доводом.
ЧТО НАПОМИНАЮТ БУКВЫ
Знает буквы. Обозначает их предметами.
«Т» — молоточек. «Ж» — жучок. «О» — колесико. «П» — ворота. «Ш» — заборчик.
СОЗНАНИЕ СИЛЫ
Укладываю спать. В темноте.
— Папа, ты тут?
— Да.
— Ты, папа, не бойся. Если нападут волки, я с тобой.
КОГДА НУЖНО ПЛАКАТЬ
Бежал по дороге. И упал. Встал молча. Огляделся — никого. И не заплакал. Хотя шлепнулся крепко.
А будь кто-нибудь — наверняка расплакался бы.
Человек хочет жалости. Но понимает, что есть положение, когда жаловаться некому и взывать к ней не надо.
КТО ЕСТЬ КТО
Рассматриваем книжку «Гордый кораблик» — о крейсере «Аврора». Максим дает пояснения к иллюстрациям.
— Это, папа, ты. А это вражеский адмирал. А это у него повязка — вражеская повязка.
— А кто ты сейчас? — спрашиваю.
— А я… я — дружеский адмирал!
ТОЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
По соседству с нами на даче живет Мария Гавриловна. Она часто угощает Максима то яблоками, то ягодами. Он с удовольствием ходит к ней в гости.
Недавно она вышла замуж за соседа по фамилии Горелов. Переселилась к нему и пригласила Максима к себе.
Он вспомнил об этом, когда мы гуляли неподалеку, и сказал:
— Папа, пойдем к Марии Гореловне.
Я расхохотался. Максим тоже.
С тех пор у нас так и зовут ее — Мария Гореловна.
РОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ
Целую его, придя с работы вечером.
— Ой, папа, ты меня уколючил.
* * *
— Папа, ты знаешь, кто я? Я мопедист! Правильно. Если есть велосипедист или мотоциклист, то почему не быть и мопедисту?
* * *
Через некоторое время в словообразовании Максим идет еще дальше.
— Я теперь, папа, самокатист!
Это уже от самоката.
«А ГДЕ ТВОЯ БОРОДА?»
Собираюсь на работу. Бреюсь электробритвой. Подходит. Целует меня грустно — я ведь ухожу от него. Говорит ласково:
— Вот теперь ты мягенький, мя-я-гень-кий… А где твоя борода?
— В бритве.
— Что? Она испугалась? Да?..
ОБЪЯСНИ ПОПРОБУЙ
— Папа, почему «Запорожец» называют консервной банкой? Ни одну машину так не называют…
Вот и объясни попробуй!
Максим хорошо различает марки автомобилей. Как-то остановилась у ворот автомашина. Потянул меня к ней. И, как экскурсовод, начал рассказывать о машине:
— Это кузов. Это капот, а в нем мотор. Это выхлопная труба, это фары, это радиатор… А знаешь, как заводить мотор? Нажимаешь на стартер, даешь газ — и дрн, дрн, дрн…
Проходивший мимо дачник-пенсионер остановился, слушал-слушал и воскликнул:
— О время! Я взрослый и то не знаю всего, что он наговорил!
А почему же «Запорожец» называют консервной банкой?
«ПОЙДЕМ ЕЩЕ НАД МОСКВУ!»
Ура! Нам дали квартиру! Дом наш стоит на самом берегу Химкинского водохранилища. Московская Венеция!
И вот мы вошли в свое жилье первый раз с Максимом. Комнаты светлые, солнечные, чистые. Максим не был еще в такой квартире. Ходил по комнатам и все оглядывал расширенными глазами.
Вышли в лоджию. Я поднял его па руки. И перед нами — Москва с четырнадцатого этажа. Он широко раскинул руки и закричал:
— Па-а! Па-а-па!..
И больше ни слова. Только глазами обводил всю великолепную панораму.
Может быть, это запомнится ему на всю жизнь.
Вернулись в комнату. Прошелся, покачивая плечами. Присел на диван, притронулся к полировке пальцем. Встал. Потрогал сервант, шкаф: все это тоже отличалось от старой бабушкиной мебели.
Подошел ко мне.
— Папа, пойдем еще над Москву!
ЗВЕЗДЫ НА ЗЕМЛЕ
Вышли ночью в лоджию. Огни, огни, огни…
— Смотри, папа, сколько звездочек на землю упало!..
НА ГОРОДСКОЙ ДОРОГЕ
Едем в детский сад к станции метро «Аэропорт». Трудно садиться в автобусы. Они переполнены. Пропустили один. Другой. Пятый. Наконец пытаемся втиснуться во что бы то ни стало. И никак. И вдруг Максим как закричит:
— Люди! Пустите!..
Автобус грохнул в смехе. И конечно же нас впустили в автобус и даже уступили место.
Дорога до метро была озарена улыбками.
НЕ ХОЧЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ
В автобусе Максима то и дело спрашивают: как его зовут? Сколько ему лет? Где живет?
Смотрит на говорящего и молчит. И в глазах: что вы задаете надоевшие мне вопросы? На них уже не хочется отвечать.
И не отвечает. Пассажиры иногда делают вывод: нехороший мальчик, невежливый.
А что б самим подумать о своих вопросах!
СЛЕДЫ НА ЗЕМЛЕ
Были в Лукино. Пошли в лес за елкой. Я говорил ему, что попрошу ее у Деда Мороза. Пока сын разглядывал елочки, я незаметно срезал маленькую елку. Тут и подошел Максим.
— Ну вот, мальчик, Дед Мороз и подарил нам елку.
— А где он?
— А он ушел за эти вот заснеженные ели.
Максим всматривается.
— А где же его следы, папа?
Дед Мороз для него живой человек. А люди (Максим, оказывается, это уже хорошо знает) оставляют следы.
КАКИЕ БЫВАЮТ МОРЖИ
Как-то гуляли по набережной канала. В проруби купались зимние купальщики.
— Это «моржи», сынок. Видишь, как они закалились, холод им нипочем!
Позже, месяца через два, купил ему игру «Зоологическое лото». Рассматриваем на картинках морских животных.
— Вот это кит, — объясняю. — Вот тюлень, вот морж…
— Морж? — удивленно перебивает меня Максим. — А у нас на канале не такие!
ГОРДОСТЬ ЗА СВОЙ ДОМ
Ушли далеко от дома. Он виден теперь весь.
— Погляди, папа, а наш дом самый, самый, самый высокий!
В лифте, если кто из попутчиков включает этаж ниже нашего, он не преминет сказать:
— А нам на четырнадцатый!
СТРАХИ
Ехал в лифте с мамой. На одном из этажей в лифт ворвалась группа подростков — с криком, смехом. Максим очень испугался. Расплакался. Несколько дней рассказывал об этом случае.
— Я с мамой… в лифте… хулиганы…
Долго потом не хотел заходить в лифт. То и дело спрашивал:
— А хулиганов там нет?
С лифтом связан и другой страх Максима. Как-то, испортившись, лифт остановился внезапно, когда мы еще не доехали до своего этажа.
Чувство страха жило в нем очень долго. Несколько дней после этого случая приходилось подниматься и спускаться пешком по лестнице. Возвращаясь из детского сада, еще только садясь в автобус возле станции метро «Аэропорт», он беспокойно спрашивал:
— А лифт работает? Его не испортили хулиганы?
В лифте весь как-то сжимался, затихал. И облегченно вздыхал, когда выходил из него.
Лифт — великое испытание для Максима. Остановки в пути до сих пор пугают его.
«КОМУ ПОВЕМ ПЕЧАЛЬ СВОЮ»
Обиделся. Взял подушку, ушел с ней в дальний угол, лег на нее и жалуется:
— Родная подушечка, обидели Максимочку…
Так часто. Жалуется игрушкам, вещам. Жалуется солнцу, баржам на канале…
СОЧИНИТЕЛЬСТВО
— Папа, баба Наташа взяла палку и так меня била, так била.
— Ну как же, как же она тебя била?
— По голове! — отвечает, не задумавшись, но убежденно.
Сочиняет и сам верит в это.
ПРЕДПОЧТЕНИЕ НАСТОЯЩЕМУ
С месяц Максим живет у бабушки Груни и дедушки Пети в Россоши. Приезжаем туда и мы с мамой. Страшно обрадовался. И сразу же:
— Папа, пойдем смотреть паровозики!
— Куда?
— Я знаю, папа. Пойдем! Там нас-то-я-щие! Нас-то-я-щие!..
До поездки в Россошь он видел только игрушечные паровозы.
О ЧЕМ СКАЗАЛИ СВИНКИ
Пришли к деду Семену. А у него в загородке две свиньи — Мариванна и Иван Иваныч. Рассматривает их с величайшим любопытством.
— Смотри! Да смотри же, папа, хвостики! Смотри, пятачок!.. А о чем они хрюкают?
Сам уже испачкался об ограду.
— О чем?.. — Я выждал время и стал фантазировать, о чем могут перехрюкиваться свинки. Сказал, что они, видимо, узнали в нем своего, так как у него грязные руки и он лезет куда попало. Очень похож малыш на них, этих чушек…
Максим прервал меня:
— Знаешь, папа… свинки сказали — хватит о них разговаривать.
И ушел от загородки.
НА БРАТСКОМ ЯЗЫКЕ
С неделю как вернулись из Россоши домой. Собираемся гулять. Поторапливает маму.
— Ходим. Було ж врэмя тоби собратьця!..
Украинское в языке — это от дедушки Пети и бабушки Груни. Вот так внезапно и выдаст по-украински!
Учить бы его сейчас языкам.
СМУЩЕНИЕ
Играю на гитаре. Долго смотрит. Видимо, ему кажется, что играть — простое дело.
— Пап, дай я…
Даю ему гитару. Трогает струны, прислушивается. И возвращает гитару мне.
— Я не уме-ею…
Смущенно так.
ТОЧНОЕ СРАВНЕНИЕ
Вдоль Большой набережной отцветают осины. На асфальт падают сережки, прямо к нашим ногам.
— Папа, смотри, как похожи на гусениц.
Очень точное сравнение.
МАМИНА ОПЛОШНОСТЬ
Мать вышла из кухни и машинально погасила там свет.
— Что же ты свет выключила? — закричал в темноте Максим.
— А что такого? — отозвалась Люда.
— Да здесь же… ребенок! — сказал сын.
Год четвертый
СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
Не хочет ходить в детский сад. То и дело просит со слезами:
— Папа, не води меня туда! Папа!..
Расставаться с ним в детском саду — мука. Отдираешь его от себя. Плачет навзрыд. «Зачем же ты оставляешь меня здесь?!»
И вот снова.
— Не води меня в детсад!..
Слушая его, вспоминаю, как ему даже конфетки горькими были в детсаде. И объясняю, как взрослому:
— Мальчик, я не могу быть с тобой дома, хотя очень бы хотел. Я должен работать. Ты же любишь книжки, игрушки, ты любишь кататься на трамвайчике… Если я не буду работать, у тебя этого ничего не будет… Ты поговори с мамой. Пусть она побудет с тобой дома. Хоть немножко…
— Ты сам с ней поговори, — просит Максим.
— Почему?.. Ты и поговори, — советую я.
— Но ведь, папа… папа, она же меня не поймет, — срывающимся голосом отвечает Максим и разводит руками.
ЧТОБ ВСЕ ЛЮДИ ЖИЛИ И ЖИЛИ!
Принес ему книжку З. Александровой «Гибель Чапаева». Героя гражданской войны он давно знает из моих рассказов. Мы играем с ним «в Чапаева»: он, конечно, — Чапаев, я — Петька. Ползаем по полу, стреляем. Он то и дело восклицает: «Красиво идут, черти!.. Врешь, не возьмешь! Чапай никогда не отступал!»
Новую книжку читаем раз пять подряд. Попутно спрашивает: что за Урал-река? Почему Чапаев сказал — скрывайся на том берегу? Почему его убили? Почему его искали?
На все отвечаю. Молчит. Потом говорит:
— Папа, зачем говорить о гибели Чапаева?
— А почему же не говорить? Он же и правда погиб.
Тогда Максим — будто все уже давно обдумал:
— Надо, чтоб все люди жили и жили… И Чапаев тоже чтоб жил и жил!..
Часа через полтора ложимся спать. Пою ему лермонтовскую казачью колыбельную. Тяжело вздыхает:
— Папочка, как мне жаль Чапаева!..
КОГДА НЕ СПИТСЯ
Лежим. Все не засыпает. Пою тихо-тихо:
Провожать тебя я выйду, Ты махнешь рукой… Сколько горьких слез украдкой Я в ту ночь пролью…— Папа, а что такое «горьких слез украдкой»?
— Сын уйдет на войну, а мама его будет плакать одна, чтоб никто-никто не видел ее слез… чтоб другим не грустно было…
— Значит, когда я уйду в офицеры (Максим последнее время только и говорит об этом), моя мама тоже будет плакать?
— Может быть…
После паузы:
— Папа, ты скажи ей, что войны никогда не будет. Война есть только на картинках. Да вот в книжке про Чапаева…
Дай-то бог, думаю. Пою тихо-тихо:
Спи, пока забот не знаешь, Баюшки-баю…ИСТОРИЯ СО СТРИЖКОЙ
Совсем маленькому Максиму делали уколы. Было, конечно, больно, и уже одно напоминание, что придет доктор, тетя в белом халате, вызывало у Максима страх. Доктора он увидел и в парикмахере. И не садился в кресло. Не давался стричься. Ни в какую. Целая канитель. Да еще с ревом.
Как же его стричь?
…Гуляем… Любимое занятие на прогулках — кататься на трамвае или автобусе.
Идем с ним к трамвайной остановке. По пути столбы и стены оклеены объявлениями об обмене квартир, о продаже сервантов, кресел и т. п.
Мне в голову приходит занятная мысль. На одном из столбов громко — чтоб Максим слышал — «читаю»: «Объявление. Мальчикам и девочкам, которые не ходят в парикмахерскую, запрещается кататься на трамваях и автобусах. Инспекция». Подходим к другому столбу — «чтение» в этом же духе. Фантазирую, а сам наблюдаю за Максимом.
Поворачиваем на улицу Свободы. Равняемся с парикмахерской. Вдруг Максим тянет меня туда, в парикмахерскую. Входим. Идет к гардеробу. Раздевается. В салоне спокойно садится в кресло.
Все идет как надо.
Выходим из парикмахерской.
— Папа, теперь мне разрешается кататься на трамвайчике?
— Конечно, — говорю. — Теперь можно, сынок!
И счастливые спешим на трамвай.
НАЧАЛО РАССКАЗОВ
Начинает рассказывать что-нибудь.
— Когда я был маленьким… Папа, ты помнишь?..
КАК ЕХАТЬ В ЛУКИНО
— Папа, я уезжаю.
— Куда?
— В Лукино.
— Хорошо. Как же ты будешь ехать?
— Сначала я поеду на автобусе. Затем в метро. Затем на электричке, а потом пешком… Вот! — и сам доволен.
— А обратно как будешь ехать?
— Обратно?.. Пешком на станцию. Сяду в электричку. Потом в метро. А потом на автобусе. От метро «Еропорт».
Все правильно.
ПО-СОЛДАТСКИ
Не хочет одеваться.
— Эх ты, — говорю. — Какой же ты солдат? Солдаты одеваются. И другим помогают все делать. Ты видел на улице, как солдаты прокладывали москвичам газопровод?..
Умолкает. И через минуту одевается.
БЕСПОКОЙСТВО
Едем к бабушке в Лукино. Путь на автобусе до метро — путь в детский сад. Максим очень беспокоится:
— Куда мы едем? Куда мы едем?
— К бабушке.
— А не в детский сад?
— Нет.
Успокаивается лишь тогда, когда входим в метро. А к детскому саду — мимо метро.
ВПУСТИ ДЕНЬ В КОМНАТУ!
Проснулся поздно. Лежит в постели. Захожу к нему.
— Папа, впусти день в комнату. Пожалуйста.
Догадываюсь: надо сдвинуть занавеску на окне.
«ДАВАЙ СПОЕМ ЭТИ СТИХИ!»
Прочитали «Мужичок с ноготок».
— Давай споем эти стихи, папа, — сказал Максим.
Я взял аккордеон и пропел стихотворение на мотив «Сормовской лирической».
Максим в восторге. Я предложил ему петь, как в опере, — каждый свою партию. Максим пел «мужичка». Затем мы менялись ролями.
С этого вечера он часто просит меня «петь книжки». У нас есть своя музыка на «Гибель Чапаева», «Мальчишка Том», «Буря мглою небо кроет» и другие.
«ПАПА, НЕ ПРОСИ!»
В Лукино приехали на «Волге» родственники жены. Максиму так хочется посидеть в кабине, «попутешествовать». Но тетя, хозяйка машины, не разрешает.
— Я ничего-ничего не буду трогать, бабушка Ивушка! — молит Максим.
Бабушка Ира неумолима.
— Да уж пустите его, — прошу я. — Он сдержит слово, раз обещает…
— Нет-нет, что-нибудь скрутит…
Максим отходит от машины. На ресницах слезы. Берет меня за руку и тянет на улицу. Срывающимся голосом твердит:
— Папа, не проси! Не проси!! Не проси!!!
И все дальше утягивает от двора.
КОГДА УХОДИТ ГРУСТЬ
Уезжает с моей сестрой Таней в Россошь. При расставании с нами, когда тронулся поезд, заплакал.
Таня прижала его к себе. Когда отъехали, она тихонько запела. Максим перестал плакать и сказал:
— Тетя Таня, ты поешь, чтобы мне не грустно было?
— Да.
— Ну, пой, пой. Мне уже не грустно.
ЖИВАЯ ТАЧАНКА
Вскоре приехал в Россошь и я. Вышли с Максимом со двора на улицу. По дороге едет телега, запряженная парой гнедых лошадей.
— Смотри, папа! Смотри, какая живая тачанка!
Когда телега проехала, спросил:
— А где же Чапаев и Петька?
КТО ТЫ НА ЗЕМЛЕ?
Дедушка Петя ушел на станцию за молоком. Бабушка Груня готовит завтрак. Максим один в саду.
Присел под яблоней, затих — чем-то увлекся.
Подхожу. Смотрю, он снял с травинки крошечного жука, которого у нас называют солнышком, положил на ладонь и рассматривает.
— Кто ты? Кто ты? — спрашивает он жука.
Что отвечает жук — не слышно.
— Это солнышко, — говорю. — Сейчас оно доползет до кончика твоего пальца и улетит. Видишь, ползет на кончик пальца?.. А ты ему сказал, кто ты?.. Кто ты на земле?
Солнышко распустило красные в черную горошину крылья и взлетело.
Максим проводил его взглядом. Помолчал и ответил удрученно:
— Вот, не успел сказать ему, кто я.
— Ничего, — говорю. — Не огорчайся. Ты еще не раз встретишься с солнышком и скажешь.
В ДЕНЬ ОТЪЕЗДА ИЗ РОССОШИ
Ушел один в сад. И нет. Я пошел его искать. Стоит между вишнями.
— Ты что, сынок?
— Да вот, папа… пришел сказать спасибо вишенке. Она ведь ягоды мне дарила. И огородику спасибо — он мне, и бабушке Груне, и дедушке Пете огурчики давал…
Часа через полтора. Стоит на террасе и смотрит на улицу. Перед двором пасется соседская коза. Он был дружен с ней, выносил ей хлеба, яблок.
Отдергивает занавеску.
— До свиданья, козочка. Кто же тебя будет угощать?
Я почувствовал, как не хочется и мне покидать родной дом.
«НЕ ПЛАЧЬТЕ, Я ЕЩЕ ПРИЕДУ!»
Присели на прощание. Стал очень серьезен. Поцеловал бабушку и дедушку. Те крепятся, а у самих глаза повлажнели.
— Не плачьте. Я еще приеду! — успокаивал их Максим. — Я еще приеду.
КАК ДЕДУШКА ПЕТЯ
Живем в Москве. С месяц как вернулись.
Иногда садится на стул, нагибается, локти на колени, голову чуть набок, сцепляет пальцы, а большими вертит.
— Кто это так делает?
— Дедушка Петя, — отвечает Максим и добро улыбается.
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВОСПОМИНАНИЯ!
Играем по вечерам. Он увлечен машинами.
— Садись ко мне, папа. Поедем.
— Куда?
— Поедем в Россошь!
И мы «едем». И он комментирует поездку. Вот мы уже на станции. Вот уже подъезжаем к элеватору. У элеватора заходим в магазин. Берем ситро бабушке и сигареты дедушке. Поворачиваем возле Бондаря на Кооперативную улицу. А вот уже и дед Петя нас встречает! Ура-а!
* * *
Разговариваем о том, как жил Максим летом в Россоши. Оказалось, там он познакомился с героями, которых знал по книжкам: козликом, лошадьми, собачкой, кошкой, курами, гусями, поросятами, утками…
— Да, я видел всех-всех, кого раньше читал… Вот!
Год пятый
АХ КАК ХОЧЕТСЯ БЫТЬ БОЛЬШИМ!
Приношу ему книжку-раскладушку. Недоволен:
— Это же книжка для маленьких! Папа!..
Ах как хочется скорее быть большим! А ведь будет время, когда, наоборот, захочется быть маленьким.
УСТАМИ МЛАДЕНЦА
Рассматривает в «Правде» карикатуру. Она посвящена заходу американского шестого флота в Грецию.
— Кто этот дядя? — показывает Максим на грека.
— Это хозяин Греции. Есть такая страна.
— А это? — показывает на американца.
— Это дядя Сэм.
— А кто он?
— Пират, разбойник. Видишь, как расположились его корабли (на рисунке они лежат в кроватях, даже руки у них есть, что приводит Максима в недоумение: разве есть корабли с руками?). Вот дядя Сэм и будет Грецию грабить.
— Тогда, папа, почему же дядя грек пускает к себе пирата Сэма? Что же он делает? — говорит Максим сокрушенно.
Приходит мама. Он и ей показывает карикатуру и снова говорит:
— Зачем же грек пускает к себе грабителя?
После паузы:
— И дядя Сэм — тоже мне!! Зачем же он грабит?..
Зачем? Зачем?.. Вопросы-то воистину детские!
«ДУРОЧКИ ГАДКИЕ»
Прочитал ему сказку «Крошечка-Хаврошечка». Понравилась.
Потом лег он спать. Проснулся часа через два. Взял книжку, полистал и позвал меня:
— Ты видишь, папа, какой красивый царевич?.. И правильно он сделал, что женился на Крошечке-Хаврошечке, а не на этих…
Не сразу подобрал слова — на каких же «этих».
Отыскал картинку, на которой изображены дочери.
— Ты только посмотри, папа, какие они дурочки гадкие! — И удивленно: — Знаешь, я ни-ког-да не видел, чтоб у кого-нибудь был глаз на лбу! Какая же она уродина!..
ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ
Все утро строит из кубиков шлюзы и корабли и напевает:
Со-отня ю-уных бойцо-ов Из буденновских войск На разведку в поля поскакала…КАК СОЧИНЯЮТ ПЕСНИ
Дней за пять до этого. Тоже у столика. Поет долго-долго:
Черные паруса. Черные паруса.Голос громче. Зловеще:
Черные, черные…И почти крик:
Черные паруса!..И снова:
Черные паруса. Черные паруса. Черные. Черные! Черные паруса!..— Что это ты напеваешь? — спрашиваю.
— Это я сочинил пиратскую песню.
ЧТО ЭТО?
Утром говорит мне: «Я тебя больше всех люблю».
Потом приезжает бабушка Наташа. Я собираюсь на работу. И слышу:
— Пусть папа уезжает. Мне с ним скучно. Я с тобой буду…
Что это? Не басня ли о зеленом винограде?.. Я ведь все равно должен его, сына, оставить, как бы он ни хотел быть со мною.
КОГДА ЕМУ ТЯЖЕЛО
Болен. Целый день проводит с бабушкой Груней.
Прихожу вечером. Едва открываю двери квартиры — слетает с постели.
— Как ты долго не приходил!.. Не уходи теперь!..
К ночи у него поднимается температура. Болит ухо. Он плачет.
Склоняюсь над ним. Кладу руку на голову. Снимает ее, целует. Стонет. Руку не отпускает.
Постепенно успокаивается и засыпает.
УМЕНИЕ КРАСНЕТЬ
Лежит вечером с мамой на диване и говорит:
— Мама, знаешь, папа меня обижает.
Не вхожу, не уличаю во лжи, чтобы не мешать спать. Но утром спрашиваю:
— Ты что же наговорил на меня вчера? Будто я тебя обижаю?
Покраснел. Подошел. Прижался к коленям.
— Прости меня. Я не знаю, как это у меня вышло.
«ПОЧЕМУ ОН НА ПАЛУБУ ВЫШЕЛ?»
— Папа, мы давно с тобой не пели.
Беру аккордеон. Он — дирижерскую палочку, обыкновенный карандаш. Ждет, пока я надену ремни.
— Давай, папа, про кочегара… Почему он на палубу вышел?
Приходится пение на две минуты «отодвинуть».
РЕДАКТОР
Купил я Максиму хорошо иллюстрированную книжку «Дядя Степа» Сергея Михалкова. Как всегда, дома стали ее читать, едва вошли в комнату. Он слушал, смеялся, рассматривал картинки и хлопал от восторга в ладошки. И вот близимся к концу. Дядя Степа приезжает с флота в отпуск. Его встречают ребята, и дядя Степа им говорит:
…Ночь не спал. Устал с дороги. Не привыкли к суше ноги. Отдохну. Надену китель. На диване полежу. После чая приходите — Сто историй расскажу…— Папа, подожди! Па-апа! — закричал вдруг Максим. — Что же это он! Наденет китель и… ляжет на диван!..
И в самом деле. Ему, мальчишке, я твержу, чтобы он не ложился в костюме на диван. А тут… Да еще кто — дядя Степа!
— Ты прав, — говорю. — Я расскажу об этом дяде автору.
И я действительно рассказал об этом Сергею Владимировичу Михалкову.
— А что? Правильно! — ответил он и тут же стал вслух думать, как бы исправить строку. — Может, лучше: «На диване посижу»?
— Совсем неплохо, — сказал я. — Моряку после хождения по морям приятно посидеть на диване.
— Да, да! — обрадовался Сергей Владимирович. — Скажи спасибо редактору.
И рассмеялся.
«ЖАЛЬ, НЕ УСПЕЛ!..»
Смотрим по телевизору кинофильм «Салют, Мария!». Эпизод — бандиты ведут героиню на расстрел.
Соскакивает с дивана, бежит в соседнюю комнату, возвращается с ружьем и… стреляет в бандитов на экране.
Но Мария — уже на снегу.
— Жаль, не успел!.. — выдыхает и смотрит на меня виновато.
На глазах слезы.
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Утром спешим в детский сад. Хочу помочь ему одеться.
— Я сам, папа, — расстегивает застегнутые мной пуговицы и долго не может застегнуть. Мучится. Пыхтит. Но не просит помочь. Наконец одет.
Хвалю его. И он очень горд. Тут же идет к матери. Она стоит у зеркала.
— Мама! Я сам оделся!..
ОДНОПОЛЧАНЕ
Сидит с матерью на диване.
— Мам, я Чапаев.
— А я кто? — спрашивает мать.
— Ты — Анка-пулеметчица, — отвечает Максим.
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ
Мать уходит в прачечную, закрыв Максима в комнате: он спал. Возвращается. Открывает двери. А он бегает с автоматом. Та-та-та…
— Ты давно встал?
— Уже было темно.
— А сколько же было времени?
— Восемь минут…
«А ВОТ СВАСТИК»
Строит корабль из кубиков.
— Папа, смотри — пиратский корабль! А вот свастик.
— А что это — свастик?
— Ну, что же ты, не знаешь? Это фашисты…
РАДОСТИ
Прихожу с работы. Он в новой рубашке.
— Папа, это мне Женя подарил!
Оказывается, приезжала бабушка Наташа с внуком Женей.
— А ты ему что? — спрашиваю.
— А я ему бескозырку! — вовсю кричит Максим.
Какая радость — ответить на радость!
«ЖУРАВЛИ»
Пою гамзатовских «Журавлей». Слушает не шелохнувшись. Временами подпевает. Когда кончаем петь, говорит со вздохом:
— Хорошая песня. Только грустная.
ОТКЛИК НА ШУТКУ
Долго не засыпает. Нарочно беру его на руки, как грудного ребенка, и качаю. Застенчиво смеется:
— Ну, хва-атит, папа. Я же не маленький…
ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ КАРТИНА
Рисует акварельными красками. Черную краску разводит и разводит. Вся страница черная.
— Что это ты нарисовал?
— Да это нефть горит.
ПОДШУТИЛИ
Болен. Катар верхних дыхательных путей. Надо либо ставить горчичники, либо пить горячее молоко с инжиром. Не хочет делать ни то, ни другое. Как быть?
— Давай, — говорю, — или — или.
— Давай пить молоко, — отвечает.
Долго дует в чашку и наконец пробует пить.
— Ты мне дал не молоко, а какую-то непонятность и невкусность.
Не пьет.
Прибегаю к угрозе. Не помогает.
Мать кричит из кухни сердито:
— Я несу горчичники. Ну-ка, готовься!
— Сейчас, мама! — кричу я в ответ. А Максиму говорю тихо: — Давай шутку маме устроим. Выпьем молоко, пока она придет с горчичниками. Она придет, а мы ей — пустую чашку!.. Смеху будет!..
Тут же выпивает молоко. Глаза сияют. Заговорщицки подмигивает мне. Встает на кровати и в нетерпении кричит:
— Ну, иди, мама!.. Иди с горчичниками!..
В РАЗНЫХ РОЛЯХ
Играет сам с собой:
— Убрать сходни!
— Есть, капитан!
— Отдать швартовы!
— Есть, капитан. Разыгрывает роли. Меняет голос.
* * *
Один в комнате. Громко отдает приказание:
— Убрать сходни!
Голос, в котором удивление:
— Как это убрать?
Голос, в котором участие:
— Зачем убирать?
Голос грозного капитана:
— Скоро ли сходни уберут? Ф-фу-ты, непонятливые шкоды!
Некоторое время в комнате слышится пыхтенье. Потом снова крик:
— Да что же это у меня все падает и падает? Вот дур-рацкая игрушка!..
— Что, уже сломал яхту? — спрашиваю, входя к нему.
— Она сама-а… — тянет он и с грустью смотрит на оторванный парус под шкафом.
— Зачем же ты обманываешь? Ведь это ты ее сломал.
— Да. Но я боялся, что ты меня ругать будешь…
ЖАЛЕЯ СЛАБЫХ
Читаю сказку про волка. Он съедает козлят.
Максим не выдерживает и бьет волка кулаком (по картинке).
— Я скажу дедушке Пете, и он убьет волка лопатой. И он убьет противного волка!.. — решительно топает ногой Максим.
Потом придумывает еще много видов казни для волка.
ФАНТАЗИЯ
Сошел снег. И вдруг снова выпал.
— Папа, а почему опять снег?
— Да, видишь, не хочет уходить зима.
— А знаешь, папа, я однажды видел, как весна превратилась в Кощея Бессмертного, напугала зиму. Зима испугалась и убежала.
ДОГАДКА
Идем из детского сада по набережной. В руках у Максима игрушечный танк. Всю дорогу говорит о нем, расспрашивает. Узнанное тут же рассказывает мне.
Навстречу молодой папа с сынишкой, которому года полтора. Тот плачет.
— Почему плачет мальчик? — интересуется Максим.
Я возьми и ответь:
— Папа ему не купил такой вот танк, как у тебя.
— А почему? У него денежек нет, да?
— Возможно.
Тогда Максим серьезно говорит:
— Знаешь, наверно, мальчишкин папа зарабатывает мало.
ХАРАКТЕР
Пришли из детсада и моем руки. Приглаживаю его торчащие вихры.
— Знаешь, папа, когда меня дергают за волосы, я смеюсь.
— А кто же тебя дергает?
— Воспитательница. Елена Васильевна.
«Ничего себе», — думаю.
— А почему же это она тебя дергает за волосы?
— Она хочет справиться со мной, — поясняет Максим. — А я не поддаюсь.
— И тебе больно?
— Да. И я за это «больно» смеюсь.
Надо поговорить с воспитательницей. Не выдумал ли он все это?
ОШИБКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Построили с ним из кубиков станцию метро. Я ушел в свою комнату, он остался играть. Слышу — выразительно, голосом женщины:
— А где у вас продаются газеты? Скажите, пожалуйста.
Отвечает своим голосом.
— Нет у нас газет.
Потом приходит ко мне.
— Папа, а киоск у метро мы с тобой и не построили.
— Это наша ошибка с тобой…
И уходит строить киоск.
ЧТО ЕСТЬ В БАТАРЕЙКЕ
Купили Максиму светофор. Полдня играл им. Затем начал развинчивать-раскручивать. Надо же узнать, что там внутри.
Дело дошло до батарейки. Вскрыл. Из нее потекло.
Идет с мокрыми руками к матери.
— Мама, в батарейке какая-то слякость…
О ВРЕДЕ ТАБАКА
Смотрим телевизор. Мать в кухне у окна курит.
— Мама, иди сюда. Интересный фильм!
— Сейчас покурю…
Герои кинофильма простужены.
— Мама, хватит курить! — кричит Максим. — От твоего табака даже в телевизоре дяди кашляют!..
УТРО
Спрашивает:
— Ты сегодня поедешь на работу?
— Да. Мы вместе поедем. Ты на свою работу — в детсад, а я — на свою.
— А где ты работаешь?
— В центре Москвы. У Кремля.
Садится на стул. Задумывается.
— Одевайся, — тороплю его. — Почему ты не одеваешься? Опоздаем в детсад!
— Ты плохо со мной говоришь, — отвечает.
— Как это плохо? — еле сдерживаю раздражение.
— Ты, папа, скажи вежливо: «Максим, одевайся, пожалуйста».
Приходится быть вежливым.
Едем в автобусе. Мест нет. Одна пассажирка взяла его на колени. Долго сидит молча. Потом поднимает к ней глаза:
— А мой папа работает у Кремля.
Это уже — как другу. Еще бы — она держит его на коленях.
Через минуту.
— А знаете, кто у нас в группе самый тихий и самый умный мальчик? Андрюша Калашников.
— Почему ты так решил? — спрашивает пассажирка.
— Елена Васильевна говорит, воспитательница, — поясняет Максим.
— Ну, тогда сомнений быть не может, — поддерживает спутница авторитет воспитателя.
— А с Тимуром я уже не дружу, — совсем оживляется Максим. — Он глупости говорит. Я теперь дружу с Женей Давыдовым.
— А какие же глупости говорит Тимур? — простодушно интересуется собеседница.
— Ну, зачем же я буду повторять их вам? — Максим в недоумении разводит руками.
Собеседница смущается. Автобус хохочет.
СЛОЖНОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Не ест. Остывает завтрак. Прошу есть — не ест. Снова прошу — не ест. Угрожаю ремнем. Знаю, не надо бы. Но что делать? Болеет, похудел.
После угрозы все-таки ест. И хорошо ест. Через несколько минут показывает пустую тарелку.
— Сынок, — говорю ему, — почему же ты не ел, когда я тебя спокойно просил? Почему надо кричать на тебя? Ты же понимаешь, как это мне неприятно.
— Не знаю, папа, — отвечает чистосердечно.
НА ВСЕ НУЖНО ВРЕМЯ
Зашел ко мне.
— Ты чего? — спрашиваю.
— Чего? Чего? Чего? — закричал вдруг. Был почему-то не в духе.
Тогда я сказал:
— Уйди от меня и успокойся.
Ушел. Вскоре появляется как ни в чем не бывало. И ко мне с книжкой.
— А тебе не приходило в голову извиниться передо мной? — спрашиваю у Максима.
— Приходило и уходило, — тут же отвечает он.
— Ну, вот, — говорю, сдерживая смех. — Я не буду с тобой разговаривать. Ты нагрубил и даже не извинился.
Снова ушел. Долго сидел на диване. Один. Потом заходит и просит извинения.
— Ты жалел, что мы поссорились? — спрашиваю.
— Очень жалел, папа.
Так почти всегда. Ему нужно время, чтобы отойти от раздражения, чтоб решиться на признание своей неправоты.
КАК МОЖНО СЕБЯ ПОХВАЛИТЬ
Убираю постель.
— Давай, папа, я помогу тебе.
Я кладу в диван одеяло. Максим сует туда подушку.
— Папа, а есть еще такие дети, которые не помогают папе. Не делают ему хорошо…
МЕЖДУ ПРОЧИМ
— А я видел одного царя. Он был на коне.
— Очевидно, это Петр Первый, — говорю я.
— Да, это был он.
— Где ты видел?
— А в том городе, где корабль «Аврора».
— Так это Ленинград, что ли?
— Конечно! Ты догадался, папа!
В Ленинграде Максим не был еще.
«НЕ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ЛИ?»
— Папа, посмотри эту книжку. Это книжка про мангусту, которая охотится за змеями. Вот!
Перелистывает.
— Вот кобра. Видишь? У-у, какая она!.. А вот птичка Дарзи…
— Дразни? — нарочно переделываю слово.
Смеется.
— Да нет, Дар-зи, — отвечает по слогам.
— А «дразни» что такое?
— Да ты что, папа?.. Не понимаешь, что ли?..
КАЛАМБУР
Подходит к столику с кубиками.
— Сейчас я буду строить метро «Сокол».
И начинает петь:
— Метро «Сокол»… ведро свёкол…
И хохочет над своим каламбуром.
ПОРТРЕТ ОЛЕГА ПОПОВА
— Смотри, папа! Я Олег Попов!
Падает на спину и задирает ноги.
МАРСИАНИСТ
Приложил к глазам по бублику.
— Папа, я марсианист!
— Марсианин, ты хотел сказать?
— Ой, да. Марсианин!
В СТАРШУЮ ГРУППУ
В июле — августе детсадовцы выезжали на дачу. А Максим был у бабушки Груни и дедушки Пети в Россоши. В сентябре снова идти в детский сад. И снова слезы.
— Тебе теперь плакать нельзя, — говорю ему. — Ты идешь в старшую группу.
— В старшую! — тут же переспросил.
И охотнее засобирался. И когда уже через три дня я брал его домой, он всю дорогу твердил:
— Я теперь в старшей группе!
ПЕСНЬ СЕРЕБРЯНЫХ ТРУБ
Посмотрели кинофильм «Серебряные трубы».
После фильма играет сам и приговаривает:
— Несите… Несите Ивана Петровича Гайдара. Он красный командир. Несите. Топ, топ. Ивана Петровича Гайдара. Его обязательно надо спасти от Гитлера. Ой ты, мой Гайдарушка, мы спасем тебя. Странники, берегите его. Несите, несите, осторожнее… Выхожу к нему.
— Гайдара, сынок, звали не Иван, а Аркадий. Аркадий Петрович.
— Ой! О-ой! — смутился Максим.
ДЕТСТВО — ГДЕ ОНО?
Спрашиваю у воспитательницы, как ведет себя Максим в детсаду.
— Знаете, у него нет детства, — ответила она.
— Как это? — опешил я. — Не понимаю.
— Вот все ребята играют организованно, — поясняет она. — А он либо ходит в стороне, либо поет, либо все в войну…
Заговорили об этом с Максимом по дороге домой.
— Папа, — сказал он, — ты бы ответил Надежде Трофимовне, что детство у меня дома.
«ТЕБЕ НРАВИТСЯ, КОГДА Я ГУСАРЮ?»
Снял курточку, накинул ее на плечи. Гордо вскинул голову, встал ко мне вполоборота.
— Знаешь, кто я? Гусар!.. Тебе нравится, когда я гусарю?..
«МОЯ БУДЕТ ЧИЩЕЕ»
Соревнуемся: кто скорее съест сосиску с вермишелью. Я съел свою и показываю тарелку.
— Смотри, какая чистая.
— Я тоже все съем, и моя будет чищее, — отвечает Максим.
КАК СОГРЕВАЮТСЯ ДЕСАНТНИКИ
Смотрит на игрушечный танк и спрашивает:
— Кто сидит сзади на танке?
— Десантники.
— Папа, а когда холодно, десанты открывают люки и щелочки и садятся в мотор. Когда он работает, он теплый, и десантам тепло.
«ЖДУ, КОГДА ВЗЛЕТИТ РАКЕТА»
Подошел к окну. Прильнул к нему и молчит. Долго-долго.
— Ты чего тут стоишь? — поинтересовался я.
— Да жду, папа… Жду, когда взлетит ракета в космос, — и показал на Останкинскую телевизионную вышку, которую нам с четырнадцатого этажа прекрасно видно. Она и в самом деле похожа на стартующую ракету, особенно когда над Москвой легкий туман.
ИГРА В РАБОТУ
— Папа, давай поиграем в работу.
— Давай. Ты кем будешь?
— Я буду задавателем, — говорит.
— А что это значит?
— Как ты не понимаешь, папа? Я буду вопросы задавать.
— А-а… А как же я буду тогда называться?
— А ты будешь отвечатель.
ПРОСТОЙ МОРЯК
Разыгрываем «Акулу» Льва Толстого.
Максим ползает по полу. Плавает, значит. Появляется акула. Я, старый артиллерист, стреляю из пушки — ба-бах! Убиваю акулу. Он взбирается ко мне на диван-шлюпку. Обнимаю его.
— Ты спасен, мой мальчик!
Он отстраняется.
— Я не мальчик. Я простой моряк.
В АВТОБУСЕ
— А кто твой отец?
— Папа, — был ответ.
ПОНЯТИЯ О ТРУДЕ
Лежу на диване. Правлю статью. Входит.
— Ты что делаешь, папа?
— Работаю, — отвечаю.
— Гм… Ты видел когда-нибудь, чтоб лежа работали?.. — В голосе ирония.
Вот взгляд на мой труд. Ему, малышу, простительно. Хуже, когда взрослые так думают.
ОТКРЫТИЕ
— Папа, ты был солдатом?
— Да.
— Нет, ты не был солдатом.
— Был. Хочешь докажу?
— Как?
Иду в свою комнату. Нахожу в шкафу фотографии, на которых я снят в солдатской форме, и приношу ему. Он не верит своим глазам.
— Мама, мой папа был солдатом! — кричит на всю квартиру.
Утром просит еще посмотреть фотокарточки. Расспрашивает, где что, где кто.
Приезжаем в детский сад. И едва входит в вестибюль, кричит знакомым ребятам:
— А мой папа солдатом был! Вот что!
— Сынок, — говорю ему тихо, — папы всех ребят тоже были солдатами.
Но он продолжает твердить свое.
Высоко стоит в его представлении солдат!
«РЫЦАРИ, Я СЕЙЧАС!»
Один в комнате. Там — война. Комментирует.
— Эти трое рыцарей будут драться до последнего патрона. Пчжжж! Ду-ду-ду!.. Это фильм про Чапаева! Петька, спускай Василия Ивановича к Уралу… Эх, проклятая пуля догнала в воде… А тут идет отряд… идут войска… (Наверное, Максим выстраивает своих солдатиков.) Барабан барабанит!.. Бегут фашисты!.. А рыцари вперед… Это комендант Чапаева?.. Я комендант Чапаева! (Начинает напевать.)
Комендант, комендант… Комендант, коменда-ант…Пчжж!.. Та-та-та… Пулемет разбит. Пушка осталась целая. Огонь! Пчжж! Пчжж!.. Ой, я хочу в туалет!.. Рыцари, я сейчас!..
Берет книжку и идет с ней в туалет. Закрываю дверь за ним.
— Не надо, папа. А то будет темно, и я подумаю, что меня взяли в плен и посадили в тюрьму.
ВООБЩЕЖИТИЕ
Домик путевого обходчика перестроил в многокомнатную квартиру. В квартиру поставил много солдат.
— Теперь это вообщежитие, — пояснил он мне.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГРИППА
Говорят и пишут об эпидемии гриппа.
— Пап, хочешь избавиться от противной этой болезни?
— Конечно.
— Ешь тогда лук.
— Зачем?
— Лук лезет гриппу в глаза, он тогда и уйдет.
ОЧЕРЕДНАЯ ХИТРОСТЬ
Утром, в день ухода в детский сад, вдруг начинает притворно покашливать.
— Папа, как же ты можешь больного человека вести в детсад?
«НУ, ВОТ МЫ И ВЫШЛИ…»
Прошлись по Большой набережной, вдоль шлюзов. Свернули к кинотеатру «Метеор», не дошли до него и свернули еще направо по уличке. Потом свернули еще.
Я нарочно запутывал нашу дорогу, как лабиринт. Незаметно стал подводить его снова к набережной, совсем незнакомой ему улицей.
— Ну, вот мы и вышли, — сказал Максим.
НАДО ДОЙТИ ДО СМЫСЛА
Поем с ним «Варяга». Вдруг прерывает пение.
— Что это: не скажут ни камень, ни крест, где легли?..
Объясняю ему.
— Аа-а, конечно, — говорит раздумчиво. — На воде как же устроишь могилу? Крест вода унесет, а камень потонет…
ВОЛШЕБНЫЙ ДЕДУШКА
Прихожу с работы. Идем с ним гулять по набережной. Рад. Выкладывает новости дня.
— Знаешь, мы с мамой слушали сказку «Конек-Горбунок».
— Понравилась? — спрашиваю.
— Ага!
— А кто читал сказку?
— Один волшебный дедушка.
Этот дедушка — артист Борис Чирков.
КАК ТУТ ОТКАЖЕШЬ?
Гуляем по набережной. Предлагает пойти к шлюзу. А у калитки — в ограде шлюза — лужа.
— Не надо, — говорю. — Очень уж грязно там.
— Нет, папа. Давай пойдем. Мне хочется посмотреть. Знаешь, я шлюзом очень интересуюсь.
Как тут откажешь?
БЕДУ ПОПРАВЛЯЕТ СУДЬБА
Гуляем. Максим сделал себе сигарету из палочки, держит ее меж пальцами, как заправский курильщик.
— Не вздумай брать эту палку в рот, — предупреждаю я.
— Нет, папа. Я курю на расстоянии, — и не доносит сигарету-палочку до рта. Но «дым» выпускает. — Вот какая беда пришла, — говорит озабоченно. — И не хочется мне курить, а жить я так не могу.
— И что же теперь делать? — в тон ему озабоченно спрашиваю я.
— Не знаю, — отвечает.
По дороге снова и снова повторяет свою фразу: «Вот какая беда пришла…»
Вернулись домой. Разделись.
— Папа, а теперь мне пришла судьба, и я бросаю курить.
ТОЛЬКО НЕ ЦЕЛОВАТЬСЯ…
Приходим в детский сад после выходных дней.
— Максим пришел! Максим!..
Подбегают ребята. Пытаются обнять его и даже целовать. Он степенно отводит распахнутые для объятий руки товарищей.
— Только не целоваться… Мы же не маленькие!..
Помнит, что я отговаривал его от поцелуев, чтоб не заражать друг друга. А уж насчет возраста — это он от себя…
ПО-СВОЕМУ
— Когда мы с мамой возвращались из детсада, я видел четыре милиционеров.
— Четверых, — поправил я.
— Да, папа, четырех милиционеров, — ответил Максим и улыбнулся, прищурившись: «А что, дескать, я по-своему все-таки сказал…»
КТО РАНО ПОДНИМАЕТ
Мать спит. А он уже делает мотоцикл из стульев посреди комнаты. Грохает чем-то. Мать открывает глаза и смотрит на часы.
— О-о, только семь часов…
— Да, мама, шут меня поднял так рано — в семь часов…
ИЗ РАССКАЗОВ МАКСИМА
— Знаешь, вот мальчики в пустыне… Они на конях… Копыта вот так (шлепает ладошками по столу и языком цок, цок, цок…). А за ними — беляки. Хотят их догнать… И красные казаки спешат на выручку мальчиков… И песня (поет):
Есть пуля в нагане, Но надо успеть Сразиться с врагами И песню допеть. И нет нам покоя — Гори, но живи! Погоня, погоня, погоня В горячей крови…— А тут, папа, пустыня такая, степь, песок (морщится, прищуривает глаза — будто и правда в них бьет солнце, летит песок…). И кони храпят, папа…
КТО ТАКОЙ БУРЖУИН
— Знаешь, кто баржуин?
— Буржуин, — поправляю его.
— Да, баржуин… ой, буржуин… Это враг. Враг вообще Советской власти. И знаешь, как его убили?.. Было три хороших мальчика. И был мальчиш-плохиш…
И, горячась, пересказывает «Мальчиша-Кибальчиша» Аркадия Гайдара.
ЗАСЛУШАЛСЯ
Работаю. Не слышу транзистора. А он, Максим, стоит рядом с перевязанной головой (он Чапаев, ранен в бою), в папахе (обычной шапке), в бурке (старой пятнистой шубке, наброшенной на плечи). Положил щеку на ладонь и — тих, тих…
— Ты что, устал?
— Нет, я песенкой заслушался.
И вздохнул.
ОТКУДА ЭТО?
Балуется за завтраком. Выставляю его из-за стола. Идет в угол, возле входной двери. Прохожу мимо в свою комнату и говорю:
— Вот так и стой. А котлеты и пастила пусть ждут тебя.
И закрываюсь в своей комнате.
Он тут же бежит в кухню, садится за стол и все съедает.
Бывает, не хочет одеваться. Строго говорю: «И не одевайся! Не надо!» Тут же одевается в три минуты.
Откуда это в человеке — делать что-то обязательно наперекор? Откуда?
СОЖАЛЕНИЕ
На полчаса заехала к нам родственница жены. Собирается уезжать.
— Что это за человек? — с великим сожалением говорит Максим. — Только пришла и тут же уходит…
Он так рад всегда гостям. Узнаю в нем себя. Я ведь тоже рос один в семье.
РАССКАЖИ ПРО ДЕДУШКУ ВАНЮ
Купил ему значок «Гвардеец». Отошли от киоска.
— Папа, расскажи про дедушку Ваню. Как он был комиссаром.
Значок напомнил ему давнишний мой рассказ о его деде — батальонном комиссаре, погибшем в 1944 году.
СКАЗКА
Идем к шлюзу. Солнечно и тепло. Хочется шутить и быть маленьким. Максиму тоже, видимо, хочется шутить.
— Папа, хочешь, я расскажу тебе сказку?
— Расскажи.
— Жили-были деда да баба. Баба и говорит: «Давай, дед, испечем стол». — «Да в уме ли ты, баба! — закричал дед. — Разве можно стол испечь?»
И хохочет.
«…КАК Я СЛУЖИЛ.
— Расскажи мне, папа, как ты в армии служил.
— Да я уж тебе рассказывал.
— Тогда хочешь, я расскажу, как я служил?.. Вызывает меня генерал в военкомат. И говорит: «Хочу, чтоб ты, Максим, служил в армии командиром». Собрал я свой мешок и пошел на корабль. И прослужил — знаешь сколько? Сто пятьдесят лет. Вот!
О ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ
Мать собирается уходить. Ей скучно, надоело дома. Она торопит Максима ужинать и укладываться спать. Он медлит, вызывает раздражение у матери. Наконец он в постели.
— А ты куда, мамочка?
— Я иду в Театр эстрады, — резко говорит мать и закрывает за собой дверь, оставляя Максима одного в комнате.
— А папа?.. — кричит Максим из-за двери.
— Папа будет дома.
Максим в тишине разговаривает о чем-то сам с собой.
Вхожу к нему. Сажусь рядом с ним и кладу свою ладонь ему на бок, под мышку. Так он скорей засыпает.
Он крепко прижимает рукой мою ладонь и шепчет:
— Папа, ты не уйдешь?
— Нет, никуда не уйду.
— Не ходи, папа! — И вдруг горячо-горячо: — Никогда, никогда, никог-да не ходи в Театр эстрады!..
— Хорошо, сынок. Не пойду. Спи спокойно.
Через две-три минуты он засыпает.
Пусть ему приснится кораблик с алыми парусами!..
ПРО МОРСКУЮ СВИНКУ
— А у нас в саду есть морская свинка, ты знаешь.
— Где же она живет?
— В клетке.
— А чем же она питается?
— Знаешь, папа… Она так наворачивает капусту!
НАКАЗАЛ
Берет бумагу. Держит перед собой.
— Хочешь, я тебе прочитаю, папа?..
Читает: «Один генерал захотел командовать. Собрал он отряд мальчиков и отправился на войну. Шел-шел. Ка-ак его пулей ударит! Он и упал в болото. Вот и все». А знаешь, в книжке есть еще рассказ…
Я замечаю, у него обветрены губы, и говорю:
— Что ж ты облизываешь губы на улице?
Максим умолкает и сердито свертывает бумагу.
— Раз ты перебил меня, я тебе больше читать не буду.
И быстро выходит из комнаты.
Секунды через две-три заглядывает в дверь:
— А тут у меня еще много-много интересного!..
И прикрывает дверь.
Наказал.
ПО ПУТИ ДОМОЙ
Идем из детского сада.
— Мы тебе куртку купили, — сообщаю ему. — Потеплеет — будешь ходить в ней.
— Новую? — обрадовался он.
— Да.
— А какого цвета?
— Бежевого.
— Это как у мамы? Вот теперь у нас с ней бежевые куртки!.. На молнии?
— Нет, на пуговицах.
— Ну и правильно. А то у меня в черной, помнишь, молния порвалась. Молния такая никчёмистая… А ты дашь мне поносить куртку?
— Ну конечно.
Молчит. И заключает.
— Спасибо, папа. Это хорошо, что вы мне купили. Вы мне еще давно-давно не покупали куртку.
ЕЩЕ ОДНА СКАЗКА
— Жил-был Чапаев. Была у него серебряная шашка. И рубил он однажды белогвардейцев. «Знаешь, Иван Григорьевич, нас было меньше, а беляков больше. Но мы победили. Это тебе говорю я, Чапаев!» Вот и вся сказка, папа.
Кто такой Иван Григорьевич — так и осталось неизвестно.
«ПРОЩАЙ, Я УЕЗЖАЮ В ИСПАНИЮ!»
Лежу на диване. С полчаса как пришел с работы.
Подходит. Крепко целует в одну щеку, потом в другую.
— Прощай! — говорит трагическим тоном. — Прощай, я уезжаю в Испанию. Я белый моряк. Но я хороший моряк. И скоро стану красным. Прощай!..
Узнаю вариацию на тему телевизионного фильма «Салют, Мария!». Сцена прощания испанского моряка с Марией.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ РЕЦЕПТА
Не хочет есть за обедом. Ушел из-за стола. Обычно, когда начинаешь убирать еду, он тут же садится и ест. Мать решает использовать этот маневр и сейчас. Спрашивает:
— Максим, так что мне делать — убрать тарелку?
Отвечает спокойно:
— Смотри сама.
«ПОЧЕМУ ОНА УПАЛА?»
Смотрим по телевизору балет «Бахчисарайский фонтан». Объясняются Зарема и Мария. Зарема теряет сознание и падает.
— Почему она упала, папа?
— Да она же без памяти.
— Без какой памяти?
Начинается «сто тысяч почему».
«ХАНДИРЕЙ СХВАТИЛ КИНЖАЛ…»
Разыгрывает сцену из балета.
— Хандирей схватил кинжал, папа, и…
Я расхохотался:
— Какой тебе Хандирей?.. Хан Гирей!..
У Максима дрогнули уголки губ. Спохватываюсь.
— Ты ведь, наверно, просто ошибся, — говорю.
Отходит. Губешки растягиваются в улыбке.
— Да-а, я же и говорю — хан Гирей…
ТАЙНА
Не хочет раздеваться и поспать днем. А матери хочется поскорее «заняться своей тайной». Она строго говорит ему:
— Я приду через пять минут. Если ты не разденешься и не ляжешь спать, смотри, — она показывает на ремень.
Уходит на кухню и закуривает перед открытым окном — чтобы дыма не было в комнате. Немного погодя спрашивает:
— Ты разделся?
— Нет, мама, — отвечает Максим. — Ты еще можешь покурить…
Вот тебе и тайна.
ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНУ
— Что это у тебя лицо какое-то не твое? — спрашиваю.
— Я не умывал глаза, они заспатые.
«…И БУДУ МОЛОДЕЦ»
Вечером. Говорит сам себе:
— У меня четыре дела: сходить в туалет, раздеться, проститься с папой на ночь и лечь спать. Сейчас я все эти дела сделаю. И буду молодец.
И правда. Уж через полчаса спит.
НАШЕЛСЯ
Ложится спать и тянет с собой в постель автомат.
— А ну-ка, убери его отсюда, — говорит мать.
— А он мне сказал, что хочет спать со мной — невозмутимо отвечает Максим.
СПАС ЛЮДЕЙ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ
(После пребывания у телевизора во время передачи об истории создания «Капитала». 8 апреля 1972 г. Сцена разгона демонстрации)
— Однажды я служил полковым комиссаром… Оказался я в чужом городе, среди тридцати полицейских. Они фонтанами разгоняли рабочих людей. Я схватил автомат. Пчжж! Пчжж-ж! Потом лег за пулемет: та-та-та-та-та!.. И вдруг меня — пуля в плечо. Но не как Чапаева… Я пошел к медсестре. Она обинтовала мне руку… Вот как я спас людей от полицейских.
«ЭТО Я УЖЕ ЗНАЮ»
В программе «Время» сообщают сводку погоды в сопровождении чудесной музыки. Максим прибегает из соседней комнаты, где он строит что-то из кубиков. Говорят о температуре на Урале. На экране река, горы…
— Это Урал, где Чапаев погиб? — спрашивает.
— Да.
— А-а, это я уже знаю… И уходит.
О СЕБЕ, О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ
Утро. Сижу работаю. Входит.
— С добрым утром, папа.
— Здравствуй.
— Мама говорит, сегодня еще выходной и мы не пойдем в детский сад.
— Да, сегодня выходной.
— А завтра?
— Завтра уже пойдем. Нам с мамой тоже на работу надо будет идти.
Вздыхает. Прижимается ко мне.
— Но ты по ребятам соскучился все-таки? — спрашиваю с тайным умыслом — подготовить его к завтрашнему утру.
— Да, соскучился…
— Кого же ты вспоминаешь?
— Ну, вот… — смеется. — Дима… Он за столом взял привычку нос чистить. Расковыряет, а потом кровь течет. И Тимур нос чистит. Оба сидят за столом и всегда нос чистят. Их уводят в умывальник. Нос надо чистить над раковиной…
— А Анечка что делает за столом?
Спрашиваю о тех, кого успел узнать, посещая с Максимом детский сад.
— Когда ее кормят, она ревет… А Виталий всякие фиги показывает и глупости болтает. Он такой циркач, папа, такой циркач…
— Кому же из вас больше всех достается от воспитателей?
— Сереже и Тимуру. Они голыми под кроватями ползают.
— А кто же лучше всех себя ведет?
— А лучше всех себя ведет Дима Сидорин. Он лучше всех ходит…
— Как же это он лучше всех ходит?
— Ка-ак ге-не-рал! Вот как!.. Ему пришлось звездочку дать, Диме.
— А кто дает звездочку?
— Да воспитательница. Только хотела дать ему звездочку — он испортился…
— Ну, а как ты себя ведешь за столом?
— Я первый ем.
— Во как!.. И первый одеваешься? Мне говорила Елена Васильевна.
— Нет, я теперь одеваюсь последний, — говорит Максим упавшим голосом. — Вы же меня последним берете из сада.
«С чего начал — тем и кончил».
— Мне же, сынок, далеко ехать до детсада с работы, — объясняю.
А Максиму, видимо, надоедает этот разговор, и он уходит к своим игрушкам.
ЧТО СКАЗАТЬ ЕМУ…
Включаю телевизор. Передают концерт воспитанников музыкальных школ — юных пианистов, скрипачей, виолончелистов…
— Что это за концерт малышей? — спрашивает Максим.
Объясняю ему.
Объясняю, а сам едва сдерживаюсь. Не могу спокойно слушать…
— Папа, ты что т а к говоришь? — Он почувствовал слезы в голосе.
— Как? — переспрашиваю его.
— Чего ты плачешь?
Как ему объяснить?
Что сказать о несбывшейся мечте — стать музыкантом?.. О военном детстве?.. Зачем ему сейчас об этом?..
«Я СТОЛЬКО НАСМОТРЕЛСЯ…»
9 апреля 1973 года. Первый раз поехали с ним на Красную площадь. Побывали у могилы Неизвестного солдата, в Мавзолее, у памятника Минину и Пожарскому, посмотрели смену караула.
Возвращались домой в третьем часу.
— Приедем — сразу спать. Ты ведь устал, правда?
— Нет, папа. Я столько насмотрелся, что не буду спать.
ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ
Вечером допоздна строил из кубиков Спасскую башню Кремля.
— Она мне больше всех понравилась. На ней куранты бьют!
Потом надевал «парадный» пояс, брал ружье на караул и ходил по комнате парадным шагом, точь-в-точь как часовые у Мавзолея.
НАЧАЛО РАССКАЗА
— Вот мы идем втроем… — поднимает глаза, — ты, я и мама…
«ЭХ, ГОВОРИЛ ЖЕ Я ВАМ!..»
На деревянной горке играют ребята. Игра такая: надо догонять друг друга (в салки), но при этом никто не имеет права спускаться на землю, даже коснуться земли.
Как обезьяны, перелетают ребята через перила, прыгают по стропилам.
Максим всходит по лестнице на горку. Смотрит на играющих и говорит:
— А зря вы это делаете… Упадете!..
Ребята — намного старше Максима. Они не обращают на него никакого внимания. Это Максима задевает.
— Глупые вы! — сердито говорит он.
И на это никакой реакции.
Но вот один мальчик — Игорь — убегает от товарища, в спешке цепляется за гвоздь и разрывает куртку. Он останавливается и машет руками — отойдите, мол, не до вас!..
— Эх, говорил же я вам! — не унимается Максим. — Что теперь делать?..
Подходит к мальчику.
— Теперь тебя будет мама ругать.
После молчания.
— А то еще и попорет…
И в голосе уже сочувствие.
…В конце прогулки снова идем мимо горки.
— Папа, я полажу, как ребята. Я не порву куртку, не бойся!..
«Я ВСЕ РАВНО ВИЖУ»
Забыл умыться утром.
— Заспанные глаза будут, — говорит ему мать.
— Я все равно вижу, — парирует он.
«КОГДА Я СЛУЖИЛ В АРМИИ…»
Идем на автобус. Максим в новой куртке. Оглядывает себя.
— А знаешь, папа, когда я служил в армии, у меня на такой же куртке были совершенно зеленые защитные погоны. Совершенно зеленые! Со-вер-шен-но!..
«Я САМ С НЕЙ ДОГОВОРЮСЬ…»
Подходим к детскому саду.
— Когда будете выходить гулять, — говорю я, — обязательно надевай свитер, а то куртка тоненькая — простудишься и снова заболеешь.
— Хорошо. А если, как в прошлый раз, воспитательница Елена Васильевна скажет: «Там тепло, свитеры не надевайте»?
— А ты ей скажи, что ты теперь не в шубе, а в куртке. Это другое дело… Или, наверно, я скажу ей.
— Нет, не надо, папа. Я сам с ней договорюсь.
АКВАРЕЛЬНАЯ БУЛОЧКА
Ужинает. Берет из тарелки булку.
— Это булочка акварельная.
Думаю: о чем идет речь?
— Калорийная — ты хотел сказать?
— Ох, да! Я перепутал. Вот голова!..
ДОВОД НАЙДЕН
Хочет «строить» мотоцикл — собрать в комнату все стулья, поставить их друг на друга и залезть наверх. Есть опасение — грохнется.
— Хорошо, — говорю. — Строй. Только из двух стульев.
— Из двух — это мало.
— Ну, а больше не надо, — настаиваю я. — Играй лучше на ковре.
Умолкает. Долго расхаживает по комнате.
— Папа, — говорит наконец, — я же одет в чистый костюм. Что же я буду валяться на ковре?
Довод найден. Но стаскивать все стулья в комнату я все же не разрешаю.
В ЧЕМ ВАРИТЬ КАРТОШКУ
Хозяйствуем с ним.
— Ты в чем картошку варишь, папа?
— В кастрюле, — отвечаю.
— А мама говорит — можно варить в мундирах.
«НЕТ, ДЕЛО В ТОМ…»
По телевидению выступает сын Аркадия Гайдара — Тимур.
— Почему у Тимура Гайдара погоны? — спрашивает Максим.
— Он военный корреспондент.
— Нет, дело в том, — говорит Максим, — что он служит… Где он служит, папа?
— На флоте.
— А-а-а! — многозначительно говорит Максим.
Флот — сегодняшняя мечта его.
СРЕДНЯЯ ВОДА
Просит чаю.
— Ты только сделай, папа, чтоб сразу пить можно было.
Чай в его стакане разбавляю кипяченой водой.
— Папа, — Максим показывает на банку в моих руках, — там у тебя средняя вода?
ИГРА СЛОВ
Матери:
— Ты сказала — Максимка, а можно — Таксимка…
«ТАК ЭТО ЖЕ Я КУТУЗОВ!»
Смотрим по телевидению фильм «Война и мир». Кутузову докладывают, что Наполеон ушел из Москвы. Старый полководец плачет.
— Папа, а почему заплакал Кутузов?
— От счастья, сынок. От счастья, что он спас Россию.
— А как он спас Россию?
Приходится коротко рассказывать о войне 1812 года.
— Папа! — кричит Максим, выслушав меня. — Так это же я Кутузов! И я спас Россию.
ПОСЛЕ «ВОЙНЫ И МИРА»
— Хочешь, папа, я покажу тебе красную книжку, где нарисован дядя Жуков? Он служит в полке и называется полководец… Но это не Кутузов, папа. Это Жуков!
Берет из шкафа мемуары Г. К. Жукова. Рассматривает его портрет.
— О, у него цветы на петлицах!..
СМОЛЬНИКИ
Рассматривает открытку «В. И. Ленин на броневике».
— Папа, а это, — показывает на матросов, — это смольники? Да?
Раньше я ему рассказывал о Ленине, о Смольном. Отсюда, видимо, и смольники — люди, близкие к Ленину, к Смольному.
ЕЩЕ ХИТРОСТЬ
— Папа, ты уходишь на работу?
— Да.
— Ты знаешь… я плохо себя чувствую…
— Потерпи. Я вечером приду.
— Когда ты придешь, мне уже не захочется тебя.
ПРЕДЧУВСТВИЕ
Смотрит сказку по телевизору. Я собираюсь на работу.
— Когда тебе надоест смотреть, выключишь телевизор.
— Папа, — отвечает Максим, — я предчувствую, мне никогда не захочется выключить телевизор.
ТАМ ПАРУСНИК ПЛЫВЕТ
Надел выходной костюм — вязаный, с якорями, любимый. Балуется, ползает по полу.
— Сними костюм. Не три его. Не в чем будет выйти погулять.
Он и ухом не ведет.
— Сними костюм, пожалуйста, — повторяю свою просьбу.
Не снимает. Снимаю с него костюм насильно.
Рассердился. Расплакался. Пошел в мою комнату, лег на диван и уткнулся в подушку.
Через некоторое время поднимает глаза и хмуро смотрит на меня.
— Ты подумал о нашей ссоре? — спрашиваю.
Молчит.
— Ведь я же прав?
— Да! Да! Да! — выкрикивает недовольно.
— Если «да», то почему же ты сам сразу не снял?
Разговор ему неприятен.
— Папа, посмотри, — внезапно показывает в окно на Химкинское море, — посмотри, там парусник плывет…
И лукаво, едва заметно, усмехается.
ЛУЖА И ОТРАЖЕНИЕ В НЕЙ
Гуляем по набережной. Сбоку дороги лужа.
— Папа, как хорошо отражается заборчик!
В самом деле — четкое и какое-то волнующее отражение.
ГРОМАДЯГА
Пришли к шлюзу, когда из него буксир «XXX лет ВЛКСМ» толкал впереди себя большущую баржу.
— У-у, какая… громадяга! — воскликнул Максим.
ОТВЕТ НА УКОР
Несколько вечеров читали «Конек-Горбунок». В одно из чтений прозевали праздничный салют.
— Эх вы, — говорит пришедшая с прогулки мать, — читали какую-то там книжку!..
— Не какую-то, — отвечаю, — а книжку про то, как Иван ловил жар-птицу…
А Максим тут же добавляет:
— В нашу царскую светлицу!..
«ХВАТИТ ТУТ ПРАВИТЬ…»
— Сидит царь в кресле… Послушай, папа!.. Приходит демонстрация. А ну, слезай, царь! Хватит тут править!
— А ты кто? — спрашивает царь.
— Капитан первого ранга Берсенев!
И смела царя демонстрация вместе с креслом!
ВОТ И ПОГОВОРИЛИ…
Долго гуляли. Пора уходить домой. Максим не хочет уходить.
Мимо нас по скверу везут коляску с плачущей девочкой.
— Ты знаешь, почему девочка плачет? — спрашиваю у Максима.
— А как ты думаешь? — отвечает он.
— Я думаю, она плачет оттого, что ей надоело гулять и она есть хочет.
— А я думаю, папа, она хочет всегда-всегда оставаться в сквере и гулять-гулять…
Вот и поговорили!
О ЛЮБВИ
Болеет. Надо ставить горчичники. Он, конечно, не хочет. Ставлю против его желания.
— Я не люблю тебя, — говорит он мне сердито.
— А я тебя люблю. Потому и горчичник ставлю тебе, — отвечаю я.
— А я разлюбил тебя! Разлюбил!.. — говорит он раздраженно.
— А я тебя никогда не разлюблю, — спокойно говорю я.
Горчичник держу у него на груди.
Максим лежит некоторое время молча. Потом, вздохнув, говорит:
— Но я, папа, никого другого любить не могу…
Мы снова друзья.
Он терпеливо переносит пять-семь минут с горчичником на груди.
«Я ЖЕ НЕ ДЕВОЧКА!..»
Гуляем в сквере. Подходит к нам девочка с прыгалкой. Прыгает перед Максимом.
— А ты так не сумеешь, — замечаю я.
— Ну, папа… Я же не девочка!..
МЕБЕЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ
— Вон мебельный корабль пошел!
— Почему мебельный? — спрашиваю.
— Да он повез мебель из чего делают…
Шла баржа, нагруженная лесом.
БЫТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ…
— Что ты кричишь, как извозчик? — говорю Максиму.
— Какой извозчик? — недоуменно спрашивает он.
И правда, откуда же ему знать извозчиков?
«ДА ЗАБЫЛ Я…»
После просмотра кинофильма «Повесть о настоящем человеке».
— Знаешь, папа, я тоже однажды ранен был… И я об этом даже жене своей не говорил.
— А кто твоя жена?
— Да тетя одна…
— А как ее звали?
Молчит. Ест. Потом тихо отвечает:
— Да забыл я…
«Я ТОЖЕ РОЖДЕН ХВАТОМ!..»
— Папа, ты знаешь, я видел необыкновенную саблю. И знаешь, у кого? У полковника, который рожден был хватом.
Через секунду:
— И я тоже рожден хватом!
— А что это значит? — спрашиваю.
— Прочитай «Бородино» — узнаешь! — отвечает Максим.
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ В КОКТЕБЕЛЬ
Принес я путевки в Коктебель. Рассказываю, как мы поедем к морю, как будем ходить купаться, загорать…
— И я буду загорелым-загорелым, — сказал Максим. — И вместо лица у меня будет что-то черное. Вот такушки!
ЛАСТИЧНЫЕ БРЮКИ
— Я хочу надеть вот эти брюки. Они у меня ластичные!
ЧТО У НЕГО ВО РТУ
Ест конфету «Холодок».
— А у меня север во рту!..
«КАКОЙ ЖЕ ИЗ НЕГО ЧАПАЕВ!..»
— У нас в детском саду есть Дима Сидорин. И ты знаешь, папа… знаешь, он хочет быть Чапаевым, а сам… палец сосет!
Вскинул брови. Глаза округлились.
— Ну, какой же из него Чапаев!..
ОРДЕН ПЕРВЫХ ЦВЕТОВ
В Лукине. Идем на огород. Расцвели одуванчики. Я срываю несколько и вставляю ему в карман рубашки.
— Вот тебе орден первых цветов.
— Это одуванчик? — спрашивает.
— Да, — говорю, — одуванчик-обдуванчик.
— Обдуванчик потому, что его можно обдуть? Да?.. Это ты, папа, хорошо придумал, — комментирует Максим. — Я тебя тоже награжу орденом первых цветов.
И нагибается нарвать букет.
НА ОГОРОДЕ
Пришли копать огород бабушки Наташи.
Я копал, а Максим жег костер. Потом подошел ко мне.
— Дай я покопаю.
Дал я ему лопату. Он копнул раза два. О, это не так легко, как кажется, когда отец копает!
— Знаешь, папа… Крепостные мы с тобой люди…
Еще копнул и добавил:
— И буржуины заставляют нас с тобой работать.
Ничего себе заключение!
ОТВЕТЬ, БАБУШКА!
Разговор с бабушкой Наташей.
— Бушка, скажи, почему у этого змея одна голова?
— Потому, что это настоящая змея, а много голов — у волшебной.
— Да нет, — горячится Максим. — Это я знаю. Ты скажи… почему у этого змея одна голова?
Бабушка повторяет свое объяснение.
— Да нет же! Скажи: «Максим, почему у этого змея одна голова?»
— А-а, у тебя спросить? Ну, хорошо.
И едва бабушка договаривает фразу, Максим торжествующе выпаливает:
— А у тебя, бушка, почему одна голова?
13 МАЯ 1972 ГОДА
Как-то вдруг, сразу (до этого он узнавал буквы на вывесках, в газетных заголовках) взял листок бумаги и написал четыре слова — «папа», «мама», «максим» и «миша».
Отложил карандаш, вздохнул облегченно, скрестил перед собой руки и сказал:
— Не хочу больше. Я устал.
Еще бы! Написать столько первый раз в жизни.
Я придвинул к себе лист и карандашом поставил оценки. Четыре — за слова «папа» и «мама».
— Знаешь, почему четыре, а не пять? Потому, что у тебя буква «а» все хочет убежать куда-то…
Рассмеялся.
— То же самое у тебя с этой буквой и в именах. Но имена написать труднее, и я ставлю тебе пять.
— Спасибо, папа!
Сегодня ему четыре года, пять месяцев и четыре дня.
ЕДЕМ К МОРЮ!
Поздно вечером укладываю его спать в вагоне. Не хочет. И так, и эдак — не хочет ложиться.
— Если ты не будешь спать, дядя машинист повернет поезд и повезет нас обратно в Москву.
В ту же минуту лег, отвернулся к стенке, подложил руку под голову и вскоре сонно засопел.
Как он хотел к морю!
ПОЗНАКОМЛЮСЬ — ТОГДА РАССКАЖУ
В вагоне один мальчик спрашивает, куда Максим едет.
— К морю! На юг! — гордо отвечает Максим.
— А расскажи, какое море, — просит мальчик.
— Вот поеду познакомлюсь с морем — тогда расскажу. Мы же еще встретимся с тобой?.. Встретимся?..
О ВОЛНЕНИИ МОРЯ
Подходит к самому морю. Оно шумит, шумит…
— Папа, почему море волнуется?
— Да такое уж оно беспокойное.
— Его, наверно, люди волнуют? Да?
Понимает: все исходит от людей.
ЕЩЕ О ВОЛНЕНИИ
Готовлю ему бассейн на берегу — резиновый.
— Папа, а море и в шлюпе будет волноваться?
КАКИЕ БЫВАЮТ МОРЯ
Выхожу из моря. Весь в капельках. Подходит ко мне, целует и морщится.
— Ты что?
— Да ты соленый!.. Почему?
— Море-то соленое.
— А-а, — задумывается Максим. — А где-то есть сладкое море…
У СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
На стене спасательной станции — плакат: мужчина спасает тонущую женщину.
— Кто это такое? — интересуется Максим.
Рассказываю ему, как тетя лежала на берегу, как не хотела накрыть голову, как не хотела посидеть под тентом, а потом пошла в море купаться и потеряла сознание от солнечного удара. Дядя бросился спасать ее.
— Почему?
— Может быть, он был ее другом.
— Она, наверно, была его жена. Почему же она не послушала его? — говорит Максим.
— Да была упрямая. Как ослик.
— А зачем же он народил ее, такую упрямую?
НА БЕРЕГУ
— Знаешь, папа, зачем я надел кепку?
— Зачем?
— Да чтоб меня солнце не ударило по голове.
МОРСКОЙ ВОЛК
Час были в море на теплоходе «Витя Коробков». Стоял у самого борта — гордый, подтянутый и молчаливый. Пристально смотрел на лунную дорожку, на величественный силуэт Карадага.
Потом поднялись на ходовой мостик. Штурман посадил Максима за штурвал, показал нам ориентир на берегу — гору Верблюд, и мы вели теплоход.
Сошли на берег. Максим забежал вперед, остановил меня руками.
— Папа! Теперь я настоящий морской волк! Да?..
ВОЛШЕБНАЯ НОЖКА
Отправились в путешествие по подножию Карадага. Отошли далеко от жилья.
— У меня ножка болит, — сказал Максим.
— Это правда? — спрашиваю.
Ответил после паузы:
— Ножка, папа, у меня волшебная. Когда мы идем туда (он махнул рукой назад, к дому), ножка у меня не болит. А если идем туда (он показал рукой вперед), она у меня болит…
ДЕТЕКТИВНЫЙ СЮЖЕТ
Сидим в парке, у фонтана.
— Папа, а кто такой изменник?
— Это человек, который был тебе другом, а потом стал врагом.
— Папа, а если… если наш офицер надел фашистскую форму… пошел к фашистам… они считали его своим другом… потом он… как начал, как начал им вредить!..
И рассказывает целую детективную повесть — фантазию на тему современных кинофильмов.
ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДЫ
— Ты знаешь, папа, от кого Гитлер родился? От царя! Потому он и подлец. Потому и застрелился из пистолета.
«А КАК Я РОДИЛСЯ?»
— Папа, а как я родился?
Объясняю доступно — как, когда и где.
— Ты мне покажи тот дом — Грауэрмана[3].
ДРУЖБА С МОРЕМ
Не решался купаться в море. И я не насиловал его. Наконец дней через пять-шесть после нашего приезда он спокойно вошел в море по грудь, окунулся и тут же оглянулся — вижу ли я это. Увидел, что я смотрю, закричал:
— Видишь, папа! Я осмелился!.. Теперь я буду дружить с морем!..
С того дня он купался.
«КОГДА СТРОИЛИ ГОРЫ…»
Взбираемся на Карадаг. Максим останавливается и спрашивает:
— Когда строили горы, почему не предусмотрели скамеечки?
— Рассчитывали на сильных путешественников, — отвечаю. — Им, чтобы отдохнуть, достаточно постоять и полюбоваться видом на море.
— Значит, и горы строил силач, — заключает Максим.
ОТВЕТ ТЕТЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ
— Ты знаешь, папа, одна тетя на набережной хотела меня взять себе. Она сказала: «Пусть мама еще себе купит мальчика». Я не стал ее слушать и ушел от нее. Пусть она сама покупает, раз не может народить! Вот!
ОН ПРОСИЛ ПРОСТИТЬ МЕНЯ
Был день рождения Никиты — мальчика, с которым Максим познакомился у моря. Максим плохо вел себя на торжестве — капризничал. Пришлось мне его наказать. Он плакал.
Вечером пошли в кино. Он вроде забыл про ссору, а я мучился — зачем его отшлепал. Надо бы наказать по-другому.
Рано утром Максим пришел ко мне в постель и сказал:
— Я жаловался маме про тебя. Как ты меня наказывал… Но я попросил маму простить тебя. Последний раз простить…
Боже, как мне было стыдно!
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
— Знаешь, папа, что? Давай оставим здесь, в Коктебеле, свои плавки и будем приезжать сюда купаться каждый день.
ДВОЕ У МОРЯ
— Папа, ты видел, как я плавал в воде?
— Да.
— Тебе понравилось?
— Очень.
— И ты любовался мной?
— Конечно!
Вижу перед собой счастливого человека.
А кто-то третий, может быть, видел нас двух счастливых.
ПОЧЕМУ НЕ РАСТАЯЛО МОРОЖЕНОЕ
У моря Максим открыл мороженое. Может быть, и этим запомнится ему летнее путешествие. Теперь он часто просит купить ему мороженое.
Приехал я в Лукино, где он гостил у бабушки, и привез ему эскимо. Радости было!
— Не знаю, как уж мне удалось довезти его, — говорю Максиму. — Ты видишь, какая жарища!
— А знаешь, почему ты довез?
— Почему?
— Да потому, что мороженое таяло медленно, а электричка шла быстро.
КАК КУПИТЬ ПОЯС
Захожу в комнату. Лежит, проснувшись, и рассматривает красивый пояс — с кармашками на молниях, разноцветный. Вижу, нравится ему пояс.
— Хорош? — спрашиваю.
— Да-а-а…
— Спроси у дяди Вадима, где ему купили. Я пойду и куплю.
— Не купишь, папа… — озабоченно говорит Максим. — Что ж ты, не знаешь, — его достали!..
ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД НАСТУПАЕТ
Поставил на воду — в бочке — пластмассовый корабль. Выстроил на палубе солдат.
— Смотри, папа! Последний парад наступает. Врагу не сдается гордый «Варяг»!
И обвел рукою солдатский строй.
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
Утро. Еще все спят. А он уже на ногах.
Расспрашивает меня об армии, о полководцах, о знаменитых сражениях. Рассказываю. Он — весь слух. И неожиданно шепчет:
— Вот, папа, что меня удивляет. Ты же, прежде чем говорить мне о чем-то, думаешь. За это я и люблю твою голову.
И целует меня в макушку.
— Какое совпадение, — отвечаю я, смеясь. — И я твою голову за это люблю.
— Тогда поцелуй ее!
И подставляет свой вихор.
ОБМИШУНИЛСЯ
Не расстается с новой книжкой — «Генерал Топтыгин». Всем пересказывает ее и хохочет.
— Что же он так обмишунился, смотритель!.. Принял Мишку за генерала!.. Вот так обмишунился! Ха-ха!..
ПРИЧИНА ПРИЕЗДА
Приехали в Россошь. Пришли с вокзала домой. Обнялся с дедушкой и бабушкой.
— Бушка, ты ждала меня?
— Дуже ждала, внучек. Дуже!
— Вот я потому и приехал. Я знал, что ты меня ждала.
ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ
Едва вошел в дом, спросил:
— Бушка, а мои игрушки целы?
— Та все-все целые, — встрепенулась бабушка Груня (а у самой блестят глаза), метнулась в чулан и вынесла оттуда ящик, полный игрушек.
— О-о! — восторженно закричал Максим.
Через минуту он уже расселся на полу и доставал из ящика автомобили, вагоны, шарики, остатки конструктора…
— Видишь, папа, как меня бабушка Груня любит — все игрушки сберегла. Ты рад, папа, что она меня так любит? Давай сделаем ей что-то хорошее-прехорошее!
НЕ МОГ НЕ ПОСЛУШАТЬ
Играл во дворе рядом с дедушкой Петей и бабушкой Груней. Потом исчез. Туда-сюда — нет.
Захожу в дом. Глядь, он сидит перед радиоприемником, сложив руки, сцепив ноги. Шла какая-то передача. С хорошей музыкой. Не отвлекая Максима от приемника, я удалился спокойный: он дома.
Минут через семь Максим выскочил на крыльцо и закричал:
— Дедушка-бабушка! Вы не искали меня? Я в доме услышал сказку про Муравьишку!.. И я не мог… не мог… — глаза округлились, брови взлетели, выставлена вперед растопыренная ладонь, — понимаете, не мог не послушать ее!..
И стал взахлеб пересказывать Виталия Бианки — «Как Муравьишка домой спешил».
ШИРОКО И ЧИСТО
Поиграл. Прошелся по дому. Прошелся важно — заложив руки за спину, оглядел горницу, спальню дедушкину, спальню бабушкину, оглядел кухню, вышел на террасу, подошел ко мне и на ухо сказал:
— Ты заметил, папа, как у бабушки Груни и дедушки Пети широко и чисто? Будем спать на полу? Помнишь, мы давне-енько не спали на полу…
ДЕДУШКИНА МЕЛЬНИЦА
Дедушка Петя смастерил Максиму мельницу — с дверью, с окошками, и крылья крутятся на ветру. Настоящий ветряк!
Максим три дня не расставался с ней.
— Папа, вот вы все покупаете мне игрушки, а дедушка Петя сам делает!
— Да, — говорю. — Видишь, какой у тебя дедушка. А ты помогал ему?
— Я с удовольствием помогал! С удо-овольствием!..
«Хоть один человек умный среди нас», — думал я о дедушке.
МНОГОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ
За завтраком.
— Ешь, внучек. От тебе картошка жареная. А от огурчики малосольные…
Бабушка Груня пододвигает к Максиму блюдо с нежными огородными огурцами.
Максим вздохнул и отодвинул блюдо.
— Знаешь, бабушка, я люблю многосольные огурцы.
ЗАГАДКИ
— Папа, что такое: режу-режу — крови нету?
— Наверное, лодка.
— Нет, это кольчуга. Режешь мечом, а крови нету.
Через минуту:
— А что такое: еду-еду — следу нету?..
— Я уж и не знаю, что это.
— А это-то и есть лодка!
БУХТА НА СТОЛЕ
После поездок к морю и в Россошь месяца два живем в Москве.
Приезжаем как-то в Лукино. Сидим на террасе дачи. На столе лежит кулек с пряниками.
Максим взял пряник-подкову, положил перед собой и сказал:
— Смотри, папа, Сердоликовая бухта.
Пряник и правда — морская бухта в миниатюре.
СДЕРЖАТЬ СЛОВО
Купил ему альбом для марок.
— Вот ты какой, папа. Обещал и купил. И я тебе так буду: что пообещал — то обязательно сделаю. О-бя-за-тель-но! — и рубанул воздух ладонью.
ЗАБОТА О ПОТОМКАХ
Уложил марки в новый альбом. Любуется.
— Ты сохрани мой альбом, папа. Надолго-надолго. Когда я вырасту и у меня будет сыночек или там дочка, ты им подаришь этот альбом.
Для этого же он как-то просил сохранить его куртку и азбуку.
УЧЕНИК ПАПИНОЙ ШКОЛЫ
— Хочу заниматься и учить уроки, — заявил Максим.
Принес я ему тетради: одну в клеточку, другую в линейку.
— Как же мы подпишем их?.. Вот эта — в клетку — будет для занятий по арифметике.
— Да, — соглашается Максим.
— Ученика какого класса?.. Пожалуй, подготовительного. Как ты думаешь?
— Ну да! — захлопал в ладоши Максим.
— А какой же школы?
— Папиной! — сказал он сразу.
Дней через пять довольно правильно писал элементы букв «а», «н», «ш», «о» и цифры от 1 до 7.
Страшно рад оценкам. Рассказывает даже по телефону о папиной школе, о тетрадках своих.
СТИХИ ПРО РИТУ
— В группе у нас есть девочка Рита. Так я, папа, сочинил про нее стихи. Вот послушай:
Ритка-напитка, Из лесу попитка. Прыгала на кочки, Собрала цветочки.— Хороши, — говорю, — последние две строчки. Но что это — напитка-попитка?
— Ну она напиток пила, и когда в лесу была, и когда из лесу ушла. Понимаешь?
— Вроде да. Но все-таки ты поднакрутил.
Максим рассмеялся:
— Вот видишь, папа, как я про Ритку поднакрутил!
И снова — хохот.
КАК КОНЧАЕТСЯ ССОРА
Поссорились мы с ним.
— Уходи, — сказал я ему. — У меня нет такого непослушного и капризного мальчика. У меня есть хороший сын, но жаль, он куда-то ушел…
Вышел. И через минуту из другой комнаты:
— Па-а-па-а, ты хочешь, чтоб к тебе пришел?
— Кто? — спрашиваю.
— Ну тот, папа… хороший мальчик…
— Да, хочу.
Влетает ко мне сияющий.
СУДЬЯ
Купил я биографический очерк об Александре Грине. Чуть ли не первый очерк о нем. Много любопытных фактов в книжке. Захотелось кому-то прочесть вслух, немедленно.
Иду к жене. Она курит на кухне.
— Послушай, — говорю, — о Грине…
— Я не люблю его. И не хочу слушать, — был ответ.
— Жаль, — вздыхаю я и возвращаюсь в свою комнату.
Вдруг слышу из зала голос Максима:
— А папа прав!
— Чем же он прав? — спрашивает мать.
— Ведь он же хотел тебе об интересном человеке рассказать, мама!..
УСПОКАИВАЕТ ИЛИ УСПОКАИВАЕТСЯ?
Собирается с матерью в Лукино праздновать день рождения дяди Вадима. Я остаюсь дома. Надо поработать.
— Папа, ты не беспокойся, пожалуйста. Я завтра же!.. Завтра же приеду к тебе! — и гладит меня по плечу ладонью.
НАВЕЯНО ВОСПОМИНАНИЯМИ
Вспоминали лето в Россоши. Потом Максим ушел в другую комнату и затих. Этак через полчаса заходит ко мне и ставит на стол два домика на одной длинной площадке. Он собрал их из готовых деталей (немецкая игрушка).
— Что это? — спрашиваю.
— Это путейская будка. А это дом бабушки Груни и дедушки Пети. А мимо проходит железная дорога. Тут маневрируют «Серго Орджоникидзе», «Щука», «Эмка»… Знаешь, такие отжившие паровозы? Маленькие и чумазые…
Да. Дедушка и бабушка живут у самой железной дороги. А к будке путевого обходчика мы ходили с Максимом смотреть на поезда, на электровозы, на маневровые паровики.
…И ВОТ ВСЕ СТИХЛО
Заигрался с солдатами, пушками, пулеметами… Стрельба стоит — хоть уши затыкай.
И вот все стихло. Заходит ко мне.
— Как же мне, папа, надоела эта война!.. Давай займемся мирной жизнью.
ПРАВИЛА ИГРЫ
Играет с Женькой. Прячет под диван солдатика и говорит:
— Моя хитрость — чтоб ты не нашел солдатика. А твоя — чтоб ты ухитрился найти. Вот.
УДИВИЛ
Идем из детсада домой. Шли-шли. Вдруг остановился.
— Папа, я тебя сегодня удивлю.
И нагнулся над своим ботинком.
— Смотри, я сам могу завязать шнурок!
И правда, развязал и завязал.
КТО ТАКОЙ МЮНХГАУЗЕН
Читаем книжку о приключениях барона Мюнхгаузена. Хохочет без удержу, падает от смеха на диван и восклицает:
— Ну и придумщик этот барон! Ну и сочинитель! Ну и брехун же он, этот Мюнхгаузен…
«ТЫ НАПИШИ ИМ…»
Из подарков ко дню рождения больше всего понравилась ему пушка, присланная дедушкой и бабушкой.
— Ты напиши им, папа! Напиши им «спасибо» и подождем — что они ответят…
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Максиму исполнилось пять лет. Дня через три после его торжества из Россоши пришла еще посылка. Идем на почту получать ее.
— Папа, — говорит Максим, — ты думал, мой день рождения кончился? Нет! Он продолжается. Видишь, посылку бабушка Груня прислала!..
Год шестой
СЮРПРИЗ
Прихожу с работы в пятницу. Он уже дома.
— У меня есть тебе сюрприз! — кричит.
Мать останавливает его и просит не раскрывать секрета до воскресенья — дня моего рождения.
Он умолкает.
А в субботу утром все же не выдерживает:
— Я тебе приготовил сюрприз — две картины. Но что я на них нарисовал, пока не скажу.
Самое главное — все же в секрете.
ОБ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ
Посмотрел кинофильм «Александр Невский».
Легли спать.
— Папа, а что, если псы-рыцари снова пойдут на нас? И Москву возьмут?..
— Нет, сынок. Не пойдут и не возьмут.
— Ну, а если пойдут вот?.. Где же мы возьмем Александра Невского?..
ВОТ ЭТО КАРТИНА!
— Знаешь, папа, Тимур меня так удивил! Нарисовал такую картину… Такую картину, что я ну просто обалдел!
— Что же это за картина?
— Я просто не могу тебе сказать.
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Целый день рисует и напевает песенки из «Бременских музыкантов».
НА ПИРАТСКОМ КОРАБЛЕ
Пересказывает фильм «Таинственный остров».
— Вот взобрался Айртон на пиратский корабль. Глядь, а там пираты в карты надуваются…
Не удерживаюсь. Смеюсь.
— Что? Я неправильно сказал?..
ПОСРЕДНИК
Вечером при нем поссорились с женой. Утром собираюсь уходить на работу. Жена лежит на диване, отвернувшись к стене. Он бежит к ней. Зовет меня. Подхожу.
— Наклонись, папа.
Поворачивает лицо матери ко мне. Говорит ей:
— Поцелуй папу!..
Так он нас выводит на дорогу к миру.
РОЛЬ ДЛЯ МАМЫ
Передача «Молодые исполнители». Великолепно играет скрипачка. Максим прибегает ко мне на кухню, где я готовлю обед.
— Папа, я немедленно хочу играть на скрипке либо на пианино.
И тут же убегает к телевизору.
Приходит снова минут через двадцать.
— Давай сделаем оркестр. Ты будешь играть на пианино, а я на флейте.
«Делаем» оркестр. Играем «Варяга», «То не тучи, грозовые облака», «Шаланды, полные кефали» (недавно он видел фильм «Два бойца»). Детские песни он почему-то не любит и не поет.
— Хорошо мы играли? Хорошо я придумал?
— Очень хорошо, — отвечаю.
— Когда мама придет, — говорит Максим, — она будет в нашем оркестре барабанщиком.
НА КОГО ПОХОЖ ВРУНГЕЛЬ
Рассказываю ему истории из жизни капитана Врун-геля. Смеется. Качает головой.
— Ой, папа… Недаром у него такая фамилия… у этого Врунгеля!.. Мне очень думается… он точь-в-точь знаешь кто? Барон Мюнхгаузен — этот брехун и придумщик! Вот он кто!
У ТЕЛЕВИЗОРА
На телеэкране диктор. Говорит, приветливо улыбаясь:
— А теперь мы приглашаем к телевизору ребят. Смотрите приключения…
— Папа, почему она такая веселая женщинка?
«РАСКРАСЬ ПОРАЗУКРАСНЕЙ!..»
Просит нарисовать казаков на лошадях:
— И раскрась поразукрасней, папа!
ТВОРЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ
— Я сниму кинофильм про революцию. В кино я погибну, а на самом деле нет. Ты не бойся, папа.
«…ЧУТЬ БЫЛО НЕ ПРОПАЛА БЕСЕДА…»
Были с ним в поликлинике. По пути туда купили «Сказки и стихи» Пушкина. У кабинета врача, в ожидании приема, Максим показывал книжку мальчику. О чем-то оживленно говорил с ним.
Когда мы возвращались домой, я спросил, о чем была их беседа.
— Чуть было не пропала беседа. Мальчик не знал, кто такой Петр Первый. Видишь, какая странность!.. А ведь он самый умный царь. Про него и в книжке Пушкина написано… Вот я про это мальчику и рассказал…
Весь вечер рисовал Петра на коне.
КАК В «БОРОДИНЕ»
— Почитай мне про Полтаву, папа.
Читаю ему отрывок из «Полтавы» Пушкина.
Отряды конницы летучей, Браздами, саблями звуча, Сшибаясь, рубятся сплеча. Бросая груды тел на груду, Шары чугунные повсюду Меж ними прыгают, разят, Прах роют и в крови шипят. Швед, русский — колет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, скрежет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть, и ад со всех сторон…Читаю, а сам думаю: «Многое ему тут непонятно, много тут слов, которых он не знает…» Закончил чтение.
— Знаешь, папа… — сказал Максим, — это, как в «Бородине»!
Да, конечно же Лермонтов написал свое знаменитое стихотворение не без влияния пушкинских строк о Полтавской битве. И Максим почувствовал это влияние в описании боя.
«ЧТОБ ДЕТЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ…»
Рассказ из жизни детского сада.
— Воспитательница сказала: «Кто хочет танцевать?» Вышли я и Алеша Долгов. Ну, сначала танцевали как следует. А потом начали колена придумывать…
— Зачем? — спрашиваю.
— Чтоб детей заинтересовать, — сказал Максим.
— Ну и как? Заинтересовали?
— Не очень…
ВЫСОКИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
— Мы играли в детском саду. Виталька меня назначил Александром Невским, а сам стал Юрием Долгоруким.
— Поздравляю тебя, — сказал я. — Видишь, а ты как-то тревожился — где мы возьмем Александра Невского.
— Да не-ет, папа, — улыбнулся Максим.
А что «нет» — не пояснил.
«ДАВАЙ ЕЩЕ ПОКАТАЕМСЯ…»
Эпидемия гриппа. По средам сына домой не дают. Жду не дождусь встречи.
Субботу и воскресенье — вместе! Гуляем по набережной. Ходим на лыжах. Вечером в воскресенье катаемся на санках. Катаемся долго, допоздна.
— Пойдем домой, — говорю. — Хватит.
— Нет, папа. Давай еще покатаемся… Мы ведь с тобой не увидимся целых… — Считает по пальцам… — Ого! Целых много дней!..
«ТАКОЙ КРАСИВЫЙ СОН!»
— Что мне снилось!.. В наших ящичках в лоджии расцвели цветы! В одном — розы, в другом — подсолнушки. Такой красивый сон! Знаешь, я прямо окаменел, когда увидел!
Вскочил на постели и показал, как окаменел: вытянулся в струнку, руки по швам и затаил дыхание.
НА ЗЛОБУ ДНЯ
Принес рисунок: бегут солдаты в причудливых пилотках, в пестрой одежде.
— Что это?
— Это американцы драпают из Вьетнама.
Целый день по радио и телевидению передачи о заключении — наконец-то! — мира на многострадальной вьетнамской земле.
«…ЧТОБЫ УВЛЕЧЬ ТЕБЯ…»
Лежу, придя с работы. Подходит.
— Хочешь, я расскажу тебе, папа, такое, чтобы увлечь тебя?
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ КАК НАЖАЛ…»
— Александр Невский ка-ак нажал, так тевтонцы и удрапали!
«И ЛЮДЯМ СТАЛО ЛУЧШЕ…»
— Хочешь, папа, я расскажу тебе сказку?.. Еще не было электричества в одном городе, он освещался фонарями. И все жители были фонарщиками. А потом пришел один мальчик и дал городу электричество. Стало светло-светло. И людям стало лучше. И знаешь, кто был этот мальчик?
— Кто?
— Максим!
«Я БУДУ КЛОУНОМ»
— Наверно, я буду клоуном, папа.
— Почему?
— Буду смешить людей, чтоб им никогда-никогда не было грустно.
ДОБРЫЙ ДРАКОН
— А рассказать тебе, как добрый дракон спас бедного человека?..
ЖИЛ-БЫЛ ЦАРЬ…
— Жил-был один царь. Он не был Петр Первый, но все же был неглуп…
КАК СНЕЖИНКИ ОБРАЗУЮТСЯ
— А знаешь, как снежинки образуются?.. Из туч вылазят кристаллики. А потом они попадают в облако. А потом начинается метель, и они падают на землю…
ПОЧЕМУ ХРУСТ ПОД НОГАМИ
— А знаешь, почему хруст под ногами? Это под тяжестью наших шагов, — Максим притопнул валенком, — ломаются снежинки (ты видел, какие они красивые?), вот и ломаются и хрустят…
МАЗУРКА
По «Маяку» передают музыкальные произведения в исполнении участников фестиваля «Московские звезды».
— Что это играют, папа?
— Мазурку.
— А-а, это старинный танец. Грушницкий танцевал мазурку с княжной Мери!..
РАЗГОВОР О ШКОЛЕ
— В какую школу я пойду учиться?
— Хочешь, пойдешь в английскую.
— Нет. Пойду туда, чего я больше знаю. В немецкую. По-немецки я вот сколько знаю: ауфвидерзейн, гут нахт, гут моин, дер тиш. Во сколько!.. А как по-немецки «черт возьми»?
— Доннер вэтэр.
— А я думал, что ты сказал, папа: «Доктор Вернер…»
И хитро щурится.
НЕОБЫЧНАЯ РИФМА
Поет Гелена Великанова. В песне необычные рифмы.
Закончила петь. Максим вроде бы и не слушал. Но тут же сказал:
— По льду — пойду… Гм…
И чему-то своему улыбнулся.
ПОЧЕМУ ПУТЕШЕСТВОВАЛ ПЕЧОРИН
Пришли с прогулки. По телевизору — концерт из Колонного зала. Играли Рахманинова. Максим немного послушал и вдруг спросил:
— А почему Печорин все время путешествовал?
— Да такая была его жизнь. Не находил он себе места.
— И он погиб?
— Да.
— А где?
— В Персии. Страна есть такая.
— Зачем же его убили? Он же не враг, папа. Не враг! Не враг!..
Был как-то при Максиме разговор о «Герое нашего времени». Но интересно, какая связь давнего разговора с музыкой Рахманинова?
БЕСЕДЫ
У нас по соседству есть военное училище. Незадолго до Дня Победы курсанты готовились к параду у могилы Неизвестного солдата.
Пришли мы с Максимом посмотреть, как маршируют моряки, и послушать духовой оркестр.
В перерыве между занятиями заговорили с барабанщиками.
— Сегодня последний день служим, — сказал один молодой солдат. — Поеду в Запорожье.
— А вы? — спросил я другого.
— Я рядом тут. В Подмосковье.
— Как служилось?
— Хорошо. Служить можно.
В следующий перерыв Максим подошел к трубачу. Смотрю, присели они, разговаривают.
Когда снова началась строевая подготовка, я спросил у Максима, о чем он говорил с трубачом.
— Да ты, папа, вот говорил с барабанщиками о службе, а мы… говорили о мирной жизни: сколько мне лет, когда пойду в музыкальную школу, когда в обычную… Вот.
«СТРОЧЕЧКА В МУЗЫКЕ»
Рубят строевым шагом моряки. Оркестр играет попурри из маршей.
Максим долго-долго слушает. Когда оркестр умолкает, говорит:
— Я различил, папа, только одну строчечку в музыке: «Вихри враждебные веют над нами…»
И правда, эта тема была в попурри. Остальные ему незнакомы.
КОГДА ПОКУПАТЬ ИГРУШКИ
Воскресенье. Гуляем по набережной.
— Магазин игрушек открыт сегодня? — спрашивает Максим.
— Нет, закрыт.
— Как можно так работать? Вот черт!.. Когда я в детсаду, он торгует. Когда я дома и могу прийти в него, он выходной…
После молчания:
— Когда мы приедем с моря и побудем у бабушки Груни, я ведь еще месяц не пойду в детсад? Да, папа?
— Да.
— Вот тогда я все же попаду в магазин игрушки. И мы купим гармошку и клоуна, хорошо?
ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ ЖИЗНИ
Идем по улице. Приостанавливает меня у стенда кинообъявлений.
— В прошлое воскресенье тут была афиша: «Драмы из старинной жизни».
После паузы.
— Папа, хочешь, расскажу тебе одну драму из старинной жизни?.. Жила-была одна женщина… С ней жил муж. Он был, конечно, гусар…
А что! Великолепно!
Но как смешно звучит все это в его устах.
НЕСЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
— Папа, а почему смотритель принял медведя за генерала?
Объясняю, что с испугу. Что смотрителя все вечно ругали, всех он боялся.
— Господи, какой же он несчастный человек! — восклицает Максим.
НЕПОНЯТНО, НО ЗДОРОВО
— Ты почему все с револьвером и с револьвером? — спрашиваю его.
— Так полагается в генеральстве, — отвечает он.
«ОЧЕНЬ НЕВЕРОЯТНАЯ ЖАРИЩА»
Звоню домой по телефону. Трубку берет Максим. Докладывает:
— Я сегодня гулял в детсаду в одном свитере. Знаешь, там была на дворе очень невероятная жарища!..
ПОЕТ БЕРНЕС…
Гуляем с транзистором. Бернес поет песню Пахмутовой.
— О чем песня, папа?
— Да вот… что юность не вернется… что ты уже никогда не будешь маленьким…
Последнее ему по душе. Он не хочет быть маленьким. Однако спрашивает:
— Но почему же я не буду маленьким?
— Так устроено природой, — говорю.
— А-а, — задумчиво отзывается он, — приро-одой…
«Я ТОЛЬКО КАПИТАН НАСТОЯЩИЙ…»
— Сделай мне, папа, трубку. Я ведь капитан Немо. А какой же капитан без трубки!..
Нашел я сучок. Обстрогал. Получилась трубка. Взял ее Максим в зубы, заважничал. Ни дать ни взять морской волк из приключенческого фильма.
— Все хорошо, — сказал я, — но ведь ты так и привыкнешь курить.
— Не бойся, папа. Я же не так глуп, чтобы курить. Я только капитан настоящий, а курю я понарошку.
ПОВЕЗЛО
Пошли на телеграф. Надо было поздравить моего брата с пятидесятилетием.
— Ты, папа, напиши и от меня привет. Дяде Ване будет дорог морской привет.
Я сдавал телеграмму. А Максим за столом разговаривал с солдатом.
Сдали телеграмму. Вышли на улицу.
— Повезло мне сегодня, папа, — сказал Максим. — Подумать только, я разговаривал с самделишным солдатом. А не с теми, что у меня дома, — пластмассовыми.
ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ
Включаю телевизор. Передача «По страницам «Голубого огонька». Передачу ведет артист Коренев.
— Папа, смотри, человек-амфибия!
И правда, Коренев играл в одноименном фильме.
— Ты знаешь, почему его так называют? Он много ест! Ам! Ам!..
ОТЛИЧИЕ ОТ МАМЫ
Собираемся на улицу. Помогаю ему собираться. Надеваю шарф, обматываю дважды вокруг шеи…
— А мама только один раз обматывает…
И тут же закончил:
— Впрочем, ты же должен отличаться от мамы…
РАССКАЗ О МОРШАНСКЕ
Вернулся из Моршанска. Рассказывает:
— Один мальчик не давал мне игрушек. Понимаешь?.. Но он дал игрушки Кириллу. И это хорошо, папа. Кирюшка победнее. Его родители дом себе строят только… И хорошо, что ему дали игрушки…
БАБУШКА РАСКОРОЛИЛАСЬ
Бабушка Наташа за что-то ворчит на Максима.
— Что это ты, бабушка, раскоролилась? Что ты раскоролилась? — возмущается он.
ЧТО ТАКОЕ НАРОД
Гуляем с ним по набережной канала. После дождя хорошо.
— Папа, ты подзабыл фильм о Рустаме?
— Да нет, немного помню, — отвечаю, но чувствую, что действительно забыл. Кинофильм «Рустам и Зухраб» мы смотрели месяца три назад.
— Но все же подзабыл, да?
— Да, — говорю честно, — подзабыл.
— Тогда я тебе расскажу, — с радостью говорит Максим. Ему как раз и не терпелось что-либо мне рассказать. — Это фильм первой серии… Вот встретились Рустам и скопец. «Что такое народ?» — спрашивает Рустам. «Народ — сброд, если он за тираном идет, — отвечает скопец. — Но если он за правду борется, тогда он народ!» Вот так они и говорили, папа. Ты это помнишь?..
— Да, я это помню, сынок. А что такое «тиран»? — Мне хочется проверить, насколько осмысленно он рассказывал мне сцену из кинофильма.
— Тиран… это, папа, жестокий-прежестокий царь.
— А сброд… что это значит?
— Это нереволюционерские люди, понимаешь, они не борются за свободу. Вот.
— Ну хорошо. А кто это — скопец?
— Ну, это, папа, человек такой. Понимаешь?
ЧЕЛОВЕК НА ДОРОГЕ
Едем на такси в Лукино. Мы с Максимом на переднем сиденье, рядом с водителем. Мать сзади.
Идет сильный дождь. На лесной дороге, у обочины, промокший молодой человек неуверенно поднимает руку. Подвезите, дескать.
Такси проезжает мимо.
— Почему дядя поднял руку? — спрашивает Максим.
— Хотел, чтоб мы его подвезли.
— А почему же мы его не подвезли?
Молчит шофер. Молчит мать.
— Некуда было взять его, — приходится говорить.
В душе неловкость.
Максим оглядывается. На заднем сиденье, рядом с матерью, разложены наши вещи. Это меня и выручает.
Максим начинает говорить о чем-то другом.
«ЗАЧЕМ ОН ОБМАНЫВАЕТ?..»
Максим живет на даче до начала работы детского сада.
Как-то приезжаю туда, вижу, он носится с ребятами. Крик. Смех.
Увидев меня, бросается навстречу и как заплачет.
— Ты чего, сынок?
— Меня Вадик обманывает! Зачем он обманывает?! — А сам плачет навзрыд.
— Успокойся и расскажи все толком.
— Да вот… Мы играли… Вадюшка говорит — принеси, Максим, свой кораблик. Я побежал за корабликом. Нашел его. Выскочил на улицу, а Вадюшки и другого мальчика нет. Они убежали от меня!..
Обида его понятна. Я никогда не обманываю его. В любом случае стараюсь убедить, и он понимает, что ему надо сделать. А тут грубый обман. Чтобы избавиться от него, его посылают за чем-нибудь…
Успокаиваю его. Вечером у нас серьезный разговор с Вадимом.
ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
— Знаешь, меня по носу ударил Артем. Так, что у меня кровь пошла.
— Да что ж он такой глупый? — говорю.
— Да вот он такой.
Пришли домой. Сели ужинать. Смотрю — у него в носу кровь запеклась.
— Что это за Артем?.. Ты тоже дал бы ему как следует!
— Да нет, папа… Он все же природу любит, — ответил Максим. — Знаешь, у нас один мальчик деревце сломал, так Артем перевязал его. Понимаешь?..
Оказывается, его есть за что и уважать.
ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ
Устроил я Максима в однодневный детский сад. Очень близко к дому. Совсем рядом. Сообщая ему об этом, сказал:
— Теперь мы будем с тобой встречаться каждый день. Ты идешь в подготовительную группу. Самую старшую в детсаде! Пора готовиться в школу.
— О-о! Ура!.. — закричал он. Но вдруг тут же, вслед за «ура», с грустью сказал: — Папа, а надо нам хоть на минуточку зайти в детсад в прежний, у метро «Аэропорт»… Мне хочется попрощаться с друзьями…
— Да, — говорю, — зайдем.
А сам смотрю на него и думаю: «Да, вот уже скоро и в школу. И это не просто прощание с друзьями… Это прощание с ранним детством».
Год седьмой
ДОМАШНЯЯ УЧЕБА
Лежит на полу. Перед ним разостлана географическая карта земного шара. Лежит на животе, подперев рукой подбородок. Другой рукой водит по карте и шевелит губами — читает названия.
— Ну, брат, у тебя как в штабе Василия Ивановича Чапаева, — говорю я, войдя в комнату.
Не отрываясь от карты, отвечает:
— Да нет, папа. У Чапаева лупа была, а я вот без лупы, видишь…
По географическим картам, собственно, он и научился бойко читать.
КТО ТАКОЙ ДЕД МОРОЗ
Пригласили меня в Максимкин детский сад на елку Дедом Морозом. Некому быть Дедом, объяснила мне заведующая, прошу-прошу — никто не хочет.
Пришлось согласиться. Максиму, конечно, об этом ни слова.
В назначенное время был я в детском саду. Нарядили меня Дедом Морозом. Заучил я нужный для него монолог, фамилии ребят. Снегурочкой была воспитательница.
Провел я под елкой новогоднее представление. Раздал подарки. Шум. Восторги.
Максим выступал в роли Волка. Выступал, как все ребята, охотно и старательно. Носился со своей спутницей Лисой вокруг елки, хлопал от радости в ладоши, когда удавалось догнать Лису, и радостно, как все, принял из моих рук подарок. Ну, думаю, Максим меня не узнал и хорошо.
А когда, переодевшись в кабинете заведующей, вошел я в зал, Максим подбежал ко мне.
— Ты уже стал просто папой?
Я засмеялся.
— Знаешь, я сразу подумал, как же Дед Мороз похож на тебя! А потом совсем догадался. Когда ты начал говорить. И такая меня гордость взяла!..
— Надеюсь, ты об этом никому не говорил?
— Да нет, что ты! Это я про себя-а…
Вечером, по пути домой, зашел я за ним в детсад. Вспоминали праздник у елки. Максим интересовался — хорошо ли он играл Волка. А затем сказал:
— Теперь я знаю, кто такие Деды Морозы. Знаю. Это просто папы мальчишек и девчонок!
«РАССКАЗЫ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ»
Кладет передо мною тетрадь. Читаю на первой странице: «М. Ш. Рассказы из моей жизни». На следующей странице со спуска — нечто вроде вступления: «Я решил написать рассказы из моей жизни. В каждом рассказе будет то, что со мной случалось…»
— Я рад. Пиши, — сказал я.
— Обязательно напишу. Мне это очень интересно.
ПОД ОКНАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Рядом с нашим домом музыкальная школа. Когда мы проходим мимо, я подвожу его к какому-нибудь окну, чтобы Максим послушал, а то и посмотрел, как маленькие ребята играют на скрипках, на фортепиано, баянах.
— Ты хочешь учиться музыке? — как-то спросил его.
— Очень хочу. Только я, наверно, не смогу научиться.
— Отчего же? Научиться можно. Главное, чтоб слух был, — сказал я.
— Слух-то у меня есть. Ты же видишь? И показал на уши.
ЕГО СТРАНА
Читаем газету. Описываются страдания узников в Испании.
— А знаешь, папа, в стране, где я премьер, узников нет. Там вообще людей не наказывают. Их просто не за что наказывать.
— Что же это за страна?
— Мальтиния.
— Гм… А где она расположена?
— Да в самом океане… А точнее координаты — долготу там и широту — я не могу тебе сказать.
— Почему же?
— Прости, папа. Даже объяснить не могу. Я же все-таки премьер.
— Когда же тебя избрали премьером?
— Двести лет назад.
— А сколько же тебе сейчас лет?
— О, много! Я уже живу десять веков.
И стал рассказывать о своих путешествиях. Причем так, будто вчера лишь вернулся домой. Оказывается, он был там премьером, сенатором, вождем племени — кем угодно!..
РАСПРИ С ГЕНЕРАЛИТЕТОМ
— Генералы мне дают бессмысленные советы, папа. Вот в чем трудность моего управления.
КАК ИЗУЧИТЬ ЯЗЫКИ
Думаем, в какую школу поступать учиться. В английскую? Французскую? Или немецкую?
Побывали в английской. Далеко водить его туда. Кто будет водить?
Как быть? Решаю — отдать в обычную. Можно и в обычной школе прилично изучить язык. Главное, как к этому относиться.
Максим, видимо, понял мои заботы.
— Папа, ты мне говорил, что Маркс сам изучил несколько языков. И я попробую сам изучить.
В ИЗОСТУДИИ
Шли мимо детской изостудии — возле нашего дома. Максим обратил внимание на расписание занятий, написанное красками, и спросил, что это такое. Я объяснил.
— Приведи меня сюда, папа.
Рисует Максим давно и много. Фантазирует безудержно. Но хочется, чтобы он рисовал и с натуры. Ищу, чем бы его заинтересовать «натурным». Рисовал он банки, книги, стол. Однажды я попросил его набросать вид из окна четырнадцатого этажа. Получилось довольно любопытно — перспектива, соразмерность предметов.
— Хорошо, поведу, — пообещал я.
И он стал ходить в изостудию. Увлекся и не пропускал занятий. Как-то и я заглянул туда. Небольшие комнаты заставлены подрамниками, бюстами, кувшинами, вазами… Сосредоточенные мальчишки и девчонки у мольбертов. И славный преподаватель — молодой парень, понимающий душу ребячью.
Однажды вечером я спросил у Максима, нравится ли ему в студии.
— Да, папа. Знаешь, ребята там… не как на улице…
ПЕРВАЯ НАГРАДА
Пришло лето. Отправил я Максима с матерью в Коктебель.
Как-то вечером раздался телефонный звонок. В трубке незнакомый мужской голос:
— Придите за Почетной грамотой.
Я в недоумении. Меня никто не награждал. На другом конце провода почувствовали мое замешательство.
— Максим — ваш сын? Так вот он награжден грамотой Дома пионеров.
Пошел в Дом пионеров — он неподалеку. Вручили мне небольшую голубую папку с профилем Ильича. Раскрыл. «Тушинский Дом пионеров награждает Шевченко Максима за успехи в композиции…»
Пришел домой. И вдруг до щемящей боли ощутил, что ведь он от меня так далеко сейчас.
Снова и снова читал грамоту. И сам себя чувствовал награжденным.
ОБИДА
Близился сентябрь. Ребята собирались в школу. К первому сентября Максиму до семи лет не хватает трех месяцев.
Но все-таки мы пошли с ним в ближайшую к нам школу.
Директор-женщина стала «экзаменовать» его. На ее вопросы отвечал не спеша и точно.
— Все же не надо его отдавать сейчас. Устают они, такие малыши… — сказала директриса. — Пусть еще поиграет в солдатики.
Как тут возражать, хотя я-то, учитель в прошлом, знаю, что он вполне подготовлен к школе. Вышли на улицу. Идем молча.
— Ну и ладно, — после молчания сказал Максим, — ну и буду играть…
Обиделся. И мне обидно за него.
РАДОСТЬ
Максим поступает в музыкальную школу. Купил ему пианино.
На экзамены родителей не пускают. Он ушел в аудиторию, а я хожу по вестибюлю. Естественно, волнуюсь. Первый в его жизни экзамен, а стало быть, и мой. А потом то, что у меня оказалось несбывшейся мечтой, у него сбывается. Мне радостно. Вижу его человеком, понимающим и чувствующим музыку, а значит, понимающим и чувствующим многое-многое в жизни…
Выходит из аудитории в коридор. Следом выбегает молодая женщина, останавливает его, склоняется над ним, закрыв его от меня.
Наконец мы одни в вестибюле.
— Приняли? — спрашиваю.
— Кажется, да. Только не на фортепиано.
— А куда же?
— По скрипке, папа, — спокойно говорит Максим. — Мои руки очень рассматривали тети. Одна сказала: «Какая у него виолончельная рука!» Но для виолончели, папа, я маленький. Вот и предложили скрипку… Ты рад? А потом эта тетя еще раз в коридоре догнала меня, когда я уже шел к тебе, и снова смотрела на мои руки… Как же мы с тобой не догадывались, что у меня виолончельные руки? Жили — и не догадывались… Ты рад, папа, что я поступил?
— Сынок, рад — не то слово. Я просто счастлив за тебя!
— Знаешь, и я рад. Не взяли в одну школу — так в другую взяли!..
НЕТЕРПЕНИЕ
Купил ему скрипку-четвертушку, маленькую и красивую. Максим держал ее, как взрослые держат хрустальную вазу.
— Неужели я буду играть на ней? — спрашивал у меня несколько раз.
— Будешь.
Смотрел восторженно-недоверчиво.
С неделю клал ее с собой в постель и спал с ней. То и дело доставал из папки учебники и увлеченно рассматривал ноты.
Боже, как он нетерпелив!
СОЖАЛЕНИЕ
Первый день в музыкальной школе. Присутствую на уроке. Максим застенчив, но собран. Через каждую минуту улучает мгновение взглянуть на меня, получить поддержку. Киваю ему едва заметно. Ободряю.
После урока:
— Как я занимался, папа?
— Думаю, для первого раза неплохо. Только будь внимательнее. Слушай учительницу. Я ведь не всегда на уроках буду.
— Да, ты прав. Мне все время хотелось знать, видишь ли ты, как у меня получается. Жаль, что ты уже большой и не будешь ходить со мной в школу каждый день.
СЕМЕНА СОМНЕНИЙ
— Папа, я могу научиться играть на скрипке?
— Почему ты задаешь мне этот вопрос?
— Мама говорит, что у меня нет слуха. И бабушка Наташа тоже. И что мы с тобой затеваем что-то никчемное.
— Знаешь что, сынок? Я отвечу тебе вопросом. Ты хочешь заниматься в музыкальной школе?
— Да, хочу. Очень хочу.
— Для меня это самое главное, понимаешь? Я не хочу заставлять тебя ходить в музыкальную школу. Но если ты хочешь — ходи. Тем более, что в общеобразовательную тебя не взяли. Занимайся, а потом сам посмотришь, кто прав. Мы вернемся еще к этому разговору. Хочу, чтоб ты верил, что ты будешь играть. Верил. Понимаешь?
МУЗЫКАЛЬНЫЕ БУДНИ
Купили с ним цветной бумаги. Делаем пособия для занятий по сольфеджио. Горячится. Хочет все делать сам. Злится, если что-то не получается.
Потом снова берет скрипку. Помогаю. Пригодились-таки мои музыкальные занятия в педагогическом училище.
Максим закончил урок. Бережно уложил скрипку в футляр.
— Знаешь, папа, может, я потому так охотно и занимаюсь, что ты помогаешь мне? Как ты думаешь?..
БОЛЕЗНЬ
Обострение диатеза. Приходится класть на обследование в Институт педиатрии.
Пусто дома. Тревожно на душе. И то, что у меня все остальное благополучно, кажется преступлением перед ним.
Ходим к нему раз в неделю. Чаще нельзя. Похудел. Под глазами синяки. Просит принести книжки и яблоки. Раздает все ребятам. Рассказывает, как его, младшего в палате, обижают старшие.
— Принеси мне, папа, тетрадь, в которой я начал писать рассказы.
Принес. В следующее посещение спрашиваю, что нового написал.
— Ничего, папа, не написал. И то, что было написано, все разорвали ребята. До листочка!
Зачем я принес ее? Как жаль мне эту тетрадь.
— Что же горевать, папа? Не горюй. Я еще напишу. Вот только бы поскорей отсюда выбраться. Как ты думаешь, долго ли мне еще здесь быть? Я, папа, не знал, что это такое — Институт педиатрии. А теперь я никогда здесь не останусь. Никогда!.. Забери меня отсюда.
— Но ведь надо, сынок.
— Да вот, — в голосе слезы, — то-то и оно, что надо. Но если бы мы жили ближе, я бы убежал отсюда. Близко живущие ребята убегают!..
ИЗ МАКСИМКИНЫХ СОЧИНЕНИЙ
«1939—1940 годы. Том I (над цифрами рисунок — скрестились штыки. — М. Ш.). Часть первая. 1939 год.
Это было трудное для Мальтинии время. Она готовилась к войне. Мне прислали повестку. Война. На фронт. Пришлось идти на фронт. И я пошел готовиться на фронт. За мной приехал сержант с двумя солдатами.
Попрощался. И поехал.
Война была на Западном фронте с Нацысией.
Нацысский флот высаживался в городе Мипунгиберге. И высадился. Как он высаживался — показываю на рисунке 5…»
Рукопись обрывалась на этом. Рисунок. Берег моря. Пулемет на берегу. Он строчит. Рядом бочки, бочки, бочки. Всадник вверх ногами — упал под пулеметным огнем. В блокноте целая серия рисунков. Знаков препинания нет. Буквы «у», «ч», «с», «е» во многих случаях перевернуты.
Жаль, что не написано дальше.
«…Я ПОЙДУ К РЕБЯТАМ»
Вышли с ним на улицу погулять. Направились было по набережной — привычному маршруту. Вдруг Максим остановился и таким извиняющимся голосом:
— Папа, я пойду к ребятам, — и показал рукой на горку; там играли в салки трое мальчишек. — Мне с ними лучше…
От неожиданности я остановился.
— Почему же тебе со мной плохо?
Он смутился.
— Да нет, папа, не плохо с тобой. Я же так не сказал тебе…
— Все правильно, родной. Все так, как и должно быть. Иди к ребятам. Я тоже когда-то ушел к ним. И твой сын уйдет однажды от тебя… Иди.
Но почему же так больно?
Год восьмой
ПЕРВЫЕ РАДОСТИ
Начинает играть на скрипке маленькие вещицы. Умению своему удивляется.
Дома я все время рядом с ним.
— Я правильно играю, папа?
— Да. И правильно. И хорошо. Ты думаешь, тебе даром учительница поставила четверку?
— Да, наверно, недаром… Но почему же мне говорили, что у меня нет слуха и я не буду играть.
— Да забудь ты про все это. Давай разбирать то, что тебе задано к зачету.
— Давай. Только я сейчас наканифолю смычок.
«НЕ НАДО. Я РАСПЛАЧУСЬ»
Играем «Сурок» Бетховена. Я сопровождаю на пианино. Право же, неплохо выходит.
Когда закончили, предлагаю еще раз сыграть.
— Нет, папа. Не надо. Я расплачусь… Давай лучше «Пастушка».
«Пастушок» — веселая чешская народная песня.
— Знаешь, папа, «Соловушку» Глинки я тоже не могу играть. Очень уж она грустная, эта песня…
ПОДДЕРЖКА
Играем с ним в хоккей. Худо владеет клюшкой, неточно посылает шайбу. Это его расстраивает.
— Не умею я, папа, играть, не умею…
— Как же ты не умеешь? Вот я тебе сейчас дам хороший пас. Принимай!..
Хочется уверить его в своих силах, в своих способностях научиться играть в хоккей так, как играют все ребята.
Это удается. С каждым днем он играет увереннее. И уже не стесняется ребят.
МАКСИМКИНЫ ДРУЗЬЯ
Уговорили мы переехать из Россоши к нам моих родителей. И вот уже месяца два они живут у нас. Максим еще больше подружился с ними. С дедушкой Петей охотно гуляет у канала, рассказывает ему о шлюзах, о баржах, о тушинских «моржах». С бабушкой Груней — особенная любовь. Еще бы! Встает она по-крестьянски, чуть свет, и к уходу Максима в школу ждут его на столе то блинчики со сметаной, то пирожки с начинкой, то вареники с творогом, то — самое любимое — сладкие плюшки.
Бабушка снаряжает Максима в школу. Бабушка встречает его из школы и угощает хохлацким борщом, таким, что от него за ухо не оттянешь. Бабушка — самая терпеливая слушательница фантастических его рассказов, его «тысячи и одной ночи». Бабушка купает его. И, ложась спать, Максим просит бабушку посидеть у его постели и рассказать что-нибудь, а то еще — положить руку на голову или на спину, и так засыпает.
Я рад их дружбе. Тем более что бабушка Груня не только ласкова, но и требовательна.
— Как жизнь теперь? — спрашиваю у Максима. — С дедушкой и бабушкой?
— Да хорошо, папа. Только одного жаль… Что мы уже никогда не поедем в Россошь к бабушке и дедушке.
«…ПАПА, НЕ ВОЛНУЙСЯ…»
Звоню домой по телефону.
— Ты что делаешь? — спрашиваю.
— Играю на скрипке. Разучиваю трезвучия.
— И как?
— Да кое-что не получается. Но ты, папа, не волнуйся. Получится. Вот приедешь с работы и проверишь.
«ТЫ МОЖЕШЬ МЕНЯ ПОЗДРАВИТЬ…»
Звонит мне на работу.
— Ты можешь меня поздравить, папа.
— С чем?
— С четверкой по переводному экзамену. Теперь я ученик первого класса Тушинской музыкальной школы! Вот!
— Что ж. Целую тебя, родной. Спасибо.
— Ну, за что же спасибо? Это тебе спасибо. А как у тебя дела там?
— Да ничего, — говорю, — все в порядке.
— Ну, вот видишь. Значит, у нас с тобой, папа, все хорошо.
«ЖАДЮГА»
Мать решила подарить маленькой дочке своей подруги игрушечное Максимкино пианино «Звенигород». Максим сначала согласился. Потом помрачнел.
— Не надо, мама, отдавать…
Подошел к инструменту. Погладил клавиши. Одним пальцем выстучал: «Пусть всегда будет солнце!..» — эта песенка написана на крышке пианино.
— Тебе жалко? — удивляется мать. — Жалко?.. Жадюга ты!
— Не жадюга… Я дам тебе денежек из своей копилки! Лучше купи ей другое.
— Купи… А это? Оно тебе уже не нужно!
— Но я ведь маленький играл на нем. Мне жаль с ним расставаться…
Мать все же уносит пианино. У Максима слезы на глазах.
— Ну и уноси, уноси… Только не жадный я! Не жадный!.. Как же ты не понимаешь? — кричит он вслед и едва сдерживается, чтобы не расплакаться.
«ЭТО МОЯ АРИНА РОДИОНОВНА»
Принес я Максиму том А. С. Пушкина. Максим просмотрел книгу. Полюбовался ею. Потом снова открыл фронтиспис, на котором изображен Александр Сергеевич со своей няней.
— Знаешь, папа, бабушка Груня — это моя Арина Родионовна. Она мне иногда и баловство прощает, — я ж понимаю. И уже столько сказок и историй рассказала про чертей да про колдунов всяких. Прямо как у Гоголя. А это из жизни Сагунов — вот где она родилась…
— Ты бы записал эти истории.
— Да как-нибудь соберусь… Когда время будет, — ответил Максим.
«ПРОЧИТАЙ ДО МОЕГО ПРИЕЗДА»
Звонит по телефону из Коктебеля, где отдыхает с матерью.
— Папа, я прочитал книжку «Легенды и мифы Древней Греции». Ты знаешь какая книга! О, если ты не читал — прочитай! Прочитай до моего приезда. Ладно? Приеду — поговорим!..
НАДО ДАВАТЬ ОТПОР
Приходит с улицы и плачет.
— Что случилось?
— Мы играли в банку. И Митька ударил меня палкой. Нарочно ударил.
Вытирает слезы рукавом. Они бегут обильнее, когда жалуешься.
— Понимаешь, папа, банка была в стороне. А он — не по банке палкой, а меня по ногам, нарочно.
Поднимает штанину, и я вижу синяк у щиколотки.
Это уже третий, если не пятый раз приходит он со слезами. Максима я учу играть осторожно. Что же делать? Идти ссориться с мальчиком? Идти к его родителям?.. Но тогда Максим всякий раз будет искать моей защиты.
— Покажи мне этого Митьку, — прошу я.
Подходим к окну. Под окном, на площадке, идет игра в банку. Беготня. Крик.
— Вон он, в треухе. С расстегнутой курткой. Видишь, какая у него палка?
— И его вижу, и палку. И думаю, ты зря пришел жаловаться. Если ты уверен, что он ударил тебя нарочно, то ты можешь и должен дать ему сдачи. Такой же палкой хотя бы. Понял? Сам должен дать отпор… Другое дело, если он ударил тебя нечаянно…
— Да-а, неча-а-янно! Он и вчера ударил, и меня, и Андрея.
— Тогда не приходи ко мне с жалобами. Давай отпор сам. Ты можешь это сделать с успехом. Но запомни — только тогда, когда тебя обижают. Сам не обижай. Ты понял меня?
Беру его за руку. Щупаю мускулы.
— Ну! У тебя же сила в руках! Не позволяй себя бить! Да еще таким, как этот Митька. Что ж ты, не дашь ему сдачи?.. А дашь — в другой раз он подумает: лезть к тебе или нет… Повторяю: жалоб от тебя не хочу слышать… Иди гулять.
Молча уходит. На улице стоит в сторонке от играющих. Нужно же осмыслить новый поворот в разговоре с отцом. Нужно же собраться с духом, чтоб самому себя защитить от несправедливой обиды.
Минут через пятнадцать Максим снова гонял банку.
А дня два-три спустя Максим дал-таки с левой между глаз задиристому Митьке. Тот поостыл и перестал приставать не только к Максиму, но и к другим мальчишкам.
Сын ко мне с жалобами больше не приходил.
УЧЕНИК ПЕРВОГО КЛАССА
Тщательно готовится в школу — в первый класс. Примеряет костюм. Проверяет, как собран портфель.
Пришли в школу. Среди ребят, кажется, самый застенчивый. Когда ввели всех в класс — 1-й «Б», Максим стоял с букетиком цветов где-то позади, его и не видно было.
— Ну, как прошел первый день в школе? — спросил я, встречая Максима после уроков в школьном вестибюле.
Пожал плечами. Ничего не ответил.
ЗАПОЗДАЛОЕ НЕДОУМЕНИЕ
Через неделю зашел я к учительнице Клавдии Васильевне спросить, как дела у Максима с учебой.
— Что ж вы не отдали его в школу в прошлом году? Его ж хоть в третий класс сажай!
— Я приводил его в прошлом году. Не взяли.
— Ах, не было меня! Я бы взяла! Жаль, очень жаль!..
И опять — что скажешь?
НОВОЕ ЗВАНИЕ
— Папа, мне присвоено новое звание. Кавалер двух первых классов! Ты, конечно, понимаешь. Я ж учусь в первом классе общей школы и в первом — музыкальной.
«НУ И ХИТРЫЙ ТЫ, ПАПА!»
Жена при ссорах твердит о разводе.
И Максим то и дело заговаривает со мной на прогулках об этом. Боже, о том ли думать ему? Я перевожу разговор на его, мальчишеские, темы. Он, не замечая этого, тут же подхватывает их, увлекается. Взахлеб начинает рассказывать о приключениях в школах, на уроках, об одноклассниках.
Возвращаемся с прогулки. Вдруг спохватывается:
— Ну и хитрый ты, папа! Я же не об этом хотел с тобой поговорить!..
ОЗАБОЧЕННОСТЬ
Сидит на диване, задумавшись.
— Ты о чем, сынок? — спрашиваю.
— Да вот, папа, смотрю на твою стену книг и думаю: сколько же мне надо прожить, чтобы все их прочитать!
Год девятый
ЕСЛИ БЫ ДЕРЕВЬЯ УМЕЛИ ГОВОРИТЬ
— Хорошо, если бы деревья умели говорить! Они так много видели! Они столько бы могли рассказать!..
ЕГО СТРАДАНИЕ
— Знаешь, папа, в Мальтинии мне платят восемьсот тысяч рублей. А мне нужно только сто десять тысяч.
— Что же ты делаешь с остальными?
— Разделяю их. Ни копейки лишних себе не оставляю. Знаешь, там очень много нищих, несчастных людей.
— Но ведь твоих денег не хватит, чтоб спасти их от нищеты.
— Вот в этом-то мое страдание, папа!
ЭТО ПРАВДА
Посмотрели с ним чешский фантастический фильм о поисках средства, исцеляющего от всех болезней, — «Секрет племени Бороро».
Вышли из кинотеатра. Стали делиться впечатлениями.
— Знаешь, папа, в Мальтинии есть болезнь, которая залечивается как раз испорченным бороро.
— Что же это за болезнь?
— Веренгия, — отвечает не задумываясь.
— Да, интересно. А не написать ли тебе фантастическую повесть под названием «Веренгия»?
— Да, я могу написать. Только не фантастическую. Все то, что я тебе рассказываю, не фантастика. Это правда, папа. Правда.
Умолкаем.
Я думаю, как же сильна фантазия, и как сильна детская фантазия! Он все, о чем говорит, все видит, ощущает, чувствует. Для него это — правда.
ЧТО ТАКОЕ ДЕТСТВО
Гуляем по набережной.
— Папа, а люди, которые не понимают сказок, плохие и несчастные.
Через молчание:
— Знаешь, папа, детство — это сказка.
ВОТ ВАМ ВОПРОС
— Папа, а какой государственный строй в раю?
Надо читать сложнейшую из лекций.
«МОЕМУ РЕДАКТОРУ»
С. В. Михалков подарил Максиму свою книжку «День Родины» с надписью: «Моему редактору…»
Принес я книжку домой. Максим прочитал надпись и так раздумчиво:
— Вот видишь, папа, я уже и забыл про маленькое добро, что я сделал дяде Михалкову, а он помнит. Видишь?
ТАК БЫВАЕТ…
— Папа, ты знаешь, кто такой был Колумб?
— Великий мореплаватель.
— Это правильно. Но ты знаешь, что он был генуэзец и куда он плыл?
— Он плыл в Индию, — отвечаю.
— Вот видишь, плыл в Индию, а открыл Америку. Так и бывает: ищешь одно, а находишь другое.
ПОНЯЛ РАДОСТЬ ОТЦА
— Папа, я стал читать книгу «Сын Зевса». Дошел до разговора о сыне и перестал видеть строки… Что со мной произошло?
— Видимо, то же, что со мной происходит, когда я думаю о тебе.
— Правильно. Я как раз прочел фразу: «У меня родился сын! — воскликнул Филипп». И я сразу представил тебя. Ты понимаешь, какая это радость! Понимаешь?
САМЫЙ КРАСИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
— Кто самый красивый?
И, не дождавшись моего ответа, сказал:
— Самый красивый человек тот, кто видит вокруг себя красивых.
СКОРЕЕ ВСЕ ПОНЯТЬ!
Приболел. Лежит у меня на диване.
— Папа, дай мне десятый том Гюго.
Подаю. Углубляется в чтение.
Вдруг откладывает книжку и плачет.
— Ты что, мальчишка?
— Ну почему?.. Почему я не понимаю, что хотел сказать Гюго?
— Родной мой, все поймешь. Всему свое время.
— Но я хочу скорее! Скорее все понять!..
Я подхожу к проигрывателю и завожу пластинку с романсом Тортиллы — из музыки к кинофильму «Приключения Буратино».
…Юный друг, всегда будь юным, Ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, Драться надо — так дерись!..— Вот, — говорю, — слышишь? Твоя любимая пластинка. «Ты взрослеть не торопись…»
— Все правильно, папа. Но все равно так хочется все-все знать поскорее!
САМОКРИТИКА
Читает учебник зарубежной истории для девятого класса. Лежит на кровати и перелистывает книгу, рассматривает схемы, карты. Потом откладывает учебник, закидывает руки за голову и лежит притихший.
Подхожу так, чтобы он меня не увидел. Лежит и улыбается.
— Ты чего это? — спрашиваю.
— Да вот смеюсь над собой. Какой же я в политике профан!..
ОБ ИСТОРИИ
— Папа, какая все-таки грязная штука — вся история. И правда, пора уже начать на земле новую историю. Ее Октябрь начал, да?
РАЗДУМЬЕ НАД КЕДРОВОЙ ШИШКОЙ
Принес я ему кедровую шишку — подарок моих алтайских друзей. Он долго хранил ее. Наконец вскрыл. Орехи лежали перед ним.
— Хорошо, папа, что шишка неживая. А то бы ей больно было, когда я потрошил ее.
КТО УМНЕЕ
Занимается музыкой, играет на пианино. Прерывает игру. Нога на ногу. Обхватывает колени сцепленными руками.
— Папа, а кто умнее — Бисмарк или Гитлер?
— А как ты думаешь? — спрашиваю в ответ.
— Думаю, что Бисмарк, — говорит. — У него все-таки хватило ума не идти войной на Россию.
МУЗЫКА
Закончил занятия на пианино.
— Ну, теперь я тебе в награду заведу что-нибудь легкое, — говорю. — Хочешь любимые «Три свинки и злой волк»?
— Нет, давай лучше Кареву. Хочу «Нищую» послушать.
Завожу романсы в исполнении Галины Каревой. Гасим свет. Ложимся на диван и, обнявшись, слушаем.
Лежим не дыша. Когда Карева поет романс Беранже, приподнимается на локте и весь — слух. Замечаю искорки слез на глазах. Молча прижимаю к себе. Молчим до конца пения.
«Сейчас, — думаю, — предложу ему румбу-фокстрот «Инес». Пусть отойдет…»
Предлагаю.
— Нет, папа. После Каревой я это уже не могу слушать. Пусть потом когда-нибудь.
В СКВЕРЕ
Резвятся собаки в сквере. Различных пород. Хозяева бегают среди собак и отгоняют их друг от друга, боясь, что они, по своему собачьему неразумению, испортят породу…
— Папа, я очень, как ты знаешь, люблю собак, но лучше бы в сквере было полно детей…
Мы прошли уже мимо сквера. Вдруг Максим обернулся и сказал.
— Бедные собаки. Побегают-побегают — и снова их уведут по домам. А сейчас вот гоняют и думают, что свободны… Только я не пойму, папа, зачем за ними бегают и хозяева. Чтоб собакам не так грустно было, что ли?..
ПОСЛОВИЦА
— Папа, в Мальтинии есть такая пословица. На маленьком подготавливаешься к большому. Правда, она подходит нам?
ОТ ИНЕЯ НА ТРАВЕ…
— Папа, какой твой любимый лозунг?
Гляжу на него и поражаюсь. Мы ведь только что говорили об инее на траве. И вдруг этот вопрос.
— Да здравствует правда! — отвечаю незамедлительно.
— А знаешь, Файт Восьмой, когдатошний президент Мальтинии, говорил, что должна быть и неправда. Неправда, папа, заставляет думать. Понимаешь? Файт Восьмой своим маршалам и генералам специально приказывал видеть неправду. Чтоб они думали.
— Это интересно, — говорю. — Но неправды все-таки не должно быть! Верно ведь?.. А вообще ты молодец.
— Это не я молодец. А Файт Восьмой.
— Он жив? — спрашиваю.
— Ты забыл, папа. Он умер в госпитале от гангрены. Удивительный он был человек, папа. Главное, очень терпеливый. Ты же понимаешь, как это важно для главы государства?.. Я многому у него научился. Думаю, и ты рад был бы с ним познакомиться.
ОТВЕТ НА ДОБРО
Учительница Клавдия Васильевна вручила нам новые учебники для второго класса и похвальный лист «За отличную учебу и примерное поведение» в первом классе.
— Это тебе, папа, ответ на все твое добро ко мне. Ты, надеюсь, не возражаешь?
ПОБЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ
Взял с собой Максима в Прибалтику, в Дом творчества имени Яна Райниса в Дубултах. Предлагают нам комнату на верхних этажах.
— Давай, папа, пониже. Я не хочу, чтоб люди были под нами. И лучше поближе к земле.
«У МЕНЯ ЕЩЕ ТАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ»
— Ты курил, папа?
— Да.
— А как бросил курить?
— А ты разве не помнишь?.. Тебе было лет пять. Как-то я сказал матери, что напрасно она курит. «Да еще не успеешь бросить сигарету, — говорил я ей, — тянешься целовать Максима… Как ты можешь обдавать его табачищем?..» Ты слышал это. Потом мы вышли с тобой погулять по набережной. Я закурил. Шли-шли. И вдруг ты останавливаешь меня и говоришь: «Что же это ты, папа?.. Маме делаешь замечания насчет курения, а сам куришь?..» «И правда», — подумал я тут же. Ничего тебе сразу не ответил. Докурил сигарету, а потом сказал тебе: «Смотри: вот я бросаю в сугроб окурок и больше не курю».
Я помолчал, подумал — открывать ли ему всю правду — и сказал:
— Признаюсь, мне очень хотелось курить. Но я при тебе уже не курил. Курил тайком от тебя — недели три-четыре. А потом все же перестал совсем. Как видишь, сдержал слово.
— Да-а, — раздумчиво ответил Максим. — У меня еще так не получается… Вот ленюсь я делать зарядку. И ни-как не могу победить свою лень. Никак, шут ее возьми!..
В РИГЕ
Из Дубулт поехали мы на экскурсию в Ригу. Нам показали старый город.
— Знаешь, папа, если б всех людей здесь переодеть в рыцарские костюмы, мы бы с тобой очутились в средних веках. Ты так не думаешь?
УТРЕННЯЯ НЕОЖИДАННОСТЬ
Перед обедом дочитал «Остров сокровищ» Стивенсона. Весь день только и разговоров, что о пиратах, о черной метке, о Сильвере. За обедом пересказывает роман нашим соседям по столу.
Перед сном снова не расстается с книжкой.
Наутро поднялись, как всегда, рано и пошли к морю — делать зарядку и купаться. Подходим к спуску на берег и застываем, пораженные. На рейде, в туманной дымке, стоит парусник.
— Вот это да! — восклицаю я. — Это же «Испаньола»…
Максим молчал, не веря глазам своим.
— Да, — говорю, — вот тебе корабль, о котором ты вчера читал у Стивенсона. Представляешь, как тебе повезло?! Такого еще ни с кем не случалось!
Максим посмотрел на меня, потом снова на корабль. Может, и в самом деле сейчас все здесь изменится! Высадятся на берег герои знаменитого романа — и начнется!..
— Папа, — наконец произносит Максим, — никакая это не «Испаньола». Это же учебное судно «Крузенштерн».
Это было так. Максим узнал корабль. Давным-давно я приносил ему книжку, в которой были нарисованы известные учебные парусники. А сегодня был День Военно-Морского Флота, и судно пришло на праздник к Юрмале.
Максим долго еще рассказывал, как он был поражен утренней неожиданностью, которая наяву — пусть на мгновение! — подтверждала сказку. Ему, наверное, было все-таки жаль, что парусник оказался н е т е м кораблем…
РЕБЕНОК ЕСТЬ РЕБЕНОК
После ужина пошел я к товарищу на пятый этаж. Максим остался в комнате играть. Когда я вернулся, дверь нашей комнаты была заперта. Постучал — ответа не было. Постучал сильнее — молчание. Где же он?
Я спустился в вестибюль, обошел все его любимые уголки — Максима нигде не было.
Я заволновался: где сын? Может, у моря? Но один, без меня, он никогда не уходил к морю. И вообще у нас с ним был уговор: если он куда-нибудь хочет пойти — он сообщает мне об этом. Так же, как и я ему. И ни один из нас никогда еще этот уговор не нарушал.
И все же я пошел к морю. Максима на берегу не было.
Между тем уже темнело. Что делать? Я снова и снова обходил все места, где он мог быть. Узнав, что я ищу сына, у вестибюля собрались чуть ли не все отдыхающие. Никто за весь вечер не видел Максима нигде.
Все переполошились. Один вызвал директора Дома творчества. Другой сидел в вестибюле и обзванивал всех, кто отдыхал с детьми. Наконец предложили поднять на поиски пограничников.
— Нет, — сказал я. — Мы живем на втором этаже. Можно забраться к нам с крыши столовой.
— Да, в самом деле. Может, он дома?
— Но он никогда не засыпал рано, — сказал я.
— Да и потом, ему же звонили — он бы ответил…
Мы легко взобрались на крышу столовой. Я подсадил мальчика-узбека, соседа по столу, до карниза второго этажа. Через минуту он был уже в нашей комнате — дверь из лоджии, на счастье, была не закрыта.
Еще через минуту, которая мне показалась вечностью, он вышел в лоджию и тихо сказал:
— Дядя Миша, Максим спит. Вот вам ключ — я вынул из скважины.
Когда мальчик спустился с лоджии, я расцеловал его.
Потом у вестибюля кто-то целовал меня. Кого-то обнимал я.
— Ой, слава богу!..
— Я так и знала, что он спит!..
— Но вы такой молодец! Вы такой спокойный!..
Вскоре все разошлись. Я остался один на площадке перед домом и разрыдался. Стоял один и плакал навзрыд. Где-то в глубине души были и страх утраты, и счастье нового обретения сына.
Потом я пошел к себе. Максим лежал на боку и, полуукрытый одеялом, крепко спал, запрокинув слегка голову.
КАК НАЧАТЬ ПОВЕСТЬ
Сказал я ему, что хочется мне написать повесть под названием «Музыкальная история». Сказал, что у меня все продумано уже.
— Хочешь, я узнаю, как ты начнешь ее?
— Конечно.
— Так вот. Ты смотришь, как я занимаюсь на скрипке, вспоминаешь свое детство, свою мечту о музыке… Вот так.
— Правда. Я действительно так хочу начать. Хотя, сынок, это уже штамп…
— Все равно это довольно хороший способ, папа, — начать с конца. Получается очень интересно.
СЛЕЗЫ ДОН КИХОТА
Снова дома, в Москве. Смотрели кинофильм «Дон Кихот». Сначала Максим смеялся. Потом становился все сосредоточеннее и серьезнее.
После фильма ушел в ванную. Нет и нет. Подхожу к двери — закрыто. Стучу — не открывает. Еще раз стучу.
— Сейчас, папа.
Открывает дверь и, пригнувшись, пряча глаза, убегает в мою комнату.
Прихожу туда — плачет. Утираю слезы. Обнимаю, прижимаю его к себе.
— Что такое? Почему ты плачешь?
— Ты понимаешь, папа? Что же это они так… с Дон Кихотом?.. Он же хороший человек. Значит, правда не всегда может выстоять перед враньем?..
— Это, сыночек, зависит от силы правды.
Привожу ему примеры победы справедливости.
— А Сервантес написал роман, чтоб и о себе сказать?
— Конечно, — говорю, — и тоже, видишь, победил, раз книга дошла до нас и заставляет людей плакать.
Понемногу успокаивается.
ПРОВОДЫ В ШКОЛУ
1 сентября 1976 года. Мы с Максимом идем в школу, во второй класс. Мать только проснулась. Накинув халат, она вышла с нами и, помахав рукой, направилась к каналу купаться.
Повсюду встречаются стайки нарядных ребят.
Пришли во двор школы перед самым митингом. Цветы и ребятишки. Ребятишки и цветы.
Максим поманил меня нагнуться и прошептал на ухо:
— Ты почти один-разъединственный проводил меня, а то все мамы…
Поцеловал в щеку и заторопился к своему классу, который уже построился у подъезда школы.
СЛОВО МУЖЧИНЫ
Трудно дается зарядка — делать ее каждый день. Но после разговора с Максимом, намеков на его лень, он входит однажды утром, в полвосьмого, ко мне.
— Папа, я сделал зарядку и обтирание. Такой, знаешь, холодной водой!
— Очень рад. Молодец.
— Теперь я каждый день буду это делать.
— Ну, дай бог, — отвечаю.
Вечером снова мне говорит:
— Знаешь, утром я делал обтирание и зарядку.
— Допустим, сначала зарядку, — уточняю я, — а потом обтирание.
— Конечно, — отвечает Максим. — Ты меня поймал на логике, папа.
— Да нет, я просто так, — говорю. — Вот хорошо бы и завтра тоже: и зарядку, и обтирание. Да еще без моих понуканий. А?
— Ты в самом деле хочешь этого? — спрашивает сын.
— Конечно. Это же совершенно необходимо каждому человеку. Вспомни своего любимого Суворова!
На другой день снова встает ровно в семь, делает зарядку и обтирание.
— Вот видишь, папа, я и сегодня сделал все, как надо. Это уже второй день. Ты удивлен?
— Нет, меня это не удивляет. Я знаю: ты понял нужность этого. Ты ведь днем лучше себя чувствуешь. Правда?
— Я так и знал, что ты понимаешь меня, — отвечает Максим. — Но вот почему я себя позже понимаю, чем ты меня?.. Вот что меня занимает… А зарядку и обтирание — будь уверен, папа! — я буду делать всю жизнь!
— Что ж, — говорю, — слово мужчины есть слово мужчины.
И правда, уже месяца два он верен своему обещанию.
ОКУНЬ
Встретился нам на набережной рыбак. Он остановил нас, опустил с плеча свои снасти, достал из садка окуня с ладошку и протянул его Максиму.
— Держи!
Окунь еще шевелился.
— Давай поспешим домой, поместим его в воду, он оживет совсем, — сказал я.
— Ага! Давай!
Побежали. Максим держал в руке подрагивающего окуня и все выкрикивал:
— Смотри, папа, жив! Эх, добежать бы!..
Щеки раскраснелись. Запыхавшись, перелетел через ступеньки. Ворвался в коридор и сильно нажал на кнопку звонка.
Не раздеваясь, быстро налили в таз воды. Максим опустил туда окуня. Он понемногу отошел, перестал всплывать кверху брюхом и вскоре начал плавать в тазу, шевеля плавниками.
Максим ликовал. Трогал пальцем красноватые плавники. Торжествующе поглядывал на меня.
— Все равно он умрет, — сказал подошедший дедушка Петя.
— И пусть. А пока живет! — недовольно ответил Максим.
— Ну, ладно, — сказал дедушка. — Потом тебе бабушка Груня зажарит его. У-у, какой он вкусный, жареный окунь.
Максим промолчал.
А минут через десять подошел к бабушке.
— Когда окунь умрет, ты можешь зажарить его. Но есть его я не буду.
ХОРОШАЯ ПРИМЕТА
Пошли погулять перед сном.
— Папа, почему небо такое темно-багрово-бордовое какое-то?
— Понимаешь, — объяснил я, — там, далеко от нас, огни Москвы. Нам их за деревьями не видно. Вот от них такой цвет неба.
— Папа, а ты видишь звездочку?
— Нет, не вижу. Пасмурно ведь. Небо в тучах.
— А знаешь, папа, в Мальтинии есть такая примета. Если человек даже в пасмурную ночь видит звезду, значит, его ждет что-то необыкновенное. Понимаешь? Вот я сейчас вижу.
Он стоял на земле, вскинув голову, и, я верю этому, он видел звезду.
БЕТХОВЕН
Вернулся я с работы. Отдохнул малость. Проверил, как Максим выполнил домашнее задание. Потом достал пластинку с рассказом о жизни и творчестве композитора Бетховена и поставил ее на диск проигрывателя.
— Давай погасим свет и послушаем.
Согласился. Улеглись на диван. Слушаем. Изредка я шепотом пояснял темы «Аппассионаты», «Лунной». Сын молча сжимал мне руку.
Так прослушали всю пластинку. Максим встал, включил свет. Бережно снял пластинку с диска, вложил ее в футляр и закрыл проигрыватель.
— Пойдем теперь прогуляемся, — предложил я.
— Пойдем.
На улице все молчал. Потом приостановил меня и сказал:
— Мне бы хотелось, папа, с ним увидеться, с Бетховеном. И мы ведь могли бы увидеться. Я ведь, ты знаешь, давно живу. Жаль, нас никто не познакомил…
— А зачем ты хотел бы его видеть? — спросил я.
— Чтобы понять.
— Ты можешь понять Бетховена по его музыке.
— Да, ты прав. Но это, скажу тебе, не так просто. Может, это мне когда-нибудь и удастся. Помолчали и снова:
— И что меня совершенно поразило, со-вер-шен-но, — проговорил он по слогам, — что он, глухой, слышал все-все на свете. Лучше неглухих… Вот почему я хотел бы с ним встретиться, папа.
Остановился и развел руками.
— Как жаль, что у него не было слухового аппарата, как у дедушки Пети. Вот если бы я с ним увиделся, я обязательно подарил бы ему слуховой аппарат. О-бя-за-тель-но!..
ВОПРОС ВОПРОСОВ
— Папа, а ведь будут люди, которые доживут до того времени, когда погаснет Солнце?
— Возможно, будут.
— А смогут они улететь в другую галактику?
— Если Земля сохранит себя, то, вероятно, смогут… Ты же представляешь, какие нужны космические корабли, чтобы перевезти три-четыре-пять миллиардов людей на другие планеты? Пока ведь в кораблях летают три-четыре человека… Но, конечно, все может быть. Мысль человеческая беспредельна.
— Да-а, — протянул Максим, — но сохранится ли Земля? Сохранят ли ее люди?
— Будем надеяться. Должны, — отвечаю. — Иного выбора у них нет сейчас.
С минуту шагали молча.
— Да, папа. Будем надеяться. Но ты же знаешь, мысль человеческая беспредельна не только в добре… — И — после паузы: — Ну, давай об этом больше не говорить. Будем жить и радоваться, что мы живем!
— Ты прав! — говорю. — В одном хорошем романе сказано: надо жить и исполнять свои обязанности. Пойдем покатаемся на качелях минут пятнадцать — двадцать. А потом домой. Завтра ведь в школу!..
Максим поспешил на качели. А я еще долго думал о нашем разговоре.
ВЗГЛЯД НА ВЗРОСЛЫХ
Ужинаем. Не ест вкусную котлету.
— Ешь, — говорю, — тебе сейчас надо есть мясо. А то ты и не вырастешь.
— Ну и ладно. Останусь маленьким. Уж больно скучны взрослые люди.
— Понятно, значит, я тоже скучный человек, — говорю тихо и медленно, как бы между прочим. — Есть над чем подумать.
— Папа, ты же сам повторяешь — о присутствующих не говорят…
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
Идем по Большой набережной. Обочь дороги в опавших листьях осины лежит мертвая овчарка. Видимо, ее задавило машиной. Лежит так, будто все еще в беге.
— Что же это ее бросили — не похоронили? — спросил Максим.
— Такой ее хозяин, очевидно, — сказал я. — Пока служила ему собака — нужна была. А погибла — даже не похоронил.
— Да, папа. И собаке надо бы лучше знать своего хозяина. И собаке надо знать, кому служить.
После молчания:
— А и знала бы, что хозяин плохой, куда же она пошла бы от него? Собаки ведь привязчивы, говорят… Как-то мне дедушка говорил о собачьей жизни… Теперь я понимаю, что это такое.
РОДСТВЕННИК
12 октября 1976 года. Проснулись — на улице наконец-то белым-бело. Идет снег.
Как всегда, провожаю Максима в школу. Выходим пораньше, чтобы минут двадцать погулять: ему — перед занятиями, мне — перед работой.
Проходим мимо сквера. Разом останавливаемся. Максим смотрит на сквер — он весь в снегу. Каждая веточка держит снег.
— Здорово как!.. Как здорово, папа! — шепчет Максим, будто боясь, что от громкого голоса все это исчезнет.
Я стряхиваю с веток снег на Максима. Он в восторге.
Не отряхиваясь, снова замирает. И смотрит, смотрит.
— Пойдем, — говорю, — а то в школу опоздаем.
— Нет, погоди, папа. Еще постоим. Еще…
И вдруг я вспоминаю «Зимний дуб» Юрия Нагибина. Рассказываю Максиму, как мальчик, путь которого в школу лежал через лес, зачарованно любовался зимним дубом и опаздывал на уроки.
Когда я закончил пересказ, Максим сказал:
— Тот мальчик, папа… он — мой родственник.
«Я НЕ ХОЧУ ОБМАНЫВАТЬ…»
В школе задали Максиму — сшить сумку и вышить на ней свои инициалы.
Бабушка Груня предлагает помочь внуку в этой работе.
— Нет, бабушка. Я не хочу обманывать Клавдию Васильевну.
— И то правда, внучек, — согласилась бабушка.
Великое дело: не обманывать даже того, кто и знать бы не мог, что его обманули.
О СИНЯКАХ
Купаю его. Смотрю — ноги все в страшных синяках.
— Откуда это у тебя?
— Это шайба, папа. Ты знаешь, как больно, когда ею стукнут!
— На кой же дьявол тогда играть в нее? — не сдержался я. — Ведь могут образоваться надкостницы.
— Папа, а ты припомни, сколько у тебя было синяков? — И хитро, зажмурив один глаз, смотрит на меня. — Что-то я у тебя надкостниц не вижу…
— Ты в чем-то прав, — говорю, — но надо щитки купить тебе, что ли.
— Вот это здорово! — кричит на всю ванную Максим. — У одного мальчишки папа тренер, так у него и щитки, и маска вратарская…
ПО УТРАМ
В классе посадили его у окна.
— Теперь, папа, я буду тебе каждый день махать рукой на прощание.
Так у нас и повелось. Простившись с ним в коридоре школы и пожелав ему хорошего дня, я выхожу во двор, останавливаюсь и вижу в окне второго этажа его вихор. Вижу, как он готовит парту к урокам.
Потом он близко подходит к окну и машет мне рукой. Как-то неистово машет.
И каждый раз меня что-то пронизывает насквозь, становится тяжело дышать. Я машу в ответ и ухожу со двора. Он отходит к самому углу окна, чтоб дольше меня видеть, а я замедляю шаги перед калиткой…
Дай бог мне и в последний мой уход увидеть родные его глаза, родную его ладошку.
НЕ МОЖЕТ ПРОСТИТЬ
Собираемся гулять после ужина.
— И я с вами, — говорит мать.
— Нет, я пойду с папой только, — отрезает Максим.
Весь сегодняшний вечер у них стычки. Максим отвечает резко, даже дерзит. Останавливаю — не прекращает. И вот сейчас опять.
Выходим вдвоем. Поворачиваем на набережную.
— Слушай, — говорю, — Максимка, что с тобой, почему ты последнее время колючий какой-то? Почему ты стал груб с матерью? Если ты не можешь сразу отвечать, не надо. Подумай хорошенько. Разберись в себе и тогда ответь мне.
— Вот не ожидал я, — вздохнул Максим, — не ожидал, что ты меня спросишь об этом… Не ожидал я, что ты такой наивный, папа.
Я молчу. Равняемся с первым шлюзом. Во мгле видна вывеска: «Запретная зона для купания». Максим останавливает меня.
— Так ты хочешь знать, папа, почему я резок с ней? Хочешь? Так вот, — он решительно махнул рукой, — потому что она ни за что оскорбила самого любимого моего человека… Бабушку Груню!.. И ты это, папа, знаешь!..
Перед глазами у меня мгновенно встали сцены семейных раздоров.
Максим поднял сжатый кулак:
— Этого я ей не могу простить. Не могу!
Что отвечать? Что делать?
ПЕРВАЯ СИМФОНИЯ
За пианино.
— Хочешь, папа, я сыграю тебе симфонию, которую я сам сочинил?
— Конечно.
Играет.
И черт возьми, я что-то нахожу в его игре — и вроде бы настроение, и даже какую-то тему. Еще бы! Играет-то сын. Мой сын. И мне конечно же хочется найти это «что-то».
— Хорошо, — говорю, — ты бы записал ее.
— Это мне еще очень трудно, папа. Тут ведь у меня соль субконтроктавы, а я не знаю еще, сколько надо добавочных линеек, чтоб записать эти ноты… Но я скоро все это узнаю и тогда запишу. Подождешь? Ты можешь подождать?..
ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ
Готовится к зачету на скрипке. Кое-что не получается так, как хотелось бы. Снова играет, и снова не получается. Садится на диван и чуть не плачет.
— Не волнуйся, — говорю, — у всех музыкантов что-то может не выходить, даже у самых великих. А мы с тобой начинающие. Отдохни, и начнем сначала… Вот послушай стихи, они нам сейчас очень подходят. «Какое б горе мелких неудач, какая бы беда ни удручала, руками стисни горло и не плачь. Засядь за стол и все начни сначала». Понял? Вот так написал Константин Симонов.
— Стихи хорошие, да вот…
Советую заняться чем-нибудь другим, на несколько минут. Уговариваю, с трудом сдерживаясь. Меня ждет своя неотложная работа.
Садится за пианино. Через некоторое время увлекается, что-то фантазирует. Успокаивается.
Потом берет скрипку и хорошо играет и этюд, и концерт Ридинга.
Радостный подходит ко мне.
— Что? — весело спрашиваю я.
— Что-о-о? — говорит, понимая суть моего вопроса. — Ты меня извини, папа.
Обнимает. Отходит к столу, берет шариковую ручку и что-то пишет на поле газеты.
Подхожу. Читаю: «Папа + Максим = Дружба».
ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН
— Как же, Максимка, мы отметим твой день рождения? — спросил я сына накануне его девятилетия.
— Ты мне что-то хочешь предложить? — ответил вопросом.
— Да, хочу. Чтоб ты пригласил в гости к себе своих одноклассников — Леночку и Олега. Ты ведь с ними дружишь? Пусть они и побудут на твоем празднике.
— Ты будто подслушал мои мысли. Я приглашу ребят.
Вечером 9 декабря ребята были у нас. К их приходу я накрыл стол. Бутерброды, конфеты, яблоки и, конечно, ситро.
В середине ужина я объявил конкурс самодеятельности. Лена и Олег спели. Максим играл на скрипке.
Жюри — мы, взрослые, — объявило, что все исполнители достойны поощрения, что они стали лауреатами конкурса и все награждаются призами. Леночка — Снегурочкой, Олег — пистолетом, Максим — набором «Русские воины».
Затем был торт с девятью свечами. Ребята шумно чаевничали. Перед уходом мы подарили ребятам по книжке.
Расходились веселые.
— Все хорошо, — сказал Максим, когда гости ушли. — Ты все хорошо придумал, папа. Но мне жаль, что у тебя не было ни одного такого дня рождения.
Год десятый
О ПОДЗАТЫЛЬНИКАХ
К очередному экзамену в музыкальной школе повторяет этюд для скрипки.
Присутствует бабушка Наташа, приехавшая на его день рождения.
Максим, чувствую, хочет сыграть как можно лучше. И как часто это бывает при чрезмерности такого желания, ошибается.
Поправляю его. Возвращаю к неважно сыгранным тактам.
Он напряжен, прерывает игру даже там, где все идет хорошо.
— Когда Вадюха, бывало, вел себя так, — заговорила бабушка Наташа, — тетя Ира его — по затылку, по затылку!..
Тетя Ира — сестра бабушки Наташи, преподаватель музыкальной школы. Вадим — ее племянник, учится играть на аккордеоне.
Максим посмотрел на меня, на бабушку Наташу. Потом повернулся к нотам. Минуты две глядел не двигаясь. И затем чисто проиграл только что не дававшийся ему этюд.
— Как видишь, бабушка, у нас без подзатыльников обходится.
Уложил скрипку в футляр. Собрал ноты. И ушел в мою комнату.
СМЕШНОЕ
— Знаешь, папа, как смешно кончается «Золотой теленок»? Остап Бендер говорит — все, с этим надо кончать. Пора начинать трудовую буржуазную жизнь в Рио-де-Жанейро. Куплю плантацию, а Балаганова выпишу в качестве обезьяны. Пусть срывает для меня бананы… Ты понимаешь, папа… Ничего себе — трудовую… буржуазную…
И хохочет. Хохочет вовсю.
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
— У меня есть для тебя сюрприз, — сказал я незадолго до наступления Нового года.
— Какой, папа?
— Мы с тобой на каникулы поедем в Малеевку. Хорошо отдохнем. Побегаем на лыжах. Ты хочешь побегать на лыжах?
— Очень! И поживем там с тобой по-мужски, совершенно вдвоем!
Через два дня, за полторы недели до каникул, Максим вдруг заболел. Грипп. Температура сразу под сорок.
— Вот тебе и Малеевка, папа! — сокрушенно говорил Максим.
— Ничего, сынок. Впереди десять дней до каникул — выкарабкаемся!
Когда у Максима пошло на поправку, свалился я. Тоже грипп.
— Нет, не бывать нам в Малеевке! — сквозь слезы говорил Максим. — Точь-в-точь, папа, как в прошлом году. Помнишь, у нас уже были путевки, а ты свалился с этим же гриппом?..
— Нет, сынок. Прошлый год не должен повториться, — успокаивал я сына. — Я выздоровлю.
Ко времени отъезда мне действительно стало лучше, и мы решили ехать. Когда мы уже добрались до Белорусского вокзала и сели в электричку (а на вокзале у кассы была большая очередь, и я долго не мог взять билет), Максим сказал:
— Сколько ж мы преодолели с тобой, чтобы наконец поехать отдохнуть. В спорте это называется — бег с препятствиями…
ЧИТАТЕЛЬ ГОМЕРА
Пришли в Малеевке в библиотеку. Набросился на книги. Торопливо перебирал одну стопу за другой.
— Возьми «Овод» Войнич. Тебе же фильм нравился.
— Хорошо. И еще вот эти возьму.
Снимает с полки «Илиаду» и «Одиссею» — два толстых тома.
Знаю, он любит исторические вещи, книги о Древней Греции. Раз пять прочитал «Сына Зевса» Воронковой и сотню раз пересказывал мне отдельные эпизоды из жизни великих полководцев древности. Особенно ему нравится «Эхо» — сборник преданий, легенд, сказок всех народов мира. Там были отрывки из «Илиады» и «Одиссеи».
— Послушай, это много на неделю. И вообще рановато тебе читать эти книги. Возьми для начала только «Овод».
— Нет, папа, я прочитаю обязательно.
Вернулись к себе в комнату. Тут же уселся за «Илиаду». Через полчаса взял «Одиссею». Читал-читал — отложил. Задумался.
— Ты прав, папа. Мне это трудно читать пока. Много непонятных слов. Но когда-нибудь я все-таки прочитаю. Ты не жалей, что мы взяли их в библиотеке. Я рад, что хоть в руках их подержал. Понимаешь?..
В ЦАРСТВЕ БЕРЕНДЕЯ
Первая прогулка. Пошли по аллее вдоль глубокого оврага. Лес стоит заколдованный.
— Папа, — тихо сказал Максим, — а я и не знал, что ты привез меня в самое царство Берендея. Я спущусь вниз, папа. А ты подожди меня здесь.
Чуть не кубарем покатился с обрыва. Оглядывался то и дело. Ему, наверное, страшновата эта лесная и снежная таинственность. На дне оврага парок над полузамерзшей речушкой. Постоял Максим. Оглянулся и помахал рукой. И двинулся обратно. Подниматься тяжелее — пришлось несколько раз отдыхать. В беседке сказал откровенно:
— Там немножко страшно. Но я каждый день буду во время прогулки спускаться туда. Это будет моя зарядка. Хорошо?
— Да. А теперь пойдем, я покажу тебе трон Берендея.
Я повел его через пришвинский мостик к пяти березам из одного корня. Они, у самого корня выгнувшись к земле, напоминали кресло. Его-то, по преданию, Михаил Михайлович Пришвин и назвал троном Берендея.
Ныне осталось только две березы. Двух не стало давно. Третья упала недавно и лежит рядом. Недалеко от них — тоже овраг. Сквозь ветви елей и берез пробивалось солнце, и все вокруг искрилось и сверкало.
* * *
На лыжах идем. Снежное поле. Со всех сторон подступает лес. И поле, и лес в сиреневой дымке. Максим останавливается.
— Ты что? Иди, а то замерзнешь, — беспокоюсь я.
— Не замерзну, папа. Давай посмотрим на это чудо, — обводит палкой вокруг себя. — Когда-нибудь я напишу цикл картин «Воспоминания о Малеевке».
* * *
Входим в лес. Березы склонились под тяжестью снега, и мы проходим под ними, как под арками. Таких арок над лыжней много. Максим называет их воротами Берендея и считает, сколько ворот мы пройдем за прогулку.
В березовой роще лыжня разветвляется. Мы всегда шли прямо. Проходили до хмурого осинника. Потом добирались до конца леса и возвращались этой же лыжней. Когда поворачивали обратно, нас всегда манила неведомая для нас лыжня влево.
И сегодня мы решили идти по ней.
Лыжня забирает все левее и левее. Мы подходим к старым елям. Между ними белеют и березы. Ели высокие-высокие.
— Папа, это же башни берендеевского терема, — шепчет Максим. — С них Берендей наблюдает за своим лесным царством. Здорово, правда? Только не говори громко, а то мы его потревожим.
— Хорошо, — шепчу я.
— А ты знаешь, где он? — спрашивает Максим.
— Кто?
— Да Берендей!.. Вон за той толстой елью. Он не слышит нас. Мы же тихо, — объясняет сын.
И правда, кажется, за деревьями действительно кто-то есть.
— Ну, до свиданья, Берендей, мы не будем больше тревожить тебя, — говорит Максим и кланяется «терему». — Но мы еще придем к тебе.
Лыжня, сделав петлю, выходит на нашу привычную дорогу.
За обедом соседу Георгию Ивановичу сказал:
— А мы сегодня с папой были у терема Берендея самого. Вы никогда не были там? Не нашли, да? А мы нашли!
* * *
Вместе с нами на лыжах пошла девочка лет шестнадцати. Знакомые попросили нас взять ее с собой.
Максим шел впереди. Маша за ним. Я замыкал шествие.
Максим без умолку давал всяческие пояснения. Рассказывал о берендеевских воротах и, конечно, повел показать его терем. На спусках часто падал. Маша не могла затормозить и тоже падала, натыкаясь на него. Оба смеялись на весь лес.
И так — всю дорогу.
На другой день мы были на прогулке снова одни. Без Маши. Максим шел, как всегда, впереди и ни разу не упал.
— Ты сегодня идешь лучше, — сказал я. — Не падаешь… Или без Маши неинтересно падать?..
Он повернулся ко мне:
— А ты как догадался, что неинтересно?..
* * *
И в день отъезда мы пошли в лес. Прошли заветный круг. Когда из леса выехали на поле, по которому мы были уже на прямой к Дому творчества, Максим остановился на опушке, у первых берендеевских ворот, и сказал с грустью:
— Прощай, берендеевское царство! Прощай до будущего года!
Отвернулся и молча пошел вперед, к дому. Долго шел, не оборачиваясь.
«РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ИЗ МОИХ ДРУЗЕЙ»
— Прочитай начало моего рассказа, папа.
— Лучше бы весь. Но давай начало. Читаю:
«Об одном из моих друзей.
РАССКАЗ
Пролог
В Мальтинии живут семь братьев по фамилии Сет. Первый — министр финансов, второй — полковник (служит в крепости Варфалем), а остальные футболисты. Впрочем, речь пойдет не о них, а об их деде, которого звали Пройт Схивенг Сет. Он был пират. Он награбил много денег. Я был на его корабле штурманом.
Глава первая
Тайна острова…»
— Ну, а что дальше?
— Дальше, папа, самое интересное. Этот Пройт был очень смелый человек. Однажды в бою с пиратами его ранило. У него совсем не было глаза. Он вытек, выбитый пулей из пистолета. Представляешь, все лицо залито кровью. Но он не покинул корабль… В конце концов все узнают, что он очень хороший и справедливый пират. Как Робин Гуд, справедливый. Но только об этом узнали — и он погибает… Тебе будет жалко его, да?
— Конечно, раз он хороший человек.
— Вот и мне тоже. Я думал оставить его живым. Но нельзя. Он погибает… Такова его судьба. Понимаешь?
— А в чем тайна острова?
— Тайна острова?.. — задумался. — Когда все напишу, тогда узнаешь.
— А почему у него такое странное имя?
— Так он же, папа, представитель синей расы. А там у всех такие имена.
— А может, это под впечатлением прочитанных тобою книг? Беляева, скажем?..
Пожал плечами:
— Может быть. Но, думаю, вряд ли. Я же сам его знал, Сета. Понимаешь? И присутствовал при его страшном ранении.
— Ну, разве что так! — сказал я. — Тогда другое дело…
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА
Гуляем. Вечер морозный. Все припорошено сухим снежком.
— Поговорим на литературную тему, — предлагает Максим. — Расскажи мне о Гете, папа. О самых счастливых моментах его жизни.
— Хорошо.
Собираюсь с мыслями и рассказываю о работе Гете над «Фаустом». Попутно сыплются вопросы. Почему это трагедия? Чего хотел Фауст? Что произошло с Маргаритой?.. Хорошо, что я недавно перечитал «Фауста», да и то попробуй ответь ему!..
Рассказываю об истории создания «Мариенбадской элегии» — истории последней любви старого Гете. Максим не роняет ни единого слова за весь рассказ. Потом долго молчим.
— Расскажи теперь о встрече Гете с Бетховеном.
— Я уже тебе рассказывал, — говорю.
— Ну, еще раз, папа. Ну, пожалуйста!..
Рассказываю.
— Знаешь, папа, я уже заметил, что часто один великий человек не понимал другого.
— Да, к сожалению, это так.
Вспоминаю первый отзыв Тургенева о толстовском романе «Война и мир». Поверить трудно, как мог ошибиться Тургенев.
— Но хорошо, Тургенев хоть потом понял, папа, — говорит Максим. — А то ведь мог бы и не понять совсем…
Снова думаем каждый о своем молча.
— И у композиторов так же… — будто что-то вспомнив, произносит Максим.
— Что, перейдем на музыкальную тему? — улыбаюсь я.
— Да. Расскажи мне о Моцарте, пожалуйста.
Рассказываю, невольно увлекаясь, потому что он слушает внимательно. То идем, то останавливаемся. То он что-то переспросит. То я что-то припоминаю попутно. Да что! О Моцарте, как о Бетховене и Гете, можно говорить всю ночь!
Вставляет реплики:
— Да, папа, видишь, Моцарт совсем маленький начал писать музыку…
— Как жаль, что нет его могилы!.. Я бы когда-нибудь съездил к нему…
— Да, я знаю о Сальери… Я уже читал о нем у Пушкина.
— О да, папа, гений должен делать только добро людям! Только добро! Иначе какой же он гений?..
Возвращаемся домой.
— Вот видишь, папа, какая у нас с тобой получилась хорошая прогулка? Тематическая прогулка, правда?
* * *
На другой день утром, собираясь в школу, заходит ко мне.
— Ты знаешь, что я попросил бы Моцарта написать? Не «Реквием», а «Задумчивую сонату». Понимаешь, «За-дум-чи-вую». Вот.
Смотрит на меня и куда-то в себя.
— А может, мне самому попробовать?
— Попробуй, — говорю.
Проходится по комнате. Уходит. Делает зарядку. Умывается. Возвращается ко мне.
— Хочу тихонечко послушать «Менуэт» Боккерини и «Полонез» Огинского. Тихонько. Я не разбужу дедушку.
Слушаем.
— Все. Иди завтракай. Скоро выходить. Я быстро соберусь.
Уходит. За дверью слышу невнятное бормотание дедушки и шепот Максима. Проходя мимо спящего деда, он не вытерпел и потрепал его за торчащий из-под одеяла нос. Дедушка, конечно, проснулся.
РУЧНОЙ РАК
— Как ты раков ловил после войны, когда голодно было?
— Да я уж тебе рассказывал, сынок.
— Ну, все равно. Расскажи еще.
Припоминаю худого стриженого мальчишку с простецкой раколовкой. Он ранним утром, по росе, босиком пришел к Черной Калитве, добыл ракушек на острове в заливчике и притаился у обрыва, в камышах. Раколовка у него такая, что никто не позарится на нее: кольцо из проволоки и натянутая на него сетка — вот и вся мудрость. Но все равно к вечеру у него полное ведро раков. Раки шевелятся в ведре — они ведь живучие! — и шелестят, скрещивая свои клешни.
— А почему они красные, папа?
— Они краснеют от смущения, когда их на стол подают.
— Ты все шутишь… А у меня был ручной рак!
— Где же это? И как ты его приручил?
— В Мальтинии. Как-то я сидел на берегу реки. Глядь, выползает рак. Выползает, как всегда, задом вперед. Ну, я заговорил с ним. Не стал его обижать. Наоборот, дал ему мяса, ракушку тоже принес, и мы подружились. Он каждый день ко мне приползал и рассказывал о своей рачьей жизни. Ты знаешь, это очень интересно. Очень!
— А э т о случилось не после того, как я рассказал тебе о Мичурине? Как к нему лягушка выходила, когда он жил у реки на своей усадьбе?.. Потом у него были ручные воробьи. Помнишь? Так не после этого ты приручил рака?
— Нет, папа. У меня это произошло гораздо раньше. Да и что ж ты сравниваешь рака с лягушкой? Раку стоит раз чикнуть клешнями — и нет лягушки!.. Рак, папа, совсем другое дело! Потом, Мичурин же никогда не жил в Мальтинии!..
«ЗАДУМЧИВАЯ СОНАТА»
С утра занимались музыкой. Затем я ушел в свою комнату работать.
Максим остался у пианино. Долго еще играл что-то. Прерывал игру. Снова играл. Наконец открыл дверь ко мне.
— Папа, извини, что я мешаю тебе. Иди, пожалуйста, послушай. Я написал «Задумчивую сонату».
— Что ты говоришь!
Я вышел в зал, где стоит пианино, и присел на диван.
Максим поставил перед собой исписанный нотами лист и стал играть — тихо и медленно. Звуки низкие, долгие, право же, что-то в самом деле задумчивое.
— Ты даже записал все? Молодчина.
— Тебе нравится, папа?
— Да. И главное — что ты записал ее. Это очень хорошо.
— Вот я тебе ее и дарю.
«ОТ НЕТЕРПЕНИЯ НЕ МОГ СПАТЬ…»
Прихожу с работы. Сидит в моей комнате за столом. Перед ним лист бумаги и акварельные краски.
— Папа, прошу тебя, не смотри сюда.
— Не буду.
Сидит еще с полчаса. Потом все убирает. После ужина гуляем с ним — он ни слова о своем деле.
Наутро, в день моего рождения, очень рано приходит ко мне.
— Ты не спишь, папа? Можно, я включу свет? Включает.
— Смотри.
Передо мной акварель по мотивам картин Айвазовского. Шторм баллов в десять. Темное небо. Темные валы моря. Только гребни воли заметно просвечиваются. И между валами бедные суденышки. Рядом с ними шлюпки. По небу, как титры на киноленте, — «Буря». В углу надпись: «Моему дорогому папе. Максим. 28/I 1977 г.».
— Спасибо, дорогой мальчишка! — обнимаю его. — Но что ж ты так рано проснулся?
— Да я от нетерпения не мог спать. Мне хотелось скорее тебя поздравить! А еще я тебе знаешь что подарю?.. Я принесу тебе из школы две пятерки.
И правда, вечером, как только я вошел в квартиру, он обнял меня и шепнул: «Две пятерки — в дневнике».
В моей жизни не много таких дней.
ПРЕОДОЛЕНИЕ
Вышли кататься на лыжах.
— Двинем, папа, в Иваньково, — предлагает Максим. — Там отличные горки!
— Добро, — соглашаюсь. — Двинули.
По мосту у шлюза переходим на другой берег канала. У самого шлюза берег крутой. Подходим к вершине горы. Лыжня уже довольно разбитая, но хорошо катающиеся ребята спускаются по ней запросто.
Максим останавливается, опирается грудью на палки и смотрит на мальчишек. Небольшие горы — возле нашего дома и на пологом берегу канала — он преодолел еще в прошлом году. А как быть с этой?.. Ехать или не ехать?..
— Смотри, как надо, — напоминаю ему. — Руки с палками немного назад. На случай, если упадешь, чтоб лицом не на палки… Чуть присядь, пружинь ноги в коленях. И — пошел! Вот так!..
Я сильно отталкиваюсь палками и лечу вниз. И, как бывало мальчишкой, разворачиваюсь на ходу уже в конце спуска и сразу останавливаюсь — лицом к вершине горы.
— Ну, езжай! — кричу Максиму.
Он осторожно подходит к краешку спуска и… катится вниз. Все идет хорошо. Но, почти спустившись по крутизне, падает. Падает удачно — на бок.
— Даже непонятно, — говорю, подходя к нему, — почему ты упал. Ты уже ведь съехал!.. Иди еще раз!
Спускается снова и снова падает — на середине горы. Долго не встает. Потом поднимается. Не отряхивая с себя снег, взбирается на вершину. Стоит, опершись на палки грудью.
Взбираюсь на гору, подхожу к нему.
— Передохнул, — говорю, — попытайся еще. Ты можешь съехать. Понимаешь, можешь.
— А если опять грохнусь?
— Езжай снова! В десятый раз езжай!.. А ты как думал?..
Молча глядит на катающихся. Почти все они тоже часто падают. Но ведь это — не успокоение. Только одна девчурка, маленькая, в длинном-длинном пальто, раскрасневшаяся, катается не падая. Иногда кажется: вот-вот упадет, но глядь, выпрямилась и покатила!.. На зависть всем ребятам!..
И вот, встав в очередь за девочкой, Максим снова идет на спуск. И не падает! А развернувшись, ищет меня глазами: вижу ли?
Я машу ему палкой!
И он снова взбирается на вершину горы.
1968—1977
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Субботний день. Мама рано утром напекла пирожков с картошкой, отец еще вчера вечером принес сметаны из магазина. В моей комнате тесним на столе книги, рукописи, расстилаем газету и ставим на нее миску с пирожками, сметану, суздальские деревянные рюмки, четвертинку и бутылку «Боржоми».
Наливаем по рюмке. Подходит мама и подает тарелку.
— Нате вам и огурчиков. Достояли як раз.
Выпиваем. Огурцы хрустят на зубах. Это у меня. А у отца уже давно не хрустят. Не на чем. Мелко-мелко режет он их на блюдце ножом, чтобы есть. Тяжело глядеть на него: стар он стал — девятый десяток начат.
— Ты б, сынок, бабу яку завив, — предлагает отец.
Завести бабу — это поставить на проигрыватель пластинку с ямщицкими песнями или старинными русскими романсами. Любит он, когда их поют Лидия Русланова, Галина Карева, Соня Тимофеева.
Завожу пластинку Каревой. Отец настраивает слуховой аппарат. Откладывает на тарелку пирожок и слушает.
Отчего, скажи, Мой любимый серп, Почернел ты весь, Что коса моя?..Не выдерживает отец — на глазах встают слезы. Мне кажется, и глаза его поседели.
— Налей, сынок, ще.
Выпиваем еще по рюмке. Приходит в голову спросить у отца, какая у него самая счастливая пора в жизни.
— Вы ж долго прожили, — говорю.
Отец вытирает слезы. Отвлекается от пения. Доедает пирожок.
— Да, це ты правду кажешь. Жизня моя долгая. От Петра пошел восемьдесят второй… — неторопливо и раздумчиво говорит он, вытирая бумажной салфеткой губы. — Самая счастливая пора… Шо ж, давай с тобою припоминать. Родился я, ты знаешь, в восемьсот девяносто девятому. Так. Вот с тех пор и начнем. Було мени пять годков — японская война вспыхнула. Нашего батька не тронули. Семья у нас дуже здорова була — уже, мабуть, шестеро малых ползало под столом. А других слободчан брали на войну. Помню, як бабы выли. Ой, як они кричали!.. Потом бабьего крику хватало всю жизню… Ну, вот. Через год — революция девятьсот пятого. Вроде б и далеко от нас, десь там, в Петрограде да в Москве, а у нашей слободе тож человек семеро пороли. Не знаю, правда, за шо, но пороли урядники, да так, шо ни сесть, ни лечь нельзя было. Дальше? Дальше — батрачил на Маныче, жил не жил — от тебе четырнадцатый год. Опять война — с германцем. Опять бабий крик. Тут уж забрили Мишу — брата моего. На проводах мама покойная, царствие ей небесное, так убивалась…
Отец откидывается на спинку стула и переводит дыхание.
— Ну, а потом… Потом — новая революция, Февральская, за ней — другая, Октябрьская, за ней — гражданская война… Тут и старшие браты воевали, и мени довелось. Ты ж знаешь, и раненый був я, двое ребер черт-ма, шея пробита пулей. Еле очухался. А в двадцать первому году опять чуть не загинул. Та ще як!.. Приехал после ранения до дому, а дома — хоть шаром покати. Молодша детвора наша сидит без хлеба. А раз хлеба нема, то уже считай, шо голодный. Шо робыть?.. Дружок мой Гришка Рылей, отчаянный був парень, и предлагает — махнем на Кубань за хлебом! Ну, махнем — так махнем. Насобирали мы по родне ниток, иголок, наперстков — всякой чертовы — и поехали. Добрались аж до станицы Каневской и давай бродить по казачьим куреням. За свои погремушки выменяли по мешку муки да по мешку зерна. К нам прибилось ще трое таких, як мы. Наняли подводу и двинулись до станции. Поначалу ехали степью, а потом пошла луговина, сбоку дороги сухие камыши шумят на ветру. Ехали-ехали, откуда ни возьмись — человек восемнадцать на конях. Оказалось — зеленая банда. Стой, туда-сюда! — кричат. Подводчик наш подмаргивает им. Он-то, мабуть, и навел их на наш хлебец. Окружили нас. Раздели всех. А дело було раннею весною, ще снег не сошел. Шарят по карманам. У наших попутчиков билеты нашли комсомольские, в подкладках пиджаков булы зашитые. А у нас с Гришкой одни удостоверения личности. Ну, тех трех отвели в сторону. Повыхватывали шашки. А мы с Гришкой стоим на месте — босиком, в одном нижнем белье…
Отец умолкает, достает сигареты, прикуривает и глубоко затягивается.
— По гроб не забуду, сынок, той ужас. Порубали тех бедолаг, як ото деревья рубают… Не приведись бачить такое. «Видали? — кричат нам. — А ну катись!.. Не то и вам…» Мы побежали. Бежим и думаем — щас нам в спину саданут из винтарей. Нет. Обошлось. Прибежали в Каневскую и попросились к старушке, у якой квартировали, пока обменом-то занимались. Старушка нас приняла, спасибо. Дала кой-какую одежонку. Гришка мой — ничего. А я утром не встал — воспаление легких… Пролежал я у той старухи недели три. Выходила она меня. Вернулся в слободу. А тут вскорости и нэп подоспел, а там — индустриализация да коллективизация пошла. В раскулачку смерть ще раз поиграла надо мною. Пальнули в меня из обреза. Я ж був член сельсовета. Ну, ты про тэ время и читал и слухал много. Всякого пришлось хлебнуть… Перед войной уже ничего було. Це ж ты сам помнишь. А потом — война. Да уже такая, шо… Мени почти не пришлось воевать. После всяких ранений белобилетником був. Снятый с военного учета. Так под конец позвали, трошки в нестроевиках послужил. А кто помолодше…
С трудом встает, подходит к стеллажам с книгами. Бледными пальцами касается корешков.
— Тут на днях взял у тэбэ с полки одну книжку. Федор Тютчев называется. И наткнулся на дуже интересный стишок. От щас найду… Эх, як бы мени в молодости от таких книжек, як оце у тэбэ! Може б, и я не крутил волам хвосты. Хотя, сыну, скажу — землю тож кто-то должен пахать!.. А-а, от она. Нашел. Я тут бумажечку заложил. Послухай. Читает по слогам:
Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые…— Пойми: минуты роковые! Колы-сь булы минуты. Теперь — целые годы, по-моему. Целая жизня. И яку пору считать счастливой? Я тэбэ спрашую, сынок… Щас я живу — умырать не надо. Только б войну люди отодвинули от себя!.. Эх, дождаться б, як оно будэ. Жалко, годов до биса…
Отец бережно ставит томик Тютчева на полку. Возвращается к столу.
— Забулы мы, сыну, про свое дело, — он лукаво усмехается. — Давай ще под пирожки да под огурчики. И хай баба ще заспивае.
И мы сидим с отцом. Слушаем хорошее пение.
Субботний день. Мама пирожков напекла.
1980
ЛОРДА
Лошадей отец видит теперь только на экране телевизора. В художественных фильмах или когда показывают соревнования спортсменов. Побывать на бегах, поехать в родную деревню, где еще можно встретить живую лошадь, отец не в силах. Годы не те. А дома усядется перед телевизором, встрепенется весь. Через минуту-другую, глядишь, негнущимися дрожащими руками подносит платок к глазам…
Любуясь какой-нибудь лошадью, вместе с нею и с наездником беря барьеры, он под конец непременно скажет: «Добра коняка. На Лорду скидается». А ежели лошадь ему не по духу, машет рукой и уходит курить. «Не-э, до Лорды ей далэ-э-эко!..»
Я помню Лорду за полгода до вступления отца в колхоз. Яркий летний день. Лорда стоит у повозки посредине двора. Большая, серая, в темных яблоках. Стоит и хрумкает овес, переминается с ноги на ногу, хвостом смахивает оводов с пышного своего крупа.
Я ковыляю к ней, приседаю у задней ее ноги и тереблю рукой мычку. Лорда поворачивает ко мне морду, смотрит на меня, перестав жевать, и осторожно отступает в сторону. Я снова подбираюсь к ноге и тереблю щекочущую ладонь мычку. Лорда снова оглядывается и отступает еще дальше от меня.
Отец, выйдя из хаты на крыльцо и увидев меня у ног Лорды, бледнеет и застывает на месте. Чего доброго, лягнет она, и… Но Лорда будто понимает волнение отца, поворачивается к нему и тихо ржет. Не бойся, мол, не трону мальца.
К Лорде отец шел долго. Вспоминать его путь и смешно, и горько. Ему едва минуло двадцать три, когда дед-портной ушел в Донщину на заработки и там пристал в приймы. Бабушка, мать отца, умерла года за четыре до этого. Остались на попечении отца три сестры и два брата; а в хозяйстве один бычок, — отец выменял его за закрома. В первое лето молодой хозяин без батька, как говорится, накосил пять возов сена. Сосед, видя такое дело, попросил отца кормить зиму трех его бычков, за это весной отец берет любого из них себе. Отец подумал-подумал и согласился. К своему бычку да еще бычок — это уже пара быков во дворе.
Всю зиму он как черт крутился. Зато по весне за двух бычков выменял у Алешки Заворотного жеребца Чалого. С лошадью — ты уже мужик!
Начал отец подзарабатывать на жеребце. То в сельсовете, то в кооперации, то на вальцовке, — была такая в слободе, немцами построена еще до революции. Там подвезет, там отвезет, — все хлопчишкам на молочишко.
А раз поехал отец на Чалом на базар. А на базаре цыгане, целый табор. И приглянулся им отцовский жеребец. Они к отцу — продай да продай. Отец — ни в какую. Тогда цыгане — давай меняться, хохол! Выставили четверть водки. А отец выпить был не дурак. Хватил стакан-другой… Кончилось тем, что всучили ему цыгане кобылу, а сами Чалого за узду и были таковы.
Кое-как добрался отец на кобыле домой. Черт знает что за животина! То на базарные прилавки прется, то в бурьян, то за базаром в канаву чертанула, и он туда же, через ее голову. Дома протрезвел и досмотрелся: цыганская кобыла — слепая. Он — на базар, он — на выгон за слободой. Хе-хе, цыгане знали, что делали. Их и след простыл.
Недели через две к отцу заявился в гости двоюродный брат Иван Ерш. Он жил на хуторе, верстах в восемнадцати от слободы. Тоже заядлый лошадник, тоже не любитель выпить. Сели они с отцом за стол. Слово за слово. Давай меняться лошадьми! «Добро! — сказал Ерш. — Магарыч с тэбэ!» — «По рукам!» — ответил отец и бутылку на стол.
Взял Ерш у отца слепую кобылу, а отцу оставил свою — хромую. «Черт с ней, — думал отец, оглядывая ее худобу. — Кривая — не слепая. Сама крупна. Грудь — для запряжки. Выхожу!..» А Ерш в дороге спохватился. Вернулся к отцу. «Мало, — говорит, — магарыча. Давай додачи!» Добавили за столом. Дал отец Ивану четвертную, на том и поставили точку.
«Ладно, Петрусь. Быть по сему! — пьяно прощаясь, рубил Ерш. — Ты бережи кобылку. Я ее с Лордом случил! — Ерш поднял перед носом отца желтый от махры палец. — Будешь ты с лошонком!..»
Отец знал Лорда. Мировой был жеребец. И стал отец с душой выхаживать кобылу. Кормежку добывал ей добрую — и ячменя, и бурака, и макухи. Чистил ее, холил. Вскорости у нее спина залоснилась. Заметнее стало: и правда, кобыла — жеребая. Отец перестал на ней ездить.
А где-то после рождества хромая ожеребилась, принесла дочку. Ну, раз дочка, пускай будет Лордой, решил отец. По жеребцу.
С детства Лорда была дьявольски хороша. Серой масти — в жеребца, тонконогая, с веселыми глазами. Души не чаял в ней отец. Все лучшенькое — ей. Сам, бывало, молока не выпьет, хлеба не съест — Лорде несет. Непогодь зайдет — фуфайкой, а то и одеялом укроет ее, в хату возьмет на ночь. И она привязалась к отцу, как ребенок. Куда отец, туда и Лорда. Не успеет он поутру открыть дверь сарая, она уж навстречу. Обнюхает карманы — что там в них лакомое. Ведет отец на яр поить ее, так она — дьявол! — снимет с него картуз и ну играть им. Пустится в галоп с картузом по улице — грива на отлете. Вернется вроде бы отдать картуз отцу. Только он к ней, а Лорда — опять в сторону. Наиграется, отдаст наконец картуз, положит голову отцу на плечо и щекочет губами ему шею.
— От чертяка! — восхищались мужики. — Це ж не животное, а прямо людина!..
Шло время. Уже стал отец ездить на Лорде и верхом, и в упряжке. Кнута она не знала. Стоило чуть тронуть поводья, пошевелить вожжами, Лорда понимала, что от нее требуется. Старательная была. За всю ее жизнь лишь один раз отец ударил ее.
Дело было так. Как-то зимой — Лорде было уже около трех лет — участковый милиционер Орлов попросил отца свезти его на станцию к поезду на Воронеж. До станции семь верст. Пассажирский шел в два часа ночи. Отец согласился. В час запряг Лорду в санки, надел тулуп, кинул кнут в передок (на всякий случай, больше для порядка), и минут через сорок они были на станции.
Простившись с Орловым, отец завернул к Семеновне. Проживала на станции такая старушка. Заедешь к ней в ночь-полночь, у нее и выпить найдется, и яишенка поспеет к чарке. Пропустил отец стаканчик, зажевал глазуньей и — в дорогу.
От станции дорога идет в гору, до самого Долгого Яра, — версты полторы. Отец, слегка захмелевший, поудобнее уселся в санках и закутался в тулуп. Лорда спокойно пошла.
Ночь светлая — хоть иголки собирай. Снег поскрипывает под копытами и под полозьями. Мороз крепкий, градусов под тридцать. Луна над головой — в огромном круге, стало быть, ждать надо еще большего мороза.
Поднялись на гору. Поравнялись с Долгим Яром. Жутковато в степи одному. Борясь с дремотой, отец напряженно оглядывался вокруг. Обычно если что случалось, то как раз у Долгого Яра. Тут и грабили, и убивали, — все было.
И вдруг ухо резанул длинный свист где-то впереди. Отец вскочил на колени. Впереди на дороге чернела фигура человека. Недавно же смотрел — никого не было, и вот… Повернуть назад? Под гору Лорда в два счета докатит до станции.
Оглянулся. А сзади — дыханье слышно! — настигает санки другой мужик. Бежит тяжело. И главное — молча.
У отца хмель как рукой сняло. Все ясно. Следили. Сосвистывались. Выход один — гнать Лорду вовсю.
Рывком тулуп с себя. Кнут — в руку. Дернул вожжи.
— Ну, Лордик! — Отец вроде бы крикнул, но не услышал собственного голоса. Язык во рту — как не свой.
Лорда вскинула голову и взяла рысью.
Тот, на дороге впереди, раскинул руки — ловить, значит, собрался. У отца мороз по коже. Не испугалась бы Лорда! Испугается, рванет в сторону, в сугроб, — санки набок, и все тогда…
А задний тем временем догнал-таки санки, ухватился рукой за решетку и пытался вскочить на планку между полозьями. Но это ему не удавалось. И планку плохо было видно в тени за решеткой, и не поспевал он за санками.
И все же сильный был, сукин сын! Сумел и другой рукой уцепиться за решетку и прыгнул на планку. Планка, на счастье отцу, — хлоп и переломилась. Споткнулся задний, но не упал и, держась за решетку, продолжал бежать. Отец отпрянул к передку, ударил кнутовищем по рукам, но тот не отставал.
Отец взглянул вперед. Расставивший руки был виден в полукруг дуги. То грива закрывала его, то он снова показывался, быстро приближаясь. Метров за пять до него отец что есть силы ударил Лорду по ногам кнутовищем. Лорда взвилась и прямо прыгнула на того — впереди. Он мелькнул у нее под ногами, взвизгнул под санками и сбил собой бегущего сзади. Задний повис на руках и волочился за санками.
Отец исступленно бил кнутовищем по его рукам, и тот не выдержал, отцепился и — кубарем по дороге.
Сгоряча вскочил и заорал вдогон хрипло:
— Ну, т-твою мать, нехай!.. Попомни!..
Отца знобило как в лихорадке. Он еще не верил в спасение. Лорда неслась как безумная. Клочьями летела пена с удил.
Дома, выпряженная из санок, Лорда вся дрожала. Пар валил от нее столбом. Отец укрыл ее попоной и до утра водил по двору. Его душили слезы. Но он не в силах был плакать. Он прислонялся лицом к горячей Лординой шее и выдыхал одно лишь слово:
— Спасла… Спасла…
Наступала коллективизация. В слободе создавался первый колхоз. Отец решил — вступать.
В один из дней уходил на работу, на вальцовку. Уже вышел за ворота, вернулся и сказал матери тихо:
— Должны прийти из колхоза… Если без меня, хай берут Лорду. Хай всэ берут: и корм для нее, и сбрую, — всэ. Поспокойней будь.
Мать промолчала. С работы отец вернулся засветло. Не увидев во дворе санок, повозки и водовозни, он спешно прошел в сарай. Лорды тоже не было.
В хату не стал заходить. У крыльца приостановила мать — вся в слезах.
— Ужин готов, — сказала.
Отец не ответил, пошел в бригаду, — через улицу перейти. Возле правления колхоза гудела гурьба мужиков. В кругу их — Лорда. Иван Хитрый, широко расставив по-медвежьи косолапые ноги, нагибал ей голову и хватал за челку, а Санько Пикула поднимался на носках и, кряхтя, завязывал ей глаза какой-то черной тряпкой.
— Що це вы робите? — спросил отец.
— Да ты ж оце выростыв сатанюку! Не йдэ в колхозную конюшню, хоть ты сдохни! — забубнил Санько. — Мы ей тут и батога давали, и вожжами — нияк! Да оце решили — глаза ей завязать да тоди и вести…
— Ты лучше б себе кой-шо завязал… — ругнулся отец. Лорда услышала его голос и враз поставила уши. — Хиба ж так обращаются с лошадью?.. Лорда!
Лорда рванулась на дыбы. Иван упустил из рук повод. Санько, бросив тряпку, попятился. Мужики расступились.
Лорда подбежала к отцу, положила ему голову на плечо и всхрапнула. Он погладил ее, потрепал за гриву и пошел по двору. Лорда выгнула шею, ухватилась зубами за рукав отцовской фуфайки и пошла рядом.
Отец прошел по кругу двора, дошел до ворот на улицу и приостановился. В ворота был виден угол нашей хаты, окно с открытой ставней, распахнутая калитка. Лорда скосила глаз на улицу, бросила рукав, заржала и повернулась к отцу.
Примолкли мужики. Насторожились.
Отец повернул от ворот в глубину колхозного двора, прошел мимо мужиков молча в конюшню. Лорда пригнула голову в дверях и вошла вслед за отцом.
В конюшне он привязал ее поводом к станку. Лорда обнюхивала отца и тихо ржала.
Не глядя ей в глаза, он постоял, подождал, пока не просохли слезы, и вышел из конюшни один.
В колхозе отец делал вощину для пасек. Ездить на лошадях ему почти не приходилось. На Лорде ездили другие. Но она помнила отца. Когда привела жеребенка, никого не подпускала к себе. Позвали отца — он ухаживал за ней. После старался держаться от нее подальше. Только ржание ее слышал. И наяву — когда бывал возле конюшни, когда Лорда проходила мимо нашего двора. И во сне.
Слышал через многие годы.
В тридцать третьем голодали не одни люди. Голодала и скотина. Лорда ожеребилась во второй раз. Худючая была до невозможности. Лишь мослы торчали. И однажды в ночном напали на нее волки. Лорда не смогла отбиться, и они крепко порвали ее. Так крепко, что она не оправилась…
Много воды утекло с тех пор. Отец уехал в город, стал рабочим. Почти за полвека городской жизни никогда уже не имел дела с колхозным хозяйством, с лошадьми. А вот поди ж ты, увидит на экране опушку леса, пшеничное поле, табун на лугу — и сразу в воспоминаниях Лорда.
1980
ДЕД ПОЛЯК
Отец рассказывал.
Жил в нашем селе дед Поляк. По-уличному его так звали. А подлинная фамилия — Поляков. Здоровый необыкновенно. И, конечно, с чертячьей силищей. Было у него три сына. Один в одного, как на подбор. Плечистые, рослые. Все — в батька.
А семья была бедная. Кто побогаче — глядишь, дразнят поляковских ребят за что-либо. Это еще когда они мальцами бегали. Дед, бывало, поймает обидчика, снимет с него шапку и на выгон. А на выгоне на камнях амбары стояли. Посевное зерно хранили там. Так дед Поляк подойдет к амбару, поднимет за угол и положит шапку под основу.
Прибежит отец обидчика. Смык-смык, что поделаешь? Сил-то не хватает высвободить шапку.
Идет на поклон к деду.
— Ослобони малахай, Трохимыч! Сделай милость!
А дед усмехается в свои рыжие усы.
— Четверть самогонки поставите — ослобоню.
Несут ему четверть. Гуляет дед с такой же босотой, как сам. А обидчику порка дома.
Раз сыновья Поляка, уже подростки, поехали за снопами. Дед сидит возле хаты, дымит самокруткой. Подбегает на коне сосед.
— Диду, там сыны твои застряли в яру.
Дед тут же — палку в руку и подался на яр. Это верст семь с гаком. У самой чугунки, туда аж за Шпиль. А там, по-над яром, тучки бродили, видно было — добрый дождик опускался. Эх, не управились сыны до дождя.
Бежит и думу думает: «Боже мой, кобыляка задушится — соберу капиталу да ще куплю. Гарба сломается — ще зроблю. Да не дай же бог шо с хлопцами…»
Сынов растил дед в одиночку. Жинка, покойная Марфа Захаровна, лишь народила их да и попрощалась со всеми. Тиф скосил ее. Андрей Трофимович оставался вдовцом. Не нашел другой такой, как Марфа Захаровна. И вставала ранесенько, и за детворой приглядала. Хоть ели не всегда досыта, так ходили в чистоте. Сама шить выучилась, чтоб ребят водить опрятно. И не только своих — соседских обшивала. Труженица была. Шьет, бывало, пальтишко или кофтенку, так сто раз напялит на деревянную статую (как-то она мудрено ее называла) и уж оглядит кругом, подровняет да подошьет. Надо же, чтоб одежка сидела хорошо на человеке. Все соседи добрым словом поминали покойную… Где же сыщешь еще такую? Нет такой. Сподручней одному.
Встанет, бывало, дед утром, подойдет к статуе. А та статуя наряжена дедом в Марфино платье и фартук, повязана ее платком.
— Ты б, Марфуша, — скажет, — в хате подмела.
Молчит Марфа.
— Ну, да ладно, я сам, — скажет дед Поляк и возьмется за веник.
— Ты б, женушка, хлопцам завтрак сготовила…
Нет ответа.
— Ну, да я сам.
Дед закатывает рукава рубашки и становится к печи.
— Ты б, родная, детворе простынки простирала… Тоже не можешь? Ну, я сам!..
И так не один день, не один месяц, не один год. Менял дед одежду на статуе, а заботы не менялись, только все больше становилось их. И не знаешь, откуда придет новая. Вот вроде бы все, как должно быть. Так на ж тебе — вдруг беда с хлопцами?..
Ног не чует под собой — бежит дед на яр. Издали еще завидел — у криницы стоит арба. Ясно. Из криницы ручьишка вытекает. В непогоду преграда на дороге.
Подбегает. Пот со лба рукавом. Вздыхает облегченно. Колеса арбы по ступицу в грязи. И кобыла в грязюке выше колен. Но сыны, слава богу, живы-здоровы. Один дергает за вожжи и машет батогом над взмокшей кобылой. Двое других сзади подмогают. Арба же со снопами до неба — добрый воз наложили хлопцы! — ни с места.
Дед Поляк взял у сына вожжи.
— А ну, ступай и ты, сынок, назад. Подсоби.
И так ласково к кобыленке:
— Ну, голубушка! Ну, ще разочек. Эх, сестра, не те силы. Да? Ну, ладно-ладно. Не будем тебя мучить.
Дед выпряг кобылу. Она отошла в сторону, понурилась. Взглянул на ее спину — следов батога нет. Молодцы — не били скотиняку. Разве тут битьем поможешь, коли сил не хватает? Молодцы — жалели животину.
— Ну, отдохни, родимая. Отдохни, голуба.
Дед перевязал вожжами оглобли. Снял с себя рубаху. Ветер загулял во взмокших волосах на широченной груди.
Впрягся дед в арбу.
— Ну, хлопчики, подсобить батьку!
Сыны все трое уперлись сзади в арбу. А дед перекрестился и потянул. Напрягся весь, то вправо подал, то чуть влево. Сдвинул с места.
И запел:
Зять на теще Капусту возив, Молоду жену В пристежке водив…Пошла арба. Пошла!
Дед вывез ее аж на взгорье. Кобыла топала следом.
Дед остановился, вышел из упряжки. Вытер ладонью пот на лбу. Подошел к кобыле и погладил ее по храпу.
— Бедняга. Куда ж тут тебе вытянуть, як сам я насилу вытянул!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Раскулаченный, дед Поляк умер от голода и холода по дороге в Сибирь.
1980
БАБУШКА ЩИПИЙКА
Родных бабушек своих не застал я на земле. А бабушка Щипийка (не знаю, откуда у нее пошло такое прозвище) была в моем детстве каждый день, до тех самых пор, пока меня, семилетнего, не увезли жить в город.
Когда я появился на свет, бабушке Щипийке по метрикам было за восемьдесят. Она жила одна, но ни в чьей помощи не нуждалась. Во всяком случае, так казалось всем. Она сама копала свой огород, сама сажала на нем картошку, кукурузу и подсолнухи. Перед окнами на улицу у нее росли мальвы.
Бабушка никогда не жила только своими заботами. Она всегда кому-нибудь из соседей в чем-то помогала. Один просил ее понянчить дите, другой — проводить корову в череду, третий — встретить телку из череды…
Меня бабушка почему-то звала Шведой. Когда я убегал с хлопцами из дому и мать, сбившись с ног, искала и не находила меня, бабушка Щипийка помогала ей в поисках и приговаривала:
— От Шведа!.. Куда ж вин залывся?..
Под ее призором я был долгие летние дни, когда мать с зари до зари работала на колхозных полях. То в сад ко мне придет и принесет вкуснейший окраец хлеба, то позовет к себе в сад и предложит грушу-дулю — вот такенную, с кулак; у нас тоже были груши, но ее почему-то казались вкуснее. Но самое что ни на есть вкусное было у нее — это тюря. В глиняную чашку наливала она родниковой — из яру — воды, клала туда ложки три сахару-песку и крошила хлеба. Ах, какая же это была вкуснота!..
Когда мы с матерью сажали огород, мать копала лунки, а я бросал в них картошки, обычно перерезанные надвое, — чтобы можно было больше посадить. Мать наказывала класть картошку порезом к земле, — ростку тогда легче всходить. Это значит, надо было нагибаться над каждой лункой. И хотелось бросить все и сбежать куда-нибудь с ребятами. Бывало, я изводил мать нытьем: «Ну, скоро ли кончим?.. Скоро ли, мама?..»
И тут-то появлялась у плетня, разделяющего наши огороды, бабушка Щипийка.
Она тотчас замечала мое нетерпение и нерадивость и заговаривала с матерью. И было смешно, как она, к кому бы ни обращалась, не называла сразу точное имя.
— Машко, Пашко, тьфу, Гашко… Ну, хай ему грець, Грунько! А знаешь, у тэбэ така гарна картошка будэ!
— Дай-то бог, бабусю, — отвечает мать. — А чего вы так решили?
— Та як це чего? Хиба ж ты не знаешь? Ото коли сажае картошку дытына, да ще, знаешь, ото старается получше положить ее в лунку, — о-о, тоди картошка уродится така, шо один кущ выкопаешь и — целое ведро. От як!
Мать разгибается с трудом — болит поясница: и в колхозе с утра до вечера, и дома останется на какой день, так забот хватает, — и улыбается бабушке. А та добавит:
— Ты бачишь, по всей улице ни одного хлопца, ни одной дивчины немае на огороде. А твой Шведа помогае. От молодец! Будете с картошкой!..
И незаметно уйдет.
А уж я стараюсь. Стараюсь вовсю. Мать поглядывает на меня повлажневшими глазами. Бабушке скажет вослед:
— Спасибо, бабусю, за доброе слово.
Бабушка спасла жизнь деду моему Якову Ивановичу. Дело в том, что старшие сыны его — дядя Миша и дядя Ваня — в гражданскую войну командовали красными бронепоездами. Об этом, конечно, все знали. Сыны не раз заявлялись на побывку домой. И когда село заняли белые казаки, кто-то понаушничал. Осатанелый казак влетел в дедову хату, дед сидел за швейной машиной — он всю жизнь портняжил. Казак выволок его за бороду во двор.
— Где твои выродки, красная сволочь? — орал он.
Дед, бледный, поднялся на ноги и спокойно ответил, держа в руке иголку с черной ниткой:
— Не знаю. Мабуть, там, дэ им надобно буть.
Казак занес над дедовой головой шашку.
И тут бог знает откуда под казачью шашку ринулась бабушка Щипийка. На руках у нее был самый младший из дедовского семейства — дядько Леонид. Рядом бухнулись на колени перед казаком — тоже тогда еще девчушки — тетка Маруська и тетка Анька.
— Кого ж ты рубаешь? — закричала бабушка. — Ты бачишь, у ёго их двенадцать душ? Тоди ж и их рубай, сук-кин ты сын!..
Она подняла ревущего дядьку Леонида под самую шашку.
И дрогнул казак. Швырнул шашку в ножны. Выругался остервенело.
— Ну, с-старый, молись за нее! — Он метнул на бабушку жгучий взгляд и — пулей со двора.
Заводилой была бабушка Щипийка в колхозе. Случись надобность коровник побелить или амбары прибрать под новое зерно, бригадир шел к бабушке. Она пробегала по улице, и все бабы, побросав домашнюю работу, сходились управить колхозную нужду.
Чуть умаются, бабушка вынет откуда-то большой — от прялки — гребень, возьмет его в руки, как балалайку, и зальется:
Сыдыть баба в курени Та й считав трудодни. Ой, гоп-трудодень — Заробыла кило в день!И бригадир, бывало, хохочет. И бабы хохочут до коликов. А она уже выдает новую частушку, тут же по ходу составляя ее:
Ой, гоп-трудодень — Заробыла кило в день. Хоть и хлиба не дадуть, Так у табель заведуть!Бригадир утирает от смеха слезы. Бабы, как-то помолодев на глазах, орут:
— Так их, бабусю! Крой им правдочку!
А она в ответ:
Погуляю по Шпилю[4] — Та нови песни стулю. От тоди — хай люди ждуть! — Вже ж да шо-нибудь дадуть!Валится со смеху бригада. А бабушка мечется с гребнем, тоже помолодевшая и неугомонная.
Помню еще рассказ матери о ней.
Муж у бабушки Щипийки был пьяница. Пил каждый день. И каждый день, придя домой, бил ее. Бил страшно. Она вечно ходила в синяках. А он изобьет ее, упадет на кровать, не раздеваясь, и — как мертвый. Она, молча перенося побои, и сапоги с него снимет, и разденет его, и уложит. Чтоб завтра снова быть битой.
Рожала она двадцать два раза. Семнадцать детей умерло друг за другом, сразу после родов. Куда там им было жить, когда муж отбивал все нутро. И только пятеро сынов выжило. Были они надежей ее и опорой. Светом были сыны в ее оконце.
А с мужем жизнь продолжалась прежняя. Как придет домой — так битье.
С отчаяния она и утопиться хотела, и повеситься. Не вышло. Бог, говорила она, не допустил. Как сама рассказывала, только, распатланная, в разорванном платье, побежала однажды к ставку за садом, только перекрестилась, чтоб прыгнуть в воду, да ка-ак поскользнется, как трахнется затылком об землю. Лежит навзничь недвижная и думает. Куда ж ей прыгать? Сынов-то на кого оставит, дура?..
В другой раз вырвалась из пьяных мужниных ручищ, схватила бельевую веревку да в сад. Подбежала к первой же яблоне, накинула веревку на ветку, петлю — на шею. Да только повисла, а ветка возьми и обломись…
«Нет, не судьба мне наложить на себя руки, — порешила бабушка. — Богу не угодно».
И она долго еще терпела мужнино битье. Но раз, когда Дмитро Федорович пришел пьяный и двинулся на нее с кулаками, она, сама себя не помня, бросилась ему навстречу.
— Да будь же ты проклятый! Шоб ты пропав! — закричала она и толкнула мужа тоненькими своими руками в грудь, но так, что муж не удержался на пьяных ногах, упал на решетку кровати, охнул, обмяк и свалился на доливку. Середь ночи кое-как взобрался на постель.
На другой день он не встал. Не встал и еще через день. Не встал и через неделю.
«Господи, да шо ж я ему наделала? — казнилась бабушка. — Да кого ж я проклинала? Ще ж вин из-за мэнэ занедужив».
А Дмитро Федорович смиренно лежал на кровати. Лежал за долгие годы спокойный и трезвый. Бабушка ходила за ним, как за дитем малым. А как пришел день умирать Дмитру Федоровичу, бабушка упала перед ним на колени:
— Просты мэнэ… Просты, Дмитро Федорович. Може, я виновата в твоей смерти.
И она поведала, ему, как ругала его, как желала ему погибели.
Дмитро Федорович глянул на нее сквозь слезы и сказал:
— Просты ж и ты мэнэ, Марья. Обижав я тэбэ. Та як обижав…
Бабушка пережила мужа лет на тридцать пять — сорок. Растила сынов. Они оперялись и улетали куда-то в город на заработки. Погостевать к матери заявлялись редко. И редко приносила ей почтальонша треугольнички их писем.
Умерла бабушка Щипийка 22 июня 1941 года — в день своего девяностолетия. Порой я невольно думаю, что умерла она вот почему. За свой долгий век бабушка Щипийка пережила шесть войн: две с турками, одну с японцами, и первую мировую, и гражданскую, и финскую… Похоронки на четырех сынов вместе с их пожелтевшими письмами хранились у бабушки за иконой. 22 июня, как известно, начиналась новая война, седьмая в ее жизни. И эту, седьмую, она переживать не захотела.
Пришла с огорода домой. Посидела на крыльце. Пообедала. Положила на деревянный диван подушку, прилегла вроде бы отдохнуть и больше не встала.
Хоронила ее вся наша Садовая улица. Только сын не приехал на похороны. Наверное, некогда было.
1980
АХ, ПОЧЕМУ Я НЕ ЛЮБИЛ ЯБЛОК!..
Она уже подрумянивала щеки и красила губы, Тося Турочкина. Она уже выщипывала брови, тогда это было модно. Черненькой ниткой повисали они над ее грустными карими глазами. Хотелось сказать ей, что она напрасно выщипывает их. Брови становились чужими на ее красивом, как мне казалось, лице. Но сказать так я не мог. Я не отваживался говорить с ней.
Тогда, за год до окончания войны, я учился в седьмом классе. Тосю видел второе лето, приезжая из города в родное село к родичам. Я молча, чаще издали, любовался ею и боялся, что она догадается об этом.
Тося тоже гостила у тетки. В то лето закончила десятый класс и собиралась в вуз. С деревенскими ребятами она была одинаково обходительной и приветливой. Обычно она неслышно шла рядом с кем-нибудь из них. Шла, замедляя шаги. Казалось, вот-вот остановится, выдернет руку из-под мальчишеского локтя и уйдет. Но такого не случалось. Тося не останавливалась. Ребята по очереди водили ее в кино, в лес, на пруд. Потом рассказывали друг другу о прогулках с нею.
Но в то лето из райцентра стал наезжать приятель моего брата Николай Скрынник, высокий плечистый белобрысый парень в черном костюме военного покроя, с ореховой палкой. Он был ранен в ногу и не так давно приехал из госпиталя домой на поправку.
Тося сразу же оставила сельских ребят и открыто, никого не стесняясь, гуляла с Николаем. Я втайне завидовал ему, жалел, что не воевал, и терзался ревностью. Особенно когда как-то среди дня увидел их в колхозном саду за копной сена. Они лежали под яблоней. Рукой с крохотным, сверкающим на солнце перстеньком Тося касалась его шрама на левой щеке. Шрам походил на фасолевый стручок.
Я прошел близко от них, но они не заметили меня.
Дом ее тетки был рядом с домом моей двоюродной сестры Нюры. Когда я ночевал у сестры, я почти каждый раз по утрам встречал Тосю. При встрече она кивала мне и гордо проносила мимо свою высокую прическу, которая делала ее, низенькую, немного выше.
В памятный день Нюра попросила меня спеть под гитару для ее гостей. Я было отказался. Но, увидев, что пришла и Тося, решил петь. Нюрины приятели расселись на крыльце, на траве посредине двора. Тося присела на бревне у забора, облокотилась на колени, уткнулась в свои кулачки подбородком и сидела маленькая, несмотря на взрослую прическу.
Настроив гитару, я отважился на смелый поступок. Я стал петь романсы, которые, на мой взгляд, должны были сказать ей при всех все — и то, что она нравится мне, и то, что я хочу видеть ее, что слежу за ней.
Я одинок, и ты проходишь мимо, Не мне даришь лобзанья, нежный смех, О, знала б ты, что мною так любима И без тебя мне в жизни нет утех…Я пел и смотрел на нее. Она сидела, опустив глаза.
Неожиданно в воротах показался Николай. Прихрамывая, он прошел во двор, не заметив ее. Тося тут же окликнула его, поднялась, оправила юбку и чуть не подбежала к нему, обнажая в улыбке мелкие зубы.
Николай остановился. Тося взяла его под руку и, боком подавшись вперед, заглядывая ему в лицо, повела Николая к теткиному дому.
У меня упало сердце. Значит, они условились встретиться здесь. А я-то думал, она приходила послушать меня. Да она и не слушала вовсе. Она думала о кем, ожидала его. Недаром она так бросилась к нему.
Обидно стало до слез. Я не мог больше петь. Расстроенно звучала гитара. Я хотел ее настроить и порвал струну. Нюрины приятели разошлись. Нюра хитренько усмехалась.
— Шо-то ты, братик, невеселый какой-то сегодня…
А потом серьезно сказала:
— Хромой черт приперся. Опять смотается, а она будет мучиться.
Сестра еще что-то говорила, но я не слышал ее.
Вечером я играл танцы в клубе. Под клуб был оборудован сарай на бывшей усадьбе помещика Филиппова. Раздобыли керосина для двух десятилинейных ламп. Земляной пол побрызгали водой, чтоб не поднималась пыль. Нюра у кого-то выпросила трофейный немецкий аккордеон.
В полутьме было довольно уютно. Я стоял в углу, вблизи одной из ламп, и играл. Танцевали одни девчата, парней было человек пять-шесть, из тех, кто выглядел повзрослее. Заказывали танго, вальсы, польки.
Я ожидал Тосю и Николая, но они не появлялись.
Но вот взглянул на дверь и увидел Тосю. Она прислонилась к дверному косяку, скрестила на груди руки и стояла так, как будто была одна, как будто в клубе — ни танцев, ни смеха, ни музыки. Девчата приглашали ее в круг, но она отрицательно качала головой.
В паузе между танцами ко мне подошла Нюра:
— Я ж говорила! Тоже женишок!.. Прикатил и укатил. А она, дура, сохнет. Замуж за него хочет!..
У меня шевельнулось чувство злорадства. «Вот он, твой Скрынник!..»
Я заиграл танго «Мне бесконечно жаль…». Нюра направилась к Тосе пригласить ее на танец, но Тося отказалась, и они обе вышли из клуба.
Минут через пять Нюра вернулась одна.
— Проводи после танцев Тосю. Ладно? Она будет ждать тебя у клуба.
— Ладно, — с готовностью ответил я; недоброе мое чувство вмиг исчезло. — Как раз я иду ночевать к вам.
Сославшись на усталость, я вскоре сыграл прощальный вальс. Молодежь потянулась к выходу. Нюра забрала у меня аккордеон и ушла с каким-то парнем.
Я вышел из клуба. Высоко светила полная луна. Где-то пели девчата. Эхо раскатывалось по яру, залитому мглистым лунным светом.
Тося ждала меня у акации возле палисадника. Я подошел к пей. Она взяла меня под руку.
— Какой ты высокий! — сказала она и припала к плечу. — И хорошо. Не люблю маленьких мужчин.
Мы шли через площадь к Садовой улице. Я молчал. Я был как во сне. Не верилось, что вот так могу идти с ней и чувствовать ее рядом.
— Скажи… — Тося замедлила шаг. — Скажи, днем ты для меня пел? Правда же?
Значит, она все поняла! Все-все!
— Да, — сказал я. У меня загорелись щеки.
Тося крепко сжала мой локоть.
Мы поравнялись с домом ее тетки. Я остановился, думая, что Тося сразу пойдет домой. Она потянула меня дальше, ко двору сестры. Мы вошли во двор и сели на крыльце.
Луна светила нам в лица. Тося натянула на колени платье, обхватила их руками и прижалась ко мне плечом. Я боялся пошевелиться. Казалось, стоит мне сделать одно лишь движение, и она мгновенно исчезнет.
«Где же твой Николай?» — хотелось спросить у нее.
Она шепотом сказала:
— Пойдем в сад…
Я молчал. Тося поспешила добавить:
— Пойдем…
И еще через паузу:
— …Нарвем яблок…
— А я их не люблю, — ответил я тотчас. — Меня тошнит от них почему-то.
— Да? — прошептала она, отклоняясь от меня, и в шепоте ее я уловил что-то непонятное — не то недоумение, не то усмешку. — А может, пойдем?..
— Нет, правда, — сказал я по-дурацки простодушно, — я не ем яблок.
— Жаль, — громко сказала Тося, резко поднялась и, не оглядываясь, пошла к теткиному дому.
На другой день мне стыдно было увидеться с Тосей. Я чувствовал себя наивно-глупым мальчишкой. За обедом Нюра удрученно сказала:
— Знаешь, Тоська уехала. Ни с того ни с сего чуть свет собралась и укатила.
Мне вдруг щемяще ясно стало, в каком она была состоянии.
Прошло много лет. Я узнал, что Скрынник на Тосе так и не женился. Теперь я еще острее, до боли представил, что творилось в ее душе в тот вечер.
Ах, почему я не любил яблок!..
1980
ЧЕРЕЗ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ
Та памятная командировка в Воронеж сложилась на редкость хорошо. К обеду первого же дня я справился с делами. Оставалось еще свободных двое суток, и я решил проведать родителей, — они жили тогда в Россоши, это километров двести пятьдесят южнее Воронежа. Руководство издательства, в котором я работал, согласилось на мою поездку, и я тут же отправился на вокзал, чтобы уехать с первым попутным поездом; по дороге на вокзал накупил гостинцев.
Был жаркий июльский день. На вокзале, как всегда, стояла толкотня. Билетов на проходящий поезд еще не давали. Я облюбовал у билетных касс очередь поменьше и стал в нее. Стоять в душном зале было трудно, и время от времени я выходил на перрон глотнуть свежего воздуха. Постепенно мысли освобождались от издательских дел, и я начал думать о встрече со стариками.
Когда-то, в студенческую пору, я приезжал домой дважды в год, летом — на целых два месяца; потом, уже работая, стал бывать раз в году — по месяцу; теперь забегаю на два-три дня, в лучшем случае — на неделю: отпуск норовишь провести в санатории, где-нибудь на юге, — появилась необходимость что-то подлечивать.
Вспоминая последние приезды, я обнаружил, что чаще всего приезжал домой ночью. В темноте нетерпеливо шел с вокзала, почти бежал по родной Кооперативной улице. Издалека различал среди акаций очертания самой низкой в уличном ряду нашей хаты, стёкла оконца, поблескивающие в свете железнодорожных прожекторов. Когда я еще жил дома, оконце у крыльца под камышовой стрехой всегда по ночам горело, как бы поздно ни возвращался я со школьных собраний, с танцев в городском парке, с гулянок. Бывало, никогда не ляжет мама спать до моего прихода.
В дни неожиданных приездов оконце лишь поблескивало стеклами. Я тихонько стучал в него. Рудик, от стука проснувшись в будке под абрикосом, начинал лаять. В оконце на секунду отодвигалась занавеска, мелькало бледное спросонья лицо мамы и тут же слышалось: «Ой, сынок прыихав!..»
Еще через минуту она, такая маленькая, ссутулившаяся, простоволосая, прижималась в сенцах ко мне. Я чувствовал ее тепло и запах, которые отличу на всей земле. Мы входили в хату. Мама немедленно будила отца. И — боже мой! — как мне было хорошо!..
Глухая полночь, а на столе появлялись и поджаренная, залитая яичками картошка, по которой я так соскучился в казенных столовых, и соленые хрустящие огурчики, и откуда-то из-за шкафа отец, быстро одевшийся, доставал припрятанную на такой случай бутылку.
Мама — как челнок между печкой и столом. И говорит, говорит. Конечно, раз давно не присылал писем, она предполагала, что скоро заявлюсь. И сон ей вчера приснился: кто-то бил ее — верная примета, что кто-то прибьется в дом, — кто ж, как не сын? И сегодня с самого утра она сгадывала меня…
И вот мы сидим, пиршествуем. Мать и отец влюбленно рассматривают меня, и я всем сердцем чувствую их любовь, и сам люблю их больше, чем когда бы то ни было… Даже мама пригубит шампанского (я захватил из Воронежа), и начинается разговор о всяческих новостях: кто приехал или приезжал, кто заходил к нам или не зашел, кто из ребят еще здесь, кто умер, кого судили за хулиганство. И непременно она скажет, что такой-то из моих товарищей женился, у такого-то родилась дочка, а такой-то приехал к отцу с двумя сынами. Это звучит мне укором за мою изрядно затянувшуюся холостяцкую жизнь. Пытаюсь отшучиваться. Целую маму в ее влажные глаза.
— Да хоть бы ж дожить до внучат, — почти с мольбой говорит она.
Стоя у кассы, я уже не видел очереди, не слышал вокзального гула. Перед глазами встали старики, в ушах звучали их голоса…
Попутного поезда все не было. Солнце начало заметно снижаться. По-видимому, и на этот раз приеду поздно, подумал я.
Наконец начали давать билеты. Очередь сбилась. Люди сгрудились у кассового окна. Однако покупка билетов шла более-менее спокойно. Я был уже близок к кассе, когда меня сбоку кто-то больно толкнул и резко отодвинул назад. Я повернулся и за плечом увидел молодую женщину. Она вовсю работала локтями, пробиваясь к кассе. Очередь опешила, смутилась. А она вмиг протиснулась вперед, протянула полную, в редких веснушках руку в окно и сипло выдохнула:
— Один до Колодезного!
Потом эта рука с билетом проплыла над нашими головами. Женщина раздвинула сомкнувшихся было вокруг нее людей и вынесла себя из толпы. Под нажимом сзади я очутился на ее месте, у самой кассы. Очередь галдела вслед женщине. Уже выбравшись из очереди, я слышал, как ее запоздало ругали:
— Во дизель!
— Молоде-ожь пошла! Такая из горла вырвет!..
— Уже вырвала. Вишь, разъелась!..
Женщина как ни в чем не бывало пересекла кассовый зал, остановилась у выхода на перрон и, поднося билет близко к глазам и закинув голову, рассматривала на свет компостер. Близорукая, отметил я машинально и подумал: где-то я видел ее.
Я тоже взглянул на билет — в какой садиться вагон. Поднял глаза. Женщины на перроне не было. Она затерялась в вокзальной суете. Я спустился в тоннель и вышел на третью платформу.
Вскоре подкатил поезд. Одиннадцатый вагон, в который я должен был садиться, оказался недалеко от меня. Когда я подошел к вагону, вдоль него уже выстроилась цепочка отъезжающих. Они ожидали, пока выйдут пассажиры, приехавшие в Воронеж. Каково было мое удивление, когда я в стороне снова увидел ту женщину. Она стояла в тени у вагона, обмахивала себя помятым носовым платком и одергивала прилипающее к влажному телу платье с непонятными цветами по подолу. У ног ее, полных и высоко обнаженных, были авоськи, набитые всевозможными свертками. Короткая стрижка делала ее голову маленькой в сравнении с крупной фигурой.
В женщине еще видна была недавняя девичья красота, но она уже уступала ранней полноте и какому-то, как мне показалось, безразличию к себе.
Я подошел ближе. Она беспокойно повернулась ко мне и, прищурившись, остановила свой взгляд.
И я вспомнил!.. Вспомнил зиму пятидесятого года, студенческие каникулы. Сколько же прошло с тех пор? Сейчас шестьдесят пятый… Боже, пятнадцать лет!
Будучи студентом Литературного института, ехал я домой на первые зимние каникулы. В вагоне, через купе от меня, ехала красивая девушка. Тоже студентка — из пушно-мехового. Высокая. Тонкая. С длинной косой. С мохнатыми близорукими глазами. Конечно же всю дорогу я был возле нее. Мы не спали всю ночь. Без умолку говорили. Я рассказывал ей об институте, читал бездну стихов, пел песни. Она все слушала меня, просила рассказывать еще и еще. Я ловил каждое ее движение. Я был в восторге от нее. Я ошалел от темных ее, мохнатых глаз, от ее пушистой длинной косы. Звали студентку Алисой.
Она ехала в Острогожск, там жили отец и мать. В Лисках — теперь эта станция называется Георгиу-Деж — ей предстояла пересадка. Наш поезд стоял долго, с полчаса. Я помог ей донести чемодан до рабочего поезда на Острогожск, — он стоял за вокзалом. Посадил в вагон. Алиса дала мне свой домашний адрес, и мы простились.
Возвращаясь с каникул, я неожиданно для самого себя в поезде написал стихотворение. Вспомнилось, как мы ехали вместе из Москвы; лишь намеком говорил о своих чувствах.
Сегодня вновь проехал Лиски В пути обратном, до Москвы. Со мною — никого из близких, И, может, потому, что вы — Далеко также, — неизвестно, Но на меня напала грусть, И я один в вагоне тесном Пою студенческие песни, Стихи читаю наизусть…Помнит ли она меня? Узнала ли?
Я подождал, пока Алиса поднялась в вагон, и вошел за ней. Алиса присела на первое же свободное место, поближе к выходу, авоськи пристроила за спиной и все обмахивала себя платком.
Я сел напротив. Поставил портфель на колени и в упор посмотрел на нее. Да, она очень изменилась. Кажется, только глаза оставались прежними. Но в них было то, чего не было в ту далекую встречу, что трудно было определить и теперь.
— Простите, — сказал я. — Вы меня не узнаете?
Алиса прижмурилась, как бы закрываясь.
— Еще… в вокзале узнала, — ответила она, споткнувшись на слове «вокзале», и покраснела. — Но я так спешила… Думала, стоит уж поезд…
— А я узнал вас у вагона. Далеко едете?
— До Колодезного. К матери. Я в отпуске.
— А ведь родители жили в Острогожске.
— Давно переехали, — устало сказала она. — Отца перевели работать туда. А где вы? Чем занимаетесь?
Я бегло поведал о работе в газете после института, в издательстве. Сказал, что часто вспоминал нашу встречу, что мне хотелось увидеться и после каникул, в Москве. Это было нетрудно сделать — стоило только пойти в ее институт. Но меня что-то останавливало. Я так и не собрался. А на улицах, в магазинах, в театрах — во многих девушках чудилась она, — то лицом они походили на нее, то походкой, то чья-то коса напоминала ее косу.
— После каникул я посылал вам стихи. На домашний адрес.
— Да, спасибо. Мама мне переслала.
— Я могу подарить вам книжку. Недавно вышла. Там они…
Я раскрыл портфель, достал сборник, авторучку, чтобы сделать надпись.
— Не надо ничего писать, — торопливо сказала она. — У меня… такой муж… И свекруха завидит…
Я отдал сборник. Она полистала его, нашла те стихи. Прочитала, шевеля губами. Потом долго смотрела в окно.
Я попросил Алису рассказать о себе.
— Нечего говорить, — ответила она, вздыхая. — Живу с одним… — она так и не сказала, с кем или с каким. — Прижили мальчишку, во второй класс ходит. Работаю секретарь-машинисткой у одного исполкомовского начальника отдела. В Краснодаре. Вот и все.
— Значит, у вас что-то не задалось в жизни? — спросил я.
— Да, живу, как в сказке. Знаете, есть такой анекдот? Муж — Иван-дурак, свекровь — баба-яга, свекор — Кащей Бессмертный…
— Понятно, — прервал я ее. — Там есть еще Елена Прекрасная и Иван-царевич.
Алиса помолчала, листая книжку.
О чем она думала? О той далекой прекрасной ночи в пути? Или о том, что надо бы встретиться тогда еще? И — кто знает? — может быть, у нее по-другому сложилась бы жизнь? И у меня тоже?
Во мне шевельнулось чувство вины и перед Алисой, и перед собой, и перед неведомым для меня ее мужем, который, наверное, тоже несчастлив, и перед незнакомыми мне их родителями, которые переживают неудачи своих детей… Может быть, и правда, у всех нас могло все сложиться по-иному, и все зависело от нашей встречи в Москве…
— В Краснодар не ездите? — спросила она. — Увиделись бы. Я скажу, как меня найти.
Алиса продиктовала адрес и какую-то странную фамилию.
— Это фамилия подруги, — тут же пояснила она. — Сразу же звякнет…
— А почему вы работаете не по своей специальности?
— А что она дает? — ответила Алиса вопросом.
Мы снова помолчали.
— Какая у вас семья? — спросила она.
— Я пока один.
— Оди-ин? — удивилась Алиса. — Что так?
— Да вот так… Один. Еду навестить стариков.
— Вот и я к своим. Кой-чего везу из Воронежа, — она оживилась, будто обрадовалась, что разговор перешел на иной путь. — Расскажу маме о нашей встрече. Опять в поезде…
В Колодезном я помог ей выйти.
— Слишком быстро доехала… — с грустью сказала Алиса.
Поезд трогался, едва остановившись. Я шагнул к Алисе, поцеловал ее в глаза и ощутил соль на губах.
Вскочив на ступеньки, оглянулся. Она стояла недвижно, опустив руки с авоськами.
— Загорюнилась девка-то, — сказала проводница, закрывая дверь тамбура. — Точно потеряла что-то.
Я не ответил. Не хотелось говорить.
Не рассказал я о встрече и дома, хотя мама, как всегда, не удержалась от разговора о женитьбе. Я подумал, как дорожный анекдот о сказочной жизни мог коснуться и меня, и моих стариков, какими бы стали эти мои редкие неожиданные приезды к ним, и промолчал.
А спустя несколько лет, уже работая в Москве, попал я в Краснодар. И не знаю, как получилось, то ли командировочные дела закружили, то ли еще что, но я вспомнил об Алисе, об адресе, который она мне давала, только по возвращении домой. И вспомнив, увидел ее — ту, далекую, еще ничего не потерявшую от молодости.
Что с нами делают годы!..
1980
ОСЕННИЕ РАДОСТИ
Этого они ждут оба. Но вот в один из сентябрьских дней она, скажем, уже не в силах ждать, звонит и спрашивает:
— Когда?
Он отвечает:
— В эту пятницу. Возможно?
— Хорошо. Где и во сколько?
— К шести на Киевском. У пригородных касс.
В пятницу, без двадцати шесть вечера, он подъезжает на такси к пригородным кассам Киевского вокзала, идет к цветочному базару. Берет ее любимые астры и бережно укладывает в портфель. Там лежат купленные заранее легкое вино, колбаса, российский (ее любимый) сыр, рижский (тоже ее любимый) хлеб, шоколадки и конфеты «А ну-ка, отними!».
Она появляется без десяти. Она всегда приходит вовремя. Если бы и жена приходила так же! Боже, сколько он потерял бесконечных часов на ожидание ее!
Она выходит из метро в потоке людей. Но он сразу видит ее. Она ничуть не изменилась за месяц. Она по-прежнему как девочка. Высокая, тоненькая, с короткой стрижкой; белый плащ все тот же; все тот же розовый шарфик небрежно свисает с плеча. Очки новые, модные — с большими окулярами. Ему такие не нравятся, но ей они идут. Кто мог бы сказать, что у нее двое детей, сын почти взрослый?
Его она тоже замечает сразу, вернее его седую и потому, как она считает, красивую голову. «Мой князь Серебряный!..» — говорит она про себя и чувствует свои слабеющие от волнения руки. Она привстает на цыпочки и целует его в щеку.
«Девчонка… Современная девчонка — не стесняется поцеловать при всем честном народе», — думает он с восхищением. Берет у нее сумку, берет ее под руку, и они поднимаются на перрон.
«Боже мой, — думает она. — Ну, почему э т о г о никогда не делает муж? Почему э т о не приходит ему в голову?.. Ах ты, мой князь Серебряный!..»
Едва они всходят на платформу, подают их электричку. Он торопливо отдает ей сумку и портфель и вместе с толпой штурмует вагон. Очень хочется ему, чтоб она сидела.
Глядя, как он втискивается в толпу, как, улыбаясь, оглядывается на нее, она думает: «Он еще такой молодой!..»
В вагоне она садится к окну. Она любит сидеть у окна. Он садится напротив. Берет ее руки в свои и шепотом говорит:
— Ну, здравствуй!
— Здравствуй! — шепчет она.
Он достает из портфеля астры и протягивает ей. Она сияет, как всегда, когда он дарит ей цветы.
— Мы далеко? — спрашивает она.
— В Калугу, — говорит он.
Она бьет в ладоши.
— Я же давно-давно хотела в Калугу! Как ты узнал?
— Вот видишь, узнал.
— Да нет, в самом деле! — горячо шепчет она и касается рукой еще щеки.
Они молча глядят друг на друга. Они не глядят больше ни на кого. Они не замечают, что иногда на них смотрят. Она прижимает астры к груди, потом достает из сумки большое красное яблоко и дает ему. Он раскалывает его пальцем на колене и половину возвращает ей. Вынимает из портфеля конфеты.
— С яблоком хорошо! — шепчет он.
Они едят и молча смотрят друг на друга.
Смеркается. В вагоне зажигают свет. Она доедает яблоко, зажимает в руке косточку, прислоняет голову к стеклу окна и закрывает глаза. Она устала за день. Он знает это. Он берет у нее косточку, наклоняется и незаметно целует пахнущую яблоком ее ладонь. Она ею легко зажимает его щеки.
Вскоре она дремлет, покачиваясь в такт колес, слегка приоткрыв губы.
Он глядит на нее и хорошо думает о ней. Он не знает толком ее работу. Не расспрашивает о работе. Знает только, что эта хрупкая женщина бывает крепкой при решении участи людей. Он знает доброе ее сердце и знает ее справедливость в таких решениях. Он замечает новые морщинки на переносице и думает, что и сам становится все белее.
В Калуге их встречает Саша, старинный — еще с институтских времен — друг. За скуластое лицо Сашу звали Монголом. Монгол не стал инженером. Монгол — художник. И хороший художник. Его пейзажи не раз хвалили на выставках. Когда-то о Саше он ей рассказывал. Она вспоминает об этом при знакомстве у вагона.
Саша — с машиной. Их везут по ночному городу. Он кажется праздничным. Всюду огни, огни…
В гостинице заказано два номера. Пока она располагается в своем, он и Саша накрывают в его номере стол. Она приходит с астрами, когда на столе готовы бутерброды, порезаны помидоры (их приносит Саша), наломан шоколад.
Они выпивают за встречу. За знакомство.
Саша торопится уйти. Дескать, вы устали с дороги. Они не отпускают его. Им хорошо с Сашей. Он рассказывает о Калуге. Завтра они непременно посмотрят город.
Наконец Саша уходит. Они провожают друга до выхода из гостиницы. Возвращаются в его номер.
Он обнимает ее, касается щеками ее щек, целует.
— Ну, здравствуй!
— Здравствуй! — шепчет она и, закрыв глаза, прижимается к нему.
Утром он просыпается оттого, что чувствует на себе взгляд. Она приподнимается на локте и смотрит на него. Смотрит такая, как есть. Сейчас она только умоется и причешется. Ей не надо никаких красок. У нее все свое. Он любит ее и за это.
— Здравствуй! — шепчет она и щекочет ему ухо и шею своими упругими каштановыми волосами.
— Здравствуй! — отвечает он и целует ее волосы.
За завтраком в буфете они легко иронизируют друг над другом. Они много едят. И это, оказывается, смешно.
В одиннадцать звонит Саша. Через полчаса они встречаются с ним в вестибюле гостиницы. Саша возит их по городу. Потом они переезжают реку, поднимаются на гору и любуются осенним городом. Потом едут в музей-квартиру Циолковского. В музей вот-вот прибудут иностранные гости. Никого не пускают. Но Сашу знает директор музея. Саша говорит, что он тоже привез важного гостя, — Саша имеет в виду его, известного инженера и лауреата. Их проводят в музей, и они в восторге от музея. С радостью накупают открыток — для всех-всех, прежде всего для своих ребят.
Потом они едут в музей космонавтики. Потом наслаждаются видом лесных далей.
К двум часам Саша везет их к себе. По пути заезжают в магазины. В промтоварном покупают детям шкатулки и сборный корабль, в продуктовом — водки, сухого вина. И конфет. И еще чего-то.
Обед проходит весело и шумно. Она трещит без умолку. Помогает во всем Сашиной жене с таким рвением, как будто сто лет не была на кухне. Он с радостью отмечает, что Сашина жена и сам Саша восхищены ею, простотой ее и обаянием. Он гордится собой за это, хотя никому бы в этом не признался.
После обеда они едут куда-то за город. Останавливаются на крутом буром обрыве со старыми дуплистыми ветлами над рекой. Все долго и молча смотрят, как вода уносит падающие багряные листья. В Саше заговаривает художник.
— Вы бы мне попозировали, а? — просит он ее.
— Нет, Сашенька, извините. У меня не хватит терпения.
К вечеру они снова в городе. Прощаются с Сашей. Переполненная впечатлениями, она целует Сашу.
В номере она рассматривает шкатулку для своей младшенькой. Представляет, как та будет рада подарку. Как ляжет спать со шкатулкой. Как будет складывать в нее свои фантики — обертки от конфет и жевательной резинки.
— А вот это твоему художнику, — подает она ему фломастеры. — Саша сказал — очень хороши.
Он не заметил, когда она купила их. Он смотрит на нее с благодарностью за память о его сыне.
Ночью она срывается в плач. Срывается внезапно и рыдает навзрыд.
— Ну, пойми же, мне хорошо с тобой. Но почему т а к? Почему? Завтра же надо возвращаться в ложь, в расчет, в укоры, в холод. Не хочу! Не хочу-у-у! Кого мы обманываем? Не их. Себя! Себя-я!
Она вскакивает, откидывается к стене. Ему видны слезы на ее щеках.
— Мне хорошо, ты слышишь? — кричит она. — Не хочу уходить от тебя! Не хочу!
Он сжимает ей руки. Он молчит. Он может сказать ей то же самое.
— Боже мой, но Дашка любит его! И я не могу ее лишить любви! Почему т а к? Господи!..
Он обнимает ее. Постепенно она успокаивается.
— Ой, какая я дура! Я же счастлива, что люблю тебя! У других и э т о г о нет. А я счастлива! Счастлива! Пусть хоть т а к! Прости меня!..
Он может сказать ей то же самое.
Утром они расстаются с Калугой. Саша провожает их до вокзала.
В электричке едут притихшие и молчаливые.
— Слушай, я забыла у тебя астры, — говорит она грустно.
После паузы:
— Ну и пусть. Кого-то поселят. Может, он обрадуется? Правда?
Он молча смотрит на нее. Он хочет запомнить ее.
В Москве они прощаются в метро. Прощаются до следующего их праздника. Когда он будет — они не знают. Верят только, что будет.
1980
ЧИСТОЕ
Смотрю на часы — они, кажется, стоят. Поднимаю руку с ними к уху — тикают. Снова всматриваюсь в секундную стрелку. Она нервно бежит по циферблату. Это бежит время. Бежит моя жизнь. Бежит, ни на мгновение не останавливаясь.
Мысль об этом меня обжигает.
Сажусь за стол, успокаиваюсь и начинаю припоминать, все ли взял нужное в поездку. Вроде бы все. Продукты, водка, хлеб для Шуры… Да, чуть не забыл духи. Тоже для Шуры, флакончик «Красной Москвы». Нахожу его в столе и кладу в нагрудный карман пиджака. Теперь все.
До звонка Петра Федотовича семь минут. Черт возьми, забыл позвонить Володе Пешкову, чтоб он заказал предисловие к брошюре по садоводству. Затянул он что-то с предисловием. И Сашка Бобков тоже не сдает рукопись о добыче живицы. И сам я, шут меня знает, никак не сяду за статью, уже напоминал редактор.
Звонок в коридоре. Вот он, Петр Федотович! Бегу, открываю дверь. На пороге Вера Васильевна, соседка по квартире. Рыжий гномик с полной сумкой. Что это она вдруг звонит? Каждый из наших жильцов открывает сам.
— Простите, Михаил Петрович, но у меня ключ на дне сумки. Заложила свертками. А вы еще дома?
— А вы не дождетесь, когда я исчезну?
— Что вы? Просто… карасей захотелось.
Она выжимает из себя подобие смеха.
Только возвращаюсь к себе в комнату — снова звонок. На часах ровно четыре. Это уж точно Петр Федотович. Он, как всегда, приходит минута в минуту.
В двери Петр Федотович снимает фуражку, поправляет пятерней лохматые седые волосы. Через плечо — фотоаппарат. Тоже как всегда.
— Вы готовы, Михаил Петрович?
— Да, выхожу!
Из кухни выглядывает рыжий гномик. Ему непременно надо знать, кто пришел.
За рулем «Москвича» Глеб, сын Петра Федотовича. У него «Москвич» еще первого выпуска. Заваленный сумками, свертками, удочками, он уютен, как шкатулка.
Петр Федотович усаживается впереди, рядом с Глебом, я — на заднем сиденье, среди поклажи, и мы трогаемся.
Излюбленное место, куда чаще всего ездят отец и сын, — это озеро Чистое. С улицы Советской мы сразу же сворачиваем на Рассказовское шоссе, переезжаем мост через Цну и мчимся по асфальту. Едем молча, думая каждый о своем. Я все еще припоминаю день с его заботами. Как бы желая поскорее отвлечь меня от раздумий, к дороге поближе подступает лес. Прямо к шоссе выбегают березки, машут ветвями; сосны — высокие и прямые — заставляют поднимать глаза к небу. А небо чистое, предвещает хорошую погоду.
Глеб ездит спокойно. Такую езду любит Петр Федотович. Сам он все делает обстоятельно и не торопясь.
Справа меж стволов деревьев мелькают голубые постройки пионерского лагеря.
— А я ведь помню, — говорит Петр Федотович, — когда мы здесь охотились на глухарей. Дивные, знаете ли, были охоты!..
Он на секунду умолкает и уже совершенно другим голосом — в нем и сожаление, и вздох облегчения:
— Тогда я еще стрелял дичь… Да…
И снова надолго умолкает.
Чем дальше уезжаем мы от города, тем ощутимее свежесть воздуха.
Проехав километров пятнадцать, резко сворачиваем влево. Въезжаем в лес.
— Ты не ошибся в повороте? — спрашивает у Глеба отец. — Башню мы не миновали?
— Нет, папа. Все правильно.
Значит, Петр Федотович не следил за дорогой. Он думал о чем-то своем. Может быть, припоминал молодость? Было время, эти места он исходил пешком, с ружьем за плечами. Охотиться перестал после войны. Не мог…
Проезжая здесь, Петр Федотович невольно припоминает особенности каждого оврага, каждой поляны, березняка, ельника.
— Давай, Глеб, остановимся. Вблизи дороги тут было множество белого гриба.
Выходим из машины. Петр Федотович глубоко вздыхает и смотрит на меня. Каков, мол, воздух, а?
И правда, дышится легко и свободно.
Глеб открывает капот, охлаждает мотор. По песку все же ехать трудновато. Закипает вода в радиаторе.
Мы с Петром Федотовичем удаляемся в лес и расходимся.
— Только, пожалуйста, далеко не уходите, — советует он покровительственным тоном. Ему нравится так говорить со мной, хотя он всячески старается, чтобы этот тон его был незаметен, и я делаю вид, что не замечаю его. Я знаю доброе отношение ко мне Петра Федотовича, и тон его принимаю как заботу.
Мы гуляем с полчаса. Это так хорошо. Между сосен воздух суховат, улавливается настой хвои. А чуть к березам — пахнет грибами.
Распахиваю ворот рубашки, дышу всей грудью.
Возвращаюсь к машине. Глеб сидит на обочине и курит.
— Ты тут бы хоть не курил, — говорю ему.
— Вот тут-то и покурить! — улыбается Глеб. — Где же еще можно т а к?
Слышится потрескивание сучьев в глубине леса. Вскоре появляется Петр Федотович.
— Ну, грибов не нашли? — спрашивает он и по-детски нетерпеливо ждет — ждет отрицательного ответа.
— Нет, не нашел, — говорю я и тотчас улавливаю на лице Петра Федотовича удовольствие.
— А я нашел! — Он вынимает руки из-за спины и протягивает мне огромный белый гриб. Глаза его горят мальчишеским озорством. «Эх вы, молодые! Старик вам еще не то выдаст!..» — Нашел на прошлогоднем месте. Помнишь, Глеб, недалеко от того муравейника, под сосной? А сосна погибает, уже почернела…
Держу гриб. Нюхаю.
— Грибом и пахнет, — говорю смеясь.
— Пахнет роскошно! — восклицает довольный Петр Федотович. — Знаете, кажется, мне удалось хорошо сфотографировать муравейник. Освещение хорошее.
Дальше спускаемся к забытому кордону. Дорога песчаная. «Москвич» буксует. Раза три выходим из кабины и подталкиваем его. Глеб иногда съезжает с дороги и едет между деревьев.
На старом кордоне пустынно. Сиротливо стоят одичалые, посиневшие от старости бревенчатые избы.
— Тут восточней немного, — вспоминает Петр Федотович, — совершенно великолепный родник. И видно, как он бьет. Как пульс.
За кордоном начинается осинник. Становится сразу мрачнее — исчез свет белокорых берез.
— Приостанови на последнем повороте. Покажем чудо природы, — говорит Петр Федотович.
— А-а, — что-то припоминает Глеб, — это надо!
Я привык к сюрпризам Петра Федотовича. Он так знает лес, как, может быть, только одна Шура. Но к знанию должен быть еще и глаз. Надо уметь видеть.
Мы выходим у поворота к ельнику. Шагах в двадцати от дороги я сразу замечаю присевшего зайца — серый прижух и сидит. Замедляю шаг, поворачиваюсь к Петру Федотовичу, а он восхищенно глядит на меня.
— Увидели? Молодцом!
Мне лестна его похвала. И самому хорошо оттого, что увидел причуду природы. Заяц этот — старый осиновый пень. Природа так обработала его, что получился житель здешних лесов.
Петр Федотович щелкает фотоаппаратом.
— Скоро разрушится. Или какой-нибудь шалопай развалит. А у меня он останется.
— Можно сделать фотоэтюд для газеты, — говорю я. — И подпись к нему. Для воскресного номера. А одну фотографию мне на память.
— Пожалуй, — соглашается Петр Федотович.
Свернув влево, подъезжаем к большому бревенчатому дому. По правую сторону распахнулось озеро. К нему подступают деревья. Некоторые вошли в воду. По озеру островки, рядом чернеют пни, наискось отражаясь в воде. Над озером мечутся крачки. Их крик мне сейчас не кажется тоскливым. От озера идет благостная прохлада. Ветерок, уже на затишке, шевелит вершины могучих сосен. Они отвечают ему приветливым шумом.
Мельком оглядываю двор. Возле дома стоит обшарпанная печка, — у нас такую называют горнушкой. Под рябиной сложены слеги. Рядом стог сена. А слева от тропы к озеру вкопаны большой темный стол и лавки возле него.
Из сарайчика за крыльцом выходит Шура — невысокая женщина лет тридцати пяти. В темной кофточке, в темной широкой юбке с фартуком поверху, босая.
— А-а, Петр Федо-о-отович! — обрадован но тянет она. — Давне-е-енько не бывали…
Она вытирает руку о фартук и протягивает старому знакомцу. Я тоже пожимаю ее руку, чувствуя мозоли ее.
Гостинцы Шуре преподносит Глеб. Она сдержанно и смущенно принимает их. Но видно, что рада. От кордона до сельского магазина не близко, так что за продуктами не наездишься. Да и выбор там — не разгуляешься.
Она относит все в дом. Тут же возвращается, уже в светлом платочке, в тапочках.
— А я как знала о приезде вашем. И лодку вашу никому не отдавала. Вы же сразу на озеро? — обращается она к Глебу.
— Да, Шура. С твоего разрешения.
— Тут на днях прикатили одни — давай им то, давай се. Я к ним, а у них нет охотничьих билетов. Один тычет мне какие-то начальственные корочки, я ему — это, говорю, для меня ноль без палочки. Ты мне охотничий подавай… Ну, убрались подобру-поздорову.
Шура ревниво исполняет свои обязанности, и ее кордон на хорошем счету в охотничьем хозяйстве.
Глебова лодка полна дождевой воды. Я — пока Глеб отчаливает от пристани — вычерпываю воду консервной банкой, припасенной для этого под лавочкой. Сажусь на корму. Глеб одним веслом выводит лодку на середину озера. Меня охватывает волнение. Над озером утихомиривается ветерок, чуть рябит воду. Лес у воды — как будто пришел полюбоваться ею и не в силах отступиться от нее. Кажется, и небо поднялось, чтоб не застить всю красоту озера. Солнце уже начало свой спуск с высоты, ко еще стоит довольно высоко, ослепительно сверкая и рассыпаясь по ряби волн.
Глеб подгребает к островку, втыкает весло в дно, причаливает к нему лодку и усаживается на носу.
Через минуту-две на наших крючках нанизан хлеб, сдобренный анисовыми каплями. Еще через минуту в воде стоят красненькие поплавки.
Начинается молчаливое соревнование между нами. Глеб считает себя опытным рыбаком. Он сто раз ловил тут. Знает повадки карасей. Я — дилетант в рыбной ловле. На озере ловлю впервые. Но, правду говорят, новичкам везет. Едва закидываю удочку, у меня начинает клевать. И тут же вытаскиваю первого карася. Он — в пол-ладони, изгибается у меня в руке, сверкая чешуей.
Глеб старается не смотреть на мою удачу. А я опять вытаскиваю — другого, третьего. Опускаю их в воду, оставленную в лодке.
— Фартит пижонам, — не удерживается Глеб, но говорит беззлобно.
Начинает ерзать и его поплавок. И он вынимает серебряного карася величиной в полную ладонь.
— Мы с мелочью не возимся. — Глеб небрежно выпускает карася в лодку.
Ловим каждый на одну удочку. На две ловить было бы невозможно. Клюет без перерыва. Одна поклевка за другой. Хорошо, что хоть не каждого клюющего карася удается поймать. Все-таки удовольствия больше, когда ты борешься с рыбой.
Вскоре в лодке стоит плеск.
Начинает болеть спина. Сидеть тоже трудно. Тихо поднимаешься и ловишь какое-то время стоя. Но стоя ловить неудобно. То и дело надо нагибаться за наживкой. Лодка качается.
— Да, иметь бы кое-какие запчасти для самого себя, — говорит Глеб, и мы хохочем над этой немудрящей остротой.
Солнце, заметно снижаясь, уже касается верхушек сосен. Озеро начинает менять свои краски. Оно темнеет у западных берегов, а восточные будто вспыхивают в лучах заходящего солнца. Затем быстро гаснут краски снизу. Темнота теснит их от земли. Лучи все выше и выше поднимаются по деревьям, а озеро темнеет, стирая свет зари. Вскоре зари совсем не видно на воде.
Надвигается тишина. Клев утихает. Мы, как по команде, сматываем удочки, встаем и разминаемся.
На берегу считаем карасей — их больше сотни.
— Двойная уха обеспечена, — довольно потирает руки Глеб.
У печки появилась куча сушняка. Это Петр Федотович, пока мы рыбачили, бродил по лесу и собирал топливо.
Я беру нож и чищу карасей. Петр Федотович уходит от печки. Он не может видеть, как под ножом взвивается рыбешка. Глеб растапливает печку. Почистив карасей, ухожу к столу и ложусь на лавке. Глеб священнодействует над ухой.
Лежу на лавке и смотрю в небо. Оно еще хранит самый последний отблеск зари. Оно опускается все ниже. Ниже к земле склоняются сосны. Они как будто соединяют воедино великий шатер надо мной, укрывая от всего, что надоело в буднях, что оставил, приехав сюда.
Я не замечаю, сколько так лежу. Но, повернув голову к озеру, вижу вдруг огромный белый шар луны над самой кромкой дальнего леса. Когда она взошла? Когда она раскинула свой коврик по глади озера? Никто из нас не заметил.
Лежу не шевелясь. Боюсь движением потревожить эту великую тишину. Сосны беззвучно покачивают вершинами надо мной, и мне кажется, я — на дне океана.
Почему я так редко бываю в лесу? Вспоминаю себя маленьким, когда мы с мамой ходили за дровами в Олейчик, — так называется самый ближний лес у нашей деревни. Мы набирали по вязанке сушняка, а потом драли лычки и перепоясывали ими вязанки. Мне всегда было жаль липу. Думалось, ей больно, когда сдирают с нее кору.
Слышу шарканье шагов.
— Вы не уснули? — говорит, подходя, Петр Федотович.
— Нет, — поднимаюсь на лавке.
Петр Федотович задумчиво смотрит на озеро.
— Знаете, Михаил Петрович, я иногда так завидую Шуре, — снова заговаривает он. — Живет она вдали от нашей суеты. А мы… Понимаете ли, испорченные мы цивилизацией люди. Я вот завидую Шуре и тут же ловлю себя на мысли — ну, неделю-две, от силы три прожил бы я здесь. А потом не знал бы, куда деться, что делать от тоски. И пришлось бы возвращаться в город.
— К сожалению, вы правы, — соглашаюсь я с ним. — Шуре легче. Она всю жизнь тут… А впрочем, кто знает… И ей нелегко… Одной…
Петр Федотович молчит. К кордону подступает темнота. Все ярче видно пламя печки и его отсветы.
Шура приносит на стол деревянные миски и ложки, стаканы, большой деревянный половник. Все это снова напоминает мне детство в деревне.
С рюкзаком подходит Глеб. Появляются помидоры, лук, сало, бутылка водки. Я иду за своим провиантом.
Стол освещает луна. При виде еды вдруг чувствуем, как мы голодны. Фыркая, умываемся под простецким рукомойником, усаживаемся за стол. Уху Глеб оставляет на плите. Уха должна настояться.
Черт возьми, там, в городе, для меня обеды и ужины — тягостная обязанность. Идешь в кафе, выстаиваешь в очереди к гардеробу, потом сидишь с полчаса за пустым столом, пока подойдет официантка. Потом еще с полчаса ждешь, пока что-то подадут; обязательно окажется, что чего-нибудь из заказанного нет и надо заказывать другое и снова ждать. И уже неохота есть.
А тут обыкновенные лук и помидоры кажутся деликатесами. Черный хлеб вкусен, и после него нет изжоги. И не знаешь, от чего больше хмелеешь — от водки или от того, чем ты живешь в этот вечер.
Шура пьет и вытирает губы кончиком фартука, напоминая мне маму. Мы все становимся разговорчивей. Петр Федотович, Глеб и Шура наперебой вспоминают ее отца — охотника, знатока леса и озер, доброго человека. Они вспоминают тяжелые военные и послевоенные времена, когда Шура и ее отец жили в землянке (она теперь служит ей погребом), но к ним все равно с великой радостью съезжались из Тамбова, из Рассказова, даже из Моршанска охотники, чтобы потом рассказывать друзьям об охоте с Константинычем, о хождении с ним по лесам и болотам. Мы пьем за светлую память о Константиныче. За людей, помнящих доброе.
Глеб незаметно уходит от стола и приносит уху. Уха — венец нашего лесного застолья!
После ужина мы сидим и говорим о красоте земного мира, о том, как бы прекрасно могли жить в этом мире люди, если бы наконец у них хватило ума понять друг друга, понять, что и земля, и небо, и леса, и озера, и все-все на земле — это для всех живущих на ней. За всю историю земли люди не могут этого понять, и в то самое время, когда мы сейчас мучительно думаем об этом, в разных концах земли льется человеческая кровь, — высшие создания природы все еще не могут разделить между собой по-человечески и это небо, и землю, и леса, и озера…
Взволнованные, мы расходимся от стола. Я иду к пристани. Тихо шлепает вода по днищам и бокам лодок; где-то на той стороне озера свищет какая-то пичуга, и снова лунная тишина вокруг.
Наутро встаем в пять. Озеро все в тумане. Кажется, за соснами открывается море. Островами в нем проглядывают вершины дальних деревьев.
Плывем на вчерашнее место. Туман рассеивается часам к шести. Проступают берега, самые низкие кустарники, елочки. За ними появляются молодые сосенки, березы и осины, а вскоре и самые старые и высокие их собратья. Стена деревьев как хор на сцене.
Уплывают на запад облака. Розовеет вода. Еще мгновение, и запевают самые ранние птицы. Пение их сливается с едва уловимым шумом деревьев, и все это предстает одной многоголосой мелодией утра.
Ловим часов до восьми. У пристани перекладываем карасей травой, чтоб не протухли. Позавтракав, выносим раскладушки из дома, устанавливаем их под соснами и ложимся спать. Засыпаю мгновенно и сплю без сновидений.
Проснувшись, идем за земляникой. Собираем ее до вечера. Приходим на кордон, еле волоча ноги. Но странно: пока Глеб восстанавливает в машине сиденья, пока укладывает свои вещи в багажник, пока осматривает мотор, что-то там проверяя в дорогу, я уже чувствую себя отдохнувшим.
Дома меня поджидают соседки. Раздаю им карасей. Себе оставляю на две-три сковородки и зажариваю их в сметане, чтобы угостить друга. Он вот-вот придет.
И я буду угощать его карасями в сметане, рассказывать о кордоне, о нашей рыбалке. И еще долго буду вспоминать и видеть во сне и кордон, и озеро, и лесной хор над ним. И буду жить ожиданием новой поездки туда.
1980
ПОРТРЕТ МАМЫ Рассказ в ответах на анкету[5]
1. Какова роль матери в Вашей жизни в разные периоды?
а) в детстве (до 11—12 лет)
Моя мама, Агриппина Григорьевна, всю жизнь была для меня первым Человеком среди всех, кого я знал. Общаться с ней было — как дышать, есть, пить, бегать, рвать вишни в саду… Что б со мной ни происходило, я сразу же думал, как об этом узнает мама, как отнесется к этому, что произойдет с ней… Это у меня осталось на всю жизнь. Первой я нес ей свои радости — они были самыми большими ее радостями. Горечи свои я по возможности скрывал, так же, как она.
Что я с самого детства помню — это мамину заботу о себе. Я мог ходить и часто ходил в заштопанных рубашках и штанишках, но они всегда были выстираны и выглажены. Она никогда не съедала полностью свою часть кукурузной или картофельной в голодные годы лепешки. Она делила ее со мной и отцом…
Это не значит, что она баловала меня. Нет, никем я не был чаще наказуем, чем мамой. Но она всегда наказывала и сердилась за действительную вину мою, хотя при этом всегда больше меня переживала свое наказание. А состояло оно в том, что она раз-два, бывало, «вытягивала» меня по спине скрученным полотенцем: больно никогда не было.
До двенадцати лет мы с ней надолго не разлучались. Она работала в колхозе, в страду — с зари до зари. Я домоседовал. И поздними вечерами мама, соскучившись по мне за долгий летний день, была неизменно ласковой, всепонимающей и всепрощающей. Пожалуй, это было главное, что дала ей природа, ей — почти неграмотной деревенской женщине (она едва закончила два класса церковно-приходской школы). Однажды я потерял ключ от замка, которым запирали хату. Замок был надежный, крепкий. В слободе таких не было. Папа купил его где-то в городе. Я очень переживал потерю. Представил — что мне будет теперь. Соседского мальчика, Алешку Могилу, выпороли за потерю ключа от калитки, а тут — ключ от хаты. Взволнованный, я пошел в поле искать маму. Дело было уже под вечер. Нашел я ее километрах в пяти от дома. Смеркалось. Мама перепугалась. «Шо случилось, сыночек?.. Як же ты йшов один? Як же ты найшов нас?..»
Я рассказал о беде. И что же? Мама даже не пожурила меня. Она обрадовалась, что ничего страшного не произошло. А замок? Да бог с ним!.. «Ще купим!..»
А один раз меня выпросила у мамы бездетная ее сестра Даша к себе в гости на недельку. Я уехал с тетей Дашей за пятьдесят километров от нашей слободы, в Лиски. Мне было года три-четыре. Сойдя с поезда и придя к тете домой, я захотел к маме, тут же расплакался от того, что ее нет рядом. А мама тоже не выдержала и приехала за мной на второй день…
б) в отрочестве (до 15—16 лет)
Детство мое было полно тревог предвоенных тридцатых. Они, конечно, воспринимались по-мальчишечьи, они шли больше от взрослых — отца, матери, родичей. Но я был к этим тревогам довольно чуток. Это оставило свой отпечаток на всю жизнь. Я помню горечи голодного тридцать третьего, тревог не уменьшилось и позже… Я помню войну в Испании, приехавших к нам испанских мальчишек и девчонок, помню раненых, привезенных с финской войны в Россошь, где мы жили в ту пору… Помню, как собирался удрать из дому на финскую войну… Мне было двенадцать лет, когда на нас напала гитлеровская Германия. Беспрерывные бомбежки 1942 года, семимесячная оккупация Россоши вражескими войсками, угон наших людей в Германию, расстрелы, холод, голод. Детство сокращено было всем этим, отроки выглядели старше своих лет… Только теперь, будучи зрелым человеком, я постигаю, что пережило материнское сердце, когда чуть ли не каждый день погибали и взрослые, и дети — от бомб, от фашистских облав, от неумелого обращения с оружием… Если есть ангелы-хранители, то мама — первый среди них в годы войны. Не будь ее, я вряд ли остался бы живым. В маме — счастье и детства моего, и отрочества.
в) в юности (до 20—21 года)
Юность моя — тоже счастливая. В двадцать лет я стал студентом единственного в мире Литературного института им. Горького в Москве. Тогда я был беспомощен как литератор. Жил трудно, на одну стипендию. Я старался бережно расходовать ее. Никогда не просил денег у родителей. Но деньги всегда приходили от них, от мамы, во время моего безденежья. Мама пошла работать в школу уборщицей и свою получку (220 рублей — ныне 22 рубля) никогда не доносила домой: по пути с дежурства она заходила на почту и отсылала получку мне в Москву.
В годы студенчества началась наша с мамой переписка (да, именно с мамой, потому что папа писал очень редко, хотя был грамотнее мамы на два класса). У меня сохранилось множество маминых писем. Письма ее — это кодекс нравственности. «Ты ж не пей там…», «Да веди себя у людей хорошо…», «Да старайся ходить в чистеньком…», «Стирай вовремя рубашки…», «Не обижай товарищей…», «Поделись посылочкой с товарищами по общежитию…», «Да пиши мне почаще…», «Будь скромным в компаниях…», «Не задерживайся допоздна, шоб не тревожить сестру-хозяйку в общежитии…», «Не курил бы ты — так тебе нейдет цигарка… да и здоровьячко у тэбэ нэ дужэ гарнэ…» и т. д., и т. п. Из письма в письмо. Для меня это были не просто поучения. Это был родной голос издалека…
г) в зрелые годы (до 55—60 лет)
Мои зрелые годы омрачились невзгодами личной жизни. Но опять же счастье мое заключалось в том, что рядом была мама. Она помогала уже одним присутствием своим. Я учился у нее выдерживать беды. Она умела это как никто. Терпелив был отец в невзгодах. Мама была — еще терпеливее.
д) в пожилом возрасте
До пожилого возраста — не знаю, доживу ли. Пять лет назад ушел из жизни папа, три года назад — мама. Оборвалось что-то во мне. Понимаю, что все — закономерно, что родители прожили долгую жизнь (папа — восемьдесят три года, мама — семьдесят семь). На старости у них были житейские радости. Но… это все — рассуждения. А сердце не может смириться с тем, что их… нет. И никогда не будет.
И все же я был счастлив: до пятидесяти двух лет я прожил с папой и мамой. До пятидесяти четырех — с мамой. То есть всю жизнь, вернее — лучшую ее часть.
2. Когда вы почувствовали и осознали роль матери в разные периоды жизни?
Сердцем — очень рано, еще совсем маленьким. Разумом — естественно, позже. Глубже всего — вдалеке от мамы, в Москве. Но особенно глубоко — теперь, когда ее нет на свете.
3. Являлась ли она вашим другом? Если ваш ответ положителен, то поясните, в чем это выражается.
Да, мама была моим другом, причем самым близким и верным. Другом по крови, по языку, по земле.
В чем это выражалось? В том, что она меня понимала. Если, понимая, противоречила мне, то только из добрых побуждений. Она бескорыстно прощала мне мои провинности. Она никогда не лукавила со мной, всегда высказывала обо мне, о моей очередной затее или оплошности все, что думала. Иногда высказывала нервно, будучи усталой, издерганной буднями. Потом остро переживала такую «непедагогичность» и раскаивалась в своей горячности. Если я бывал в минуты раскаяния рядом, я всячески старался снять с «повестки дня» несуществующую ее вину.
Я был откровенен с мамой. Не говорил ей лишь о своих «любовных» увлечениях, особенно в разгар их, — стеснялся. Если говорил, то после того, как они проходили, спустя многие годы.
Мама скрывала от меня свои беды, чтоб я не волновался. Я отвечал ей тем же, из тех же соображений. О многих моих болезнях она узнавала спустя месяцы и годы после них. Проговаривался либо я, либо мои товарищи. Она тоже проговаривалась и сама потом подсмеивалась над собой.
До конца дней своих она старалась как можно больше взять на себя будничных житейских забот.
4. В каких вопросах мать являлась авторитетом для вас в течение всей жизни?
В вопросах взаимоотношений с людьми. Общаясь с окружающими, она всегда была правдива до резкости и доброжелательна, стремилась понять собеседника и страстно хотела, чтоб и с ней люди, особенно близкие, были правдивыми и доброжелательными. И если не понимали ее, то хотя бы желали понять.
Это ее всегдашнее поведение было для меня авторитетным.
5. В чем вы сознательно, а может быть, бессознательно стремились подражать матери?
Если говорить о подражании матери, то это скорее делала бы девочка.
Я просто хотел во многих случаях поступать, как поступала мама. Я делал и делаю это без потуг, потому что по характеру своему я, как говорят, похож на нее.
Легко вспылив, она тут же отходила от вспыльчивости. Я таков же.
Мама, бывало, поссорившись с отцом, никогда не переносила злость «на все». Сердясь на него за выпивку, она не оставляла его без ужина или завтрака, без ванны, без свежего белья, как это делают многие нынешние жены. Я тоже не переношу одну вину человека на все отношения с ним.
Мама не была злопамятной. Она умела ценить человека объективно. Но если люди, причинившие ей зло, не унимались, то она порой напоминала им обо всем. Считаю это правильным и стараюсь поступать так же.
6. Какие черты вашей личности сформировались под материнским влиянием?
Мама и папа, простые деревенские люди, были щедро награждены природой. Оба они имели хорошие голоса и хорошо пели в два голоса, особенно русские и украинские народные песни и романсы. Оба до слез чувствовали музыку, мама — даже симфоническую. Бросала все на кухне, когда по телевидению выступал оркестр под управлением Николая Некрасова, слушала восторженно, то и дело всплескивая руками.
Оба любили читать, знали множество стихов наизусть. От них, особенно от папы (мама знала меньше) я с самого раннего детства слышал стихи Никитина, Кольцова, Жуковского, Федора Глинки, Лермонтова, Алексея Константиновича Толстого… Не говоря о Тарасе Шевченко. «Кобзарь» его был у нас настольной книгой.
Жажду больше узнать оба сохраняли до конца дней. До людей тоже были жадны. Потому мама и папа распахнуто принимали всех моих друзей.
Многое-многое во мне, необходимое как литератору, — от них. От папы и мамы.
7. Находите ли вы, что в чем-то повлияли на мать? Если ответ утвердителен, то поясните, в чем это выражается.
Резко определенно ответить боюсь. Думаю, что мама испытывала «мое влияние» с самого моего появления. Скажем, не будь меня, она наверняка ушла бы от отца, когда он в начале тридцатых сильно пил. Но мама не решилась оставить меня без отца: в ее представлении это было страшно.
Под влиянием моей любви к отцу менялось и ее отношение к нему.
При моих «педагогических» советах она довольно-таки легко отходила от своих «старческих» ворчаний и требований в общении с внуком, то есть с моим сыном. Папа это не мог.
Я часто в разговоре использую и использовал мысли великих людей. Родители прочитали многие книги моей библиотеки. Мама, работая в школе, убирая классы, читала на их стенных таблицах высказывания великих писателей и педагогов, записывала их, запоминала и в беседах со внуком уместно цитировала ему мысли и Пушкина, и Некрасова, и Льва Толстого, и Ушинского, и Чехова…
Легко представить реакцию на это — и мою, и моих товарищей.
Но главное не в моем влиянии на маму, а в ее влиянии на меня.
8. Какую роль, по вашим наблюдениям, мать играла в семье, где вы росли?
И в отношении меня, и в отношении отца главную роль. И весьма благотворную. Но папа для нее все же был главой нашей маленькой — в три человека семьи.
Почему же роль ее была главной? Потому, во-первых, что мама нужна была мне, и она была всегда — в детстве — со мной. Во-вторых, при малой зарплате папиной она умело вела хозяйство, многое по хозяйству делала сама, великолепно готовила. Она согласна была на любую работу, только чтобы помочь отцу копейкой, чтобы в семье было что поесть, было во что одеться. Она была человеком чистоты и опрятности, хотя у нее никогда не было ничего лишнего ни в питании, ни в одежде.
Всем в семье она распоряжалась так, чтобы в ней были лад и порядок. Теперь я отлично понимаю, как это было ей трудно при нашем достатке.
9. Ваше отношение к матери:
а) в детстве
Любил ее и думал, что она вечна — будет всегда.
б) в отрочестве
Любил и страшно боялся, как бы она не погибла от бомб, от доносов во время оккупации, от болезней и перегрузок, когда строили свои хаты (в жизни мамы и папы это было трижды).
в) в юности
Это было начало долгой разлуки, и я вдали от нее вспоминал ее с нежностью и щемящей болью. Иногда не мог тратить деньги, присланные ею, так как знал, каким трудом они доставались ей.
г) в зрелом возрасте
Стремился облегчить ее старость: помогал деньгами, помогал последний раз перестраивать хату, выбил у самого крыльца колодец, чтоб маме и папе не ходить через улицу за водой (особенно в весеннюю распутицу), приезжал помочь вскапывать огород, сажать картошку, убирать ее… Когда родителям стало невмоготу это все делать, забрал их к себе в Москву и счастлив, что им, как они говорили не раз, было у меня хорошо.
Что бы ни выпадало доброе в моей жизни, я спешил сообщить об этом маме и папе и счастлив был видеть их счастливыми.
10. Как вы считаете, понимала ли вас мать?
Да, понимала. Порой я удивлялся — и не раз! — что меня не понимали мои друзья-товарищи, равные мне по положению, по образованию, и те, что выше меня, а она — умное материнское сердце непостижимо! — мама понимала!
11. Если вы создали свою семью, скажите, каково отношение членов этой семьи к вашей матери?
Жена моя с первой же встречи стала относиться к маме с неприязнью. И главным образом, как я позже убедился, потому, что не обладала и не обладает ни свойствами жены, ни свойствами матери, органически присущими моей маме. Не хватало у жены и культуры просто уважать старую женщину хотя бы за то, что она ежедневно готовила жене завтраки и ужины, собирала и провожала ее ребенка в школу, встречала из школы, водила в музыкальную школу, кормила его, гуляла с ним, купала, укладывала спать.
Оскорбительное отношение жены к маме переполнило чашу моего терпения. Мы разошлись. Неловко об этом говорить. Но это так.
Девятилетний сын, оставшийся со мной, любил бабушку, то есть мою маму, самозабвенно. Они прожили в большой дружбе несколько лет. Она и к внуку была строго-любящей. Она пробуждала доброе в нем, журила за непослушание. Говорила мне, что любит внука и тревожится за него больше, чем любила меня и тревожилась за меня. Я думал: как же это можно — еще больше?.. Но таково истинно материнское сердце.
И теперь стоит мне напомнить сыну, что надо бы съездить на кладбище, проведать бабушку и дедушку, он оставляет все, и мы тут же едем. Часто напоминает сам об этом.
12. Что у вашей матери на первом плане?
Семья: я и отец. Работа — постольку, поскольку она была необходима, чтобы увеличить семейный бюджет. Работа ее всегда была тяжелой: мама ведь не имела специальности, не доучилась, как она с грустью говорила.
13. Представьте себе ситуацию: ваша жизнь начинается с детства, снова повторяется. Вы можете внести в нее любые изменения — и все исполнится по вашей воле. Как бы вы построили свои взаимоотношения с матерью? Почему именно так?
Своих взаимоотношений с мамой я бы не изменял. Я бы хотел изменить ее жизнь. Я попросил бы судьбу, чтоб она не делала маму сиротой, чтоб ей не выпали в самом раннем детстве годы батрачества, чтоб она получила образование, чтоб она могла повидать родную землю, больше порадоваться жизни (никогда не забуду ее рассказы о Ленинграде, куда она поехала девушкой на заработки, чтобы справить приданое и выйти замуж за папу. «Знаешь, сынок, — говорила она, — от работы до общежития було верст восемь. Нас возили туда и сюда. Так я не ездила… Я ходила пешком и на работу и с работы, щоб полюбоваться городом!.. Який же вин красивый, Ленинград!..») Я хотел бы, чтоб она имела досуг чаще слушать музыку и пение, читать хорошие книги, ходить со мною в театры. В студенческие годы, когда она приезжала ко мне в Москву, мы бывали с ней в театрах. Надо было видеть ее! Как она хотела жить моей жизнью! Часто дрогнувшим голосом говорила: «Эх, як бы моя жизнь началась завтра!..»
Наконец, я хотел бы, чтоб в ее жизни не было войн!..
Будь она жива, я бы рискнул жениться еще раз, в надежде, что вторая жена увидит в маме моего и своего друга, готового ради нас на все… Именно таким другом была мама. И мне больно, что бывшая жена не поняла этого, что неудавшаяся моя семейная жизнь доставила маме много горечи.
Часто приходят на ум пронзительные слова Ивана Бунина:
«С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Всё и все, кого любим мы, есть наша мука, — чего стоит один этот вечный страх потери любимого! А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, — к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью: столько слез видел я ребенком на ее глазах, столько горестных песен слышал из ее уст!.. да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя».
Да, да покоится она в мире. А имя ее и светлая память о ней будут для меня благословенными, пока я жив.
1986
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ
О ФАДЕЕВЕ Из записной книжки
1
Год 1949. У Литературного института очень тесное общежитие — подвал в здании института и несколько комнат в доме во дворе. И все. Студентам с жильем было трудно, и они написали письмо в правление Союза писателей СССР.
И вот сидим мы — первокурсники — в общежитейском подвале. Раскрывается дверь, и — глазам не верю! — входит Фадеев. В костюме стального цвета, красивый такой. Седые гладко причесанные волосы, радостные глаза, а за щеками — будто по конфете.
Мы встали.
— Ну, здравствуйте, хлопцы! Давайте знакомиться. Фадеев, — и протянул нам руку.
Каждый из нас пожал ее и представился.
— Никольский Борис. Из Ленинграда.
— Как там Ленинград?
— Ничего, Александр Александрович, — смущенно картавя, ответил Борис.
— Русское ничего — это уже хорошо, — засмеялся Фадеев.
— Ежи Волковыцкий. Из Польши.
— О, как там Варшава? Тоже ничего?
— Ничего вполне, — сказал Ежи.
Фадеев расхохотался — так заразительно.
— А вы откуда? — подошел он ко мне.
— С Дона, — и я назвал свою фамилию.
— Значит, земляк Шолохова? — голос его как-то переменился. — Шолохова, — еще раз сказал он и будто вспомнил что-то, что вернуло его к какому-то близкому ему раздумью. — Ну-ну! — Он крепко пожал мне руку, потом обратился сразу ко всем: — Так как же вы тут живете, рассказывайте.
Рассказывать нам особенно было нечего. Мы только что пришли на первый курс, а условия нашего житья были налицо: мы находились в сыром полуподвале.
— В Переделкино поедете жить? — спросил Фадеев. — В писательских дачах… Далековато, правда, но мы дадим вам автобус.
— Поедем, Александр Александрович!
И вскоре мы, студенты, переехали в городок писателей. На занятия в институт и с занятий нас возили на автобусе.
У меня в записной книжке появилась первая запись:
«Сегодня видел А. А. Фадеева. Разговаривал с ним, пожал ему руку. Руку, написавшую «Разгром».
2
Второй раз видел Фадеева в 1950 году на встрече его с нами в Литературном институте.
Конференц-зал не вместил желающих послушать Фадеева. Студенты нашего института и других вузов толпились у входа в зал, на лестнице, сидели на подоконниках.
Что больше всего запомнилось? Красив! Малиновое лицо, открытый лоб. Оживлен и даже, я бы сказал, радостен. Словно оттого, что видит уважительное отношение к нему нескольких сотен молодых людей, именующих себя писателями.
Говорит волнуясь и нагромождает друг на друга эти «так сказать», «следовательно», «таким образом»… Меня это поражает, но тут же я оправдываю его, вспомнив гоголевское — если бы хорошо говорил, то плохо бы писал…
Вскоре Фадеев покоряет своей взволнованностью и огромной эрудицией; он говорит о таких вещах, которые оттесняют внешнее и заставляют думать только о них.
О труде писателя он говорит долго и обстоятельно. Писательство — один из видов человеческого труда. Эта давняя истина звучит для юношей, рифмующих первые стихи, как открытие. Его опыт: в «Разгроме» нет главы, которая не была бы им переписана менее пяти раз. Есть главы, переписанные двадцать пять раз!
Лев Толстой оставил по пятнадцать — двадцать вариантов одной и той же вещи. Обнаружено около ста вариантов одной его статьи… Чувствуется благоговение Фадеева перед Львом Николаевичем Толстым.
Разговор поразил меня и моих товарищей. И если некоторые пришли в институт гениями, то из института в лучшем случае уйдут начинающими литераторами.
3
Был в зале имени Чайковского на чествовании А. А. Фадеева в связи с 50-летием.
Рядом с юбиляром на сцене крупнейшие писатели, друзья, товарищи по работе. Множество теплых поздравлений и адресов, приветствий. Но взволновало не это. Взволновала речь его в конце вечера.
С какой-то щемящей грустью сказал он, что вот, дескать, здесь понаговорили много лестных слов, даже теоретиком его назвали. А он ведь является автором всего лишь двух законченных произведений.
Обещал спеть свою лебединую песню…
4
Какая у него юношеская биография!.. Мальчиком Саша Булыга уходит в революцию. Подполье. Делегат партийного съезда. Доброволец в ликвидации кронштадтского мятежа.
Есть счастливая случайность в том, что материалы о молодогвардейцах попали именно ему в руки. Именно он, Фадеев, был ближе всего к этим материалам по своей юношеской биографии. Думается, ему легко было писать образы Сережки Тюленина, Любки Шевцовой и Ульяны Громовой. И Олег — наиболее трудный образ для работы — получился полнокровным, жизненным.
В них во всех — много от Саши Булыги.
5
Врезались в память лирические отступления «Молодой гвардии».
«…Мама, мама, я помню руки твои…»
Как, вероятно, счастлива была его мать! Ведь это ею вызваны были к жизни изумительные строки. И обращены они были прежде всего к ней.
Он должен был хорошо понимать других матерей.
* * *
А еще одно отступление.
«Друг мой! Друг мой!.. Я приступаю к самым скорбным страницам повести и невольно вспоминаю о тебе…»
Почему-то мне кажется, что он вспоминал это перед своим уходом… «Друг мой! Друг мой!.. Я приступаю к самым скорбным страницам повести…»
6
Как жаль, что «Последний из удэге» остался незаконченным! Там есть завидные главы. Возьмите хотя бы главу о рождении Масендзы. Какое обобщение!..
7
Из письма Бушмину:
«…Напрасно Вы категорически вымели Джека Лондона из моих литературных учителей. Вспомните только, в каком краю я вырос. Майн Рид, Фенимор Купер и в этом ряду — прежде всего Джек Лондон, разумеется, были в числе моих литературных учителей. Замысел «Последнего из удэге» не мог возникнуть в столь молодые годы без «Последнего из могикан» Купера…»
8
В письмах к наиболее близким людям он часто подписывается — эсквайр. Интересно. Романтик он был!..
9
Как-то году в пятьдесят втором к нам в общежитие пришел высокий, чернявый, с темным пушком усов, Саша… Фадеев. Оказалось — сын Александра Александровича. Он учился в девятом классе или десятом, но по развитию был гораздо старше своих лет. Обычно он появлялся внезапно, потом надолго исчезал.
Мы подружились. Просиживали у нас часами за шахматами, спорили о литературе. И конечно, я расспрашивал его об Александре Александровиче.
По рассказам Саши, отец любил его, был к нему внимателен и щедр. Но, видимо, вместе они бывали нечасто. То и дело на мой вопрос — чем сейчас занят Фадеев — Саша отвечал: уехал на конгресс, на заседание Совета мира, в заграничную командировку и т. д. и т. п.
Лишь однажды Саша сказал, что Александр Александрович уже месяца три живет на Урале, изучает жизнь уральского завода.
Позже в «Огоньке» появятся главы «Черной металлургии». Сразу станет ясно, что даже крупному таланту, каким был наделен Фадеев, трудно было освоить новый, незнакомый ему материал.
Как-то я спросил у Саши, не думает ли Александр Александрович вернуться к «Последнему из удэге»?
— Он много раз пытался это сделать, — ответил Саша, — но, наверное, слишком большой перерыв в работе над этим романом… Страшно трудно войти снова в атмосферу его. Причем все время отца отрывают от работы…
Слушал я Сашу и чувствовал, что он, видимо, слово в слово повторяет высказывания Александра Александровича ему или при нем кому-либо из друзей.
Однажды мы пошли с Сашей на лыжах в лес. Остановились передохнуть в кустарнике на берегу Сетуни, и Саша рассказал про любопытный случай.
Во время одной из бесед с ним Александр Александрович подошел к книжным полкам, окинул их взглядом и с грустью сам себе сказал: «Да, эсквайр, хороший ты писатель, но вот Джек Лондон лучше. У него, скажем, есть «Мартин Иден», а ты своего «Мартина Идена» не написал… Ты многого не написал, эсквайр… Ты уж так и останешься автором двух книг…»
Александр Александрович снял с полки знаменитый лондоновский роман, полистал его, бережно поставил на место, сел в кресло, замолчал и больше с Сашей в тот день не разговаривал. И ни с кем в тот день не разговаривал больше. Один просидел до вечера в кабинете.
10
Из статьи «В родном краю» (1935):
«Опыт показал, что писателю трудно плодотворно работать, живя преимущественно в Москве. И это, конечно, не потому, что в Москве не делают больших дел. В Москве творят великие дела, но обстановка литературной среды, общественные и литературные обязанности, заседательская суетня — все это отнимает невероятно много времени. Коллективные поездки писателей на стройки, в колхозы редко оправдывают себя. Такой образ жизни, какой ведет М. Шолохов, которого я высоко ценю как писателя, наиболее, по моему мнению, оправдан. Шолохов не только работает в тесной близости с людьми, о которых пишет, — он живет их интересами, и его книги о них совершенно органически связаны с его и их жизнью».
Прав Фадеев. Совершенно прав. Десятки лет жизни Союза писателей подтвердили это. Неимоверно ширится круг всяческих литературных обязанностей, беспредельна уже заседательская суетня, бесчисленны «писательские десанты» во все концы страны, пожирающие время и писателей, и людей, принимающих «десанты» на местах. Расул Гамзатов как-то сострил: «Кажется, уже все сделано, чтоб я не писал, но я все-таки пишу…» А велик ли толк от этой суеты?.. Да, встречи с трудящимися нужны. Да, нужна пропаганда литературы. Но не наскоком сотни литераторов!.. Главное в жизни писателя — создание книги, а она рождается, как правило, не в скоропалительных галопных наездах куда-либо. Книга как человек — выстраданное детище.
11
Из фадеевского письма Ермилову после прочтения его рукописи о Достоевском:
«Я прилагаю здесь листок, на котором обозначены все страницы с моими замечаниями, как крупными, так и мелкими, иногда это просто «птички». Я вспоминаю, с какой ненавистью я смотрел вначале на Тарасенкова, а потом (при издании отдельной книгой) на Ю. Лукина, когда они приходили ко мне беседовать и выкладывали на стол подобные листочки с номерами страниц — листочков пять-шесть, заключающих сотни и сотни больших и мелких поправок. Как мне хотелось сказать что-нибудь грубое и оскорбительное, когда, шурша этими листочками, они раскрывали передо мной ту или иную страницу, девственные поля которой были мелко исписаны, испещрены вопросительными и восклицательными знаками (а у Тарасенкова были даже «sic!» и «N. B.» и т. п.). Но в конце концов я принял ужас сколько замечаний и поправок у Тарасенкова и, как сейчас помню, 205 поправок у Лукина, потому что они были правильны…»
Признание настоящего художника.
12
Запись в записной книжке. Архитектор В. И. Стасов (1769—1848). К жене:
«По свойству моему, или, лучше сказать, по моей натуре, мне нужно для исправления моей должности по моей профессии совершенное спокойствие духа, без которого я не только с честью, но и с успехом упражняться не могу, а потому прошу, так как от должности моей зависит все благополучие наше и наших детей, оставлять меня, когда я в кабинете, в совершенном покое».
Фадеев приписывает:
«Старик был прав, о как он был прав!»
А сколько еще художников могут подписаться под этими словами!..
13
Однажды я отправился покататься на лыжах. Кружила легкая метелица. Я прошел мимо дач Федина, Пастернака, Вс. Иванова, спустился к «святому» колодцу, перешел Сетунь и поднялся на противоположный бугор ложбины.
Здесь был трамплин, и мы часто прыгали с него.
Было тихо и пустынно. Я скатился несколько раз с горы, потом поднялся на нее и, опершись грудью на палки, стоял и смотрел на кружащийся в вихре снег, — на него можно смотреть неустанно, как на огонь.
И вдруг в порыве ветра донесся крик:
— Я-а-а-а!.. стя-а-а-а!..
Я огляделся — нигде никого.
Но опять то глуше, то отчетливее:
— Ось-тя-а!
И, наконец, ясно:
— Кос-тя-а-а!
Я повернулся точно на крик и увидел сверху через кустарник вдоль Сетуни — на задах фадеевской дачной усадьбы — его, Александра Александровича, в белом полушубке, а рядом с ним еще фигурку, «заснеженную, как рукавичка». Наверное, это была его жена. Он махал рукой в мою сторону и кричал: «Кос-тя-а!» Вероятно, он думал, что это катается Константин Симонов, — он жил на даче, возле переделкинской церкви.
Я сложил рупором ладони и крикнул Фадееву: «Это не Костя!» Видимо, ветер донес мои слова, и Александр Александрович перестал кричать, но стал показывать рукой, чтоб я скатился с горы.
Я оттолкнулся палками и полетел вниз через трамплин. Поднялся на гору и снова увидел, как Фадеев замахал рукой — дескать, давай еще раз. Он повернулся к спутнице и показывал на меня — смотри, как будет прыгать.
По просьбе Александра Александровича я съехал с горы через трамплин дважды.
Он поднял над головой сцепленные руки — поблагодарил.
Потом я увидел, как он подбежал к дереву, толкнул его, и на голову спутницы обрушилось облако снега.
Я мысленно услышал их смех.
А ему тогда оставалось жизни чуть больше трех лет.
14
«…ведь и м е н н о п и с а н и е м я смогу наибольшую пользу принести партии…
…Сколько ни думаю над этим, прихожу к выводу, что м н е н у ж н о в о в с е, н а г о д, н а д в а, у е х а т ь и з М о с к в ы… и вообще больше жить в провинции, больше смотреть, больше участвовать в строительной работе, преобразующей страну. Но как это сделать? Я знаю, что вся наша организация будет решительно против моего отъезда. АПО ЦК, вероятно, тоже будет против такого д л и т е л ь н о г о отъезда. С другой стороны, не встречусь ли я в провинции с меньшим п о н и м а н и е м значения моей писательской работы (помните, как относились к писателю на Северном Кавказе все, кроме Вас и Микояна), не получится ли так, что меня чрезмерно нагрузят там чем-нибудь посторонним? Когда Вас уже не было на Северном Кавказе и я работал в отделе печати крайкома, меня выдвинули еще редактором «Советского Юга». Я, мотивируя тем, что я пишу роман («Разгром»), просил не давать этой добавочной нагрузки, но Чудов стал кричать, что ежели партия потребует, то можно и «бросить романы». Как будто я писал себе в забаву! Как будто на место писателя так же легко найти заместителя, как на место редактора! Обо всем этом я хочу посоветоваться с Вами…»
Из письма А. Фадеева Р. С. Землячке (1929).15
Последняя моя студенческая зима в Переделкине. Почти каждый день метели.
Поздно вечером, около полуночи, я вышел побродить по городку писателей. Снежные рои вились вокруг высоких фонарей на улице Горького. Дорожные колеи присыпало. Ели на усадьбах, в затишке, стояли тихие и загадочные.
Я прошелся по улице к Мичуринцу. Повернул обратно. Напротив бывшей дачи Паустовского, метрах в полусотне, с поляны на улицу вышел мужчина. В высоких валенках, в полушубке с поднятым воротником, в снегу. Вышел на улицу и медленно пошел впереди меня. Я шел быстрее, стал догонять его и узнал Фадеева.
Я поотстал от него подальше, дабы не мешать его желанному, видимо, одиночеству. Он шел, приостанавливался под очередным фонарем, закидывал голову, придерживая рукой ушанку, чтоб она не упала с головы, и подолгу смотрел на роящийся снег вокруг фонаря. Потом снова двигался вперед, не стряхивая снег с плеч, печатая глубокий след на заснеженной улице. Снег тут же засыпал след, он становился нечетким, но все же явно угадывался на белизне дороги.
Издали казалось, Фадеев шел ровно. Но, вглядываясь в след, я заметил, что шаги местами шире, местами уже; видно было, где он замедлял ход, где убыстрял… Наверно, шаги отображали его одинокие раздумья в метельной ночи.
Дойдя до нашей дачи, я остановился и посмотрел на удаляющуюся заснеженную фигуру Александра Александровича. Вот он дошел до угла усадьбы детского санатория. Вот прошел дачу Погодина.
Вот уже метельная темень скрыла его.
На следующий день, вернее, вечер, под выходной, я еще позже вышел в метель. И, дойдя до той же поляны, встретил выходящего навстречу Александра Александровича. Как вчера, он шел весь в снегу, руки — в карманах полушубка, с поднятым воротником. Румяное лицо было мокрым от таявшего на нем снега.
Я остановился и поздоровался. Фадеев ответил и протянул теплую крепкую руку.
— Что ж это мы полуночничаем в одиночестве? — спросил он, выходя на дорогу и топая валенками, чтоб отряхнуть с них снег. Я смотрел на него и не понимал этого его «мы». То ли это докторское «мы», — когда доктор говорит «мы», а имеет в виду своего пациента — это что же мы приболели? То ли Александр Александрович действительно имеет в виду и свою одинокую полуночную прогулку.
Не дождавшись ответа, он сказал:
— А я вас где-то видел раньше…
— В Литинституте, — напомнил я и в двух словах рассказал о встрече пятилетней давности.
— Вот-вот, — оживился он. — Я могу забыть имя-фамилию. Но зрительная память у меня еще цепкая… Вы в какую сторону идете? Проводите меня.
И мы пошли вчерашним путем.
— Знаете, я чертовски люблю метели! Дожди люблю!.. Почему — я, пожалуй, толком и не объясню…
— Да, я видел вас вчера, и еще раньше…
— Но все-таки, почему вы один ночью на улице? — вернулся он к своему вопросу.
— Тревожно как-то на душе, — ответил я. — Тревожно: кончаю институт — что впереди?..
— Тревога за будущее, значит? — сказал Александр Александрович, поворачиваясь на ходу ко мне и рассматривая меня в упор. — Это закономерно и понятно — тревога за будущее. Другое дело, когда не дает спать тревога за прошлое. А сколько вам лет?
— Двадцать пять.
— О, да у вас в запасе вечность! — он рассмеялся тихо. — А кто вы — поэт, прозаик?
— По-моему, еще ни то и ни другое, — сказал я.
— Не слишком ли строго?.. А впрочем, в ваши годы я уже заканчивал «Разгром»…
Он помолчал. Потом воскликнул:
— Знаете, это славное было время!.. И тоже полное тревоги за будущее!..
И Фадеев долго говорил, вспоминал молодость, шум первого успеха, с радостью уходя от всего того, что вывело его в метель на пустынную улицу заснеженного городка. И, прощаясь, сказал:
— Хорошо мы так поговорили. И тревога ваша — хорошая тревога. Это правильно и закономерно. И я вас понимаю, очень хорошо понимаю… И беспощадность ваша к себе хорошая, но самоуничижать себя не надо. Желаю вам всего хорошего. У вас должно быть все лучше, чем у нас. Хотя и у нас было много хорошего. Вон я сколько навспоминал!..
И он как-то торопливо простился. Но когда я, отойдя поодаль, оглянулся, он стоял и смотрел вслед; увидев, что я оглянулся, помахал рукой.
Эта моя ночь была бессонной.
16
А. Фадеев мучился оттого, что он, талантливый художник, отдаваясь делу руководства Союзом писателей, лишен возможности писать.
В письме одной поэтессе он с болью пишет:
«Я прожил более чем сорок лет в предельной, непростительной, преступной небрежности к своему таланту».
Это — в начале пятидесятых годов.
Тогда же, в год своего пятидесятилетия, он обращается к И. В. Сталину с просьбой освободить его от обязанностей генерального секретаря Союза писателей СССР. Он пишет, что каждый день совершает «над собой недопустимое, противоестественное насилие», занимаясь чем угодно, но только не тем, что является его призванием.
17
Из письма Э. Шуб. 28.3.55.
«…Днем пишу, а вечером читаю… Не могу не согласиться с чудным замечанием Стендаля: «Люди, имеющие врага в лице собственного воображения, перед предстоящим им трудным делом должны много работать, а не размышлять». В конце концов самое нужное для других и самое счастливое для себя, что мы можем с тобой делать, — это писать».
Черт возьми, надо, чтоб и другие, особенно те, от которых зависит твое счастье, понимали это.
18
«…В двадцатых числах мая придется ехать в Хельсинки, где мне предстоят тяжелые дни и ночи. Как я не люблю эти поездки! Попадаешь в чудесные, новые места, но ничего решительно не видишь, целые дни и ночи заседаешь, совещаешься, споришь, согласовываешь несогласуемое, и все с одними и теми же людьми, обкуриваемый сладким дымом сигарет…»
Из апрельского письма 1955 г.
…Зачем бы мне выписывать это?.. А не могу не выписать. Все это заставляет думать о жизни художника, о своей жизни.
19
9 декабря 1955 года.
«Отсоветовал МХАТу инсценировать «Разгром»: не ко времени (переговоры с Японией, патриотические настроения в рядах белой эмиграции, Морозку и Варю заставят «приглаживать», а «приглаженные» они никому не нужны). «Разгром» это все-таки вещь «камерная». Не на этих путях, мне кажется, Художественный театр должен искать пути возрождения…»
Вот положение даже для Фадеева: «заставят «приглаживать»… И согласись он на инсценировку, он вынужден был бы «приглаживать»… Как это он сделал с «Молодой гвардией».
20
У Фадеева очень много спорных, а то и просто неверных высказываний о различных писателях. И мимо этого, на мой взгляд, нельзя проходить. При всем уважении к знаменитому писателю.
Вот что Фадеев писал о Чехове в 1944 году (в связи с сорокалетием со дня смерти).
«Чехов несомненно один из самых чудесных писателей на земле. Но очень трудно прочесть много чеховской прозы подряд: все-таки, если его читать много подряд, делается скучновато. Почему? Он умен на редкость, хочет счастья людям, во всех его рассказах есть «второй план». Чехов необыкновенно чист, прозрачен, прост. Нельзя сказать, чтобы он был только аполитичен, но несомненно эмоционален; в большинстве рассказов нет ничего лишнего, юмор его обаятелен, рассказы его занимательны даже с точки зрения их сюжетного построения… Но много читать его подряд скучно. Потому что люди его однообразны и неинтересны. Их трудно любить. Все то великое, что всегда было в народе — особенно в период творчества Чехова, что нашло свое выражение в миллионах незаурядных людей из простого народа и в титанических фигурах русских революционеров, русских ученых, гигантов литературы, живописи и театра, — все это решительно прошло мимо Чехова-писателя… Стоит задуматься над тем, что в это время Толстой написал «Хаджи Мурата», «Воскресение», «Отца Сергия» и все свои народные рассказы-притчи. Что вскоре пришел Горький со своими народными низами, полными мощной крови.
Сила Толстого перед Чеховым не только в том, что Толстой вообще гигант и потому глубже чувствовал народную жизнь. Сила Толстого еще и в том, что он — беспощадный русский реалист — глубоко героичен… Вряд ли Горький с чисто профессиональной точки зрения писатель более крупный, чем Чехов. Но Горький — писатель героический и тоже мощнее Чехова.
Действительность Чехова скучна, потому что он не понимал, что «действительность в искусстве надо выращивать, как грушу Монстрелля», что подлинная мощь реализма — там, где идет борьба между геройством и подлостью, добром и злом и где оба начала воплощены в борющихся людях, выражены через борьбу людей…»
Далее Фадеев, ставя выше прозы Чехова его пьесы, говорит, что «действительность Чехова — только одна из сторон русской действительности его времени, данная в невероятном застое», что даже в изображении интеллигенции Чехов «не достиг высоты общечеловечности», что «в народе были рядовые Мичурины, Менделеевы, Репины, Чайковские, а главное, уже росли рядовые Ленины, и они, эти маленькие люди, были очень ярки, как и их высшие прообразы, — они совсем не походили на Дымова и на Кириллова, но Чехов не видел этого». И потому, скажем, Толстой и его герои для современников — «более понятны и близки»…
Четыре года спустя, говоря о книге Ермилова о Чехове, Фадеев отметил, что «Ермилов недостаточно критикует Чехова за его аполитичность. Ермилов слишком аполитичен по отношению к Чехову…».
Думаю, что во всем этом Фадеев не прав.
Что из того, что Чехова скучно «читать много подряд»? Это ничего не доказывает. Любой писатель может наскучить, если его «читать много подряд». Главное не в этом.
Главное, на мой взгляд, вот что.
Во-первых, Фадеев, оценивая Чехова, пренебрег основным заветом, идущим от Пушкина, — судить художника по его собственным законам. Если даже согласиться с тем, что «действительность Чехова — только одна из сторон русской действительности его времени», то как раз эту свою действительность Чехов написал как никто другой, и рядом с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Тургеневым, Достоевским Чехов — есть Чехов. Чехов как раз и делал то, что не делали ни Толстой, ни Тургенев… Такового его и надо оценивать, а главное, оценивать то, о чем Чехов написал, а не то, о чем он и не думал писать. Если идти дальше по Фадееву, то как Чехов не увидел Мичуриных, Менделеевых, Чайковских и, наконец, Лениных, то так же не видели своих великих современников и Гоголь, и Салтыков-Щедрин, да и тот же Лев Толстой, если на то пошло. Где у них великие их современники в «Мертвых душах» и в «Ревизоре», или в «Истории одного города», или в «Воскресении»? Тогда, скажем, и «Мертвые души» — всего лишь одностороннее изображение действительности, особенно без глав о капитане Копейкине. Недаром же Пушкин воскликнул: «Боже мой, как грустна наша Россия!..» Но почему-то не сказал Гоголю: «Послушайте, Николай Васильич, написали бы вы и о нас с вами, о Гоголе, о Пушкине (мы ли не антиподы Манилова, Ноздрева и Плюшкина!), и было бы веселее читать вашу поэму!..»
Когда Фадеева и Малышкина критики столкнули лбами, Фадеев совершенно справедливо писал:
«Нехорошо то, что рецензент нашел возможным противопоставлять друг другу два литературных явления, действующих «по одну сторону баррикад» в широком смысле…»
Вот тут начинается во-вторых. Фадеев забыл об этом, оценивая Чехова.
Тургенев, Толстой, Короленко, Горький, Чехов — литературные явления, действующие «по одну сторону баррикад» в широчайшем смысле. В разное время и одновременно по-разному отображали они российскую жизнь, ставя на ее основе общеевропейские и общечеловеческие вопросы, готовя революционную ситуацию. Разве случайно то, что Чехов был любим «не замеченными» им Лениным и Чайковским, Толстым и Горьким?
Разве случайно, что Чехов триумфально идет сейчас по всему миру? Не потому ли последние три десятка лет его называют великим безо всяких обиняков? А то он все ходил в известных, выдающихся…
Чехов велик тем, что он сделал в отечественной культуре. Художника, который бы сделал то, чего мы пожелали бы все и каждый, не было и не будет.
Нет, дорогой Александр Александрович, вы не правы в своих претензиях к Антону Павловичу.
Прав Горький, который сказал о Чехове:
«Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, — искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью».
Из современников Чехова немногие поняли эту его благородную миссию. Мы должны понять и принять ее без оговорок.
На земле Чехову еще много дел.
* * *
А что он писал о современниках…
«…М. Зощенко и А. Ахматова сильны не сами по себе, они являются как бы двумя ипостасями глубоко чуждого и враждебного нам явления… писания Зощенко и Ахматовой являлись отражением на нашей почве того процесса, который в условиях Западной Европы дошел до своего логического конца и выражает глубокий духовный кризис…
Обывательское злопыхательство и религиозная эротика Ахматовой не случайно шли рядом…»
1948—1956 гг.
О Б. Пастернаке.
«Критика еще не до конца выполнила свой прямой долг в осуществлении постановления Центрального Комитета партии (постановление 1946 г. — М. Ш.).
Критика должна, к примеру, разобрать поэзию Пастернака и доказать, что она занимает отсталые позиции. Попробуйте перечитать раннюю лирику Пастернака. Как быстро она устарела! Она вызывает улыбку своей формалистической претенциозностью. Нельзя не поражаться, как смогли поэт П. Антокольский и критик А. Тарасенко поднять на щит последнюю лирическую книгу Пастернака. В этой книге такой убогий мирок в эпоху величайших мировых катаклизмов!.. Нельзя принижать достоинство советской литературы, поднимать подобную позицию на щит. Нужно понять, что жизнь ушла вперед. Кое-что существенное для поэзии было в свое время открыто Пастернаком, но жизнь уже перешагнула его. Его муза давно стала провинциальной музой. В то же время она несет с собой некоторые черты, губительные для нашей молодежи в условиях великой всемирно-исторической борьбы, — индивидуализм, аполитичность…»
Об А. Платонове.
«Как выглядит наш идейный противник сегодня?
С одного конца вдруг вылазит что-нибудь вроде «Семьи Ивановых» А. Платонова, где советский человек показан низменным, пошлым, а с другого конца нет-нет да и вылезут стишки индивидуалистического порядка, с пессимизмом, с нытьем. Это ипостаси одного и того же явления…»
Боже мой, каково было читать это честнейшим писателям!.. После каждого из этих выступлений в те времена человек, о котором шла речь, со дня на день ждал ареста… И уже не удивишься, что в «делах» репрессированных писателей среди чиновничьих подписей под резолюциями в поддержку ареста была подпись Фадеева…
И всем этим людям, которых не успели «взять», которые выжили в сталинских концлагерях и возвращались оттуда, как и шли туда, ни в чем не виноватыми, Фадеев должен был смотреть в глаза…
Да, ему оставалось только одно — самому уйти из жизни. Все стало явным. Неужто он рассчитывал на иное?.. Но теперь жить с таким грузом он не мог…
21
Так много сказали и объяснили мне строки из письма В. Ермилову 12 ноября 1955 года, опубликованного в двенадцатом номере журнала «Москва» за 1971 год.
Ермилов, видимо, сетует, что он и Фадеев последние пять лет «так исключительно редко стали встречаться, советоваться, обмениваться решительно всем на свете, как это мы делали раньше по глубокой и непосредственно внутренней необходимости…» Ермилов ищет причину этого.
А. А. Фадеев отвечает:
«…Твоя жизнь чем-то о ч е н ь п о х о ж а (подчеркнуто Фадеевым. — М. Ш.) с моей. И я знал, что при такой жизни мы при частом общении не только не поможем друг другу, а будем тянуть друг друга «вниз». Ведь мы с тобой не только литературные единомышленники, но и старинные друзья, привыкшие к предельной откровенности, искренности не по Румянцеву, — к тому же еще и люди активные, невыдержанные, изобретательно-словоохотливые. И мы не могли бы не делиться всем самым тяжелым, чем сопровождалась наша жизнь за эти годы, потому что она, эта жизнь, была и у тебя, и у меня тяжелой. Мы не могли бы помимо нашей воли не обрушивать друг на друга всю эту тяжесть, и мы чувствовали это на расстоянии, и более или менее неосознанно не допускали себя до сближения.
Вот что нас «разобщило» и ничто другое…
Невозможно было бы, чтобы мы не поделились друг с другом этими сторонами нашей жизни. И, вероятно, мы еще вернемся к этому. Но, конечно, на определенном «этапе» нам уже не стоит говорить об этом. Лучше д е й с т в е н н о (подчеркнуто Фадеевым. — М. Ш.) помогать друг другу, и в то же время не ослаблять друг друга душевно. Когда я говорю о сокращении душевных сил, то я имею в виду именно запас этих сил, а не качество души, не очерствение. Так давно зная тебя и очень ясно сознавая то, что происходит в моем душевном мире, я думаю, что мы стали даже отзывчивее, внимательнее к людям и их нуждам, чем в молодости с ее счастливым эгоизмом, хотя и тогда мы не были черствы…»
Оказывается Ермилов был так близок Фадееву. Но, думаю, вряд ли он понимал — что уже тогда происходило в душе Александра Александровича.
22
Слова Шолохова о Фадееве на XX съезде КПСС:
«…На что мы пошли после смерти Горького? Мы пошли на создание коллективного руководства в Союзе писателей во главе с тов. Фадеевым, но ничего путевого из этого не вышло… Фадеев оказался достаточно властолюбивым генсеком и не захотел считаться в работе с принципом коллегиальности. Остальным секретарям работать с ним стало невозможно. Пятнадцать лет тянулась эта волынка. Общими и дружными усилиями мы похитили у Фадеева пятнадцать лучших творческих лет его жизни, а в результате не имеем ни генсека, ни писателя… Долгие годы Фадеев участвовал в творческих дискуссиях, выступал с докладами, распределял квартиры между писателями и ничего не писал… никто из крупных прозаиков не ходил к Фадееву учиться писать романы… Фадеев не мог быть и не был для нас непререкаемым авторитетом в вопросах художественного мастерства…»
Это прочтение его, фадеевских, мыслей. Это страшно. Фадеев и упивался своим положением и мучился им. В часы мучений он и обращался к Сталину с просьбой освободить его от поста генерального секретаря Союза писателей. Но он, скорей всего, думал, что э т о его сокровенное. А оказывается, э т о знают… Капля, переполнявшая чашу…
23
Прочитал «Письма о юности». Письма Асе Колесниковой. Исповедь перед концом. Исповедь по ночам…
Боже мой. Фадеев был одинок… Фадеев был несчастлив — этот умненький мальчик с большими ушами…
Это почему-то трудно представить, как трудно представить и одиночество Маяковского. Многие ли знали о его боли?..
24
Был на открытии памятника А. А. Фадееву в Москве.
Осмотрел всю композицию. И то мне виделся Фадеев, приехавший, уже будучи знаменитым, в родной край; поднявшись на сопку, он вглядывается куда-то в даль и, должно быть, ищет глазами Сашу Булыгу и, может, даже видит его. А то я видел Левинсона в облике Александра Александровича и вспоминал последние строчки «Разгрома» — надо было жить и исполнять свои обязанности.
1949—1975
О ШОЛОХОВЕ Из записной книжки
1
Канун Великой Отечественной.
Мой старший товарищ взял для меня в школьной библиотеке (мне таких книг еще не давали) первые два тома «Тихого Дона», изданные в серии «Дешевая библиотека». Книги были зачитаны и испещрены карандашными пометками.
К тому времени я уже много прочитал. Но так — запоем! — не читал ни одной. Первый раз я читал «Тихий Дон» с большими пропусками — лишь те главы, в которых действовали Григорий и Аксинья. Потом снова — уже все подряд. Уходил на огород в подсолнухи — высокие, с огромными шляпами — и просиживал с книжкой с утра до вечера. Казалось, что здесь же, где-то рядом, в подсолнухах, затаились Гришка и Аксинья. Я ловил ухом их сторожкий шепот… Тогда мне было двенадцать лет.
2
Изо всех людей, близких мне или просто знакомых, я не знаю ни одного, который бы не читал книг Шолохова.
Помню, заканчивал я педучилище и проходил практику в одной россошанской начальной школе. Как-то между уроками разговорился со старой учительницей. Она оказалась уроженкой Вешенской, родители ее жили рядом с Шолоховыми.
С какой любовью говорила она о Михаиле Александровиче, о его матери!..
— Теперь вот живу все-таки далеко от Дона. И я не расстаюсь с его книгами. Они — мое детство, моя юность, моя радость и боль. Каждая страничка пахнет родными донскими запахами. И я бы так и побежала на родную сторону, на Дон — по чебрецу, по полынку, по вытоптанным коровами стежечкам!..
3
Для моего отца Шолохов — самый близкий из всех живущих ныне писателей. Когда мы с отцом беседуем о нем, отец часто говорит:
— Мэнэ удивля, сынок, одно. Якого писателя прочитаешь — и тут же забув. А Шолохов вэсь помнытся. Вэсь до якой-нибудь сережки в ухе Гришкиного батька Пантелея. От як!..
Помолчит и добавит:
— Шо ж, сыну?.. Цэ ж одна правда, да и всэ.
Однажды я подшутил над отцом.
— Конечно, — говорю, — взять хотя бы деда Щукаря. Может, Шолохову кто рассказал про случай с вами…
В жизни отца был эпизод, который напоминал одну из историй со Щукарем.
Как-то, еще до коллективизации, цыгане подпоили отца на базаре и всучили ему слепую кобылу. А у него увели доброго жеребца.
Отец не любит вспоминать про это. И на этот раз он досадливо махнул рукой и сказал:
— Главнэ дило не в Щукаре!.. Шо ж ты, не понимаешь, чи шо?.. Главнэ дило в Гришке! В Мелехове Гришке!.. От шо! Поняв? А ты — Щукарь, Щукарь!..
4
Как-то отец перечитывал «Тихий Дон», заканчивал последнюю книгу. Сидел один в горнице. А я наблюдал за ним из кухни.
У отца образование — четыре класса церковно-приходской школы. Он читает шепотом. Читает медленно. Но запоминает прочитанное на всю жизнь. И страшно все переживает.
И в этот раз он вдруг захлопнул книжку, швырнул на стол очки и громко сказал, неизвестно к кому обращаясь:
— Ну, чого!.. Чого ж ему не повирылы?! Вин уже ж так умотався… так умотався, Гришка той…
Увидел меня, смутился своей горячности и, уже как бы оправдывая горячность, продолжал:
— Ну, ты подумай, сынок… Хто ж Гришку знав лучше, чем Кошевый?.. Хто?.. И хто ж ему мог повирыть, як не Кошевый? Вин же, Мишка Кошевый, за революцию стояв. Значит, перво-наперво вин и должен був вирыть чоловику!.. А вин не повирыв!.. Не повирыв и товкнув Гришку в банду… А шо б же ему повирыть! А? Гришка ж вэсь истлив душою, вин уже тильки й думав шо за землю, за плуг да за дитэй своих…
— Теперь-то рассуждать — оно полегче… — сказал я.
Отец не стал слушать моего ответа. Махнул рукой, вышел во двор и с полчаса молча курил на бревнах…
Жизнь в книгах Шолохова — это во многом жизнь отца. И отцовские раздумья над шолоховскими книгами — мучительные раздумья над собственной жизнью.
Постигая книги Шолохова, я постигал жизнь отца.
5
Вот судьба истинно художественных произведений.
Чем больше проходит времени, тем выше в нашем сознании поднимается «Тихий Дон».
6
Чирикнув раза два в рифму, глядишь, какой-нибудь молодой бородатый бард днями и вечерами сидит в ресторане и вершит языком судьбы мировой словесности, неистово заботясь прежде всего о своей судьбишке…
А он?!
С первой же книгой рассказов, отмеченный и благословленный маститым Серафимовичем, он в самый разгар непрерывных сражений и драк литературных групп и группировок, в разгар литературного вождизма уехал из столицы в Вешенскую и — начал «Тихий Дон».
И это в двадцать лет!
Гений!
7
Один раз я видел его близко-близко.
Декабрь 1949 года. Вечер в Большом зале Московской консерватории, посвященный 70-летию И. В. Сталина.
В президиуме известнейшие писатели. Блеск наград.
Ведет вечер Николай Тихонов. Рядом с ним — Шолохов. В военном кителе без погон. На груди — только депутатский значок.
Что Шолохов в президиуме — все замечают сразу. По залу несется: «Шолохов! Шолохов!.. Где? Да вон, в самом центре!..»
Шолохов — редкий гость Москвы. И почти никогда не появляется перед публикой. Ходит молва, что якобы когда он бывает в столице, то чаще всего заходит к Платонову.
Я — первокурсник Литературного института — сижу в последних рядах партера. Разглядеть бы лицо — не разглядишь.
Первым выступает М. Исаковский. И пошло все своим чередом. Публика всех приветствует.
Но вот Тихонов говорит, что слово предоставляется Михаилу Александровичу Шолохову.
Фамилия тонет в шквале аплодисментов. Шолохов поднимается, но к трибуне не идет.
Зал встает.
Михаил Александрович поднимает руки, призывая утихнуть. Аплодисменты громче. Он кладет руку на сердце, взывая к публике. Но публика не унимается.
Овация продолжается долго. Наконец зал утихает. Шолохов говорит. Но так тихо, что ничего не разобрать.
— Громче! — раздаются выкрики из зала.
— Не слышно!
— К микрофону!
Шолохов поворачивается к Тихонову, что-то говорит и садится.
Тихонов склоняется над микрофоном.
— У Михаила Александровича настолько болит горло, что он не может выступить… Текст его выступления прочитает артист Всеволод Аксенов.
Гул разочарования.
Всеволод Аксенов читает с трибуны статью Шолохова, опубликованную накануне в «Правде».
В перерыве ищу Шолохова. Нахожу его беседующим с каким-то генералом. Они стоят в зале. Рядом с Михаилом Александровичем средних лет женщина. Может быть, Мария Петровна, жена Шолохова. Не знаю.
Первое, что меня поражает, — невысокий рост Михаила Александровича. Как Толстой, он по произведениям представляется гигантом. И так же, как Толстой, он среднего роста. Отмечаю у него сходство с любимыми его героями: разметновские пушистые, но уже с проседью усы, по-нагульновски кавалерийские ноги. Над высоким лбом седые вьющиеся волосы, на висках — набухшие веточки жилок. Умные голубовато-серые глаза добро улыбаются собеседнику. Взгляд мой останавливают удивительные в своем беспокойстве руки. С широкими ладонями, с костисто-узловатыми пальцами, такие руки, по народной примете, — руки мастерового человека. Такими руками можно делать все доброе, и делать хорошо. Думаю, он многое может сам по хозяйству. Уверен, что на рыбалке и на охоте всю черновую работу этих промыслов он делает сам.
Лицо — то все улыбка, то все обдумывание того, что говорит собеседник. Кажется, и руки — и добро улыбаются, и беспокойно что-то обдумывают.
Михаил Александрович стоит и жадно затягивается «Беломором». Генерал перед ним, как перед командующим.
Да, это стоит он, создавший Григория и Аксинью, Мишку Кошевого и Наталью, Пантелея Прокофьевича и Штокмана, Давыдова и Щукаря, Нагульнова и Лушку… Он, заставляющий современников мучительно думать о жизни, смеяться, плакать…
Стою совсем-совсем рядом с ним. Замечаю, что многие участники вечера и писатели норовят пройти поближе к нему.
8
Первые же две книги «Тихого Дона» поставили Шолохова в ряд крупнейших художников мира. Многие даже самые отъявленные враги всего советского не могли не признать шекспировскую силу его таланта. Отсюда же их устремление искалечить роман при изданиях — ослабить неотразимость воздействия. Это далеко не первый случай в истории. И судьба шолоховского «Тихого Дона» — судьба многих великих книг.
Но есть все-таки закономерность: крупное чаще всего отмечают крупные. Во всяком случае, быстрее других.
С появлением первых книг «Тихого Дона» многие критики начали ожесточенные наскоки на автора, ожесточенные споры между собой. Наскоки и споры всколыхнулись с новой силой, когда роман был закончен.
Б. Емельянов в журнале «Литературный критик» № 11—12 за 1940 год вынужден был написать:
«Все самые непримиримые критики покорены художественной силой финала. Но, придя в себя, они обрушиваются на роман… Что-нибудь одно: либо перед нами редкостное в истории несовпадение эстетических критериев и мастерства художника, или неслыханное банкротство критики».
По всей видимости — второе.
Чутче оказались писатели.
Серафимович:
«…Ехал я по степи. Давно это было, давно — уж засинело убегающим прошлым. Неоглядно, знойно трепетала степь и безгранично тонула в сизом куреве. На кургане чернел орелик, чернел молодой орелик. Был он небольшой; взглядывая, поворачивал голову и желтеющий клюв. Пыльная дорога извилисто добежала к самому кургану и поползла, огибая. Тогда вдруг расширились крылья, — ахнул я… расширились громадные крылья. Орелик мягко отделился и, едва шевеля, поплыл над степью.
Вспомнил я синеюще-далекое, когда прочитал «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Молодой орелик, желтоклювый, а крылья размахнул. И всего-то ему без году неделя. Всего два-три года чернел он чуть приметной точечкой на литературном просторе. Самый прозорливый не угадал бы, как уверенно вдруг развернется он. Неправда, люди у него не нарисованные, не выписанные — это не на бумаге. А вывалились живой, сверкающей толпой, и у каждого — свой нос, свои морщины, свои глаза с лучиками в углах, свой говор. Каждый по-своему ненавидит. И любовь сверкает, искрится и несчастлива по-своему. Вот эта способность наделить каждого собственными чертами, создать неповторимое лицо, неповторимый внутренний человеческий строй — эта огромная способность сразу взмыла Шолохова, и его увидели…»
Горький о «Тихом Доне»:
«Его можно сравнить только с «Войной и миром» Толстого».
Луначарский:
«Еще не законченный роман Шолохова «Тихий Дон» — произведение исключительной силы по широте картин, знанию жизни и людей, по горечи своей фабулы. Это произведение напоминает лучшие явления русской литературы всех времен».
В этих высказываниях чувствуется радость от встречи с талантом. Это удел больших людей. Не зависть, а радость!..
Последующие отзывы выдающихся людей мира — нашего Бунина, француза Роллана, англичанина Сноу, американца Хемингуэя, финна Ларни… будут лишь углублять эти оценки, придавая им свой — национальный и художнический — колорит.
9
Есть два отзыва А. Н. Толстого о романе «Тихий Дон».
В ноябре 1940 года роман «Тихий Дон» обсуждался в Комитете по Сталинским премиям. А. Н. Толстой был членом комитета и председателем литературной секции. Вот что он написал тогда о «Тихом Доне»:
«Как бы ни хорошо было сделано произведение искусства, мы оцениваем его по тому окончательному впечатлению, которое оно оставляет в нас, по той внутренней работе, которую оно продолжает совершать в нас… Влияние художественных произведений есть мерило их качества…
Можем ли мы к роману «Тихий Дон» Шолохова приложить мерило такой оценки?
Книга «Тихий Дон» вызвала и восторги и огорчения среди читателей. Общеизвестно, что много читателей в письмах своих требуют от Шолохова продолжения романа. Конец четвертой книги (вернее, вся та часть повествования, где герой романа Григорий Мелехов, представитель крепкого казачества, талантливый и страстный человек, уходит в бандиты) компрометирует у читателя и мятущийся образ Григория Мелехова, и весь созданный Шолоховым мир образов — мир, с которым хочется долго жить, — так он своеобразен, правдив, столько в нем больших человеческих страстей.
Такой конец «Тихого Дона» — замысел или ошибка? Я думаю, что ошибка, причем ошибка в том только случае, если на четвертой книге «Тихий Дон» кончается… Но нам кажется, что эта ошибка будет исправлена волей читательских масс, требующих от автора продолжения жизни Григория Мелехова.
Почему Шолохов так именно закончил четвертую книгу? Иначе окончить это художественное повествование в тех поставленных автором рамках, в которых оно протекало через четыре тома, — трудно, может быть, даже и нельзя. У Григория Мелехова был выход — на иной путь. Но если бы Шолохов повел его по этому другому пути — через Первую Конную — к перерождению и очищению от всех скверн, композиция романа, его внутренняя структура развалилась бы… Роман ограничен узким кругом воззрений, чувствований и переживаний старозаветно казачьей семьи Мелехова и Аксиньи. Выйти из этого круга Шолохов, как честный художник, не мог. Он должен был довести своего героя до неизбежной гибели этого обреченного мирка, до последней ступени, до черного дна.
Семья Григория Мелехова погибла, все, чем он жил, рухнуло навсегда… И читатель законно спрашивает — что же дальше с Григорием?..
Григорий не должен уйти из литературы как бандит. Это неверно по отношению к народу и к революции. Тысячи читательских писем говорят об этом… Мы все требуем этого. Но, повторяю, ошибка только в том случае, если «Тихий Дон» кончается на 4-й книге. Композиция всего романа требует раскрытия дальнейшей судьбы Григория Мелехова.
Излишне распространяться о художественном качестве романа. Оно на высоте, до которой вряд ли другая иная книга советской литературы поднималась за двадцать лет. Язык повествования и язык диалогов живой, русский, точный, свежий, идущий всегда от острого наблюдения, от знания предмета. Шолохов пишет только о том, что глубоко чувствует. Читатель видит его глазами, любит его сердцем…
Роман Шолохова будет в нас жить и будить в нас глубокие переживания и большие размышления, и несогласия с автором, и споры; мы будем сердиться на автора и любить его… Таково бытие большого художественного произведения».
Нельзя не заметить противоречивости этого отзыва.
С одной стороны, А. Н. Толстой высоко и справедливо оценивает художественную силу и художественные достоинства романа, ставит его на первое место в советской литературе. Он говорит, что «роман Шолохова будет в нас жить и будить в нас глубокие переживания и большие размышления…». Большой художник, А. Н. Толстой понимает, что «иначе окончить это художественное повествование… трудно, может быть, даже и нельзя… если бы Шолохов повел его (Григория. — М. Ш.)… к перерождению и очищению от всех скверн, композиция романа, его внутренняя структура развалилась бы…»
С другой стороны, вместе с тысячами читателей А. Н. Толстой требует изменения конца книги, продолжения романа, «раскрытия дальнейшей судьбы Григория Мелехова…». Тут же А. Н. Толстой говорит о том, что «роман ограничен узким кругом воззрений, чувствований и переживаний старозаветно казачьей семьи Мелехова и Аксиньи».
Известно, что Шолохов остался верен себе и, слава богу, выстоял перед требованиями и читателей, и собратьев по перу. И два года спустя А. Н. Толстой скажет уже безо всяких оговорок:
«В «Тихом Доне» М. Шолохов развернул эпическое, насыщенное запахами земли, живописное полотно из жизни донского казачества. Но это не ограничивает большую тему романа: «Тихий Дон» по языку, сердечности, человечности, пластичности — произведение общерусское, национальное, народное».
10
28 февраля 1933 года Гинденбург и Гитлер подписали закон «Об охране немецкой расы». По этому закону подлежали запрещению и сожжению книги Максима Горького, Михаила Шолохова, Алексея Толстого… Тогда же, в 1933-м, фашисты жгли книги Вольтера, Гейне, Роллана, Ремарка.
На книги многих прекрасных писателей наложил запрет Сталин. Недавно этим был занят Мао Цзэдун.
И совсем недавно — Пиночет…
Вот кого боятся диктаторы.
11
Говорят, во время работы над «Тихим Доном» настольной книгой Михаила Шолохова была «Война и мир». Очень может быть. Думаю, что могли быть настольными и книги Гоголя. Доброе влияние этих двух великих художников — нельзя не заметить.
Есть очевидные, на мой взгляд, свидетельства учебы и у Толстого, и у Гоголя.
Вспомните первую встречу Анны Карениной с Вронским. Нет ни слова о том, что Анне он понравился. Но Толстой сказал это одной деталью.
До встречи с Вронским Анна несколько лет прожила с Карениным и не замечала, какие у него уши. Но после общения с Вронским, по возвращении домой, на вокзале, первое, что она увидела — это странные, некрасивые, торчащие из-под шляпы уши мужа.
А вспомните сцену возвращения Степана Астахова из лагерей, когда Аксинья уже встречалась с Гришкой и полюбила его. Она, как и Анна, с отвращением в первые же минуты приезда Степана заметила мышиные его ушки и как они двигаются, когда Степан ест за столом.
Или другой случай. Мы знаем, как многозначительно описание дважды одного и того же дуба у Толстого в «Войне и мире». Преображение дуба символизирует преображение князя Андрея.
А вот описание дуба в «Поднятой целине».
«…Высокий, прогонистый дуб, мачтового роста и редкостной строевой прямизны, горделиво высился над низкорослыми, разлапистыми караичами и вязами-перестарками. На самой маковке его, в темной глянцево-зеленой листве угрюмо чернело воронье гнездо. Судя по толщине ствола, дуб был почти ровесником Якова Лукича, и тот, поплевывая на ладони, с чувством сожаления и грусти взирал на обреченное дерево.
Сделал надтес, надписал на обнаженной от коры боковине чернильным карандашом «Г. К.» и, откинув ногой сырую, кровоточащую соком щепу, сел покурить. «Сколько годов ты жил, браток! Никто над тобой был не властен, и вот подошла пора помереть. Свалят тебя, растелешат, отсекут топорами твою красу — ветки и отростки, и повезут к пруду, сваей вроют на месте плотины!.. — думал Яков Лукич, снизу вверх посматривая на шатристую вершину дуба. — И будешь ты гнить в колхозном пруду, пока не сопреешь. А потом взломной водой по весне уволокет тебя куда-нибудь в исход балки — и все тебе, конец!»
От этих мыслей Яков Лукич вдруг больно ощутил какую-то непонятную тоску и тревогу. Ему стало не по себе. «То ли уж помиловать тебя, не рубить? Не все же колхозу на пропастишшу… — и с радостным облегчением решил: — Живи! Расти! Красуйся! Чем тебе не жизня? Ни тебе налогу, ни самооблогу, ни в колхоз тебе не вступать… Живи, как господь тебе повелел!»
Он суетливо вскочил, набрал в горсть глинистой грязи, тщательно замазал ею надтес. Из отножины шел довольный и успокоенный…»
Как через этот дуб раскрыт Яков Лукич! Судьба дуба, по Островнову, — судьба самого Островнова. Яков Лукич, как дуб, крепок. И жил крепко. Он «горделиво высился» над станичниками. У него дома свили «воронье гнездо» Половцев и Лятьевский. И как щепа исходит соком, кровоточит душа Островнова, на которой уже поставил свою мету «Г. К.» — гремяченский колхоз. Раздумье о том, что будет с дубом, — это раздумье о своей судьбе. Спасая дуб, он жаждет своего спасения…
Очень много сказано описанием дуба.
А возьмите лирические отступления у Шолохова. Они конечно же сродни лирическим отступлениям Гоголя.
«…Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок, суходолов, красно-глинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу… Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, нержавеющей кровью политая степь!»
Черт вас возьми, степи, как вы хороши у Шолохова!
Период учебы у него удивительно короток. К двадцати годам Шолохов без ошибки выбрал себе учителей, постиг секреты мастерства классиков и, продолжая их великие традиции, пошел дальше — написал новую жизнь народа по-новому, по-своему, по-шолоховски.
Потому-то все и ахнули. Размахнул орелик крылья!..
Кстати, о роли Льва Толстого в жизни современных писателей. Любопытный факт. Говорят, когда в июне 1941-го в правлении Союза писателей собрались писатели, уезжающие на фронт, то чуть ли не у каждого в вещевом мешке, вместе с самым необходимым, были «Севастопольские рассказы» Льва Николаевича.
12
Мы часто говорим: «Об этом надо писать. А об этом не надо… А о том невозможно сказать…»
Сколько у Шолохова ситуаций, которые для других писателей просто немыслимы, которые смог написать только он.
Ну, скажем, сцена в рассказе «Судьба человека», когда комендант концлагеря «угощает» Андрея Соколова. Это один из кульминационных моментов. В нем сильно проявляется характер Соколова.
Или сцена избиения бабами Давыдова в «Поднятой целине».
Или еще пример. Помню, во время войны мама стирала старое солдатское обмундирование для наших госпиталей. Оно было пропитано фронтовым соленым потом, пробитое осколками и пулями, залитое кровью. Нередко в карманах гимнастерок мы с ней находили «святые» письма — обращения к богу, чтоб он спас от гибели. Письма были тоже пробиты и окровавлены. Бог не спасал…
Кто из писателей задумался над этим? Кто написал об этом? А Шолохов написал. И как!
«…Давно уже не был Звягинцев под таким сосредоточенным и плотным огнем, давно не испытывал столь отчаянного, тупо сверлящего сердце страха… Так часто и густо ложились мины и снаряды, такой неумолчный и все нарастающий бушевал вокруг грохот, что Звягинцев, вначале как-то крепившийся, под конец утратил и редко покидавшее его мужество, и надежду уцелеть в этом аду…
Бессонные ночи, предельная усталость и напряжение шестичасового боя, очевидно, сделали свое дело, и, когда слева неподалеку от окопа разорвался крупнокалиберный снаряд, а потом, прорезав шум боя, прозвучал короткий неистовый крик раненого соседа — внутри у Звягинцева вдруг словно что-то надломилось. Он резко вздрогнул, прижался к передней стенке окопа грудью, плечами, всем своим крупным телом и, сжав кулаки так, что онемели кончики пальцев, широко раскрыл глаза. Ему казалось, что от громовых ударов вся земля ходит ходуном и колотится, будто в лихорадке. И он, охваченный безудержной дрожью, все плотнее прижимался к такой же дрожащей от разрывов земле, ища и не находя у нее защиты…
Только на миг мелькнула у него четко оформившаяся мысль: «Надо бы окоп поглубже отрыть…», — а потом уже не было ни связных мыслей, ни чувств, ничего, кроме жадно сосавшего сердце страха. Мокрый от пота, оглохший от свирепого грохота, Звягинцев закрыл глаза, безвольно уронил между колен большие руки, опустил низко голову и, с трудом проглотив слюну, ставшую почему-то горькой, как желчь, беззвучно шевеля губами, начал молиться.
В далеком детстве, еще когда учился в сельской церковно-приходской школе, по праздникам ходил маленький Коля Звягинцев с матерью в церковь, наизусть знал всякие молитвы, но с той поры в течение долгих лет никогда никакими просьбами не беспокоил бога, перезабыл все до одной молитвы — и теперь молился на свой лад, коротко и настойчиво, шепча одно и то же: «Господи, спаси! Не дай меня в трату, господи!..»
Потом он спохватывается.
«Ведь до чего довели человека, сволочи!»
И от обращения к богу он переходит к тем словам, которые русский человек чаще всего произносит от всего сердца в отчаянной обстановке…
13
Пришло же мне в голову такое. Перечитал сцены смертей в «Тихом Доне». Большинство этих сцен в четвертой книге. Потрясающе! Неделю не находил покоя.
И есть еще люди, которые долдонят, что вот-де первые книги сильнее. Ничего подобного! Уж если на то пошло — все идет нарастающе!
14
В 1939 году трех писателей — А. Н. Толстого, И. К. Луппола и М. А. Шолохова — избрали членами Академии наук СССР.
А. Н. Толстой, как известно, граф. Культуру он впитал с материнским молоком.
Энциклопедически образованный литературовед, историк и философ И. К. Луппол родился в семье служащего, то есть интеллигента.
М. А. Шолохов — простой казак с начальным образованием.
15
Интересную историю слышал я от одного собкора «Правды». Ему ее рассказал его друг, очевидец этого случая.
Дело якобы было в Ростове. В то далекое время, когда бытовала сплетня о плагиате.
В каком-то большом зале собралось много народу. Убеленные сединами литературные и ученые мужи устроили суд над «Тихим Доном». Выходили один за другим на трибуну и доказывали, что роман написал не Шолохов. И что вообще в романе — вот-де Лев Толстой, вот списано у Горького, вот у Тургенева…
Рядом с очевидцем, в глубине зала, сидел молодой парень в вязаном свитере, лобастый, невысокого роста. Он то и дело выходил курить и даже надоел соседям хождением своим туда-сюда.
А в зале бушевали страсти. И вдруг кому-то пришла в голову здравая мысль — послушать наконец Шолохова.
И каково же было удивление очевидца!.. Сидящий с ним рядом парень поднялся, выбрался на сцену, обвел всех молча взглядом и в совершеннейшей тишине сказал одну лишь фразу — ту, единственную, которую он мог сказать:
— «Тихий Дон» написал я.
И вышел из зала.
* * *
С чьей-то недоброй руки к сплетне о плагиате вернулись снова.
Каковы «доказательства» его?
Автор был-де слишком молод, чтоб написать такой зрелый роман. Тут хочется кричать: а Пушкин? а Лермонтов? а Гоголь?..
Так то — гениальные художники, возразят мне. Правильно, отвечу. И Шолохов — гениальный художник.
Говорят, у Шолохова не было необходимого литературного опыта, чтоб написать «Тихий Дон».
Но гений на то и гений, чтобы сделать невероятное с точки зрения обычного литератора. Гоголь до своей неудачной поэмы «Ганц Кюхельгартен» совсем, кажется, не имел опыта прозаика и сразу создал «Вечера на хуторе близ Диканьки» — шедевр по художественным достоинствам. У Лермонтова тоже был весьма небольшой опыт прозаика перед романом «Герой нашего времени». У Шолохова же до романа «Тихий Дон» была написана большая прекрасная книга «Донских рассказов».
Кстати, если хоть чуть-чуть разбираться в литературе и не быть озлобленным на Шолохова до слепоты, то нельзя не увидеть, что автор «Донских рассказов» и автор «Тихого Дона» — один человек. Это видно по языку, по характерам сцен из жизни вздыбленной революцией страны, по приемам письма, по манере, по интонации. Только в романе, конечно, все это свободнее, шире, трагичнее. «Донские рассказы» — как бы заготовки, наброски будущей эпопеи.
Говорят, у Шолохова не было-де полного образования.
А у Горького было? А у Бунина? А у Тараса Шевченко?.. Шолохов по природе своей смальства тянулся к книге, получил начальную грамоту, учился в гимназиях. А тогдашние школа и гимназии кое-что давали!.. Мой отец окончил церковно-приходскую школу, а русскую поэзию знал лучше иных выпускников современных вузов.
Наконец, утверждают, что Шолохов не мог написать роман «Тихий Дон», так как у него-де не было должного жизненного опыта.
Извините. Что знал про жизнь Михаил Шолохов — видно уже из «Донских рассказов». Ко времени начала работы над «Тихим Доном» Михаил Шолохов прожил насыщенную крутыми событиями жизнь — жизнь человека, оказавшегося в центре одного из самых кровавых участков революции и гражданской войны. Продкомиссара Шолохова однажды «за превышение власти» свои, красные, не расстреляли только потому, что он был несовершеннолетним. Потому же не повесили его и махновцы, когда он попался к ним… Не будучи предубежденным, легко представить, какие зарубки оставались от всего пережитого на сердце юноши, в котором уже поднимал голову талантливый художник.
Кстати, Шолохову очень повезло в том, что, готовясь к работе над «Тихим Доном» и уже работая над ним, особенно над его третьей книгой, он имел возможность штудировать правдивые воспоминания участников революции и гражданской войны на Дону, изданные у нас; к тому времени еще не были уничтожены многие их авторы, не были изъяты книги и брошюры, объективно освещающие исторические события. Не случайно, когда Сталин, встретившись с Шолоховым у Горького по поводу длительной задержки публикации третьей книги эпопеи, спросил, откуда у писателя сведения о перегибах Советской власти на Дону, Шолохов с ходу назвал с десяток наших изданий, в которых рассказывалось об осуществлении политики «расказачивания», о жестокости и насилии при этом, толкнувших казаков на восстание и продливших гражданскую войну.
Нашлись мужественные люди, которые, рискуя головой, снабжали Шолохова и увидевшими свет за границей мемуарами бывших царских военных высшего ранга, руководителей контрреволюционного движения в России.
Естественно, вдумчивое изучение всех этих книг ширило и углубляло жизненный опыт писателя, способствовало созданию достоверных картин и германской войны, и революций, и действий революционных и контрреволюционных сил в гражданской войне.
Есть документ, который дает возможность увидеть зрелость Шолохова как писателя и человека. Это письмо М. Горькому от 6 июня 1931 года в связи с задержкой публикации третьей книги «Тихого Дона», в основе которой, как известно, — вешенское восстание.
В 1931 году Шолохову — 26 лет. И нельзя не удивляться, как точен он в оценке исторических событий, в которых тогда еще не разобрались историки.
Он убедительно доказывает свою правоту перед «ортодоксальными» «вождями» РАППА, а они обвиняли Шолохова — ни много ни мало — в оправдывании контрреволюционных выступлений.
Шолохов пишет Горькому «о восстании:
1. Возникло оно в результате перегибов по отношению к казаку-середняку.
2. Этим обстоятельством воспользовались эмиссары Деникина, работавшие в Верхне-Донском округе и превратившие разновременные повстанческие вспышки в поголовное восстание».
Политика расказачивания, «проводимая некоторыми представителями Советской власти», сопровождалась массовыми бессудными расстрелами. При этом «мощная экономическая верхушка станицы, хутора: купцы, попы, мельники — писал Шолохов, — отделывались денежной контрибуцией, а под пулю шли казаки зачастую из низов социальной прослойки».
«Не сгущая красок, я нарисовал суровую действительность, предшествовавшую восстанию… Но я же должен был, Алексей Максимович, показать отрицательную сторону политики расказачивания и ущемления казаков-середняков, так как, не давши этого, нельзя вскрыть причины восстания…»
Вот этого-то и не хотели пускать в свет «вожди» РАППа и те, кто проводил политику расказачивания, поголовно уничтожая целые казачьи хутора Донщины и Кубани. И не это ли один из поводов самых крайних нападок на писателя и измышлений, вплоть до сплетни о плагиате?..
Двадцатишестилетний художник глубоко понимал и чувствовал крестьянскую судьбу в революции.
«Думается, Алексей Максимович, что вопрос об отношении к среднему крестьянству еще долго будет стоять и перед нами, и перед коммунистами тех стран, какие пойдут дорогой нашей революции. Прошлогодняя история с коллективизацией и перегибами, в какой-то мере аналогичными перегибами 1919 г., подтверждает это».
Вот вам Шолохов 1931 года!.. Незрелые мысли малоопытного молодого человека? Или это тоже плагиат?..
Читая Шолохова, мы возвращаемся к этим его тревожным раздумьям и в трудном нашем сегодняшнем дне.
16
В Литературном музее в Москве видел я несколько страниц из рукописи «Тихого Дона». Страшно смотреть. Думаю, что теперь в них не разобрался бы и Шолохов. Что ни строка — зачеркнуто, перечеркнуто. Поправки вдоль и поперек, и над строчками, и на полях, и — просто страшно! — труд каторжный!..
17
А. А. Фадеев, выступая на общемосковском собрании писателей в апреле 1937 года, говорил:
«…мы все недостаточно мыслим в своих вещах. Возьмите, какой чудовищной жизненной хваткой отличается Шолохов. Можно прямо сказать, что, когда его читаешь, испытываешь творческую зависть, желание многое украсть, настолько это хорошо. Видишь, что это по-настоящему здорово, неповторимо. И все-таки есть и в его книгах недостаток большой, всеобъемлющей, всечеловеческой мысли».
Думается, что в своем замечании о недостаточной философичности прозы Шолохова А. А. Фадеев не прав.
Проза Шолохова философична в высшем значении этого слова. В отличие от других писателей философия Шолохова, его «всечеловеческая мысль» удивительно органична и в «Тихом Доне», и в «Судьбе человека», и в «Жеребенке»…
Его философская мысль — в образах, в судьбах героев.
И хорошо, что Шолохов не философствует специально.
18
Хемингуэй гордился тем, как он написал «Старика и море»: в произведении нет женщины, а читается оно на одном дыхании.
Говорят, это же отметил великий американец и в «Судьбе человека».
19
У большинства писателей названия книг нейтральны. Но есть названия — философичные, многогранные по мыслям.
«Война и мир»… Это и понятие: сражение и мир. Но более важно философичное: война и мир — планета, война и человечество. Или толстовское же — «Воскресение». Или хемингуэевское «По ком звонит колокол».
Так и у Шолохова.
«Тихий Дон». Традиционный песенный образ. Но, прочитав название, читаешь эпиграфы, и уже душа взволнована. Потом тысячу раз думаешь о «тишине» Дона, переживая трагические судьбы людей его…
«Лазоревая степь». Та же контрастность. Беспощадная борьба людей на фоне чарующей степи в лазоревом цвете.
«Поднятая целина». Это — конкретно — вспашка новых земель гремяченским колхозом. Но главное, по трактовке того времени, это поднятая целина крестьянского сознания.
«Судьба человека». Уже только эти слова звучат как высший смысл нашего века.
Говорят, слишком прямолинейно, откровенно публицистично название «Они сражались за Родину». Ну и что ж? Война-то — Великая Отечественная. Отсюда и название. Это же не то что «Жизнь за царя»!..
20
По его вещам все кинокартины удачны. Есть что ставить!
21
Осенью 1958 года был я на учебных сборах. Жили мы в лесу под Тамбовом.
В это время Сергей Бондарчук снимал фильм по рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека». Часть сценария он снимал на Тамбовщине. До нас, в лес, доходили слухи о съемках. В массовых сценах было занято много тамбовцев. Об этом рассказывали с восхищением. Говорили, что якобы будут съемки и в расположении нашей части.
И вот однажды сидим мы на лесной поляне и налаживаем дальномер. Подходит к нам капитан Дедюхин и прямо с ходу: «Ты, ты, ты и ты, — он ткнул пальцем в меня, — марш в распоряжение Бондарчука! Вон для вас машина».
Нас привезли в большой старый, помещичий, видимо, в прошлом сад. Недалеко от сада, у большой дороги, стояло голое дерево — как узник с поднятыми руками, одинокий столб с оторванными проводами; рядом валялся разбитый грузовик.
Как нам позже рассказывали, здесь были отсняты кадры пленения Андрея Соколова, — это когда он, по рассказу, везет снаряды на батарею.
Теперь надо было снять эту самую батарею — в бою.
Между двумя большими, изуродованными долгим веком яблонями было установлено три пушки-семидесятишестимиллиметровки. Перед ними возвышался к горизонту бугор в зеленой кукурузе и подсолнечниках.
По ходу съемки надо было изображать пятичасовой бой батареи с гитлеровцами.
Нас одели в гимнастерки сорок первого года — с петлицами (погон тогда, как известно, еще не было), нацепили мы пояса с подсумками, надели каски.
Я должен был играть командира орудия — одного из трех. Возле каждого орудия лежало по три боевых снаряда. Стрелять должны были кадровые артиллеристы. Руководил стрельбой красивый смуглолицый полковник Сулейманов.
Был выбран квадрат стрельбы, и все ждали сигнала Бондарчука.
У первого орудия гримировали одного раздетого до пояса артиллериста — лицо, грудь, руки, — все в пыли, в саже… Пять часов боя! Артиллериста со снарядом, который он загоняет в ствол орудия, должны были снять крупным планом. Перед залпом комиссар (в рассказе этого нет), артист Иванов, игравший роль Кошевого в «Молодой гвардии», кричит: «По фашистским гадам — огонь!..»
Зажгли под ветер дымовую шашку. Дым стелется по батарее, по бугру. Иллюзия переднего края полная.
На все наши приготовления, на гримировку, на репетицию Иванова молча, за нашей спиной, посматривал Сергей Бондарчук. Он был одет в военную форму Андрея Соколова, сидел на маленьком раскладном стуле и вырезал из деревянного бруска человеческую фигурку. К нему никто не подходил, он никого не подзывал и вообще за все время съемки не проронил ни слова. Молча поглядывал, и все. Метались операторы, их помощники.
И вот крик комиссара.
И началась пальба.
«Орудие!» — кричу я.
Выстрел. Пушка подпрыгивает.
«Орудие!» — ору во всю глотку.
Снова выстрел.
«Орудие!»
Вдали где-то сплошной гул. Звенит в ушах.
Бондарчук сидит невозмутимо на стульчике.
А мой наводчик, кадровый сержант-артиллерист, идет от пушки к полковнику и говорит:
— Ну, товарищ полковник, хорошо то, что хорошо кончается.
— Что такое? — резко спрашивает полковник.
Сержант протягивает ему на ладони сорванные гайки.
— Или мало жидкости в откатнике, — говорит он, — или совсем нет…
— Кто осматривал орудия перед стрельбой? — еще резче спрашивает полковник, бледнея.
— Не знаю, — пожимает плечами сержант…
Если бы мы стреляли не тремя, а четырьмя боевыми снарядами, сорвало бы ствол и… Получила бы мама моя извещение, что ее сын погиб смертью храбрых при исполнении служебных обязанностей.
Бондарчук — оглядываюсь — по-прежнему невозмутимо сидит на своем стуле…
Спустя полгода или год смотрел я кинофильм «Судьба человека». Ждал — увижу себя на экране. Но этих кадров не было. По всей очевидности, они не были нужны.
22
«Оставалось полторы недели до прихода казаков из лагерей. Аксинья неистовствовала в поздней горькой своей любви…»
Это в начале романа. Первые встречи Григория и Аксиньи. Приближение первой расплаты. Вот-вот приедет Степан в хутор со сборов, и все объявится. Аксинья готова на что угодно, лишь бы быть с Григорием.
«В горнице… Аксинья со вздохом целует Григория повыше переносицы, на развилке бровей.
— Что я буду делать!.. Гри-и-шка! Душу ты мою вынаешь!.. Сгубилась я… Придет Степан — какой ответ держать стану?.. Кто за меня вступится?..
Григорий молчит… И вдруг рвет плотину сдержанности поток чувства: Аксинья бешено целует лицо его, шею, руки, жесткую курчавую черную поросль на груди. В промежутки, задыхаясь, шепчет, и дрожь ее ощущает Григорий:
— Гриша, дружечка моя… родимый… давай уйдем. Милый мой! Кинем все, уйдем. И мужа и все кину, лишь бы ты был… На шахты уйдем, далеко. Кохать тебя буду, жалеть… На Парамоновских рудниках у меня дядя родной в стражниках служит, он нам пособит… Гриша! Хучь словцо урони…»
Как не ответить согласием на такую горячую просьбу любимой женщины? Как устоять тут? Тем более, что и дома у Григория — не мед, он знает, как смотрит отец на его связь с Аксиньей… Но он предельно искренен. Ответ его живет в его крови. Грубовато, с хуторской прямотой, он говорит:
«— Дура ты, Аксинья, дура! Гутаришь, а послухать нечего. Ну, куда я пойду от хозяйства? Опять же на службу мне на энтот год. Не годится дело…»
Небольшая пауза, и Григорий говорит о самом главном — почему он не может внять просьбе Аксиньи:
«— От земли я никуда не тронусь…»
Никуда от земли! Верность Григория родной земле. Это ведь одна из главных тем романа.
Сейчас другое время. Оно рождает и новые песни. И не всегда только веселые. Вы вынуждены уходить и уезжать с земли, где мы рождаемся и вырастаем. То в один конец страны, то в другой, то в третий. Сначала уходили и уезжали с трудом, а затем пришла и легкость, легкость необыкновенная… Выросло несколько поколений людей, которым совершенно все равно, где, на каком месте будет добыт «длинный рубль». Лишь бы он был.
Отсюда теперь и проблема, порожденная нами же, — проблема закрепления молодых людей на их «малой родине».
Как-то по-иному надо делать эти «передвижки». Слишком дорого обходятся они государству и народу. Слишком много у нас оставленных на прекрасных землях деревень и хуторов. Глядишь, и душа кровью обливается. Сиротливо гниют избы с раскрытыми крышами, зарастают дворы бурьяном выше человеческого роста… А земля-то!.. Земля-то какая! Воткни оглоблю, как говаривал Гоголь, а вырастет тарантас!.. Что же мы делаем на этой земле, люди?!
23
Шолохов — мужественный человек.
Мужество — в двадцать лет замахнуться на эпопею, не отступиться и создать ее, несмотря ни на какие происки его собратьев по перу и всевозможных «друзей».
Мужество — закончить «Тихий Дон» так, как он закончил.
Мужество — отношения со Сталиным.
Во времена повальных репрессий страдающие люди обращались за помощью к крупным деятелям науки, культуры, искусства. «Что мы можем сделать? — разводили те руками. — Мы не в силах ничем помочь…» — отвечали деятели; позже признавались в этом в своих мемуарах.
А Шолохов?.. Он пишет Сталину потрясающее письмо о беде начала тридцатых годов. «Черные крылья голода распростерты над Тихим Доном…» И это письмо — тому, по чьей вине был организован страшный голод 1933-го!..
Шолохов добивается у Сталина помощи голодающему району хлебородной Донщины и тем спасает от смерти тысячи людей.
Через Сталина Шолохов в середине тридцатых вызволяет из ежовских застенков живыми руководителей Вешенского района, которые тогда были ни за что ни про что арестованы, как тысячи других.
В 1937-м расправа нависла и над Шолоховым. Было состряпано «дело». Честные люди предупредили писателя об аресте. Он тайно и спешно бежит из Вешек в Москву, к Самому. Тот долго не принимает его. Встреча с Фадеевым. Просьба к нему как члену ЦК вступиться. Фадеев трусит, отказывается что-либо предпринимать. Шолохов не выдерживает и крепко выпивает. И вот тут-то — как специально, а может быть, именно специально! — Михаилу Александровичу сообщают, что его вызывает Сам. Что делать?.. Голову под кран. Приезжает в Кремль. Предстал перед Самим. Сталин сверлит его жгучими своими глазами, прохаживаясь по кабинету, спрашивает:
— Пьете, таварищ Шёлохов?
— От такой жизни запьешь, товарищ Сталин, — не медля ответил Михаил Александрович.
Не знаю, кто еще так отвечал Иосифу Виссарионовичу, под взглядом которого леденели спины даже у видавших виды маршалов.
Волнуют подробности дружбы Шолохова с Платоновым. В трудное для Платонова время, когда его после войны почти не печатали, Михаил Александрович нашел способ помочь другу. Он «пробил» издание сборника собранных и обработанных Платоновым русских сказок, поставив на нем свое имя. Я видел сборник в библиотеке Литературного института. На титульном листе большими буквами напечатано: «Под редакцией М. А. Шолохова». Имя Шолохова сделало доброе дело. Андрей Платонович получил какие-то средства для существования.
Лев Славин в книге «Портреты и записки» рассказывает, как безо всяких оснований был репрессирован несовершеннолетний сын Андрея Платонова; как, узнав об этом, Шолохов ринулся на выручку и дошел до Сталина. Сын Платонова был освобожден.
За одно это можно простить Шолохову грехи его.
Невольно задаешь себе вопрос: почему Сталин так благоволил вешенцу?
Во-первых, Сталин знал, что Шолохов сразу после выхода двух книг «Тихого Дона» приобрел мировую славу.
Во-вторых, из-под пера Шолохова вышла первая книга романа «Поднятая целина». В романе во главе угла стоит статья Сталина «Головокружение от успехов». Шолохов пел осанну Сталину в своих статьях и выступлениях. Из уст писателя с мировым именем это не могло не льстить «вождю народов».
Но вождь ждал большего. И от Шолохова, и несколько ранее — от Горького. Почему бы этим писателям мирового авторитета не создать книги непосредственно о нем, о товарище Сталине? Делают же это иностранцы!..
С Горьким было особое обстоятельство. Дело в том, что еще в 1918 году в «Несвоевременных мыслях» Алексей Максимович дал Сталину уничтожающую характеристику.
«Он, — писал Горький, — прежде всего обижен на себя за то, что не талантлив, не силен, за то, что его оскорбляли… Он весь насыщен, как губка, чувством мести, и хочет заплатить сторицею обидевшим его… Он относится к людям как бездарный ученый к собакам и лягушкам, предназначенным для жестоких научных опытов. Люди для него — материал, тем более удобный, чем менее он одухотворен».
Вряд ли Сталин не знал этого убийственного мнения Горького о нем, и теперь, став полновластным диктатором в стране, он ждал…
Возникло напряженнейшее противостояние: с одной стороны Сталин, с другой — Горький, Шолохов…
Сталин далеко не всегда был терпелив, и для Горького, отделывающегося упоминаниями Сталина в речах, но медлившего (он же помнил о своих «несвоевременных мыслях»!) с написанием хотя бы очерка об «отце народов», это кончилось трагически…
А что делает Шолохов? Он, с помощью Горького получив согласие Сталина на публикацию третьей книги «Тихого Дона», откладывает работу над второй книгой романа «Поднятая целина», и заканчивает «Тихий Дон» с его потрясающим финалом. Отдавая в печать последнюю часть эпопеи, Шолохов, кажется, Лежневу написал: конец сделал свой, никого не послушал; только бы напечатали, а там пусть хоть четвертуют!..
Напечатали. Великое дело завершено. Критика и впрямь принялась четвертовать романиста!..
Но поздно! Гениальный художник во имя добра победил гения злодейства. При этом сумел еще и помочь своим честным друзьям, а от многих отвести позорную — с клеймом «враг народа» — смерть.
Михаилу Шолохову было тогда всего лишь тридцать пять лет. Будь угодно диктатору послать его на эшафот, Шолохов взошел бы на него с сознанием, что — «исполнен труд, завещанный от бога…».
Вскоре началась война. После наших больших неудач, когда близился перелом в войне, стало все чаще раздаваться в газетах и по радио, в кино и в театре: «За Родину! За Сталина!» А Шолохов начинает публиковать главы романа «Они сражались за Родину»… Уже после войны, говорят, Сталин дважды читал рукопись первой книги шолоховского романа о войне и дважды остался недовольным: главными героями книги были люди, сражавшиеся за Родину. Его в романе не было.
Как известно, не было его и не могло быть в «Тихом Доне». Но Сталина против воли писателя вводят в роман руками Кирилла Потапова. Вводят, правда, не в действие, а в общую характеристику положения на фронтах. В 1953 году под редакцией К. Потапова выйдет это «исправленное» издание «Тихого Дона». Позже Шолохов выбросит из романа потаповские дописки-исправления. Но это позже.
А тогда… Не известно, чем бы все кончилось для Шолохова, проживи Сталин дольше. Тем более, что Шолохов, как свидетельствуют близко знавшие его, то и дело показывал свою строптивость…
Естественно, атмосфера, в которой жил и работал Михаил Шолохов, не могла не сказаться на некоторых поступках его, высказываниях, а главное — на здоровье. Но когда особо ретивые его критики твердят, что послевоенные годы его — это годы бесплодия, хотелось бы посмотреть на них, на этих критиков, окажись они на месте Шолохова. Впрочем, на его месте они никогда не будут. Ибо это место великого таланта, мужественной честности и правды.
* * *
О «Поднятой целине».
Роман написан в поддержку коллективизации. Но это не роман-агитка. Шолохов не был бы Шолоховым, если б он делал всего лишь агитку. В картинах жизни крестьянства в период «великого перелома» он стремился — и это ему удалось! — оставаться максимально правдивым. Редакторы мешали этому стремлению, они кромсали рукопись безжалостно, с непреложным желанием видеть в романе все в прямолинейно-победном свете, с ощущением боязни за свои служебные кресла. Парадоксально, но первый цензор Шолохова — Сталин — «отстоял» в романе всю линию деда Щукаря, сцену избиения Давыдова бабами и т. п. Сталин, видя в романе поддержку своего главного направления, согласился на допуск правды. Шолохов в полной по тому времени мере воспользовался этим.
И все же, все же… Есть сложные судьбы людей. Есть сложные судьбы книг. Судьба «Поднятой целины» — одна из них.
Первый вариант второй книги ее сгорел в 1942 году, когда немецкой бомбой был разгромлен дом писателя в Вешенской. Завершать роман пришлось почти через тридцать лет после опубликования начала. Можно только посочувствовать писателю. Ушло время. Ушли молодые силы. Но Шолохов хочет добиться в романе о коллективизации той исторической глубины, которая делает бессмертным «Тихий Дон». Верность жизненным обстоятельствам выручает во многом его как художника. Перечитайте сцены раскулачивания Титка, расправы Нагульнова с казаками, сцены раздумий Якова Лукича — это еще из первой книги. Они звучат сегодня по-новому. А все сильное во второй книге, скажем, сцена умерщвления Яковом Лукичом своей матери, неожиданные повороты в рассуждениях деда Щукаря… Разве перед нами не встает трагическое Время? Разве не виден там автор «Тихого Дона»?.. Чувствуется, что многое мучительное недосказывает Михаил Александрович, что он уже не в силах это мучительное досказать… «Сбой» (другого выхода не было т о г д а) сделан в самом начале, и, думается, писатель щемяще понимал это.
Один близкий к Шолохову человек рассказывал, как он однажды спросил у Михаила Александровича:
— Что же у тебя, Миша, все гибнут в конце романа?
Шолохов помолчал, крепко затягиваясь беломориной, и выдохнул:
— Да их же все равно всех перебили бы лет через пять…
24
«Мелеховский двор — на самом краю хутора…»
Моя хата с краю — крестьянская пословица. Но вот настало время, когда нет хат с краю. Об этом невольно думаешь, читая «Тихий Дон». Время втянуло всех в свои события.
Многозначительны начала его вещей. Это в традиции русской литературы.
25
Толстой признавался, что «Анну Каренину» он начал писать под впечатлением от одной пушкинской фразы: «Гости съезжались на дачу».
Мне кажется, что «Поднятая целина» композиционно построена под впечатлением от «Воскресения». Помните начало толстовского романа? Картина всепобеждающей весны. Затем все идет на контрастах. Контраст весне — несчастная жизнь Катюши. Еще больший контраст и весне, и жизни Катюши — жизнь Нехлюдова. Сцены с Катюшей и сцены с Нехлюдовым идут параллельно на протяжении всего романа.
То же и в «Поднятой целине». Январский пейзаж — как увертюра ко всему действию романа. Далее. Тайно, как «тать презренный», ночью в Гремячий по-волчьи пробирается Половцев.
Солнечным морозным днем открыто приезжает Давыдов.
И далее — борьба тьмы и света.
* * *
Прочитал в «Комсомолке» о беседе Шолохова с молодыми писателями… Неожиданность — его критика И. А. Бунина. Вспомнилось, что лет тридцать с лишним назад Михаил Александрович высоко оценивал Бунина, признавал, что этот «большой мастер своего дела» больше всех влияет на него. Читая Шолохова, в этом легко убедиться. И вдруг… Ну, ладно еще критиковать рассказ, но сурово судить трагическую судьбу Бунина — Шолохову, на мой взгляд, не надо бы… Бунин достоин сочувствия и понимания. Он же не мог идти вслед за Толстым… Алексеем Николаевичем…
26
Одно из самых сильных мест, на мой взгляд, в «Судьбе человека». Почему-то критика не обратила на него внимания.
«…Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним (с Ванюшкой. — М. Ш.) прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять… Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону… Разговариваю обо всем и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, — они уходят от меня, будто тают на глазах… И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни оха, ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез…»
27
Сетуют, что Шолохов-де мало пишет. Что долго пишет. Особенно когда речь заходит о романе «Они сражались за Родину».
Но что значит мало в литературе? Что значит долго?
Лонгфелло живет в нашей памяти одной лишь «Песнью о Гайавате», Флобер — одним романом «Мадам Бовари», Сервантес — романом «Дон-Кихот», Грибоедов — «Горем от ума» и т. д. Не задумываясь, кто сколько работал над своими произведениями, ряд можно продолжить. В этом ряду будет стоять и Шолохов, скажем, с романом «Тихий Дон», и Алексей Толстой с «Петром Первым». И, прямо скажем, чтоб попасть в этот ряд, стоило отдать работе над романами по пятнадцать — двадцать лет. Жаль только, что «Петр Первый» так и остался незаконченным.
Долго пишет…
На долю Шолохова выпало то, что не выпадало ни одному из величайших писателей.
Лев Толстой весь свой «военный опыт» отдал «Войне и миру». Потом он создал «Анну Каренину» — роман, так сказать, семейный. Потом «Воскресение» — роман и не военный, и не семейный. Это уже совсем другое.
Шолохову, создателю военной эпопеи «Тихий Дон», выпало на долю писать вторую военную эпопею.
«Тихий Дон» Шолохов начал писать в двадцать лет. Опыт двадцатилетней жизни, опыт, приобретенный в течение пятнадцати лет работы над романом, были отданы ему, роману. Роман написан по высшему принципу — писать так, как будто ты пишешь последнюю свою вещь. То есть всего себя — роману!
В романе осмыслены переломные события жизни России, по-своему, по-шолоховски, написаны «вечные вещи» — проводы в армию, первый бой, первое убийство врага, рождение ненависти к нему, рождение любви к земле своей, к женщине, к детям, расставание с матерью, с любимой, приход похоронки, отступление, потери друзей, сыновей, смерть в бою и т. д. и т. п.
И вот снова военный роман. Надо философски осмыслить все новое в этой войне, что отличало ее от всех войн. И в то же время в романе опять будут «вечные вещи».
Талант — это подробность, говорил Тургенев. Как не повториться в подробностях? Где найти новые подробности? Где найти свежесть впечатлений?
Многие пишущие о войне повторяются в небольших по объему повестях, варьируют одно и то же. А как избежать всего этого в романе? Как победить общеизвестные, устоявшиеся точки зрения на какие-то военные операции, на проблему войны и мира и т. п.
И все это при условии, что с Шолохова — особый спрос. Что простят другому, то не простят ему. И главное, сам он себе не простит.
28
В разговорах о Шолохове со своими товарищами, со случайными спутниками, с писателями, с учителями я давно заметил, что для многих из нас Шолохов — уже слишком свой. Настолько близкий, что это зачастую мешает нам постичь всю глубину его литературного подвига.
Подтверждение этих моих раздумий я нашел в книге «Тихий Дон» сражается». Посмотрите, что значит Шолохов для француза Жана Катала — известного публициста и переводчика.
«Вы, русские, — пишет он, — крепко любите Шолохова, но все же полностью не можете себе представить, кем он является для всего человечества. У себя на Дону вы в своей повседневности привыкли к нему, как к земляку и соседу. Вы читаете его книги о революции, коллективизации, о войне с фашизмом, о своем пережитом. Все, что он пишет о вас, — вам известно с пеленок или на собственном опыте. А для нас, иностранцев, все это откровение русской души, ее широты и щедрости… Нет такого народа, который не мог бы поучиться у другой нации. Что дает нам Шолохов? Он пробуждает скрытый в наших душах огонь, приобщая к великой доброте, великому милосердию и великой человечности русского народа. Он принадлежит к числу тех писателей, чье искусство помогает каждому стать более человечным».
Как говорится, тут ни убавить, ни прибавить.
29
Вроде бы неловко записывать, — как вообще неловко говорить о себе, но я часто испытываю гордость, что вот я тоже родился на Дону, на донской земле. Я видел эту гордость и у других.
Пожалуй, ничего неловкого нет. Это чувство Родины.
30
Вересаев каждый год перечитывал «Фауста» Гете и каждый раз находил что-то новое для себя. Если я, перечитав «Фауста», не найду нового, заметил однажды Вересаев, я умер.
Вересаевские слова о Гете перекликаются с тем, что сказал Джек Линдсей о Шолохове:
«Мне хотелось бы исследовать детально слияние тех качеств, широты и сложности структуры, которые позволили Шолохову охватить и запечатлеть во всем объеме величественный конфликт эпохи и человеческого преображения. Мне хотелось бы проникнуть в тот художественный метод, при помощи которого Шолохов достиг изумительного совершенства и создал нечто такое, к чему мы постоянно можем возвращаться для вдохновения и совета».
* * *
Почему-то вспомнился К. М. Симонов, его отношение к Шолохову.
Как-то, еще будучи студентом Литинститута, шел я мимо окон ТАСС в витрине магазина «Академкниги» на улице Горького в Москве. На одной из фотографий в кресле М. А. Шолохов. С пушистыми усами, в гражданском костюме, при галстуке. Чувствовалось — стеснен он в этом костюме. В глазах — искорки улыбки, чуть напряжен перед фотообъективом. А за спиной, наклонившись к Михаилу Александровичу, Симонов. Были они вместе на заседании Всемирного Совета Мира, кажется. Константин Михайлович тоже в черном костюме, но ладно сидевшем на нем. С пышными волнистыми волосами, зачесанными наверх. Тоже с усами. Весь улыбающийся. Рад и горд, что рядом с Шолоховым…
А через несколько лет — речь Михаила Александровича на Втором съезде писателей, а в ней — предельно резкая критика симоновской прозы. Нетрудно представить себе, как Симонов пережил эту речь, хотя он на съезде же довольно искусно отвечал Шолохову.
Иногда я думаю, что шолоховская речь сделала в конце концов доброе дело. Шолохов есть Шолохов, и Симонов, как писатель, не мог не почувствовать горькую справедливость шолоховской критики; он понимал, что ответ на съезде — не ответ. Шолохову надо отвечать не так. Надо было во всю силу браться за крупную вещь. Симонов делает единственно верный шаг — он оставляет московскую литературную суету, едет в Ташкент и садится за роман «Живые и мертвые». Да, такой — писательский! — ответ достоин Симонова, человека мыслящего.
Слышал я, Шолохов отозвался о первой книге романа весьма одобрительно. Верю, что это так. Отличная книга. Лучшая во всей симоновской прозе, на мой взгляд.
А Симонов?..
В 1960 году журнал «Ньюс уик» попросил Симонова написать о Шолохове статью в связи с выходом в Соединенных Штатах Америки романа «Поднятая целина».
Недавно я прочитал эту статью. И рад, что прочитал.
Так бывает между крупными людьми… Сказав, что его «отношения с Шолоховым не носят идиллистического характера», Константин Михайлович объективно-высоко оценивает великое значение шолоховского творчества.
«Для нас, — пишет он, — Шолохов так же бесспорен по своему масштабу, как Эйзенштейн в кино или Шостакович в музыке».
Это утверждение гениальности Шолохова как художника.
В этой статье Симонов вспоминает, как он перечитывал «Тихий Дон» в августе 1941-го и как много тогда, в страшный год, дали его душе «Война и мир» и «Тихий Дон».
«Меня потрясла шолоховская сила и правда человеческих страстей, глубина характеров, резкость столкновений. Мне нравится мужская жесткая рука Шолохова, пишущего жизнь и смерть во всей их сложности и грубости.
Мне приходится задавать себе вопрос: почему мне, человеку, выросшему в интеллигентной семье, ближе и дороже «Тихий Дон», чем другой и тоже хороший роман о той же эпохе — «Хождение по мукам» Алексея Толстого? Казалось бы, тема — интеллигенция и революция — должна быть мне ближе, чем судьба казака Григория Мелехова. И, однако же, это не так. Видимо, здесь вступает в свои права сила таланта. Хотя это и спор двух сильных, но все-таки Шолохов и крупней увидел, и крупней понял, и крупней написал революцию и гражданскую войну, чем Алексей Толстой».
Но и этим не все сказано. Далее Симонов точно пишет о главной особенности Шолохова, которой не хватало ему самому, к которой он стремился в «Живых и мертвых», — народности.
«Шолохов привел с собой в литературу людей из народа, или, как говорят, простых людей, и они заняли в его романах не боковые места и не галерку, а самый центр этого битком набитого людьми зала. Он заставил смотреть на них, прежде всего на них. И не оказалось таких психологических проблем, которых он не взялся бы решить на анализе души этого так называемого простого человека, всю непростоту которого он с такой решимостью и силой доказал на страницах своих книг.
Конечно, не он первый делал это в нашей литературе, но с такой силой и последовательностью, пожалуй, — первый».
Так писал Симонов о Шолохове, пережив жесткую его критику шесть лет назад. Это мог сделать сильный человек.
Обида — обидой, а правда — есть правда.
* * *
Шо-ло-хов…
Ме-ле-хов…
Право же, что-то общее здесь!..
31
В «Литературной газете» (№ 89, 1962 г.) опубликован К. Приймы. Необыкновенный факт — письмо бывшего руководителя вешенского восстания — 1919-го года, героя «Тихого Дона» хорунжего П. Н. Кудинова.
«Роман Шолохова «Тихий Дон» есть великое сотворение истинно русского духа и сердца. Впервые я пробовал читать его по-болгарски, но плохо понимал. Позже выписал себе из Белграда русское издание. Читал я «Тихий Дон» взахлеб, рыдал, горевал над ним и радовался — до чего же красиво и влюбленно описано, и страдал-казнился — до чего же полынно горька правда о нашем восстании. И знали бы вы, видели бы, как на чужбине казаки — батраки-поденщики — собирались по вечерам у меня в сарае и зачитывались «Тихим Доном» до слез. И пели старинные донские песни, проклиная Деникина, барона Врангеля, Черчилля и всю Антанту. И многие рядовые и офицеры — казаки — допытывались у меня: «Ну до чего же все точно Шолохов про восстание написал. Скажите, Павел Назарович, не припомните, кем он у вас служил при штабе, энтот Шолохов, что он так досконально все мыслью превзошел и изобразил?..» И я, зная, что автор «Тихого Дона» в ту пору был еще отроком, отвечал полчанам: «То все, други мои, талант, такое ему от бога дано видение человеческих сердец и талант!» Скажу Вам, как на духу: «Тихий Дон» потряс наши души и заставил все передумать заново, и тоска наша по России стала еще острее, а в головах посветлело. Поверьте, что те казаки, кто читал роман Шолохова «Тихий Дон», как откровение Иоанна, кто рыдал над его страницами и рвал свои седые волосы (а таких было тысячи!) — эти люди в 1941 году воевать против Советской России не могли и не пошли. И зов Гитлера — «Дранг нах Остен!» — был для них гласом вопиющего сумасшедшего в пустыне. И вот за это прозрение на чужбине многих тысяч темных казаков благодаря «Тихому Дону» и передайте Шолохову мой чистосердечный казачий земной поклон».
Читая это письмо, сразу же вспоминаешь язык шолоховских героев.
Интересно, что П. Н. Кудинов, проживая в Болгарии, стал ударником колхозного труда.
32
Видел скульптурный портрет Шолохова, если не ошибаюсь, работы Вучетича. По-моему, это Шолохов, который смотрит вслед Андрею Соколову и его Ванюшке. При прощанье.
«…Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву…»
33
Снимок Шолохова в костюме доктора права Сент-Эндрюсского университета (Англия). Удивительно озорное выражение лица. А что, дескать, черт вас возьми!.. Да, казак! И куда вы от этого денетесь!
34
На одной из фотографий рядом с ним — Мария Петровна. Жена. Нелегко ей, наверно. Быть рядом все годы — годы страшных испытаний, годы великой его работы, великой славы… А еще и дети, и внуки…
Хорошо написал о ней Мартти Ларни.
«Слишком часто забывают, что профессия писателя — это, прежде всего, труд, требующий нервов. Рядом с Михаилом Александровичем уже не один десяток лет стоит добрая фея — его жена Мария Петровна, умная женщина. Она не только добрая и заботливая жена, но и товарищ жизни, дни которой не всегда озарены только солнечным светом. Я знаю по своей семье, что не всем можно доверить роль супруги писателя, ибо его профессия изматывает нервы и его семьи. Но, может быть, и жены при этом облагораживаются подобно металлу в горне? Образ Марии Петровны, проникнутый благородным внутренним обаянием, остается в мысли каждого гостя, посетившего дом Шолоховых».
Это напоминает благородство Горького в высказываниях о Софье Андреевне Толстой.
35
Был на вечере поэзии в Центральном Доме литераторов. Сидел в зале и слушал стихи. Ну, стихи как стихи. Но вот вышла на трибуну известная поэтесса и начала читать прекрасную вещь о собаке. И читала прекрасно.
Сидевший рядом со мной сравнительно молодой, но изрядно поседевший литератор резко нагнулся и закрыл лицо руками. Он плакал. И вдруг я услышал зловещий шип, видимо, его жены: «Перестань, мне стыдно!..»
Да, жить с поэтом и ходить в ЦДЛ — вовсе не значит понимать поэта и поэзию. Я взглянул на нее — красочно-фальшивую — и представил, как она разговаривает с ним дома…
И вспомнился случай, о котором рассказал Мартти Ларни.
Финский писатель был в гостях у Шолохова и как-то сидел с ним на берегу Дона. В беседе Мартти Ларни попросил Михаила Александровича спеть какую-нибудь старинную казачью песню. Михаил Александрович начал петь про молодого казака, уходящего на войну. И вдруг голос его задрожал и оборвался. На глаза навернулись прозрачные мужские слезы… В песнях — боль и мука народа, и писатель не может не чувствовать это…
Хотелось рассказать об этом соседке, да, слава богу, удержался. Она бы все равно ни черта не поняла. А ему было бы неловко…
36
Второй раз видел Михаила Александровича на Кремлевской площади. Он шел через площадь от Кремлевского дворца к театру. Вокруг него вились фотокорреспонденты. Он, насупившись, недовольно шел сквозь них, останавливался, говорил что-то, резко жестикулируя, но они от него не отставали. Знали, кого фотографировали!
Ему, конечно, легче и вольготнее в Вешках.
Выступает на партсъезде. Гневно говоря о литературных «осужденных отщепенцах», напоминает, что с ними сделали бы в 20-е годы.
Что сделали бы? К стенке — без всякого следствия и суда!..
Об э т о м ли говорить теперь, когда мы почти ежедневно с содроганием узнаем, сколько и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е, сколько в эти страшные годы пролито человеческой крови, сколько загублено человеческих жизней; хотя у него и есть мысль, что, дескать, пусть «отщепенцы» и их защитники будут довольны: ныне — не 20-е годы, их не поставят к стенке.
Об э т о м ли говорить ему, человеку, пережившему трагедию Григория Мелехова, безоглядно бросавшемуся на защиту людей в остужающих душу тридцатых?.. И сороковых… Он же тогда «милость к падшим призывал». Несмотря на то, что падшие бывают разные. И не всегда в ответ — милостивы…
Живучи и запальчивая категоричность, и нетерпимость, и даже жестокость, коими трагически время от времени захлестываются революционные порывы и деяния.
Разве ему самому мало доставалось? И — всю жизнь…
37
Не понимаю людей, которые, стоит лишь заговорить о писателях или других деятелях культуры, сразу начинают спорить — кто выше. Толстой или Достоевский? Шолохов или Платонов?
Вспоминается анекдот из времен Гете и Шиллера. О них тоже спорили. Как-то Гете и Шиллер сошлись и разговорились об этом. И один из них сказал:
— Как все-таки глупы наши соотечественники!.. Спорят, кто из нас выше! А нет бы порадоваться, что у них — двое великих!..
38
Нобелевскому комитету, чтобы признать и оценить Шолохова, понадобилось двадцать пять лет. А как было бы здорово: присудить Нобелевскую премию Шолохову в 1940 году — в год окончания «Тихого Дона»!
Шолохову было тогда тридцать пять лет.
39
Любопытно описание нобелевского праздника в Ассошиэйтед Пресс (Нью-Йорк).
«При свете яркого огня факелов новые лауреаты Нобелевской премии сели в сверкающие лимузины, которые доставили их в стокгольмскую ратушу. Там в большом Золотом зале были приготовлены столы на 850 гостей.
На торжественном банкете присутствовали семь лауреатов Нобелевской премии и члены их семей. Одним из этих лауреатов был советский большевик, который когда-то был в Красной Армии пулеметчиком и сражался с капиталистами.
Шолохов вызвал сенсацию в этот вечер, когда, надев очки в тонкой оправе, в течение восьми минут читал свою речь, в которой он очень тонко подверг критике «литературных авангардистов». После этого он снял очки и широко улыбнулся двадцатидвухлетней шведской принцессе Кристине.
За несколько часов до этого Шолохов принял премию от короля Густава Адольфа. Король, который ростом более чем на голову выше этого седого казака, кивнул в знак приветствия головой и обратился к нему по-английски. Шестидесятилетний русский — член Верховного Совета и преданный коммунист — стоял не шелохнувшись, смотрел королю прямо в глаза и не сделал никакого поклона. (Казаки не кланяются. Они никогда не делали этого и перед царями.)
Шолохов был в центре внимания на церемониях вручения Нобелевской премии этого года…»
40
Как-то, будучи в родной слободе Сагуны, я поехал на хутор Коловерть. Сестры и мужа ее дома не было. Они работали где-то в поле. Я закатил велосипед в сарай, взял удочки и — скорей на Дон. Хотелось порыбачить на вечерней зорьке.
Вечер выдался тихий, прозрачный. Я нашел укромный заливчик между склонившихся над водой верб и закинул удочки. В заливе воду слегка покручивало, а дальше, на середине, она неслась — голубая, потом розовато-голубая, а потом, когда солнце начало спускаться к горе за моей спиной, вода стала совсем розовой. Розовый лежал песок по отлогому левому берегу; томился в последних лучах солнца ивняк. За ивняком изредка слышались голоса баб, — наверное, они собирали ожину.
Мой берег темнел.
И вдруг далеко-далеко, внизу по течению, возникли какие-то торжественно-задумчивые звуки. Они приближались, они стали ясной мелодией, до боли родной и любимой. Она ширилась над водой, над берегами, улетала куда-то дальше, дальше…
Вечерний звон, вечерний звон…Уже слышны были всплески плиц. Ближе, ближе. И вот из-за поворота показался белый-белый пароход. Он трудно и уверенно шел вверх по течению, рассекая грудью встречную стремнину. К берегам от бортов катились волны, а весь Дон, весь окружающий мир был наполнен торжественно-задумчивой песнью… Казалось, пела сама природа…
Вечерний звон, вечерний звон, Как много дум наводит он…Пароход поравнялся со мной, и я прочитал на спасательном круге: «Михаил Шолохов». Пароход шел, обходя мели, озаренный солнцем, по самому стрежню. У меня сжалось сердце: в каком прекрасном облике предстала глазам народная песня!..
1949—1974
В ДОМЕ ГЕРЦЕНА (об А. Платонове и К. Паустовском)
Я опаздывал на занятия. Свернув с бульвара в институтский двор, я бежал по смерзшейся листве сквера, когда меня почти у двери института остановил высокий человек с большими грустными глазами и глубокими морщинами на лице. Кончался ноябрь, а на мужчине было демисезонное пальто; поднятый воротник не защищал от холода, и он зябко поводил плечами.
Я остановился, уже пробежав мимо этого человека, а он поднял руку к груди и глухо сказал:
— Простите. Закурить не найдется?..
— Нет, — выдохнул я, — только что выкурил последний «гвоздик».
— Жалко, — сказал он еще глуше, слегка поклонился и медленно пошел вдоль ограды сквера.
В аудитории, на лекции, я какое-то время возвращался мысленно к остановившему меня человеку; видел его словно присыпанные пеплом глаза, в глубине которых бился угасающий блеск. Он был смущен, когда попросил закурить, и еще больше смутился, услышав мой ответ. И вдруг я вспомнил, что раньше раз или два видел его в нашем же сквере во дворе Литературного института.
Но вскоре я об этой встрече уже не думал.
Тогда я был первокурсником. Меня, двадцатилетнего провинциала, обступило столько нового и значительного, что я не успевал все осмысливать и запоминать.
Мне не повезло с творческим семинаром. Руководители семинара поэзии, в который я был зачислен, то и дело менялись; иногда семинар подолгу вообще оставался без руководителя.
Но нет худа без добра. Я свободно мог посещать занятия других семинаров. Это было очень интересно.
Особенно мне запомнился семинар Константина Георгиевича Паустовского.
Его участники были вчерашние фронтовики. От них было что услышать, было что узнать. Но главное, что привлекало к этому семинару, — и не одного меня! — это, конечно, его руководитель.
Нешумные книги Паустовского я любил с мальчишеских лет.
Оглядываясь на детство, на многие тогда уже прочитанные книги, вспоминаю непритязательные его «Летние дни». Волшебная эта книжка всегда вызывает у меня в памяти любимую речку Черную Калитву, сенокосную пору на ней, укромные закутки в высоких, вечно шепчущихся камышах, где ты затаился с самодельной камышовой удочкой…
В дни фашистской оккупации, зимой 1942 года, мы, тринадцатилетние мальчишки, узнали, что немцы сжигают книги нашей школьной библиотеки. Не думая о том, что рискуем жизнью, мы спасали их. До сих пор у меня на полке стоят старенькие томики сказок Андерсена и братьев Гримм, первого издания — со штыком и веточкой на обложке — «Как закалялась сталь» Островского, «Дикой собаки динго» Фраермана, «Тома Сойера» Твена, шолоховского «Тихого Дона», катаевского «Паруса».
И рядом с ними сборник «Летние дни» Паустовского.
Не раз я порывался отослать Константину Георгиевичу эту спасенную от фашистов книжку, да так и не решился. И наверное, напрасно. Это бы доставило ему радость. А радость никогда не бывает лишней…
Сама фамилия писателя неизъяснимо волновала меня. Стоило наедине с собой произнести: «Паус-тов-ский», — сейчас же шла рифма «авгус-тов-ский», и перед глазами эта светлая и немного грустная пора лета в родном моем Воронежском крае…
Как-то я попал на обсуждение рассказов одного молодого литератора. Обсуждали горячо, хвалили и критиковали, оперируя крайностями. Рассказы студента побивали шедеврами классиков. Во взаимоотношениях друг с другом современники часто прибегают к этому…
Константин Георгиевич сидел за столом нахохлившись, будто ему было холодно. Высокий лоб. Нос с горбинкой. Смуглое лицо, — летние каникулы он наверняка прожил на какой-нибудь реке.
Глядел он как-то так, будто одновременно вглядывался и в говорящего студента, и в самого себя. Сидел спокойный и незаметный среди громкоголосой и горячей молодежи. Может быть, думал: «Ну-ну, пошумите, пошумите… После сами посмотрите, что останется от шума-то…»
Потом Константин Георгиевич закурил, встал и подошел к окну.
Прислонясь к стене, поглядывал в окно и по-прежнему вслушивался в аудиторию и в самого себя, давая полную свободу высказываниям.
Кто-то отметил у обсуждаемого автора стремление к злобе дня в ущерб художественной убедительности.
— Так я же хочу помочь людям сегодня… И порой спешишь, — оправдывался автор.
— Ты хочешь легко добыть лавры, — беспощадно рубил критик. — А настоящие, большие писатели не думают об этом! Ни о деньгах, ни о лаврах!..
— Нет, — вступил в спор третий, — писатель должен вмешиваться в живую жизнь. А слава — это уже само собой разумеющееся… Возьмите гениев прошлого…
Константин Георгиевич неожиданно поднял руку и, извинившись перед оратором, остановил его. Аудитория притихла. Стало слышно тяжелое его дыхание, он уже тогда страдал астмой. И в тишине он сказал неторопливо, но чуть громче обычного:
— Вот вы сейчас говорите о славе, о гениях прошлого… — Константин Георгиевич сделал паузу, он заметно взволновался, — а хотите видеть — гения?..
Голос Паустовского вдруг поднялся, интонация вопроса сменилась интонацией утверждения.
— Вы хотите видеть гения — вот он идет по скверу, — Константин Георгиевич резко, как будто бросая вызов, указал рукой на окно.
Все вскочили из-за столов и подступили к окнам. Я сидел на «Камчатке», как раз у окна, приподнялся и увидел: по двору шел он. Тот человек, который месяца два назад остановил меня в сквере, в том же пальто, так же с поднятым воротником, не защищающим от холода…
— Это Андрей Платонов. Он живет здесь, во дворе. Очень болен…
Платонов прошел мимо окон. А Паустовский со студенческой горячностью говорил и говорил о нем.
Что говорил? Откройте его «Книгу скитаний». Там почти слово в слово все сказанное им тогда.
«…Я всегда чувствую себя свободно и спокойно только в обществе людей самых простых.
Среди писателей таких людей не так уж много… очень прост и доброжелателен был Ильф, прост и печален был Андрей Платонов.
Когда мне впервые попал в руки один из рассказов Платонова и я прочел фразу: «Тихо было в уездной России» — у меня сжалось горло, — так это было хорошо…
У Платонова есть маленький рассказ «Июльская гроза». Ничего более ясного, классического и побеждающего своей прелестью я, пожалуй, не знаю в современной нашей литературе. Только человек, для которого Россия была его вторым существом, как изученный до последнего гвоздя отчий дом, мог написать о ней с такой горечью и сердечностью.
Он тяжело болел, плевал кровью, месяцами лежал без движения, но ни разу не погрешил против своей писательской совести».
Неоспорима истина: талант и его нравственное здоровье принадлежат прежде всего своему времени. И надо быть большим человеком, чтобы высоко оценить своего современника. Пусть даже, может быть, преувеличив его значение, — это случается так редко в жизни подвижников литературы.
Отношение Паустовского к Платонову было сродни чувствам современников Некрасова, которые ставили его, Некрасова, наравне с гениальным Пушкиным и даже выше его.
Не спешите осудить эти чувства, если не согласны с ними. Гораздо полезней попытаться понять, откуда они в современнике, эти чувства.
И все-таки слова Паустовского тогда прозвучали неожиданно. Он говорил о большом художнике, который жил во дворе Дома Герцена, рядом, совсем рядом с нами. А мы о нем еще не знали…
Я видел недоумение на лицах студентов и сам недоумевал. В наивном представлении крупный художник выглядел иначе, чем только что прошедший перед нами человек.
После занятий я пошел в институтскую библиотеку. Там нашлась книга Платонова «Река Потудань». Она была издана еще до войны.
Я прочитал книгу. Понравилась. Особенно близок был язык — язык воронежских степняков.
Но все-таки тогда я не понял ее так, как надо бы понять. Подлинное открытие Платонова пришло гораздо позже. Вместе с глубинным пониманием и самого Паустовского. Позже я понял и то, как хотел Константин Георгиевич, чтобы молодые литераторы прочитали платоновские книги.
С благодарностью думаешь теперь о способности Паустовского видеть в жизни истинное, подлинное, порой даже вопреки уже устоявшемуся мнению. Он всячески поддерживал эту способность и в своих учениках. Он учил их совестливости и верности своему дару. И не случайно многие из них, делавшие тогда первые шаги в литературе, стали настоящими писателями.
У меня на книжной полке стоит последнее прижизненное издание избранной прозы Паустовского. Говоря об особенности этого однотомника, Константин Георгиевич в своем предисловии к нему выделил — за их внутреннюю свободу — рассказы последних лет. Он назвал их признанием в любви нашей природе и всей России.
В однотомник входит рассказ «Воронежское лето». Видимо, он был дорог Константину Георгиевичу как добрая память о пребывании на Воронежщине.
Чуткий к мудрой простоте среднерусской природы, он глубоко почувствовал поэзию донской степи. Поэзией Придонья полны его произведения той поры. Строки о степи живут и вспоминаются, как стихи.
Вспоминаются высокое степное небо, громады облаков, их тень, которая проплывает по степи «так медленно, что можно долго идти в этой тени, не отставая от нее и не прячась от палящего солнца…».
…Родная воронежская степь, низкий сыновний поклон тебе! И ты питала вдохновение художников и в часы труда стояла перед ними в застенчивой невысказанности своей. И ты — тенью добрых облаков своих — освежала их силы в скитаниях по любимой земле!..
Недавно я попал на Тверской бульвар. Зашел во двор Литинститута, остановился у ворот. Стоял и вспоминал студенческую юность. И показалось, вот-вот войдет во двор, сухо покашливая, Паустовский, — он приехал на семинар. Я почти увидел его. А вот и Андрей Платонов!..
И вдруг горечь сжала сердце. Как же это вышло! Я т о г д а не мог даже дать закурить ему… Закурить…
И я полез в карман плаща за сигаретами.
1974
ПОБРАТИМЫ (об О. Берггольц и М. Светлове)
В Центральном Доме литераторов был вечер одного стихотворения. Тогда, в самом начале пятидесятых, такие вечера устраивались часто, и нам, студентам Литературного института, давали на них пригласительные билеты.
Дубовый зал был, как говорится, набит до отказа. За маленьким столом перед публикой сидел председательствующий. Выступавшие, когда он их называл, выходили из публики, из передних рядов.
Я стоял в глубине зала, под лестницей на второй этаж. Впереди меня молодые ребята сидели на стульях и загораживали выступавших, а мне, естественно, тоже хотелось не только слышать, но и видеть поэтов.
Где-то в середине вечера, когда публика уже вошла в роль чуткого и отзывчивого слушателя, председательствующий объявил:
— Выступает Ольга Берггольц!
В зале захлопали.
К столу вышла Ольга Федоровна, невысокого роста, с короткими золотистыми волосами. Золотистость тогда еще забивала едва начавшую проступать блокадную седину.
— Я прочитаю стихотворение «Побратимы», — глухо сказала она. — Посвящается Михаилу Светлову.
Зал задвигался, загудел. Меня потеснили, двинули в сторону и прижали к круглому столу под лестницей. Хватаясь за его край, я на миг увидел, что за столом, в кольце стоящих молодых людей, в их тени, как в колодце, сидел пожилой худой человек и курил папиросу.
Берггольц читала высоким голосом:
Мы шли Сталинградом, была тишина, был вечер, был воздух морозный кристален. Высоко крещенская стыла луна над стенами строек, над щебнем развалин. Мы шли по каленой гвардейской земле, по набережной, озаренной луною, когда перед нами в серебряной мгле, чернея, возник монумент Хользунова. Так вот он, земляк сталинградцев, стоит, участник воздушных боев за Мадрид…Даже без посвящения было ясно, что стихотворение навеяно светловской музой. И казалось, не одна Ольга Федоровна, а ты вместе с нею написал дальше…
И вспомнилась песня как будто о нем, о хлопце, солдате гражданской войны, о хлопце, под белогвардейским огнем мечтавшем о счастье далекой страны. Он пел, озирая родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя!..»Теснимый беспокойными соседями, я сначала, сдерживая натиск, держался рукой за стол. Потом вынужден был сесть. Сел. Снова взглянул на человека за столом и узнал Светлова. Широкий морщинистый лоб. Вспорхнувшие брови. Скульптурные, полуприкрытые веками снизу и сверху, глаза. Светлов сидел неподвижно, облокотившись на стол и уткнув подбородок в сомкнутые ладони. Между указательным и средним пальцами правой руки была зажата папироса. Он жадно затягивался, в глубоких морщинах блестели слезы…
А в зале звучали стихи.
Но только, наверно, ошибся поэт, тот хлопец — он белыми не был убит. Прошло девятнадцать немыслимых лет — он все-таки дрался за город Мадрид! И вот он — стоит к Сталинграду лицом и смотрит, бессмертный, сквозь годы, сквозь бури туда, где на площади Павших борцов испанец лежит — лейтенант Ибаррури. Пасионарии сын и солдат, он в сорок втором защищал Сталинград. Он пел, умирая за эти края: «Россия, Россия, Россия моя…»Известно ли было Ольге Берггольц, что Светлов здесь, в зале, — не знаю. Скорее всего нет. Об этом, видимо, не подозревали и стоявшие рядом слушатели, хотя, аплодируя Ольге Федоровне, они, как мне казалось, аплодировали и ему.
Михаил Аркадьевич в тот вечер не выступал.
О чем он думал в те минуты? Может быть, об услышанных стихах побратима?.. А может быть, о том, что он написал позже, в 1957 году?
«Вот уже много лет ко мне приходит эхо «Гренады». Оно возвращается из Китая, из Франции, из Польши, из других стран. В этом, конечно, заключается большое счастье, но есть и ощущение горечи. Неужели я — автор только одного стихотворения? Хочется думать, что это не так…»
Поэт был прав. При имени его тогда, в начале 50-х, тотчас кроме «Гренады» вспоминались и «Пирушка», и «Рабфаковка», и «Песня о Каховке», и конечно же великолепное стихотворение «Итальянец» — такое же значительное, как и «Гренада».
Это правда. Но правда и другое. Тогда многие считали, что Михаил Светлов пережил свою славу, что он исписался. Он действительно подолгу не публиковал своих новых стихотворений, и в Доме литераторов или в баре № 4 на Пушкинской площади, где мельком можно было видеть Михаила Аркадьевича, нередко слышались брошенные ему вслед, обидно переосмысленные его же строки: «…умер Светлов. Он был настоящий писатель…»
О, этот обычай поэтов — «в круг сойдясь, оплевывать друг друга!». Он чаще бытует среди молодежи, которой свойственна категоричность суждений. Ведь было же время, и Светлов написал:
«Товарищи классики! Бросьте чудить! Что это вы, в самом деле, героев своих порешили убить на рельсах, в петле, на дуэли?.. (Как будто это была прихоть классиков — убивать своих героев… — М. Ш.). Я сам собираюсь роман написать — большущий! И с первой страницы героев начну ремеслу обучать и сам потихоньку учиться. И если, не в силах отбросить невроз, герой заскучает порою, — я сам лучше кинусь под паровоз, чем брошу на рельсы героя…»
Пройдут годы. Много повидавший и переживший Михаил Светлов напишет:
«Сколько натерпелся я потерь, сколько намолчались мои губы!..»
Родятся и строки:
«Молодежь не поймет наших грустных усилий, постаревшие люди, быть может, поймут!..»
Поняли и молодые и пожилые. Помогло понять время. Помог и сам поэт — новым взлетом своего вдохновения с середины 50-х годов.
Старый мир! Берегись отважных Нестареющих дьяволят!.. Неизменно мое решенье, Громко времени повелю. — Не подвергнется разрушенью Что любил и что люблю! Не нарочно, не по ошибке, Не вначале и не в конце Не замерзнет ручей улыбки На весеннем твоем лице!Над этими строками стоит посвящение — Ольге Берггольц…
Пришли новые лавры. Пришли премии. Правда, после смерти.
«Ах, медлительные люди! Вы немножко опоздали…»
В памяти моей еще одна, последняя встреча со Светловым.
Я уже был на выпуске, когда Михаил Аркадьевич пришел в Литературный институт вести творческий семинар поэзии.
Я решил побывать на первом занятии его семинара.
Михаил Аркадьевич был в хорошем настроении, щурил в улыбке свои глаза.
— Что же, давайте знакомиться. Я думаю, для начала каждый из нас прочитает одно стихотворение.
В аудитории было человек пятнадцать. Михаил Аркадьевич дымил папиросой, говорил о каждом то шутливо, то серьезно, то прямо, то притчей.
Я прочитал только что законченное стихотворение:
«Мне двадцать пять. У Мавзолея, на Красной площади стою. Отсюда поглядишь смелее на прожитую жизнь свою. Здесь думаешь о Человеке, чьим светом полон шар земной. Что сделал я за четверть века, чтоб Родина гордилась мной? Порой бывает много спеси, кичливости… А между тем не создано народных песен, не создано больших поэм… Я должен — долг моя свобода! — разбив сомнения и лень, во славу своего народа бессмертным сделать каждый день…»
— Слушайте, это совершенно нормальные мысли выпускника! — улыбнулся Михаил Аркадьевич. — Дорогой мой мальчик, наш с вами тезка Лермонтов к двадцати пяти годам был гений. Мне и в пятьдесят это не удалось. Вы счастливее меня — у вас в запасе четверть века! И программа у вас гениальная. Попробуйте!..
Так мог сказать только Светлов — человек, даже фамилия которого удивительно созвучна с его существом.
1974
СРЕДИ СВОИХ ГЕРОЕВ (о С. С. Смирнове)
Второй год работал я в редакции газеты «Тамбовская правда». Как-то, в апреле 1957 года, вызывает меня редактор.
— Ты, я думаю, слышал о писателе Смирнове?.. Вот который разыскивает защитников Бреста?
— Да, слышал, конечно. Кое-что читал…
— Так вот. Через час в обкоме партии он встречается с тамбовчанами — защитниками Брестской крепости. Пойди на эту встречу и дай материал в газету. Оказывается, в Бресте был целый дивизион тамбовчан!..
Я тут же отправился в обком. По дороге припоминал все то, что знал о защите Брестской крепости. Очерки Сергея Смирнова о ней, о нелегкой судьбе героев Бреста.
В обкоме партии собралось четырнадцать участников брестской обороны. Большинство из них были призваны в ряды Советской Армии накануне войны, служили в Брестской крепости, в 393-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе. С тех пор прошло шестнадцать лет. И вот они сошлись — солдаты, которые приняли на себя 22 июня 1941 года страшный первый удар гитлеровских полчищ, солдаты, которые плечом к плечу сражались с захватчиками до последнего патрона, а потом пережили плен, чудовищные муки лагерей, Колыму…
Радостные вскрики. Объятия. Слезы на глазах.
Гул встречи смолк, когда в кабинет быстро вошел высокий, стройный, светловолосый мужчина. Прошел до середины, покачивая плечами. Лицо добро светилось.
— Что ж, давайте знакомиться. Смирнов Сергей Сергеевич.
Он прошел по кругу, подавая каждому руку, всматриваясь в лица.
— А теперь за работу, — сказал он, садясь за стол, раскрывая тетрадь. — Итак, 393-й отдельный…
Отвечают бывшие бойцы-артиллеристы на вопросы писателя, и в его тетради появляются новые фамилии командиров батарей, политработников, старшин и рядовых, которые отчаянно дрались в первые часы нашествия. Почти каждый рассказывает не о себе, а о товарищах, порой даже им не известных. Рассказывали о пулеметчике, видимо, пограничнике, фамилию которого никто не знает. Израненный, он до последних сил был у пулемета и бил по гитлеровцам. Рассказывали о храбрости медсестры Раисы Абакумовой, проживающей в Орле. Под бомбами она перевязывала раненых, отбивала наравне с солдатами атаки немцев.
— А она мне об этом не сказала, — восхищенно заметил Сергей Сергеевич.
Кто-то спросил, какую книгу он будет писать о Брестской крепости: роман, повесть…
— Это не роман, не повесть, даже не хроника, — отвечал Сергей Сергеевич. — Пишу я художественно-документальную книгу. Мои герои — вы, подлинные защитники крепости с настоящими фамилиями. Вымысел мне не нужен. Ей-богу, любой вымысел бледнее множества удивительных фактов, которые я узнаю от участников обороны. Судьбы этих людей — потрясающи! Что было в действительности, то и поведаю читателям. Только бы увидеть как можно больше тех, кто остался в живых!..
Это было нелегко ему. Защитники Брестской крепости жили в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в Ворошиловграде и Смоленске, в Запорожье и Днепропетровске, в Харькове и Саратове, в Волгограде и Астрахани, в Калинине и Ярославле, в Горьком и в Тамбове. И немало еще на Колыме, в Магадане. Писателю в благородном его деле помогали граждане этих городов. Они разыскивали защитников крепости, записывали их биографии, воспоминания и пересылали записки Сергею Сергеевичу в Москву.
— Сбор материала, — говорил на прощанье Смирнов, — близится к концу. Скоро еду в Брестскую крепость, поселюсь там и — за дело. Думаю завершить книгу к началу будущего года.
Слово свое Сергей Сергеевич сдержал.
А в тот день — день его встречи с тамбовчанами — вечером мы сидели у него в номере гостиницы «Интернациональная». Сидели далеко за полночь. С нами был один тамбовский литератор.
Сергей Сергеевич без устали рассказывал о встречах с защитниками Брестской крепости, о поисках их, о неожиданностях в поисках. Легко можно было представить, что творилось у него дома. К нему звонили, к нему ехали, ему писали, его просили помочь освободиться от заключения, помочь доказать свою невиновность в пленении, восстановить доброе имя…
В тот поздний вечер рассказ его то и дело прерывался телефонными звонками. Из Москвы звонила жена. Он звонил в Москву. Спрашивал — не ответил ли тот или другой адресат, что ответил (жена читала ему письма) — он смеялся, хмурился, кричал (скажи ему — он получит орден!.. Я уже хлопотал… Напиши — скоро освободят. Я говорил в военной прокуратуре!..).
Клал трубку и пересказывал, что сообщала жена. Отыскиваются все новые и новые защитники Бреста.
— Повезло же вам — напасть на такую золотую жилу, — имел глупость сказать свидетель нашей беседы.
Сергея Сергеевича будто ударили. Он вскочил.
— Как вы можете? — вспыхнул он. — Вы думаете, это просто?.. Попробуйте!..
Закурил — а курил он беспрестанно — и, немного успокоившись, снисходительно продолжал:
— Знаете, сколько сил надо? Вы думаете, меня всюду встречают с распростертыми объятиями? У каждого же свои заботы… Хотя, слава богу, многие люди в самых разных инстанциях помогают. И я… знали бы вы, как я им благодарен!
В пепельнице росла гора окурков. Сергей Сергеевич говорил и говорил:
— И как не благодарить? Они же вместе со мной рискуют. Не исключено, кто-либо из тех, кому мы помогаем, может и подвести… Но ведь веры без риска не бывает!..
— А как получилось, что многие защитники Бреста оказались в местах отдаленных?
Сергей Сергеевич глубоко затянулся дымом и резко выдохнул.
— Как получилось… После войны обычно разменивались пленными. А Хозяин сказал: «У менья нэт пленных… Есть изменники родины…» — Сергей Сергеевич сделал полуминутную паузу: — Да, среди защитников были трусы и предатели… Но большинство людей трагически попало в плен, достойно вело себя там. Многие бежали из плена, пробирались к партизанам, участвовали в движении Сопротивления… Я еще расскажу о них!..
И снова звонки, звонки.
— Вы не расплатитесь за телефонные переговоры, — сказал я.
— Попрошу денег у вас, — ответил он, улыбнувшись. — Нельзя иначе. Я сейчас мало бываю дома. По телефону слушаю информацию жены, а в дороге обдумываю, что предпринять в том или ином случае.
Мы простились за полночь. Утром он уехал. Вслед я послал ему газету с репортажем о встрече с защитниками Бреста.
Ответа не последовало. До ответа ли ему было!
Прошло много лет. С переездом в Москву судьбе было угодно, чтобы я работал в аппарате правления Союза писателей РСФСР. Как-то зашел я к Сергею Сергеевичу — уже лауреату Ленинской премии за книгу о брестской обороне, пионеру блистательных выступлений писателей по телевидению, первому секретарю правления Московской писательской организации.
Когда я вошел в его служебный кабинет, он встал навстречу, подал руку, пристально вглядываясь в меня.
— Не узнаете? — спросил я.
— Честно говоря, нет. Но что-то знакомое…
— Тамбов. Ваша встреча с бойцами отдельного 393-го…
— А-а, Шевченко!..
— Так точно.
— Спасибо за материал о встрече, за газеты. Один номер я оставил себе. Остальные — отдал в «Ленинку»… Ну, как там в российском правлении?
И вдруг рассмеялся и потянулся к папиросной пачке.
— Слушайте, а ведь вы, так сказать, начальник надо мной!.. Какие будут указания?
— Меньше курить, — сказал я. — Еще в Тамбове хотел вам посоветовать.
Сергей Сергеевич посмотрел на папиросу между пальцами, зажег ее и вздохнул.
— Да, надо бы меньше… Постараюсь…
Сергей Сергеевич горячо взялся за работу, когда был избран руководителем Московской писательской организации. Это сразу все почувствовали. Но, к великому сожалению, проработал он недолго. Вскоре он умер. Сгорел…
Страшно горько было провожать его в последний путь. И горше всех, наверное, провожали его защитники Бреста, чье человеческое достоинство и воинскую честь поднял он до того уровня, которого они заслуживают — до подвига.
Он жил их жизнью — жизнью своих героев.
1986
ДВА СЛОВА (о Я. Смелякове)
Умирал мой дед. Умирал на девятом десятке — похудевший, осунувшийся… Только вьющиеся густые волосы да насмешливый взгляд напоминали прежнего Якова Иваныча. Да, в свое-то время… «Высоченный, слегка сутулый, дед, бывало, с пьяной руки, чуя силушку, свертывал в дули николаевские пятаки. Он портняжил. Случалось, суток не пройдет (лишь поставь магарыч!), дед сошьет мужику полушубок! Да такой, что носи — не хнычь! Был насмешлив и непреклонен, многодетный, не гнулся от бед. Но давили его иконы. На коленях пред ними, в поклонах, становился маленьким дед. А когда сыновья и дочери в комсомольцы разом пошли и однажды февральской ночью всех угодников божьих пожгли», дед оставляет дом… «Я с безбожниками не могу!» Скитается по России, а умирать приходит в родную краину…
В день возвращения, за ужином, дед заводит разговор о похоронах. И мать моя ему говорит: «Шо я скажу, батя… Хороныть вас будут уси диты и внуки, а воны ж пошты уси и партийни… и креста вам не поставлять…»
Дед замолчал. Долго сидел молча. А потом ответил: «Шо ж… Хай ставлять звезду. Вона тэпэр всьему мыру свитэ!..»
Это просилось в стихи. И я написал их спустя годы после того, как услышал рассказ об этом от матери.
Принес я стихотворение в редакцию областной газеты. Завотделом культуры прочитал его, небрежно отодвинул в сторону и сказал:
— Тоже мне, Чайльд Гарольд в лаптях!..
Печатать стихотворение не стали.
Вскоре я узнал, что журнал «Подъем» готовит к публикации большую подборку стихотворений поэтов Черноземья. Я отослал стихотворение о деде в «Подъем», и оно было напечатано.
Я торжествовал.
Но торжество было недолгим. Рукопись моего сборника стихов мариновали в писательской организации. В ней не последнюю роль играл завотделом культуры. Обсуждали раз. Обсуждали два. Пересоставляли. Казалось, конца этому не будет.
В один из декабрьских вечеров бродил я по городу. Зябко, мокро и мерзко было на улице.
Выхожу к стадиону «Спартак». На его заборе — витрина «Литературной газеты». Вспоминаю, что не просматривал последний номер. Подхожу. И вдруг… Правду говорят — свое далеко видно…
Едва подошел к газете, чувствую и в ту же минуту вижу свою фамилию. На второй полосе. Почти в центре. Пригибаюсь вплотную к газете — уже спускаются сумерки — и читаю:
«…очень неплохие стихи… М. Шевченко из Тамбова…»
Что за статья? Кто написал?
Начало — на первой полосе, с переходом на вторую и третью. «Молодая русская поэзия». Автор — Ярослав Смеляков.
Отхожу от витрины. Передо мной — огни неоновых реклам. Они радужно отражаются в асфальте и, кажется, освещают весь город.
Бегу в редакцию, в отдел культуры. Там подшивки газет. Нахожу «Литературку». Оказывается, статья эта — сокращенный доклад Ярослава Смелякова на совещании молодых поэтов в ЦК ВЛКСМ. Ярослав Васильевич, готовя доклад, прочитал подборку в «Подъеме». И вот — «очень неплохие стихи…».
Показываю статью заву. Слышу в ответ: «Мне некогда читать это… Я даже Пушкина не читаю…» Жалею, что показал.
Но зав берет подшивку и все-таки читает статью. И что же? «Подумаешь!.. Всего два слова!..»
И радость моя пригасает. Снова я на прозябшей улице. В самом деле. Почему лишь два слова? Ну, хотя бы еще несколько словечек! Да, но ведь в статье с полсотни имен! Столько же и в подъемовской подборке, а ты назван в числе троих!..
И все же я вновь возвращен на грешную землю.
Не знал я тогда, что значат два его слова.
С утра следующего дня начались звонки мне. Они продолжались весь день.
— Мишка! Поздравляем!..
— Слушай! Сам Смеляков!..
— Да плюнь ты на этого зава!..
— Ты понимаешь — молодая русская поэзия!..
Черт возьми! Я снова счастлив!
…Я сидел на работе один и вспоминал литинститутские годы. Тогда я часто видел его — этого рабочего человека в простом поношенном полупальто, в толстой кепке блином, в которой он ходил и осенью, и зимой, сутуловатого, с усталым молчаливым взглядом. Мой товарищ по курсу Василий Недогонов, брат известного поэта, рассказывал, что Алексей Недогонов дружил со Смеляковым, любил его и как необыкновенно талантливого поэта, и как человека необыкновенно трудной судьбы.
Иной, пройдя такую жизнь, мстит за свои горечи другим. А он, Смеляков, радуется даже малой удаче молодого и совсем неизвестного ему стихотворца. Зная беды, он помогает ему обойти их…
Ярослав Смеляков понимал, что значили его слова. Недаром же он считал своей обязанностью искать и находить людей, которых он мог бы поддержать.
Два слова…
И у меня «пошла» книжка. Не совсем такой, какой бы хотелось ее видеть, но «пошла».
Этой книжкой я защитил диплом в Литературном институте. С этой книжкой я вступил в Союз писателей.
Спустя годы, уже в Москве, я много раз видел Ярослава Смелякова. Такого же заботливого и такого же прямого в скупой похвале.
Потом я стоял у гроба его. Вокруг было много товарищей, имена которых он называл в той давней статье и во многих-многих других…
1975
ЛИДИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК (о Вл. Лидине)
Есть в городке писателей Переделкине переулок между Железнодорожной улицей и улицей Серафимовича. Узкий, небольшой по протяженности, он похож на аллею. Вдоль справа и слева во всю его длину дачные заборы, с усадеб через них склоняются над переулком сосны, березы и осины. Зимой они склоняются под тяжестью снега, а летом — под обильной листвой. Там изредка проезжают машины, как-то глуше доносится туда и гул проносящихся поездов и электричек. Ветви деревьев вверху соприкасаются и образуют высокий туннель с просветом неба и солнца. Здесь всегда тихо, в жару — прохладно и одиноко. Я любил гулять по этому переулку, когда жил в Лукино, рядом с городком писателей.
В этом переулке хорошо думается в любое время. Туда хочется попасть, утомившись от сутолоки будней, сутолоки напряженного энтеэровского дня. В теплую пору я часто снимал ботинки и ходил там босиком по лиственному ковру…
Я не знаю, как называется этот переулок, там нет табличек. Если идти от Железнодорожной по нему, то слева дачная усадьба незнакомого мне адмирала. Окна в даче — как иллюминаторы корабля. А справа — дача Владимира Германовича Лидина, стоит на углу переулка и улицы Серафимовича. Проходя мимо нее утром или вечером, всегда можно было видеть Владимира Германовича в самом верхнем окне, склоненным над столом. Всегда он много работал, и я чувствовал укор себе в своей лености, несобранности.
В нашей семье мы звали этот переулок Лидинским. Теперь, когда Владимира Германовича нет, я думаю, что переулок этот похож на самого писателя. Такой переулок есть и в литературе.
* * *
Придя работать в Тамбовское книжное издательство, я как-то прочитал повесть незнакомого мне писателя Петра Ширяева о лошади — «Внук Тальони». В который раз я с горечью думал: сколько же я не знаю прекрасного в жизни!.. Я никогда не слышал об авторе, — а это отличный писатель, создавший отличную книгу. Она, конечно же, когда-нибудь будет в антологии советской прозы.
Я стал искать его книги. Их оказалось немного, изданы они были давно и забыты. Я решил составить томик Петра Ширяева и обязательно выпустить у нас. Будучи в Москве, зашел в Главиздат и договорился об издании этой книги. Нужно было предисловие. Кто бы мог написать? Петр Ширяев умер в тридцать пятом году. С тех же пор и не переиздавался. Кто мог его знать?
И однажды, просматривая какой-то справочник по советской литературе, я наткнулся на информацию, что выходила книга автобиографий советских писателей, редактором ее был В. Г. Лидин.
Владимира Германовича я знал по Литературному институту. Он вел семинар прозы, в его семинаре занимались мои однокурсники. Я мысленно увидел сухого сдержанного старика, серьезно проходившего по коридору института. Тонкий с горбинкой нос, высокий открытый лоб, голова чуть вскинута, он похож на какую-то как бы рассерженную птицу. Раза два я был у него на семинарских занятиях, когда обсуждались рассказы моих товарищей. Он всегда был сдержан в оценках, внимателен, обстоятелен в разборах. Он был интеллигентен.
И я решил связаться с ним и попросить о предисловии: вдруг он знал Петра Ширяева.
Когда томик был готов, я позвонил Лидину.
В трубке раздался тихий глуховатый голос:
— Я слушаю…
Я представился и объяснил, почему беспокою его.
— Что вы включаете в однотомник? — спросил он.
— Прежде всего, «Внука Тальони», повесть «Освобожденные воды», рассказы…
— «Цикуту» включаете? — прервал он меня.
— Да, конечно. На мой взгляд, это очень хорошая…
— Я согласен, — ответил он, оживившись. — Я напишу предисловие. Только небольшое. Я не так уж хорошо его знал…
— Спасибо. И еще одна просьба к вам. Не знаете ли вы племянника Петра Алексеевича? Живет он где-то в Москве. Может быть, есть неопубликованные вещи… Можно было бы дать…
— Немножко знаю. Хорошо. Я постараюсь связаться с ним. Когда вам нужно предисловие?
— Чем скорее, тем лучше. Недельки бы через две.
Через неделю я получил от него письмо.
«Уважаемый тов. Шевченко!
Вы не сообщили мне своего имени и отчества. Посылаю 2 экз. своей статьи о Ширяеве; дайте о ней знать, когда прочтете.
Племянник Ширяева обещал послать Вам его портрет, о рассказах поинтересуется у сестры Ширяева, нет ли у нее чего-нибудь из неопубликованного.
В каком квартале должна выйти книга?
С уважением Вл. Лидин.8 февраля 1962, Москва».
Предисловие написал он хорошее. Из него встает живой, своеобразный, большой культуры человек, легендарной судьбы. Родившись в довольно богатой семье, Петр Алексеевич порвал с ней, затем был удален за вольнодумство из Тамбовской гимназии, уехал в Москву, дрался на баррикадах 1905 года, был схвачен и посажен в Бутырку, бежал за границу. Жил в Италии, изучил в совершенстве итальянский язык, переводил прогрессивных писателей на русский… Вернувшись в послереволюционную Россию, создал ряд прекрасных книг о ее жизни.
Обо всем этом Владимир Германович рассказал живо, интересно и коротко.
Я тут же написал об этом Владимиру Германовичу, легко карандашом отметил шероховатости стиля в одном-двух местах. Лестно было, что он оценил составление: в том вошло не все, но лучшее.
Вслед за моим письмом получил ответ.
«Дорогой Михаил Петрович,
я очень рад, что статья пришлась Вам по душе. Боюсь, что неопубликованного ничего не найдется. Мне племянник Ширяева говорил об этом не очень уверенно, но я дал ему Ваш адрес, и он твердо обещал прислать во всяком случае портрет.
К сожалению, он переехал сейчас в новую квартиру, и я не знаю ни его адреса, ни телефона; но думаю, что он уже послал Вам все то, о чем мы с ним говорили.
Желаю Вам всего хорошего.
Вл. Лидин23 февраля 62.
Москва».
Племянник Ширяева не отозвался и ничего не прислал — ни портрета, ни новых рукописей.
Однотомник П. А. Ширяева вышел к осени 1962 года. Послал я В. Г. Лидину авторские экземпляры. В ответ он прислал один с надписью, которая мне дорога:
«Михаилу Петровичу Шевченко, создавшему эту книгу, на добрую память от автора статьи о Петре Ширяеве.
Вл. Лидин».Владимир Германович ценил малейшее доброе дело. Он радовался выходу книги Ширяева:
«…все-таки хорошо, что она вышла, и притом массовым тиражом. Только очень скучен цвет переплета, и жалко, что молодой портрет совсем не передает Ширяева, каким он был в годы своего писательства. Но главное сделано, и читатели будут Вам благодарны…»
Он заботился о том, чтобы книжка дошла до Москвы, и когда замедлилась отсылка тиража в лавку писателей, он выступил со статьей по этому вопросу в «Литературной газете». Он сетовал на несовершенство в распространении книг, мечтал о книжном магазине «Дружба» в Москве, где торговали бы всеми книгами всех издательств, о том, чтобы хорошие книги расходились по всей стране, а не оставались продукцией местного выпуска.
«…Совсем недавно Тамбовское книжное издательство, — писал он, — выпустило «Избранное» покойного писателя Петра Ширяева. Немало трудов положили тамбовцы для увековечивания памяти своего земляка, но кто в Москве видел эту книгу? А между тем повесть «Внук Тальони», вошедшая в эту книгу, справедливо считается одним из достойных произведений советской литературы.
То же Тамбовское издательство выпустило весьма интересную книгу Б. Мартынова «Журналист и издатель И. Г. Рахманинов» об одном из самоотверженных просветителей XVIII века, издателе и переводчике сочинений Вольтера. Я получил эту книжку от доброго знакомого, но в Москве о ней не слыхали даже испытанные книголюбы…»
Выпуск однотомника П. Ширяева укрепил меня в вере, что в Тамбове можно издавать нужные книги. Тамбовщина — непочатый источник таких трудов. Если взять только писателей, то с нею связаны имена Г. Державина, А. Пушкина, Е. Баратынского, М. Лермонтова, А. Новикова-Прибоя, С. Сергеева-Ценского, Н. Вирты и др. Об этом хорошо знал Владимир Германович. Сразу после войны он приезжал на Тамбовщину. Конечно же, зашел в библиотеку им. А. С. Пушкина и открыл там несметное богатство среди книг, изданных еще при жизни знаменитых отечественных писателей. О посещении библиотеки В. Лидиным долго вспоминали, он помог кое в каких нуждах ее, замолвил слово перед областным руководством.
Мы начали литературные «раскопки». И в довольно короткое время выпустили книги о прошлом Тамбовского края, книги воспоминаний о Мичурине и Сергееве-Ценском, книжку о Рахманинове… Готовили к изданию исследование о пушкинских связях с Тамбовщиной…
Позже он в книге «Друзья мои книги» вспомнит и Тамбов, и его великолепную библиотеку.
Эту свою книгу он прислал мне с теплой надписью, а в письме подчеркивает, что там, в книге, есть и строки о Тамбове.
В переписке с ним я обмолвился, что хотел бы всерьез заняться прозой. Послал ему вместе с книжкой стихов и первые рассказы. И я вспомнил, вернее, он заставил меня вспомнить то, что мне говорила о нем — заботливом и доброжелательном — однокурсница Наташа Лаврентьева. Она была у него в семинаре. После института уехала на работу в Волжский и нелепо погибла. Владимир Германович собрал книжку ее рассказов и написал к ней доброе предисловие.
Не замедлил он отозваться на мое письмо, на мои раздумья.
«Дорогой Михаил Петрович,
в самом деле, почему бы Вам не попробовать силы в прозе, ведь у Вас есть склонность к этому…
Попробуйте для начала написать что-нибудь о тамбовской деревне и пошлите в газету «Сельская жизнь» на имя Никиты Афанасьевича Иванова, сославшись на меня. Это очень благожелательный и отзывчивый человек. Попробуйте!..»
Рекомендацией его я не воспользовался — постеснялся. А ему через какое-то время послал новые рассказы. И вновь убедился, что он и сам такой — благожелательный и отзывчивый.
Я готовил книжку стихов и думал над прозаическими вещами, предполагая сдать вскоре книги в издательство. Но задумкам не суждено было сбыться.
Областные издательства были упразднены, созданы были укрупненные зональные издательства. И на это событие Владимир Германович откликнулся:
«…Очень жалею, что хорошее Тамбовское издательство ликвидировано: по моему глубокому убеждению, культурное значение областных издательств не измерить никакими проторями, если б они даже были.
Крепко жму Вашу руку и надеюсь, что Вы продолжите работу над рассказами, пусть хотя бы в Воронеже выйдет Ваша книга. Будьте здоровы.
Ваш Вл. Лидин.7 мая 1964.
Москва».
Это письмо Владимира Германовича скрашивало мою горечь. Издательство было названо хорошим, а я как-никак был все-таки главным редактором его.
Владимир Германович вселял веру молодого человека в себя. Он был скромным и трудолюбивым. Через каждые два года в последнее время он издавал книгу рассказов — «Дорога журавлей», «Сердца своего тень» и другие, часто публиковался в журналах и газетах. Рассказы были неравноценные, но в каждой книге встретишь маленькие шедевры, — сердечные, жизненные, какие-то интимные в самом хорошем смысле слова. Каждая книга его напоминала мне тот, рядом с его дачей, переулок — по беспокойному уюту и щемящей раздумчивости.
Близилось его семидесятипятилетие. В новогоднем поздравлении я напомнил о нем. В ответ получил первое — резкое по сравнению со всеми его письмами:
«Не поздравляйте меня, пожалуйста, ни с какой датой: я дат не признаю: разве что отметить двадцатипятилетие, а все остальное — кошке под хвост. Никто, никогда и нигде не будет меня поздравлять, это мое твердое условие, и зря Вы об этом помните…»
В письме, где я вспомнил о его дате, я послал фотографии русских троек, прекрасно сделанные тамбовским литератором и фотографом П. Ф. Шаповаловым. В связи с этим Владимир Германович закончил письмо так:
«П. Шаповалову мое сердечное спасибо за тройки, скажите, что я принимаю это как указание быть всегда коренником. Так и буду бегать. Ваш Вл. Лидин. 2 янв.»
Всю жизнь он и был коренником.
Владимир Германович Лидин — великий знаток книги. Его библиотека — одна из самых содержательных, самых лучших библиотек в стране.
Он был не всеядный собиратель книг. Он страстно собирал книги, изданные при жизни значительных и интересных писателей России. О многих из них он рассказал в своей книге «Друзья мои книги».
Был эпизод в наших взаимоотношениях, который как нельзя лучше характеризует Лидина-собирателя.
Уже работая в правлении Союза писателей РСФСР, я поехал на отчетно-выборное собрание писателей в Барнаул. Будучи у одного писателя, увидел на его книжных полках, где стояли главным образом современные издания, старую пушкинскую книгу — «История Пугачевского бунта», изданную в 1836 году, то есть при жизни Пушкина. Книга эта была одинока в библиотеке моего знакомого, и я попросил ее для Владимира Германовича, представляя, как он обрадуется подарку с Алтая.
Вернулся в Москву. Предвкушая, как он сейчас оживится, звоню Владимиру Германовичу.
— А книга у вас с портретом Пугачева? — мгновенно спросил он, едва я поведал о причине звонка.
— Нет, без портрета, — говорю.
Он делает маленькую паузу. Я уже представляю его радостное лицо, а он говорит:
— У меня эта книга с портретом Пугачева!.. Так что оставьте ее себе. А за память спасибо!
Открыть что-либо перед ним в книжном мире было непросто.
Один раз я был у него дома, в Москве, на улице Семашко. По выходе второй книжки стихов я надумал вступать в Союз писателей. Попросил у него рекомендацию.
— Знаете, — грустно отозвался он по телефону, — с моими рекомендациями редко принимают… Но я вам, конечно, дам. Приезжайте.
Он встретил меня в прихожей. Сразу пригласил на второй этаж, в кабинет. Стен в нем как таковых не было — были книги. Небольшой рабочий стол. Над ним — портрет Стефана Цвейга, Владимир Германович ведь был с ним хорошо знаком. Да и со многими-многими выдающимися людьми своего времени он был знаком, дружил. И я всегда, здороваясь или прощаясь с ним за руку, с волнением думал, что он как бы передает мне тепло рук Горького, Чехова (ведь он дружил с сестрой Антона Павловича Марией Павловной), Алексея Толстого, дяди Гиляя, Телешова, Серафимовича, Малышкина, Новикова-Прибоя, Ромэна Роллана, Цвейга, Писахова… О них он поведал в своей книге «Люди и встречи».
Увидев, как я осматриваю полки с книгами, он не без удовольствия снимал с полок и показывал драгоценные издания.
— Вот ваш великий однофамилец, — он подал мне «Гайдамаков» Тараса Шевченко. — Вы читали об этом издании в моей книге? А вот его «Кобзарь»… А вот ваши знаменитые земляки — Кольцов и Никитин…
С благоговением держал я в руках прижизненные издания писателей, которые являются гордостью русской литературы, наивно предполагая, что, может быть, эти книги были у них в руках, в их домашнем собрании.
Владимир Германович смотрел на меня, и мне показалось, что он был рад случаю потревожить великие тени. И тут невольно я вспомнил об одной неточности в его книге «Друзья мои книги». Высоко оценивая творчество Андрея Платонова, припоминая признание американца Хемингуэя об учебе своей у этого русского писателя, он ошибся в сообщении о смерти его. Владимир Германович написал, что Платонов «умер как-то незаметно, в разгар войны…».
— Нет, он умер после войны, в 1951 году, — сказал я.
— Господи, да как же я забыл? — сокрушенно воскликнул Владимир Германович. — Ведь его же били за прекрасный рассказ «Возвращение» уже после войны. Правильно! Спасибо. Доживу до переиздания книги, непременно исправлю. Ах, как же это я?..
Провожая меня, Владимир Германович подарил мне том своих повестей и рассказов.
На этот раз рекомендация В. Г. Лидина сыграла свою добрую роль. Полгода спустя я был принят в Союз писателей. А еще через год переехал в Москву. Жил несколько лет в ожидании квартиры в Переделкино, у меня родился сын, и, гуляя с ним, я изредка наведывался к вечеру на дачу к Лидиным. Мне хотелось, честно говоря, заходить почаще, но я каждый день видел Владимира Германовича в верхнем окне дачи склоненным над столом и боялся помешать ему в работе. Ведь он жил, главным образом, только на литературный заработок.
Как-то мы гуляли с ним по саду, и я увидел гортензию.
— Это тот самый… куст Смирдина? — спросил я, вспомнив, что Лидину он был подарен правнучкой знаменитого издателя России в год столетия прадеда; Лидин выступал с докладом на вечере памяти его.
— Да-да, — обрадованно ответил Владимир Германович, — тот самый куст… Смотрю на него и вижу себя юношей. Вижу любимый томик Лермонтова с золотым обрезом, с него начиналась моя библиотека… А дома, в Москве, глядя на книги, вспоминаю этот куст…
Он ласково коснулся ладонью листьев куста.
— Когда я читал у вас, как ребята спасают книжки в оккупированном городке, я вспомнил, как мы спасали книги в годы разрухи… Любовь к книге унаследуется. А сын любит книги?
— Очень.
— Ну, вот видите. Эта любовь передается, — отозвался он довольный.
Вспоминая Владимира Германовича, я вспоминаю и его слова, сказанные как бы о самом себе:
«Время идет кажется, с ним вместе движется и летопись времени — книги: одни становятся вечными, никогда не стареющими спутниками новых и новых поколений читателей; другие не остаются в широком обиходе, но и они не уходят совсем, а прочерчивают свой след в звездном небе литературы. Астрономы с одинаковым вниманием относятся и к крупным светилам и к звездам третьей или пятой величины, ибо без звездной осыпи не было бы и звездного мира».
Литературная звезда Владимира Лидина светит над тем переулком жизни, который я мысленно или вслух называю его именем.
1986
БОЛЬ ЧЕЛОВЕКА БЫЛА ЕГО БОЛЬЮ (о В. Федорове)
Сокурсники мои уходили из института дипломированными, я остался без диплома. Еще на третьем курсе я почувствовал себя плохо, часто болел. Врачи советовали взять академический отпуск: нашли сильное переутомление, сказались голодные и холодные годы войны, а тут еще я переусердствовал в занятиях. Приехав в Москву отличником педучилища, я в первые же недели понял, что знаю страшно мало. Знакомился с библиотекой Литинститута: что ни книга — не читал, не читал… И я стал читать, что называется, день и ночь. Я понял также, что так писать, как я писал до института, — нельзя. Но как нужно — не знал. Улавливал лишь, что первые удачные стихи — уже в институте — рождались из автобиографического материала.
В тяжелых раздумьях дотянул-таки я до пятого курса, успешно сдал государственные экзамены, а защиту диплома отложил на год. Настроение было, конечно, скверное. Усугублялось оно и тем, что некоторые сокурсники глядели на меня свысока…
Поехал я в Россошь к родителям. Им такой мой приезд не доставил большой радости. Жил дома, вглядывался новыми — после столицы — глазами в окружающую жизнь. Да, так писать, как я писал, да и как пишут многие другие, — писать нельзя, думал я сокрушенно. Как-то поехал в родную слободу в Придонье. И довелось мне там смотреть кинофильм о колхозной деревне. Зал был полон людей, тех, которые с зари до зари работали на полях. По замыслу авторов, колхозники должны были узнавать себя в звездных кавалерах — героях экрана. Но люди не узнавали себя. Они вообще не воспринимали кинофильм и ох какие крепкие слова посылали по адресу создателей фильма и во время сеанса, и особенно после него…
Нет, так писать нельзя. А как? Я искал ответа в чтении, в мучительных беседах, в спорах с друзьями.
Через год приехал в Москву взять справку об окончании теоретического курса института, чтобы поступить куда-нибудь работать.
Выходя со справкой из института, встретил на пороге Василия Федорова. Он, шагнув было навстречу, отступил, дал мне выйти и пошел со мной по двору.
— Что ты какой-то?.. — он прервал свой вопрос, прикуривая беломорину, похудевший, в потертом костюме, в стареньком галстуке. Лацканы пиджака были чуть присыпаны пеплом. Уже проступала и седина, как пепел. Мы с Василием не были близки в институте. Он был старше меня на десять с лишним лет по возрасту и на три курса — по институту. Не знаю почему, он как-то после институтского капустника, в котором я сопровождал на рояле пение одной студентки, подошел ко мне и спросил:
— Учился где?
— Нет, сам.
— А сибирское что играешь?
Я взял тему «Славного моря…».
— Гм… — улыбнулся он открыто. — А еще что?
Я сыграл знаменитую песню о бродяге в диких степях Забайкалья. Василий молча посмотрел на меня и ушел.
С тех пор мы стали здороваться. Иногда он, медленно проходя по коридору, приостанавливался, прямой, в расстегнутом пиджаке, и между нами происходил ничего не значащий разговор: «Как жив-здоров?.. Ничего?.. Ну, пока…» Но мне дорого было его даже такое внимание. Он уже был выпускник, сталинский стипендиат, изредка печатался. Его стихами был открыт сборник литинститутских поэтов «Родному комсомолу». Стихи эти, как мне и теперь кажется, обнажают его существо.
Когда, Порог переступая, Мы шли к нелегкому труду, — Морщинка, черточка любая Была в ту пору на виду. Деталь строгалась, Шлифовалась, Пока на ней в конце концов, Как в зеркале, не отражалось Ее создателя лицо…Да, он отражался в своих стихах. Менялся с годами, изменялись и стихи, но отражение его на них не исчезало всю жизнь.
— Так что с тобой? — торопил он мой ответ.
Убитым голосом я рассказал ему о своем положении.
— Да, это не намного лучше, чем было у меня… — выдохнул он беломоровский дым и добавил: — У меня и сейчас… Из стихов ничего не могу напечатать. Семья…
Снова была глубокая затяжка и выдох.
— Надо бросать стихи, они не кормят… Кой-как живу очерками… Надо переходить на прозу…
Он торопливо докурил папиросу, отбросил окурок к ограде сквера и простился.
Что значит — не намного лучше, чем у меня? Я не знал и до сих пор не знаю всей подоплеки дела, но на пятом курсе у Василия Дмитриевича произошло какое-то столкновение с Василием Смирновым, заведующим кафедрой творчества, и тот дипломную работу Федорова отдал на отзыв знаменитому поэту-лауреату Михаилу Луконину, у которого был иной жизненный опыт, чем у Василия Дмитриевича, писал он совсем в иной поэтической манере. Федоров шел от русской классики, Луконин — от Маяковского. Как, видимо, и ожидалось, Луконин дал уничтожающий отзыв о федоровской дипломной работе. На защите диплома дошло до того, что заговорили о перенесении защиты.
Тогда пришли на помощь Борис Бедный и Владимир Солоухин. Борис Бедный, который в скором времени сам должен был защищаться, был уже автором прекрасного по той поре рассказа «Комары», отмеченного в «Литературке» маститым Николаем Погодиным. А Солоухин уже опубликовал стихи о встрече Ленина и Уэллса «Это было в двадцатом…», стихи о засухе в степи, «Колодец»… Студенты, по-солоухински окая, читали друг другу отточенные строки.
О, если б дождем Мне пролиться на жито, Я жизнь не считал бы Бесцельно прожитой…И вот животворящим дождем для федоровской нивы стали их выступления. Они отстояли его диплом, хотя оценен он был все же тройкой.
С тех пор прошло более двух лет, а трудности — все еще не позади. «Надо бросать стихи, они не кормят…»
Я уехал в Воронеж в надежде найти работу. Тщетно. В редакциях газет, в издательстве, на радио места не нашлось. Тогда я поехал в Тамбов, где, будучи на третьем курсе, проходил творческую практику в областной газете. После некоторых проволочек меня взяли литсотрудником в отдел информации «Тамбовской правды». Началась беспокойная жизнь газетчика. Я писал информации и зарисовки, рецензии и критические корреспонденции, обзоры писем и фельетоны. Написал несколько рассказов — не напечатали. Послал один крупному прозаику, с которым встретился перед отъездом из Москвы. Он ответил что-то невнятное. Он сам не был готов к большим переменам — наступал 1956 год.
Оставил я прозу; потихоньку пошли стихи. В Тамбове были открыты писательская организация, книжное издательство. Меня перевели из газеты в издательство редактором художественной литературы. Тут у меня, кроме друзей, появились враги. Ведь большая часть работы редактора — это возврат слабых рукописей авторам. И однажды средней руки газетчик бросил мне в лицо: «А что ты сам?.. У тебя даже диплома нету!» Будто пощечину влепил. Я ничего не ответил. Дома просмотрел рукопись сборника стихов. Ею можно было защитить диплом. Но лучше — изданной книжкой.
Когда мой сборник «Любовь» вышел, один из авторских экземпляров (после сомнений — помнит ли меня, со времени последней встречи прошло шесть лет) я послал Василию Федорову. Ответа долго не было. Знакомая девушка в почтовом окне «До востребования» отвечала, смеясь: «Пишут…»
Я уже не ждал ответа, когда он пришел.
«Дорогой Михаил Шевченко!
Спасибо за книгу. Она долго путешествовала, прежде чем попасть ко мне. Вы послали ее по старому адресу. Спасибо и за посвящение. Не знаю, писали Вам или нет из военного журнала, которому я рекомендовал Ваши стихи о Лермонтове. Они мне понравились, но в «Мол. Гвардии» было все забито. Очень хорошо, что у Вас сложилась эта книжица — плацдарм, который надо расширить и вести дальнейшее наступление. Чувствуется — можете. Мне нравятся «Руки отца». Эта линия в поэзии должна быть, как ее основа, с которой можно совершать поэтические набеги куда угодно.
Желаю всяческих успехов.
Вас. Федоров.3.X.61».
Перечитал письмо несколько раз. Легко можно представить, что значила для меня тогда такая весть. К тому времени Василий Федоров приобрел большую известность. Появились его поэмы «Золотая жила», «Проданная Венера», «Белая роща», «Бетховен»… Редко бывало, чтобы мы, молодые и горячие, сходясь, не читали его афористические стихи.
Мы спорили о смысле красоты, И он сказал с наивностью младенца: — Я за искусство левое. А ты? — За левое… Но не левее сердца!Или:
За красоту людей живущих, За красоту времен грядущих Мы заплатили красотой…Снова и снова перечитываю его письмо и не верю глазам своим. Он пишет: нравятся. Он пишет: рекомендовал. Он пишет: «Можете»!..
Все — еду защищать диплом!
Пишу в институт. Прикладываю медицинские справки. Отсылаю книжку стихов. Сообщаю, что в последние год-два в институте зачеты по творчеству мне ставил работавший там поэт С.
Приезжаю в Москву на защиту. И что же?! Один из моих тамбовских «друзей», бывший литинститутовец, уже «поработал» и в институте. Поэт С. отказался вести мою дипломную работу, — он меня-де не помнит… Его друг-критик написал отрицательный отзыв на нее. Словом, защита была подготовлена к провалу.
Что делать? Вернуться в Тамбов и на сей раз без диплома?.. Растерянный, я бродил по Москве, не зная, как поступить, кому поведать печаль свою. Забрел в правление Союза писателей России, где работали мои товарищи по институту.
— Да что же он делает, С.! — зашумели они, узнав про мою беду. — Хорошая же книжка!
— Егор рассказывал, как Василий Федоров читал твои стихи о Лермонтове в ЦДЛ! Сидели за столом, и он наизусть!..
— Вот если бы позвонить Федорову, а? Кто может позвонить ему?.. Егор!
Тут же связались по телефону с Егором Исаевым, моим земляком и товарищем по институту. Он заведовал тогда редакцией поэзии в издательстве «Советский писатель». Через час я уже знал, что Егор дозвонился до Василия Дмитриевича, тот возмутился поступком С., обещал послать в институт в тот же день отзыв о дипломной книжке и прийти на защиту.
Отзыв он действительно написал сразу и тут же отправил в институт.
В канун дня защиты я зашел в Центральный Дом литераторов поужинать. Заглянул в биллиардную и увидел там Василия Дмитриевича. К той поре он увлекся биллиардом и часто игрывал. Довольно нервно переживал проигрыши и по-мальчишески шумно радовался выигрышам. В тот вечер в разгар игры к нему, пошатываясь, подошел поэт Михаил Луконин, который когда-то написал о Федорове отзыв. Василий Дмитриевич сдержанно поздоровался. Луконин пригласил его в буфет. Василий Дмитриевич молча сделал несколько ударов и не спеша, с кием в руке пошел вместе с Лукониным к столику. Увидел на столе коньячные стопки и с усмешкой сказал:
— Что? Победителю-ученику от побежденного учителя?..
— Вася, — сказал Луконин, протягивая к нему руку, — прости… Дела давно минувших… Давай… за все доброе между нами…
— Ладно-ладно, — отвечал Василий Дмитриевич. — Я вам тогда еще говорил — вы сделаете из меня гения! Спасибо, что вдохновили. Я поработал… Я ответил вам!..
— Да-да, — Луконин хотел уйти от больной для него темы.
— Но тогда… — Василий Дмитриевич прищурился, будто всматриваясь в те далекие дни, — тогда вы как будто… переехали через меня!..
Разговор этот растревожил. Конечно же, и потому, что я не был уверен — сможет ли Василий Дмитриевич быть завтра на защите.
— Вот так, — сказал он, подойдя ко мне, — встретимся — извинения… — И, словно почувствовав мое волнение, добавил: — Иди спать, все будет в порядке.
И на следующий день среди членов государственной экзаменационной комиссии в конференц-зале Литинститута я увидел Василия Дмитриевича. Он был выбритый, свежий, даже, я сказал бы, веселый какой-то.
Когда меня объявили как защищающего диплом, Василий Дмитриевич вышел на трибуну первым.
— Здесь, — он сморщился и брезгливо опустил углы губ, — затеяна какая-то возня вокруг дипломной работы Михаила Шевченко. Не надо!.. В этом зале уже однажды не хотели давать диплом одному выпускнику. Сегодня он сам защищает молодого собрата по перу. Наш институт, как свидетельствуют дипломы, выпускает литературных работников, а перед нами поэт. Я показал это в отзыве на его книгу. Поэт с опытом журналиста и издателя… Я — за диплом! Без сомнений!
С трибуны Василий Дмитриевич сошел не в президиум, а в зал. Следом в поддержку выступил один преподаватель. Критик, узнав, что в защиту вмешался Василий Федоров, изменил свое «принципиальное» мнение и говорил что-то о моих возможностях в песнях, Мерзлякова припомнил… Ни одной песни за всю жизнь я не написал.
Дипломная работа моя была принята с оценкой «хорошо».
Я благодарил Василия Дмитриевича. А он тоже растрогался.
— Ну вот… Справедливость восторжествовала. Как будто снова защищался…
Прошло почти четверть века… Судьба подарила мне множество встреч с Василием Дмитриевичем, когда я стал работать в правлении Союза писателей РСФСР, в секретариате его. Пожалуй, не было встречи, чтобы он за кого-нибудь не просил, о ком-нибудь не беспокоился.
Он умел дружить. Был верен в дружбе. Где бы ни был он — на заседании ли секретариата правления Союза писателей, в дружеском ли застолье, при случайной короткой встрече, с Василием Дмитриевичем всегда было хорошо.
Сердце Василия Дмитриевича жило любовью к людям, ко всему доброму на земле. Он любил и пел свою Марьевку, Сибирь, Россию — всю страну. Он гордо и достойно нес звание поэта, чувствовал и понимал высокое его предназначение, взваливал на свои далеко не богатырские плечи непомерную тяжесть.
Беря пророческую лиру, Одно он видит из всего, Что все несовершенства мира Лежат на совести его.Да, не левее большого сердца его жили и радости, и боли людские. Не раз он, оказавшись в правлении, заходил ко мне и, взволнованный, читал новые стихи. Слушая, я хорошо представлял, как он писал их — зажженный нетерпением. Публицист по натуре, он часто отвечал в стихах своим недругам.
Он берег свою душу от черствости. Потому-то она и была так ранима. Не забуду, как он, не жалующийся на невзгоды, вдруг приостановил меня в коридоре правления, с вечной папиросой в руках, и с болью сказал:
— Знаешь, не ожидал. Никак не ожидал… В друзья ведь лез… Дали ему читать моего «Дон Жуана». И что ты думаешь? Он такое нагородил на полях рукописи! Черт-те что!.. И главное — против публикации…
Замолчал.
— Кто это? — спросил я.
Он назвал С. Да, того же С.
Есть у Василия Федоровича «Книга любви». Мне думается, Книгой Любви можно назвать всю его жизнь.
Если спросят, что так мало жил я, Ты в своем ответе не таи То, что я страдания чужие Принимал все время, как свои.Это сказано не ради красного словца. Я убедился в этом на собственной судьбе.
1985—1986
ВОРОНЕЖСКИЙ ВЕЧЕР (о Н. Рыленкове)
Осенью 1963 года в Воронеже проходило выездное заседание секретариата правления Российского союза писателей. Секретариат обсуждал творчество литераторов Центрального Черноземья.
В Воронеж съехалось много писателей. Заседания, доклады, выступления… Это событие вызвало в сравнительно спокойном областном городе суету и шум.
Жили все в гостинице «Россия», красивом современном здании в центре города. Оживленность литературной встречи перенеслась и сюда, дискуссии продолжались в номерах гостиницы.
К концу второго дня участники заседания изрядно приустали, особенно периферийные писатели, не привыкшие к заседательской насыщенности.
Вечером я решил пойти куда-нибудь из гостиницы часа на два-три. Хотелось побродить по городу.
Я вышел из гостиницы и в стороне от подъезда увидел Рыленкова. Николай Иванович стоял один и протирал платком очки.
И совершенно неожиданно для самого себя я подумал: не попросить ли его послушать мои стихи. Но тут же возразил себе. И без меня он наслушался стихов за эти два дня!.. Да, но представится ли еще такая возможность когда-нибудь? Я заволновался. Видимо, сказывались и моя застенчивость, и мой длительный уход из серьезной литературной среды, — уже больше пяти лет после Литинститута работал я в тамбовской областной газете.
И все-таки я превозмог свою нерешительность.
Николай Иванович охотно согласился послушать меня.
— Только давайте уйдем отсюда, а то не дадут, — сказал он. — Перейдем улицу и куда-нибудь неподалеку… Вы знаете Воронеж?
Я понял, что и он устал от заседаний и застолий. Он ведь, несмотря на пришедшую к нему популярность, оставался жить в своем родном Смоленске, городе, который тоже не приобрел еще столичной напряженности и головокружительного темпа жизни.
Пока мы пересекали улицу и выходили к площади перед Драматическим театром, он расспрашивал — кто я, откуда, давно ли пишу. И как будто и вправду что-то открывая для себя, отрывисто бросил:
— Ага, значит, воронежской земли рожак? Что ж, землица щедрая, учились в Литературном? Тоже неплохо.
А сам то и дело останавливался и снова протирал очки и, пробуя, насколько они чисты, поглядывал на меня.
Мы пришли в Кольцовский сквер. Не сговариваясь, очутились на аллее вдоль ограды, где было поменьше гуляющих, и замедлили шаг. И я начал мысленно ругать себя за эту затею. Я перебирал свои стихотворения, и почти все они, даже самые любимые, казались мне плохими, и я медлил с чтением, хотя видел, что Николай Иванович уже ждет его.
И вдруг он как будто почувствовал, что творится в моей душе, и сказал:
— Знаете что? Давайте я вам почитаю!..
Он остановился, остановил меня и положил руку мне на плечо.
— И не свое… Что — свое! Вчера ночь просидел над одной штукой, а сегодня утром пришлось разорвать… Нет! Не свое!.. Я почитаю вам… вечное!.. Не знаю, почему захотелось вам почитать. Но уж коли стихи — так стихи! Мы же, как подчеркивают воронежцы, на земле Кольцова и Никитина. Вот с них и начнем. А?
Расширенные стеклами очков глаза его посмотрели на меня как-то по-крестьянски хитро. И я подумал, что вообще у него удивительно русское, крестьянское лицо. Тут же я уловил в себе обиду, — вишь, не захотел все же послушать меня. Но, думая об этом, вспомнил о его бессонной ночи (а сколько их в жизни поэта!), о разорванном стихотворении и с минуту не слышал Николая Ивановича.
А он уже читал никитинское хрестоматийное:
Душный воздух, дым лучины, Под ногами сор… Закоптелые полати, Черствый хлеб, вода…— Тысячный раз читаю и удивляюсь. Какая простота! А вот вам еще и сила. Лермонтовская сила.
Чужих страданий жалкий зритель, Я жизнь растратил без плода, И вот проснулась совесть-мститель И жжет лицо огнем стыда. Чужой бедой я волновался, От слез чужих я не спал ночь, — И все молчал, и все боялся И никому не мог помочь…Николай Иванович перевел дыхание.
— Это совестливый поэт! И этому надо учиться у него.
Людскую скорбь, вопросы века — Я знаю все… Как друг и брат, На скорбный голос человека Всегда откликнуться я рад. И только. Многое я вижу, Но воля у меня слаба, И всей душой я ненавижу Себя, как подлого раба.— Да, да. Очень совестливая поэзия…
Бронзовый Никитин, ссутулившись посреди сквера, слушал свои стихи и, казалось, вновь переживал их, и они новой тяжестью ложились на его плечи. К тяжести его строк прибавлялась грусть кольцовских…
Что, дремучий лес, Призадумался, Грустью темною Затуманился?.. Одичал, замолк… Только в непогодь Воешь жалобу На безвременье…Где-то в глубине души мелькнуло: а слышит ли Кольцов свои стихи, ведь он там, в самом конце сквера…
А Николай Иванович уже повел меня к Пушкину, Некрасову, Блоку, Есенину, Мандельштаму.
— А вот вам еще!
Двадцать четвертую драму Шекспира Пишет время бесстрастной рукой. Сами участники грозного пира, Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира Будем читать над свинцовой рекой; Лучше сегодня голубку Джульетту С пеньем и факелом в гроб провожать, Лучше заглядывать в окна к Макбету, Вместе с наемным убийцей дрожать, — Только не эту, не эту, не эту, Эту уже мы не в силах читать!— Вы знаете эти гениальные стихи? Как она могла написать их? Вы знаете, чьи это стихи?
Он секунду помолчал. Не дождавшись ответа, приостановился, поднял свою крупную руку, раскрыл ладонь, будто передавая что-то, и с каким-то благоговением, притихшим голосом сказал:
— Это же Анна Андреевна.
Сам смотрел на меня — какое это произвело впечатление. После паузы — в одно дыхание — продолжал:
— Ахматова. Как она могла! Как могла!.. А это ее помните?
Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию навсегда…» Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух.— Сколько раз, должно быть, вспоминала она это стихотворение за всю свою жизнь! Это же… Это же…
Он искал определения чему-то, что хорошо чувствовал. Не нашел. И сказал только:
— Господи, она же была женщина!
Потом звучали Байрон и Лермонтов, Шелли и вновь Пушкин, Есенин и Лонгфелло, Гейне и Беранже… Звучали восточная мудрость Тагора и щемящие думы украинского Кобзаря…
До этого вечера я встречал несколько людей, хорошо знающих поэзию. Но чтобы столько помнить наизусть, так тонко чувствовать и понимать стихи и самим чтением передавать эти свои чувства и понимание, подчинять им слушателя, — нет, это я не встречал ни у кого, кроме Николая Ивановича.
Подумалось о трудном пути его в поэзию, о том, что путь его потому и труден был, что Николай Иванович глубоко понимает истинное значение поэзии.
И по-новому зазвучали тогда для меня строки:
Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у всех…Думал я и о мучительных ночах над рукописями и о еще более мучительных утрах, когда эти выстраданные рукописи надо собственноручно уничтожить. Уничтожить, так и не добившись того, чего хотел добиться. Не достигнув того, что, кажется, хорошо чувствовал и видел мысленным взглядом. Не достигнув того, вечного, как он сказал.
Мы вернулись в гостиницу за полночь. Швейцару пришлось открывать нам дверь. Прощаясь, Николай Иванович спросил:
— Скажите, о чем вы думаете сейчас?
Я смутился. Потом ответил:
— Удивляюсь тому, что вы столько помните. И еще знаете о чем? Вот мы были в сквере. Он называется Кольцовским. А в центре его — Никитин. Отвернулся от Кольцова, сидит спиной к нему. И я думаю: зачем людям понадобилось так сделать? Почему они не задумаются над этим?
— Да, да. Я и не заметил. Гм… как же это?.. А знаете, вы пришлите-ка мне свои книжки. Хорошо?
Книжки я ему не послал. Не смог. Видимо, потому же, почему не смог и читать.
Но он все же их прочитал. Два года спустя принимали в Союз писателей большую группу молодых литераторов. Среди них был и я. Всех нас пригласили на заседание приемной комиссии в правление Союза писателей РСФСР. С обзором наших книг выступил секретарь правления Николай Иванович Рыленков. Выступил, стремясь доброе сказать о каждом.
Хотелось тут же поблагодарить его. Но я почему-то не подошел к нему. Позже жалел, что не поблагодарил. И теперь жалею. Еще больше.
1973
ЧАС У СЕЛЬВИНСКОГО
Май 1966 года был на редкость теплый. Я жил тогда в Подмосковье, в Доме творчества «Переделкино».
Как-то перед обедом я вышел прогуляться. Сошел с крыльца и направился было к библиотеке. У колонны, в тени, стоял Сельвинский с незнакомым мне литератором. Он, Корней Чуковский, Степан Щипачев, Павел Нилин, Петр Сажин частенько заходили в Дом творчества. Их приглашали на чай.
Сельвинский стоял грузноватый, в легкой пижаме с распахнутым воротом, опираясь на тяжелую палку.
Я прошел мимо. И вдруг меня окликнули:
— Шевченко! Вам телеграмма!
Крикнула гардеробщица, которая обычно принимала почту.
Я вернулся. Прочитал телеграмму. Друг поздравлял с Днем печати. Снова прошел мимо Сельвинского. И тут он меня остановил:
— Так вы — Шевченко?
— Да, — ответил я.
— Позвольте представиться: кавалер двух инфарктов Илья Сельвинский.
Он лукаво улыбнулся. Открылись белые ровные зубы.
— Я вас хорошо знаю, — сказал я. — Как поэта, конечно. А вот как кавалера…
Он не дал мне закончить фразу.
— Скажите, Шевченко, вы кто? Поэт? Прозаик?
— Пишу стихи, — ответил я.
— Должно быть, тяжело писать под такой фамилией? А? У меня в семинаре, в Литинституте, есть студент Шевченко… Вот я все хочу спросить его об этом…
— Знаете, Илья Львович, — сказал я, — под моей фамилией писать так же трудно, как и под вашей…
— Да, я под старость это особенно ощущаю, — сказал Сельвинский. — А вы не хотели бы мне почитать?
— С готовностью, — ответил я сразу. — С Сельвинским ведь я далеко не каждый день могу увидеться…
— Вот и прекрасно. Вы здесь долго пробудете?
— Дней восемнадцать еще.
— На днях я зайду к вам, вот так же, в это же время. И мы почитаем… Хорошо?
Прошло с неделю. Сельвинский не появлялся. Во мне зашевелилось чувство обиды. «Сам заговорил о чтении, а теперь…»
И вот прогуливаюсь по улице Серафимовича. Глядь, из калитки своей дачи выходит Илья Львович, в той же пижаме, с той же палкой. «Только поздороваюсь, — решил я, — и все, напоминать о себе не буду». Но Илья Львович, увидев меня, остановился.
— Вы, если мне память моя старческая не изменяет, Шевченко. Извините, долго не мог зайти в Дом творчества. Что-то жмет, — он положил широкую ладонь на грудь. — Читать готовы?
— Готов.
— Тогда пойдемте ко мне во двор. Не возражаете?
Мы зашли во двор его дачи. Пошли по аллее к крыльцу, сели на скамейке возле крыльца. Тут же, словно гриб, откуда-то появился внук — чернявый красивый мальчишка лет пяти-шести. Он лихо подлетел к нам на самокате.
— Кирилл, уйди и не мешай нам, — сказал дед довольно строго.
Внук не уходил. Видимо, он знал, что значит этакая строгость деда. Тогда Илья Львович еще строже приказал уйти, и он отъехал на самокате подальше от нас, до самой калитки. Во время нашего разговора уже не подъезжал к нам.
Илья Львович откинулся на спинку скамейки, разбросав большие, как ласты, руки на ней, и положил нога на ногу. Обнажилась его могучая грудь. Глядя на нее, никогда не подумал бы, что в ней сердце с двумя рубцами — следами инфарктов… А ведь оно в свое время прошло Арктику, войну… Да мало ли выпало сердцам его поколения!..
— Читайте, что вы найдете нужным прочитать…
Я стал читать. И странно. Обычно даже давно знакомому человеку читаешь с волнением. А тут нет. Почему-то сразу решил, что волноваться нечего: он поймет меня так, как я хочу быть понятым. И это было так.
Каждое стихотворение он комментировал. Начал я с «Завоевателей мира». Он слушал, поглядывая на меня. Помолчал. И посоветовал исправить строку «другой француз, Оноре де Бальзак». В этой строке французское Оноре́ читается как Оно́ре. Посоветовал он исправить строку в стихотворении «Памяти Хемингуэя». «Это способ простой и древний. В рот стволы. И курок найти. И за реку в тени деревьев навсегда от мира уйти…»
— В рот стволы… И рядом деревья. Нехорошо. Сразу не сообразишь, что это стволы ружья. Надо поправить… Ну, еще…
Я прочитал стихи о Лермонтове. «Вас при жизни видели корнетом…»
— Вы публиковали его? — спросил Илья Львович.
— В периодике да. А в сборнике сняли.
— Почему?
— Да вот нашли, что я вроде себя с Лермонтовым сравниваю…
— Дураки! — закричал Сельвинский. — Скажите им, что они дураки! На кого же должен равняться современник, как не на классиков? Не брать же мне пример с…
Он назвал фамилию пустозвонного крикуна.
— Господи, как же нам нужны умные редакторы! Редакторы хотя бы на уровне того, что они редактируют!..
И он неожиданно заговорил о своей книге «Юность моя», опубликованной в журнале.
— Вы читали ее?
— Пока нет.
— И не читайте!.. Подождите, она скоро выйдет в «Советском писателе». Отдельной книгой. Это человеческий вариант… А что вам у меня нравится?
— Стружки, — сказал я чистосердечно. Я слышал, что он стружками называл свою лирику. Главным он считал свои трагедии, а лирика, по его мнению, — стружки от большой работы. Но мне и до сих пор кажется, что лирика его, особенно лирика последних лет, самое сильное у него. Он, видимо, не был согласен со мной и спросил:
— А что же из стружек вы имеете в виду?
— «Алису» в первую очередь. «Позови меня»…
«Прекрасную полячку», которой посвящен цикл «Алиса», я знал. Она была на курс моложе в Литературном институте. Я хотел было сказать об этом, но не сказал. Тем более что он и так призадумался, притих.
— Да, «Алиса»… Это мне тоже дорого. Я рад, что вам это нравится… Я трудно шел к этому. Там, кажется, есть высокая простота.
— Вот это мне и дорого у вас, — сказал я.
— Я рад… А то вот сейчас молодые черт-те что вытворяют… Я в молодости тоже фокусничал, но до такого не доходил…
И он раздраженно заговорил о «Яблоне» Вознесенского.
И я почувствовал в его словах и какую-то справедливость, и незлую, а скорее просто стариковскую зависть и грусть: время, когда можно заносчиво пошуметь, ушло. Уже не пошумишь. А высокая простота по-прежнему требует молодых сил.
Он устало взглянул на часы.
— Ну вот. Незаметно мы с вами и проговорили час. Хватит на сегодня? А? Я рад был с вами познакомиться.
Больше я его не видел.
Вскоре я переехал из Тамбова в Москву, вернее, в Переделкино. По утрам, спеша на работу, часто встречал литинститутовцев, которые ездили к нему на дачу. Он уже не мог добираться до Литинститута, но семинарские занятия продолжал вести. Я завидовал студентам — они подолгу могли слушать его, разговаривать с ним.
Но я благодарю судьбу и за то, что она послала мне хоть одну часовую встречу с ним. Такие встречи укрепляют веру на пути к высокой простоте.
1975
НЕИСТОВОСТЬ (о В. Тендрякове)
Шли последние дни отпуска. Надо было дописать кое-что, хотелось сходить в лес, побродить среди готовящейся к осени листвы, жестко шумящей, напоминающей о близких холодах.
Раздался телефонный звонок. Звонили из правления Союза писателей.
— К тебе просьба, — сделана долгая пауза. — Умер Владимир Тендряков. Просьба провести завтра на кладбище траурный митинг…
Меня будто ударило током. Что-то еще говорили, но я уже ничего не слышал.
Умер Владимир Тендряков…
Я машинально положил трубку телефона. Сидел оглушенный этим страшным звонком.
Еще недавно, совсем недавно я разговаривал с ним по телефону. Я никогда его не беспокоил звонками, разве что поздравлял с праздниками. А тут позвонил просто так. Он был дома.
— А-а, здравствуй, родненький… — послышался в трубке его голос. Он, как всегда, сразу узнал меня. — Как ты там поживаешь? — голос его мягкий, участливый. Если уж он добро относился к кому-то…
— Да в замоте, Володя, — отвечал я.
Он засмеялся в трубку.
— Чего вы там заматываетесь? Поймите, чем больше вы там суетитесь, тем хуже для литературы…
И засмеялся еще громче.
— Может быть, и так, — не будешь же по телефону открывать дискуссию. — Но кому-то надо же и суетиться…
— Бросай все и приезжай ты, наконец… Посидим, чайку попьем…
— Хочется приехать, да все… Купил твое собрание сочинений. Подписал бы…
— Ну, и зря разорялся!.. Я же сейчас богаче тебя и подарил бы. Ну, последнюю книжку подарю. Приезжай…
Боже мой, сколько раз я собирался поехать к нему и так и не собрался. Откладывал. А теперь — куда теперь поедешь?.. Поедешь завтра хоронить его…
«Родненький», — слышалось в ушах, в сердце любимое его обращение.
В одиночестве шел день. Вставало одно воспоминание за другим. Мы не были с ним близкими уж очень друзьями. Редко встречались: либо на съезде, на пленуме, либо на проводах кого-то. Помню, я стоял с ним в карауле у гроба Александра Твардовского, у гроба Сергея Сергеевича Смирнова…
А однажды… Уезжал я с сыном в Коктебель. Как всегда, неразбериха на Курском вокзале. То с одной платформы объявляют отъезд, то с другой. Будущие курортники мечутся из туннеля в туннель. Словно кто нарочно людям уродует отпуск. Наконец поезд подали на первый путь. Мы заходим с Максимом в купе, и первого, кого я вижу, девушку, удивительно красивую и… похожую на Тендрякова. Я мгновенно это отмечаю. Думаю, что значит девичье лицо. Володя же вроде не красавец, а ее лицо — лицо красавицы. И на тебе взглянув в окно, вижу внизу, на перроне, Володю. Он поднял голову и летит прямо к нашему окну. Рядом с девушкой стоит, как потом оказалось, жена Володи.
— Ну, ты и тут мастер! — крикнул я в открытое окно. — Прямо копию свою сотворил!
Довольный, Володя засмеялся и протянул мне руку.
Да, это была одна из последних встреч. Он провожал жену Наташу и дочь Машеньку в Коктебель. Вся наша дорога была дорогой воспоминаний о Тендряке, как ласково называла его жена.
Прощаясь на перроне в Москве, он опять же крикнул:
— Вернешься — приезжай ко мне на дачу!
И вот так и не собрался. А представляю, что бы это была за встреча, за беседа!..
Никогда не забуду три дня и три ночи с ним в Академгородке под Новосибирском. Там проходило выездное заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР. Володя участвовал в этом заседании. Он радовался хорошему докладу своего друга Даниила Гранина. С ним Володя пошел и к ученым. Пошел и я на эту встречу. Даниил Александрович был, как всегда, сдержан, нетороплив в каждой реплике. Умнейшими, едва заметно улыбающимися в прищуре глазами оглядывал он присутствующих. Владимир пылал, заставлял людей науки о многом задуматься, ставил их в тупик неожиданными вопросами и рассуждениями.
Где-то на второй или третий день, вернее, вечер, мы встретились с ним после заседаний и не расставались трое суток. То сидели у него в номере, то выходили на улицу и бродили вокруг гостиницы по лесу. Ночью это было особенно здорово. И говорили, говорили, спорили, объясняли себя друг другу.
— Почти все, что опубликовано у меня, — дерьмо! — восклицал Владимир исступленно. — Вот есть у меня в столе страниц триста настоящей прозы!..
— Ну, зачем же так? — возражал я. — Ну как ты можешь зачеркивать «Суд», «Тройку, семерку, туз» Или «Три мешка сорной пшеницы»… или «Кончину»!..
— Ну, может быть, «Кончина» еще туда-сюда…
Владимир не рисовался. Я знаю, как он быстро уходил от своей только что рожденной вещи, как загорался в работе над новой, как дороги были ему еще не опубликованные: в них он уже шел, как сам считал, дальше.
Когда я остановил его внимание на «Кончине», он вдруг умолк, задумался, что-то припомнив, и сказал горячо:
— А знаешь, ее в набор подписал Поповкин умирающий. Я так благодарен ему. Он же подписал и «Мастера и Маргариту». Понимаешь? — глаза его сверкнули: дескать, какие две вещи заслал, уходя!.. — Да, «Кончина», конечно, ничего, но… все лучшее в столе пока!..
Прищурил глаза, и как бы желая продлить ряд того, лучшего, идущего за «Кончиной», того, что еще жжет душу, что нетерпеливо ожидает благословенного часа явления миру, Владимир снова помолчал, а потом (ах, раз уж зашел такой разговор — так и быть!) сказал:
— Есть у меня несколько рассказов. Каждый — о страшных событиях, пережитых нами… Год великого перелома… Помнишь в «Кончине» хлебороба с переломленным хребтом?.. Так вот один рассказ — о 1929-м, о коллективизации. Другой — о голоде 1933-го. Третий — о 1937-м, четвертый — о 1942-м… И есть еще одна вещица! Я в ней показываю верхи!.. Вот это мое настоящее! В нем, родненький, предстает наше время! Обнаженно предстает!..
И тут он заговорил о Твардовском.
— Будь он жив, он бы эти вещи напечатал!.. Это точно. Знаешь, какой он был? Особенно последние годы…
Владимир рассказал о таком эпизоде. Он уговорил Твардовского навестить Жореса Медведева, который был в ту пору в психбольнице. Твардовский принимал участие в облегчении судьбы известного инакомыслящего и согласился пойти. О визите узнали. А было это накануне шестидесятилетия великого нашего поэта и редактора. Дней через пять Твардовского встречает один высокопоставленный чиновник и говорит: «Что ж это вы, Александр Трифонович? Мы вас собирались к Герою представить, а вы… На кой вам этот Медведев?..»
— И что, ты думаешь, ответил Твардовский? Я не знал, сказал он, что Героя дают за трусость…
В голосе Владимира была гордость за старшего друга.
Вижу его на лесной тропе: в спортивной куртке, в берете, сам спортивного вида — худой, как всегда, на скулах обтянулась загорелая кожа, легок, поджар; по утрам бегал и там, в Академгородке, до начала заседаний.
Вспоминали мы в те дни литинститутовцев. Разошелся он со многими друзьями. Или друзья с ним… Чаще уходил от них он. Не изменял себе. В суждениях о них, как и о себе, был беспощаден: иногда, мне казалось, несправедливо беспощаден. Но это не первый случай в истории литературы. Люди делают одно и то же дело, но идут разными путями, порой доходя до ненависти друг к другу. Видимо, это потому, что каждый — личность, не могут уступить друг другу, подняться над собственной суетой.
Да, друзья по институту разошлись… Я вспомнил, как перед одним из писательских съездов Владимир приехал в правление Союза получить удостоверение делегата. Выходя из комнаты, он столкнулся с однокашником по институту, прошел мимо, не поздоровавшись, даже отвернувшись. А ведь они когда-то были — не разлей вода. Жили в одной комнате на Тверском бульваре, 25, оба — северяне.
Да, это удел многих крупных людей. Это в духе, в характере Тендрякова, — нет, не скандальном, не мелочном, нет, в характере отстаивать свое неистово, вплоть до разрыва.
Наташа рассказывала мне по дороге в Коктебель, как непреклонен был Володя в спорах даже с Твардовским, как тот, будучи порой жестоко обруганным Владимиром, сам приходил к нему на следующий день. Да, Тендряков был во всем Тендряков — неукротимый, горячий, надежный…
Вижу его возле легковой учебной автомашины, в институтском кружке будущих шоферов-любителей. Володя в отцовском старом-престаром облачении (отец у него был комиссаром гражданской войны), в кожаных вытертых галифе и куртке. Все такой же худой и неугомонный. Протирает тряпкой капот, заглядывает куда-то в мотор и говорит:
— Не выйдет писателя, буду шофером вкалывать! Черт с ним!..
Это было, видимо, в минуты глубокой тревоги за будущее. Он знал, что писатель из него выйдет, он уже ночами сидел за рукописями. Когда однажды ему помешал один беспардонный высоко мнящий о себе студент, Володя дал ему «в морду» в прямом смысле этого слова и… через несколько дней получил выговор по партийной линии. Владимира всегда мучил вопрос — каким быть писателем. Пред глазами его, в сердце его — были примером классики, и не меньше. Это единственно достойные ориентиры, и они помогли ему сделать то, что он сделал.
1953 год. Вижу Володю, сбегающего легко и стремительно по лестнице Литературного института. Под мышкой с десяток свежих номеров «Нового мира». В них — его повесть «Падение Ивана Чупрова».
Володя сияет. И как тут его не понять! Он приносил показать публикацию друзьям, в том числе и тем, с которыми он потом порвет. Но пока они радуются вместе с ним, понимают его. Он — победитель.
— Вот, Миша! Сейчас отошлю номер моему Чупрову!.. Чупров не верил, что напечатают!.. А ведь напечатали!..
Голубые-голубые глаза его, глаза, в которых всю жизнь хранилось северное его небо, были счастливы. Он всегда чуял силу свою, способность на большое, рвался к нему.
После «Падения Ивана Чупрова» началось восхождение Владимира Тендрякова к высотам литературы. Восхождение было стремительное. Жажда правды, жажда глубже и скорее постичь бегущий день двигали Владимиром, заставляли неистово работать. И работал он всю жизнь неистово, другого слова не скажешь, а особенно в те годы… Судите сами. Сразу за «чупровской повестью», принесшей ему известность, в 1954 году он публикует повесть «Не ко двору», в 1955-м — «Тугой узел», в 1956-м — «Ухабы», в 1958-м — «Чудотворная», в 1959-м — роман «За бегущим днем», в 1960-м — повесть «Тройка, семерка, туз», в 1961-м — две повести: «Суд» и «Чрезвычайное»…
Первым среди однокашников по Литинституту он выпустит через десять лет после публикации «Падения Ивана Чупрова» двухтомник избранных произведений.
Вспоминается отношение критики к каждой из публикаций. Критика еще спорила об одном произведении, а Тендряков уж ей второе, а он уж ей — третье!..
Критике Владимир Тендряков всегда задавал сложные задачи. Неистовость, жажда немедленно сказать то, что необходимо современникам, жажда немедленно добро повлиять на их судьбу иногда приводили Тендрякова к излишней торопливости в работе, к открытой назидательности, что шло в ущерб художественной убедительности. Слово как бы не поспевало за проповеднической страстностью Владимира Тендрякова, но он спешил к людям со своими мыслями о них, со своими болями за них, с желанием помочь им увидеть беду, отвратить ее, победить. Он страшился не успеть со своей помощью.
Среди первопроходцев в исследовании проблем послевоенных лет Владимир Тендряков — один из крупнейших. Он ненавидел бюрократизм и равнодушие, демагогию и трусость. Он понимал, что самое ужасное для общества — это разобщенность его, безразличие к человеческой личности.
«Для меня внимание к личности со стороны общества — это и есть коммунизм», —
писал он. Затем толковал, что же это такое — внимание.
«Истинное внимание к человеку, — говорил он, — это стремление понять, что он такое: чем живет, на что способен, какие нужды и запросы у этого конкретного человека имеются… Внимание к человеку. Это, извините, уже не просто достижение в производстве материальных благ, это нечто большее. Капитализм в производстве благ — не откажешь — достиг огромных успехов; во внимании к человеку — нет! Живи сам для себя, рассчитывай сам на себя, сосед не обязательно должен понимать нужды соседа, и «возлюби ближнего своего» — просто ложь, на которую клюют скудоумные простаки. Пропастей, разделяющих человеческое сообщество, при капитализме стало, пожалуй, больше, чем при феодализме.
Сровнять эти пропасти, заставить людей внимательно вглядываться друг в друга… нельзя сомневаться, что будущее человечества — в упрочении коллективизма… А предельное внимание общества к личности — это и есть, наверное, наивысший коллективизм. Добавим, человеческий коллективизм, а не муравьиной кучи».
Большой писатель всегда ставит большие вопросы своего времени. Выросший в селе, Владимир Тендряков поднимал жгучие проблемы его; один из вожаков сельской молодежи, он серьезно вникал в ее заботы; сельский учитель, он подкупающе искренно писал о школе; влюбленный в свое дело, он волнующе думал о плоти искусства…
Читая и перечитывая Владимира Тендрякова, мы в лучших произведениях его видим большого русского художника слова.
Совестливый талант Владимира Тендрякова всегда был в единении с правдой, с художническим мужеством и бескомпромиссностью. Ему это дорого обходилось. Но он не мог быть иным и никогда не был иным — и в жизни, и в литературе. И он побеждал. Все же побеждал.
Воин Великой Отечественной, он был воином и в исполнении своего писательского долга.
Можно утешаться одним: несмотря на ранний уход, он очень много сделал в литературе и в жизни доброго и непреходящего. Творческое наследие Владимира Тендрякова, его писательское поведение — это школа воспитания высокой человеческой души, школа высокой гражданственности, школа мужества и чести. И в борьбе за гуманную сущность завтрашнего дня через эту школу будут проходить миллионы и миллионы благодарных сограждан, благодарных читателей родной земли.
Все это так. И все же, все же…
Вижу Владимира у вагона поезда до Феодосии, он провожает в Коктебель Наташу и Машеньку, стоит на перроне Курского, не спускает с них светлых глаз своих, а в глазах его — столько нежности…
— Сам-то чего не едешь? — спрашиваю.
— Юг не по мне. Вот провожу. И — за работу! Под Москвой работается лучше!..
И вот все. Отработал. Отлюбил. Отпылал.
Обо всем этом я говорил на кладбище, открывая траурное прощание. Вернее, не говорил, а почти кричал. Трудно было говорить. Душили слезы…
1986
«ОН НЕ СТОЛЬКО ЗНАМЕНИТ…» (о Н. Глазкове)
Имя его впервые я услышал в самом конце сороковых годов, когда был первокурсником Литературного института им. А. М. Горького в Москве. Рассказывали о чудачествах его. Как-то в университетском студенческом общежитии на Стромынке был вечер одного стихотворения. Перед студентами университета выступали студенты нашего института. Все шло как должно идти. Подошла очередь выступать Николаю Глазкову. Он вышел на сцену и сказал:
— Я прочитаю вам самое короткое стихотворение.
И прочитал:
Мы — Умы! А вы — Увы!..Сначала в зале был шок. Мертвое молчание. Потом, когда поэт удалился со сцены, разразились шумные аплодисменты.
Из уст в уста передавалось четверостишие, написанное в веселой компании, когда стихотворцы решили якобы залезть под стол и написать по строфе — кто напишет лучше. Победителем этого весьма необычного конкурса оказался Глазков.
Я на мир взираю из-под столика — Век двадцатый! Век необычайный! Чем столетье интересней для историка — Тем для современника печальней!..В «Литературной газете» в те же годы в двух-трех статьях упоминалось имя Глазкова с сожалением, что талантливый, подававший надежды поэт разменивается на незначительные темы, губя свой талант. Однажды в чьих-то руках я увидел маленькую тетрадочку с орнаментом на обложке. Орнамент был сделан пишущей машинкой. Тетрадка напоминала детские украшения. Это были отпечатанные самим Николаем Глазковым его стихи, многие из которых позже выйдут в печати.
Стихи в той тетради, казалось, тоже были написаны ребенком. Вот кое-что из запомнившегося.
Сорок первого газету прочти Или сорок второго. Жить стало хуже всем почти Жителям шара земного. Порядок вещей неприемлем такой. Земля не для этого вертится. Пускай начинается за упокой, За здравие кончится, верится.Это тогда, в сорок девятом, воспринималось как сбывшееся уже детское пророчество с его чистой детской верой. В тетрадках были по-глазковски оригинальные вещи, а то — четверостишия, двустишия в духе глазковского кумира Велимира Хлебникова. И странно — они тут же запоминались и помнятся до сих пор.
Я могу писать как надо: Здорово. Я стихи могу слагать Про любовь и про вино. Если вздумаю солгать, Не удастся все равно. На поэтовом престоле я Пребываю весь свой век. Пусть подумает история, Что я был за человек…Многие стихи его — как бы ответ в споре, ответ тем, кто когда-либо упрекал его в чем-то, говорил о нем: «не от мира сего».
Был не от мира Велимир. Но он открыл мне двери в мир.Иногда он озорно играл словами и свободно.
Ночь Евья, Ночь Адамья. Кочевья Не отдам я. Табун Пасем. Табу На всем!Он ценил людей, которые его принимали таким, каков он был.
Да здравствуют мои читатели, Они умны и справедливы: На словоблудье не растратили Души прекрасные порывы…Его стихов в печати появлялось очень мало. Фамилия Глазкова чаще всего стояла под переводами со множества языков.
После института я оказался в Тамбове, работал в областной газете. Как-то по редакции пронесся слух: в отделе культуры — московский поэт Глазков.
Гости столицы всегда в почете в провинции. Интерес к ним велик. И на сей раз в отделе культуры собрались стихотворцы, работавшие в газете, и сотрудники.
Я увидел человека необычного. Чтоб он запомнился на всю жизнь, его надо было один раз увидеть и услышать. Сидел в кресле крупный, как бы раскрылившийся, человек. Взгляд пристальный, немного исподлобья. Протянул растопыренную пятерню, потом крепко пожал руку, по-ребячески улыбаясь: какова, мол, сила, а!..
Снова сел в кресло и снова перед нами — загадочный человек. Не то скоморох явился вдруг из русской истории. Не то юродивый из «Бориса Годунова». Не то Иванушка из русской сказки. В нем было все это одновременно. И говорил он медленно, глядя тебе прямо в глаза, ожидая, жаждая, чтоб ты сразу же откликнулся на то, что говорит, и выказывая радость, если видит, что ты понял его. Говорил с лукавинкой, порой грубовато, но умно, или с издевкой, с иронией. И всякий рассказец, устную новеллу сводил на детскую наивную похвалу себе. У него это получалось настолько искренне и по-детски, что ты принимал это не противясь, что часто бывает, когда иной собеседник хвастает перед тобой.
Он был в какой-то мере себе на уме. И часто доказывал это остроумной репликой, неожиданным стихом. Хотя позже, бывая с ним подольше, я ловил себя на мысли, что некоторые его остроты и афоризмы далеко не экспромты, а готовятся заранее. Но он преподносит их как экспромты и доволен, что этому верят, что впечатление неожиданности принимается. И опять же радуется по-детски.
Иногда он делал такие вещи. Брал, например, известные некрасовские стихи:
Назови мне такую обитель, Я такого угла не видал, Где бы сеятель твой и хранитель…И вдруг — дальше глазковские строчки:
В длинной очереди не стоял… Все кричат: за чем очередь? А я говорю: зачем очередь?..Сиял, видя, как это било в цель и, конечно же, запоминалось.
Однажды, уже немного познакомившись, я спросил у него, кого он считает наиболее значительным поэтом своего поколения. Он совершенно серьезно сказал:
— Не считая меня, Вася Федоров.
Тут же метнул в меня взгляд и с едва заметной улыбкой закончил:
— Между прочим, он мне на своей книжке написал: «Николай Глазков — пиит в нашем идеале. Он не столько знаменит, сколько гениален».
Прочитал стихи и откровенно засмеялся.
— А когда выйдет ваша книжка? — кто-то спросил.
— Не скоро.
— Почему?
— Нет бумаги, — сказал грустно. — И не скоро будет…
— Что так?
— Что? — он помедлил и неторопливо, как вслух раздумывая, продолжал: — Идет бумага не туда… Вот человек купил себе велосипед. Ему надо его зарегистрировать в милиции. В милиции ему говорят, чтоб он принес из домоуправления справку о том, что у него есть велосипед. А зачем такая справка, спрашивается? Какой дурак пойдет регистрировать велосипед, если у него нету велосипеда?.. Если бы отменить вот такие справки, то тогда бы можно было издать на той бумаге мою книжку…
В Тамбове у Николая Ивановича были друзья. Редактор молодежной газеты «Комсомольское знамя» был поклонником таланта Глазкова, изредка печатал его стихи. Николай Иванович, естественно, дорожил этим.
В дружеских отношениях был он с приветливой семьей талантливого художника-любителя Николая Ивановича Ладыгина. У него часто собирались и художники, и литераторы. Оба Николая Ивановича были хорошими шахматистами, и их баталиям не было конца. Глазков, выиграв, сыпал шутками, сочинял на ходу остроумные двустишия.
У Ладыгина была прекрасная библиотека, особенно по истории искусств, монографии художников чуть ли не всего мира. Собирали ее, главным образом, сыновья Ладыгина Борис и Леша, великолепные фотографы. Работы Бориса украшали не одну выставку. Много прекрасных снимков есть у них и с Николаем Глазковым.
Дружил Николай Иванович Глазков и с коллекционером Николаем Алексеевичем Никифоровым, с удовольствием давал ему автографы, дарил публикации.
Санчо Пансой Глазкова в Тамбове был Ульян Ульев. Николай Иванович ласково называл его Ульяночкой. Что бы когда бы ни понадобилось Глазкову или всей компании, он говорил:
— Ульяночка сейчас добудет.
И Ульян — в ночь, в полуночь — исчезал и возвращался, порой через час, два или три, то ли с нужной книжкой, то ли с бутылкой увеселительного напитка.
К этим людям Глазков относился с нежностью и вниманием. Я знаю, что у каждого из них не было праздника без шутливого стихотворного поздравления Глазкова. Если о ком-то из нас где-нибудь в печати говорилось доброе слово, Глазков часто аккуратно вырезал информацию или статью и присылал «виновнику». Он умел радоваться успеху товарища. Я никогда не замечал у него малейшей зависти.
Николай Иванович любил Тамбов. Не случайно, едва вышла у него первая книжка — «Моя эстрада», — он поспешил с ней к тамбовским друзьям.
Наезжая в Тамбов, он подарил мне книгу «Зеленый простор». Книга — не самая лучшая у него. Но было отрадно, что она вышла. Мне дорога его надпись на книге.
«Шевченко Миша — видно сразу — Напоминает мне Тараса, И для него совсем не плохо, то он живет не ту эпоху. 26 июля 1961».Еще у него была одна прекрасная черта. Он на всю жизнь помнил сделанное для него доброе дело.
В середине шестидесятых годов я стал работать в правлении Союза писателей РСФСР. Однажды зашел ко мне Николай Иванович и попросил послать его в Якутию. Он много и хорошо переводил якутских поэтов. Слетал туда. Вернувшись, сразу же зашел, рассказывал о поездке. Вскоре занес новую книгу стихов — «Творческие командировки».
Он охотно ездил по стране. Строчки «Кочевья не отдам я» — это суть его натуры. Кочевье питало его музу. У него немало стихов про Тамбов, есть стихи, посвященные и Ладыгину, и Никифорову. Он не забывал их добра.
В 1979 году мы одновременно с ним отмечали свои юбилеи. Мы родились в один день — 28 января, с разницей в десять лет. Он — в 1919, а я — в 1929 году.
Вместе с телеграммами друзей и товарищей пришло письмо от Николая Ивановича. Я знал, что он болен, и потому письмо особенно взволновало меня.
Естественно, я с благодарностью ответил ему поздравленьем.
В один день мы собирали гостей. Я позвонил Василию Федорову: пригласить его на свой праздник.
— Знаешь, — сказал он, — не обижайся. Но я иду сегодня на вечер к Коле Глазкову. Он очень плох…
Вскоре Николая Ивановича не стало.
Как-то на обсуждении очередного «Дня поэзии» Евгений Евтушенко, до́бро писавший о Николае Глазкове как о замечательном, самобытном поэте, сказал:
— Если бы мне поручили издать все лучшее, что есть у Глазкова, я представил бы его как очень, очень большого поэта!..
Такого издания, к сожалению, пока нет. Евгений Александрович сам много работает и, видно, руки не доходят до составления такого сборника, хотя он, повторяю, сделал хорошее дело, написав о поэте с любовью и уважением. Может быть, ему не удастся составить такую глазковскую книгу. Ничего. За него это сделает Время.
1985
ИЩУ ВЫХОД (об А. Прасолове)
Есть у него такие строки:
Чем жесточе я сжимаю губы, Тем вернее зреющая речь.На всех немногочисленных фотоснимках он — сосредоточенный, как бы отстраненный, с плотно сжатыми губами. Жесточе сжимать губы заставляла его жизнь. Она же стала источником его зрелых стихов. Жаль, что не все, слышавшие их при его жизни, поняли их. Широко заговорили о них только после его ухода…
Снова невольно думаешь: «Ах, медлительные люди! Вы немножко опоздали…» Единственное утешение: как поэт он есть, как поэт он всегда будет.
Знакомство наше произошло сентябрьским днем 1947 года в Россошанском педагогическом училище.
Преподавательница педагогики Александра Ивановна Просфорнина зазвала меня в педкабинет и сразу за порогом взволнованно, округлив глаза, выпалила:
— Знаешь, Миша, на перьвый курс пришел мальчик…
Александра Ивановна была северянка. Она окала, укорачивала слоги в словах, слова «первый, во-первых» произносила с мягким «р», а учащихся называла мальчиками и девочками. Мы для нее были всей ее жизнью. Необычайно увлеченная педагогикой, она увлекала ею и нас. В году она была строга и педантична, гоняла, что называется, по всему материалу, но двоек никому в четвертях не ставила, зная, что это грозит учащемуся лишением стипендии. Мы ее любили. Многие из нас, уже окончив педучилище, переписывались с ней. И всем она что-то советовала, в чем-то помогала, кого-то ругала, кого-то женила, кого-то выдавала замуж, хотя сама прожила всю жизнь одна.
Ее квартира была рядом с училищем, и Александра Ивановна, как говорится, дневала и ночевала в нем. С гордостью носила она редкую тогда награду — знак отличника народного просвещения.
Увлеченностью ее было издание стенных газет и рукописного «Педагогического журнала».
В тот день она меня пригласила в педкабинет как раз по стенгазетным делам. И вот:
— …на перьвый курс пришел мальчик и, знашь, стихи пишет! Прямо как Маяковский, черт!.. А вот и он, гляди-ко!..
Она указала рукой на дверь. В двери стоял невысокий, щуплый, с большой лобастой головой парнишка. На нем были косоворотка, просторный в плечах серый поношенный, но чистый пиджак и черные брюки, заправленные в кирзовые сапоги. Это был Алексей Прасолов.
Нам предстояло — Александра Ивановна уже сагитировала и его — выпускать первый в том учебном году номер стенной училищной газеты. Из своей бездонной сумки Александра Ивановна высыпала на стол кучу ученических заметок. Договорились, что я буду их править, а Алеша будет оформлять газету. Он хорошо рисовал.
Сразу бросились в глаза его неразговорчивость, сдержанность; он редко улыбался. Позже я еще отмечу в нем всегдашнюю сосредоточенность; он старался быть в сторонке, не выскакивал наперед, не лез, как говорится, туда, куда его не просили. Но если ему что-либо поручали сделать, делал обстоятельно и добросовестно.
В тот же день выяснилось, что мы с ним почти ровесники: я всего лишь на год старше его; что треть дороги до дому мы можем с ним ехать или идти вместе. Я жил на станции Россошь, в трех километрах от училища, а Алеша — в Морозовке, еще километров шесть от станции. В хорошую погоду он ходил и в училище, и домой пешком, по лугу вдоль реки Черная Калитва, но чаще — ездил пригородным поездом до Райновской, а дальше до Морозовки — на своих двоих по проселку. Сейчас он покрыт асфальтом, а тогда… Надо было надевать сапоги да покрепче, особенно весной и осенью: грязь там черноземная…
В училище в ту пору училась молодежь разных возрастов и судеб. Гораздо позже при воспоминаниях о тех годах у меня сложились строки:
Прошагавшее всю Европу Поколенье бывалых солдат В классы шло — как будто в окопы, В те, что помнят павших ребят… Рядом мы, пацаны, исправно Тянем лямку каждый урок. И со старшими мерзнем на равных, И на равных делим паек. И преграды какие угодно Мы берем на дороге своей. Мы — фаланга самых народных, Самых главных учителей!..То, что завтра мы — главные учителя, напоминают нам и неугомонная «педагогичка» Александра Ивановна, и излишне шумливый, но искренний и добрый директор физик Павел Сергеевич Ширинский, волевая завуч математик Софья Ивановна Принцева (то время в училище мы называли временем «правления Софьи и Павла», — не случайно здесь на первом месте стояло имя «Софья…»), и всеобщий любимец училища преподаватель пения и музыки Павел Акимович Гребенник, который был к нам по-отцовски добр, выгораживал нас за юношеские проказы перед дирекцией.
Как-то директор настолько разошелся в объяснении с Павлом Акимычем, что затопал ногами. И тут Павел Акимыч, стоявший до того перед директором спокойно, переминаясь с ноги на ногу и разглядывая свою скрипку, тихо засмеялся — одними уголками губ.
— Чего вы смеетесь? — вскрикнул директор.
— Смешно… — поднял глаза Павел Акимович, — как вы кричите… На меня даже Луначарский так не кричал…
— При чем здесь Луначарский? — спросил было директор, но тут же устыдился своего крика и приутих. Директор вспомнил (ему рассказывали), что Павел Акимович в молодости работал в наркомате просвещения вместе с Анатолием Васильевичем.
Была у нас и еще одна любимая учительница — Нина Тимофеевна Шаповалова. Она преподавала русский язык и литературу. Влюбленная в свой предмет, она была прекрасна, как всякий влюбленный человек. Как-то из Воронежа приехала к нам инспекция областного отдела народного образования. После проверки уроков в училище некоторым преподавателям досталось на орехи. О Нине Тимофеевне на педагогическом совете было сказано высокими представителями, что она свои уроки проводит артистически. Это была, ко всеобщему нашему торжеству, правда. И на уроках, и особенно на занятиях литературного кружка (тут уж разговор не ограничивался сорока пятью минутами!) она была необыкновенна. Если она говорила о Катерине Островского, то мы сидели со слезами на глазах и видели перед собой Катерину. Если шла речь о чеховской «Чайке», то в облике Нины Тимофеевны перед нами была Нина Заречная!..
В портфеле Нины Тимофеевны всегда обнаруживались сборники стихов неизвестных нам поэтов, книги о ее любимых Чайковском, Чехове, Льве Толстом… Кстати, она уже тогда не корила Толстого за то, что он радовался материнскому счастью Наташи, ибо женщина — это прежде всего любимая и любящая мать!..
Этим преподавателям мы обязаны многим добрым, что сумели сделать после окончания педучилища. Мы — это недавние фронтовики. Мы — это мальчишки и девчонки военного и послевоенного лихолетья, среди которых были и Алексей, и я…
Да, всего два года назад закончилась война, которая не просто «где-то гремела», нет, она прокатилась через нас фронтами отступления Красной Армии и наступлением фашистских войск, семимесячной оккупацией, расстрелами и повешением мирных жителей (после изгнания немцев только в балке под совхозом «Начало» был обнаружен ров с четырьмя тысячами расстрелянных наших людей), фронтами освобождения нас и отступления захватчиков… Мы знали и голод и холод…
Военную форму еще не сняли вчерашние фронтовики — и преподаватели историк Алексей Александрович Заика, и биолог Александр Васильевич Мухин, и военрук Иван Трофимович Твердохлебов, и многие учащиеся, бывшие солдаты. В солдатских гимнастерках и галифе, в кирзачах щеголяли и мы, невоевавшие ребята, — больше надевать было нечего…
Летом сорок седьмого года мы жили в туристском лагере в Архиповке, помогали колхозу убирать урожай. У меня сохранились любительские фотоснимки. На них Алексей — еще не знакомый мне новичок училища, босой, в коротких, выше щиколотки, штанах, в короткой не по росту куртке и военной пилотке… Юный свидетель войны, он пытливо глядит на вас и ждет чего-то…
Солнечными днями мы еще с тревогой поглядываем на небо. Стало привычным ведь, что в хорошую погоду нас в середине войны на протяжении полутора лет бомбили почти каждый день. И вот теперь — неужели никогда не будет бомбежки?.. Не верится…
Только что миновал первый послевоенный 1946 год — год свирепой засухи… Я с опухшим от недоедания лицом, с опухшими ногами едва добирался до училища, а потом из училища — домой, где раз в сутки съедал свою порцию хлеба — пятьсот граммов — с голым, сваренным — в третий или пятый раз — на голых костях бульоном… И вот — отменены продуктовые карточки, можно сразу купить не триста или пятьсот граммов хлеба, а целую буханку. Тоже не верится.
А время обнажает все новые проблемы, новые сложности.
Появилось постановление о борьбе с засухой, о посадке лесозащитных полос, и мы вдохновенно беремся за дело.
Сейчас к шоссе, которое соединяет станцию Россошь и город, выходит прекрасный сосновый бор. Летом, когда дуют сильные южные ветры, он защищает город от песчаных заносов, — я помню эти бедствия накануне войны. Любуясь бором каждый приезд в родной город и вспоминая его в Москве, я с радостью думаю, что в бору растет добрая сотня сосен, посаженных мной…
Мы выезжали на посадку и в ближние степи. Позже там поднимутся лесные полосы, которые, к великому сожалению, из-за нашей нерадивости во многих местах погибнут, и земле от этого становится хуже…
В 1946 году, как известно, вышло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Жестоко критиковалась работа их руководителей, их авторов. Везде проходили собрания, слышались гневные обличения. Их повторяли друг другу.
О большинстве писателей, упоминавшихся в постановлении, я к тому времени даже не слышал. Знакомы были только две фамилии.
Одна из них — Зощенко — напомнила мне чудесный рассказ о маленьком Володе Ульянове — «Графин». Я читал его в хрестоматии, в начальной школе. Я мучился вместе с Володей, нечаянно сказавшим неправду… И вместе с ним мне стало легче, когда он признался в своем проступке… Вспомнилось, как мы с ребятами хохотали у репродукторов, когда зощенковские юмористические рассказы читал артист Хенкин.
А летом в 1942 году, незадолго до оккупации нашего города немцами, мне попалась какая-то зачитанная до дыр газета со стихами Анны Ахматовой:
«Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, — и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки!»
Спустя несколько недель в Россошь ворвались немецко-фашистские войска, повсюду слышался лающий язык, на улицах немецкие колонны горланили про свою Лили Марлен… Я слушал их и шептал врезавшиеся в память слова: «…мы сохраним тебя, русская речь…» Они были созвучны словам, которые я слышал по радио еще в ноябре сорок первого:
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков…»
Ведь это же от них, от наших предков, — исконная русская речь, великое русское слово.
Ахматовские строки приходили мне на память и тогда, когда мы, мальчишки, спасали от немецкого сожжения книги родной школьной библиотеки. «Мы сохраним тебя, русская речь…»
При воспоминании обо всем этом в душе рождалось какое-то смятение, возникали вопросы, на которые я, семнадцатилетний, ответа найти не мог. Да и никто тогда не мог на них дать ответа.
Тогда же, в 1946-м, совершилось еще одно событие в нашей жизни — вышел томик произведений Сергея Есенина. Об этом поэте мы едва-едва слышали, теперь он захватил нас полностью. Томик карманного формата, прекрасно изданный! — мы с ним не расставались.
…Да, все это была наша жизнь. Но она еще не входила, не врывалась в наши стихи. В них было больше хотя и горячих, но общих слов. Мы смотрели вперед. Мы спешили туда!..
Богом Алексея в ту пору был Маяковский. Алексей по-маяковски рвет стихотворные строки, выстраивает лесенки. Пишет много. Остается после уроков в пустом классе и до вечера, а то и весь вечер, всю ночь, оставаясь в классе и ночевать, — пишет, пишет, пишет… Все в училище читают его стихи в нашей стенгазете, в педагогическом журнале. Мне повезло больше других. Мы подружились с ним, и я слушаю его стихи на переменах между уроками где-нибудь во дворе, в углу спортивного зала или по дороге из училища домой. В теплую погоду осени и зимы мы, бывало, идем с ним с занятий через лесопитомник к нам. Через питомник ближе идти — и тише. Кругом никого, и мы шпарим друг другу свои стихи, любимое из Маяковского и Симонова, из недавно открытого Есенина. В те дни и у Алексея, и у меня то и дело появлялось что-то в духе этих поэтов. Чем больше и явственней было видно в стихах их влияние, тем больший восторг вызывали наши стихи у сокурсников. Ни они, ни мы и не подозревали, что это как раз и плохо — это всего лишь подражание, ничего не стоящее в поэзии. Свою наивность нам предстоит еще понять. Потом мы поймем и суть выражения — искать себя в поэзии, в литературе. Все это — впереди.
Постепенно я узнаю о жизни Алексея. Мне становятся понятными и сдержанность его, и замкнутость, и вообще — серьезность.
Алексей родился в селе Ивановке соседнего, Кантемировского, района. Потом семья переехала в Морозовку — это рядом с Россошью. Алексею был год, когда отец, уйдя на действительную службу, не вернулся домой. Злые языки оклеветали перед ним Алешину мать. Алеша рос, не ведая отцовской ласки. Через много лет он скажет об этом в стихах.
Итак, с рождения вошло — Мир в ощущении расколот: От тела матери — тепло, От рук отца — бездомный холод… Кричу, не помнящий себя, Меж двух начал, сурово слитых. Что ж, разворачивай, судьба, Новорожденной жизни свиток…И судьба разворачивала…
Раннее осознание нужды и семейных забот накладывает свой отпечаток на характер мальчика, делает его не по годам взрослым. Алексея напомнил мне мальчишка-старичок из рассказа Андрея Платонова «Возвращение».
Рос Алексей послушным и тихим. В детстве много рисовал. Еще в школе начал писать рассказы и печатался в школьной стенной газете. Учеба давалась легко, особенно любил литературу. Когда задавали на дом сочинения, он уединялся в самый укромный уголок.
Очень любил мать, во всем старался облегчить ее страдания.
Позже мать выйдет вторично замуж. Появится у Алексея брат Иван. Но радостей с ним не прибавится. Брат Иван задался, как он говорил, непутевый: шкодил и в семье, и на улице, и в школе, то и дело убегал из дому…
Когда началась война, на фронте погибли и отец, и отчим. Отчима Алексей в разговорах со мной вообще не вспоминал, а об отце говорил редко с обидой, больше с печалью.
Как-то я сказал ему:
— Когда я читаю лермонтовские стихи «Ужасная судьба отца и сына жить розно и в разлуке умереть», мне всегда кажется, что это и про тебя…
— Да, это и про меня, — грустно подтвердил он.
Спустя годы я прочитаю пронзительные стихи об отце, которые, может быть, зародились в этом нашем разговоре. Эпиграфом к ним взяты строки Лермонтова: «Ужасная судьба отца и сына…»
Ветер выел следы твои на обожженном песке. Я слезы не нашел, чтобы горечь крутую разбавить. Ты оставил наследство мне — Отчество, пряник, зажатый в руке, И еще — неизбывную едкую память…Лермонтовская тема одиночества отца и сына перекликается и с лермонтовской сыновней гордостью за отца гражданина. У Лермонтова: «Но ты свершил свой подвиг, мой отец, постигнут ты желанною кончиной».
У Алексея:
Пролетели года. Обелиск. Траур лег на лицо… Словно стук телеграфный Я слышу, тюльпаны кровавые стиснув. «Может быть, он не мог Называться достойным отцом, Но зато он был любящим сыном Отчизны…»Недавно я был в Морозовке у мамы Алексея. Нелегко было ей видеть сыновнего ровесника и однокашника. Нелегко было и мне. Старая женщина, как это чаще всего бывает, вспоминала сына маленьким.
— Такий був ласковый. Щоб мое горе угомонить, всэ книжки душевни мэни читав. А то було размечтается и строит планы, як хорошэ жить мы будемо, коли вин выростэ да доучится. В жизни всэ должно буть по правди, казав Алеша… Ох, сынок, як бы так и було!..
Мне стало понятно, откуда появились строки в стихах об отце.
Я один вырастал и в мечтах, Не сгоревших дотла, Создал детское солнечное государство. В нем была Справедливость — Бессменный взыскательный вождь, Незакатное счастье светило все дни нам, И за каждую, даже случайную ложь Там виновных поили касторкой или хинином. Рано сердцем созревши, Я рвался из собственных лет. Жизнь вскормила меня, свои тайные истины выдав, И когда окровавились пажити, Росчерки разных ракет Зачеркнули сыновнюю выношенную обиду…Да, узнав о смерти отца, Алексей уже не винил его…
Алексея по-родительски приняли в моей семье. Особенно мама моя, которая сама выросла сиротой.
— Який же гарный хлопец, — восхищенно говорила она. — И скромный, и умница. Хай до нас приходэ частише.
К приходам Алексея она что-нибудь приберегала вкусненькое, что можно было приберечь в те времена, — то кусочек халвы к чаю, то с десяток груш.
Когда у нас Алексей оставался ночевать, она стелила ему на сундуке (больше положить его не на чем было) все самое мягкое; щедро подливала керосину в лампу, зная, что мы засидимся до глубокой ночи, а то и до утра. Иногда простирывала ему рубашку или носки.
У меня была уже тогда небольшая библиотека, и Алексей охотно рылся в книгах. Часто брал фамильную, как он говорил, — «Кобзарь» Тараса Шевченко на украинском языке, — уходил в сад и подолгу читал один. Он, как и я, на украинском читал свободно, — мы ведь выросли в украинских семьях, среди украинцев, которых много живет на юге Воронежской области.
По праздникам мы пели под баян — украинские песни и русские, песни военного времени. Пели папа мой, мама и я. Алексей иногда слегка подпевал. Чаще — слушал. Он любил пение. Особенно нравилось ему «Вниз по матушке по Волге», «Рэвэ та стогнэ Днипр широкый» и «Эх, дороги…».
Быстро пролетел год. Я закончил педучилище. Аттестат с отличием давал мне право без вступительных экзаменов попасть в вуз. Едва получив аттестат, я послал его в Московский университет на филологический факультет и был уверен, что я уже студент. Ведь предо мною — никаких преград.
Проходит июль. Август. С Алексеем не видимся. Он проводит каникулы дома, в Морозовке.
Мне ответа из Москвы все нет. Волнуюсь страшно. Сердце что-то предчувствует нехорошее. И вот наконец в начале сентября приходит ответ: отказ в приеме. На основании такого-то постановления я должен после окончания специального учебного заведения отработать три года. Но ведь я же отпущен учиться! Нина Горбань, закончившая, как и я, училище с отличием, поехала работать, а меня районо отпустило в вуз. Я на радостях забыл к аттестату и заявлению приложить справку об этом. Так почему же ее не востребовали? Было же два месяца времени!..
В отчаянии пытаюсь выехать в Москву — не могу, не достать билета на поезда. С горя еду в Ростов — туда билеты продаются свободно. В университете мест на филологическом факультете нет, предлагают место на физмате. Отказываюсь. Сутки не пробыв в Ростове, возвращаюсь в Россошь. Уже 9 или 10 сентября иду в Россошанский учительский институт. Принимают на литфак — директор института был у нас на выпускном и запомнил меня. Но на душе мерзко. Все кажется не тем… Перехожу на истфак — то же самое…
И тут-то встречаю на улице директора педучилища. Рассказываю о своем положении. Павел Сергеевич приглашает меня работать в училище. Кем? Преподавателем пения и музыки.
Да, в педучилище я успевал по музыке. Прилично играл на скрипке, знал методику преподавания.
Говорю о директорском предложении дома. Мама — в слезы: «Не надо мэни твоих грошей, учись… Мы, неграмотные, оцэ як живэм?..» Отец: «Ну, шо ж, девятьсот рублив на дорози не валяються…»
Кажется, 1 октября 1948 года меня приводит в класс второго курса заведующая учебной частью.
— Прошу любить и жаловать нового преподавателя пения и музыки, — сказала завуч. — Михаил Петрович Шевченко…
Первые глаза передо мной — удивленные глаза Алексея. Да, дорогой, вот так. Вот мои университеты!..
Когда завуч ушла, я сказал ребятам, которые знали меня, как облупленного, и которых так же знал я:
— Что же… При учителях зовите уж меня по имени-отчеству… А вообще я остаюсь для вас просто Мишкой…
Год преподавал я в педучилище. Петь у доски Алексея никогда не заставлял. На скрипке он играл неплохо. Он любил музыку и чувствовал ее до слез.
А звать он меня стал по имени-отчеству даже наедине. Потому и в первых ко мне в институт письмах он обращается ко мне на «вы». Позже все снова станет на место…
Осенью я уехал в Литературный институт. Кстати сказать, чертову справку об отпущении на учебу я опять не приложил к заявлению. Но в Литературном институте ко мне подошли по-человечески. В первый же день по приезде завуч института Сергей Иванович Халтурин вызвал меня и потребовал такую справку. Иначе-де отчислим. Конечно, мне из училища тут же прислали ее.
Прощание с Алексеем было грустным, хотя он и рад был за меня. Нам уже — в разлуках — не хватало друг друга. Расставаясь, надеялись на встречи. Работать в школе Алексей не собирался. Может быть, и у него впереди — Литературный…
На летних каникулах я приехал в Россошь, дал знать об этом Алексею. Он снова стал бывать у нас чаще. Мы располагались в саду, ели вишни, — мама оставляла их к моему приезду, варила с ними вареники… Алексей пытливо расспрашивал о литературной жизни столицы, о литературных поветриях, об институтских занятиях, о творческих семинарах, об отдельных писателях, тех, кого мне удалось видеть и слышать. Ко всему рассказанному относился с неторопливым раздумьем.
Надо сказать, Алексей до всего, как правило, тяжело шел сам. Для него изменить свое мнение в чем-то всегда было нелегко.
Он уже, став выпускником педучилища, сотрудничал в районной россошанской газете. Его приютил там тогдашний редактор Борис Иванович Стукалин. Алексей писал статьи, корреспонденции; печатал очерки, рассказы и стихи. Твердил, думаю, больше со слов Бориса Ивановича, что для литератора это очень важно — посотрудничать в газете. А внутри у Алексея шла серьезная работа. Об этом будут свидетельствовать его письма.
В первое каникулярное лето я ездил к нему в Морозовку. Повод был — вместе порыбачить на Черной Калитве.
Я прибыл к нему во второй половине дня. Жгло солнце. Но лугом идти было хорошо. Переправился на пароме через реку. У переправы меня уже ждал Алексей.
Огородом, жидковатым вишневым садиком прошли мы к их хате. В хате полутемно и прохладно: ставни окон закрыты. Свет проникает только через их щели. Низкий потолок. Земляной пол усыпан полынком. На стенах фотокарточки в деревянных рамках.
Брата Ивана дома не было: он совершил очередной побег…
Пока мы готовили удочки и приманку — червей и хлеб с анисовыми каплями, — подошла Алешина мама Вера Ивановна, маленькая женщина с кротким взглядом; широкая юбка на ней, просторная темная кофта, платок, подвязанный под подбородком.
Я находил в Алексее сходство с ней: в лице, в той же застенчивости, в немногословности, в грустном взгляде.
К реке шли лугом. Стал накрапывать дождь.
На берегу не было ни души. Выбрали старую сидалку, принесли сена от ближайшей копны и расположились.
Алексею нравилось шефствовать надо мной на рыбалке. Обстоятельно рассказывал он об удочках, о способах нанизывания на крючок наживки, о повадках окуней и чебаков.
Потом мы молча наслаждались тишиной берега, тихим шумом дождя, шуршанием камыша под ветром и дождем.
Вижу Алексея над рекой. Он сидит, по-мальчишески поджав ноги и обхватив коленки руками, чуть покачивается и пристально глядит на поплавки, вокруг которых вскипает под дождем и ветром речная вода…
Где-то на том берегу, далеко, когда перестал дождь, запели. Было очень хорошо на душе. Года два спустя он прочтет мне стихи.
Мне любо, что в этом раздолье, За кромкой дубрав молодых, И наше холмистое поле Хлебами не хуже других. Свернешь по тропинке — куда там! — И шапки твоей не видать! Поют за курганом девчата, И хочется им подпевать.Здесь нет еще истинно прасоловской глубины, здесь больше созерцательности, но эти его стихи уже выгодно отличаются от тех, которые узнал я в первые месяцы знакомства. Алексей пробивался к себе.
В тот день мы вроде ни о чем особом не говорили, больше молчали, как обычно и бывает на рыбалке или охоте, он называл меня по имени-отчеству, но мы все-таки стали еще ближе друг другу. Не хотелось уходить с реки, не хотелось уезжать от него…
Алексей сообщил тогда, что задумал драму в стихах и роман о войне, об оккупации; даже немного написал. Но читать не стал.
Поздно вечером Вера Ивановна пожарила нам рыбу — чебаков, красноперок и окуней. За ужином мы пригубили вина, и уж точно ни матери его, ни ему, ни мне не могло прийти в голову, какую роковую роль сыграет вино в его судьбе…
Весной 1951 года я получил из Морозовки от него в Москву письмо. Вот тут-то он и поведал подробно о романе.
«23/III-51 г.
Здравствуйте, Михаил Петрович!
Не будьте на меня в обиде за то, что так долго молчал. У Шолохова в «Поднятой целине» сказано: «слово — серебро, а молчание — золото». Но это я — к слову. Напишу Вам кое-что о своей жизни.
С 3 по 10 марта я давал уроки в морозовской школе, в 3-м классе. Гораздо естественней обстановка в этой сельской школе, чем в базовой. В классе чувствуешь себя, как дома, среди своих. И ребята совсем не те: живые, бойкие, любознательные, требующие твоего глаза, уменья и чуткого сердца. За 7 дней сжился с ними и не хотелось от них уходить. Школа, вернее, понятие о школе, повернулось ко мне другой стороной. Но… несмотря на все это, особого пристрастия к школе я не имею. Давал уроки — умело играл роль учителя. От этого подчас самому противно становилось. А все потому, что не мое это дело. И я думаю: лучше быть заурядным учителем (но имеющим к своему делу сердце), чем незаурядным игроком в учителя.
Наметили точки. Две трети выпускников едут на Алтай, остальные — пятнадцать математиков и пять литераторов — в старшие классы школ Воронежской области. На сегодняшний день я определен в Первомайскую школу Ново-Калитвянского района.
Дня три назад был на вокзале. Как раз в это время стоял эшелон призывников — тридцатый и тридцать первый год. Стоял я, глядел на этих хлопцев, горланящих «Калинку», и так хотелось мне отдать кому-нибудь «Педагогику» и пр. книжки, сесть в вагон и укатить с ними, — ведь я тоже с тридцатого года. Хорошо бы было, если б окончить п/уч. и сразу же уехать в армию. Почему-то тянет не к малышам, а к взрослым людям, в самую жизнь.
Я посылаю Вам свой очерк, написанный во время практики. Был я в правлении, встретил нашего чабана, без всякой цели писать о нем поговорил, а потом и думаю: дай-ка запишу, авось где-нибудь пригодится. Отнес редактору свой рассказ «Дед Прокофий» и заодно показал ему и эту запись, «кусок жизни», и он сразу мне: «Давай его сюда, нам это нужно». Напечатали в первом же номере. Хорошо писать, не думая печатать.
Рассказ поместили после.
Пишу хотя и крайне медленно, но пишу, нечто вроде повести.
Главный герой — Мирон Алексеевич Дубняк. Остальные, наиболее главные, — его сын Мишка, комсомолец, Кузьминична, жена, сноха Анюта, дочь Марина, сват со свахой. Потом: председатель колхоза Семен Демидов, кузнец Михаила, дед Прокофий и др. Это только схематично, а там кто знает, с кем еще встретишься! Время всех действий — лето, осень и зима 1942 года.
Мирон Алексеевич — сын кулака, сам был подкулачником в прошлом. Теперь он — колхозник. Но «мое» засело в нем крепко. Приходят немцы. Мирон Алексеевич, мечтавший о прежнем «своем» хозяйстве, о «своей» земле, начинает действовать: приобрел пару лошадей (поймал в поле во время эвакуации), прикупил у свояченицы несколько колодок пчел и стал подумывать, что «немецкая власть» нарежет ему земельный надел. Вот бы, дескать, пожить еще, чтобы «посеял бубочку одну — и та своя».
Мишка во всем противостоит ему, не отдает комсомольского билета, когда отец угрожает «выдать его немцам с повинной головою». Председатель Демидов, потерявший руку в начале войны, организует партизанский отряд, и Мишка уходит к нему. Немцы не дали Мирону Алексеевичу земли. Комендант подвел его к карте и показал: «Берлин — Урал есть немецкая земля. Русской нет». Это крайне возмутило Мирона Алексеевича, и он, любивший свою родную русскую землю, за которую гибли его предки, возражает. Комендант в ярости выбивает ему «старушечьи-костлявым кулаком» зубы. Немцы забирают у Мирона Алексеевича лошадей, громят его пасеку, под конец выгоняют из хаты в землянку. Мирон Алексеевич мучительно переживает, думает, что же дальше делать. «Хозяйство» рухнуло. Это послужило только началом его непримиримой злобы к немцам. Но эта мелкособственническая злоба к врагу еще не толкает его на борьбу с врагом, в лагерь партизан, где его сын. От дум, от волчьей жизни седеет Мирон Алексеевич. Что ни день, то больше видит он, какие муки несет народ. Удар коменданта сорвал с его опьяненных мечтами глаз повязку, он трезвее стал смотреть на мир, его окружающий. И когда он стоял на перепутье, не зная, куда идти, возникает перед ним страшная сцена… Немцы берут заложниками жену и детей Демидова и на его глазах расстреливают у него в огороде. Мирон Алексеевич — тоже человек. Годы Советской власти, новая жизнь до войны оставили и на нем отпечаток; будучи молодым, когда отец-кулак отделял сыновей — его и брата, — Мирон Алексеевич бросился с топором на брата, которому отец дал любимую, лучшую лошадь; тогда это было возможным для натуры Мирона Алексеевича; но теперь, когда он увидел, с каким нечеловеческим спокойствием немцы расстреливают жену Демидова и его детей (одного — грудного), мысли о «своем» сами собой отступились от Мирона Алексеевича. Раньше он мог из-за лошади убить человека, родного брата, а теперь он не может видеть, как убивают детей, ни в чем не повинных; и кто убивает? — те, от которых он ждал «вольной жизни» на «своей земле». Понятно стало, куда нужно идти — к сыну, к партизанам, к Демидову-большевику. Он туда и идет.
Всего не рассказать здесь, в этих строчках.
Я написал вчерне три главы. Всего будет примерно двадцать глав, повторяю: только примерно.
______
На этот раз — все, больше писать не о чем. Желаю Вам, Михаил Петрович, здоровья и успехов в учебе. Пишите обо всем, что только считаете нужным. Жду ответа.
Ал. Прасолов».Не помню, что я ответил ему. На семинарских занятиях в институте мои стихи разделали под орех. Первые мысли были — правильно ли я выбрал свой путь. Подумывал уйти из института, но остался. Сомнения преследовали меня и на втором курсе, хотя два-три моих стихотворения, написанные в институте, вроде бы нашли сочувственные отклики и у сокурсников, и у руководителей творческих семинаров.
Сомнения в раздумьях о будущем, как видно из письма, бередили и душу Алексея. Его не прельщала работа учителем, хотя он хорошо понимал высокое ее предназначение.
Через два месяца я снова получил от Алексея письмо и рассказ, опубликованный в россошанской газете 20 мая 1951 года — за три дня до отправки письма.
«…Первым делом я хочу Вам искренне пожелать успехов в последние дни учебы, отличной сдачи экзаменов и доброго здоровья. Вторым делом напишу о своей жизни и делах. Ничего особенного, потрясающего за это время в моей жизни не произошло; дни идут своей чередою, с одной стороны, однообразные — иногда до тошноты, — с другой стороны, несут они радостное новое, что почти скрадывает их однообразность. Туманно сказано? Поясню. Однообразие — то, что каждодневно сидишь в одних и тех же стенах и не видишь жизни в ее полный рост. Я не в том смысле говорю, что знания — тошнотная вещь, — наоборот, досадно то, что применяешь их только на уроке, когда тебя вызовут. Но, правда, всему свое время: пускай не выйдет из меня учитель, а знания пригодятся.
Разнообразие — то, что я каждый день общаюсь с бумагой и «творческим пером», пишу на бумаге этим пером о тех кусочках жизни, которые видел сам и слышал от других. В первом письме я Вам говорил, что начал писать нечто вроде повести. Пишу и сейчас, выгадывая время большей частью по ночам. Шесть глав (объем всего написанного — больше трех тетрадей) написаны начерно. Сейчас душа иногда горит писать, но ограниченное время берет за руку, и сам себе невольно говоришь: «Ты допишешься!» И бросаешь, беря в руки арифметику Тулинова.
Недавно написал, вернее, обработал ранее написанный рассказ «Короткая линия», который и посылаю Вам на строгий суд, потому что это и для Вас, и для нас — одинаково важно. Сам чувствую, что бледновато, но все зависит в дальнейшем от упорного труда и безукоризненного знания жизни. Главное — видеть то, чего другие не видят в ней, а это очень трудно, а у меня его пока еще, можно сказать, почти нет.
Прошу Вас ответить на мое письмо и высказать Ваше мнение об этой, четвертой моей прозаической вещичке. В основном все…
23.5.51.
А. Прасолов».Рассказ «Короткая линия» — типичный для того времени: поверхностный, с мнимым конфликтом, с непременными ворчливой бабкой и мудрым дедом… Подобные сочинения выходили тогда не только из-под пера начинающих литераторов, какими были мы с Алексеем, но и многих профессиональных писателей, лауреатов. Об этих творениях позже с убийственной иронией скажет Александр Твардовский:
«Глядишь, роман, и все в порядке: показан метод новой кладки, отсталый зам, растущий пред и в коммунизм идущий дед; она и он — передовые, мотор, запущенный впервые, парторг, буран, прорыв, аврал, министр в цехах и общий бал… И все похоже, все подобно тому, что есть иль может быть, а в целом — вот как несъедобно, что в голос хочется завыть…»
Да, все это было на космическом расстоянии от подлинных проблем жизни тех лет.
Позже это поймет Алексей. В ужасе буду оглядываться и я. Через пятнадцать лет у меня сложатся стихи:
«Наивность детская — чего я не писал!.. Теперь припоминаю — стыдно, право. Я недостойных славы восхвалял и низвергал достойных славы. Кто в этом виноват, постигнуть помоги, — я в рост хотел стоять среди согбенных. И падал так, как падает ребенок, когда поднимется на первые шаги».
Да, это будет позже. А пока Алексей просит строго судить, но сердится за такой суд, хотя и «сам понимает, что бледновато…».
Я судил строго, как строго судили и меня на институтских семинарах. Он упирался. Я ставил ему в пример его же замысел повести или романа. Если его исполнить, как он задуман, — это будет настоящая проза! Гораздо серьезней, чем рассказ.
Зная первые его вещи, можно представить, какую надо было ему проделать внутреннюю, духовную, работу, чтобы от ученического примитива прийти к тому, что отныне оставляет его в истории русской советской литературы. Это тем более удивительно, что проделал он эту работу без литературной среды, совершенно самостоятельно. Потому-то так чуток и пытлив был он даже в кратком общении с людьми этой среды.
Обмен письмами, перепалка при оценке написанного рождают снова в нас близость во взаимоотношениях. Он снова называет меня, как прежде, по имени.
Мы оба — в мучительных поисках, и оба спешим навстречу друг другу с малейшими, как нам кажется, обретениями в этих поисках.
Алексей не решился сразу рвать со своей специальностью учителя. Он поехал-таки работать в Первомайскую семилетнюю школу Ново-Калитвянского района. Преподавал русский язык и литературу. Как он там жил и работал, я не знал. Переписка с ним прервалась.
О его жизни и работе в Первомайском поведал недавно в своем очерке о Прасолове журналист, собственный корреспондент воронежской газеты «Коммуна» Петр Чалый, живущий ныне в Россоши. Родом из Первомайского, он шестилетним мальчиком часто встречал Алексея у учительницы Веры Опенько. Мальчик приходил к учительнице посмотреть книжки, которых у нее было множество. Примостившись на лавке и листая книжки, он видел и слышал, как учительница и новый учитель все разговаривали и разговаривали…
Через много лет Петр, студент воронежского вуза, встретит первую книжку Алексея Прасолова, а потом будет работать с ним в россошанской газете.
Вера Опенько стала первой любовью Алексея Прасолова. Человек кристальной чистоты, она была дочерью красного конника, героя гражданской войны Митрофана Опенько, о котором рассказал Гавриил Троепольский в очерке «Легендарная быль». Вера была секретарем райкома комсомола, ее ждала заманчивая карьера, но она все оставила и уехала работать учительницей русского языка и литературы в самое дальнее от райцентра село, в котором не хватало учителей. Тогда-то они и познакомились. Встреча эта была для Алексея как просветленье. По-новому «примеривал он к миру жизнь свою… Но Алексея звало истинное его призвание, и он год спустя уехал из Первомайского ему навстречу. А Веру ждала болезнь и преждевременная гибель…
Узнав о гибели Веры, потрясенный, Алексей напишет горькие стихи, посвященные ее памяти.
Я не слыхал высокой скорби труб, И тот, кто весть случайно обронил, Был хроникально холоден и скуп, Как будто прожил век среди могил. Но был он прав. Мы обостренней помним Часы утрат, когда, в пути спеша, О свежий холмик с именем знакомым Споткнется неожиданно душа… А я стою средь голосов земли. Морозный месяц красен и велик. Ночной гудок ли высится вдали? Или пространства обнаженный крик? Мне кажется, сама земля не хочет Законов, утвердившихся на ней: Ее томит неотвратимость ночи В коротких судьбах всех ее детей.Это уже подлинный Алексей Прасолов. Вот какой ценой добывает душа поэта «железный стих, облитый горечью…».
«Вышло так, — рассказывает Петр Чалый, — что через пятнадцать лет Алексей Тимофеевич уже журналистом заехал в Первомайское. В бывшей краснокирпичной школе, поставленной еще земством, располагалось теперь правление колхоза, у крылечка и поджидали председателя. Прасолов не участвовал в разговоре, — сосредоточенный лоб прорезали глубокие морщины, — стоял в сторонке, как зачастую, весь в себе. Тут его тронула за руку моложавая женщина.
— Алексей Тимофеевич, цэ вы? Еле признала вас. Меня не вспомните, сколько прошло. Вы наш класс учили…
Обрадовались случайной встрече, улыбались, расспрашивали друг о друге. То была Маруся Величко, работала тогда дояркой на колхозной ферме. Говорливая ученица. Звучным голосом спешила высказать:
— Я хоть и неважно училась, но посейчас не забыла, как хорошо вы нам про Пушкина рассказывали.
…У тети Матрены, теперь она уже бабушка, с той поры, сменяя друг друга, квартировало немало постояльцев, она сама им счет потеряла. А Прасолова не забыла.
— Обходительный был паренек. Я прихворну, а то и бригадир на работу посылает на весь день, так Алексей воды наносит, колодезь неблизко, в яру, сам скотину управит, вечером в хате протопит. По ночам над книжками сидел. Когда ни кинусь ото сна, светится на столе керосиновая пятилинейка. Я его пожалею — побереги голову. Засмеется и опять в книжку!.. С Верой Митрофановной была хорошая пара…
Уехал учитель.
Вера Митрофановна осталась… Учительствовала до конца дней своей короткой жизни, из которой ушла, как и Прасолов, не успев постареть.
«Хорошая душа», — напишет о ней в письме по прошествии многих лет Алексей Тимофеевич.
Знали о том и мы, ее ученики. Не всякого человека, пусть даже и учителя, ходили бы ребята целым классом проведывать в больницу. К Вере Митрофановне ходили в мороз на лыжах за полтора десятка километров. Выстаивали у оснеженного кружевами оконца. А она за остуженным стеклом то, обрадованная, смеялась сквозь слезы, то больше сокрушалась, переживая за нас, и наказывала не вырываться в такую дорогу. На нее, с виду не деревенскую, худенькую женщину, в замужестве легло столько житейских невзгод (в селе их ни от кого не утаишь, все на виду), и болезни не отступались, а она держалась. В класс входила с улыбкой. Она учила нас своей улыбкой не гнуть спину перед встреченной бедой.
Тем и памятна.
Как и ему…»
Помнит Веру и мать Алексея. Об этом тоже свидетельствует Петр Чалый:
«Услышав от меня, что родом я из Первомайского, где учительствовал ее сын, Вера Ивановна, мать Прасолова, сказала:
— Вера там ему встретилась. Алеша часто о ней говорил. Жалел, что разошлись дороги.
И думала вслух о несостоявшемся:
— Может бы, у Алеши все по-другому было…»
Третьим каникулярным летом я застал Алексея сотрудником россошанской газеты «За изобилье». Работал он в самом боевом отделе — сельскохозяйственном. Работал добросовестно и безотказно. Писал все, что требовалось, — во всех жанрах. Времени и сил на стихи почти не оставалось. К той встрече Алексей уже был женат. Но жену не вспоминал. Вспоминал Веру… О причине расхождения с ней — не говорил. Я не допытывался.
Однажды он пригласил к себе. Не помню, куда и как мы шли. Комната, в которой оказались, была пуста — кровать с панцирной сеткой, почти без постели, стул, стол. Стены — голые. Повсюду разбросаны были какие-то тряпки. Жены не было дома. Ребенка — сына — тоже. Подвыпив, Алексей вскользь, не допуская расспросов, сказал, что живет с женой неважно. Я осторожно спросил:
— Не виноват ли ты сам? — и показал на гору бутылок в углу.
— Не-ет, — ответил он неохотно. — Это… были гости…
Я почувствовал, что ему говорить об этом не хочется, и замолк. Потом слушал начало поэмы «Комиссар». Большого впечатления она на меня не произвела. Может, слушал невнимательно, а может, был не тот настрой.
При последней встрече с Алешиной мамой я услышал от нее:
— Неудачно сложилась у Алеши жизня с первой женой, с Ниной. Не понимала она его. Не понимала, чего он хочет… А ведь он хотел добра и ей, и сыну. Никогда не допускал грубостей… А она оставила Алешу и уехала с сыном куда-то в Астрахань…
Может быть, с этого и началось особое пристрастие к выпивке?
Будучи уже на четвертом курсе, я получил от него письмо из Воронежа, куда он переехал работать в молодежную газету. Ее редактировал Борис Иванович Стукалин.
«Здравствуй, дорогой Миша!
Спасибо за письмо и за «Правила приема». Прочитал и думаю, что же делать? На стационар — не выйдет, на заочное — можно, но тут надо подумать. Ведь знания, в самом-то деле, я могу получить и здесь, в пединституте, под рукой. Там — иностранный язык… мне понятен твой немой вопрос. Здесь нет его. Но это не преграда — взять учебник за семилетку и подготовиться. Беда-то в другом: моя теперешняя работа позволит ли? Меня как зря не отпустят в Москву — сдавать экзамены. Вот и решаю: лучше будет, если я в этом году возьмусь за немецкий язык и еще кое за что, подберу больше стихов, чтоб было из чего выбрать, и потом поступать. Одним словом, зарядить пушку в Воронеже, а выстрелить в Москве. Так верней! А учиться — только в Москве! Буду стараться.
Уверен ли в себе… В юности многие пишут и даже удачные вещи… Верно. И многие бросают, заимев бабенку и нарастив жирок. Я заразился безнадежно. С чем ложусь, с тем и просыпаюсь. Сам себя часто спрашивал об этом, — бросить — ни за что! Это — моя жизнь.
По дороге, ведущей к богеме, не пойду. Идут те, кто не любит или разлюбил другой труд. А ведь поэт должен быть в то же время хорошим работником. Думаю: не лучше ли мне вернуться к своему прежнему делу? Работать в школе, над стихом и учиться заочно. А этот год — подготовка.
Ты говоришь, что у вас ходят разговоры. Лучше было бы, если б они стали делом. Туда придут люди, знающие, что им нужно. А начинающий идет с наивной мечтой — стать поэтом! — и все тут. Надо стать поэтом в жизни, а туда идти за тем, чего в другом месте не найдешь. Если бы, к примеру, ты учился заочно и работал где-нибудь, ты написал бы уже стоящие вещи. В жизни видней, какое слово нужно людям.
Досадно видеть неразрезанные сборники в книжном магазине. Иной возьмешь — написано ново, с умением, но души в стихе нет. Блестящий, остроумный, даже образный, а холодный. Раз прочитал, а второй раз неохота. Плохо, когда стих выделан, а не вылит. На поэтах большая вина. Виноват и читатель…
Однажды я прочитал стих К. Ваншенкина «Комсомольские снились билеты…» Читал сначала, как обычно. И вдруг строки:
Да потом спохватился служивый, Закурил, на костыль опершись…Мне стало так жалко. Дал прочитать одному заурядному читателю — ведь для него же написано. Тот прочитал, хмыкнул вислым носом, сказал: «Таких стихов много…» Я рот разинул. Будто меня плетью стегнули по лицу. Больно стало за автора и за служивого…
Думаю: черт возьми, в чем же тут дело? Слишком ли равнодушен, а, значит, взыскателен этот заурядный читатель? Или так заурядны поэты, что ничем не встревожат его душу? Ведь это равнодушие — убийство…
А ведь я помню… Зимний, непогожий вечер… Колхозница — тетя Мотя — вяжет шерстяной чулок и читает мне наизусть «Катерину» и «Тяжко, важко в свити житы сироти без роду…» Эту думку Шевченко написал, вернее, записал, в один присест, — вылил. И это самое первое его стихотворение.
Когда ж придет этот поэт — такой же силы, современный? Вот, Миша, в чем дело: надо слушать лекции и эту колхозницу с землистыми руками: чем она живет, о чем хочет сказать? Если скажешь за нее — ты поэт. Надо нам думать так, как думают люди, и не заставлять их говорить так, как нам бы хотелось. Это — фальшь.
Я решил так — писать просто. Смотреть глубже, а говорить, как мой односельчанин. О сложном — просто. Два стиха, что посылаю тебе, — первые результаты. Без грома. Хвастаться нечем — сырца много. Но пойду по этому пути. Я весь этот год метался, мучился… Никогда не думал, что это мука — искать верный путь. Тебе, может, было в учебе легче. А я напишу, покажу — говорят: ничего, пройдут. Выйду — и в клочья. Пишу два-три стихотворения в месяц, а иногда ни одного. Но это не значит, что вовсе не работаю…
Не всегда приходится сказать так, как нужно, — добродетели сбивают. «Записки агронома» Г. Троепольского вышвырнули из Ворон. отдела ССП — поклеп, тридцатые годы! (…) Теперь нахлобучивают фетровые шляпы, покашливают, дуют в трубку: сдать в набор… Подобедов, читая лекцию, кричал «ура» — вот она матушка-критика! (…) Бис, Троепольский! Кгм… ошиблись мы, конечно, признаем…
Прошу — пришли одно стихотворение. Ты можешь напечататься в нашей газете. Соловьев печатался… Это нетрудно. Но если чувствуешь рано — не надо. А мне, прошу, пришли.
Хорошо бы встретиться летом! Будешь ехать домой — напиши — увидимся. Помнишь, шли мы с речки, а у дороги девочки-подростки пели — ладно, голосисто… Здесь этого не услышишь. Тут и птиц почти нет. Вместо них звенят деньги, свистки на перекрестках… В городе отдохнуть, а жить устанешь. Погляжу — даль, синяя-синяя… Пойти бы по нашей земле, а потом сложить песню, чтоб жизни была под стать. Но наше впереди — у каждого свое. До свиданья. Прошу (вот попрошайка!) фото, если есть. Сдавай экзамены и думай о своей дороге от институтских ворот. Желаю успехов и жму руку.
Твой Алексей.3.5.53 г. г. Воронеж».
Дорога моя от институтских ворот вышла не простая. На четвертом курсе я серьезно заболел. Сдав выпускные государственные экзамены, вынужден был отложить защиту диплома и взять академический отпуск. Жил у родителей в Россоши.
Алексей продолжал работать корректором в воронежской молодежной газете. Газетчикам известно, что корректор — это стрелочник, который в редакции всегда виноват во всех опечатках и ошибках, он вечно обвешан выговорами. Тяжелая работа. И все же Алексей много писал и печатался. Передо мной тоже встал вопрос — где работать.
Как-то раскрываю районную газету и читаю очень знакомые мне стихи. Фамилия автора — В. Боровой — тоже знакомая. Где я ее слышал?.. И вспомнилась книжка моего сокурсника Александра Гевелинга. В. Боровой был ее редактором в городе Калинине. А тут приехал в нашу область и выдал стихи своего товарища за свои.
Я написал заметку о плагиате и вместе со сборником Гевелинга послал ее Алексею.
И вот получаю от него письмо.
«Здравствуй, Миша!
Напечатали; ты, думаю, читал в «Коммуне» под заголовком «Украденное слово»…
В письме ты говорил, что в конце концов придется печатать не то, что хотелось бы… Ты назвал это халтурой. Я скажу тебе одно: честный человек, даже делая то, что чуждо ему, может быть честным: так или иначе он покажет себя, хоть в четырех строках из написанных им ста строк; а это уже дорого.
Чисто халтурных вещей ты, думаю, органически неспособен сделать; а если есть у тебя слабые места, так ты сам это сознаешь, — молчать же не следует. Девушке несносна девственность; она может привести ее к худшему, чем то, что может получиться при потере девственности… прости за подобное сравнение: я сказал так не с целью тебя уязвить, а потому что это — правда. Еще: представь себе, что ты идешь против морозного ветра; чем глубже ты прячешься в воротник, тем сильнее жжет лицо; а стоит тебе поднять голову и обветриться, как ты уже не чувствуешь прежнего холода. Так и печатание стихов: чем дольше прячешь их, тем страшнее за них, тем ты неувереннее. Печатайся и не своди глаз с той вершины, к которой стремишься. Присылай и к нам, и в «Коммуну» — ты ничего не потеряешь ни в том, ни в другом отношении…
Хорошо было бы, когда бы ты устроился в Воронеже. Но в нашей редакции скоро будет сокращение штатов, в «Коммуне» тоже перенаселение, в военной газете — не знаю.
Будешь ехать, не забудь сообщить, в какой день и час прибудешь в Воронеж. Выбирай любой день недели, кроме вторника, четверга и субботы. И приходи в редакцию — она возле Управления ж. д. — огромного здания, смахивающего на Кремль; ты его сразу увидишь с вокзала…
До свиданья, Миша. Жди гонорарий. И пиши! Жму руку.
Алексей.9.III.55 г. г. Воронеж».
Вскоре я приехал в Воронеж устраиваться на работу. Прежде всего зашел к Алексею. Он обрадовался встрече, предстоящей возможности жить и работать где-то рядом друг с другом. Был необычайно оживленным. За обедом, улыбаясь, сказал:
— Хочешь, почитаю эпиграмму?.. Во, до чего я дожил!..
— Давай. На кого?
— На Федора Волохова. Он как поддаст крепенько, так кричит: «Я вам плох?.. Уеду! Уеду в Ригу!..» Там друг у него!.. Так вот,
Я слышал, ты собрался в Ригу. Ну, что ж, скажу я, план хорош. Ты захвати с собой и книгу С названьем «Не шуми ты, рожь».(Так называется книжка у Федора.)
Союз избавишь от нагрузки, Издательство освободишь. Над нею спал читатель русский, Пускай подремлет и латыш!..Эпиграмма хорошая. В ответ что-то читал я.
После обеда мы походили по Воронежу. Алексей рассказывал о себе. Говорил, что неважно устроен с жильем, нет времени писать. Чувствовалось, что он вообще тяготится городом.
В Воронеже мне устроиться на работу не удалось. После безрезультатного хождения по редакциям воронежских газет и издательства я поехал в Тамбов. Работал литературным сотрудником в областной газете, потом в издательстве — редактором художественной литературы, потом — главным редактором его.
С Алексеем виделись редко. Я почти не бывал в Воронеже. В Россоши тоже — иногда проводил отпуск. Лишь в маминых письмах проскальзывало что-либо об Алексее. Хорошего было мало. Он, спасибо ему, частенько заходил к родителям моим. Его по-прежнему добро они принимали. Но мама все чаще писала, что Алеша заходил сильно пьяный, что Алеша пьет, что вынужден уходить с работы на работу…
Алексей в педучилище учился вместе с моим двоюродным братом Леонидом. Они даже немножко дружили. В один из моих приездов в Россошь брат рассказал мне о случае, больно ударившем по сердцу. Отец брата, дядька Семен, купил кирпича на Россошанском кирпичном заводе. Когда с завода привезли ему кирпич домой, среди грузчиков был… Алексей. Стриженый, в робе, он подошел к дядьке Семену и попросил не говорить Леониду о такой встрече с ним…
После очередного наказания, попадая в Россошь, Алексей по-прежнему время от времени навещал моих стариков. И все чаще посещения кончались просьбами денег. Конечно же, на выпивку. Старики не могли отказывать ему и давали — по трояку, по рублику… Мама горевала о нем в очередном письме ко мне. «Ну, як же ему не дать, як вин та-ак же просэ… Та хоть бы ж кто ему помог…» Жизнь нас разводила, издалека помочь было трудно. Да и не знаю, сумел ли бы я помочь ему.
И все же — он писал! И стихи его становились глубже, драматичнее. Суровость его пути, его бездомной жизни, скитания его по воронежским городишкам научили его работать в любых обстоятельствах — это было его спасение от гибели.
Любые обстоятельства — это с 1961-го по 1964-й — рудники и стройки…
Когда брат мне рассказал о случае с кирпичом, я вспомнил отличное его стихотворение, присланное мне в одном из писем.
В низкой арке забрезжило. Смена к концу. Наши лица красны от жары и от пыли. А огонь неуемно идет по кольцу, Будто Змея-Горыныча в печь заточили. Жадно пьем газировку и курим «Памир». В полусонных глазах не причуда рассвета: После камеры душной нам кажется мир Знойно-желтого цвета. Летний душ словно прутьями бьет по спине, Выгоняя ночную истому из тела. Ведь кирпич, обжигаемый в адском огне, — Это очень нелегкое древнее дело. И не этим ли пламенем прокалены На Руси — ради прочности зодческой славы — И зубчатая вечность кремлевской стены, И Василья Блаженного храм многоглавый. Неудачи, усталость и взрывчатый спор С бригадиром, неверно закрывшим наряды, — Сгинет все, как леса, как строительный сор, И останутся зданий крутые громады. Встанут с будущим вровень. Из окон — лучи. И хоть мы на примете у славы не будем, Знайте: по кирпичу из горячей печи На руках эти зданья мы вынесли людям.Какая «примета у славы»? О его бедах многие судачили со злорадством. А он, как мы видим, из своих бед добывал литые стихи. Он блестяще доказывал мысль о том, что поэзия — везде, даже в траве под ногами, и надо лишь разглядеть, нагнуться и поднять ее… Алексей Прасолов и видел, и нагибался, и поднимал!..
В 1961 году в Тамбове я получил письмо с обратным адресом: Воронежская область, Березовский район, Кривоборье, п/я ОЖ 118/2.
«Здравствуй, Миша!
Посылаю тебе поэму «Соловей». Как она удалась мне, со стороны видней. У нее своеобразная история. Я написал поэму с таким названием еще до педучилища и послал ее в «Пионерскую правду». Это было или в шестом или в седьмом классе. И с тех пор забыл ее почти всю, кроме сюжета да нескольких строф.
И вот однажды в поезде я услышал рассказ о почти таком же парнишке-партизане, и что меня особенно тронуло, так это то, что его звали Соловьем. Я дописывал поэму «Комиссар», начало которой читал тебе у себя дома, когда ты приезжал в Россошь. Конец ее не давался. И вдруг пошло складываться другое, да так, что еле успевал записывать. Это после переделок и стало началом «Соловья», написанного заново.
Поэму «Комиссар» в сокращенном и местами глупо искромсанном виде напечатали в сборнике «Наше время», который вышел год назад в Белгороде. Ее положили на прокрустово ложе, ну, да дьявол с ними. Эту я правил весь год с большими перерывами, что позволило мне глядеть на нее похолодевшими глазами критика. Не напечатал нигде. Я тебя очень прошу: насколько это возможно в твоих условиях, помоги ей взглянуть на белый свет. Если ты близок с И. С. Кучиным, покажи ее ему.
И еще просьба: не поскупись подробней написать о своей творческой жизни, о литературной обстановке в Тамбове. Я в моей нынешней дыре буду тебе очень благодарен.
Жду ответа о судьбе «Соловья» как приговора. Из всего, что у меня есть, эта почему-то мне впервые дорога.
Пожалуйста, напиши и — если можно — скорее. Жму творческую руку.
Алексей.10.VII.61.
P. S. Черкни попутно о себе, не женат ли, как работаешь, здоров ли? Буду рад любой строчке. Давно мы не виделись, а жизни много всякой утекло — и сносной, и дурной. Будь здоров. А. П.».
Опубликовать поэму полностью не удалось. Корежить — не хотелось. Я написал Алексею об этом. Он согласился. В ней — при некоторой наивности — есть что-то светлое-светлое, что не может не быть дорогим.
Два года спустя я получил от Алексея маленькое письмо уже из Семилук с обратным адресом: п/я ОЖ 118/1…
Прошло еще три года. Прослышал я, что Алексей на свободе, что выход на свободу связан с Твардовским.
Укрупнили издательства. Тамбовское влилось в новое — Центрально-Черноземное, в Воронеже. В Тамбове успела выйти в 1964 году моя вторая книжка стихов. За два года написал новую — листа полтора. Оставаясь старшим редактором в тамбовском отделении, привез сборник в Воронеж. Это было в июне 1966 года.
Зайдя в издательство, неожиданно встретил Алексея. У него произошли в жизни очень важные события — освобождение от принудработ, встреча с Твардовским и выход книги стихов «День и ночь».
Мы долго не виделись. И, как он писал, жизни много всякой утекло — и сносной, и дурной. Потому сразу, как только выяснилось, что я не нужен в издательстве, мы пошли с ним в Петровский сквер, где тогда было кафе, заняли столик в уютном уголке под липой и отметили встречу.
Я всматривался в Алексея. Здорово он изменился. Прежде всего — лысый, совершенно лысый, и потому не расстается с беретом. Усталый взгляд; нервный, но ясная голова; чувствовалась его радость от того, что с ним произошло.
— Давай сначала о тебе, — предложил я.
— Что ж? Ты знал, что я был в местах не столь отдаленных. И не на равных правах со всеми. За что — не будем говорить. В общем, все за то же!..
Он говорил с опущенным взглядом. Говорил устало.
— Помнишь, я когда-то сказал тебе, что есть у меня друг?.. Это Инна Ростовцева. Она по-доброму относится ко мне. Добро это проявилось и на сей раз.
Алексей говорил отрывисто, волнуясь.
— Она приехала ко мне в колонию. Уезжая, взяла большую стопку стихов. Я ведь везде и всегда писал, ты это знаешь… Так вот. Вернулась она в Москву и — к Трифонычу. Поведала ему о моей судьбине… Тот при ней отобрал десяток стихотворений и направил их в набор. Свежаком… Ну, а дальше? Дальше, вынул меня о т т у д а, спасибо ему. И вот уже можно бы и поподробнее…
Он задумался, восстанавливая, видимо, подробности своей встречи с Твардовским.
— Ты можешь представить мое… 3 сентября 1964-го, два часа дня… Едва я вошел к нему, и сказал: «Прежде всего, спасибо за то, что я здесь стою…»
— А вы, — мгновенно ответил он, — садитесь.
У Алексея нависли слезы на ресницах. Он отпил глоток вина.
— Этого мгновенного ответа с его простым человеческим смыслом было достаточно, чтоб весь разговор наш прошел по-человечески!.. Самое главное, Миша, это — подборка в «Новом мире» и совет — учиться. Вот и все… Если хочешь, не сочти за похвальбу, в разговоре с ним я убедился — я всегда шел в поэзии единственно верным путем. Он меня убедил в этом. Вот и все.
Я смотрел на Алексея и видел перед собой счастливого человека. Подарил ему свою книжку «Спасибо тебе за цветы». Он достал из кармана свежую свою и тоже сделал надпись:
«Разными путями, но к одному. Да не разминемся. Самого лучшего, Миша! С любовью Алексей. 29.VI.66».
Я поблагодарил.
— Если уж раньше не разминулись, — сказал я, — теперь не разминемся.
— Я тоже так думаю, — ответил он.
По пути в гостиницу «Россия» он расспрашивал меня о моем житье-бытье.
Прощаясь с ним, я сказал, что сдал новую книжку в издательство. Но, чувствую, что-то тут не так…
Едва я возвратился в Тамбов, от Алексея пришло письмо, очень меня обрадовавшее.
«Здравствуй, Миша!
На другой день после твоего отъезда я пошел в издательство и сказал, что хочу рецензировать твой сборник. Там сразу согласились и даже поторопили, чтобы я написал рецензию в этот же день и сдал ее. Это я и сделал. Когда принес рецензию и рукопись, коротко сформулировал Семенову суть книги и суть рецензии.
Я не стал лавировать — это излишне. Просто я начал со смысла названия книги: к кому обращается автор? К родной земле? К Времени, веку? К той ли, что ввела в мир еще не испытанных автором чувств? Или, наконец, — к читателю?
Семенов, оказывается, имел в виду только последнее. Я раскрыл, расширил название книги в пределах поставленных впереди вопросов. Он согласился со мной, ибо понял.
В центре рецензии — тревога автора. Тревога о судьбах людей, убитых средой, своим временем, его жестокостью. Лермонтов — Хемингуэй — Бальзак.
Тревога во всем: в жизни, в любви. Подчеркнул искренность и живость поэтической интонации, взволнованность, которая передается читателю непосредственно, без всяких окольных приемов.
В конце сказал, что взволнованность автора порой приводит к излишним словам. Но подчеркнул, что мастерство с годами приходит, а чувство с годами уходит. Пожелал автору совмещать то и другое. И заключил тем, что книга должна идти к читателю.
Со мной согласились.
Дай бог книге доброго пути!
У меня перемен никаких. Ищу выход. Будем жить.
Всего доброго. Жму руку. Будь здоров во всем.
Алексей.3.VII.66.
P. S. Ответить захочешь, пиши на Союз пис.: пр. Революции, 37. Вор. отд. СП».
Невольно остановился на тревожных словах: «У меня перемен никаких. Ищу выход. Будем жить».
Написал ему большое письмо. Благодарил за отзыв о книге. Всячески ободрял его, говорил о его книге, которую жадно прочитал в пути домой.
К концу года я очутился в Москве. Стал работать в правлении Союза писателей РСФСР. У Алексея подоспела вторая книжка в издательстве «Молодая гвардия», и он был принят в Союз писателей.
В день принятия я дал ему телеграмму. Убеждал думать о своем будущем. Желал доброго в будущем.
Это было в мае 1967 года.
В том же году мне довелось пережить большое горе. У брата Леонида, того самого, с которым учился Алексей, умерла жена, отравившись грибами. Умерла в 34 года, оставив маленькую дочку.
Брат живет в Сомово, под Воронежем. Будучи на похоронах, я написал письмо Алексею.
В Москву пришел тревожный ответ. Не складывались у него отношения с собратьями по перу. В чем-то, конечно, был виноват он сам. Но и среда наша — тоже хороша!..
«Здравствуй, Михаил!
Получил твое письмо, написанное проездом. Такая досада: хотел Леньке написать хоть пару строк — ведь у человека, который совсем недавно был у меня, такая беда… — и на тебе: у меня нет его адреса. Знаю только: п. Сомово, ул. Липецкая — и все.
Сейчас случайно обнаружил в редакции старый номер газеты с твоими стихами и портретом. Не знаю, есть ли у тебя, поэтому высылаю.
Ты говоришь, что надо думать о будущем. Мне очень нужны курсы. Но черт возьми, как все это делается — кем конкретно и когда я должен быть включен в список и оформлен? У меня был разговор с Г. Ладонщиковым, но тогда я еще не был в Союзе, книги еще не вышли и т. д. О курсах говорил мне и А. Т. Т. — нужное дело.
Воронежское отделение — это какая-то глухота и немота в этом отношении. До сих пор даже билет не вручили, хотя все давно оформлено.
Извини, что беспокою. Меньше превратных выводов о моей «болезни». Дело далеко не так, как кажется со стороны. Вот все. Работаю над новым. Получил телеграмму от А. Твардовского, чтобы слал стихи в окт. номер. Отослал. Что нового там, в Москве, и у тебя?
Всего доброго.
Алексей.5.3.67 г.
г. Россошь».
Будучи консультантом правления Союза писателей РСФСР, я мог помочь ему поступить на Высшие литературные курсы. Об этом я сказал ему, когда Алексей вслед за письмом позвонил из Россоши.
— Я сделаю все, чтоб ты поступил. Но главное зависит от тебя!..
Главное — это его беда. В то время начиналась очередная кампания по борьбе с пьянством. Коснулось это и студентов Литературного института, и слушателей Высших литературных курсов.
— Я скоро должен быть в Москве. Поговорим, — сказал он по телефону.
Вскоре объявился сам. Пришел в правление к вечеру. После работы мы поехали ко мне, в Переделкино. Там я с женой жил в доме барачного типа. Мы ждали ребенка.
Добрались ко мне, когда уже смеркалось. Он настоял по дороге взять бутылку водки. Я вспомнил его «меньше превратных выводов о моей «болезни» и согласился.
Дома познакомил Алексея с женой и тещей. Они его, конечно, знали по моим рассказам. Оставил его в горнице, пошел на кухню помочь жене приготовить ужин. Возвращаюсь с тарелками к нему, а он сидит перед распечатанной и наполовину выпитой бутылкой. Я опешил.
— Алеша, ну что же это? Тебе что, не досталось бы?!
— А я ничего, — отвечал он невозмутимо.
— И ты мне говоришь о превратных выводах? — разозлился я, но тут же вспомнил своего дядю Леню, брата отца, и замолчал. Они походили друг на друга. И оба же были талантливыми людьми. Тот — инженер, этот — поэт. Дядя Леня помногу пил, никогда не лечился и не хотел лечиться. Говорить с ним об этом было нельзя. Он взвивался с яростью зверя. Пока ему пьянка сходила с рук. А Алексей столько уже перестрадал через нее, проклятущую…
Не стал я затевать трудный разговор при жене и теще. Это обидело бы Алексея.
Он переночевал у нас и наутро уехал. Но, будучи зачисленным на Высшие литературные курсы, он в первый же день приезда на занятия вместе с несколькими слушателями напился… И был отчислен с курсов. Чувствуя свою вину, а надо сказать, что чувство вины у него, трезвого и даже не слишком много выпившего, было почти болезненным, Алексей уже со мною никогда не заговаривал о курсах.
Он понимал свою страшную беду. Не раз пытался лечиться и снова — срывался. Не раз брал себя за горло и пробовал начать жизнь по-новому. Потому-то после очередного падения и ехал в новое место, где у него не было дурной репутации. Менялись районы работы — Россошанский, Аннинский, Репьевский… Вольно или невольно он уходил от журналистики, менялись профессии… Жил мыслью — подняться! Подняться в полный рост во что бы то ни стало!.. Об этом с предельной искренностью пишет он одному своему знакомому:
«Я уехал из Россоши… ведь мне неохота было изолироваться на время от вольной жизни, которую я порядочно испортил на глазах родных и знакомых. Это я решил делать после того, как подуправился с некоторыми личными делами, и на стороне, где меня могли знать, как приезжего. Я проработал ровно столько, сколько задумал, чтобы успеть получить гонорар за поэму. Получил, купил костюм и сам себе сказал: теперь пора… Мне нужно было горькое, но необходимое лекарство — изоляция на год, на два, чтобы окончательно очиститься от заразы, которая меня все больше захватывала…
И вот я 9 месяцев работаю зав. клубом. Никогда за последние годы не чувствовал себя так облегченно и спокойно. И, знаешь, у меня сейчас такое отвращение к прежней полутрезвой жизни, что не верю порой: неужели это со мной было?.. Сейчас много читаю и думаю. А думая, продолжаю писать. Есть уже 5 рассказов, блокнот стихов и несколько глав повести в прозе. Я готовлюсь к новой жизни — и с трезвой головой…»
Если бы рядом с ним был любимый и любящий человек!.. Но его нет. И снова — падение…
И снова — терзания: давно развалилась семья, страдает мать. А она, мама, все та же, любящая, ожидающая перемен в жизни сына…
Чертами теплыми, простыми, Без всяких слов, наедине О человеческой святыне Она пришла напомнить мне…Волею судьбы в 1968 году я стал ответственным секретарем редакции журнала «Наш современник». Сразу же написал письмо Алексею, просил присылать стихи. Он не замедлил откликнуться. Стихи были приняты, о чем я поспешил сообщить ему. Вот ответ:
«Здравствуй, Миша!
Извини, что я не смог сразу ответить тебе на письмо, в котором ты говоришь, что 4 стихотворения моих пойдут в первом номере «Нашего современника»…
Я после месячного лежания был в Воронеже на консультации. Диагноз тот же: очаги на верхушках обоих легких, в ограниченной форме, которая, по словам врачей, вполне поддается лечению. Положили снова в стационар. Болезнь — видимо, последствие гриппа, которым я переболел, простудившись в газетной командировке в марте. По крайней мере, с того времени я стал чувствовать жесткость дыхания и слабость. Я хотел уехать из Россоши еще в июле, но пришлось месяц пролежать в облбольнице — повысилось давление спинномозговой жидкости до 210. Откачали.
Впрочем, довольно о хвори. Здесь много трудных больных (особенно трудных характером и привычками). Насколько возможно, пишу. Не знаю, сколько придется лежать, но дело долгое.
Надо закончить рукопись новой книжки. Был в изд-ве, сказали, в новом году можно включить в план 1970 года.
В последнее время я не работал в местной газете, надумав уехать ближе к Воронежу. В обкоме обещали дать место в Рамони или в Семилуках. Но обещанное не вышло, а тут обнаружилась эта болезнь. Что впереди — житейское — не ясно. Пока оторван от всего…
Есть новые стихи, войдут в книжку. И странно, — когда представишь написанное, то видишь: большинство стихов писано в больницах, в условиях, далеких от литературы, но близких к жизни и смерти. Здесь мы за месяц похоронили троих. Я едва ли не один здесь из самых легких. Форма закрытая, свежая, начальная. Опять о болезни…
Надо преодолевать помехи, использовать больничный и свой внутренний режим и делать свое.
Что нового у тебя? Ты теперь отец, имеющий чадо — сына… Здоров ли он? Все там же ты ютишься с семьей — в скворечнике? Если так — неважно. Моя квартира закрыта и, наверно, на всю зиму…
Черкни, если будет о чем и когда. Я думаю, что буду здесь и в январе. Если что — сообщу. Привет твоей семье.
С уважением —
Ал. Прасолов.24.XI.68 г. г. Россошь, Пролетарская, 57».
Обратный адрес — это адрес туберкулезного диспансера. После попытки учиться на Высших литературных курсах Алексей снова оказался в трудном, очень трудном положении: уходило здоровье.
В начале 1969 года появилась подборка его стихотворений в «Нашем современнике». Алексей тут же откликнулся. Из Морозовки. Заезжал к маме…
«Здравствуй, Миша!
Прежде всего, спасибо за приют, оказанный моим стихам, и за построчные. Весьма кстати. Я на днях съезжу в один из районов нашей области по поводу работы в газете. В Россоши это невозможно да и не нужно. Скорей бы обрести работу да нормализовать свою основную работу — творческую.
За время лечения и безработицы написал около сорока стихотворений. «Новый мир» еще не вышел, не знаю, идут ли там мои два стих., о которых мне говорила С. Караганова. Из литдрамвещания Н. Н. Котенко присылал письмо, предлагал дать новые стихи для передачи. Но — увы! — это было в те дни, когда я лежал в больнице, и письмо попало мне в руки поздно. Все же шесть стих. я послал им. Ответа пока нету.
Кругом глухо, не знаю, что даже деется на воронежском Парнасе. Литсреда — штука тяжелая, и если что родится в тебе, то только вне ее. Ладно, к черту. Потчую тебя стихами.
(Были присланы — «Пушкин», «О первая библиотека…», «Все без нее: и этот стих…», «Ты пришла, чтоб горестное — прочь…» — М. Ш.)
Всего тебе лучшего. Жму руку.
Будет минута — черкни по морозовскому адресу.
А. Прасолов.25.II.69».
Прекрасна эта строка в письме: «Ладно, к черту. Потчую тебя стихами».
Стихотворения — одно лучше другого. Боже мой, по взлету его можно было предчувствовать конец. У подлинных поэтов это так часто: взлет таланта перед уходом…
Мать наклонилась, но век не коснулась, Этому, видно, еще не пора. Сердце, ты в час мой воскресный проснулось Нет нам сегодня, нет нам вчера. Есть только свет — упоительно-щедрый, Есть глубиной источаемый свет…Несколько стихотворений я снова направил в набор, и они потом, позже, вышли в журнале.
После россошанского тубдиспансера Алексею пришлось еще той зимой и весной полежать в другом диспансере, потом — в больнице в Воронеже.
И снова потянуло в Морозовку. Оттуда он и подал весть.
«Здравствуй, Михаил!
31 июля я приехал в Морозовку, где смогу пробыть до 20 августа. А потом съезжу в Воронеж. Весною, в мае, я почувствовал себя скверно, ушел из Терновки, где есть дрянненький диспансер, и в Воронеже лег в больницу, из которой вышел только 28 июля. Теперь снова надо куда-нибудь «втыкаться» в газету. Хотелось бы попасть в район поближе к Воронежу, например, в Рамонь. Но дадут ли что-нибудь в этом отношении в обкоме — не знаю. Неустроенность моя — бич мой.
Вчера день провел в ж.-д. клубе в обществе двух своих давних знакомых — Анны Ивановны и Лилии Ивановны. С последней ты, оказывается, вместе учился в Россоши. Хороший она человек. После праздничной суеты (вчера ведь был День железнодорожника), после концерта и кино мы сидели у нее дома, пили кофе и слушали Штрауса и Паганини. Я отстал от вечернего поезда и не жалел об этом. Лилия Ивановна говорила, что ты был у них в мае проездом, читал стихи. Я ничего вчера не читал, а слушал и смотрел: у них в клубе есть свежие голоса — в основном мужские, а женская половина имеет отличную танцовщицу Любу. Ты, надеюсь, видел ее тоже.
Таковы вчерашние впечатления.
Ты, конечно, получил мое письмо со стихами, посланное мною тебе перед тем, как я уехал зимой из Морозовки. В письме было несколько стихотворений. Как они тебе показались? Из «Нового мира» — мне тогда ответили, что два моих стиха пойдут в двенадцатом или в первом номере журнала, но не было ни в том, ни в другом. В Воронеже в будущем году должна выйти моя книжка «Во имя твое» — вся новая, сорок стихотворений. Москва в плане утвердила, договор оформлен, но деликатнейший Андрей Гаврилович с обворожительной улыбкой мурыжит мою душу вот уже который раз, не выдавая 25 процентов аванса. Вот и существуй в мире — прекрасном и яростном.
Черкни несколько слов: возможно ли опубликовать что-нибудь из ранее присланного или из того, что я могу прислать еще? До 20 августа я бы смог еще получить здесь твое письмо.
Жму руку. Всего доброго.
А. Прасолов.4 августа.
с. Морозовка.
1969».
Мир воистину тесен. Алексей, оказывается, дружит с Лилей Мордовцевой (Глазко), — я действительно учился с ней в одной школе. Лиля — дочь одного из знаменитых не только в Россоши, а по всей Юго-Восточной железной дороге братьев Мордовцевых, паровозных машинистов, кавалеров ордена Ленина, — долгие годы руководит детским сектором в железнодорожном клубе. К ней привязываются ребятишки чуть не всей станции. Она создала клубы по интересам: «Магистраль» — это профессиональная ориентация, «Подросток» — овладение правовыми знаниями, «Кузнечик» — подготовка веселых вечеров и концертов.
Но самые увлекательные дела — выпуск рукописного журнала «Огонек» и проведение литературных часов на природе, — в степи, в лесу, у реки, посвященные временам года.
Приглашенный однажды для участия в них, Алексей и подружился с Лилей, с Лилией Ивановной.
В дружбе с ней раскрывались богатства души Алексея. Он совершенно естествен с ней, серьезен, шутлив, остроумен, внимателен… Это видно из его писем к Лиле.
Судите сами.
«Спасибо за письмо, за то, что Вы испытали хоть капельку радости от моих скромных (боялся: а вдруг — не совсем скромные!) строк на обороте фото и от очень скромных — тут я был более чем уверен! — подарков? Как Ваше здоровье, как переносите уколы? С песенкой? Ох, лукавите! Наверное, боитесь иглы? Нет, Вы, я верю, смелый человек. Ведь даже на планере в свое время парили над Россошью, а я в те годы, наверное, не раз видел это, задрав голову на крыше дедушкиного сарая или летном поле за автоколонной, и, конечно, не думал, что в 1970 году, 14 марта, вечером буду писать вот это письмо одной из бывших планеристок, которая теперь пришпилена к земле укольной иглой. Ага, уколол Вас! Это за то, что я горел желанием в детстве хоть раз оторваться от земли на планере, на самолете, на воздушном шаре, переделал десятки моделей геликоптеров, планеров, самолетов разных типов — от Пе-3 до ястребка Ла-5, от Ме-109 до Ю-88 и 89 (этих мастерил для мишеней — «сбивал» из арбалета, из самопала, из трофейной немецкой винтовки боевым зарядом, в котором наполовину убавлял пороха). Все было, даже два случая, когда я еле уцелел от брошенной мною гранаты и от немецкой мины, расстрелянной мною же из винтовки на реке Черная Калитва. О времена! Нас солдаты называли «второй фронт» и грозились отодрать за уши за эти проделки. А для нас это была настоящая, полная риска жизнь! У меня до сорок пятого года была трофейная винтовка, шесть лимонок и всякое другое добро. Вот ударился я в воспоминания! Это, наверно, потому, что Вы каждый день с детьми — с такими же, как мы когда-то, мальчуганами, заглядывающими в читаемое Вами письмо. Как летит время!.. Мы уже во сне не летаем… А я летал долго — лет до тридцати шести — во сне. И так легко было просыпаться после парения над землей! Сегодня моя знакомая сказала: «А вообще ты, когда идешь, когда сидишь, все кажется, хочешь из чего-то вырваться и улететь. Не замечал за собой?..» Видно, внутреннее выдается мной на глаза других, когда эти глаза внимательны и понимающи.
Мы опять с тобою отлетели, И не дивно даже, Что внизу остались только тени, Да и те не наши. Сквозь кристаллы воздуха увидим Все, что нас томило, Но не будем счет вести обидам, Пролетая мимо.Эх, жизнь!..»
Не правда ли, прекрасные воспоминания. А вот что он написал на обороте фотокарточки своей, — он говорит о надписи в начале письма:
Для Лилии Ивановны — Такое бы случись! — Переписал бы заново Стихи свои и жизнь!..А вот из другого письма — раздумье о книге друга, с которым он работал в молодежной газете в Воронеже:
«О книге Пескова «Путешествие с молодым месяцем» отдельно говорить — не нахожу для себя серьезного смысла. Весь Песков мне понятен с первой книги — «Шаги по росе». Свежо, зримо схвачено, во всем уловлен миг, момент, подан ярко. Но мне лично все это доступно в окружающей меня натуре и в натуре воспринимается мной, что полезней, что ближе, чем в той, даже талантливой подаче, что в книге. Меня больше тянет глубина человеческая и часто — исходящая как бы из натуры, собственной, идущая сквозь натуру, окружающую ее. Песков дальше, глубже не пойдет умышленно — там, в человеческом, — не его сфера. Потому он старается действовать на человека не изнутри его глубины, а извне, действовать именно этим, увиденным им в природе, ибо видеть ему приходится больше, потому что это стало его профессией. Видишь расширение его диапазона в пространстве земли — север, тропики, диковинки, как сувениры из тех мест, — все это проходит через песковскую опытную и чуткую душу и показывается…»
Алексей пишет Лиле обо всем, что можно и хочется сказать другу.
«…Прослушал несколько пластинок — «Хор охотников», первую и четырнадцатую (Лунную) сонаты Бетховена, и захотелось написать письмо Вам. Не знаю, как кого, а меня праздники угнетают, если я в них включаюсь, торжествовать хочется не ради праздника, а ради сделанного, а я в последнее время только и делаю, что пишу в газету…
Я не один. За другим столом сидит человек по имени Рая Андреева и читает Шиллера — скоро летняя сессия, а она — заочница ВГУ. Работает в нашей газете; в апреле мы скрепили свой союз…
Перебирал книги — сколько непрочитанного! Мне к тому же трудно быть исправным читателем: то есть тем, кто в темпе поглощает уйму книг, да и не всегда требуется много — хороших, приятных тебе авторов по пальцам перечтешь. Современных берешь, чтобы знать, как информацию.
Прав Солоухин в своих письмах из Русского музея, приводя слова Экзюпери о том, что возьми песню XV века и поймешь, насколько мы одичали…
Желаю Вам доброго лета, какое только может быть. В Россоши и в Хохле оно похоже — пыль да песок. Вылезть на Дон — рано. Перед окном отцветшие подснежники, которые мы с Раей посадили в холода, в самом начале весны. Зато сирень зазеленела дружно и скоро затенит палисадник…»
Как не благодарить Лилю, Лилию Ивановну за ее человеческую приветливость, с которой она всегда встречала Алексея!.. Приветливость давалась ей не даром. Были и раздоры с мужем и косые взгляды соседей по квартире. Но Лилия Ивановна оставалась человеком. Я был у нее в Россоши. С волнением вспоминала она Алексея, показывала кресло, в котором он любил сидеть, когда слушал музыку, любимые его пластинки с записями Кальмана и Штрауса. Вернувшись в Москву, я через несколько дней получил от нее письмо.
«Прошла бессонная ночь. В памяти ожили все встречи с Алексеем. И я не могу не написать тебе. Я старалась вспомнить, что я сделала доброго для Алексея. Оказывается, ничего.
Просто каждый человек должен иметь место или хотя бы маленький уголочек, куда можно прийти в любое время, посидеть, подумать или расслабиться, послушать музыку и почитать. У Алексея не было такого уголка, и он шел к нам. Садился глубоко в кресло, слушал музыку Кальмана или Бетховена и уходил со своими мыслями далеко-далеко от всех нас.
А когда жизненные невзгоды били его так, что он не мог молчать, Алексей приходил ко мне на работу. Взволнованный, быстро шагал по комнате, громко возмущался, потом садился на диван, говорил короткое «прости» и умолкал. Мне удавалось отвлечь его от мрачных мыслей. Он подходил ко мне, брал в свои ладони мои и говорил: «Спасибо, что ты есть».
Были и радостные встречи. Алексей читал стихи Цветаевой, Ахматовой, Жигулина, Щипачева и др., рассказывал об их жизни, рекомендовал, что прочитать, на что обратить внимание. Все светлое и радостное дарил мне Алексей, а не я ему…»
Читал я письмо Лили и думал: «Да, конечно, с Алешей было интересно. Но чтоб он стал интересен, нужен был тогда в Россоши Лилин оазис понимания…»
И все же — «Неустроенность моя — бич мой…»
«Ах, этот «деликатнейший Андрей Гаврилович с обворожительной улыбкой!» Прочитав Алешино письмо, вспомнил и я его недобрым словом, бывшего директора Центрально-Черноземного книжного издательства. Он допустил, что выбросили из плана изданий ту мою, благословенную Алексеем, уже подписанную редактором книжку, едва я успел вступить на землю Москвы. Дескать, вы живете теперь в столице, там и издавайтесь. Как будто московские издатели меня встретили на Казанском вокзале, подхватили под белы руки и повезли во все свои издательства… Почти десять лет я не мог выпустить эту книжку стихов.
Алексею было намного труднее. У меня была семья, работа, я был здоров. А он… он — совсем другое дело…
На вопрос матери Веры Ивановны — оставаться ли ей одной и жить с помощью сыновей или принять какого-либо старика, чтоб с ним легче было дойти до предельной черты, Алексей вынужден был сказать горькую правду: «Принимайте, мама. На нас не надейтесь…»
В последнюю встречу с ней, в октябре 1986 года, она тихо, почти шепотом говорила, вспоминая Алешу:
— Ох, сынок, сынок, лучше б я за тебя туда легла…
Вытирала слезы.
— Как же хорошо, что водку окоротили. Раньше бы… Раньше бы!..
А жизнь все-таки брала свое. В середине семидесятого года получил я письмо из дому. Моя мама писала:
«…да, в конце июля был у нас Прасолов. Работает где-то под Воронежем… теперь он женился, взял молодую. Учится в институте. Ждет новое наследство…»
Передо мной — последнее мне письмо от Алексея. Я был составителем сборника «Дня поэзии России» в 1970 году. Разговаривая с руководителем Воронежской писательской организации, я просил передать Алексею, чтоб он присылал стихи.
«Здравствуй, Михаил!
Посылаю в «День поэзии» стихи. Подсказал Гордейчев В., с которым говорил ты.
«Рассвет» прямо горячее. 31 декабря еду в санаторий для легочников — был на обследовании, советуют. Устал жутко.
А. Т. Т. над одним стихотв. — А. Твардовскому… Слышал — рак легких… Миша, ты понимаешь, что это для всей русской поэзии XX века!
Это стихотворение и другое — «И все как будто кончено — прощай…» Он сам отобрал в январе 1970 года для «Нового мира», но это было перед его уходом.
Будь здоров. Выбери сущее. Все мне дорого, что посылаю, — и «Рассвет», и «Огнище». Что только можно — сделай.
Храни тебя Поэзия, а ты — ее.
21 декабря 1970 г.
А. Прасолов.Ворон. обл., Хохол,
редакция газеты «За коммун. труд».
«Храни тебя Поэзия, а ты — ее». В этой фразе мне слышалось последнее прощанье…
Алексей прислал хорошие стихи. Но в сборник брали только опубликованные вещи. У Алексея были новые, еще не видевшие света. А опубликовать их до выхода сборника при наших темпах публикаций почти невозможно. Как ни уговаривал я редактора сделать исключение — тщетно.
Теперь, когда он ушел, у него много друзей. Одни его открывали, другие — открывают. Земляки доказывают, что Алексей при жизни «не был обделен успехом и вниманием…».
Один критик в недоумении пишет, что некоторые
«…делают заключение, что Воронежа в жизни Прасолова почти не было.
Нет, он был и он есть! — восклицает критик. — И это имеет отношение к сердцевине его таланта, к той земле и к тому небу, которые живут в поэзии Прасолова. Еще большее отношение это имеет к психологии творчества, к тончайшему механизму обнаружения в человеке художника, ко всему, с чем мы сталкиваемся едва ли не каждый день. И хорошо, если мы оказываемся достаточно чуткими и готовыми к встрече с большим талантом».
О эти всеобъемлющие тирады!.. Да, в жизни и поэзии Алексея Прасолова есть и родная земля, и родное небо, они — его колыбель, земля и небо. А мы? Мы-то все-таки были ли чуткими? И чутки ли мы сегодня к таким людям, как Прасолов?..
В письмах Алексея Прасолова достаточно красноречиво звучат и «чуткость», и «внимательность», и «деликатность с обворожительной улыбкой…».
Невозможно без боли читать его письма к жене Раисе Васильевне Андреевой.
«Есть же единая для меня сила, которая дает отпор одиночеству среди людей и людям — среди безлюдья! Эта сила не дает в себе убежища загнанному сердцу — она защищает мое сердце, не прикрывая, а обнажая его до предела — обнажая перед теми двумя силами — людьми и безлюдьем… Самое действенное, что мне дано, — поэзия… Я страшно не на своем месте — я не возле тебя…»
«Когда я приехал домой, в печке еще тлел уголь — сутки без меня!..»
«Я не скопидом — увы! — бог отнял у меня даже чувство сохранения моего — стихов, писем, дневников, с а м о й с в о е й ж и з н и (разрядка моя. — М. Ш.). Быть может, я поэтому только и живу — хотя бы так…»
«Только бросил тебе письмо, как тут же, придя с выходного, нашел в столе твое — второе, большое, то, что я ждал. Спасибо, что ты — такая…»
«Возле елки стоит темно-коричневый рижский чемодан, в котором спортивный костюм, белье, книги, бумага и конверты — то, с чем я еду в санаторий. Почему-то не хочется уходить из дома — столько одиноких ночей, дум передумано — и все это оставь, поезжай снова туда, где есть суета, есть люди — и нет людей… как надоело мне кочевать! 31-го не поеду — новогоднюю ночь проведу дома один — чтобы будущий год был более оседлым…»
«Я давно не младенец, но по-младенчески имею неиспорченное зрение на мир — вот мое спасение — моя Муза зрячая… личное и гражданственное — родня во мне и обретает свой голос все крепче и крепче…»
«Получил ответ от Стукалина… Ответ в двух словах не передашь — это ответ на все, что мною уже сделано в жизни. Я наконец понят как поэт — до глубины. Теперь иду второй волной (первая поднялась во мне семь лет назад — и я нашел себя)… 22.II.71 г.».
Вот она — радость, что его понимают. За год до кончины!..
«С семи утра бегал по горам, по колено в снегу, читал на ветру главы «Владыки». Был легким и не задыхался от бега, декламации и ветра. Там т-а-а-кой режет, но я был на высоте. Здорово!»
Это же «Ай да Пушкин!..» Но с Пушкиным рядом была няня. А с Алексеем?..
«Я перед отъездом на литературную пятницу, на рассвете дописал Дом Беды…
Пятница по людям была немногочисленной, объявление в «Коммуне» дали в самую пятницу (меня назвали А. Праслов!), но пришли главные в Воронеже. Господи, как все обнажилось в этих страшно разных, — болезненно-самолюбивых, тщеславных, искренних, — людях! Как они кидались в отзывах не на мои стихи, а друг на друга, как выражали себя — и высказывали единое: я взорвал самого себя — вчерашнего, который уже сковывал меня, я вынес свою стихию — живой! Кое-что назвали непривычным словом — антологичное.
Когда я еще прочел последнюю сцену из трагедии, старый писатель сказал:
— От этого холодновато внутри…
Как бы там ни было, я ушел, каким пришел, — самим собой. Хотелось дела…
А во мне — трагедия: хожу и разговариваю нутром — и умышленно не пишу. Придет тот час».
Вот и разговор с товарищами о своем творчестве. Сколько же здесь грусти… И за себя (А. Праслов!), и за коллег… И надобны немалые силы, чтобы остаться самим собой.
Последнее его письмо в правление Союза писателей РСФСР. Вернее, не письмо, а заявление.
«Обстоятельства вынудили меня обратиться к Вам с этим заявлением. А обстоятельства таковы. Я числюсь в составе Воронежской писательской организации со дня приема меня в члены Союза писателей — с мая 1967 года. Я поэт, имею три сборника стихов, изданных в Москве и в Воронеже, работаю над новой книгой «Во имя твое», которая должна выйти в этом году. Для творчества мне остается очень мало времени — ведь я работаю литсотрудником отдела партийной жизни районной газеты, которая требует полной отдачи рабочего дня и тебя самого. Зато я всегда среди тех, кто кормит страну, — среди колхозников в поле, на фермах. Работа в газете у меня на первом месте, литературное творчество — на втором. Ладно уж, ночь зато моя.
Но и ночью негде работать: я с женой живу на частной квартире. Здесь, в районе, надеяться на квартиру мне не приходится — в перспективе пока ничего нет. Скоро у нас будет ребенок, жить в таких условиях и писать невозможно.
В Воронежской писательской организации лежит уже не первое мое заявление о квартире. Не первый раз я слышу посулы. И только. Ничего конкретного нет. Район, где я работаю, в часе езды автобусом от Воронежа, бывать в литературной среде я могу редко — от случая к случаю. Да и что там делать? Ведь меня по привычке не приглашают даже на обсуждение журнала «Подъем», не включают в состав бригад, организуемых бюро пропаганды художественной литературы. Я уж здесь сам организовал два литературных вечера — в Доме культуры, в школе. Все это самостоятельность. Прошел очередной съезд писателей. С материалами съезда нас ознакомила «Лит. газета». В отделении Союза писателей, когда я спросил делегатов, никто не сказал ни слова о съезде, о впечатлениях, о сущем, ради чего делегаты ездили.
Л. Соболев на съезде сказал об участии — самом активном — писателя в газете. Да, пусть я в районной, пусть мой очерк о вывозке навоза, о привесах и тех, кто их добивается, но это — жизнь, которая возмещает недостаток, а вернее — полное отсутствие литературной жизни, которой хочется, которая в конце концов необходима писателю. Моя вынужденная отрешенность, отграниченность от организации не может больше рассматриваться как временное явление. Я должен писать, у меня есть чем и о чем писать, но где — даже этот вопрос стал уже многолетней неразрешимой проблемой. В одиночку я ее в моих условиях не могу решить, писательская организация для меня — поневоле — формальное понятие.
Извините за беспокойство. Но вопрос о своем положении писателя я считаю требующим решения и помощи в этом решении.
А. Прасолов.5 июня 1970.
Мой адрес:
Воронежская область, Хохол, редакция газеты «За коммунистический труд».
И книга «Во имя твое» в семидесятом не выйдет…
Да, уважаемый критик, «Воронеж в жизни Прасолова был…». Бесконечные поездки и переезды Алексея Прасолова иногда мне кажутся не только поиском самого себя, но и поиском людей, поиском сочувствия, поиском понимания.
«Я всегда среди тех, кто кормит страну…» Это Алексеем сказано не слова ради. Он произошел от этих людей, жил среди них, писал для них — и как поэт, и как журналист-газетчик. Несколько лет назад в воронежском журнале «Подъем» появилась интересная статья А. Свиридова «Алексей Прасолов — журналист».
С Прасоловым А. Свиридов познакомился в хохольской районной газете, где Алексей работал последние два года перед уходом на профессиональное положение писателя. Наблюдая Алексея изо дня в день, А. Свиридов пришел к выводу, что Прасолов был журналистом незаурядным. Ему под силу была работа в любом газетном жанре. Он был неутомим, оперативен, смел. За время своей работы только в хохольской газете Алексей Прасолов опубликовал более ста очерков, зарисовок, репортажей и передовых статей. А всего за двадцать лет работы в журналистике Алексей Прасолов опубликовал более двух тысяч очерков, репортажей, корреспонденции, критических статей.
«Хорошее, полезное дело сделали бы журналисты, работавшие вместе с поэтом, если б собрали, «вытащили» на свет все его газетные материалы, отобрали лучшие, проанализировали и познакомили с ними читателей», —
пишет А. Свиридов, и с ним нельзя не согласиться. Часть публицистики Алексея Прасолова должна войти в его будущие однотомники.
«Особым направлением в творчестве А. Прасолова, — пишет А. Свиридов, — следует назвать его боевые критические выступления».
Острые критические статьи Алексей всегда подписывал своей фамилией. Как газетчик в прошлом, я его хорошо понимаю. Это и чувство ответственности, и чувство гордости за свою работу. За материалы под своей фамилией Алексей Прасолов имел право не краснеть. Даже простое перечисление заголовков критических выступлений А. Прасолова о многом может сказать: «Папка под спудом», «Хорошим планам да еще бы действенность», «Красны дни, да считаны», «Горькие выводы», «Обещаниям уже не верят», «Наказание и совесть» и т. п.
Алексей Прасолов не раз поднимал нравственные проблемы: об отношении человека к своему делу, к родной земле. Читаем его статью «Кривой след»:
«На этом участке гектаров пятьдесят. Председатель и секретарь парткома спокойны: пять агрегатов к утру допашут. Казалось бы, все. Но жизнь не принимает всех наших «авось», «казалось бы» и прочих шаблонных словечек. Проходим еще раз по полю. Что такое? След от одного агрегата — ровная борозда, след от другого — что-то корявое, кривое, дико вывернутое наружу. Не пахота, а кощунство над землею».
Кто же виноват? Алексей Прасолов называет его.
«Стоял перед нами человек с немалым трудовым стажем. Был в руководителях. Сместили. Теперь Полухин пашет напропалую — лемеха горят! И ложится корявая, издевательская борозда этого пахаря рядом с чужой ему — ровной бороздой, которая и должна скрасить, затушевать эту злую полухинскую борозду.
А ее все равно видно».
Видно и кривую отношения к поэту и журналисту Алексею Прасолову в родном городе — из его же заявления.
Послав заявление в правление Союза писателей РСФСР, Алексей позвонил мне. Таким взволнованным я его никогда не чувствовал. Дождавшись заявления, я пошел с ним к секретарям правления, к председателю — Леониду Сергеевичу Соболеву.
Было послано письмо Л. С. Соболева областному руководству. Были звонки и в Воронежский обком партии, и в отделение Союза писателей.
Ходатайство правления вело к успеху дела.
Алексей снова позвонил мне. В трубке слышалось тяжелое его дыхание.
— Знаешь, я даже как-то и радости не испытываю. Но она придет, радость… Рая скоро разрешится… В конце года ждем наследство…
Помолчал и добавил, мне почудилось — улыбаясь:
— Если будет сын, назову твоим именем…
Я сказал ему «спасибо, Алеша» и никак не мог предположить, что близко… близко к исполнению его собственное предсказание.
Я умру на рассвете, В предназначенный час. Что ж, одним на планете Станет меньше средь вас… Окруженье все туже, Но, душа, не страшись: Смерть живая — не ужас, Ужас — мертвая жизнь.Да, наверно, никто не предполагал… А думал ли он сам о петле?.. Видимо, да. Отсюда — «предназначенный час…» Позже я слышал, что ему предстояла серьезная операция в связи с болезнью легких.
В конце концов квартиру Алексей получил. Но я знал терпеливость его к своим нуждам. Она была ровно такой, какой было его нетерпение помочь в нуждах другим людям.
Сквозят и даль и высота, И мысль совсем не странная, Что шорох палого листа Отдастся в мироздании. В осеннем поле и в лесу, С лучом янтарным шествуя, Я к людям утро донесу Прозрачным и торжественным.Люди, которые не слышали этого его желания, не слышали его простых житейских нужд, не отзывались на них, — вряд ли они думали об утре земляков своих, о судьбе своих сограждан.
Алексей Прасолов обрел квартиру. У него родился сын. И я позже узнаю, что он назвал его Михаилом. Он жаждал еще многое-многое написать. И тем больнее была весть о его уходе…
Вспоминая Алексея, перечитывая стихи его и письма, невольно думаю об одном совпадении. Из воронежских степей пришел в поэзию Алексей Кольцов — сын прасола. А сто лет спустя из тех же воронежских степей приходит в поэзию Алексей Прасолов. Самое большое событие в жизни Алексея Кольцова, оставшееся в истории, была встреча со своим великим современником Александром Пушкиным. И самое большое событие в жизни Алексея Прасолова, освещающее путь поэта, была встреча с великим нашим современником Александром Твардовским.
Есть в этом совпадении какая-то закономерность.
6 декабря 1986 года. Россошанское педагогическое училище отмечало свое шестидесятилетие. К этому дню было приурочено и открытие мемориальной доски памяти Алексея Прасолова. Хлопотали о ней давно. Училище было — за доску. Некоторые же товарищи сомневались: как же — Алексей покончил с собой… Но ведь так же ушли, напоминал я в горячих разговорах, и Есенин, и Маяковский, и Фадеев, наконец… А Лафарги?.. Есть в человеческом бытии обстоятельства, когда человек вправе распорядиться своей жизнью…
И вот памятный зимний день. Пасмурно с утра. Но солнце пробивается сквозь тучи и к началу митинга день уже кажется весенним. На площади перед училищем собралось много народу — учащиеся, преподаватели, жители города. Поговаривали, что приедет на митинг мать Алексея. Как она доберется из Морозовки? Каково ей будет слушать речи об Алеше, выдержит ли?..
Вера Ивановна не решилась приехать. Далеко в ее годы. Да и людям, как она сказала, лишняя забота.
Объявляют о решении горисполкома. Сдергиваю полотнище, которым была закрыта доска. На мраморе надпись: «Здесь в здании педагогического училища с 1947 г. по 1951 г. учился советский поэт Алексей Тимофеевич Прасолов. 1930—1972 гг.». Это ведь слова о том парнишке из села Морозовки, которого я впервые увидел здесь в сентябре сорок седьмого…
День 6 декабря останется светлым днем в истории культуры родного города, в истории нашей поэзии. Сегодняшняя, уже большая, популярность Алексея Прасолова — это только начало его нешумной славы.
Я счастлив, что судьба подарила мне многолетнюю дружбу с ним, счастлив, что в тот день был в Россоши…
Слушая выступающих, я мысленно видел Веру Ивановну, видел во дворе, где некогда бегал маленький Алеша… Низкий поклон ей за такого сына! Низкий поклон ей за все, за все, что пережило и переживает сейчас ее материнское сердце!.. Пусть утешит боль ее, пусть приносит ей радость мысль о том, что книги ее сына читают тысячи людей. Он нужен людям…
Приходит на память то, что сказал он однажды в письме: «Ищу выход. Будем жить».
Выход для себя как человека он нашел скорбный. Для него живая смерть не была ужасом. Ужасом была — мертвая жизнь.
1986
ЭХО ТИХОГО СЛОВА (об И. Борисове)
Когда в редакции журнала меня попросили написать рецензию на книгу стихотворений «Эхо тишины» Исаака Борисова, я отказывался: я не знал ее автора как поэта. Взглянув на портрет, я вспомнил, что раза два-три видел на писательских собраниях этого седого человека с тяжеловатым взглядом. Не торопясь он проходил по залу, сосредоточенно оглядывал присутствующих…
Я стал перелистывать книгу. Вроде стихи как стихи. Но вот где-то в глубине сборника читаю:
Мой голос — он не громыхал, как медь… Быть может, люди, я не понят вами? Когда-нибудь и вы, устав греметь, Начнете клясться тихими словами.И сразу я подумал: «Да, да. Это сказал тот, седой сосредоточенный человек». И сразу по-иному зазвучали для меня только что прочитанные и показавшиеся мне обычными стихотворения. Я почувствовал поэта.
Потом, кроме книги лирики «Эхо тишины», я прочитал однотомник Исаака Борисова «Триста признаний в любви».
Во вступительной статье к однотомнику Василий Росляков писал:
«…есть в горах гранитные скалы, из которых день и ночь по каплям сочится вода. Какая мощь выдавливает из гранита эти капли? Она, эта мощь, скрыта от глаз, но она есть, и о ней можно догадываться. Она удивительна своей глубинной емкостью. Когда глядишь на горный поток, можно думать об одних поэтах, когда смотришь на пробивающийся сквозь скалу родник, вспоминаешь стихи Исаака Борисова. Он предпочитает быть незаметным для поверхностного взгляда, неслышным для поверхностного уха, его смущает всякая поза».
Сравнение лирики Исаака Борисова с пробивающейся сквозь камень влагой очень точно. Но, признавая это, невольно думаешь: черт возьми, а мы все-таки чаще-то останавливаемся у шумящих потоков, привлекает внешняя красота. А утолить жажду предпочитаем из родника — в шумливом потоке частенько не та вода, не та чистота…
Свежесть и своеобразие поэзии Исаака Борисова, которая сравнительно недавно звучала лишь на родном его еврейском языке, хорошо почувствовали переводчики на русский.
Обычно в переводах виден прежде всего переводчик. И если переводчики разные, то и поэт предстает перед читателем в нескольких лицах — лицах своих переводчиков. И право же, в такой многоликости виноваты не всегда только переводчики!.. Но в книге Исаака Борисова, несмотря на то, что переводили ее совершенно не похожие друг на друга поэты, виден лишь один человек — автор. Несомненно, это произошло благодаря его таланту.
«Эхо тишины» в какой-то степени книга избранных произведений. В нее, кроме лирики последних лет, включены и ранние, еще предвоенные стихотворения, написанные «в шестнадцать мальчишеских лет», и стихотворения из фронтового блокнота. Это хорошо. Во-первых, это часть биографии представителя того поколения молодых людей, которые в июньские дни 1941-го уходили на фронты Великой Отечественной. Их вернулось немного, они последнее время отмечают свои пятидесятилетние юбилеи, а головы их давно побелели… Во-вторых, ранние стихи позволяют яснее понять творческое развитие поэта.
Первые стихотворения, мне кажется, написаны под влиянием еврейских народных песен, а также предвоенной песенной поэзии. Позже на творчестве Исаака Борисова сказалось сильное и благотворное влияние традиций русской классики и прежде всего — тютчевских традиций.
Непреходящую роль в жизни поэта сыграла война. Приближение ее он чувствовал мальчишеским сердцем — когда писал песню о «платочке аленьком», в котором ему виделось «полымя знамени», поднимающее на бой даже убитых.
Приметы войны, однако, в стихотворениях весьма общи. Поэт и в начале войны понимал, что пока «подлинной песни не найдено», но жестокие будни 1941 года уже врывались в строки.
Не по приметным звездам небосвода — Свой путь искали мы руками по земле, Колени в кровь разбив о пни в кромешной мгле, Так бьются льдины в пору ледохода. Ни мужество, ни воля не иссякли. Вам камни и трава расскажут — верьте им! Мы путь назад найдем по памяткам своим — В залог мы оставляли крови капли.Жестокие будни войны заставили увидеть, как «мать вышла со мною проститься, мгновенно состарясь», услышать, как «весь мир полон утренним многоязычьем — серьезностью пчел, легкомыслием птичьим…»; услышать в себе заветное желание «встать со жнецами», «ладонью почувствовать тяжесть колосьев…».
Истинно человеческое оставалось и на войне человеческим. Испытания лишь укрепляли его.
Есть у Борисова стихотворение «Мой друг», мужественно рассказывающее о солдате, который —
Когда в поля зеленой ржи Звала команда нас, Когда врезаться телом в грунт Повелевал приказ, — Мой друг сплетения корней, Разметанных огнем, Своим дыханьем согревал И влажных щек теплом. Когда валились спать в росу На травах и цветах, Когда в ногах лежала смерть. А битва — в головах, — Мой друг никак не мог уснуть, Все думая: о чем Здесь ветер с ветром говорит, Былинка с колоском? И там, где места — в аккурат Убитому лежать, Он мог всю ширь и даль земли К груди своей прижать.Сердечное чувствование всего живого, вдумчивая жажда жизни вызвали у поэта в окопах великой войны образ тишины, проходящей теперь через всю его поэзию. Той тишины, в которой можно ощутить самого себя, в которой встает перед глазами прошлое — а оно тебе так необходимо! Тишины, в которой постигаешь природу и любовь; тишины, в которой мучительно думаешь об ответственности каторжного и благословенного дела творчества, о родной и любимой земле своей.
Такая тишина становится символом всего доброго, и на это доброе откликается душа читателя.
Ты эхо слушаешь самозабвенно, Когда растает голос твой вдали, И дрогнет даль, нарушив сон земли, И каждый звук вернет тебе мгновенно. Ты весел — даль весельем отвечает, Рыдает, услыхав печаль твою, И посылает эхо, как судью, Что ни одной ошибки не прощает.Для рождения отклика тоже нужна тишина. Поэзия Исаака Борисова не предназначена для эстрадного чтения. С ней на эстраде будет трудно. Нет, стихотворения его — глубокие по мысли и чувствам миниатюры — надо читать в тишине, один на один с собой. И тогда произойдет то, что происходит при встрече с поэзией — начинаешь глубже понимать себя, существо своей жизни.
А дальше что?.. А что же дале?.. В полунощном бессонном дне Года светильниками встали Вдоль жизни, по ее длине…А что же дале?..
А дале…
Нет на маститость и намека, Не столь перо еще остро… Есть жажда все успеть до срока И оплатить добром добро.Прожитые годы-светильники освещают завтрашний день. Поэт идет в него, как мы видим, с доброй и ясной целью.
Глагол настоящего времени в последнем предложении теперь надо сменить на глагол прошедшего.
Поэт шел…
Он умер внезапно. И не от старости — ему не исполнилось и пятидесяти, а от старых ран, как сказал другой поэт. Умер, так и не утолив жажду «все успеть до срока», но сполна оплатив добром добро.
1973
О ЮРИИ ГОНЧАРОВЕ
Уж так повелось, что имя художника, музыканта, ученого — любого человека, добро живущего или жившего на земле, навсегда связывается с местом его рождения, его интересов, забот и долгих трудов. Родные места, как правило, остаются на полотнах, на страницах книг, в музыке.
Писатель Юрий Гончаров родился и живет в Воронеже — городе, глубоко вошедшем в его судьбу, в его писательскую работу. Если вы пройдете с ним по Воронежу, вы почувствуете волнение сторожила, когда он будет рассказывать о знаменитых народных поэтах нашего степного края Кольцове и Никитине, когда он вам покажет чудом сохранившийся дом, который был колыбелью Ивана Бунина; на дорогах воронежского Придонья вспомнит Александра Эртеля, которого так высоко ценил Лев Толстой, поведает о своих раздумьях над книгами Андрея Платонова, о пребывании в Воронеже царя Петра накануне Азовского похода. Вы узнаете из уст Юрия Гончарова негаснущие подробности сражений под Воронежем в огненное лето сорок второго… Вам будет названо множество людей — старых революционеров, к которым принадлежал и его отец, студентов, заводских рабочих, деревенских тружеников. Своим простым и величественным обликом на них — именно на них! — походят герои гончаровских рассказов и повестей.
Юрий Гончаров принадлежит к поколению тех юношей, которые в трагическом сорок первом с выпускных школьных вечеров уходили на фронты Великой Отечественной, на сооружение заградительных линий перед нашествием фашистских полчищ, на уборку урожая, к заиндевелым станкам эвакуированных на Урал военных заводов.
И так уж устроено сердце художника — все пережитое, все выстраданное и осмысленное оборачивается произведениями искусства и литературы, не оставляющими читателя и зрителя равнодушными.
Юрий Гончаров пришел в литературу не развлекать читателя. Его книги — не чтиво на сон грядущий.
Что это так — легко убедиться, читая любую вещь писателя.
Вот повесть «Сто холодных ночей»… Она переносит нас в далекую и еще такую близкую военную пору. Она сразу захватывает, берет за сердце. Герой ее Леня Гаврилов — чистейший и честнейший юноша — один из поколения ребят 1923 года рождения, которых теперь можно пересчитать по пальцам, — так мало их пришло с войны… Леня тоже рвется на фронт, но из-за болезни глаз его не берут в армию. Ему выпадает на долю эвакуироваться с больным отцом и матерью из родного Воронежа, к которому подкатываются немецкие войска. Ему выпадает на долю житье в эвакуации, в далеком холодном и голодном уральском городке; ему до призыва, наконец-таки, в армию суждено пережить смерть отца…
Обо всем этом он рассказывает сам. Рассказывает с волнующей искренностью, с подкупающей достоверностью каждой детали. Прочитав повесть, читатель, особенно молодой, думается, яснее и глубже поймет — почему добровольно уходили на фронты Великой Отечественной ребята того поколения, почему они вышли победителями в страшной войне.
Прочитайте страницы о лекции преподавателя Г. И. Куликова.
«…сейчас откроется дверь, войдет Григорий Иванович.
Его предмет — древняя русская литература. «Слово о полку Игореве», «Задонщина», «Плач о разорении рязанской земли»…
«Слово» было у нас и в школе. От него осталось впечатление томительной скуки, чего-то малопонятного, безнадежно архаичного, ничем и никак не затрагивающего. Текст ломал нам язык, он звучал тарабарщиной, его надо было переводить, как иностранный, чтобы уразуметь смысл. Потом эта манера преподавания нашей Щуки: «Найдите, какие эпитеты выбрал автор для характеристики решимости князя Игоря победить половцев… Какие выражения свидетельствуют о верности и любви Ярославны к своему мужу? Какие мысли выразил автор в том месте, где он говорит…»
Но здесь с нами Григорий Иванович. И все — как впервые, как узнаваемое заново.
…Теперь я захвачен чудом, наглядным, таинственным чудом, производимым словом. Давнее, отшумевшее, рассыпавшееся прахом, сгинувшее без следа, оставшееся только в слове, самом невещественном из материалов, оказывается, не подвластно времени. И через восемь веков живет оно во всей своей яви, во всей своей зримости, во всей силе страстей, борений, горестей и бед. Нет, не ушла эта жизнь напрочь, не покинула потомков навсегда, — сквозь толщу времени, сквозь пласты столетий тянется связь!
Она даже в том — и это как-то по-особому меня волнует, — что именно на Воронеже, не в городе, его тогда еще не было, а на реке, на ее лесистых берегах, мне знакомых, встретились рязанские князья и послы надвинувшейся из Азии татарской рати, пришедшие объявить рязанцам, чтоб они покорились и платили дань, иначе они будут погублены огнем и мечом, а все их пределы — опустошены.
Это было на моей реке, и это предстает мне так зримо, как будто я был всему этому свидетель… Представляю, каким огнем зажглись их глаза (русичей-предков. — М. Ш.), сколь велико было их гордое негодование на дерзость неведомых пришельцев… все человеческое и тогда уже было с ними, все чувства, понятия: они знали, что такое честь, родина, долг перед нею, слава и бесславие, позор в глазах потомков. И — ах! как же великолепно, как мужественно и как гордо ответили они татарам! «Лучше головы своим сложим, нежели срам земле своей понесем. Все ваше будет — только когда нас не станет!»
За дверью осторожное, нащупывающее постукивание палки, раз-другой она ударяется в дверь; входит Григорий Иванович Куликов…»
Хочется возвращаться и возвращаться к лекции Куликова! Ее невозможно читать без волнения.
Сначала перед вами — просто обыкновенный слепой человек. Несколько абзацев — и вы уже сидите в студенческой аудитории и вместе с Леней Гавриловым, вместе с его друзьями видите в Куликове «живую частицу тех древних времен», он уже не преподаватель, а древний певец во стане своих потомков, и его палка кажется посохом…
Усталый от вдохновения, «Григорий Иванович опускает голову. В аудитории тихо, и в здании тихо, и слышно, как где-то вдали катится протяжный, гремучий гул, гремят по рельсам спешащие на запад поезда.
Туда, где тоже — «токмо дым и пепел…»
Как и рассказчика, вас «совсем как боль пронизывает вдруг чувство родины — чувство сомкнувшегося времени и расстояния, чего-то огромного, и бесконечного и неохватно протянувшегося, но единого и нерасторжимого, что нельзя разорвать, разделить на части, что может существовать только единым целым и что есть моя подлинная родина, Россия, чье извечное и ушедшее было название волею самой жизни вновь воскрешено в языке…»
И когда в конце книги Леня Гаврилов лежит в окопе на Курской дуге перед надвигающимся на него немецким «тигром», вы вместе с Леней сжимаете в руках противотанковое ружье. Танк все ближе. Вот он постепенно открывается, становится доступным ружью. И вы выдыхаете:
«Пора!»
«Все ваше будет — только когда нас не будет!»
Захватить нашу землю можно, лишь уничтожив народ наш. Но народ не уничтожишь. Народ бессмертен.
Эта мысль живет в вас на протяжении всего чтения повести, укрепляется в сердце. Читаете ли вы сцены жизни в прифронтовом Воронеже или сцены эвакуации, сцену похорон отца или раздумья рассказчика, — все живо встает перед глазами, все современно.
«Дезертир» — смелая для своего времени повесть (написана в 1961 году). Не каждому писателю под силу взяться за тему дезертирства. Юрий Гончаров достигает здесь большого мастерства в раскрытии психологии человека, увернувшегося от исполнения своего долга. Вся повесть написана беспощадно точно, оставляет очень сильное впечатление. Особенно удачен в ней, так сказать, метод контраста: отъезд на войну людей, верных долгу, — и бегство Игната; добрые борозды на родной земле Мешкова, родича Игната, вернувшегося с войны, — и бесследное существование Игната; буйное обновление природы — и смерть в эту пору ненужного человека…
Дезертирство — уход в небытие — вот суть повести. Неумолимая суть.
Одно из лучших, на мой взгляд, произведений в нашей литературе о Великой Отечественной войне, — это повесть «Неудача» («Теперь — безымянные»).
К этой повести писатель шел через «Дезертира». Он знал, что ему предстоит, и как бы набирался силы на главную работу.
Повесть сделана по всем законам трагедии. У нас не много книг, в которых бы брались в основу повествования эпизоды собственного «разгрома». Чаще исследуются удачные сражения. Юрий Гончаров взялся за самое трудное — показать характер родного народа, его силу в поражении. Как чуткому и бесстрашному художнику, ото ему в высшей степени удалось.
Потрясает финал повести. Наступление, которое должно было освободить город, не состоялось, «…дивизия израсходована зря». Что случится, ясно было до его начала. А теперь — «произошла неудача, противник оказался сильнее…» И вот — «…предстояло доложить Ставке — потребности в новых людских пополнениях, боематериалах, транспортных средствах». То есть о том, что надо было мужественно требовать перед наступлением, временно отодвинув срок его.
«Битва… затихла — обессиленно, утомленно, на широкой дуге фронта, огибающей город, все молчало. И только из догорающего здания больницы по временам еще доносились одиночные хлопки выстрелов, короткое карканье пулемета, тревожа ночную тишину. Кто-то там был еще жив, еще воевал, отстреливался, не хотел сдаваться…»
Да, «все ваше будет — только когда нас не будет!»
Повесть написана на основе действительного эпизода, который произошел под Воронежем. Однажды Юрий Гончаров повез меня в район старой областной больницы. Это была волнующая поездка. Он показывал мне линию фронта, места самых жестоких боев… Все рассказывал так, будто сам участвовал в этих боях. Готовясь к работе над повестью, он все здесь обошел и облазил, как говорится, лично во всем удостоверился. Отсюда и убедительность его повествования.
Широко известны повести Юрия Гончарова «Нужный человек», «В сорок первом», «Целую ваши руки», рассказы «Порог», «Часовых дел мастер», «Далеко от Родины», «Хлеб наш насущный»… «Неудача» («Теперь — безымянные») и тогда же, в начале 60-х, написанная повесть «Сын» — вершинные произведения писателя.
Юрий Гончаров с трепетным уважением относится к отечественной литературе и ее истории, к их подвижникам, к их добросовестным служителям. Не случайно им написаны книга о предках Бунина, воспоминания о Паустовском.
Научное исследование «Предки Бунина» содержит целый ряд неизвестных доселе фактов. Считалось, например (и Бунин так считал), что предки его — выходцы из Литвы. На самом же деле они — уроженцы центральной России, коренные русские люди. Это документально доказано в книге.
Могут задать вопрос — к чему все это? Не кичливость ли это у Бунина?
На них отвечает автор. Во-первых, родословная Бунина мало исследована, сам Бунин имел довольно смутное представление о ней. А во-вторых,
«…право, не такой уж грех и грех ли вообще — помнить о своих предках и испытывать к ним уважение, особое чувство от родственной связи с ними, если среди них такие отмеченные талантом и всероссийской славой личности, как поэтесса А. П. Бунина, поэт Жуковский, всемирно известный ученый Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский… если еще в XV столетии началась служба Буниных российскому государству, служба… знавшая и ратные поля, и кровавые раны, и смерти в жестоких схватках с иноземными завоевателями, угрожавшими русской земле…»
Юрий Гончаров показывает предков И. А. Бунина на широком историческом фоне и тем самым заставляет глубже задуматься над историей родной земли, родного края, глубже понять истоки творчества одного из крупнейших писателей России.
Общеизвестно признание К. Г. Паустовского о любви к Мещере, но не все, даже его почитатели, знают, что Константин Георгиевич любил черноземный край, время от времени наезжал туда и подолгу жил там, путешествовал по лесам Воронежского заповедника и по селам Черноземья, рыбачил на тихой речке Усманке; что у него осталось на Воронежщине много друзей среди колхозников, среди деревенских мальчишек, с которыми он часто беседовал; что впечатления писателя вошли в его произведения.
И хорошо, что во время пребывания К. Г. Паустовского на Воронежщине был рядом с ним, сопровождал его во многих поездках Юрий Гончаров. Хорошо и то, что он, вопреки отрицательному мнению Паустовского о записных книжках, не расставался, видно, с ними, — мы теперь можем читать волнующие страницы из жизни писателя.
К. Г. Паустовский создал целую галерею литературных портретов художников, писателей, певцов, музыкантов. Как бы в ответ на эту большую работу, Юрий Гончаров создал портрет самого К. Г. Паустовского, доброжелательного и принципиального, человека большой культуры.
Портрет складывается естественно, по мере чтения всего повествования. Вместе с автором видишь писателя впервые, жадно вглядываешься в его лицо, удивляешься, что он не такой, каким ты его представлял, читая его книги; навсегда запоминаешь его руки — руки неутомимого трудолюба. Вместе с автором радуешься простоте и мечтательности его, все большей откровенности в разговорах; радуешься тому, что ты теперь лучше узнал его и он стал тебе ближе и необходимее. И как бьет по сердцу непоправимое — траурная рамка вокруг родного лица, ощущение трагедийности естественного, ритуальные цветы у гроба!..
Юрий Гончаров благоговеет перед Львом Толстым. Заветы гения русской культуры для него — мерило отношения к своему писательскому труду и поведению, к труду и поведению товарищей по перу. В нем живет чувство гордости за тех сверстников, которые изведали горечь военных лет, прошли от Сталинграда и Курской дуги до Берлина и Праги, а затем создали честные книги о самой страшной в человеческой истории войне и высоким словом правды служат миру.
Когда-то Юрий Гончаров мечтал закончить Воронежский лесной институт и заботиться о родных лесах, обретя в этом доброе служение земле. Мечтам не суждено было сбыться, помешала война. Но любовь к природе, ко всему живому он пронес и сквозь холодные ночи эвакуации, и сквозь жестокие бои на подступах к Днепру, где был тяжело ранен, и сквозь голодные послевоенные годы.
Суровое время отразилось на характере писателя. Он непросто сходится с людьми. Он не толкается по редакциям столичных журналов и потому до сих пор чаще всего печатается в воронежском «Подъеме» и Центрально-Черноземном книжном издательстве. Впрочем, это не помешало Юрию Гончарову приобрести большую известность, произведения его переведены на европейские языки, в 1986 году ему присуждена Государственная премия РСФСР им. А. М. Горького.
Юрий Гончаров — необыкновенный упрямец. С ним нелегко спорить. Он неутомимо отстаивает свое мнение. Книги его написаны от сердца, с полным напряжением духовных и творческих сил.
И еще одно. Может быть, самое главное. Л. Н. Толстой писал:
«…Люди, мало чуткие к искусству, думают часто, что художественное произведение составляет одно целое, потому что в нем действуют одни и те же лица, потому что все построено на одной завязке или описывается жизнь одного человека (Ах, как много у нас «мастеров», делающих «эпопеи», да еще такие толстотомные, исключительно по такой методе! — М. Ш.). Это не справедливо. Это только так кажется поверхностному наблюдателю: цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения к предмету».
Произведения Юрия Гончарова, каждое в отдельности и вместе, едины именно по его «самобытному нравственному отношению к предмету», то есть к земному бытию, и представляют собой правдивую картину жизни родного народа с предвоенного времени до наших дней, жизни «прекрасной и яростной». Постигаешь эту картину, и в душе рождаются чувства искренней благодарности ее автору — художнику большого гражданского мужества и таланта.
1975—1986
Примечания
1
Ружье системы Александра Петровича Ивашенцева.
(обратно)2
Народный комиссариат путей сообщения.
(обратно)3
Роддом имени Грауэрмана на Арбате, в Москве.
(обратно)4
Шпиль — название поля. (Прим. автора.)
(обратно)5
Форма рассказа продиктована анкетой кафедры методики преподавания литературы Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена.
(обратно)
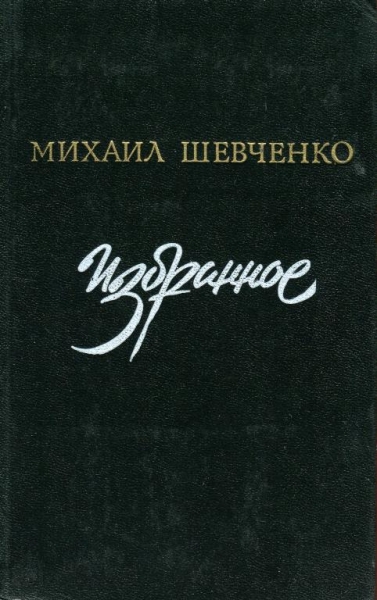


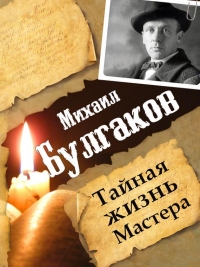
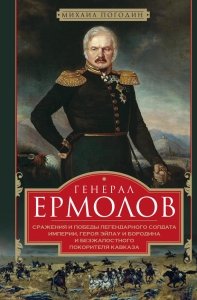
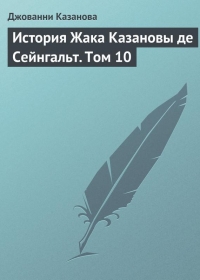

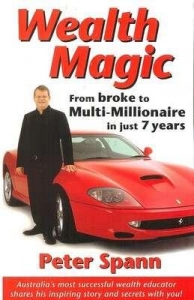

Комментарии к книге «Избранное», Михаил Петрович Шевченко
Всего 0 комментариев