Мемуары Михала Клеофаса Огинского
О Польше и поляках
С 1788 года до конца 1815 года
Перевод с французского
В двух томах
том I
(1765–1833)
Перевод осуществлен по:
MÉMOIRES DE MICHEL OGINSKI, Sur la Pologne et les Polonais. Depuis 1788 jusq’à la fin de 1815. Tome premier. PARIS, BARBEZAT ET DELARUE, ÉDITEURS, Rue des Grands-Augustins, № 18. GENÈVE, MÊME MAISON, RUE DU RHÔNE, № 177. 1826.
MÉMOIRES DE MICHEL OGINSKI, Sur la Pologne et les Polonais. Depuis 1788 jusq’à la fin de 1815. Tome second. PARIS, CHEZ L’EDITEUR, Rue des Grands-Augustins, № 18, CHEZ PONTHIEU, LIBRAIRE, Palais-Roval, Galerie de Bois. GENÈVE, BARBEZAT ET DELARUE, LIBRAIRES. 1826.
© Чижевская Е. А., Казыро Л. А., перевод на русский язык, 2016
© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2016
Предисловие
Я никогда не имел претензии именоваться автором и потому не намеревался представлять публике эти «Мемуары», так как писал их для своих детей и для друзей. Я лишь хотел рассказать им о необыкновенных событиях, свидетелем которых был сам. Я хотел, чтобы они хранили память о несчастьях, жертвой которых пала их родина; и еще хотел набросать для них правдивую картину поведения, которого я всегда придерживался, чтобы доказать на своем примере, что среди самых разнообразных превратностей судьбы подлинное утешение нам дает только уверенность в том, что мы всегда выполняли свой долг.
Я нисколько не желал быть предметом для разговоров и потому не давал себе труда опровергать статьи в иностранных газетах и упоминания в различных произведениях, касающихся Польши, в которых шла речь обо мне лично. Однако я заметил, что моя беспечность на этот счет привела к тому, что обо мне стали говорить, не принимая в расчет меня самого. В различных изданиях «Современной биографии» я нашел абсурдные утверждения на мой счет, в которых к тому же извращенно подавались важные факты из истории моей страны. Тогда я решился предоставить для опубликования эти «Мемуары», тем более что мои друзья уже давно требовали от меня решиться на этот шаг[1].
Уступив настояниям многих лиц, которые уже были частично знакомы с «Мемуарами», я озаботился не столько восстановлением того, что касалось лично меня, сколько тем, чтобы исправить ошибки в фактах и датах последних событий в Польше и правдиво и точно описать те из них, к которым сам имел большее или меньшее отношение.
Приняв такое решение, я должен пояснить следующее. Я начал служить родине еще совсем молодым и последовательно занимал следующие должности: представителя Законодательного корпуса, члена Финансовой палаты, чрезвычайного посла в Голландии, назначенного вкупе для выполнения миссии в Англии, главного подскарбия Литвы, военного в период революции в Польше, представителя польских патриотов в Константинополе и в Париже. Затем, в период эмиграции, на несколько лет устранился от дел и наконец императором Александром был назначен в Сенат Петербурга. Неудивительно, что те, кто привык судить о человеке лишь по внешности, могли относить меня поочередно то к аристократам, то к якобинцам, считать сторонником то Франции, то России.
Эти заблуждения на мой счет, несомненно, исчезнут при чтении этих «Мемуаров» и уступят место пониманию того, что мною всегда двигало единственное и исключительно властное чувство – это любовь к родине. Иногда она вводила меня в заблуждение, толкала на неосторожные поступки из-за доверчивости и поспешного стремления следовать первым движениям души, но чувства не рассуждают, и чувство любви к родине, конечно, извинительно, даже в своих ошибочных последствиях.
Те, кто меня знает и делил со мной преданную службу родине, прочтут этот труд с интересом. В нем они узнают обычную мою манеру думать, чувствовать и изъясняться. Они вспомнят различные периоды жизни, в которые меня знали, смогут освежить в памяти факты, которые им в основном известны, но подробностей которых они не знают. Они с удовольствием перечитают описание различных ситуаций, в которых я оказывался и отдельные из которых могли бы показаться взятыми из романов, если бы после всех событий, случившихся во время революций, еще что-то могло бы казаться невероятным и если бы ныне живущие свидетели не могли подтвердить правдивость всех тех фактов, что изложены в данных «Мемуарах».
Те же, кому мое имя неизвестно, пусть извинят меня за большое количество деталей, которые им безразличны, – это сделано ради весьма интересных сведений о событиях в Польше, многие из которых неизвестны широкой публике.
Поскольку я являюсь поляком, предметом моего повествования выступает Польша, и я исключил большое количество своих наблюдений и заметок, касающихся политических дел в Европе, оставив описание лишь тех событий, которые имели более или менее прямое отношение к моей стране.
Не следует удивляться тому, что представитель Польши создал эти «Мемуары» на иностранном языке. Я имел привычку делать записи по-французски, и я представляю их здесь (с незначительными изменениями) в том виде, в каком собрал их для личного пользования. Этим пояснением я надеюсь заслужить снисхождение читателей за те ошибки языка и стиля, которые могут здесь встретиться.
Если мой возраст и болезни не оставят мне времени опубликовать эти записи на языке моей страны, я льщу себя надеждой, что среди моих соотечественников найдется верный друг, который избавит меня от труда переводчика.
Введение
Завершилось последнее тридцатилетие восемнадцатого века и началось новое столетие. Если же довелось человеку оказаться свидетелем событий самых необычайных и неожиданных, которые заключал в себе этот период, и даже не просто зрителем, но иногда и действующим лицом в разнообразных его эпизодах, то невозможно устоять перед необходимостью отметить главные его свершения и запечатлеть на бумаге свои наблюдения, воспоминания и рассуждения.
Это была борьба английских колоний Северной Америки против метрополии, долгое время вызывавшая сомнения. Завершилась она, однако, завоеванием свободы и независимости Соединенными Штатами и преподала народам урок отстаивания своих прав в борьбе против насилия и угнетения. Это было царствование Фридриха II, короля-философа, писателя и воина, который, будучи то побежденным, то победителем, в результате сумел расширить владения Пруссии за счет соседей и обеспечить ей достойное место среди государств Европы. Царствования Иосифа II и Екатерины II повлекли многочисленные реформы и существенные изменения в мышлении правителей и их народов. Два первых раздела Речи Посполитой расчленили на части эту страну, а за ними последовал третий и последний раздел, который стер с карты само ее название; затем последовало восстановление Королевства Польского русским императором Александром. Свершилось падение монархии во Франции и превращение ее в республику. Затем имел место постепенный переход этого нового образа правления, через смену разных режимов, к деспотии Наполеона и, наконец, возврат к конституционной монархии и династии Бурбонов. Имели место революции в Нидерландах, Бельгии, Испании, Португалии, в Неаполе, Пьемонте и Греции. Все эти памятные события следовали одно за другим в течение всего лишь пятидесяти лет и вызывали изумление всякого их свидетеля, способного чувствовать и мыслить.
Я не упоминаю здесь о королевствах, которые разрушались, едва успев возникнуть; о королях, едва успевших короноваться и тут же свергнутых с тронов; о республиках, в течение веков бывших независимыми и оказавшихся вдруг включенными во владения соседних государств; о жестоких войнах, в которых была пролита кровь миллионов людей; о жертвах фанатизма и преследований за политические убеждения, – ведь все эти события были лишь естественным следствием общего потрясения и полного разрушения всех форм и принципов, составлявших прежде основу политической системы в Европе.
Никто не сможет отрицать, что этот полувековой период заключал в себе гораздо больше необычайных событий, чем их было отмечено в исторических анналах нескольких предшествующих веков. Все они следовали одно за другим с такой быстротой, что опрокидывали расчеты самых опытных политиков и приводили к результатам, которых нельзя было ожидать.
Этот стремительный ход событий повергал в шок даже те силы, которые их же и породили, – и это, несомненно, должно быть отнесено на счет самого духа времени и прогресса просвещения, которому нельзя устанавливать сроки и который нельзя произвольно остановить. Влияние просвещения, противодействие, которое оно встречает со стороны предрассудков и невежества, и действия, которые предпринимает дух просвещения в ответ на эти препятствия, – все это неизбежно порождает эффект непредвиденный и поразительный.
Газеты, которые редко бывают правдивыми и часто противоречат одна другой; современные произведения, авторы которых часто поддаются чувствам, навеянным страхом, или впадают в заблуждения из партийной предвзятости и порождаемых ею страстей, – все они не могли точно передать те необычайные события и отдать себе должный отчет о тех величайших последствиях, которые вызвала французская революция в разных концах мира.
Только время сумеет вскрыть всю правду, и рано или поздно она обнаружится в последующих писаниях – для них не один свидетель имел возможность на покое оставить богатые материалы. Только тогда, когда исчезнут иллюзии, можно будет непредвзято судить о причинах и следствиях, только тогда можно будет легко найти объяснения тому, что сейчас кажется непостижимым. И тогда наше потомство сможет верно судить о действиях народов, оно даст оценку тем разнородным идеям, которыми народы были разделены. Оно сумеет отличить великого человека от узурпатора, фанатика, вдохновленного любовью к родине, – от фанатика, движимого только тщеславием и честолюбием, честного человека – от лицемера, надевшего маску. Потомство отведет каждому, кто отметился в эту бурную эпоху, то место, которого он заслуживает.
Среди народов, особо отметившихся своим мужеством, добродетелями, своими бедами и стойкостью в них, поляки заслуживают, бесспорно, выдающегося места. Я не говорю о тех поляках, которые в давние века держали в страхе соседей силой своего оружия и простирали границы своей страны от Волги до Одера, – я не задерживаюсь на тех блестящих эпохах, когда Польша была одной из самых могущественных стран в Европе. Я не буду называть здесь имена королей, оставшихся в памяти потомства своими военными подвигами, или мудростью своих законодательных установок, или защитой интересов крестьян, или организацией органов правосудия, или покровительством наукам и искусствам. Я не буду также называть великих государственных деятелей и полководцев, которые прославили Польшу в предыдущие века; я обойду молчанием ученых правоведов, историков, ораторов и знаменитых поэтов, которыми могла гордиться страна в те времена, когда многие европейские народы были еще отсталыми в смысле их просвещенности.
Я говорю здесь только о тех поляках, которых знал за последние пятьдесят лет, – озлобленных, преследуемых, угнетаемых соседями. Они видели свою страну раздираемой гражданскими войнами, к которым подталкивали ее враги, чтобы ослабить ее, разделить и погубить окончательно. Я говорю о тех поляках, которые видели свою родину раздираемой на клочья и вовсе исчезающей с политической карты Европы, но не переставали ее любить и жаждали отдать свою жизнь, чтобы увидеть ее возрождающейся из пепла. Я говорю о тех поляках, которые посреди смуты и бурь, свирепствовавших в стране, неизменно сохраняли мужество, презирали угрозы, противостояли искушениям, вынужденно уступали силе, не сгибаясь при этом униженно и не уклоняясь с пути чести и долга. Я говорю о тех поляках, которые бестрепетно отправлялись в Сибирь, но не отказывались от своих патриотических убеждений; о тех, кто в эпоху конституционного сейма отдал все свои силы и состояние на службу родине; о тех, кто пришел под знамена Костюшко, чтобы мужественно смыть собственной кровью бесчестье и позор, которыми старались покрыть польскую нацию; о тех, наконец, кто не переставал трудиться ради восстановления Польши и еще надеялся быть ей полезным.
Напрасны были попытки очернить национальный характер поляков – именно в нем искали причины упадка и гибели страны. Класс земледельцев в Польше, действительно, не был просвещенным, но он и не был развращенным. Кражи, убийства и прочие преступления не были известны этой стране – даже сегодня, когда она разделена на части и находится под разным правлением, преступления в ней совершаются редко. У народа малые потребности – для жизни ему достаточно его труда. Дворянство с детства приучено к оружию и верховой езде, нетерпимо к рабству и иноземному игу; ему достаточно было иметь бесстрашного и предприимчивого вождя, который повел бы его в бой, и оно умело храбро защищать свои владения, защищая границы своей страны. Магнаты, или аристократы, которых и обвиняли главным образом в катастрофах, постигших Польшу (они затевали внутренние распри и устраивали анархию в стране), были более других классов заинтересованы в сохранении целостности страны: их богатые владения, их влияние на государственные дела, права и привилегии, которыми они были наделены, были мощными мотивами, привязывавшими их к родине, – поэтому они ненавидели деспотизм и испытывали отвращение к иноземному владычеству. Можно добавить также, что их образование было весьма тщательным; в большинстве своем они считали честью иметь среди своих предков выдающихся государственных и военных деятелей, проявивших себя на службе родине, и они постыдились бы не последовать их примеру, запятнать свою репутацию и обесчестить имя, которое носят. Таким образом, нужно отдать им справедливость в том, что их действиями руководила любовь к родине и к славе не меньше, чем желание сохранить свои права и владения. Среди этих действительно больших сеньоров, бесспорно, не было ни одного, кто замарал бы себя, продавшись какому-либо иностранному двору, и пожертвовал бы благополучием своей страны ради своих амбиций или состояния. Многие могли быть в заблуждении и ослеплении относительно интересов своей родины, многие могли быть сбиты с толку собственным тщеславием и себялюбием, но ни один не заслужил быть зачисленным в разряд предателей.
Летописи Польши сохранили для потомства выдающиеся имена Тарновского, Замойского, Жолкевского, Ходкевича, Чарнецкого, Собеского и многих других – представителей знатных семейств, которые своими талантами или военными подвигами отличились перед родиной в предыдущие века. Не вызывает сомнения, что и современная история посвятит несколько страниц Каролю Раздивиллу, Огинскому – великому гетману литовскому, Вельгорскому, Пацу и многим другим высокопоставленным вельможам, которые, конечно, не имели возможности проявить себя столь же блистательными деяниями, как уже упомянутые здесь, но которые пожертвовали огромными состояниями и лично подверглись всем опасностям войны во время Барской конфедерации накануне первого раздела Речи Посполитой в 1773 году[2].
Разве не заслуживают высокой похвалы представители знатнейших польских семейств, которые со времени конституционного сейма и до восстановления Польского королевства российским императором Александром подвергались всевозможным преследованиям и страданиям? Ведь они отказались от своего высокого ранга, состояния и пренебрегли всеми опасностями и самой смертью, чтобы послужить родине!
Не вызывает сомнения, что упадок и гибель этого государства были неизбежным следствием той анархии, которая установилась в Польше из-за порочной формы ее правления и вызванных ею злоупотреблений, а также из-за стремления к роскоши и развращенности нравов. Однако необходимо вернуться к началу 18 столетия, чтобы обнаружить подлинный источник несчастий Польши и разложения ее системы правления.
К тому времени Пруссия, перед восшествием на престол Фридриха II, была стеснена в своих границах. Россия нуждалась во внутренних преобразованиях более, чем в новых завоеваниях. Венский двор должен был считаться с поляками, у которых он запросил и получил действенную помощь против вторжения турок. Таким образом, Польша неизбежно оказывалась в центре внимания всей Европы.
Ее плодородные почвы производили разного вида продукцию и обеспечивали ей тем большую прибыль от торговли, что вывоз товаров значительно превышал ввоз в нее иностранных товаров, весьма ограниченный в то время.
Поляки чувствовали себя достаточно сильными, чтобы противостоять нападкам соседей; они занимались приращением своих богатств, купались в золоте и серебре и не предвидели, что цветущее состояние их страны возбудит однажды зависть сопредельных государств и навлечет на них самих целую череду несчастий.
Смерть Яна Собеского стала собственно отправной точкой для всех тех катастроф в Польше, которые постепенно привели ее к упадку и гибели.
Едва Ян Собеский ушел в иной мир, как многие суверенные властители Европы загорелись честолюбивыми желаниями заполучить польскую корону, которая давала им большие преимущества – возглавить воинственную нацию и получить власть над страной обширной, плодородной и богатой.
Главными кандидатами на польский трон были принц Конти, выборный монарх Баварии, герцог Лотарингский и выборный представитель Саксонии. Каждый из них старался заручиться поддержкой поляков, устраивал переговоры, обрабатывал умы через своих агентов, раздавал соблазнительные обещания и даже подкупал сторонников, чтобы обеспечить себе голоса на выборах.
Так было заброшено первое семя раздора к выгоде иноземцев. Тогда же и дали о себе знать первые результаты деятельности этих претендентов на корону – деятельности, опиравшейся на деньги и насилие. Но положение стало еще хуже, когда через несколько лет, уже после избрания на престол Августа II Саксонского, соперничество между шведским королем Карлом XII и Петром Великим превратило Польшу в театр кровавых военных действий и еще более усугубило разногласия, враждебность и ненависть среди разных частей нации.
Швеции удалось водрузить корону на голову Станислава Лещинского, и верные ему войска опустошали Саксонию, а в самой Польше – преследовали сторонников Августа II. С другой стороны, Россия использовала свое влияние и силы, чтобы поддержать Августа II, и сумела вернуть его на трон, прогнав Станислава Лещинского. Этот последний вынужден был отказаться от возможности править в своей собственной стране и довольствоваться герцогством Лотарингским, которое досталось ему в результате мирных переговоров.
С того времени закрепилось в Польше влияние России. Это влияние продолжало расти в эпоху правления двух Августов вплоть до восшествия на трон Станислава Понятовского – Екатерина II заставила избрать его королем в 1764 году. Именно после его избрания Россия получила неограниченную власть в Польше. При этом она не встречала сопротивления ни в самой польской нации, слишком ослабленной двумя предыдущими царствованиями, ни у соседних государств, которые не осмеливались соперничать с ней и находили даже выгодным для себя принять участие в расчленении Польши.
Военные действия, которые Саксония была вынуждена вести против Швеции, а затем – против Фридриха II, истощили казну и военные силы Польши; тяга к роскоши и иноземные нравы развратили всех, кто был близок ко двору, и способствовали вырождению в нации духа старинного польского достоинства – этот дух сменился стремлением к наслаждениям и праздности.
Таким образом, в то время как Россия, Австрия и Пруссия совершенствовали образ своего правления, развивали земледелие, промышленность и торговлю, оказывали покровительство наукам и искусствам, наращивали свои силы, – Польша беднела, разрушалась по всем направлениям и постепенно уготовляла себе печальную участь, которая была ей отведена другими.
Уходили в прошлое времена, когда одних сабель было достаточно, чтобы заставить врага отступить. Такая страна, как Польша, не могла более обходиться без крепостей, артиллерии и дисциплинированной армии, не рискуя при этом быть захваченной. И, конечно же, ее иноземные повелители были заняты главным образом сохранением собственных владений, опасались России и заботились об интересах Польши лишь в той мере, в какой могли получить от нее какую-нибудь временную выгоду, – и потому не старались предотвратить или устранить те беды, которые обрушились не страну.
Я позволил себе эти неодобрительные высказывания лишь для того, чтобы снять с поляков обвинения за ту анархию в государственном правлении и те пороки законодательства, которые часто вменяются в вину исключительно им самим и в которых надо винить иностранцев. Ведь национальный характер поляков сохранился, несмотря на все усилия, приложенные к тому, чтобы его развратить, – и он возрождался по всем своем блеске и чистоте всякий раз, когда возникала необходимость проявить его ради службы родине.
Несчастные обычно не имеют друзей, и поляки, озлобленные, задавленные и преследуемые, тоже имели их мало, зато врагов – много. К тому же, сила и влияние тех, кто подчинил поляков, были употреблены на то, чтобы выставить их в самом невыгодном свете. Однако если взглянуть на поляков беспристрастно, то можно увидеть, что они всегда жаждали славы, а не завоеваний и никогда не были подлыми по отношению к противнику, а также горделивыми и мстительными – в своих победах.
Храбрые без высокомерия, предприимчивые, но не ищущие личной выгоды, терпеливые в несчастье, способные на любую жертву ради своей родины, – они могли заслужить упреки лишь в том, что были слишком доверчивы и потому чрезмерно вверялись тем, кто называл себя их другом и умел польстить их надеждам.
Наступило, однако, время, когда дань уважения по отношению к ним стала выглядеть неуместной. Поляки, сохранившие свой дух, но рассеянные по всей земле, не сумели сохранить ни политическую независимость, ни свою страну, ни даже свое имя. Высказываться в их пользу, действовать в их интересах, защищать их дело означало выставить себя революционером, личностью беспокойной и опасной для общества.
Сегодня (я писал это в ноябре 1815 года) великодушный российский император Александр Первый, которого никакой другой монарх не смог превзойти в могуществе и лояльности, хотя бы частично восстановил Польшу, вернул ей собственное существование, имя и национальность и тем самым осуществил то, на что другие лишь позволяли надеяться. Это добавило лавров к его короне и привлекло к нему восхищение всей Европы, а также любовь и признательность поляков.
Сегодня славные воспоминания польской нации должны включать в себя и личность этого нового их властителя, который умеет ценить по достоинству преданность интересам родины и умеет отблагодарить тех, кто усердно служит ей и сражается, ее защищая.
Сегодня уже можно не бояться упоминать о стараниях поляков отвоевать свою страну и вернуть себе имя. Именно такие их старания, многократно доказанные ими храбрость и целеустремленность, с которыми они боролись за судьбу своей страны, заслужили уважение к ним императора Александра и вознаградили их возрождением Польши.
Эта уверенность побудила меня тщательно собрать воедино все записи о событиях в Польше, которые я смог сохранить, чтобы затем передать их своим детям, не опасаясь, что эти записи могут появиться перед публикой только лишь по воле какого-либо случая. Факты в них изложены без искажений, правда ничем не приукрашена. Никакая предвзятость не водила моим пером – я писал только для себя и своих близких. В этих записях содержатся неоспоримые свидетельства той преданности и тех жертв, на которые оказались способны поляки во имя своей страны. В этих записях можно увидеть, что при всех различиях мнений среди поляков, они не изменяли себе в главном относительно своих принципов и намерений: каждый из них по-своему стремился к одной и той же цели – быть полезным родине и исполнять свой долг.
Эти записи содержат интересные детали, мало кому известные, о действиях поляков, предпринятых ими ради свободы своей страны, начиная с восстания 1794 года и до года 1798-го. При чтении этих «Мемуаров» будет видно, что я приложил более усилий, чем многие другие, к тому, чтобы собрать те материалы, которые они могли мне предоставить, и большей частью сохранил их, несмотря на риск потерять среди всех тех опасностей, которым я лично слишком часто подвергался.
книга первая
Глава I
Долгая череда бедствий, постигших Польшу со времени восшествия на престол короля Станислава Августа, настроила против него большую часть нации.
Его порицали как исполнителя воли России, которой он был обязан своей короной, и в нем не усматривали энергии, необходимой для того, чтобы организовать отпор там, где благополучие его страны требовало мужества, активности и полной преданности делу своей родины.
Содержание огромной иностранной армии, заполонившей всю Польшу; раздражающе высокомерное поведение ее командования по отношению к местной знати; гражданское противостояние; изъятие из самой столицы ее епископов и сенаторов и ссылка их вглубь России в 1768 году; раздел Польши в 1773 году, ратифицированный вызвавшим к себе всеобщую ненависть сеймом в 1775-м; учреждение Постоянного совета; произвол русских посланников, воле которых король вынужден был подчиняться во всем; бездействие национальных ассамблей со времени раздела; истощение финансов и унижение армии – все это вменялось в вину Станиславу Августу. Ко всему этому прибавлялись еще и упреки в том, что он окружал себя главным образом иностранцами, а это способствовало ущемлению всего национального, и в том, что он подавал дурной пример своему народу, ведя излишне роскошный и беззаботный образ жизни.
Не мне судить, смог ли бы любой другой на месте Станислава Августа противостоять всем этим бедам, обрушившимся на него со всех концов Польского государства. Один весьма уважаемый автор[3], говоря об этом правителе, утверждал, что «на протяжении всего его царствования его преследовала злая участь быть тиранически порицаемым то собственным народом, то соседями. Поскольку в нем было мало энергии, но много просвещенности, то его проницательный ум мог лишь предсказать ему его будущие несчастья, но не смог уберечь его от них».
Однако является очевидным, и этого никто не может оспаривать, что за время его царствования, так мало удовлетворявшего нацию, произошли положительные изменения в системе образования и во всем образе мыслей поляков, выросло новое поколение, выдвинувшее выдающихся людей, способных послужить родине своей энергией и талантами и вывести ее из того позорного и униженного состояния, в котором она находилась уже долгое время.
Это было, несомненно, милостью Провидения – посреди всеобщего уныния принести стране некоторое утешение и надежду на более радужное будущее.
Столь неудачливый в своем правлении, но жаждущий добра и прекрасно образованный, Станислав посвящал наукам, литературе и искусствам каждую минуту, которую мог уделить им, не нанося ущерба государственным делам. Он окружал себя учеными людьми, щедро платил им и усердно занимался распространением просвещения в своей стране.
Именно в его правление Конарский организовал благотворительные школы, реформировал методы обучения и издал несколько полезных трудов. Богомолек издавал просветительскую газету, написал несколько комедий для национального театра и боролся с предрассудками простого народа. Красицкий, самый изысканный и разносторонний из поэтов, критиковал, развлекал и наставлял. Венгерский, с его блестящим сатирическим умом, позволял себе говорить горькие истины прямо в глаза великим мира сего своими стихами, приправленными солью остроумия. Копчинский составил грамматику и подчинил язык четким правилам. Нарушевич, знаменитый историк и поэт, перевел Горация и Тацита, а затем, приняв первого за образец стихосложения и поднявшись до стилистических высот второго, написал историю своей страны. Трембецкий мог бы, вероятно, заслужить пальму первенства среди поэтов его царствования, если бы был менее ленив и женолюбив. Ученый Альбертранди, знаток античности, посланный королем в Стокгольм и Рим, обогатил национальные архивы более чем сотней ценных томов, написанных его рукой. Астроном Почобут, физик Стржецкий, а также Снядецкий, Скржетуцкий, Вырвич, Сташиц, Коллонтай и многие-многие другие ученые и литераторы вложили свой труд в образование молодежи в различных областях знания, способствовали привитию ей вкуса к учебе и расширению области знаний и просвещения.
Но ничто так не способствовало разрушению старых предрассудков и развитию свойственной полякам склонности к образованию, а значит и созданию целого питомника образованных молодых людей, как организация военной школы кадетов и учреждение Эдукационной комиссии. Только этих двух государственных органов хватило бы, чтобы дать представление о том, на что был бы способен этот король, если бы его энергия соответствовала его талантам и если бы его несчастная судьба не восставала против самых лучших его намерений.
По мере того как создавались и заполнялись учениками национальные школы и начинало уже ощущаться благотворное воздействие новой системы образования, все в стране принимало новый облик. Заметно менялись привычные понятия и мнения повсюду – и в столице, и в провинциях.
Вскоре уже трудно было найти такого человека, который не хотел бы учить родной язык по правилам, разговаривать на нем чисто и правильно, писать на нем точно и изящно. Начали изучать историю своей страны, вспоминать ее знаменитых людей, воспевать их выдающиеся деяния, возрождать интерес к старинному национальному костюму.
Усовершенствовался и польский театр, находившийся под особым покровительством короля: появились авторы-драматурги, такие, как князь Адам Чарторыйский, Заблоцкий, Князьнин, Немцевич и Осинский – все они явили подлинный талант. Появились и хорошие актеры, среди которых Богуславский, ставший сейчас их старейшиной и бывший для них образцом, стремился основательно расширить репертуар оригинальными пьесами или же переводными, в прозе и стихах.
Вкус к военному делу, верховой езде и прочим гимнастическим упражнениям заменил в молодых людях тягу к пустым развлечениям и способствовал их физическому развитию – так же как образование способствовало пробуждению их душевных сил.
Польские дамы, любезность и ум которых всегда вызывали одобрение всей Европы, теперь соперничали между собой в выражении патриотизма и восхваляли все национальное. Можно представить, какое воздействие имели все эти проявления на кипучие натуры молодых людей, возмущенных иноземным господством.
Благовоспитанный тон господствовал повсюду. На многочисленных собраниях царила атмосфера веселья и игривости. Молодые люди посещали их с удовольствием, но не греша при этом напыщенными манерами, являя на них ум без педантизма и любезность без претенциозности.
На этих собраниях можно было встретить Юзефа Понятовского, Игнация и Станислава Потоцких, Чарторыйских, Сапег, Малаховских, Мостовских, Вейсенгофов, Матусевичей и многих других, которые затем заслужили вечную благодарность родины.
Таковой представала Варшава в то время, когда был созван так называемый конституционный сейм, или четырехлетний сейм, 1788 года. Все, кто чувствовал в себе достаточно сил и способностей, спешно старались стать избранными нунциями[4], иначе говоря, представителями нации, чтобы принять участие в выработке постановлений этой ассамблеи, которая должна была изменить судьбу родины и послужить ее укреплению.
Десять лет передышки были достаточным временем, чтобы подумать о средствах выхода из того унизительного положения, в котором оказалась нация. Каждая партия видела по-разному пути достижения этой цели, но все были убеждены в необходимости ее достичь. Когда же распространились слухи о новом разделе Польши, все подняли головы.
Заседание сейма было назначено на 30 сентября. 6 октября представители нации собрались. 7 октября был составлен и подписан акт о конфедерации. Это стало первой победой над партией, которая не соглашалась на объединение штатов, чтобы в случае надобности иметь право применить liberum veto[5].
Малаховский был избран маршалком сейма от Короны, а Казимир Сапега – от Литвы.
Король с удовольствием воспринимал это собрание, на котором присутствовали лучшие силы нации. Он хотел представить этому сообществу свои проекты, которые он полагал весьма разумными и спасительными для сохранения Польши. Но чтобы понять, почему таковы были его намерения, надо вспомнить о предшествующих событиях.
В мае предыдущего года король имел в Каневе свидание с императрицей Екатериной, собиравшейся посетить южные области своей империи, и в том числе Крым, который был взят ею у турок. Он поделился с ней всеобщим беспокойством о возможном новом разделе. Король также представил ей проект различных изменений, которые полагал полезными и необходимыми для своей страны. По всем этим пунктам он получил от нее в ответ, вместе со всяческими льготами, торжественное обещание сохранить Речь Посполитую в ее нынешнем состоянии и гарантировать ее независимость.
Император Иосиф, с которым он также имел возможность видеться позднее в течение этого путешествия, подтвердил со своей стороны эти гарантии, и Станислав слепо доверился заверениям этих двух монархов и проявлениям их дружеских чувств. Теперь он не сомневался, исходя из их слов, что Россия предложит Польше договор о союзничестве, и считал таковой очень выгодным, полагая, что отныне Польша будет защищена от посягательств соседей и от угрозы быть еще раз поделенной.
С этими чувствами король вернулся из Канева в Варшаву. Он также с удовольствием воспринял то, что в связи с враждебными действиями со стороны Турции, которые начались в августе этого же года, императрица предложила ему и Постоянному совету заключить с ней наступательно-оборонительный договор.
Это предложение не могло быть принято правительством Польши без отказа от прежних договоров с Турцией, так что решение вопроса было отложено до предстоящего сейма. Императрица предложила взять на содержание 30-тысячную кавалерию, набранную из польской знати, но это предложение было воспринято не лучше, чем первое.
Тем временем война с турками набирала размах. К тому же король Швеции Густав III угрожал Петербургу со стороны Финляндии, так что переговоры о заключении союзного договора становились все более неотложными, и король льстил себе мыслью, что сейм будет более покладистым.
С другой стороны, Фридрих Вильгельм, король Пруссии, напуганный союзом между Иосифом II и Екатериной против Турции, опасаясь, что в него будет втянута и Польша, старался привлечь Швецию, Голландию и Англию на сторону Турции, чтобы защитить ее и поставить барьер на пути российских амбиций. Эти силы, согласовав свои интересы, находили, что необходимо включить Польшу в этот новый альянс, но для этого нужно было, чтобы она имела независимое правительство, свободное от всякого иностранного влияния.
Какие бы упреки ни адресовались прусскому королю, особенно в связи с его дальнейшим поведением по отношению к полякам, но можно не сомневаться, что в то время он действовал честно, тем более что это согласовывалось с его собственными интересами. Можно даже утверждать, что, не участвуя в первом расчленении Польши, он в глубине души не одобрял его, видя те выгоды, которые раздел 1773 года принес России и венскому двору. Ему важно было видеть Польшу возвращенной к жизни посредством хорошей внутренней организации и усиленной значительной армией. Он хотел бы сделать ее коридором, сдерживавшим продвижение двух империй, а также дать время Пруссии восстановить силы, утраченные в войнах, которые она вынуждена была вести при его предшественнике.
До того времени Фридрих Вильгельм был известен как правитель справедливый, благожелательный и миролюбивый, стремившийся быть отцом своим подданным. Он еще не сделал никакого зла полякам, русские же сделали его много. Перед глазами поляков стояла душераздирающая картина того положения, в котором находилась страна в течение уже стольких лет. Они не видели возможности выйти из этого унизительного положения с помощью России, которая была заинтересована в том, чтобы его сохранить. Напротив, заинтересованность Фридриха в укреплении внутренней организации их страны и усилении военной силы казалась им убедительной.
Луккезини, посланник Пруссии в Варшаве, оплакивая несчастья Польши, одновременно превозносил великодушие и честность своего короля и возмущался лжецами, которые приписывали прусскому кабинету идею нового раздела Речи Посполитой. «Фридрих Вильгельм, – говорил он, – ищет себе более благородной славы; он хочет обезопасить Европу от амбиций северных варваров; он намерен возвести преграду их жадности; его единственное желание – вернуть Польше ее блеск, ее славу, ее свободу».
Хэйлз, посланник Англии в Варшаве, усиленно поддерживал подобные высказывания, намекал на возможность усилить Швецию английскими вооружениями и вдохновлял своими речами тех, чье мнение еще не определилось.
Людям свойственно верить в то, чего они желают, а у несчастных нет иного утешения, кроме собственной надежды. Таким образом, не следует удивляться тому, что «прусская партия» быстро росла и вскоре стала весьма значительной; в то же время влияние российского посланника падало с каждым днем.
Не могу удержаться, чтобы не процитировать несколько пассажей из уже упомянутого труда бывшего посла Франции в России графа де Сегюра насчет предложения о заключении союзнического договора, сделанного императрицей Екатериной Польше: «Это предложение было большой ошибкой и доказало, что императрица, чья собственная гордость всегда была удовлетворена, не понимала, какое сильное недовольство и непримиримую ненависть вызывают к себе подавление, несправедливость и унижение. Никогда еще эпоха не была так неверно понята, никогда еще промах мимо цели не был так непоправим. Поляки, прежде уважаемые в Европе, еще помнили, как они побеждали пруссаков, плативших им дань; как они освободили Австрию и Вену от оттоманских орд; что московиты часто отступали перед ними… После первого раздела Австрия и Пруссия предоставили императрице вести все дела в Польше… С того времени в Польше на самом деле правили русские посланники: их высокомерие по отношению к королю, оскорбительное презрение к нации, их роскошь, наглость и жадность, притеснения со стороны русских войск, находящихся в стране, – все это собрало на голову одной России всю ненависть, всю жажду мщения, которую должны были внушить этому угнетенному народу три двора, вместе разделивших между собой его страну. Стоило упомянуть о чем-либо русском перед поляком – и тот бледнел от страха и дрожал от ярости. Одно слово – «русский» – напоминало ему о его поблекшей славе, утраченной свободе, попранных правах, похищенном добре, преследуемой семье, оскорбленной чести… Напрасно пытались некоторые, как сам польский король, использовать сложившуюся ситуацию, чтобы открыть глаза Екатерине на ее подлинные интересы, слишком долго не понимаемые. Тщетно старались они показать, что при поддержке России могли бы реформировать свое государственное устройство, укрепить свое политическое положение и, возможно, вернуть треть своих утраченных владений. Напрасно пытались они указать, что предложения Пруссии были иллюзорными и вызванными корыстью, а затруднения этих двух имперских дворов – временные; что было бы безумием считать их ослабленными и опасно раздражать их; что в мирное время поляки останутся без поддержки и станут предметом их мести и что Пруссия, вместо помощи, договорится с ними о новом разделе… В ответ на эти робкие увещевания можно было только услышать прозвища «раба» и «предателя», а сами доводы отвергались с негодованием…»
Мне на самом деле нечего добавить к нарисованной здесь автором картине умонастроений, царивших в Польше перед началом сейма 1788 года. Мы увидим, что этому сейму можно было предъявить немало упреков, несмотря на усердие, энтузиазм и лучшие намерения, которыми вдохновлялась большая часть его членов. Так, не было дипломатичным и благоразумным восставать открыто против России, порицать ее и угрожать ей, еще не укрепившись самим и не будучи в силах противостоять ей. Можно упрекнуть этот сейм и в дурном использовании времени, которое зачастую растрачивалось в бесполезных дискуссиях перед окончательным решением двух основных вопросов – казны и армии. И наконец, сделав все возможное для того, чтобы порвать все отношения и окончательно рассориться с Россией, мощь и месть которой еще придется ощутить, и не имея другой поддержки, кроме Пруссии и ее союзников, – зачем было уделять столько внимания передаче Торуня и Гданьска? Зачем было раздражать короля Пруссии, после того как его столько восхваляли, и зачем было терять все выгоды союзнического и торгового договора с Голландией и Англией?
Но не будем забегать вперед событий и проследим за ходом этого достопамятного сейма, который стал такой блистательной вехой в истории Польши и результаты которого были столь гибельны!
12 октября посланник Пруссии Бухгольц представил сейму от имени своего двора следующее заявление: «В конце августа 1787 года г-н граф Штакельберг, посланник России, официально заявил нижеподписавшемуся лицу, что Ее Величество императрица приняла решение заключить с королем и Польской Речью Посполитой на следующем сейме союз, единственной целью которого будет безопасность и нераздельность Польши, а также защита против общего врага. Когда нижеподписавшийся доложил об этом своему королю, то затем должен был заявить г-ну графу Штакельбергу, в соответствии с распоряжениями короля, что при всей заинтересованности Е[е] В[еличества] в этом конфиденциальном предложении, она не смогла скрыть того, что на самом деле не видела никакой необходимости в подобном союзе, особенно принимая во внимание уже существующие договоры между всеми сторонами. Если же такой новый договор полагался необходимым для Польши, то Е[е] В[еличество] должна предполагать и возобновление тех договоров, которые давно существуют между Польшей и Пруссией, так как последняя не менее заинтересована в благосостоянии этого соседнего государства, чем любая другая сторона». Нижеподписавшийся добавил к этому заявлению несколько собственных соображений, которые должны были доказать бесполезность и даже опасность предлагаемого союза между Польшей и Россией в соответствии с заявленной двойной целью.
Барон Келлер, посланник короля в Петербурге, был уполномочен сделать те же заявления российскому императорскому двору.
Поскольку король тем временем с удивлением узнал, что проект этого договора уже доведен до польской стороны и усиленно обсуждается в Польше и что вполне вероятно его обсуждение на ближайшем сейме, то Е[го] В[еличество] король Пруссии должен поделиться своими соображениями по вопросу, столь интересующему Польшу, в следующем заявлении:
Если предполагаемый союз между Россией и Польшей имеет главной целью целостность Польши, то король не видит в нем никакой пользы или необходимости, так как эта целостность уже достаточно гарантирована предыдущими договорами. Иначе пришлось бы предположить, что Е[е] В[еличество] российская императрица и ее союзник император Священной Римской империи намерены были нарушить их со своей стороны. Тогда следовало бы предположить подобные намерения и со стороны прусского короля и соответственно нацелить против него данный союз.
Не является неизвестным Его Величеству то, что в последнее время распространяются сомнения относительно его взглядов на неприкосновенность некоторых частей Польской Речи Посполитой, но такие сомнения недостойны его прямоты и честности его политики. Король может заручиться свидетельством здоровой и просвещенной части польской нации, что на протяжении всего своего правления поддерживал дружеские и добрососедские отношения в ней и что не было ни малейшего основания упрекать или подозревать его в обратном.
Король, таким образом, не может лишить себя права заявить торжественный протест против целей вышеупомянутого альянса, если он должен быть направлен против Его Величества, ибо он не может быть рассмотрен иначе как нарушающий гармонию и доброе соседство между Пруссией и Польшей, которые были установлены самыми достоверными договорами.
Если же второй целью данного альянса является защита от общего врага и под этим подразумевается Оттоманская Порта, то король должен напомнить, из дружеских чувств к Польской Речи Посполитой, что Порта уважительно отнеслась к землям Речи Посполитой в ходе данной войны и что самые опасные последствия не замедлили бы проявиться как для территорий Речи Посполитой, так и для территорий Его прусского величества, соседствующих с ними, если бы Польша заключила союз, который вынудил бы Порту видеть в Польше врага и заполонить ее своими войсками, мало приученными к военной дисциплине.
Всякий разумный и просвещенный гражданин Польши должен без труда понять, сколь трудно было бы, а то и вовсе невозможно, защитить родину от столь близкого врага, тем более когда он обладает мощью и настолько удачлив. Он также поймет, к чему привело бы развитие событий в результате такого альянса против Порты, так как статья VI договора 1773 года между Пруссией и Польской Речью Посполитой лишила бы короля возможности гарантировать Речи Посполитой целостность ее территорий, поскольку войны между Польшей и Оттоманской Портой определенно исключены из этого договора.
Таким образом, предполагаемый альянс между Россией и Польшей неизбежно вверг бы Речь Посполитую, без всякой на то необходимости, в открытую войну с одним из лучших ее соседей, но в то же время и с самыми опасным ее врагом. Этот альянс лишил бы Речь Посполитую помощи и защиты короля, не предоставив ей ничего лучшего взамен.
Король, следовательно, не может оставаться безразличным к проекту столь исключительного альянса, который угрожал бы величайшей опасностью не только самой Польше, но и его собственным землям, соседствующим с Польшей, и неизбежно разжег бы огонь войны – ко всеобщим бедствиям.
Король не находит нужным повторять, что Польская Речь Посполитая сейчас увеличивает свою армию и приводит свои военные силы в более дееспособное состояние, но при этом предлагает добрым гражданам Польши задуматься, не будет ли такое усиление польской армии в данных обстоятельствах злоупотреблением. Оно может вовлечь Речь Посполитую, даже против ее воли, в войну, которая ей абсолютно чужда и может повлечь самые неприятные последствия.
Король льстит себя надеждой, что Е[го] В[еличество] король Польши и представители его досточтимой Речи Посполитой, собравшись на нынешний сейм, примут к зрелому рассмотрению все, что Е[го] В[еличество] изложил здесь, исходя из принципов самой искренней дружбы и общих интересов двух государств, связанных неразрывными узами постоянного и вечного союза.
Его прусское величество также надеется, что Е[е] В[еличество] императрица России сочтет нужным одобрить изложенные здесь мотивы – столь справедливые и вполне соответствующие подлинным интересам польской нации. Он доверительно полагает, что упомянутыми обеими сторонами будет отозван проект альянса, столь мало необходимого, но столь опасного для Польши.
Если, вопреки ожиданиям, заключение упомянутого договора не состоялось бы, то король, со своей стороны, предлагает досточтимой Речи Посполитой свой альянс и возобновление всех договоров, существующих между Пруссией и Польшей. Его Величество полагает себя в состоянии гарантировать ее целостность и состоятельность во всех иных областях и сделает все от него зависящее, чтобы уберечь блистательную польскую нацию от всякого иностранного посягательства, и в частности от враждебных действий Оттоманской Порты, если она последует его совету.
Если же все эти соображения и дружеские предложения короля будут отвергнуты, то он вынужден будет рассматривать вышеуказанный договор как направленный против Его Величества и как имеющий целью вовлечь Речь Посполитую в открытую войну с турками, тем самым подвергая их набегам и враждебным действиям не только территории Речи Посполитой, но и земли Его прусского величества. В этом случае король оставляет за собой право принятия любых мер, которых потребует осмотрительность и его собственная безопасность, чтобы упредить подобные действия, опасные для обеих сторон.
Если подобное все же произойдет, то Его Величество приглашает всех истинных патриотов и добрых граждан Польши присоединиться к нему, чтобы совместно избежать, с помощью обдуманных средств, великих потрясений, которые угрожают их родине. Они могут твердо рассчитывать, что Его Величество предоставит им всю необходимую поддержку и самую действенную помощь, чтобы сохранить независимость, свободу и безопасность Польши.
Составлено в Варшаве 12 октября 1788 года.
Подписано: Луи де Бухгольц».
Я переписал эту декларацию полностью, как дипломатический документ самой высокой важности для того времени, который неизбежно должен был вызвать к себе полное доверие поляков, гарантируя им самым недвусмысленным образом все, что было объектом их желаний. Это обращение произвело самое живое впечатление на все партии. Заседания сейма становились все более бурными. Посланник России почувствовал необходимость дать некоторые пояснения и заявил, что императрица рассматривала свой альянс с Польшей как дело исключительно выгодное для Речи Посполитой, которое не должно было вызывать опасения ни у кого из соседей; что именно в таком виде этот альянс был предложен ей польским королем и Постоянным советом и она пошла навстречу их ходатайствам; но поскольку прусский король выражает подозрения по этому поводу, то она незамедлительно пожертвует своим предыдущим планом, которому она последовала бы с удовольствием и от которого теперь с сожалением отказывается.
Можно предположить, что такая манера выражаться была выбрана для того, чтобы увеличить еще более, если это было возможно, недоверие нации к своему королю и пробудить новые подозрения, так как из этого заявления следовало, что не Россия искала союза с Польшей, но что сам король и его Постоянный совет замыслили и представили этот проект.
Через восемь дней после декларации короля Пруссии сейм дал следующий ответ, который заслуживает быть приведенным здесь, так как он заложил основы политических взаимоотношений между Польшей и Пруссией.
«Мы, нижеподписавшиеся, по чрезвычайному указу короля и объединенного состава сейма, имеем честь передать г-ну де Бухгольцу, чрезвычайному послу Его Величества прусского короля, следующий ответ, относящийся к доводам, высказанным Его Величеством прусским королем в его декларации от 12 октября сего года.
Чтение вышеуказанной декларации Его Величества прусского короля перед полным составом сейма на заседании 13 октября пробудило у всех присутствующих живую и искреннюю благодарность, вызванную благородством образа мыслей короля – нашего соседа и друга, который, уверяя Польшу в сохранности ее владений, прибавляет к имеющимся договорам силу доверия лично к нему самому, так как он вполне соответствует тому высокому мнению, которое наша нация имеет о нем как о монархе столь же добродетельном, сколь и могущественном.
Проект альянса между Россией и Польшей, не будучи предложен сейму, прежде свободному, а ныне объединенному, не является объектом союзного акта и сводит работу ассамблеи, в соответствии с общим волеизъявлением нации и военных сил Речи Посполитой, не к идее наступательной, а к идее оборонительной и охранительной в отношении владений Речи Посполитой и независимого положения ее правительства.
Если в намеченном ходе заседаний конфедерация сейма все же получит предложение или проект альянса, то Речь Посполитая, в соответствии с самой природой ее сейма придерживаясь принципа гласности, открыто заявит о своих суждениях, соответствующих принципам независимости и суверенитета, правилам самосохранения, священным принципам общественного права, а также тому почтению, которое вызывают в нас дружеские чувства со стороны короля Пруссии.
Общее волеизъявление, прямое и открытое, составляет самый дух обсуждений на настоящем сейме, и в соответствии с ним объединенный состав сейма единодушно стремится создать во мнении Е[го] В[еличества] прусского короля благоприятное представление о нашей просвещенности и нашем патриотизме.
Варшава, 20 октября 1788 года.
Маршалки сейма
Малаховский и Сапега».
С того времени не было ни одного проекта новых реформ, который не был бы доведен до сведения прусского посланника и не был бы известен Хэйлзу, британскому посланнику. Было решено увеличить армию до ста тысяч человек, и она была признана независимой от короля и Совета. Было выдвинуто требование, чтобы русская армия не продлевала более своего пребывания в Польше под каким бы то ни было предлогом и чтобы маршрут продвижения войск к Турции не затрагивал ни пяди польской территории.
Тем временем граф Штакельберг, посланник России, представил вторую ноту, датированную 5 ноября.
Среди прочего посланник утверждал там, что до сего времени хранил полное молчание и не делал никаких заявлений по поводу решений сейма, которые хотя и нарушали конституцию 1775 года, согласованную между тремя правящими дворами, но не затрагивали прямо гарантийный акт 1775 года. Что он желал бы никогда не быть принужденным к прискорбной необходимости заявить протест против вмешательства в форму правления, утвержденную торжественным гарантийным актом договора 1775 года. Что идея, имевшая целью создание постоянно действующего сейма, содержащаяся в различных проектах и, следовательно, предполагающая полный переворот в форме правления, теперь вынуждает его заявить, что Е[е] В[еличество] императрица, с сожалением отказываясь от дружбы с Е[го] В[еличеством] королем и достопочтенной Речью Посполитой, отныне будет рассматривать малейшее изменение в конституции 1775 года как грубое нарушение имеющихся договоров.
В связи с этой нотой, на которую последовал ответ со скромным достоинством, имело место сильное волнение среди всех партий, и она стала объектом оживленных дискуссий. Еще большее волнение вызвала речь польского короля в ходе дебатов по поводу этой ноты: он утверждал, что Екатерина имела серьезный интерес к Польше и что дружеские отношения с императрицей были исключительно важны для Польши.
Он возвысил голос, чтобы быть лучше услышанным, и особо подчеркнул следующее свое высказывание: «Я уверенно и в высшей степени ответственно утверждаю, что нет такого государства, интересы которого менее противоречили бы нашим интересам, чем Россия. Я напоминаю своему народу, что именно России мы обязаны восстановлением части нашей страны, которая была у нас отнята. Что с точки зрения торговых отношений Россия представляет для нас самые выгодные перспективы. Что в отношении увеличения военных сил нации Россия не только не препятствовала, но охотнее всех дала свое согласие. Таким образом, я утверждаю, что мы не только не должны восстанавливать ее против нас и давать ей доказательства нашей недоброй воли, но, наоборот, должны стараться поддерживать с ней возможно наилучшие отношения. Добавлю еще, поскольку сам в этом убежден, что выказать императрице наше доброе расположение к ней – значит иметь возможность с легкостью осуществлять все усовершенствования и упорядочения, которые мы хотим иметь в нашей стране. В противном случае этого означало бы воздвигнуть тяжкие барьеры всем нашим начинаниям и дать поводы для недовольства этой великодушной монархине».
Эта речь была встречена аплодисментами сторонниками России, а возможно, и некоторыми другими поляками, которые, не будучи ее сторонниками, видели положение дел в ту эпоху так же, как его видел король. Она вызвала разноречивые чувства и сильное волнение среди большинства членов собрания. Посланник Пруссии воспользовался этим, чтобы укрепить доверие, уже внушенное его правящим двором. 19 ноября он представил другую ноту, в которой свидетельствовал, насколько удовлетворен был Фридрих Вильгельм тем, что конфедерация сейма не намерена более заключать альянс с Россией. Он также настаивал на том, что никакое предыдущее соглашение не может помешать нации улучшить свою форму правления. Посланник заявил, что Фридрих Вильгельм всегда готов выполнить свои союзные и гарантийные обязательства по отношению к Речи Посполитой, но при этом никогда не вмешается в ее внутренние дела и не стеснит свободу дискуссий.
Сейм, большинство членов которого желали изменений в конституции, были очарованы объяснением, данным в ноте Бухгольца, относительно гарантии, о которой высказывалась Россия. В ответе, датированном 8 декабря, сейм возвратился к этому объяснению, приняв за принцип, что гарантия может относиться только к независимости Польши и сохранности ее владений и что даже в этом смысле, единственно возможном, только сама Речь Посполитая имеет право заявлять о ней; что гарант не может ссылаться на нее как на собственное право, которое он может осуществлять, и еще менее – если он претендует на использование этой гарантии для того, чтобы вмешиваться в пересмотр Речью Посполитой своего законодательства и установление ею такой формы внутреннего управления, которое она находит наиболее для себя подходящим.
Прусская партия возрастала с каждым днем. С прусским посланником поддерживались самые тесные сношения. В то же время чем более обнаруживалось вопросов, требовавших обсуждения и решения, тем менее было уверенности в том, что удастся завершить эту работу в течение времени, обычно отводимого для заседания сейма. По слухам, распространяемым оппозиционной партией, заседание должно было закрыться с наступлением декабря, и это тревожило патриотически настроенную партию. Чтобы рассеять всяческую неуверенность и упредить происки недоброжелателей, было предложено на заседании 29 ноября, чтобы работа сейма была продлена на неопределенное время, и это предложение было принято без серьезных возражений.
Глава II
4 декабря 1788 года на заседании уже открыто заговорили об альянсе с Пруссией, Швецией, Голландией и Англией. Впервые во многих речах, произносимых с силой и обидой, звучали высказывания против России и венского двора. Некоторые нунции прямо и горячо высказывались за альянс с прусским королем, тем более что этот альянс поддерживался и одобрялся другими сторонами, дружественными Польше.
Посланник Швеции передал ноту от имени своего монарха, в которой говорилось, что Его Величество, который всегда принимал, и в настоящее время особенно, живое участие в благосостоянии и независимости короля и Речи Посполитой, с удовлетворением отмечает, что такой могущественный правитель, как король Пруссии, принимает близко к сердцу вопрос о независимости Польши. Е[го] В[еличество] по примеру своих предшественников так же живо интересуется судьбой столь благородной и великодушной нации, с которой он связан общими интересами, и потому не замедлит воспользоваться любыми возможностями доказать ей свои дружеские чувства и объединиться с ней для совместной обороны.
В то же время наиболее благоразумная часть сейма была убеждена в том, что нельзя было заниматься договором об альянсе, пока не исправлены недостатки существующего правления, которое следовало укрепить разумными реформами. Продление срока работы сейма такую возможность предоставляло. Оставалось только этой возможностью воспользоваться, но, к сожалению, ею вовсе не воспользовались так, как это следовало бы.
Только 7 сентября 1789 года была учреждена депутатская комиссия, в задачу которой входила подготовка реформ различных ветвей власти и предложений по проекту новой конституции. Законом предусматривалось, что эта комиссия должна была состоять из одиннадцати членов, из которых пять назначались королем из числа министров и сенаторов, а шестеро остальных составляли палату нунциев, избираемых исходя из их возраста, жизненного опыта, патриотических убеждений или талантов.
Вот имена тех, кто составлял эту депутатскую комиссию: Красинский, епископ Каменца; Потоцкий, маршалок литовский; Огинский, великий гетман литовский; Хрептович, вице-канцлер литовский; Коссовский, вице-казначей Короны; Суходольский, нунций от Хелма; Мощенский, нунций от Брацлава; Жалинский, нунций от Познани; Соколовский, нунций от Вроцлава; Вавжецкий, нунций от Браслава; Вейсенгоф, нунций от Ливонии.
Было бы неправильным утверждать, что до этой даты, то есть до 7 сентября, сейм совершенно бездействовал, но вопросов первоочередной важности было рассмотрено мало. Был распущен Постоянный совет, созданный и до тех пор поддерживаемый Россией, – это было самое заметное событие или, точнее, самое смелое решение ассамблеи в первые дни января. Затем было единодушно принято решение о займе десяти миллионов для казны Короны и трех миллионов – для Литвы. И наконец, много времени было потеряно на процесс Понинского и на мелочные дискуссии по маловажным вопросам.
Сторонники российской партии, которые только радовались медлительности работы сейма, часто затевали дискуссии, чтобы обострить обстановку и вызвать раздражение патриотов. Они пользовались этим, чтобы посеять разногласия между различными партиями, которые еще не определились окончательно в своих мнениях. Под маской патриотизма они высказывались против Фридриха Вильгельма и его посланников, чтобы возбудить против них недоверие и подозрения.
Если бы тогда прислушались к настоящим и разумным патриотам, которые рассматривали происходящее под истинным углом зрения; если бы можно было ускорить принятие решений сеймом; если бы конституция 3 мая 1791 года была принята на восемнадцать месяцев раньше, – то Польша была бы спасена. Она имела бы достаточно времени, чтобы упрочить систему управления страной и укрепить свои силы с 1789 по 1792 год. Она не утратила бы все преимущества альянса, искренне предлагаемого тогда прусским королем. Она не оставила бы России времени заключить мир с турками и со Швецией. Она сумела бы упредить сближение между Россией и Пруссией, которое было вызвано внутренними волнениями во Франции, происходившими в 1792 году. Именно это сближение совершенно переменило намерения Фридриха Вильгельма по отношению к Польше, изменило характер и образ его мыслей, настроило и вооружило почти всю Европу против Франции. Результатом всего этого стали лишь рост революционного фанатизма, возбуждение умов и оставление Франции на произвол анархии. Мне нет необходимости добавлять, что этому же сближению Польша была обязана Тарговицкой конфедерацией, новым разделом, затем восстанием – благородным, но не увенчавшимся успехом – и, наконец, полным своим исчезновением из числа политических сил Европы.
Нунций от Литвы, Корсак, не имея выдающихся талантов многих своих коллег, обладал зато их патриотизмом, преданностью родине и свойственным ему большим здравым смыслом и потому часто прерывал речи, произносимые на сейме, возгласами: «Деньги и армия! Вот два предмета, которыми мы должны здесь заниматься!» Он был прав, но его не слушали.
Была назначена новая депутатская комиссия по иностранным делам: были приняты все меры предосторожности, чтобы в нее не попал никто подозрительный. На заседании 9 декабря было решено послать своих представителей в Константинополь, Швецию, Данию, Голландию, Берлин, Дрезден, Испанию, Лондон и Париж.
В конце 1789 года на сейме было зачитано послание короля Фридриха Вильгельма, в котором этот правитель вновь предлагал Речи Посполитой свою дружбу, выражал надежду на взаимность и пожелание видеть ее процветающей и могущественной. Он высказывал пожелание, общее с Англией и Голландией, установить с Польшей связи, которые не могли бы быть разрушены никакими интригами. В связи с этим он хотел бы, чтобы форма правления в Польше была установлена и закреплена как можно скорее, потому что от этой формы зависело в будущем счастье нации.
Депутатская комиссия по иностранным делам сообщила это послание сейму и прибавила к нему доклад о своих переговорах с посланниками Пруссии и Англии. Луккезини, который заменил на этом посту Бухгольца с 27 апреля 1789 года, снова и снова повторял, что прусский король видит больше политических выгод для Польши в установлении прочной системы правления, нежели в великолепной армии, но при такой конституции, которая оставляет Речь Посполитую во власти бесконечных дискуссий и постоянных потрясений. Хэйлз разделял это мнение, и когда депутаты спросили у обоих посланников, должны ли их мнения и заявления быть доложены сейму, то Луккезини ответил без колебаний: «Я думаю даже, что мы имеем право настаивать на этом, чтобы мы и наши правящие дворы не оставались более в неведении относительно дальнейшей судьбы Польши».
После этого доклада депутатов речь на сейме шла только о разработке основных статей новой конституции. Но возникали препятствия, которые казались непреодолимыми. На первое место встал вопрос, может ли сейм устанавливать ее основные положения, не будучи законно уполномочен на это всей нацией. В конце концов убедительные высказывания многих членов сейма, в особенности маршалка литовского Игнация Потоцкого, возобладали на ассамблее. Сам король позволил увлечь себя всеобщему мнению о том, что необходимо внести изменения в конституцию, имеющие целью улучшение формы правления в Речи Посполитой. Появился проект реформы конституции, состоявший из восьми статей, озаглавленных «Принципы совершенствования Конституции». В таком виде они были представлены на рассмотрение сейма:
Ст. I. Из обязанности нации обеспечивать и охранять свободу, частную собственность и личное равенство граждан следуют нижеуказанные права и полномочия, принадлежащие нации: 1. создание законов и подчинение только данным установленным законам; 2. утверждение денежных знаков, налогов, расходов общественной казны, наблюдение за ее использованием и получение отчетов о ее использовании; 3. сношения с иностранными государствами, заключение мира и альянсов и объявление войны; 4. наблюдение за советами (стражами) и другими исполнительными властями, которые обязаны нации, избравшей их, отчетом об исполнении своих обязанностей; 5. избрание королей, большого совета, судей сейма и других форм общественной власти, известных под наименованием «республиканские комиссии».
II. Нация передает свои права и исполнение связанных с ними обязанностей своим нунциям, делегированным в сейм. С этой целью должны быть созваны предварительные сеймики, на которых граждане, имеющие земельную и недвижимую собственность, а также их дети имеют право подавать голоса для избрания своих нунциев, или полномочных представителей, а также для дачи наказов в отношении их законодательной деятельности, возлагая на нунциев полную ответственность за их деятельность.
III. Чтобы власть, облеченная доверием нации, была в состоянии осуществлять наблюдение и действовать, отныне сейм будет постоянно действующим в течение двух лет. Это означает, что по окончании обычного срока работы сейма нунции возвращаются к делегировавшим их сеймикам, чтобы дать им отчет о своей деятельности, где, в зависимости от их поведения, они могут быть либо заменены, либо оставлены с высшими полномочиями для обычной деятельности и в случаях чрезвычайных нужд Речи Посполитой. При необходимости постоянно действующий сейм может и будет созван в обязательном порядке: 1. во всех неотложных случаях, касающихся прав людей; 2. в случаях внутренних волнений в Речи Посполитой или кризиса правления при конфликтах между органами общественного управления; 3. при очевидной угрозе голода; 4. в случае смерти или тяжелой болезни короля. Во всех вышеуказанных случаях решения, принятые сеймом, не будут считаться входящими в Кодекс законов гражданских, уголовных и политических, однако они будут обязательными для исполнения как для различных органов власти, так и для всех подданных Речи Посполитой, являясь указами, изданными высшей властью сейма, и будут иметь силу закона вплоть до их отмены очередным по порядку заседанием сейма.
IV. Волеизъявление нации через ее законодательную власть отныне будет определяться единогласием или большинством мнений. Единогласие необходимо в случае принятия основных законов; три четверти – в случае принятия политических законов; две трети – при установлении налогов; простое большинство – для законов гражданских и уголовных.
V. В наблюдении за деятельностью большого совета и республиканских комиссий разного уровня члены сейма будут руководствоваться положениями будущей конституции; что же касается заключения договоров, альянсов, объявления войны – в этих случаях решающим количеством голосов являются две трети.
VI. Нация придает равное значение качеству принятых законов и их исполнению и потому, наряду с судебными полномочиями высших судейских органов, комиссий воеводств и республиканских комиссий, признает необходимость надзора, а также общего и единого руководства в отношении как внутренних, так и иностранных дел, и передает это высшее руководство в руки короля и его совета (стражи), члены которого будут ответственны перед сеймом, не имея права в нем голосовать.
VII. Магистратуры, исполнительные власти несут ответственность за свои действия и потому должны быть объектом надзора и могут даже подвергаться преследованию в случае их недобросовестности. Решения сейма, не имеющие отношения к законодательной деятельности, должны быть закреплены. Этот трибунал должен быть заключен в определенные рамки, и деятельность его строго определена.
VIII. После принятия конституции на предложенных основаниях будет гарантировано, что конфедерационные сеймы не смогут и не будут иметь места, не будут считаться законными; в случаях же установления законов такими конфедерациями и само собрание, и принятые им законы не будут считаться обязательными для исполнения.
После нескольких заседаний эти восемь статей были приняты единогласно. В то же время они не отвечали интересам тех, кто хотел сразу поднять вопрос о передаче трона по наследству, – чтобы предотвратить в будущем все те злоключения, которым подвергалась Польша в результате выборности королей. Затрагивать сразу этот пункт, однако, оказалось слишком трудным. Мнения разделились, и слышалось даже живейшее возмущение по этому поводу.
Старинные предрассудки; обычай, существовавший в течение многих веков; колебания в выборе семейства, которому можно было бы доверить наследуемый трон; вынужденность отказа от претензий на трон других благородных родов, которые могли на него претендовать, – все эти соображения говорили в пользу выборной королевской власти. Но сам ход времени, который все расставляет по своим местам, привел, хотя и позднее, к необходимости такого изменения, которое стало, несомненно, самым значимым в организации образа правления в Польше, хотя его принятие первоначально вызвало более всего возражений.
Король Польши, который принес клятву pacta conventa не предпринимать никаких шагов, чтобы сделать свою власть наследственной, сохранял посреди всех этих дискуссий пассивную роль, с тем большим основанием, что он не видел ни в одном члене своего семейства своего возможного преемника. В то же время, когда у него спрашивали его мнение и советовались с ним, кого бы он мог еще при жизни назвать своим преемником, достойным трона после него, то он повторял (и я сам слышал это) только следующее: «Я знаю, что восходящее солнце затмит мое заходящее солнце, но я убежден, что все эти промежуточные царствования, с тех пор как корона стала наследственной, привели Польшу к ее упадку».
Еще один пункт оказался не менее трудным для обсуждения и принятия: это была просьба третьего сословия о получении права гражданства. До сих пор вся власть, законодательная, исполнительная и судебная, находилась исключительно в руках дворянства. Как видно из последующего хода событий (и это одно из решений, которое делает более всего чести этому сейму), эта ассамблея, состоявшая из одних дворян, не вынуждаемая никакими другими соображениями, кроме справедливости и блага для государства, без долгих раздумий отказалась от своих исключительных привилегий, чтобы разделить их с жителями городов.
Нет сомнения и в том, что если бы работа этого сейма не была прервана и впредь навсегда ограничена, уничтожено было бы и рабство крестьян, так как были предприняты самые разумные шаги по подготовке и постепенному подходу к этому переломному моменту, чтобы не вызвать сильного потрясения в обществе и не посягнуть на права дворян-собственников. В то время как в других государствах третье сословие стремилось путем кровавых революций вырвать у дворянства себе права и уничтожить аристократию, дворянский орган власти в Польше, напротив, предупредил желания других классов общества, заботясь при этом только об интересах и благополучии государства.
В целом, настроенность членов ассамблеи была благожелательной и намерения – честными. Большая часть стремилась урезать власть олигархии и установить такой тип монархии, при котором нация могла бы пользоваться всеми благами политической независимости и разумной свободой. Тех, кто думал иначе, было мало. Однако были споры по поводу тех или иных форм, и эти споры носили весьма живой характер, так как вопросы, вынесенные на обсуждение ассамблеи, никогда ранее не рассматривались сеймом и, соответственно, представали перед всеми в новой и необычной форме.
Иначе обстояло дело с вопросом о налогах и добровольных взносах на благо отечества. Было установлено без всяких споров, что дворянство должно уплачивать государству десятую часть своих доходов, а владельцы староств[6] – половину. В то время как дворянство не щадило себя, чтобы удовлетворить нужды государства, было решено, что сельские жители заслуживают послабления и не должны платить больше, чем платили до сих пор. Помимо установленных налогов, наиболее состоятельные жители трех областей государства – Великой Польши, Малой Польши и Литвы – сделали значительные взносы в общую казну, и сам король последовал этому примеру. Духовенство, со своей стороны, также сделало значительные пожертвования.
30 декабря заседания сейма были отложены до 3 февраля 1790 года, и маршалкам было вменено в обязанность направить универсалы во все воеводства, чтобы довести до них решения, принятые сеймом.
Тем временем Россия объявила через своего посланника в Берлине, что она не будет препятствовать альянсу Пруссии с Польшей. Прусский посланник официально сообщил сейму об этой декларации. Затем он сообщил депутатской комиссии по иностранным делам, что король Пруссии одобрил проект реформ, принятый сеймом; что он готов предложить Польше оборонительный союз и предлагает наполовину уменьшить сборы, налагаемые его таможнями на ввоз товаров из Польши. При этом посланник не скрывал, что Фридрих Вильгельм желал отделения для Пруссии Торуня и Гданьска[7] с частью их территории и что он был бы согласен на соответствующую компенсацию, выгодную для Польши.
Сейм рассмотрел выгоды предложенного альянса, и мнения разделились. Многие его члены хотели сохранить нейтралитет, другие высказывались против нейтралитета, но после провозглашения независимости нации и для ее обеспечения альянс с сильным государством стал восприниматься как необходимый. Некоторые хотели, чтобы договор об альянсе сразу сопровождался торговым договором. Другие настаивали, чтобы договор об альянсе был заключен в первую очередь и что необходимо определенное время, чтобы обсудить торговый договор и заключить его к выгоде обеих сторон. Это мнение возобладало, и противники прусской партии радовались, видя, что переговоры затягивались, препятствия и трудности умножались и тем самым России предоставлялось достаточно времени, чтобы договориться с королем Пруссии.
Тем временем Луккезини, сделав свое предложение относительно Торуня и Гданьска, добавил, что имел указание своего короля не настаивать на нем, если возникнут трудности и противодействие; то есть он настаивал преимущественно на договорах об альянсе и торговле.
Король Польши, убедившись, что большинство ассамблеи высказалось в пользу прусской стороны, и сам увлеченный речами Луккезини, вознес хвалу прусскому королю в своей речи, которую он произнес после обсуждения договора об альянсе. В ней он резюмировал все, что было сказано за и против, и заявил, что присоединяется к большинству. Это заявление короля еще более способствовало уменьшению оппозиционной партии, и Луккезини воспользовался этим, чтобы сделать конфиденциальное сообщение о том, что Россия «предложила королю Пруссии отдать ему во владение земли Великой Польши, если он примет нейтралитет в войне с турками». Это открытие, переходя из уст в уста, вынудило членов оппозиции вовсе замолчать, и альянс с Пруссией был утвержден на заседании 15 марта почти единогласно. Затем немедленно занялись редактированием договора, который был подписан 29 марта и ратифицирован 5 апреля.
После ратификации этого договора, когда начались дискуссии по поводу торгового соглашения, я получил приказ ускорить мой отъезд в Голландию с порученной мне миссией.
Годом ранее, когда встал вопрос о назначении посланников к иностранным дворам в Константинополе, в Англии и в Швеции, я отказался от всех предложений, так как в то время я не видел, чтобы наши дела находились в более или менее определенном состоянии. Я наблюдал экзальтацию с одной стороны, недобрые намерения и препоны – с другой. Мне казалось, что строились слишком обширные планы при малых возможностях их осуществления.
Я не понимал, что могут предпринимать польские посланники при иностранных дворах, в то время как сама Польша не была в состоянии выйти из-под опеки могущественных соседей, которые поделили ее, и потому оставалась слабой – без армии, без казны и без утвержденной формы правления.
Я разделял энтузиазм всех добропорядочных граждан, восхищался их воодушевлением, энергией и талантом. Но я видел, что ассамблея поделилась на разные партии, что жители столицы и провинций присоединялись к этим разногласиям. Кроме того, видел медлительность работы сейма, подрывную деятельность интриганов, стремившихся расстроить эту работу, и потому я укрепился в своем решении не отправляться с миссией ни к какому иностранному двору, надеясь на месте быть более полезным моей родине.
Тем временем, через несколько месяцев, к концу 1789 года, Петр Потоцкий был назначен посланником в Константинополь, Георгий Потоцкий – в Швецию, Адам Ржевуский – в Данию, князь Юзеф Чарторыйский – в Берлин, Непомук Малаховский – в Дрезден, Тадеуш Морский – в Испанию, Франц Букатый – в Лондон, Станислав Потоцкий – в Париж, меня же направили с миссией в Голландию.
Эту новость мне привез курьер на мою родину, в Литву. Я немедленно отправился в Варшаву, понимая, что не могу и не должен отказываться от этого назначения в то время, когда положение дел существенно переменилось и речь идет о том, чтобы оправдать надежды моих соотечественников.
Я попросил лишь немного времени, чтобы уладить свои семейные дела, и затем, получив инструкции и верительные грамоты, в июне покинул страну.
Глава III
Я прибыл в Бреслау 21 июня 1790 года. Внешне в городе царило полное спокойствие, но все умы обретались в состоянии беспокойства и неуверенности в связи с военными приготовлениями Леопольда и Фридриха.
Князь Яблоновский, польский посланник при берлинском дворе, уже несколько дней ожидал курьера с распоряжением о его отъезде в Рейхенбах, где должен был состояться конгресс. Князь Реусс, австрийский посланник, барон Рид, посланник Голландии, и Эварт, представитель Англии, находились в таком же ожидании.
Английский представитель сообщил мне, что император Леопольд направил дружеское послание прусскому королю, где заявлял, что с удовольствием примет все предложения, которые будут ему сделаны. Соответственно можно было предположить, что все устроится к общему удовлетворению. Однако не таково было мнение графа Войны, посланника Польши при венском дворе, который в переписке с князем Яблоновским прямо говорил о том, что Леопольд и слышать не хотел об уступке части Галиции Польше, чтобы возместить ей ущерб в том случае, если она уступит Торунь и Гданьск прусскому королю. Говорил и о том, что война неизбежна, хотя Леопольд явно ее не хотел, тогда как его министры, особенно князь Кауниц, употребляли все возможные средства, чтобы склонить его к ней.
22 числа я нанес официальные визиты всем посланникам, а также графу Гойму и князю Гогенлоэ – коадъютору епископства в Бреслау. Я должен был продлить на некоторое время мое пребывание в этом городе, чтобы выполнить кое-какие особые инструкции, полученные мною, затем, проездом через Силезию, пронаблюдать за ходом переговоров между австрийской и прусской сторонами, но при этом не давая понять, что я имею на это полномочия. Однако последующие указания заставили меня ускорить отъезд, как я уже упоминал выше.
Я узнал через князя Яблоновского, что г-н де Герцберг выражал желание повидаться со мною, когда я буду направляться в Голландию, что он советовал мне представиться прусскому королю, прежде чем отправиться к месту назначения, и что он брался сам проводить меня в штаб-квартиру.
Это предложение меня устраивало. 23-го числа я отправился в Рейхенбах. Там я был очень хорошо принят г-ном де Герцбергом, однако с прискорбием увидел, что премьер-министр нашего нового союзника-короля имел в целом очень неблагоприятное мнение о польской нации. Все вопросы, которые он задал мне относительно сейма в Варшаве, мнение, высказанное мне о разных примечательных личностях на этом сейме, недовольство препятствиями, чинимыми торговому договору между Пруссией и Польшей, которое он не мог скрыть, – все это убедило меня в его нелюбви к полякам. Он выступал за альянс с ними только потому, что придерживался принятой им схемы – ослабить Австрию, обеспечить Пруссии Торунь и Гданьск и, следовательно, быть готовым к давлению со стороны лондонского кабинета. Именно в этих вопросах посланник Эварт непрестанно воздействовал на него, упирая на необходимость и преимущества англо-прусского союза.
Что же касается самого прусского короля, то похоже было, что он действительно испытывал уважение и приязнь к польской нации. До сего времени этот правитель был известен с благоприятной стороны и всегда проявлял лояльность, что обеспечило ему всеобщее уважение. Общественному мнению предстоит впоследствии решить, не явилось ли его дальнейшее поведение по отношению к той же Польше темным пятном на его царствовании и не должно ли это значительное изменение в образе его мыслей и действий омрачить мнение о его царствовании – таком благородном и блестящим в начале… Несомненно, что в то время благоприятное мнение о нем вызывало искреннее желание узнать его лично. Мысль о том, чтобы быть представленным Фридриху Вильгельму лично, была для меня тем более лестной, что мне предстояло исполнять роль посланника при том дворе, где главой правительства была его родная сестра.
Г-н де Герцберг сказал мне, что он ожидает со дня на день прибытия из Вены князя Реусса, а также г-на Шпильмана, и что он попытается выторговать для Польши какое-либо выгодное условие, так как ее интересы он не отделяет теперь от интересов Пруссии.
В то же время я заметил, что он не слишком удовлетворен ответами, предварительно полученными из Вены. Он заметил в разговоре со мной, что не может покинуть свой пост ни в тот день, ни в следующий и что если я не хочу останавливаться в Рейхенбахе, то могу отправиться один в Шонвальд, где в то время находился король, который с удовольствием примет меня. Он дал мне рекомендательное письмо генералу Кокерицу, адъютанту Его Величества, который и должен будет представить меня ему.
Я незамедлительно отправился в Шонвальд, находившийся всего в двух милях от Рейхенбаха. В окрестностях этой деревни находились прусские войска, содержавшиеся в состоянии готовности. Король, таким образом, находился в двух лье от границы и каждый день совершал объезд лагеря, а в оставшееся время работал у себя.
Я прибыл в Шонвальд в послеобеденное время, когда король совершал свою обычную прогулку верхом. Поскольку мне не могли сказать точно, когда он вернется, что могло случиться довольно поздно, я ограничился тем, что доставил письмо г-на Герцберга генералу Кокерицу. Затем я отправился в деревню Олберсдорф, в одной миле от Шонвальда, – она была определена в качестве штаба для гетмана Огинского. Там меня догнала эстафета из Бреслау с бумагами из Варшавы, в которых содержался приказ не останавливаться в Силезии и немедленно продолжить путь в Гаагу.
Я не знал, чем был вызван этот неожиданный приказ, и, боясь, чтобы в Варшаве меня не обвинили в желании лично представиться королю, нашел некий предлог, чтобы уехать в тот же вечер, и покинул Олберсдорф, не повидавшись с королем. Спустя несколько часов король прислал своего адъютанта, чтобы пригласить меня назавтра отобедать с ним, и потом упрекал моего дядю за то, что он не убедил меня остаться, но я был уже далеко.
Поскольку высказывались различные предположения по поводу моего внезапного отъезда, я счел себя обязанным назвать настоящую его причину, ведь никакой другой действительно не могло быть.
Я вернулся в Бреслау утром 25-го и в тот же день вечером уже был по дороге в Дрезден.
Перед моим отъездом из Бреслау Эварт дал мне понять, что, судя по последним новостям из венского кабинета, там уже подумывали о возможности войны, которая могла разразиться буквально на днях. При этом он добавил, что прусский король, не желая ни компрометировать, ни подставлять под удар поляков, не потребует от них помощи, которую они обязаны были ему представить в соответствии с договором, – чтобы дать им возможность сохранить достойный нейтралитет.
26-го числа, проездом через Лейгниц, я встретил королевских гвардейцев из Потсдама, которые направлялись к Шонвальду. По дороге я видел также разные военные части, шедшие к границе Богемии, – это направлялось подкрепление армии, которая должна была в целом насчитывать около ста тысяч человек.
Тем временем, несмотря на все эти военные приготовления и препятствия, которые создавали министры обоих дворов на путях к примирению, их монархи обменялись личными письмами, и в результате переговоров в Рейхенбахе была заключена договоренность, подписанная 27 июля 1790 года.
Этот дипломатический акт серьезно повлиял на весь ход дел в Польше. Больше не шла речь, как предполагалось ранее, о Галиции, которая должна была стать компенсацией Польше за Торунь и Гданьск. Их жаждал заполучить прусский король. Леопольду были сделаны некоторые намеки на то, что этот проект выдвигала Россия, чтобы наказать его за нежелание продолжать войну с Турцией. Она хотела, чтобы он потерял Галицию, а также стремилась расположить к себе Пруссию, предложив ей Торунь и Гданьск, на что поляки охотно бы согласились, чтобы получить обратно свои области, некогда захваченные Австрией.
Леопольд решил парировать этот удар, начав переговоры с прусским королем: он предложил ему свое посредничество по вопросу о Торуне и Гданьске в обмен на некоторые преференции, которые могли быть предложены ему самому. Хотя на этот счет состоялся только конфиденциальный обмен мнениями, граф Война, польский посланник, счел себя обязанным сообщить своему двору дошедшие до него сведения: речь шла о договоренности, что прусский король должен помочь расширить границы Галиции за счет Польши, если император облегчит ему приобретение Торуня и Гданьска.
Известна официальная декларация, которую через некоторое время сделал прусский король через своего посланника, чтобы опровергнуть эти слухи, так как они посеяли тревогу среди членов сейма. Он написал также графу де Гольцу, своему посланнику, который заменял в то время Луккезини: «Я не нахожу слов, чтобы выразить мое удивление тому, что такие слухи могли распространиться в Польше, и еще более – тому, что, когда мне приписывают подобные намерения, можно было в самой малой степени им поверить. Я приказываю, чтобы вы немедленно засвидетельствовали от моего имени ложность этих сведений; вы должны везде и при любом удобном случае заявлять убедительно и торжественно, что эти слухи злонамеренно распускаются, чтобы посеять рознь между мною и сеймом и возбудить недоверие нации по отношению ко мне. Я смело утверждаю, что никто не сможет привести ни малейшего доказательства того, что между мною и венским двором могло произойти что-то, подтверждающее подобные подозрения; речь не только никоим образом не шла о новом разделе Польши, но я был бы первым, кто восстал бы против этого».
Все же переговоры в Рейхенбахе, сблизившие венский и берлинский дворы, не могли не вызвать беспокойства и подозрений в Польше.
Леопольд видел, что Нидерланды охвачены восстанием, а Венгрия жаждет отвоевать обратно свою независимость, и понимал невозможность призвать первое из этих государств к порядку без применения силы и противостоять претензиям венгров, если прежде не будет закончена война с Турцией.
Он знал, что прусский король подстрекал Порту к продолжению этой войны и дал распоряжение своему посланнику в Константинополе подписать договор об альянсе. Он знал также, что прусский двор может ему помешать двинуть армию в Нидерланды. Поэтому пришлось перестать прислушиваться к мнению князя Кауница. К тому же его собственная мягкая и миролюбивая натура противилась новой войне.
Прусский король без всяких затруднений согласился на то, чтобы Леопольд провел свои войска в Нидерланды, но с условием, что эти земли не будут считаться завоеванными и сохранят свое прежнее устройство. Вторым условием было заключение перемирия с Турцией, чтобы договориться затем о заключении мира, по которому ей будут возвращены все завоевания австрийцев.
В ходе всех этих переговоров речь о Польше вообще не шла, и это сближение венского и берлинского дворов было для Польши пока лишь печальным предзнаменованием.
После подписания этих договоренностей австрийские войска направились маршем в Нидерланды, и с революцией там было вскоре покончено. Предварительные переговоры с Турцией были также подписаны почти в точном соответствии с этими договоренностями.
Я возвращаюсь к своему путешествию. Не буду рассказывать о своем пути через Дрезден, где я остановился на несколько дней, о Лейпциге, Хальберштадте, Брунсвике и Ганновере, так как я исключил из этих «Мемуаров» всю описательную часть своих путешествий и составил из них отдельный том. На некоторое время я оказался лишен политических новостей, в особенности новостей из моей страны, но я должен был быть вознагражден за эти лишения по прибытии в Гаагу, которую недаром называли «обсерваторией дипломатов». Я прибыл в нее как раз в тот момент, когда новости стали стекаться туда со всех сторон. Я приблизился к арене действий французской революции, впрочем и нидерландской тоже. В свои двадцать четыре года я был в полном восторге от того, что наконец увижу вблизи события, которые издали вскружили мне голову и обострили мое любопытство!.. Я тогда не знал еще трагической стороны всех революций и признаю, что в пылу молодости и при всех тех либеральных принципах, которыми я был напичкан с детства, от души поздравлял себя с удачей иметь миссию при дворе, столь близком к Франции. Мне казалось, что она даст мне примеры чистейшего патриотизма, удивительнейших героических деяний и того мужественного и возвышенного красноречия, которое любовь к свободе делает таким ярким и убедительным.
С тех пор я прожил много лет, заполненных разнообразным опытом, прежде чем понял, как легко позволить обольстить и увлечь себя очарованием новизны и как трудно при этом предвидеть последствия, к которым приведет разрушение старого режима правления и полный переворот в системе учреждений, которые составляли его основу.
Итак, я прибыл в Гаагу 18 июля и не мешкая представил оригиналы моих верительных грамот президенту ассамблеи Генеральных Штатов Соединенных провинций. Их копии, по сложившемуся обычаю, я передал премьер-министру Ван дер Шпигелю и два дня спустя узнал, что назначена депутация из двух членов ассамблеи, чтобы официально сообщить мне, что я принят в качестве чрезвычайного и полномочного посла Е[го] В[еличества] короля и светлейшей Речи Посполитой Польши. Эта декларация сопровождалась самыми дружелюбными выражениями в адрес короля и польской нации.
Вскоре я был представлен принцу и принцессе и с удовольствием увидел себя посреди блестящего и любезного общества.
В то время послом Англии в Гааге был лорд Окленд. Его тон, манеры, умение влиять на ход дел напомнили мне графа Штакельберга в Варшаве. Изысканный дипломатический корпус здесь был представлен графом Келлером от Пруссии, графом Льяно от Испании, г-ном Калишевым от России, графом Ловенхельмом от Швеции, г-ном д’Араухо от Португалии, шевалье де Ревелем от Сардинии, г-ном Кайяром, уполномоченным по делам от Франции, г-ном Буоль-Шауэнштейном от Австрии.
Полученные мною инструкции сводились к следующим заявлениям:
1. Целью моей миссии является подтверждение живейшего желания короля и всей Польской Речи Посполитой поддерживать и укреплять дружеские связи с Голландской республикой.
2. Проинформировать Генеральные Штаты Соединенных провинций об оборонительном союзе, заключенном Польшей с прусским королем, с которым Голландская республика находится также в тесной связи, из чего следует необходимость новых отношений и связей между этой республикой и Польшей.
3. Сообщить, что после заключения вышеупомянутого альянса с королем Пруссии продолжаются переговоры о заключении торгового договора с берлинским двором. Поскольку этот договор предусматривает торговые отношения преимущественно через Балтийское море, то результат этих переговоров не может быть безразличным Голландской республике.
В последующих пунктах мне рекомендовалось не терять из виду все, что могло послужить к расширению польской торговли и обеспечить коммерческие выгоды как для страны в целом, так и для ее жителей в частности.
В заключение до моего сведения доводилось, что главная цель моей миссии – наблюдать за переговорами, которые могли последовать за войной, и добиться при содействии Голландской республики, чтобы Польша могла иметь своего представителя в генеральном конгрессе и в результате обеспечить соответствующим договором свою целостность и независимость.
Польша уже два десятка лет привлекала к себе внимание всей Европы. Твердая решимость представителей этой нации, выдающиеся таланты в области законодательства, политики и дипломатии, которые проявились вдруг самым неожиданным и энергичным образом, в сочетании с красноречием многих членов сейма; разумные меры, употребляемые для того, чтобы выйти из-под действия соглашений о разделе 1775 года и создать значительную армию; высказывания самого короля в пользу новой системы и всеобщий энтузиазм, царивший в стране, – все это делало Польшу самым интересным объектом на политическом горизонте Европы.
Прусский король спешил заручиться ее дружбой и желал заключить с ней альянс. Англия и Голландия могли надеяться в связи с изменением политической системы в Польше иметь гораздо большие выгоды от торговли с этой богатой, плодородной страной, которая, конкурируя с Россией, производила зерно разных сортов, лен, коноплю, строительную древесину, кожу и другое сырье и, со своей стороны, имела нужду в продукции, производимой иностранными фабриками и мануфактурами.
Швеция и Турция с удовлетворением наблюдали за стараниями Польши уйти из-под зависимости от России и за ее готовностью действовать вместе с ними против общего врага.
Французское правительство также высказалось очень дружелюбно, но вполне определенно в письме, адресованном своему представителю в Варшаве Оберу, а тот передал его содержание маршалкам сейма. Давняя дружба, – говорил он там, – между Францией и Польшей побуждает Его Величество относиться с самым большим интересом ко всему, что может способствовать сохранению спокойствия в Польской Речи Посполитой. Король надеется на здравый смысл польской нации, которая, занимаясь сейчас восстановлением разных ветвей государственной власти, постарается избежать всего, что могло бы ее скомпрометировать в глазах любого другого государства. Она должна осознать, что то, что веками искажалось и разрушалось, не может быть восстановлено за несколько месяцев. Она сумеет учесть все обстоятельства, требующие от нее взвешенного подхода, чтобы не подвергнуть себя опасности свести на нет даже саму надежду когда-либо возродить то устойчивое и блестящее положение, которое природа определила ей среди государств Европы.
Что же касается поборников революции, начинавших набирать силу во Франции, то они усматривали в энтузиазме и рвении, охвативших Польшу, ростки тех либеральных принципов, которые могли быть однажды перенесены из одного конца Европы в другой, – дух философии, установление царства свободы. Но расчет на это оказался ложным, так как побудительные мотивы конституционного сейма основывались на принципах, сильно отличавшихся от идей французских революционеров, хотя их иногда и сравнивали с якобинскими.
Вообще говоря, почти все правительства и все просвещенные народы с интересом наблюдали за благородными усилия поляков подняться с колен. Это был, без сомнения, блистательный момент в истории Польши, и доказательством тому была та благожелательность, с которой повсюду встречали ее посланников.
Любых хвалебных слов будет недостаточно, чтобы описать внимание и любезность по отношению ко мне со стороны двора, притом что умы едва успели немного успокоиться после недавних событий революции, которая была лишь временно приглушена введением в страну прусских войск. Было много недовольных, поддерживавших Францию, которые подчеркивали свое несогласие с «оранжистами» и вынужденно носили совсем крошечные оранжевые кокарды, так как абсолютно все, не исключая даже иностранных послов, обязаны были иметь их на своих головных уборах. Эти недовольные, которых больше всего было в Амстердаме, испытывали неприязнь к своему двору, а также к представителям Пруссии и Англии, но, несмотря на все это, ко мне одинаково хорошо относились обе стороны, и все голландцы в целом проявляли живой интерес к судьбам Польши.
Вскоре я получил доказательство того доверия, которое испытывали голландцы к решениям нашего сейма. Мне были поручены переговоры о даче займа Речи Посполитой. Многие банкиры в Амстердаме вызвались тут же решить положительно этот вопрос, и все переговоры были завершены в двадцать четыре часа.
В это же самое время здесь велись переговоры о займе для России. Я же несколько опередил их и настаивал на скорейшей отправке средств в казну Польши, не имея при этом никаких других соображений, кроме выполнения распоряжений из Варшавы. Однако при этом мне были приписаны намерения задержать или даже провалить переговоры о займе для России – я узнал спустя двадцать лет, что это была первая вина, которую вменили мне в Петербурге, и произошло это после получения рапорта, отправленного туда послом России в Варшаве Булгаковым.
Старый советник Фажель, особенно дружелюбно настроенный к полякам и имевший давнюю привязанность к королю Польши, с которым он познакомился в Голландии еще в 1756 году, рассказал мне некоторые очень интересные детали о Станиславе Понятовском и уверял, что уже тогда был почти уверен, что тот станет королем. Он показал мне копию письма, которое отправил Станиславу, чтобы поздравить его с восшествием на трон и напомнить ему о тех разговорах, которые были у них на этот счет.
Я лишь дважды имел возможность видеться с ним, так как он вскоре умер и на его место заступил молодой Фажель.
После того как я объявил нашему представительству иностранных дел, что мнения двора, при котором я нахожусь, полностью согласуются с мнениями берлинского двора, то не преминул, что было вполне естественно, сообщить также и о тех замечаниях, которые мне тогда же передали в Амстердаме, по поводу досадных последствий, которые будет иметь для Польши уступка Торуня и Гданьска. Докладная записка, которую мне передали в связи с этим, была толково составлена. Там содержались разумные и верные замечания, но в каждой фразе звучало противодействие прусской системе и подчеркнуто пристрастное отношение к ней.
Я не знал, какое впечатление произведет эта докладная записка в Варшаве, но я обязан был довести ее до сведения нашего представительства, тем более что она была подписана многими известными и богатыми коммерсантами, которые часто вступали в торговые отношения с Польшей, но при этом никак не являлись «штатхаудерами»[8] и, соответственно, друзьями Пруссии.
Представительство поручило мне намекнуть, что поскольку король и Польская Речь Посполитая назначили своего посла в Гаагу, то было бы приятно видеть и в Варшаве представителя Генеральных Штатов Соединенных провинций. Соглашение по этому вопросу не составило никаких затруднений. Барон де Рид, который был назначен голландским посланником в Петербург, получил указание навестить Польшу и провести некоторое время в Варшаве.
В начале сентября курьер доставил мне новость о подписании в Вареле мира между Швецией и Россией. Переговоры было поручено вести Армфельдту и Игельстрому, и они же подписали договор 14 августа 1790 года. Мне поручили прозондировать, какое впечатление эта новость произвела в Гааге. Нет необходимости говорить, что англо-прусская лига была безмерно этим разочарована. Впрочем, зная характер шведского короля, все же надеялись подтолкнуть его к новым враждебным действиям против России; возможно, эти надежды и оправдались бы, если бы не были подписаны предварительные мирные соглашения между Россией и Турцией в Галаце, а затем – мирный договор в Яссах, что вынудило его отказаться от новых подобных попыток. К тому же, развитие революционных событий во Франции отвратило его от всяких намерений против России, чтобы помочь ей стать одной из главных сил в Европе, противостоящих Франции.
Не имея более ничего значительного сообщить представительству о ситуации в Голландии, которая была покорена прусским королем и подчинена Англии и потому действовала исключительно по указке этих двух дворов, я старался в своей корреспонденции приводить интересные детали обо всем, что происходило во Франции и Нидерландах. Не было практически ни одного дня, когда до нас не доходили бы известия из Брюсселя и Парижа. Однако похоже было, что Ван-дер-Нут и Ван-Эутен более занимали общественность Гааги, чем революционные перипетии во Франции. Эти бельгийские адвокат и священнослужитель являлись предметом всех разговоров. Ими были заполнены страницы всех газет. Они выступали главными персонажами всех карикатур. Их вводили действующими лицами во все диалоги и театральные пьесы, делали героями или подвергали осмеянию в зависимости от успехов или неудач их сторонников. Англо-прусская лига тайно поддерживала их в то время, когда прусский король договаривался с Леопольдом в Рейхенбахе, но все это не могло продолжаться бесконечно. Дворянство, духовенство, демократы и демагоги – все были недовольны и мечтали избавиться от австрийского ига, но при этом не могли согласовать свои позиции, действовать по одним и тем же принципам и образовать единую партию, которая могла хотя бы на некоторое время устоять. Австрийский император Иосиф II сам вызвал эту революцию, потеряв доверие брабантцев и фламандцев – из-за своего намерения обменять бельгийские области на Баварию. Он вызвал возмущение жителей этих провинций, разрушив их крепости, уничтожив их привилегии, отменив их сеньоральные права. Желая принудить католиков, с их-то чувством превосходства и предрассудками, к терпимости по отношению к иноверцам, он учреждал светские школы без духовенства, пытался предоставить нации некую видимость свободы и в то же время укреплял на деле власть и авторитет монарха.
Иосиф II, втянутый в войну с турками, обеспокоенный положением в своих венгерских владениях, опасающийся англо-прусского союза, не осмеливался, да и не мог послать достаточно войск, чтобы утихомирить волнения в Нидерландах. Леопольд, будучи в лучшем положении, дал себе труд лишь послать туда некоторое количество войск. Все произошло, как должно было произойти, – и гораздо раньше, чем на это можно было рассчитывать. Гусарское подразделение заняло столицу. Я могу засвидетельствовать, что, направляясь в Лондон, по случайному совпадению прибыл в Анвер[9] буквально за пару часов до того, как туда вошли австрийцы: они захватили его двумя десятками солдат инфантерии.
Легкость, с которой было покончено с этой революцией, оказалась губительной для тех, кто вообразил себе, что так же будет и с французской революцией. Можно ли было сравнивать бельгийские провинции с Францией – в смысле протяженности, населения, географического положения, природных ресурсов? Все усилия объединенных государств Европы не смогли достичь цели: спасти жизнь короля, утихомирить ярость революционных демагогов, успокоить взбудораженные умы, вернуть на трон Людовика XVIII, позволить вернуться во Францию тем, кто из нее эмигрировал – намеренно или по необходимости. Когда речь шла о защите родины, все республиканские партии объединялись. Революционные силы иногда терпели неудачи, но рознь между ними никогда не доходила до того, чтобы подставить под удар столицу и страну. Неудачи не заставляли их отступать, а лишь вдохновляли идти вперед с еще большим энтузиазмом и энергией. Они одерживали победы и заставляли отступать врага, стремившегося войти во Францию, чтобы восстановить там старый режим правления. Почти всеобщее убеждение в Голландии было таково, что, не будь этой коалиции против Франции, там было бы пролито гораздо меньше крови и, возможно, Людовик XVI остался бы жив.
Не вызывает сомнений то, что эта республика с ее населением в 24 миллиона в любом случае не смогла бы выстоять и что, даже без введения иностранных войск, она была бы вынуждена, может быть и несколькими годами ранее, кончить тем, чем она кончила: понять необходимость главы в своем государстве.
Здесь могут, конечно, возразить, что я предвосхищаю эти события своими позднейшими размышлениями о французской революции, что я тогда якобы предвидел то, что и случилось позднее, но утверждаю, что во время моего пребывания в Гааге на всех собраниях только и говорили о тех пагубных катастрофических событиях, к которым приведет вооружение всей Европы против Франции, и предугадывали их печальные результаты. Это подтверждается и тем мнением, которое я высказывал в своих депешах, адресованных нашему представительству иностранных дел в Варшаве, так же как и в моих официальных сношениях с послами Польши в Берлине, Лондоне и Вене.
И наконец, готовя свои сообщения для представительства, я пользовался надежным источником. Это был граф де Мерси-Аржанто, посланник венского двора в Париже, прибывший на некоторое время в Гаагу, – он получал все новости непосредственно из Франции. В своих официальных сообщениях я отсеивал его собственные предположения, опасения и надежды и придерживался только фактов.
Что касалось новостей из Нидерландов, я доверялся главным образом барону де Фельцу, который излагал нам их без всяких домыслов. Большую часть сведений о голландской революции доставлял мне г-н Кайяр, французский поверенный в делах, который впоследствии опубликовал подробные «Мемуары» об этой революции. Полученные от Кайяра сведения я сообщал своему правительству в соответствии с имеющимися у меня указаниями.
Глава IV
В ноябре 1790 года до меня дошло письмо Эварта, посла Англии при берлинском дворе, в котором сообщалось, что я буду назначен нашим представительством иностранных дел для выполнения особой миссии в Лондоне. Он получил эти сведения от Хэйлза, посла Англии в Варшаве. Эта новость, писал Эварт, доставила ему большое удовольствие, и он призывал меня не задерживаться, как только я получу официальные инструкции. Он прибавлял, что уже предупредил об этом английскую сторону. Сам он, будучи болен, чувствовал необходимость полечиться на водах в Бафе и потому рассчитывал в скором времени встретиться со мной в Англии и сообщить мне важные известия, касающиеся моей страны. Он уверял меня, что я буду очень хорошо принят в Лондоне, и проявлял большой интерес и внимание к тому, что происходило в Польше. Стиль его письма был далек от дипломатического – дружеский и вызывающий доверие.
Две недели спустя я получил официальное указание отправиться в Лондон. В качестве посла Польши там находился г-н Букатый. До тех пор, однако, ему не поручали никаких действий перед английским правительством, чтобы выяснить позицию Англии по вопросу о Торуне и Гданьске. Возможно, у нас надеялись избежать этой необходимости и убедить короля Пруссии отказаться от своих намерений относительно этих двух городов. Впрочем, по этому поводу мнения в Варшаве разделились не только среди членов сейма, но и в представительстве иностранных дел.
Долгое время старались избегать этого вопроса, и наше представительство отвечало послам Луккезини и Хэйлзу, что оно не уполномочено делать какие-либо уступки или обмены, что сейм не имеет таких полномочий и что после заключения альянса с королем Пруссии он может обсуждать только торговый договор. Поскольку, похоже, уступка Торуня и Гданьска была условием «sine qua non»[10] для заключения этого договора и поскольку послы Пруссии и Австрии настаивали и торопили с определенным ответом, то наше представительство решилось наконец поручить мне поднять этот вопрос в частной беседе с британским премьер-министром Питтом, проведение которой я должен был сам обеспечить.
Я покинул Гаагу в первых числах декабря. Мой путь пролегал по земле Нидерландов как раз в то время, когда австрийские войска заканчивали их замирение. Несколько шаек недовольных, засевших в кустарниках и беспокоивших путешественников, – вот и все, что осталось от этой пресловутой революции.
В Лилле я впервые столкнулся с французскими национальными гвардейцами и учреждениями революционной Франции. Меня остановили при въезде в город, и затем два солдата сопроводили мой экипаж до самого муниципалитета. Меня впустили в просторный двор, а ворота его закрыли и забаррикадировали. Я передал свой паспорт человеку с неприятной физиономией, который куда-то его понес. Паспорт держали где-то более получаса. Молодые национальные гвардейцы нахально подошли к самому моему экипажу и намеревались обыскать его. В это же время какой-то человек в мещанской одежде (похоже, представитель «старого режима») подошел ко мне и тихо спросил, знаю ли я, зачем меня заставили явиться в муниципалитет. Я ответил, что для того, очевидно, чтобы проверить мой паспорт. Тогда он сказал мне, что не в одном паспорте дело и что за три дня до меня здесь проезжал один барон в четырехместном экипаже с шестеркой лошадей (экипаж был совсем как мой), а потом его отправили в Париж, и, говорят, он погиб там на эшафоте. В ответ на это я не проявил ни удивления, ни беспокойства и тут же послал своего курьера в здание муниципалитета, чтобы высказать жалобу на задержку. Наконец мне вернули паспорт, на котором было проставлено заглавными буквами «СМОТРЕН», но без указания где, когда и кем.
Я благополучно добрался до Кале, и первая фигура, которую я там встретил, был капуцин – с пудреной головой, в башмаках и белых чулках. Я тут же вспомнил, несмотря на несходство в одежде, монаха из книги Стерна, тем более что я оказался в том же месте и в той же гостинице «Dessein»![11] Я хотел подойти к нему с вопросом, чем вызвана такая перемена одежды, но «altri tempi, altre cure»[12] – он ловко от меня ускользнул, опасаясь, очевидно, скомпрометировать себя, если будет отвечать на мои вопросы.
Оказалось, что ужасный шторм потопил много кораблей в море и разбил некоторые суда даже в самом порту. В течение уже трех дней сообщение между Кале и Дувром было прервано. Я ожидал возможности отплыть к месту назначения. Каждый день я видел обломки кораблей, прибитые к берегу, читал газеты, приходившие каждые двадцать четыре часа, слышал, как распевали революционную «Ca ira» на каждой улице.
Наконец, когда я уже терял терпение в ожидании попутного ветра, я смог добраться до Дувра, а оттуда – до Лондона. Здесь меня ожидало письмо от Эварта, в котором он сообщал мне, что находится в Бафе. Он надеялся, что я приеду повидать его, так как сам он был настолько болен, что не мог в ближайшее время отправиться в Лондон; тут же он сообщал мне, что предупредил Питта о цели моей миссии и что я буду принят им благосклонно.
Я получил от г-на Букатого все необходимые сведения и посоветовался с ним, как с человеком опытным, хорошо знавшим Англию и Лондон, поскольку он провел здесь часть своей жизни. Было условлено, что я, прежде чем увидеться с г-ном Питтом, должен выполнить все обычные формальности при дворе. Таким образом, я был представлен королю, королеве и принцессам. Я присутствовал при закрытии сессии парламента, где видел князя де Галля, герцога Йоркского и других членов семьи. Через несколько дней я написал г-ну Питту, чтобы он назначил мне день и час, когда я смогу с ним встретиться. Я получил от него очень вежливый ответ, написанный его собственной рукой, затем отправился на встречу с ним к назначенному времени. В первую нашу встречу, которая длилась более двух часов, г-н Питт больше слушал меня, чем говорил сам, желая уяснить себе мотивы, выдвигаемые против уступки Торуня и Гданьска. Он внимательно выслушал, не прерывая, все, что я мог сказать ему по этому поводу. У меня под рукой была докладная записка, о которой я уже упоминал, – та, которую мне вручили в Амстердаме. Она была очень хорошо составлена и, при всей ее пристрастности, содержала все нужные аргументы, которые только можно было собрать воедино против предложения прусского короля насчет Торуня и Гданьска.
Я зачитал эту записку, не называя тех, кто мне ее передал, и сказал, что наше представительство не разделяло этого мнения, насколько я мог судить, так как никакого решения не было пока принято, и что желательно узнать мнение по этому поводу представителей Англии и Голландии, так как данная проблема не может быть безразлична этим двум государствам.
Я добавил также, что положение нашего представительства было тем более затруднительным, что оно должно было дать отчет о своем решении не только главе сейма, но всей многочисленной ассамблее, где каждый имел свое мнение и где, по несчастью, имело место разделение на разные партии.
Я отметил: чем более возмущены в Варшаве различными писаниями и высказываниями против уступки Торуня и Гданьска, а также речами на заседаниях сейма, произносимыми нунциями, которые настроены против этих уступок, – тем труднее бороться с настроенностью по всей стране и против самого проекта, и против тех, кто его предлагает.
В заключение я сказал, что наше представительство иностранных дел не хочет подвергаться упрекам и потому желает использовать любое средство, которое избавило бы его от обвинений. Оно откровенно поручило мне довести до сведения г-на Питта то критическое положение, в котором оказалось правительство Польши, а также сообщить о его нерешительности по этому очень важному вопросу, по которому оно не может высказаться, не имея на этот счет мнения премьер-министра, столь почитаемого во всей Европе.
Премьер-министр был предупредителен, очень вежлив, говорил по-французски хотя и с английским акцентом, но достаточно бегло и выражался очень точно. Он сказал мне лестные слова и продолжил беседу, задавая мне вопросы по теме разговора. В конце он предложил мне встретиться второй раз: к этой встрече он подготовится и надеется убедительно ответить на все доводы, которые я ему изложил.
Три дня спустя я вновь отправился к нему в кабинет. Я увидел на его столе общую карту Польши и отдельно – карту Гданьска с прилегающей территорией. Я заметил также копию той докладной записки, которую я ему зачитывал, и некоторые другие бумаги, имевшие отношение к предмету нашего предыдущего разговора. Войдя в кабинет, Питт сказал мне: «Видите, я подготовился к сегодняшнему разговору и имею под рукой все, что может нам понадобиться. Докладная записка, которую вам вручили негоцианты Амстердама, была переслана мне консулом, имеющим резиденцию в этом городе, – здесь ее копия. И это еще не все. Многие негоцианты Лондона совершенно определенно высказались в том же духе и старались доказать, что не только Польша многое теряет, уступив Торунь и Гданьск прусскому королю, но и Англия с Голландией будут лишены торговых преимуществ, которые могли бы иметь, если бы судоходство по Висле было полностью свободно. Эти соображения, – продолжал министр, – неудивительны, так как негоцианты принимают в расчет только свои коммерческие интересы. Но, в конечном счете, что даст вам, полякам, владение Торунем и Гданьском? Какие преимущества извлечете вы, имея эти два выхода для ваших товаров – в том положении ослабленности и бессилия, в котором вы находитесь сейчас, слезно жалуясь на давление со стороны петербургского двора?
Прусский король, предлагая вам свою дружбу и договор об альянсе, предоставляет вам возможность выйти из этого отчаянного положения, и уже одно это стоило бы некоторых жертв, которых от вас требуют, тем более что берлинский двор ставит их условием для заключения с Польшей торгового договора. Впрочем, нельзя даже назвать жертвой то, чего король Пруссии просит от вас, так как он, со своей стороны, отказывается от значительных доходов, которые имел до сих пор от таможенных сборов, взамен на владение двумя городами, являющимися к тому же анклавами на его территории». Здесь министр показал мне копию письма, которое король Пруссии направил в его адрес через г-на Герцберга и в котором он вполне откровенно излагал мотивы, вынуждавшие его требовать Торунь и Гданьск. «Неужели, – добавил министр, – вы рассчитываете иметь какую-то выгоду, покупая такой ценой торговый договор с Англией и Голландией? Понимаете ли вы, что уступка Торуня и Гданьска была бы искуплена для вас всеми преимуществами независимого существования и коммерческими преимуществами, которые вам предлагаются? Вы заметили мне, что, имея Данциг единственным свободным выходом для польских товаров, вы будете вынуждены, если утратите его, подвергнуться всяческим придиркам со стороны таможенников и платить все, что от вас потребуют. Но не нужно забывать, что сейчас вы платите гораздо больше, чем платили бы в соответствии с пунктами нового торгового договора, который вам предлагают.
И наконец, что до таможенных препон, то ваше беспокойство имело бы под собой основания, если бы вы имели дело не с союзником и другом и если бы не имели гарантий со стороны Англии и Голландии, – ведь они, заключая торговый договор с правительством Польши, позаботились бы о соблюдении интересов всех участников договора. Да и вы сами, – продолжал министр, – лучше меня знаете, каковы были ранее торговые отношения между Англией, Голландией и Польшей. У вас был маленький порт на Балтийском море возле реки под названием, если не ошибаюсь, Свента, которая уже около ста лет несудоходна и о которой у вас нет оснований особенно сожалеть. Зато у вас есть несколько городов по всей стране, в которых голландские и английские негоцианты имеют обширные помещения, куда вы всегда свозили произведенное на вашей земле, и все это покупалось у вас на месте, что избавляло вас от труда перевозить его самим до морского порта на Балтике.
Я рассматривал сегодня утром на карте, – говорил он, – расположение Ковно и Мереца, о которых наши эмиссары, побывавшие в разное время в Польше, докладывали нам в самом выгодном свете. Особенно о первом из этих городов, который расположен при слиянии двух судоходных рек и был, как о нем рассказывали, многонаселенным и оживленно торгующим. Имеются также старые складские помещения за пределами города, которые напоминают о существовании сотен жилых домов, возможно занимаемых в свое время в основном семьями английских и голландских купцов. Что существовало ранее, может быть возобновлено. Если торговый договор с Польшей будет заключен – не думаете ли вы, что мы сможем уберечь вас от препон со стороны таможенников Гданьска, отправляясь за вашими товарами в глубь страны, чтобы иметь их из первых рук? Мы знаем, возможно, лучше, чем вы сами, статистику вашей страны в отношении производимых ею благ. У вас необъятные леса, а мы не можем обходиться без вашей древесины, которой не слишком занимаются в самой Польше. Вы могли бы экспортировать в четыре раза больше продовольствия, если бы ваше сельское хозяйство не находилось в полном упадке. Вы возлагаете все ваши надежды на саму природу, тогда как в более северных странах она скупа на свои дары. И наконец, я имею сведения, что с некоторого времени у вас стали возникать полезные начинания. Я вижу на карте канал, названный вашей фамилией, и неподалеку от него еще один, проложенный, как мне доложили, на государственные средства, – чтобы соединить реки и облегчить внутренний оборот ваших товаров. Я не думаю, что эти работы уже закончены; нужно будет в первую очередь заняться поиском способов вывоза зерна из ваших южных областей, которые, как говорят, исключительно плодородны.
Торговля с Польшей всегда представляла особый интерес для Англии и Голландии. Зерно, лен, пенька, строительная древесина, кожа и другие столь же необходимые нам товары соперничают своей добротностью с теми же товарами, которые мы вывозим из России, а ваш лен превосходит все, что мы получаем из других стран. Торговля с Польшей тем более выгодна для нас, что у вас нет ни фабрик, ни мануфактур, – таким образом, приобретая в больших количествах предметы роскоши, вы с лихвой возвращаете нам то, что вы имеете от нас за свои товары. Будьте же уверены, что судьба Польши и ее торговли для нас крайне важна и что мы не потерпим, чтобы торговый договор, который сейчас обсуждается, не гарантировал бы вам всех преимуществ, на которые вы вправе рассчитывать.
Я высказался, – сказал Питт, – прямо и открыто, не делая тайны из моих размышлений, которые, как вы понимаете, совпадают с мнением нашего правительства, так как в этой ситуации, как и во всех других, нами никогда не движет личный интерес. Я надеюсь, что вы передадите содержание нашего разговора в Варшаву, а я, со своей стороны, не премину отправить нашему послу при вашем дворе необходимые инструкции, копию которых я вручу вам перед вашим отъездом».
Вот резюме всего, что я услышал из уст премьер-министра Питта. После этой беседы, которая проходила столь же долго, как и первая, я направил мой рапорт нашему представительству иностранных дел.
О моих встречах с премьер-министром Питтом вскоре стало известно всему Лондону, хотя результат их в точности не был известен. Многие негоцианты, которые имели непосредственные сношения с Гданьском и подозревали, что мог стоять вопрос об уступке этого города прусскому королю, приходили расспросить меня об этом и настаивали, также от имени негоциантов Гданьска и от имени всех сторонников свободы торговли, чтобы я воспротивился, насколько это было в моих силах, передаче Гданьска королю Пруссии. Я имел возможность увидеться с Бёрком, который был исключительно хорошо настроен к полякам. Я виделся также с Фоксом и многими другими членами оппозиции, которые поздравили меня с переменами в судьбе Польши, с тем рвением, которое явили мои соотечественники, чтобы освободиться из-под опеки России, с разумными принципами, на которых мы намеревались изменить у себя форму правления. Однако Фокс прибавил, используя латинское изречение: «Будьте осторожны, чтобы не попасть к Сцилле, избежав Харибды. Не слишком доверяйтесь вашему новому союзнику, рассчитывайте больше на ваш патриотизм, энергию и на дух времени – и вы сумеете обеспечить себе свободу и независимость».
Прежде чем покинуть Лондон, я решил заехать в Баф, чтобы повидаться там с Эвартом, чьи добрые и энергичные чувства по отношению к польской нации пробудили во мне доверие к нему и признательность. Я нашел его еще нездоровым, но готовым вернуться в Берлин, как только он будет в состоянии отправиться в дорогу. Он был чрезвычайно рад тому, что я рассказал ему о своих двух встречах с Питтом. Эварт заверил меня, что после моего резюме убедился в том, что этот государственный деятель близко к сердцу принимает дела в Польше, что нет никаких оснований для опасений и что надо ковать железо, пока оно горячо, так как обстоятельства могут принять другой оборот и, соответственно, берлинский и лондонский кабинеты могут внести изменения в свои решения, которые окажутся неблагоприятны для Польши. Это его предсказание сбылось, к несчастью, слишком быстро!
Я покинул Баф через двадцать четыре часа и вернулся в Лондон, где моя миссия была окончена. Я не мог оставаться там так долго, как мне бы хотелось.
Никогда не забывал я этот свой визит, который был для меня во всех отношениях столь же интересен, сколь и приятен. Тем благожелательным приемом, который получил в обществе, я во многом обязан рекомендательным письмам, которые были даны мне в Гааге английским послом лордом Оклендом, приходившемся свояком архиепископу Кентерберийскому и связанным по своей линии и линии жены с лучшими семействами Лондона.
Я покинул английскую столицу в конце февраля и оставил там князя Понятовского, брата короля и примаса Польши, который путешествовал по Англии под именем шевалье Сен-Мишеля. Я оставил там также княгиню Чарторыйскую и ее сына Адама, который оканчивал свою учебу в Лондоне.
Вернулся я в Гаагу той же дорогой, если не считать, что был вынужден, из-за наводнений и выхода рек из берегов, после пересечения Мордека отправиться в Роттердам водным путем.
Посылая свои депеши из Лондона нашему представительству иностранных дел, я попросил несколько месяцев отпуска, чтобы уладить свои семейные дела в Польше. Получив просимый отпуск вскоре по моем возвращении в Гаагу, я покинул ее, оставив вместо себя секретаря дипломатической миссии Польши Миддлтона исполняющим обязанности в мое отсутствие.
Сообщив Генеральным Штатам Соединенных провинций о разрешении покинуть Гаагу и отправиться в отпуск, я получил, в дополнение к обычным комплиментам, большую золотую медаль на цепи, также золотой, которую обычно преподносят иностранным послам при их отъезде.
Глава V
Проездом через Ганновер я направился в Берлин и за четыре дня, проведенные там, успел отобедать и отужинать по очереди у короля, вдовствующей королевы, принцессы Фердинанды и принцессы Генриетты. Нетрудно было заметить, что доброжелательный прием, оказанный мне при берлинском дворе, был следствием всех тех лестных слов, которые были высказаны в мой адрес наследной принцессой в ее письмах. Но если я вполне мог гордиться отношением к себе короля и его семьи, то в разговоре с графом Герцбергом был задет за живое. Он со времени конгресса в Рейхенбахе уже утратил частично свое влияние, но продолжал еще влиять на ход дел. С большой поспешностью он передал мне через нашего посланника при берлинском дворе, князя Яблоновского, просьбу встретиться с ним перед отъездом из Берлина, так как имел для меня очень важные сообщения. Я отправился к нему вместе с князем Яблоновским, поскольку хотел иметь свидетеля нашего разговора. Но каково же было мое удивление, когда я выслушал от г-на Герцберга горькие упреки, чтобы не сказать проклятия, в адрес польского короля и сейма: якобы в Варшаве совсем потеряли голову и еще пожалеют, хотя и поздно, о том, что отказали прусскому королю в передаче ему Торуня и Гданьска.
Мне претит повторять здесь все выражения, которые я был вынужден выслушать от г-на Герцберга из уважения к его возрасту. Затем я хладнокровно и твердо ответил ему, что поражен тем, что получил от него приглашение для того только, чтобы выслушать оскорбительные и неуместные упреки в адрес польского правительства. Добавил также, что счастлив не быть послом своего правительства в Берлине, так как не мог бы принудить себя остаться здесь хотя бы на двадцать четыре часа, после того как пообщался с официальным представителем, оскорблявшим моего короля и мою нацию. Уточнил, что считаю себя в Берлине частным лицом и в качестве такового воздерживаюсь от оценки выражений г-на Герцберга, считаю недостойным себя помнить об этих выражениях и передавать их в Варшаву.
Князь Яблоновский, крайне озабоченный положением нашей страны, всегда испытывал ко мне дружеские чувства, но в тот момент побледнел, услышав от меня в адрес г-на Герцберга выражения, к которым тот не привык. Эти выражения, однако, произвели именно тот эффект, на который я рассчитывал: дипломат осознал, что явно перешел границы приличий и не выказал должного уважения свободной и независимой нации.
Придя в себя, он пожал мне руку и попросил простить его за излишнюю живость выражений. Он пояснил, что не позволил бы себе ничего подобного перед каким-либо посторонним лицом и что я должен был видеть в такой его несдержанности лишь желание благоденствия Польше и старание облегчить ей пути к нему. Он настоятельно просил меня передать королю Польши, членам комиссии по иностранным делам и всем, кто имеет влияние на решения сейма, что король Пруссии испытывает чувства симпатии и уважения к польской нации и что лично он, Герцберг, никогда не отделял интересы Польши от интересов своей страны.
Вернувшись через три дня из Берлина в Варшаву, я застал значительные изменения в общественных настроениях. Сторонники России оказались в совсем незначительном меньшинстве. Король, искренне сблизившись с патриотической партией, занял примирительную позицию и сумел заслужить доверие всех людей доброй воли. Похоже было, что не только в столице, но и повсюду в провинциях витал единый дух – стремление добиться независимости Польши и учреждения в ней постоянного и хорошо организованного образа правления.
На следующий же день по прибытии в Варшаву я был приглашен на заседание комиссии по иностранным делам, где присутствовал и г-н Хэйлз, английский посланник. Я мало что имел добавить к моему донесению из Лондона, однако меня еще расспросили о различных мнениях, которые я смог собрать в Голландии и Англии, по поводу уступки Торуня и Гданьска.
Г-н Хэйлз заявил, что исходя из всех сообщений, полученных комиссией от меня, а также в соответствии с нотой, которую он вручил комиссии 28 января 1791 года, он не имеет более ничего добавить. Однако он рассчитывает, что решение не заставит слишком долго себя ждать, так как важность его хорошо известна и с ним непосредственно связано заключение торгового договора.
Ниже я кратко перескажу то, что произошло на сейме с того момента, когда я отбыл в Гаагу, и до моего возвращения. Здесь же, чтобы не прерывать затем нить повествования о политических событиях, я скажу о тех семейных делах, которые вынудили меня покинуть Гаагу. Они на короткое время открыли передо мной блестящую перспективу, но затем погрузили меня, из-за несчастного стечения обстоятельств, в такую бездну, из которой я так никогда и не смог выбраться.
Из этих «Мемуаров» можно будет понять, что все эти детали вовсе не были незначительными и что они даже важны для понимания и оправдания различных обстоятельств, имеющих отношение ко мне.
Казалось, в то время фортуна улыбалась мне во всех смыслах. С одной стороны, шло упорядочение в Польше образа правления. Альянс с Пруссией давал гарантию независимого существования польского государства. Существовала надежда на заключение торгового договора с Пруссией, Голландией и Англией, дававшего всевозможные преимущества, на которые вправе была рассчитывать наша богатая и плодородная страна. Приток иностранцев увеличивался. Росло благосостояние всех классов. С другой же стороны, я оказался втянут в запутанные семейные дела, которыми мне претило заниматься ради моих личных выгод, но которыми я занялся из чувства долга, чтобы выполнить пожелания родителей и быть им полезным.
Великий гетман Огинский, мой дядя, будучи уже в почтенном возрасте, устал от дел и захотел передать мне, посредством продажи, все свое состояние вместе со своими долгами. Другое семейное поручение обязывало меня приобрести одно из владений семейства Радзивиллов.
Мой дядя по отцовской линии призвал меня к себе, чтобы помочь ему отстоять наши права на значительные земельные владения в Белой Руси, которые я должен был унаследовать после него. Таким образом, я должен был стать владельцем состояния стоимостью в двадцать тысяч польских флоринов в дополнение к тому, чем я уже владел, но при этом со всеми теми заботами и хлопотами, которые приносят с собой владения плохо управляемые и обремененные долгами.
Я решился послужить благу семьи, рассчитывая на свое влияние, силы и здоровье, но не предполагал, что эти приобретения могут стать мне в тягость. С теми льготами, которые новая конституция обеспечивала собственникам, стоимость земель, бесспорно, удвоилась бы в последующие десять лет, однако мне было тогда крайне нежелательно отойти на какое-то время от общественных дел. К тому же и не хотелось возвращаться в Белую Русь, так как это могло навлечь на меня недоверие до стороны многих экзальтированных патриотов – они могли заподозрить меня в том, что я ищу поддержки и протекции у петербургского двора.
Впрочем, я сам был уверен, что ничто не может заставить меня свернуть с пути чести и долга и что я всегда сумею сохранить уважение и доверие порядочных людей, потому и решил пренебречь теми подозрениями, которые могла вызвать эта поездка по семейным делам в умах тех, кто недостаточно хорошо меня знал… Но мог ли я тогда предположить, что все мои волнения и тревоги обратятся совсем в другую сторону?.. Мог ли подумать, что четырнадцать месяцев спустя все мои земли будут секвестированы, когда Польша после слабого сопротивления падет? Что ради спасения тех, с кем у меня были деловые отношения, и ради выполнения долга перед семьей и моими кредиторами я вынужден буду подвергнуться таким унижениям, которых хотел бы избежать даже ценою собственной жизни?!
После этого краткого отступления вернусь к повествованию о работе сейма, прерванному на моменте моего отъезда в Гаагу в июне 1790 года, то есть спустя два месяца после заключения договора об альянсе с королем Пруссии.
Переговоры о торговом договоре продвигались медленно. Составление текста конституции было поручено комиссии, которая, обсудив и утвердив все ее статьи, должна была представить ее на общее обсуждение.
Все честные патриоты жаловались, что потеряно слишком много драгоценного времени. Они с тревогой и болью наблюдали, как истекает установленный срок работы сейма и опасались, что работа, едва начатая, будет оставлена до следующего сейма другим представителям нации. А от этой работы во многом зависела судьба их родины.
Чтобы избежать подобного недоразумения, предлагались два способа. Первый – закрыть заседание сейма и возобновить его как следующее заседание, но с теми же маршалками и нунциями. Второй – продлить заседание до 1 марта 1791 года.
Антиконституционная партия резко воспротивилась предложению о продлении работы сейма, так как считала такое продление ненужным и противоречащим существующим законам. Однако было найдено оправдание такой мере, не говоря уж о явной необходимости в ней, – оно содержалось в ответах на универсалы, которые были разосланы, чтобы проинформировать нацию о состоянии дел на сейме. Со всех сторон выражалось одобрение тому, что уже было сделано к тому времени на сейме, и представители всех воеводств свидетельствовали о своем живейшем желании видеть конституцию утвержденной на тех основах, которые уже были доведены до их сведения.
Заседания, которые были посвящены этому вопросу, были очень бурными, несмотря на малое число его противников. Король высказался определенно, что «в соответствии с волей сейма нынешние нунции уполномочены составить конституцию и утвердить ее на уже одобренных основаниях; что нынешний сейм, как полномочный законодательный орган, не может быть распущен, не выполнив миссию, возложенную на него всеми воеводствами».
Наконец, после четырех дней дебатов, было принято решение 115-ю голосами против 16-ти продлить работу сейма до 7 февраля 1791 года. В то же время сейм дал распоряжение местным сеймикам избрать новых депутатов и присоединить их к уже имеющимся в срок до 16 декабря 1790 года. Это решение было принято единогласно.
Тем временем было продолжено и внесение изменений в форму государственного правления. Главным же предметом дискуссий, и самым трудным, был вопрос об отмене выборности королей и передаче трона по наследству.
Красинский, епископ каменецкий, первым вынес его на обсуждение ассамблеи: в своей яркой и убедительной речи он перечислил все невзгоды и несчастья, которые навлекла на Польшу злосчастная прерогатива выборов короля. Он был охотно поддержан влиятельными членами сейма, но встретил сопротивление со стороны тех, кто считал выборы короля гарантией польской свободы: сделав трон наследственным, утверждали они, мы отдадим нацию во власть деспотичной монархии.
Впрочем, оппозиционная партия, хотя и не высказалась против созыва новых сеймиков, не сомневалась, что они будут весьма бурными, и рассчитывала, что в новом их составе окажется немало нунциев, которые будут разделять их мнения. Но так не случилось: повсеместно сеймики прошли спокойно, и выбор пал на людей честных, разумных и преданных интересам государства. Почти на всех заседаниях делегатам были даны инструкции, которые соответствовали тому, что уже было принято на сейме и что еще должно было быть сделано. Нунциям рекомендовалось настаивать на равном распределении налогов, на скорейшем наращивании армии. Им также было поручено настоятельно требовать наследственной передачи трона, указав представителя Саксонии или его дочь в качестве преемника нынешнего короля Станислава Понятовского и родоначальника новой династии королей.
Такое единодушие возникло благодаря циркулярному письму маршалков сейма, направленному всем воеводствам и округам 9 октября 1790 года, и единодушие это явно свидетельствовало о полном доверии данному сейму.
Еще 24 сентября, по распоряжению ассамблеи сейма, было разослано циркулярное письмо, в котором запрашивалось мнение нации о том, не следует ли, во избежание издержек разрозненных царствований, назначить того, кто будет передавать трон по наследству. Две недели спустя на рассмотрение сейма было представлено предложение назначить кандидатом на трон, после смерти ныне здравствующего короля, представителя Саксонии. Единодушным волеизъявлением ассамблеи сейма маршалкам было приказано предложить этого кандидата жителям всех воеводств, земель и округов, которые должны были высказаться по этому поводу на своих сеймиках 16 ноября. Это предложение и содержалось в циркулярном письме, датированном 9 октября, о котором я уже упомянул.
Оппозиция, увидев, что ее усилия напрасны и надежды тщетны, старалась выиграть время тем, что всячески затягивала принятие решений сеймом: умножала препятствия, затевала все новые дискуссии по каждой статье проекта конституции. Она ссылалась при этом на закон 1768 года, принятый тогда под влиянием России, который гласил, что изменения в основные законы могли вноситься только единогласно. Оппозиция надеялась с его помощью взять верх и провалить все предложения по нововведениям в законодательство. Однако большинство сейма устало от прений и понимало настоятельную необходимость завершить важную работу по реорганизации государственного правления, поэтому было решено устранить это препятствие и отменить закон 1768 года. Большинство также заявило, что представленные комиссией проекты более не будут утверждаться по каждой статье в отдельности, а только в целом; если же проект будет нуждаться в некоторых изменениях, то комиссии будет поручено отредактировать его еще раз в соответствии с полученными на сейме указаниями. Поскольку решено было работу сейма продолжить, то большинство предложило высказаться прежде всего по двум основным вопросам: о форме национальных собраний и о требованиях городов. Эти два вопроса действительно были рассмотрены и утверждены до 3 мая 1791 года.
По первому вопросу сейм вынес решение, что «воля нации будет выражена на предшествующих собраниях, а также на самом сейме. Эти собрания должны передать своим депутатам указания, которым те должны следовать, как в отношении гражданских законов, так и уголовных. Они обязаны отчитываться перед своими выборщиками и нести ответственность за несоответствие мандату, который им выдан. Их обязанности, с последующей за ними ответственностью, не подразумевают, однако, наблюдения за действиями исполнительной власти, решения вопросов войны и мира, упорядочения работы магистратур, так как из трех вышеуказанных пунктов два первых могут быть связаны с чрезвычайными обстоятельствами, сиюминутными и даже секретными, а третий – с общими вопросами управления. То есть все эти вопросы выходят за пределы сведений, которыми может в достаточной степени располагать местное собрание. Затем сейм устанавливает различные способы голосования по такому вопросу для общего собрания в соответствии с характером решаемого вопроса. Не все решения обязательно должны приниматься абсолютным большинством голосов. Объявление войны, заключение мира, договоры об альянсах, политические законы должны приниматься тремя четвертями голосов; законы о налогах могут приниматься двумя третями голосов и т. п. и т. д.»
Приняв решения по этим важным вопросам 24 марта 1791 года, сейм выразил убежденность в том, что недостаточно принять хорошие законы – нужно еще обеспечить их исполнение, и потому поручил королю и государственному совету надзор за действиями исполнительной власти в периоды между сеймами, созывы сеймов и все прочее, чего могло потребовать состояние дел в государстве.
Что касалось меморандума, представленного сейму городами, которые требовали привилегий для своих жителей, то он был первоначально направлен комиссии, созданной специально для его рассмотрения. Проект, представленный этой комиссией затем на рассмотрение общего собрания, был разумным и умеренным, и все же он вызвал энергичные возражения, которые были сняты лишь после внесения в него поправок Сухоржецким, нунцием от Калиша. Эти поправки были прочитаны затем вместе с самим проектом, и он был принят единогласно.
В тот же день, когда этот закон был принят сеймом, князь Адам Чарторыйский, граф Потоцкий, великий маршалок литовский, и Малаховский, маршалок сейма, приняли горожан Варшавы, и их примеру последовали первые вельможи государства.
Декрет сейма, принятый накануне 3 мая, объявил, что высокое собрание отказывается навсегда от права принимать решения об отделении или уступке какой бы то ни было части территории Речи Посполитой. Принятие такого решения было продиктовано патриотическим энтузиазмом, и оно прошло тем легче, что партия оппозиции с удовольствием предвкушала, насколько король Пруссии будет оскорблен этим решением, которое снимало все дальнейшие рассуждения по вопросу о Торуне и Гданьске.
Нельзя не признать, что этот жест сейма был поспешным и бесполезным по своей сути, так как никакие заявления в поддержку целостности страны не могут устоять против силы. Одним росчерком пера была перечеркнута надежда противостоять России без поддержки Пруссии. Одновременно это был и отказ от торговых договоров с Пруссией, Англией и Голландией, которые обещали немало преимуществ польской нации.
Этот шаг был совершенно неполитичным, так как после конгресса в Рейхенбахе король Пруссии успел сблизиться с венским кабинетом и начинал опасаться заключения Россией мира с Турцией, что не вызвало бы у России затруднений, так как после подписания договора в Вареле она могла не беспокоиться о выпадах со стороны Швеции. Прусский король начинал охладевать и к полякам как из-за их сопротивления по поводу уступки Торуня и Гданьска, так и из-за разговоров, которые ходили в Варшаве на его счет, а также из-за медлительности в обсуждении торгового договора.
Его первый министр Герцберг со времени подписания договора в Рейхенбахе находился в состоянии недовольства и был раздражен той неторопливостью, которую проявляли поляки в объединении своих интересов с Пруссией и установлении более тесных связей с ней посредством торгового договора. Он возбуждал в своем хозяине короле недобрые чувства к полякам.
В то же время Россия, которая всегда имела своих агентов при берлинском дворе, старалась дискредитировать Герцберга в глазах короля Пруссии, чтобы окружить этого властителя советниками, более благосклонными к интересам петербургского двора и разделявшими его отношение к французской революции. И все же, несмотря на упомянутое решение сейма, король много раз давал понять через своего представителя, что он не делал из оккупации Торуня и Гданьска главного условия для заключения торгового договора. Он даже сделал вид, что не огорчен этим бесповоротным отказом сейма.
В соответствии с указаниями короля, обсуждение торгового договора не было прервано, и его представитель Луккезини делал вид, что старательно улаживает все возникающие трудности.
Глава VI
16 декабря 1790 года новоизбранные нунции присоединились к заседанию сейма, увеличив собою вдвое количество представителей нации; действия сейма стали более активными. Однако извне поступали тревожные известия, частично обоснованные, но большей частью сфабрикованные с целью внести смуту в ряды нации. Они порождали беспокойство и колебания среди членов сейма.
Донесения польских посланников, аккредитованных при различных дворах, сообщали о слухах насчет возможности нового раздела страны, и это еще более усиливало тревогу патриотов. Они озаботились тем, чтобы сократить затянувшуюся работу сейма одним решительным действием, которое не могло быть произведено без участия короля. Это действие могло спасти Польшу, если бы объединило короля и нацию неразрывной связью, и тогда появилась бы возможность привести страну в такое состояние, в котором она могла противостоять всем угрозам соседних государств.
Речь шла о том, чтобы весь проект конституции принять в целом на одном заседании. Сначала не решались сообщить королю об этой мере, которая становилась, однако, настоятельно необходимой. Впрочем, в течение некоторого времени он был уже настолько расположен следовать всем пожеланиям нации, польщен тем почтением, которое ему выказывали, и авторитетом, который за ним признавали, что в конце концов было решено довести до его сведения проект конституции в том виде, в каком он был составлен комиссией.
Король попросил некоторое время для его изучения и внесения поправок и оставил за собой право предложить собранию этот конституционный акт. Он не сделал в нем никаких изменений, но был рад возможности представить его сейму как собственный труд. Король прочел этот проект группе из нескольких доверенных лиц и перед прочтением заявил, что таково было веление его сердца и его мечта, как доброго гражданина.
С одной стороны, доброе расположение короля внушало надежду, но, с другой стороны, было опасение, как бы этот секрет не стал известен всему собранию – тогда оппозиционная партия, узнав об этом проекте, могла бы бросить все силы на то, чтобы разделаться с ним, используя при этом даже ложные средства.
Срок осуществления этого патриотического проекта был назначен на 5 мая, но король успел поделиться им с некоторыми лицами, которые не поддерживали его. Таким образом, оказались бесполезными все предосторожности, предпринятые для того, чтобы сохранить в тайне проект, преждевременное обнаружение которого могло повредить всему плану. Потому было сочтено разумным, в соответствии с мнением самого короля, предварить намеченный срок и назначить уже на 3 мая завершение того дела, которое могло полностью изменить государственное устройство Польши и оставить потомству имена тех, кто был у его истоков.
Накануне того памятного дня патриоты собрались вечером во дворце Радзивиллов, чтобы прослушать чтение конституционного акта. Он был встречен общими аплодисментами, и всеобщее согласие не было нарушено ничьим сопротивлением, хотя среди слушателей, которые специально не отбирались, были и сторонники России. Затем члены сейма явились к маршалку Малаховскому, и часть ночи посвятили сбору подписей. Оставалось ожидать, в спокойствии и радости сердца, но с нетерпением, наступления того великого дня, который должен был обеспечить нации свободу, независимость и процветание.
Открытию заседания 3 мая предшествовало собрание нескольких тысяч зрителей, из любопытства пришедших утром к стенам королевского замка. После речи маршалка, произнесенной применительно к обстоятельствам и взывавшей к патриотическим чувствам, была приглашена комиссия по иностранным делам, чтобы доложить о донесениях наших посланников при различных дворах. Эти сообщения должны были пробудить у всех чувство беспокойства относительно угрозы нашей родине со стороны соседей. Солтык, нунций из Кракова, поддержал заявление маршалка, сделанное по этому поводу. Король взял слово и заверил, что комиссия действительно получила известия, которые серьезно затрагивают безопасность и само существование страны, и предложил, дабы рассеять все сомнения, самой комиссии зачитать свое сообщение перед высоким собранием.
Это предложение, по сути совсем простое, могло быть опротестовано лишь малым числом оппозиции, которая опасалась разоблачения российских намерений. Один из нунциев этой партии стал на колени перед залом, простирая руки к трону и держа возле себя сына, шестилетнего ребенка, которого он привел, по его словам, чтобы принести его в жертву свободе, если она будет попрана в этот злосчастный день. Он упорно требовал слова, но ему не хотели его давать прежде доклада комиссии. Его настойчивость, однако, взяла верх, и ему было позволено произнести речь. В ней он обвинил комиссию в распространении ложных слухов, а конституционную партию – в возбуждении народа против тех, кто был с ней не согласен. Он обличал так называемых конспираторов, жертвой которых ему суждено стать, но не смог представить ни одного доказательства, имевшего хотя бы видимость правдоподобия. За его фанатичной речью, полной беспорядочных и непоследовательных мыслей, сразу же имело место чтение донесений, полученных комиссией от посланников Речи Посполитой при иностранных дворах. Все они единогласно заявляли о возможности нового раздела, который должен был лечь в основу мирного договора России с Турцией. Добавлялось также, что дружественные Польше государства не видели другого средства ее сохранения, кроме такого ее устройства, которое помогло бы ей собрать все свои силы воедино; что враждебные государства, наоборот, опасались всякой перемены, которая могла бы привести к такому результату, и старались этому помешать. В большинстве этих донесений указывалось, что Россия явно рассчитывала на лживость политики берлинского кабинета и продажность некоторых поляков.
После чтения этих интересных донесений, из которых следовало, что Польше грозит неминуемая опасность и потому ей срочно необходима новая конституция, маршалок Потоцкий усиленно и с воодушевлением настаивал на том, чтобы было принято единственное решение, которое могло спасти государство. Обращаясь к королю, он сказал: «Государь, Ваш ранг делает Вас недосягаемым для всякого соперничества. Ваши обширные знания, справедливый ум, примирительный характер обеспечивают вам преимущественное достоинство независимо от занимаемого Вами трона. И потому именно Вашему величеству надлежит предложить наиболее действенные средства для спасения родины».
Король взял слово и заявил, что в сложившихся обстоятельствах не видит ничего более спасительного для государства, чем незамедлительное принятие новой конституции, разумной и прочной, которая преодолела бы все недостатки прежнего образа правления. Давно проникшись этой справедливой идеей, добавил король, он подготовил проект, который намерен представить собранию, однако есть одна статья, то есть передача трона по наследству, по которой он не считает возможным высказывать свое мнение, прежде чем по столь важному вопросу выскажется само собрание.
После некоторых дебатов по вопросу, можно и должно ли быть зачитанным проекту короля, секретарь сейма прочел его, но, когда он закончил, оппозиционная партия разразилась упреками и возражениями против самого проекта и против тех, кто задумал весь этот план.
Были произнесены страстные речи, чтобы доказать, что новая конституция противоречит «pacta conventa», что она устанавливает правление скорее деспотическое, нежели монархическое, и опрокидывает все принципы, на которых основывалась свобода польской нации.
Дискуссии продолжались несколько часов. Проект конституции выдержал яростные и ожесточенные нападки. В его защиту высказались многие члены собрания в речах сдержанных, но построенных на убедительных аргументах. Было очевидно, что большинство поддерживает этот проект, так как слышалось лишь несколько протестующих голосов. Нунций от Ливонии Забелло заявил, что он всегда был противником абсолютной власти, и поскольку в данном проекте не видит ничего, что угрожало бы свободам в Речи Посполитой, то он умоляет короля и сейм немедленно принести клятву верности конституции. Ему ответили общим возгласом ободрения и согласия. Все собрание сплотилось вокруг трона: всеобщий энтузиазм был обращен к королю, сидевшему на троне с видом величественным и отеческим, а также ко всем тем, кто окружал трон, – все они заслуживали доверия, восхищения и благодарности.
Король приказал епископу Кракова зачитать клятву и сам повторял ее за ним во всеуслышание, а затем заявил: «Я принес эту клятву и никогда не пожалею об этом. Я обязываю всех, кто любит родину, последовать за мной в церковь и произнести там эту же клятву». Он покинул трон и прошел по всем залам и коридорам, ведущим из замка в кафедральный собор. За ним следовало все собрание (за исключением двенадцати членов) и целая толпа зрителей, опьяненных радостью, – они выражали свои самые искренние чувства королю и создателям конституции.
Трудно было представить себе более величественное зрелище, чем эта торжественная процессия, склонившаяся у подножия алтарей, а также собравшиеся в церкви епископы, светские лица – члены сената, посланники и другие представители нации. Все они, во главе с королем, торжественно принесли клятву верности конституции, которая должна была обеспечить благосостояние нации. Исполнение «Te Deum» и благодарственные молебны Всевышнему завершили эту величественную церемонию. Хотя общая радость и воодушевление передались вскоре в самые отдаленные кварталы города, но везде сохранялось спокойствие и не было никаких происшествий.
Следующий день был отведен для отдыха, и заседание сейма было отнесено на 5 мая. Патриоты были готовы к протестам со стороны членов сейма, не приносивших клятвы, и были уверены, что оппозиционная партия выдвинет препятствия, чтобы породить новые дискуссии. Они не ошиблись в этом, но именно этот вопрос, поднятый антиконституционной партией, – о законности процедур, примененных сеймом для принятия конституции 3 мая, – способствовал тому, что конституция обрела больше силы, что были предупреждены возможные протесты и без лишних споров обеспечена всеобщая ее поддержка.
Епископ Коссаковский приносил клятву, как и все прочие. Однако, будучи президентом комиссии, члены которой начиная с него самого должны были по установленному порядку подписывать все законы, принятые сеймом, еще до их издания и вступления в силу, – он заявил, что не может поставить свою подпись под этим документом при всем своем уважении к новой конституции. Он напомнил, что никакой закон не может быть подписан его комиссией, если он не был принят единогласно или большинством голосов, и прибавил, что может пойти на это только в том случае, если сейм принудит его к этому.
Это возражение являлось, по сути дела, ловушкой, и епископ рассчитывал иметь от него определенную выгоду, вызвав сомнения и споры среди членов сейма. Каково же было его удивление, когда его коллеги по комиссии не только не отклонили это возражение, но даже поддержали его. Они были уверены, что сейм не преминет распорядиться о том, чтобы подписи были поставлены. Они полагали с убежденностью, что конституционный акт обретет еще более законности и полномочности, если будут строго соблюдены все процедуры его принятия. Епископ присутствовал на заседании, на котором следовало принять данное решение. Маршалок Малаховский задал вопрос, согласны ли присутствующие отдать приказ, чтобы конституция была подписана комиссией в присутствии обеих палат. В ответ на трижды заданный вопрос было трижды получено всеобщее одобрение, и подписи комиссии поставили последнюю точку в вопросе о законности новой конституции.
Такое единодушие произвело впечатление даже на тех членов комиссии, которые намеревались заявить протест. Они сделали письменное заявление о том, что «до сих пор считали себя связанными инструкциями и обязанными их придерживаться; но революция свершилась, вся нация ее приветствует, и есть уверенность в патриотических намерениях короля и тех, кто способствовал осуществлению этих великих изменений. Очевидно также, что этот акт, которому принесли клятву король и почти все нунции, не распространяет власть короля за пределы положенных ей границ, и, напротив, гарантирует полную свободу и обеспечивает независимость нации, представленной на сейме. Они не считают нужным останавливать или даже замедлять тщетным сопротивлением движение начавшейся революции, столь благополучно проводимой. Они всем сердцем рады способствовать ей. Они желают успехов своей родине и тем, кто участвует в ее судьбе, и благодарят короля – основателя и главу новой страны».
Среди имен тех, кто подписал эту декларацию, было даже несколько таких, кто был наиболее предан России и кто открыто высказывался против конституции. Так почести, воздаваемые конституции публично, стали триумфом ее создателей.
Вот резюме статей этого достопамятного документа от 3 мая 1791 года.
«Католическая религия Рима остается господствующей в государстве. Другие христианские культы допускаются. Король должен всегда исповедовать господствующую религию.
Выборность трона прекращается, за исключением того случая, когда правящая династия прерывается. Наследование трона обязательно. После смерти действующего ныне монарха для передачи трона по наследству будет наименован представитель Саксонии и его потомство. Если этот монарх не будет иметь потомства мужского пола, то его дочь будет наименована инфантой Польши, но сможет располагать своей рукой только по согласованию с сеймом, и ее супруг станет основателем будущей династии.
Законодательная власть принадлежит сейму и состоит, как прежде, из короля, сената и нунциев. Король имеет в сейме совещательный голос, но при равном разделении голосов его голос является решающим. Он может также брать на себя инициативы, как направляя универсалы сеймикам, так и внося предложения общему собранию сейма. Сеймики и отдельные нунции также имеют право выдвигать свои предложения.
Сейм собирается каждые два года. Внеочередной сейм может быть созван в следующих случаях: 1. внешние войны; 2. внутренние волнения, угрожающие государству гражданской войной или революцией; 3. очевидная опасность голода в стране; 4. малолетство наследника в случае безвременной смерти монарха или утраты им разума.
Король, сверх прочих прав, обладает правом приостановить действие любого декрета, за который не подал своего голоса, – вплоть до следующей законодательной процедуры.
Ему предоставляется право делать назначения, которое он имел до сейма 1775 года; он назначает сенаторов, которые исполняют свои обязанности пожизненно.
Исполнительная власть принадлежит королю и его совету, состоящему из шести министров.
Армия полностью подчиняется исполнительной власти.
Регентство осуществляется королевским советом, возглавляемым королевой-матерью или, при ее отсутствии, – примасом, постоянным членом совета.
Министры ответственны перед сеймом, но могут быть отправлены в отставку только при условии, что за таковое решение будет подано не менее двух третей голосов.
Если большинство сейма засвидетельствует перед королем отсутствие доверия к министру, то король обязан назначить вместо него другого министра.
Министры могут быть осуждены комитетским трибуналом или постоянным трибуналом сейма, который один уполномочен рассматривать государственные преступления.
В период между сеймами король и его совет обладают правом издавать указы и заключать договоры.
Дворянство утверждается в своих прежних правах и привилегиях.
Закон от 18 апреля, который определяет права граждан в свободных городах, подтверждается по всем его пунктам; также подтверждается допуск граждан в качестве депутатов на сейм.
Эти депутаты, по истечении второго года своих полномочий, имеют право на получение дворянства; также и те, кто в полках достиг звания капитана. На каждом сейме тридцать буржуа, имеющих значительную собственность, могут получить дворянство по представлению своих городов.
Обязанности юстиции распределены между судами первой инстанции, апелляционными судами и асессорским трибуналом.
Имеются, сверх того, территориальные суды для дворянства и крупных собственников и референдарские суды[13] для свободных крестьян.
Наконец, для государства в целом имеется верховный суд, или трибунал сейма, который занимается преступлениями против нации и короля; его члены избираются на каждом сейме.
Осуществление исполнительной власти поручается комиссиям по национальному образованию, полицейским делам, военным делам и распределению государственной казны.
Право «liberum veto», всякая конфедерация или федеральный сейм запрещаются отныне и навсегда как противоречащие духу настоящей конституции и способствующие беспорядкам в государстве.
Каждые двадцать пять лет надлежит осуществлять пересмотр и совершенствование конституции на чрезвычайном сейме, созываемом для этой цели; его условия определены отдельным законом».
Таким образом, Польша вывела себя из-под иноземного влияния, обезопасила от внутренних беспорядков и учредила форму правления, способную обеспечить ее свободу и независимость, а также благосостояние. Сейм объявил, что любой, кто попытается противостоять конституции, устраивать заговоры против нее и нарушать порядок в государстве каким бы то ни было способом, будет рассматриваться как враг родины и будет предан суду как заговорщик и предатель.
Находились и те, кто отрицал эту разумную конституцию – из партийной предвзятости, необдуманности суждений или отсутствия необходимых знаний. Однако она была с энтузиазмом воспринята по всей Польше и произвела впечатление на всех здравомыслящих людей в Европе. В ее пользу высказались все выдающиеся ученые и наиболее уважаемые государственные деятели.
Томас Пейн в своей работе по теории и практике осуществления прав человека высказал крайние идеи, которые не согласовались с умеренными идеями польских законодателей, однако он не мог не признать, что «правительство Польши явило пример реформы, им принятой и на него же направленной».
Вольней, высказавшись об иге, от которого стонали крестьяне северных стран, прибавил, что польское дворянство, к его чести, в день 3 мая избавило себя от подобных обвинений.
Фокс назвал конституцию 3 мая «произведением, которое должно вызывать симпатии у всех поборников разумной свободы».
Большинство наиболее видных представителей оппозиции думали так же и высказывались подобным же образом. Из англичан о конституции 3 мая наиболее энергично и горячо высказался знаменитый Бёрк. Образ, созданный им, оказался настолько поразительным и в то же время настолько правдивым и точным, что я не могу удержаться и процитирую один его пассаж: «Состояние Польши было настолько неблагополучным, что не стоит удивляться принятым в ней изменениям, хотя мнения по поводу их и разделились. Произведенная в ней революция не должна навлекать на себя никаких порицаний, в этом мероприятии не следует усматривать никакой смуты, так как государство, которое подлежало реформированию, само было государством смуты.
Король без власти, дворянство без единства, народ без наук, промышленности и торговли, без внутреннего управления, без внешней защиты, без действенных сил – и все они под иноземным давлением, доведенным до высшей точки в этой беззащитной стране, – таково было положение дел в Польше. Именно оно прямо указывало на необходимость столь смелого предприятия и могло служить оправданием даже тем шагам, которые были продиктованы отчаянием.
Каковы же должны были быть средства, чтобы вывести Польшу из хаоса – к должному порядку? Эти средства и привлекли всеобщее внимание, удовлетворяя взгляд наблюдателя своей бесспорной разумностью и моральной выдержанностью. Человечество должно радоваться и гордиться, наблюдая за изменениями, происходящими в Польше: в них нет ничего слабого или постыдного. Они исполнены столь высокого духа, что неизбежно окажут облагораживающее влияние на род человеческий. Мы увидели разрушение анархии и рабства. Мы увидели укрепление трона любовью нации, но при этом не была попрана свобода. Кабальные иноземные влияния были устранены заменой выборов королей на наследственную передачу трона. Десять миллионов людей, занятых земледелием, мало-помалу обретут свободу, и что важнее всего для них и для их страны, они будут избавлены – нет, не от своих гражданских и политических обязанностей, которые могут казаться обузой только развращенным умам, – а от тех, что держали их в цепях рабства. Жители городов, до сего времени лишенные тех прав, которые они имеют во всяком гражданском обществе, получат статус, который им подобает. Дворянское сословие, самое благородное и многочисленное из всех на земле, стало во главе граждан, столь же благородных и свободных, как оно. Никто не унижен, никто не понес утрат, начиная от короля и кончая последним частным лицом. Каждый утвержден в своих естественных правах. Всему отведено свое место и все оказалось улучшенным. К этому чудесному благополучию присоединяется еще и особая заслуга предусмотрительности, которая обеспечила успех дела, – то, что удалось избежать малейшего кровопролития. Никакого предательства, оскорбления, никаких посягательств на честь личности, никакого покушения на религию и добрые нравы, никаких грабежей и конфискаций, никто из граждан не наказан и не брошен в тюрьму. Все, что произошло, содержится в рамках достоинства, гармонии, приличия, чего нигде ранее не было в подобных обстоятельствах. О, счастливая нация, если тебе дано закончить так же, как ты начала! Счастлив и король, сумевший положить конец выборности трона и установить патриотическую череду наследственных королей!.. Этот великий труд имеет, наконец, и то выдающееся достоинство, что он заключает в себе росток возможности увеличивать общее благосостояние».
Герцберг, уже покинувший посольство Пруссии, шесть месяцев спустя после 3 мая зачитывал в Берлинской академии меморандум о революциях в империях и не мог не отдать справедливости достопамятной революции, что имела место в государственном управлении Польшей. Он отметил разумность принципов, на которых поляки построили свою новую конституцию.
Тех, кто позже, в 1793 году, прочел официальные заявления Фридриха Вильгельма, они не могли не удивить. Этот монарх, непосредственно после установления нового порядка в Польше, в высшей степени одобрил деятельность сейма и дал очевидные тому доказательства. Его посланник в Варшаве, Гольц, заменявший в то время Луккезини, имел 16 мая встречу с представительством по иностранным делам. Он заявил сразу, что получил приказ от Е[го] В[еличества] короля Пруссии засвидетельствовать представительству, насколько его повелитель был удовлетворен счастливыми переменами, которые дали Польше столь разумный и упорядоченный образ правления. В заключение он сказал: «Как только король получил знаменательную новость о законе, по которому Штаты Речи Посполитой предполагают призвать на польский трон представителя Саксонии и обеспечить наследование трона его потомкам по мужской линии или, при неимении такового, его дочери и ее супругу, избранному им с согласия сейма, – Его прусское величество отдал мне приказ сделать заявление вышеупомянутому собранию. В соответствии с его живейшим интересом ко всему, что может способствовать благосостоянию Польской Речи Посполитой (и этому интересу Е[го] В[еличество] дал очевидные доказательства во всех обстоятельствах, где это было возможно), он считает достойными всяческих похвал решительные и твердые шаги, предпринятые этим собранием, и рассматривает их как средство, наиболее подобающее для подведения прочной основы правлению в Польше, а также для ее благосостояния, которое должно последовать за этим. Эта новость тем более приятна Его прусскому величеству, что он связан узами дружбы и добрососедства с добродетельным монархом, которому предназначено развить и укрепить это благосостояние. Он убежден также, что выбор, сделанный Речью Посполитой, укрепит те разумные и гармоничные отношения, которые существуют между ним и Польшей. В заключение Е[го] В[еличество] уполномочил меня убедительно засвидетельствовать Е[го] В[еличеству] королю Польши, маршалкам сейма и всем, кто работал над этой благодетельной реформой, – насколько она его удовлетворяет. Его прусское величество поспешил написать в тех же выражениях представителю Саксонии об этом мудром документе».
Гольц закончил тем, что попросил представительство довести слова своего повелителя до сведения ассамблеи сейма. Глава представительства дал устный ответ, соответствующий столь дружескому и лестному заявлению. Протокол этой встречи был подписан всеми присутствующими и помещен в архив департамента иностранных дел.
На этом официальное общение не закончилось. Фридрих Вильгельм ответил на личные письма, направленные ему королем Польши, и в этом ответе от 23 мая говорилось между прочим: «Я получил почти одновременно два письма, в которых Ваше Величество сообщил мне о важном решении сейма, которым закреплена наследственная передача трона в пользу саксонского правящего дома. Поспешность, с которой я выразил свое мнение по этому поводу, должна убедить их, также как и польскую нацию, в интересе, который я имею к этому вопросу. Я поздравляю себя с тем, что сумел способствовать свободе и независимости этой нации, и одна из приятнейших моих забот – поддерживать и укреплять связи, нас объединяющие. Я могу только приветствовать, в частности, ее выбор монарха, добродетели которого делают его достойным трона, его ожидающего. Я желаю, однако, чтобы этот момент наступил нескоро и чтобы Ваше Величество мог в течение еще долгих лет составлять счастье своего народа».
Несколько недель спустя, 21 июня, посланник Пруссии в Варшаве вручил ноту короля представительству иностранных дел: она заканчивалась убедительными изъявлениями дружбы и интереса, которые его повелитель испытывает к польской нации. Он прибавил, что «Фридрих Вильгельм всегда считал своим долгом доказывать, что он верен своим обязательствам и, в том числе, тем, которые были взяты им на себя в предыдущем году. Более всего он желал дать убедительные доказательства своей неизменной приверженности тому, что может способствовать выполнению взаимных обязательств обоих дворов и дать им долгую жизнь».
Вся польская нация радовалась выбору саксонского дома в качестве наследников трона после смерти Станислава Понятовского. Все дружественные Польше дворы одобряли его. Король Пруссии самым сердечным образом поздравлял Польшу с этим выбором, однако сам саксонский кандидат был слишком хорошо осведомлен о положении дел в Европе и слишком осторожен, чтобы легко согласиться принять корону, которая так дорого обошлась его предшественникам и которую Россия не позволила бы ему долго носить. Поэтому он давал лишь уклончивые ответы на предложения, направляемые ему из Варшавы. Наконец, получив ноту, посланную из Варшавы 22 сентября в адрес его премьер-министра, он ответил нотой от 23 октября, из которой здесь приведены наиболее примечательные пассажи. Она была подписана графом де Лоссом и гласила: «…Нижеподписавшийся довел до сведения Его Высочества ноту, переданную ему 1 октября г-ном графом Малаховским, чрезвычайным и полномочным послом Е[го] В[еличества] короля и Речи Посполитой Польши. Его выборное высочество исключительно высоко оценил доверие, оказанное генеральной ассамблеей сейма ему и его принципам. Он надеется, что его поведение в данных обстоятельствах будет расценено как доказательство его благодарности Е[го] В[еличеству] королю и блистательной польской нации, а также его заинтересованности в ее благосостоянии. Поскольку это благосостояние должно быть обеспечено, главным образом, новой конституцией королевства, то он тщательно изучил эту конституцию в полном объеме, а также действия, которые должны последовать за ее принятием и о которых ему было сообщено непосредственно. Его Высочество обнаружил в этом фундаментальном документе различные статьи, которые вызывают серьезные сомнения и требуют некоторых предварительных разъяснений, прежде чем он решится вступить в переговоры относительно «pacta conventa». Его Высочество полагает, что наилучшим способом рассеять эти сомнения был бы тот, что уже предложен в ноте г-на Малаховского, а именно: назначить нескольких лиц, уполномоченных королем и сеймом на ведение переговоров с комиссией, которую назначит Его Высочество для устранения возникших у него затруднений. В конечном счете, не вызывает сомнений, что отсрочка, вызванная этими переговорами, гораздо более соответствовала бы интересам польской нации, чем последствия поспешного решения со стороны Его Высочества: такая поспешность не соответствовала бы его принципам, а также и важности данного вопроса».
В качестве ответа на эту ноту сейм поручил князю Чарторыйскому отправиться посредником в Дрезден, чтобы начать вместе с Малаховским переговоры с министрами Его Высочества.
Чтобы более не останавливаться на этих переговорах, продлившихся несколько месяцев, я сообщаю сразу об их результатах и помещаю здесь ответ саксонского кандидата, хотя он был дан гораздо позднее, а именно в апреле 1792 года.
«Его выборное высочество примет сделанное ему предложение только на следующих условиях: 1. при наличии согласия дворов соседних государств и уверенности в том, что они не воспротивятся тому порядку наследования короны Польши, который обозначен новой конституцией; 2. в эту конституцию должны быть внесены изменения, которые могут оказаться необходимыми для определения полномочий властей, для предупреждения волнений и соперничества между ними, что нарушило бы субординацию и помешало бы управлению страной; 3. формула клятвы верности, приносимой войсками, должна быть изменена: вместо клятвы верности нации (это слово слишком неопределенно и может обозначать все, что может быть угодно доминирующей группе) эта клятва должна быть принесена королю и Речи Посполитой; 4. король должен иметь право санкционировать законы и исключительное право объявления войны; 5. воспитание наследного принца должно быть исключительно и полностью доверено королю и, при его отсутствии, королеве-матери или его ближайшим родственникам, в случае ее смерти, но не какой-либо комиссии, которая, будучи чуждой принципам отцовства, может сверх того испытывать большие трудности в периоды интриг и борьбы групповых интересов; 6. право наследования должно принадлежать только представителям саксонского дома, за исключением принцесс; 7. Речь Посполитая должна признать все данные пункты как обязательные условия, необходимые для получения согласия Его выборного высочества».
Все условия, выдвинутые саксонским кандидатом относительно изменений в новой конституции, какими бы разумными они ни были, не могли быть выполнены по причине первого условия – согласия соседних государств на все положения конституции 3 мая, так как Россия уже высказала открыто свое неодобрение, и было очевидно, что саксонский кандидат старался избежать ее неодобрения. Впрочем, этот ультиматум дрезденского двора, после столь длительных переговоров с ним, был вручен уже в то время, когда русские армии были готовы перейти границы Польши.
Глава VII
Задержавшись в Варшаве на гораздо большее время, чем я предполагал, я не мог более откладывать свой отъезд в Белую Русь.
Я направился прямо в Могилев. Всемогущий в то время генерал-губернатор Пассек принял меня самым изысканным образом, так как получил благосклонное письмо обо мне от короля Польши. Менее чем за три недели я закончил свои дела и уже собирался отправляться обратно в Варшаву, когда несколькими курьерами было доставлено известие о том, что князь Потемкин посетит Могилев проездом в штаб-квартиру русской армии в Яссах. Любопытство и желание познакомиться с этим необыкновенным человеком заставили меня задержаться. Настоятельные уговоры генерал-губернатора Пассека также убедили меня отложить свой отъезд.
Накануне приезда князя все вокруг на расстоянии более 50 лье пришло в движение. Звонили во все колокола, гремели залпы орудий. Многочисленные кареты князя и его свиты, а также его военный эскорт поднимали тучи пыли в окрестностях города – все это возвещало о прибытии лица, которого ожидали не столько с нетерпением, сколько со страхом и беспокойством. Толпа правительственных чиновников, дворянство, прибывшее из самых отдаленных провинций, дамы в лучших туалетах, ожидавшие здесь с утра, чтобы увидеть могущественного человека, заставлявшего трепетать всю Россию, – одним словом, все собравшиеся в правительственном дворце бросились вниз по лестнице, чтобы увидеть, как князь выходит из кареты. Он вышел – в просторном летнем халате, совершенно запыленном, и прошел сквозь толпу придворных, никого не приветствуя и даже не удостоив взглядом.
Хотя я никогда ранее его не видел, я составил себе довольно верное представление по тому, что слышал о нем, и, соответственно, был убежден в том, что он в глубине души презирал тех, кто из страха или преувеличенного почтения низко склонялся перед ним. Потому я решил не предпринимать никаких шагов, которые могли бы составить у него неблагоприятное мнение обо мне.
Я не был российским подданным, и тем меньше причин было у меня льстить ему. С первого же взгляда я заметил, что он выделил меня из прочих и что моя сдержанность его поразила. Не спускаясь с лестницы, я ждал его в апартаментах вместе с двумя вновь прибывшими иностранцами. Он спросил у Пассека, кто я такой, вежливо приветствовал меня, а через четверть часа его адъютант полковник Баур пришел пригласить меня отобедать с князем.
Вернувшись к себе, я располагал несколькими часами до назначенного обеда и стал размышлять об этой редкой случайности, которая давала мне возможность увидеть сблизи необыкновенного и странного человека, который привлекал к себе внимание всей Европы.
Повсеместно ходили слухи, что он мог претендовать на корону Польши. Его сторонники даже не скрывали этого и старались приобрести ему друзей, точнее – оплаченных приверженцев. Я знал, что этот человек, баловень судьбы, не имел серьезного образования и воспитания, но имел очень верный взгляд на все, а его такт и гений изумляли всех, кто к нему приближался. Он мог поставить меня в затруднение расспросами о варшавском сейме и своими замечаниями о новом состоянии дел в Польше. Поскольку ни бояться, ни надеяться со стороны Потемкина мне было не на что, я решил честно отвечать на все его вопросы, и мне это удалось.
Во время обеда, на котором было не более двух десятков приглашенных, князь много говорил со мной о Голландии, которую я недавно посетил, но которую он знал так, будто прожил в ней всю жизнь, а также об Англии, образ правления, традиции, обычаи и нравы которой были ему прекрасно известны.
Поговорив со знанием дела об английских фабриках и мануфактурах и сравнив их с российскими, он перешел к музыке и живописи, заметив при этом, что англичане ничего в них не понимают. Назвав двух модных художников, Лампи и Грасси, он вдруг повернулся ко мне и сказал, что было смешно со стороны польского короля заставить Грасси изобразить его на портрете на двадцать лет моложе, чем он был. Он находил столь же смешным, что князю Юзефу Понятовскому на портрете были приданы черты Адониса с мышцами Геркулеса.
Я видел, что князь намерен продолжать разговор в том же духе, отпуская сарказмы в адрес короля и его племянника, и потому решил перевести разговор на другие картины двух упомянутых художников. Затем я назвал еще нескольких современных художников, и среди них – Смуглевича, поляка, который получил в Риме премию как рисовальщик и своим талантом делал честь своей родине.
Князь продолжал говорить колкости о короле, что начинало уже выводить меня из терпения, а потом заявил, что Смуглевич имеет прекрасную возможность проявить себя, работая над картиной о принятии конституции 3 мая. При этом он посоветовал разбросать там-сям по всей картине цветы, которые называются по-немецки «vergismeinnicht»[14]… И он прибавил, улыбаясь: «Вы меня понимаете»…
Можно было двояко расценить это пожелание князя. Но в тот момент я усмотрел в нем лишь жест насмешки над нашей конституцией и над польским художником и потому не мог не ответить следующим образом. Смуглевич – художник не только талантливый, но еще здравомыслящий и осторожный. Соответственно, до сих пор он использовал свои карандаши для того только, чтобы изображать свершившиеся исторические факты, которые никем не оспаривались и которые составляли честь и славу польской нации. Сейчас он пока не намеревается забегать вперед событий и писать картину на сюжет конституции 3 мая, поскольку этот документ является всего лишь наброском. Когда же через некоторое время работа сейма в Варшаве будет завершена, то художник сочтет за честь начать и завершить труд, который оставит потомству воспоминание об одной из самых замечательных эпох в анналах Польши, обессмертив, возможно, тем самым и собственное имя.
Князь посмотрел на меня испытующим взглядом, но без видимой неприязни, и тут же сменил разговор. По окончании обеда многие французы, два швейцарца и один американец подходили ко мне и от всего сердца обнимали – за то, что я разговаривал на языке правды с человеком, которому никогда не говорили правды.
В тот же день за ужином мне случилось сидеть рядом с князем, и он был по отношению ко мне уже более сдержан, однако, затронув в разговоре другие темы, он вернулся к королю Польши и событиям в Варшаве. «Как можно было, – говорил он, – вам всем настолько потерять голову, чтобы доверить командование Варшавой графу Казимиру Ржевускому? Этот человек никогда не служил в армии и не имеет никакого понятия о военном деле!..» Своим уклончивым и коротким ответом я надеялся перевести разговор на другую тему, но князь вернулся к разговору, доказывая мне, что выбор коменданта Варшавы был сделан неправильно. Я ответил, что граф Ржевуский получил хорошее образование за границей и, по всей вероятности, знает военную тактику, хотя бы в теории. «Да что вы мне говорите о теории! – возразил князь. – Зачастую нужно уметь как раз-таки нарушить правила, чтобы добиться успеха и совершить действительно великое дело». Мне хотелось закончить этот разговор, и я решил, что легче всего сделать это, сказав ему комплимент: «Бесспорно, мой князь, никто не может судить об этом лучше, чем вы, и именно в вашей школе следует учиться и воспитывать себя». Князь, казалось, не остался равнодушен к этому комплименту, но захотел показать мне, что он стоит намного выше того, что я имел в виду, и гордо ответил: «Это еще не все. Нужно быть рожденным для этого». Я тут же нашелся в ответ: «И главное, нужно быть очень удачливым».
С этой минуты князь стал еще более вежлив, вследствие чего мое мнение о нем повысилось, и наш разговор стал более непринужденным. Назавтра я даже с удовольствием услышал от него лестные высказывания о храбрости, патриотизме и талантах поляков.
Он много рассказывал мне о земледелии, ботанике, о тех усовершенствованиях, которые были необходимы для организации фабрик и мануфактур в той части Польши, где находились его владения, а также для расширения торговли во всей стране. Он показал мне полотно и часы, произведенные на его предприятиях в Дубровне, то есть на тех землях в Белой Руси, которые он недавно купил у графа Ксаверия Любомирского.
В тот же день около полудня князь устроил нечто среднее между завтраком и обедом. Присутствовали только граф Пассек, архиепископ Могилева Богуш-Сестренцевич и я. Мы разместились за столом, накрытым по меньшей мере на тридцать персон. Все остальные, мужчины и женщины, лица первого ранга, держались на почтительном расстоянии в салоне и в соседних апартаментах. Наконец князь распрощался с нами, ушел и вскоре отбыл с тем же блеском и шумом, с каким прибыл.
Несколько часов спустя я покинул Могилев и отправился прямиком в Варшаву. Естественная усталость от путешествия помешала мне покинуть мой дом сразу же по прибытии и отправиться к королю. Я получил от него записку с приказом явиться в Лазенки к нему на обед. Там же он упрекал меня за то, что я не появился у него, и объяснял свой упрек причинами, о которых хотел сообщить мне в личной беседе.
Я не понял этой последней фразы и с нетерпением ждал его объяснения. После обеда король уединился со мной и сказал, что был сильно смущен, узнав, что я был в числе лиц, которые не одобряли конституцию 3 мая. Если бы ее осуждал любой другой, кроме меня, он был бы менее обеспокоен, но я слишком известная и заметная фигура в стране, и поэтому мое мнение может сильно повлиять на тех, кто считается с моим отношением к этому делу.
Я честно ответил королю, что им получены ложные сведения об этом и что меня мало заботит, кто был автором этой басни, сочиненной наудачу, и что я ее презираю. Однако мне хотелось бы узнать у короля, есть ли у него на руках какие-либо более серьезные доказательства, помимо устных доносов. Король признался, что таких доказательств у него нет, но речь идет о письме, которое я отправил в свое время в Гаагу: в нем якобы я был далек от одобрения того, что происходило на сейме, и выражал недовольство конституцией 3 мая.
Долгого объяснения не потребовалось, так как мне не составило труда вспомнить, что именно могло вызвать такие подозрения.
Покидая Гаагу, я обещал одному из моих коллег дипломатов, с которым я был очень дружен, поддерживать с ним постоянную переписку. Это был кавалер д’Араухо, посланник Португалии, которому я не имел никаких оснований не доверять и который, без всякого сомнения, никому не показывал моих писем. Все мои письма дошли до него, за исключением последнего, к которому был приложен большой пакет, содержавший ответ на все его вопросы относительно конституции 3 мая. Это письмо было перехвачено и вскрыто одним недобросовестным чиновником представительства Польши в Гааге, который неоднократно пренебрегал своими обязанностями во время моего пребывания в Голландии и потому вынужден был выслушивать мои упреки. Он захотел отомстить мне и передал примасу, брату короля, когда тот проезжал через Гаагу, оригинал этого письма, где, как ему казалось, содержались неоспоримые доказательства моей ненависти к королю и моего пренебрежительного отношения к конституции 3 мая.
Примас сообщил об этом письме королю, но не передал ему этого письма, которое мог где-то затерять, однако у меня сохранилась его копия, и я обещал королю назавтра принести ее. При этом заверил, что хотя в письме содержались некоторые замечания на его счет, но не было ничего такого, что он мог бы осудить. Это письмо не было официальным документом, а лишь излиянием сердца перед другом, чей характер и взгляды были мне хорошо известны. К тому же этот друг был посланником далекого государства, которое не могло причинить никаких неприятностей Польше. Будучи далек от осуждения конституции 3 мая, я говорил о ней со всем тем уважением, которого она заслуживает, и отдавал должное ее авторам. И наконец, мое беспокойство и страх относительно будущего Польши лишь доказывают, насколько близко к сердцу я принимаю интересы моей родины. Я жажду, чтобы все усилия нации были объединены ради сохранения неделимости Польши и соблюдения ее вновь принятой конституции. В конце последовало честное признание: то, что было сказано в письме о короле, является моим личным мнением, и его разделяют многие другие лица, искренне преданные своему королю.
Король приказал мне прийти к нему через два дня, и я принес ему копию того письма. Вот его содержание.
«Господин кавалер, вы расспрашивали меня о событиях 3 мая, о которых сообщали газеты и курьеры, доставлявшие известия посланникам разных стран в Гааге, но вы не сочли их достаточными, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Надеюсь, что мною вы будете довольны, так как я посылаю вам с верной оказией большой пакет, содержащий часть протокола сейма с переводом основных речей, произнесенных на заседании 3 мая, а также описание торжественной церемонии, состоявшейся в тот же день. Все это рассказано очевидцем, на чью порядочность вы можете положиться. Итак, что касается вашей первой просьбы, она полностью удовлетворена. Мне труднее удовлетворить вашу вторую просьбу – пояснить вам, каково мое мнение о тех изменениях, которые должны произойти в образе правления Польши, и каковы могут быть их результаты. Вы знаете мои чувства по отношению к моей родине: мы часто говорили с вами о них во время моего пребывания в Гааге. Мне было приятно беседовать с вами, потому что вы любите Польшу и поляков и потому что мы с вами единодушны во взглядах на то, что составляет счастье народов вообще. Мы с вами едины в отвращении ко всему незаконному, сомнительному и несправедливому. Исходя из этого, мы осуждаем поведение России по отношению к полякам и считаем также, что Польша, подавляемая в течение стольких лет, должна стремиться уйти из-под ига, под которым она стонет, и воспользоваться нынешними обстоятельствами, чтобы сменить у себя форму правления. Но отвечает ли конституция 3 мая этим потребностям, ожиданиям и надеждам поляков… этого я сейчас не могу вам сказать, тем более что прошло всего лишь пятнадцать дней, как она была принята и опубликована. События следовали одно за другим с такой скоростью, что я с трудом улучил время, чтобы перечесть ее после опубликования. И тем более не было времени, чтобы вынести о ней суждение на свежую голову, так как мы все были в состоянии пьянящего восторга, что не располагает к хладнокровным рассуждениям о будущем. Я убежден, что эта конституция основана на разумных и умеренных принципах, что она более соответствует национальному характеру, чем какая-либо иная, а также отвечает нынешнему состоянию Европы, в которой борьба между анархией и деспотизмом становится неизбежной. Я убежден в чистоте намерений моих соотечественников, восхищаюсь их мужеством и энергией, их стойкостью в борьбе с препятствиями, встречаемыми со всех сторон. Очевидно даже, что сам король решился добровольно следовать за ними и что сейчас, когда я вам пишу, он, как и все мы, охвачен энтузиазмом по отношению к этому великому делу, которое он считает и своим делом… Но можно ли наблюдать без тревоги и страха за сближением Швеции и России? За неизбежным заключением мира между этим государством и Турцией? За интригами, плетущимися за спиной Польши даже в дружественных ей дворах? И, наконец, за паническим ужасом, который французская революция навеяла всем европейским кабинетам?.. Я убежден, несмотря на все это, в жизнестойкости моей родины, если двенадцать миллионов жителей, составляющих ее население, объединятся на защиту своей конституции и своих границ. Если бы только оппозиционная партия, на самом деле незначительная, но возглавляемая несколькими богатыми и могущественными лицами, не искала поддержки у России, чтобы отменить все то, что было установлено сеймом, и произвести переворот, который может оказаться весьма кровавым!.. Вот если бы сам король стал во главе наших храбрецов, лично повел их на поле битвы и подал пример тем, кто хочет за ним последовать!.. Я могу вас заверить, мой дорогой кавалер, что по первому зову короля все владельцы покинули бы свои имения, взялись бы за оружие. Каждый отдал бы все, что имеет, на службу родине. Я говорю с такой уверенностью, потому что знаю: мои соотечественники способны на самые великие жертвы, если во главе их станет достойное лицо, разделяющее их энтузиазм и заслуживающее их доверия. Не вызывает сомнения то, что король, который по праву заслужил любовь и благодарность нации, мог бы быть этим достойным лицом… Но перо выпадает из моей руки, когда я думаю о том, что наш король добр, но слаб, хочет блага, но не имеет мужества и твердости воли, чтобы принять должное решение. Он будет первым, кто пустится на поиски примирения, как только раздадутся первые угрозы со стороны России! Он не откажется от своих мирных обычаев, не пожертвует своим отдыхом и спокойствием, чтобы подвергнуть себя превратностям войны. Несмотря на свои обещания и лучшие намерения, он принесет в жертву свою славу и нашу бедную Польшу!.. Как бы я хотел ошибаться!.. Я желаю этого, но не надеюсь!.. И т. п. и т. д.
Варшава, 20 мая 1791.
Михал Огинский»
Читая это письмо, я наблюдал за королем и заметил, что оригинал письма не был ему известен, так как он слушал с большим вниманием, и письмо произвело на него сильное впечатление, которого он не мог скрыть. Он признал, что я говорил о конституции со всем почтением, которого она заслуживала. Он допускал, что мои тревоги относительно будущего частично обоснованны, но надеялся на Господа и на правоту нашего дела. Он не допускал мысли о том, что король Пруссии может изменить свои намерения (хотя в то время в этом уже не было никаких сомнений), не верил также, что французская революция может оказать влияние на судьбу Польши, не допускал мысли о том, что некоторые члены сейма, недовольные конституцией, могут открыто объявить себя врагами родины. Он также пытался меня убедить, что, зная русскую императрицу, может быть уверен, что она, при всей ее предубежденности против польской нации, не намерена вмешиваться в наши дела, что она не только не вынашивает планы нового раздела Польши, но, напротив, воспротивится им, если об этом встанет вопрос.
Что же касалось моих слов о самом короле, то он слегка упрекнул меня за них и казался очень задетым, узнав, что многие другие разделяли мое мнение о нем. Он заверил меня, со слезами на глазах, что на его счет сильно ошибаются, что он всегда был невезучим, но никогда – виновным перед нацией, что его деятельность еще развеет ошибочное мнение о нем. Он горячо говорил о своей любви к родине и заявил, что никакая сила не поколеблет его убеждения и что он готов даже пожертвовать остатком своих дней, если это будет нужно, чтобы поддержать конституцию и укрепить благосостояние Польши.
Затем король расспросил о моем путешествии в Белую Русь, о беседах с князем Потемкиным, обо всем, что я слышал, проезжая через разные страны, относительно новой польской конституции. Он пожаловался, что не во всех областях королевства его поддерживают в равной степени. Отметил, что теплое отношение к нему проявляется главным образом в Литве, где многие семейства, принадлежащие к партии Коссаковского, используют свое влияние, чтобы увеличить число его друзей. Его удивляло, что в Варшаве большинство знати записалось в национальное ополчение, и это оказалось весьма лестным и вдохновляющим для горожан, тогда как в Вильне не было ничего подобного: там едва ли нашлось несколько представителей дворянства, которые захотели вписаться в муниципальные акты. Король поручил мне отправиться в Литву, чтобы пробудить сознание общественности, и особо отметил, что мой пример увлек бы наиболее значительных лиц из дворянства этого края.
Я заверил короля, что в данных обстоятельствах, как и в любых других, если нужно доказать мою бесконечную преданность благу родины, он может рассчитывать на мою полную готовность подчиниться его приказам. В этом я разделяю чувства всей нации, которая с доверием предалась своему королю, и мы все молимся о том, чтобы он продолжал действовать с той же твердостью, как в последние несколько месяцев.
Вскоре я отбыл в Вильну и там сообщил моим друзьям о цели моего путешествия и о моем желании записаться в национальное ополчение этого города. Меня попросили назначить день для этой церемонии, и более пятидесяти представителей высшего дворянства Литвы последовали за мной в городскую ратушу, где мы поставили свои подписи под муниципальными актами посреди одобрительных возгласов и общего воодушевления жителей города.
Шумное веселье еще более возросло, когда по окончании этой церемонии я распорядился накрыть у себя обед на пятьсот персон, куда были приглашены все именитые горожане и где многочисленные тосты следовали один за другим до самой ночи.
Меня попросили определить цвета одежды для национального ополчения Литвы. Были организованы многочисленные балы и празднества, на которых мужчины и женщины должны были появляться в одежде этих цветов. Все прошло бы весело и спокойно, если бы не произошел инцидент, которого я не мог ни предвидеть, ни предотвратить и который возмутил доброе настроение, царившее в обществе.
В один несчастный момент, когда меня не было в салоне, несколько человек, изрядно выпивших, принялись произносить патриотические тосты, заявляя, что предателей родины надо вешать на фонарях. Один из них воскликнул: «Да! Епископа К… на фонарь!» Многие из гостей стали аплодировать этому призыву. В это же время один из них вынул из кармана ленту с надписью «Конституция или смерть».
Один из преданных сторонников епископа, напуганный этими революционными речами, прибежал в мой кабинет, чтобы предупредить о том, что происходит. Я был рассержен, но единственное, что мог предпринять, – это вернуться немедленно в салон и произнести тост о необходимости согласия и единодушия, а также забвения всех личных счетов и ненависти. Последовали другие тосты в этом же духе. Согласие, казалось, было восстановлено и предшествующие скандальные сцены забыты, однако зло сделало свое дело. Несколько друзей семейства епископа, присутствовавшие на этом празднестве, не преминули доложить ему об этом происшествии, к которому я не имел никакого отношения, но в котором обвинили именно меня. Позднее это стало одной из причин, по которой во время Тарговицкой конфедерации были секвестированы мои земли и возбуждено против меня преследование со стороны русского правительства, результатом чего стали невозвратимые для меня потери.
Я оставался в Вильне еще несколько дней, чтобы присутствовать на празднествах, которые свидетельствовали о том, что общественный настрой здесь установился тот же, что и в Варшаве. На общем собрании городского ополчения меня выбрали депутатом муниципалитета и попросили принять на себя обязанность довести определенные инструкции до сведения короля и общего собрания сейма.
Глава VIII
Попросив у короля отпуск на несколько месяцев для устройства своих семейных дел, я откладывал возвращение в Варшаву, считая, что нет необходимости в моем последующем путешествии в Гаагу: хотя главные конституционные деятели Игнаций Потоцкий и Коллонтай настаивали на моем скорейшем отъезде туда, но я находил свое пребывание там бесполезным.
В апреле 1792 года я наконец покинул Литву. Я мог гордиться приемом, который был оказан мне в Вильне, и доверием, проявленным по отношению ко мне. Те же причины для гордости были у меня и по возвращении в Варшаву, где я так же тепло был встречен королем и всей патриотической партией.
В Варшаву я прибыл накануне первой годовщины конституции 3 мая и встретил такое же общее воодушевление по ее поводу. Враги же конституции видели, что время осуществления их планов близится, и не обращали особого внимания на эти настроения. Некоторые наблюдатели, более вдумчивые и опытные, усматривали в будущем зловещие для Польши признаки, но в целом общественность была пронизана весельем и радостью. В публичных собраниях, на всех зрелищах, на улицах города, в патриотических напевах слышался один рефрен: король с нацией, и нация с королем. Казалось, что на некоторое время были забыты все насущные заботы в государстве и все были заняты только празднованием годовщины 3 мая.
В этот день церемония состоялась в костеле Святого Креста. Выйдя из королевского дворца, торжественная процессия направилась туда, двигаясь между двумя рядами военных под командованием лучших офицеров армии во главе с князем Юзефом Понятовским. Перед королем и за ним шествовал его блистательный двор: все посланники, сенаторы и высшие сановники Короны и Литвы. Здесь собралось также более тридцати тысяч зрителей, и на всех лицах читалось восхищение и признательность своему монарху и создателям конституции.
В самом костеле зрелище представало еще более внушительным. Величественную картину являл собою король, окруженный первыми лицами государства и самыми именитыми гражданами, сумевший вызвать любовь и доверие своих подданных и искренне разделявший их патриотические порывы и надежды.
Король сидел на троне в глубине костела, а на ступенях к нему стояли высшие офицеры Короны и Литвы, а также капелланы и блистательная свита короля. Кресла, стулья и скамьи были расставлены таким образом, чтобы каждому было удобно, и всюду царил образцовый порядок, несмотря на то что все пространство костела было заполнено людьми.
Специально к этому торжеству была написана музыка знаменитым Паизиэлло. Исполняемая лучшими итальянскими певцами в сопровождении многочисленного оркестра, она звонким эхом отдавалась под сводами.
По окончании этой церемонии мы вышли из костела и, так же пройдя между рядами военных, достигли места, которое было предназначено для закладки фундамента нового храма: на сейме было решено построить его, чтобы увековечить память о принятии конституции 3 мая. Король заложил первый камень в его основание. Все присутствующие последовали его примеру, положив вслед за ним в основание камни и кирпичи.
По окончании всей церемонии, которая продлилась несколько часов, мы чувствовали себя сильно уставшими, так как день был очень жарким, и король вернулся во дворец, чтобы немного отдохнуть. Затем он отправился в ратушу, куда его пригласил глава города от имени всех жителей Варшавы – там его ожидали великолепно сервированные столы.
Глава города Закревский и я, в качестве делегата от муниципалитета Вильны, стояли возле кресла короля. Он был в веселом настроении, наговорил нам массу комплиментов и провозгласил тост за наше здоровье – в ответ на наш тост «за короля с нацией», который был поддержан громкими аплодисментами.
День закончился театральным представлением и стихийной иллюминацией по всему городу. Это был, к несчастью, последний день, когда все могли весело праздновать, доверчиво предаваясь химерическим надеждам.
С того дня на горизонте стали сгущаться тучи. Причина была вовсе не в том, что патриоты потеряли веру в правоту своего дела, и не в том, что нация перестала им верить, – каждый курьер, прибывавший в Варшаву, доставлял тревожные известия о приближении русских войск, о согласии, установившемся между дворами Петербурга и Берлина, о смуте, затеваемой внутри страны тремя главными противниками конституции – Феликсом Потоцким, Браницким и Ржевуским. Отделившись от нации, они стремились, однако, путем угроз и обещаний сделаться ее прозелитами. К тому же, многие из тех, кто хорошо знал короля, опасались его слабости и не верили его обещаниям.
Еще с начала 1792 года надежды польских патриотов стали понемногу тускнеть вследствие тех изменений, которые начали происходить в разных европейских кабинетах. Так, имело место сближение берлинского и венского дворов; предварительные соглашения были подписаны в Рейхенбахе; шли переговоры в Пильнице, которые вызывали опасения, так как были секретными[15].
Несмотря на все это, до определенного времени доверие поляков не было поколеблено и никакие страхи их не смущали. Но после заключения 9 января 1792 года мирного договора в Яссах между Россией и Турцией и после внезапной смерти императора Леопольда 1 марта этого же года положение дел существенно изменилось. Российская императрица сумела заинтересовать Англию и Голландию договором, заключенным ею в Яссах. Единственным препятствием для нее являлась необходимость преодолеть враждебность прусского короля; чтобы достичь этого, она окружила его своими сторонниками, которые сумели отдалить его от интересов Польши.
Впоследствии общее мнение склонялось к тому, что если бы царствование императора Леопольда продлилось, то Европа сумела бы избежать многих неурядиц, не погрязла бы в несправедливости, узурпации, насилии и кровавых войнах. Не вызывает сомнения, что только после смерти императора российский двор смог распространить свое влияние на Вену и на Берлин. Он создал видимость желания присоединиться к Венскому договору лишь для того, чтобы дать понять, что не может согласиться со статьями, касающимися Польши. Следствием такой политики стала приватная договоренность с Австрией и секретный договор с Пруссией, по которому Польша и была принесена в жертву.
Три члена сейма, составившие план контрреволюции и рассчитывавшие на помощь России для его осуществления, уже долгое время находились в Яссах в ожидании распоряжения отправиться в столицу империи.
Их пребывание в Яссах уже немало беспокоило сейм, но это беспокойство еще усилилось, когда стало известно, что они находятся по дороге в Петербург.
16 апреля 1792 года комиссия по иностранным делам представила официальный доклад сейму относительно враждебных намерений со стороны России. Она не могла, однако, сообщить что-либо определенное о намерениях прусского короля, несмотря на его подозрительное поведение, так как его переговоры с Россией держались в секрете. Приблизительно в это же время саксонский кандидат дал свой ответ общему собранию сейма – его содержание уже было приведено выше.
Все эти обстоятельства, взятые вместе, непременно должны были обеспокоить сейм, так как давали реальные поводы для тревоги, однако сейм, не желая выказывать свою обеспокоенность, сохранял внешнюю импозантность и пытался предпринять необходимые предосторожности против опасностей, грозивших государству. Никогда работа сейма не была столь согласованной и гармоничной, как в то время. Все наиболее важные решения принимались единогласно. Короля облекли такой властью, какую не имел ни один из его предшественников. Облекли его и неограниченным доверием. Вся армия была отдана в его распоряжение. Ему поручили призывать на службу иностранных офицеров – специалистов по артиллерии и инженерному делу, и даже генералов, которым он хотел бы доверить командование. Казне было приказано передать ему тридцать миллионов в том случае, если начнется война. Было решено, что провиант, фураж и всякое прочее довольствие будет доставляться специальными комиссиями по требованию короля. Ему же было поручено созвать «посполитое рушение», то есть ополчение, в случае если войско в сто тысяч человек покажется ему недостаточным.
За несколько дней до принятия этих решений канцлер, президент комиссии по иностранным делам, получил приказ обсудить с Луккезини известия, доходившие до сейма, и проконсультироваться с ним о мерах, которые надлежало принять сейму.
Луккезини ограничился устным ответом, что вероятность захвата Россией польских территорий мала и что она, вероятно, этими слухами лишь успокаивает недовольных в самой Польше. Но, в конце концов, прибавил он, Польша вправе сама заботиться о собственных интересах и прибегать к помощи других государств; меры, принимаемые самими поляками, и определят помощь, подаваемую им иностранными государствами.
Сейм оставался верен своим принципам делиться с союзниками планами своих военных операций и потому сообщил посланнику Пруссии о разработанных им оборонительных мерах. На ноту, врученную Луккезини 19 апреля, тот ответил 4 мая, что получил приказ Е[го] В[еличества] короля Пруссии сообщить о получении им сообщения, которое рассматривается им как доказательство доверия со стороны короля Польши и Речи Посполитой; однако Е[го] В[еличество] не должен располагать сведениями о решениях, принимаемых сеймом Польши.
18 мая посланник России Булгаков вручил декларацию от имени императрицы Екатерины. Это было через четыре дня после подписания Тарговицкой конфедерации. В ней было сказано следующее. Исходя из обязательства, которое взяла на себя императрица в подписанной ею гарантии, она заявляет, что самые сильные государства, в частности такие, как германские, далеки от того, чтобы отказываться от подобных гарантий. Они ищут таких гарантий, принимают их с радостью и умеют их ценить как тот вид отношений между государствами, который самым положительным образом обеспечивает их независимость и сохранность их территорий.
Далее в этой декларации сейму были адресованы упреки в создании конфедерации, в продлении его работы, в направлении посланника в Константинополь, в заключении Польшей договора с Портой.
В этой декларации императрица обещала Польше свое прощение, если та подчинится ее воле: она требовала, чтобы была отменена клятва, принесенная конституции 3 мая; в заключение императрица предлагала отнестись с доверием к ее действиям, которые вызваны исключительно ее великодушием и бескорыстием.
Эта декларация, которой, вероятно, многие ожидали, стала громом среди ясного неба для общества в целом. Страх, отчаяние, мстительность читались на лицах жителей Варшавы, которые в тот день и в последующие дни собирались группами в общественных местах, чтобы обсудить эту декларацию и последствия, которые она могла иметь.
Сейм, прежде чем принять окончательное решение, решил сообщить Луккезини, прусскому посланнику, о декларации России и о том, что она сопровождалась угрозой ввести российские войска на территорию Польши. Сейм полагал, что в соответствии с договором об альянсе, заключенном с Пруссией, он имел право требовать от нее помощи.
Луккезини начал с того, что сослался на необходимость получить на это ответ от своего двора. В ожидании ответа он, однако, может устно заявить, что прусский король не имел никакого отношения к конституции 3 мая; что если сторонники этой конституции считают нужным защищать ее с оружием в руках, то король не может считать себя обязанным помогать им в этом.
Польский король пожелал личных разъяснений и обратился напрямую к Фридриху Вильгельму: 31 мая направил ему письмо, чтобы сообщить о враждебных намерениях императрицы. «Если альянс, заключенный между Вашим Величеством и мною, является основанием для требования Вашей помощи, то мне важно знать, каким образом Вы предполагаете соответствовать взятым на себя обязательствам. Я знаю о личном добром отношении Вашего Величества, и мне оно так же необходимо в моих действиях, как и то, чтобы ваши военные силы способствовали моим успехам… Положение таково, что достоинство Вашего Величества, как нашего союзника, тесно связано с честью и независимостью моей нации, и я вправе ожидать, что Вы сообщите мне свое мнение. Мое доверие к Вам имеет лишь те пределы, которые Вы сами ему положите… Среди всех моих забот и трудов меня утешает только одно: никогда еще не было лучшего повода иметь столь уважаемого и лояльного союзника в глазах современников и последующих поколений».
Прусский король, внезапно изменив и свое мнение, и стиль общения, отрекся от всего, что он говорил, писал и делал всего лишь год назад. В ответе королю Польши от 8 июня 1792 года он обвинил Речь Посполитую в том, что она, без его ведома и содействия, приняла конституцию, которую он никогда не думал поддерживать. Он пояснял: «Я честно признаюсь, что после всего, что произошло за последний год, можно было легко предвидеть те затруднения, в которых теперь оказалась Польша. Не один раз маркиз Луккезини был мною уполномочен выразить как лично Вашему Величеству, так и наиболее значительным лицам Вашего правительства, мое неодобрение по этому поводу. С того момента как в Европе установилось всеобщее спокойствие и позволило мне выражать свое мнение, и после того как российская императрица выразила свое решительное неприятие революции 3 мая, мой образ мыслей и речи моих посланников ни в чем не изменились. Рассмотрев непредвзято новую конституцию, принятую Польской Речью Посполитой без моего ведома и содействия, я никогда не намеревался ни поддерживать, ни защищать ее. Я предсказывал, наоборот, что угрожающие меры и военные приготовления неизбежно вызовут недовольство императрицы и навлекут на Польшу несчастья, которых именно и хотели избежать. События подтвердили правоту моих предположений… Ваше Величество понимает, что положение дел полностью изменилось с тех пор, как мною был заключен альянс с Вами. Нынешние обстоятельства, порожденные конституцией 3 мая, никак не приложимы к тем обязательствам, которые были предусмотрены нашим договором. Я не обязан удовлетворять ожиданиям Вашего Величества, если намерения вашей патриотической партии остаются неизменными и она упорствует в поддержании своего дела. Но если она осознает трудности, которые возникают со всех сторон, и сумеет дать обратный ход событиям, то я буду готов связаться с императрицей и одновременно вступить в соглашение с венским двором, чтобы совместно договориться о мерах, способных вернуть Польше ее спокойствие».
Угрозы с одной стороны и отказ в помощи с другой имели целью запугать тех, кто до сих пор проявлял более всего постоянства, бесстрашия и патриотизма. Сейм, однако, не поддался запугиванию. Он еще более увеличил властные полномочия короля, выдал ему средства из казны и предоставил в его ведение присвоение дворянских титулов и воинских званий. Сейм также дал отсрочку для признания и искупления ошибок тем, кто искал протекции у российской императрицы и осмеливался ходатайствовать о вторжении неприятельских армий в Польшу.
Со своей стороны, король обещал, что сам станет во главе армии. Он торжественно поклялся защищать, даже ценой собственной жизни, нацию и ее конституцию.
Встал вопрос о том, не следует ли сейму прекратить свою работу. После многих дискуссий за и против было решено приостановить его работу 29 мая. При этом сейм оставил за собой право возобновить свои заседания, если обстоятельства того потребуют.
Из вышесказанного становится ясно, до какой степени нация доверяла тогда своему королю. Ему была предоставлена неограниченная власть. Все граждане торопились внести свои пожертвования на увеличение армии и усиление обороноспособности страны. Беспримерен был общенациональный порыв и то нетерпение, с которым ожидали, что король покинет Варшаву и станет во главе армии. Многочисленные волонтеры, экипированные за собственный счет, собирались со всех сторон в единый лагерь. Основная масса дворянства также присоединилась бы к ним вслед за более храбрым и предприимчивым королем.
Конечно, нельзя предсказывать, каким был бы ход войны и военные успехи армии под командованием неопытного полководца, но можно не сомневаться в том, какой славой покрыл бы себя король и вся нация. Несомненно и то, что мир, заключенный монархом, стоящим во главе своей армии, был бы совершенно другим, нежели тот, который был навязан королю, закрывшемуся в своем дворце и пожертвовавшему своей честью и судьбой своего народа ради собственного покоя.
Глава IX
Тем временем на границе Польши скапливались российские войска, готовые вторгнуться в Украину и Литву. Генералы Каховский и Кречетников, стоявшие во главе русских армий, воевавших против Турции и Швеции, теперь должны были возглавить захват Польши.
Король создал военный лагерь под Варшавой и дал торжественное обещание как можно быстрее отправиться туда самому, но затем начал колебаться, проявлять нерешительность и кончил тем, что отказался от этого намерения. Я не говорю о его предполагаемом намерении отправиться в лагерь под Дубно, где собрался корпус из двенадцати тысяч человек, так как подобное предприятие потребовало бы от него, при его склонности к прелестям мирной жизни, слишком больших жертв. Но при этом никто не сомневался в том, что он отправится в лагерь под Варшавой, в который каждый день вливалось все больше волонтеров и где одно его присутствие, даже вне всяких военных действий, подняло бы дух нации.
Вместо того чтобы отправиться туда, он созвал новый военный совет, и тот, в соответствии с намерениями короля, передал Юзефу Понятовскому, племяннику короля, который командовал армией, приказ покинуть позиции, занимаемые различными польскими корпусами, и сдвинуться по направлению к Бугу, чтобы затем иметь возможность сконцентрировать все силы возле Варшавы.
Таким образом, армия в пятьдесят шесть тысяч человек, которая горела желанием сражаться, получила приказ отступить, даже не померившись силами с противником.
В соответствии с декларацией России от 18 мая 1792 года армия императрицы, состоявшая из восьмидесяти тысяч линейных войск и двадцати тысяч казаков и стоявшая уже на границе, получила приказ продвигаться вперед. 19 мая часть ее перешла границы Польши, а остальная часть вошла в Литву 21-го числа того же месяца.
Русский генерал Каховский с тремя корпусами продвинулся на Украину, причем каждый из этих корпусов должен был двигаться в своем направлении. Три дивизии польской армии (одной командовал генерал-аншеф Понятовский, другой – Михал Виельгорский, третьей – Костюшко), защищавшие южные области Польши, получили приказ отступить и затем объединились в Полонне.
В различных стычках, которых невозможно было избежать, успехи были переменными с обеих сторон, но если превосходство в количестве и давало преимущества русским, то их отдельные победы доставались им дорогой ценой, так как поляки сражались с отчаянием обреченных. Убедительное доказательство тому – бой под Зеленцом 18 июня, где поляки покрыли себя славой, бой под Полонной, где особо отличился во главе кавалерии генерал Мокрановский. А 17 июля под Дубенкой поляки дали самое великое доказательство своего бесстрашия и преданности своему командиру. Во главе с Костюшко они разбили неприятельский корпус, в три раза превосходивший их числом, причем потери неприятеля были особенно велики. Поляки отступили только тогда, когда русские перешли границу Галиции и атаковали их с той стороны, с которой они не ожидали быть атакованными, так как Галиция была нейтральной страной и не могла быть использована ни одной из сторон.
«Дело под Дубенкой» добавило славы к лаврам Костюшко, которые он заслужил своими подвигами в Америке. Оно стало прологом к усилиям, приложенным этим великим человеком двумя годами позже для спасения чести нации и защиты свободы и независимости своей родины.
Вообще же, все офицеры и солдаты выполняли свой долг во время той печальной кампании, желая и надеясь видеть рядом с собой короля, как он это и обещал. Они были убеждены, что, сражаясь за родину под началом таких полководцев, да еще и на глазах короля, единого со своей нацией, они не отступили бы ни перед какой силой и обязательно победили бы.
Такова была, однако, несчастная судьба Польши – терпеть поражения в ответ на все свои усилия. В Литве немногочисленный авангард, но возглавляемый мужественным Беляком, отступал, очень медленно, перед русскими частями под командованием Кречетникова. Затем, после передачи командования принцу Людвигу Вюртембергскому, литовская армия оказалась дезорганизованной и перешла под начало Юдицкого, который, потерпев серьезное поражение под Миром, повел свою армию к Гродно и затем получил приказ короля передать ее под начало Михала Забелло, а самому отправиться в Варшаву.
По мере продвижения русских армий предводители конфедерации вербовали себе все новых сторонников и заставляли их присоединяться к себе.
Кречетников, войдя в Вильну, объявил Коссаковского великим гетманом литовским в соответствии с волеизъявлением нации[16]. Вышеупомянутый К…, вместе со своим братом епископом, составил акт о конфедерации Литвы, назначив ее маршалком князя Александра Сапегу – без его ведома. Эта конфедерация присоединилась затем к Тарговицкой.
Князь Юзеф Понятовский, исполненный самых благородных чувств, что он и доказал во многих обстоятельствах и благодаря чему его имя сохранится в памяти потомков, был смущен и даже изумлен, получив приказ от своего дяди короля отступить, не принимая боя с противником. Он высказал несколько замечаний, которые не были поняты и навлекли на него упреки; затем последовал новый приказ короля, еще более решительный, – прикрывать только подход к Бугу.
Впрочем, поскольку эту реку можно без труда перейти в нескольких местах и, следовательно, невозможно было оборонять все эти предполагаемые пункты переправы, то военачальники сочли эти распоряжения короля несостоятельными – какой, впрочем, была и вся его политическая деятельность в данных обстоятельствах.
Тем временем уже половина территории страны была оставлена нашими войсками и ресурсы для ведения войны были почти исчерпаны, поэтому король приказал князю Юзефу договориться о перемирии. Его предложение было отвергнуто русскими генералами: они заявили, что с этим нужно обращаться в Петербург.
Я не покидал Варшаву с момента празднования годовщины конституции 3 мая и потому имел возможность часто видеть короля и напомнить ему о нашем разговоре в Лазенках. Тогда я позволил себе сказать ему, что желательно было бы так же рассчитывать на его твердость в деле поддержки конституции 3 мая, как он мог рассчитывать на стремление каждого поляка защищать ее ценой своей жизни.
В течение еще некоторого времени после получения декларации от 18 мая король не менял своей риторики и повторял, с видимостью энтузиазма и веры в свои слова, что ничто не может заставить его изменить свои намерения и что он предпочел бы умереть, нежели предать доверие нации и пожертвовать интересами своих подданных.
Однажды он срочно вызвал меня – это было через некоторое время после вторжения русских в Литву – и спросил, какие новые известия я имею о настроениях общества в этой провинции. В ответ я достал из кармана декларацию жителей Литвы против Тарговицкой конфедерации.
Эта декларация должна быть приведена здесь полностью: она интересна как живое свидетельство о страданиях жителей Литвы и об энтузиазме, который их тогда воодушевлял.
«Мы, жители Великого Княжества Литовского, собравшиеся в Гродно, в равной степени озабоченные несчастным состоянием нашего общества и проникнутые единым духом, обращаемся к своей родине и всем нациям с этой декларацией, которая заключает в себе точное и подлинное описание той тягостной ситуации, в которой мы сейчас находимся.
После многих лет унижений, неурядиц и бед мы наконец объединили свои усилия, чтобы улучшить форму нашего прежнего управления государством и извлечь свою страну из той пропасти, в которую ввергли ее несовершенства прежней конституции. В результате долгой и трудной работы мы сумели преодолеть недостатки прежнего образа правления: предрассудки, эгоизм, личные амбиции и склонность к беспорядку, которые были характерны для нашего законодательства. Мы создали на прочных основаниях конституцию, свободную от недостатков междуцарствий, – к нашему благополучию и к спокойствию наших соседей. Но нашлась горстка недостойных людей, движимых гордыней и лицемерием, врагов благополучия нашей родины, разъяренных этим единодушным стремлением нации реформировать свое правление, так как они увидели в нем угрозу своему честолюбию и желанию властвовать. Они сумели войти в доверие двора одной иностранной державы, обольстить и обмануть ее лживыми донесениями…
Они и их ничтожные приспешники посмели объявить себя настоящими представителями нации, тогда как на самом деле они являются лишь ее отщепенцами. Они не признают короля и конституцию, которые были законно утверждены сеймом. Они взывают к помощи России, чтобы поддержать свободу, на которую якобы совершено покушение. Они подличают, кланяясь в ноги иностранной государыне, чтобы отдать ей во владение наших свободных граждан. Они прилагают старания, чтобы разрушить насильственным путем единодушие нации, силой навязать ей свои убеждения и вернуть страну в состояние истощения, анархии и бессилия.
Мы слишком явно испытали на себе результаты их козней. Иноземная армия имела право вторгаться в Польшу только для защиты наших свобод и поддержания волеизъявления нации – таковы и были, несомненно, намерения Ее Величества императрицы. Но, несмотря на то что все жители нашей страны одобрили новую конституцию, единодушно уверены в ее реальных преимуществах и в необходимости ее защищать, – русские, вместо того чтобы уважать волю нации и чувства всех добропорядочных людей, поддерживают амбиции нескольких личностей, которые презирают своих сограждан и желают приобрести для себя лично и для своих владений особые и сомнительные права, тем самым покушаясь на общественную свободу и личную свободу частных лиц.
Командующие русской армией опубликовали манифесты, которые предписывают всем имущим гражданам собираться вместе и присоединяться к ним – под угрозой преследований и наказаний в случае неповиновения. Однако почти никто из владельцев имений не перешел в русский лагерь, если не считать тех, кого арестовали и увезли под конвоем казаков. Почти каждый из них оставил свой дом и бежал от завоевателей. И в таких условиях намереваются организовать из них конфедерацию!
Наши города, селения, жилища затоплены кровью и залиты слезами. Со всех сторон слышны стоны и рыдания благородных людей, закованных в железо, которым вменяется в вину лишь одно преступление – поддержка конституции и верность клятве, которую они принесли своему законному правительству.
Повсюду неприятельские солдаты чинят насилия и распространяют ужас и террор. Повсюду нас лишают продукции наших урожаев, чтобы заполнить ею неприятельские склады. Повсюду сельских жителей отрывают от земледелия, забирают их лошадей и скот; разоряются и разграбляются все имения, которые оказываются на пути армии. Самые плодородные края превращаются в пустыню.
В тех частях нашей провинции, где враг еще не побывал, можно видеть города, селения, дороги, запруженные отчаявшимися жителями, которые, вместе с женами и залитыми слезами детьми, бегут из родных домов, бросая свое имущество, чтобы избежать даже не столько преследований со стороны врага, сколько необходимости присоединиться к акту конфедерации, приводящему их в ужас. Цель этого акта – лишить их всех преимуществ, которыми наделила их конституция 3 мая.
Каждый из нас охотно отдал бы свое имущество и саму жизнь, чтобы сохранить эту конституцию, но никто не хочет приносить добровольные жертвы ради конфедерации, которая, претендуя на сохранение национальной свободы, лишает нас состояний и того, что человеку дороже всего, – нашей чести и независимости.
Результаты войны пока неясны, но каков бы ни был ее исход, мы считаем ее цели несправедливыми. Мы, подписав этот акт, сделали это в соответствии с единодушными пожеланиями всех мыслящих людей нашей провинции. Мы чувствуем потребность объявить во всеуслышание свое мнение, чтобы оградить свою репутацию и честь от каких бы то ни было упреков. Мы взываем ко Господу об отмщении за несправедливость, а после Него – ко всем просвещенным народам, монархам и государствам земли.
Пусть же судят по нашим несчастьям и насильственным мерам, применяемым для нашего подавления, – о том, насколько враги ненавидят свободу и независимость, которую конституция 3 мая гарантировала нам и нашим потомкам. Отчаяние, которое мы испытываем, должно доказать всему миру, насколько важна для нас эта конституция и на какие жертвы мы способны, чтобы защитить ее и сохранить.
Самые жестокие преследования не испугают нас, и мы сумеем преодолеть все ужасы войны, имея во главе короля Станислава Августа, который облечен доверием нации и который торжественно обязался делить с нами все опасности и беды ради сохранения конституции, родоначальником которой был он сам.
Если же интриги и злоба, при поддержке превосходящих сил врага, смогли бы принудить кого-либо из нас подписать некий акт, противоречащий данной декларации, то мы заранее выражаем протест против такого шага, сделанного под принуждением и, соответственно, не являющегося действительным в глазах Господа, нашей родины и всего мира.
Мы клянемся самой священной клятвой защищать всеми средствами независимость нашей страны, наши политические и гражданские права, общественную и личную свободу, а также нашу конституцию, которая является гарантом всего этого. Мы не сомневаемся, что эти чувства разделяются жителями всех провинций Короны. Каждый из нас, с полной уверенностью в правоте нашего дела, собственноручно поставил подпись под настоящей декларацией».
Окончив чтение, я добавил, что этот акт, копию которого мне переслали, содержит сотни подписей. Он был затем отпечатан в Гродно. Во время чтения король казался то взволнованным, то обеспокоенным и удивленным. Каково же было, однако, мое удивление, когда он, немного поразмыслив, сказал мне сдавленным голосом: «Это хорошо, очень хорошо, но не боятся ли все они скомпрометировать себя и подвергнуться преследованиям, если положение дел обернется против нас?..» Я ничего не ответил на это, но с того момента я уже мог с уверенностью предсказывать, каким будет окончание событий.
Упорное желание короля оставаться в Варшаве и не отправляться в лагерь; приказы об отступлении, отданные им армии; выбор королем своего окружения, патриотическая настроенность которого вызывала сомнения; присутствие в Варшаве посланников России и Пруссии, причем они оба, действуя по одним и тем же принципам, старались воспользоваться слабохарактерностью короля – все это укрепляло меня во мнении, что мои опасения оправданны. Не желая быть свидетелем печальной развязки, которая должна была наступить очень скоро, я попросил у короля разрешения отправиться на воды Altewasser в Силезии. Там я оказался в компании четырех десятков моих соотечественников, которые покинули Варшаву по тем же причинам, что и я.
Находясь вдали от арены событий, мы, однако, были далеки от неведения относительно тех ужасов, жертвой которых стала Польша.
Напрасно король Польши написал 22 июня 1792 года императрице Екатерине с предложением назначить ему в наследники и затем посадить на польский трон великого князя Константина. В ответе от 2 июля содержались только упреки ему в нарушении «pacta conventa» и настойчивое внушение срочно присоединиться к Тарговицкой конфедерации.
Оробевший по прочтении этого письма, подвергшийся угрозам со стороны русского посланника, который на словах передал Станиславу Августу окончательное решение императрицы, король 22 июля призвал к себе министров, двух маршалков сейма и своих двух братьев. На этом совете, собравшемся в его кабинете, он объявил о своем решении подписать акт Тарговицкой конфедерации, чтобы предотвратить, по его словам, второй раздел Польши.
Почти все лица, призванные королем для этой важнейшей консультации, предвидели, о чем пойдет речь, и догадывались о намерениях короля. Однако те, кто не разделял его мнения, потребовали от каждого высказаться по поводу столь важного и необычного предложения. Два маршалка сейма, Малаховский и Сапега, затем Потоцкий, великий маршалок литовский, Солтан, маршалок литовский, Островский, казначей Короны, и Коллонтай, вице-канцлер Короны, произнесли яркие речи, исполненные патриотизма и энергии, и отвергли решение, принятое королем. Это решение, однако, было поддержано его двумя братьями, князем-примасом и главным капелланом Короны, затем главным канцлером Короны Малаховским, великим маршалком Короны Мнишеком, вице-канцлером литовским Хрептовичем, польным гетманом литовским Тышкевичем, подскарбием литовским Дзеконским.
книга вторая
Глава I
23 июля 1792 года король подписал акт Тарговицкой конфедерации. Это событие вызвало общий протест у публики. Армия громко роптала. Оба маршалка сейма, заявив о своем протесте, покинули Варшаву. Люди собирались группами на улицах города и предавались глубокой грусти.
Эти известия дошли до нас в Altewasser вместе со многими нашими соотечественниками, прибывавшими сюда: они убегали из столицы, чтобы не видеть этой печальной картины.
Присоединение короля к акту конфедерации должно было неизбежно побудить последовать его примеру тех, кто имел значительные имения, многочисленную семью, неотложные дела, требовавшие завершения, и потому не мог покинуть родину.
Я также получал письма, побуждавшие меня ускорить мое возвращение в Варшаву. Король, примас и некоторые из министров, высказавшихся за новую конфедерацию, ясно давали мне понять, какой опасности я подвергаю себя тем, что продлеваю свое пребывание вне родины. Мои друзья, которым была известна моя позиция, убеждали меня, что я не должен более задерживаться ни на минуту, если не хочу потерять свое состояние и подвергнуть опасности тех, с кем меня связывают деловые отношения. Наконец я получил известие, что все мои земли в Литве секвестированы, что все мои служащие изгнаны и заменены людьми, которым покровительствует семейство Коссаковских, и что эти новые управляющие разрушают и уничтожают все, что мне принадлежало.
Если бы я был одинок и мое состояние не было ни с кем связано, я бы продолжал откладывать свое возвращение на родину, а в случае если бы обстоятельства оставались теми же, я, без сомнения, покинул бы родину навсегда. Но священные обязательства взяли верх над моим сердечным расположением, и я, исполненный боли, отправился в Варшаву. Невозможно было предвидеть тогда, что все несчастья и катастрофы в моей жизни еще только начинались и что впоследствии я окончательно паду их жертвой.
Каким печальным зрелищем предстала перед моими глазами Польша, когда я вернулся туда!.. В каком душераздирающем виде предстала передо мной столица, которую я видел столь блистательной всего лишь несколько месяцев назад!.. Какая гнетущая тишина царила там!.. Какой мрачный вид был у польских военных, которые изредка попадались навстречу! И как высокомерно и вызывающе вели себя те, кто призвал в страну неприятельские армии!
Я был вынужден прежде всего представиться Коссаковскому, получившему титул великого гетмана литовского волеизъявлением нации, который и был главным зачинщиком всех репрессий. Он был облачен в форму российской армии, называл себя ее генерал-лейтенантом и занимался тем, что мстил всем, кто не разделял его мнения и не был сторонником его семейства. Он упрекнул меня в том, что я принял на себя миссию в Голландии, порученную мне сеймом, члены которого были противниками России. Он заявил, что это навлекло на меня немилость государыни, чью форму он носил, и что именно это стало причиной секвестирования моих земель. Затем, напустив на себя вид хмурый и суровый, он добавил, что все его семейство также имело ко мне личные счеты, за которые он тоже мог бы мстить. При этом, однако, он заметил, что его угрожающая физиономия не произвела на меня впечатления и что я продолжал спокойно ему отвечать. Видя мое достойное и уверенное поведение, он сбавил тон и сказал, что я должен немедленно отправиться в Брест, где находился весь генералитет конфедерации и где, после принесения клятвы, я смогу узнать подлинную причину секвестирования моих земель.
Унизительно было общаться с этим человеком, всеми презираемым. Обидно было, что я не могу проявить свойственную мне живость характера и высказать ему заслуженные упреки. От досады я едва не заболел и на несколько дней отложил свой отъезд в Брест.
По дороге туда мне повсюду встречались многочисленные отряды русской армии. Сам город производил впечатление укрепленного лагеря. Главные улицы были загромождены пушками. Все прочие улицы были заполнены военными, людьми из свиты генералитета и евреями. Можно было подумать, что горожане попрятались за оградами своих домов, потому что стыдились своего города, ставшего приютом для захватчиков.
Епископ Ливонии, брат великого гетмана, к которому я отправился сразу же по приезде, изложил три основных претензии ко мне их семейства: 1. не захотел взять секретарем посольства в Голландию г-на Юзефа К…, из-за его фамилии; 2. допустил, чтобы во время большого публичного собрания у меня некто позволил себе выкрик, чтобы епископ К… был отправлен на фонарь; 3. написал письмо президенту трибунала Литвы не в пользу его свояченицы, из-за чего она проиграла процесс.
Не имеет смысла приводить здесь мой ответ: он был кратким, точным, не допускающим возражений. Я понимал, что все это лишь поводы для сведения счетов и что эти мои предполагаемые вины могут быть искуплены теми жертвами, которых от меня потребуют. И действительно, меня заставили подписать отказ от староства с доходом в две тысячи дукатов в пользу одного из друзей их семьи и два векселя на двести тысяч флоринов каждый к оплате его брату-гетману. Взамен епископ обещал мне употребить свои связи, чтобы снять секвестр с моих земель, и посоветовал мне отправиться в Петербург, чтобы там окончательно очистить себя от подозрений.
Затем я отправился к Феликсу Потоцкому и князю Сапеге, великому канцлеру литовскому: первый был маршалком конфедерации в Короне, а второй – в Литве. Оба заверили меня, что в генералитете никогда не вставал вопрос о секвестировании моих земель. Первый даже, казалось, был возмущен действиями, которые были предприняты против меня и подобных которым не было провинциях Короны. Второй резко осудил поведение семейства К….х и добавил, что никогда не подписал бы акт, лишавший собственности его соотечественника, связанного с ним кровными и дружескими узами.
Все собрание приняло решение отменить секвестр, но, чтобы сделать это, нужно было аннулировать акт, которым это решение было утверждено. Несмотря на все поиски, этот акт не был найден. Секвестр был утвержден только личным приказом великого гетмана, оригинал которого я сохранил. Вот его точный перевод: «Шимон К…, великий гетман литовский волеизъявлением нации и т. п. и т. д. Во исполнение решения Тарговицкой конфедерации, приказываем всем гражданским властям воеводств и округов, где расположены земли Михала Огинского, меченосца, кавалера орденов Белого Орла и Святого Станислава, наложить секвестр на все вышеупомянутые земли; поручить управление ими лицам, для этого назначенным, и употребить, если будет необходимость, военную силу для выполнения этих распоряжений».
Все мои возражения были бесполезны, так как генералитет конфедерации утверждал, что не имеет права отменить решение, которое не он принимал. Я был вынужден еще раз обратиться к великому гетману: тот вел себя уже гораздо спокойнее после тех уступок, которых его брат потребовал от меня. Он заявил, что действовал таким образом по секретному приказу князя Зубова, и добавил, что секвестр моих земель не может быть отменен, пока я лично не отправлюсь в Петербург, но обещал мне там свое содействие.
Мне не оставалось ничего другого, как предпринять это путешествие. Но я смог его осуществить, по многим личным причинам, лишь в декабре, а до тех пор мои имения продолжали разоряться и опустошаться.
После того как король решился подписать акт Тарговицкой конфедерации, во всех воеводствах и округах были немедленно предприняты меры по принуждению жителей к принесению клятвы и присоединению к этой конфедерации.
Каждый человек, начиная с самого короля, был обязан признать, что действия конституционного сейма были актом деспотизма, что новая конфедерация представляет собой спасение для Польши и Екатерина II является гарантом польской свободы. Был назначен крайний срок – 15 августа, – после которого никакая подпись не могла быть более поставлена. Было предпринято перемещение военных частей и общее сокращение армии. Увольнялись от службы офицеры и даже целые солдатские корпуса, которые считались ненадежными из-за их приверженности конституции 3 мая. Остаток армии был разделен на малые дивизионы, которые были окружены русскими частями, превосходившими их по численности, и находились под их наблюдением. Многие военные были отправлены в отставку без содержания. Их также лишили наград, заслуженных ценою крови. Наконец, охрана арсеналов была доверена только русским.
Конфедераты создали генералитет, который должен был руководить всеми действиями конфедерации. Его состав и деятельность определялись в польских провинциях Феликсом Потоцким, Ржевуским и Браницким, а в Литве – Коссаковскими.
Вначале в состав генералитета были определены лица, которые не вызывали большого недоверия, но большинство из названных лиц отказались делать то, что от них требовалось. Многие отказались сразу от предложенной должности, другие – через несколько дней после согласия ее принять. Тогда второй выбор пришелся на лиц, ослепленных личными интересами и отличавшихся рабским подчинением приказам сверху.
Составленный таким образом генералитет сразу отметился сомнительными действиями и возмутительным злоупотреблением той властью, которой сам себя облек. Так, он начал с отмены всех решений, принятых на последнем сейме. Была распущена полицейская комиссия. У военной комиссии отняли полномочия по взаимодействию с армией – их передали двум гетманам. Были отменены комиссии охраны порядка и управления делами, которые до того находились в их ведении. Чиновников, назначенных сеймом, сместили с должностей. Обычный ход работы судейских трибуналов был прерван – их заменили трибуналами конфедерации, обязанными судить в соответствии с данными им инструкциями. Несмотря на то что сам подбор членов этих трибуналов уже мог обеспечить определенные решения, генералитет все же опасался, что они будут слишком умеренными, и оставил за собой право решения в последней инстанции. И наконец, говоря и действуя от имени свободы, генералитет запретил печатать что-либо против любого из актов, опубликованных по его приказу, и велел строго наказывать нарушителей его приказов.
Маршалок сейма Малаховский был известен своей преданностью, честностью и патриотизмом, великий маршалок литовский Игнаций Потоцкий имел все качества государственного деятеля и идеального министра, Коллонтай соединял в себе образованность и организаторские таланты со смелым характером. Эти люди должны были держать ответ перед генералитетом. Общее неодобрение этой процедуры и вызванное ею возмущение побудили генералитет посчитаться с общественным мнением и не устраивать гонения на них. Впрочем, это не помешало генералитету проводить в жизни другие свои планы, направленные на уничтожение всего, что было учреждено конституционным сеймом, чтобы стереть, насколько то было возможно, даже воспоминание о конституции 3 мая.
Не приходится все же утверждать, что три главных двигателя Тарговицкой конфедерации Феликс Потоцкий, Ржевуский и Браницкий руководствовались исключительно личными выгодами и потому пожертвовали Польшей. Эти трое не испытывали недостатка ни в чем – ни в богатстве, ни в почестях. Уязвленное самолюбие, гордыня, амбиции, ложные понятия о подлинных интересах страны, боязнь уменьшить свое состояние вследствие новшеств, вводимых в Польше, и, наконец, уверенность в могуществе России, вера в великодушие императрицы и в ее заинтересованность в судьбе польской нации – исключительно таковы были мотивы их действий. И хотя от этого они не стали менее виновны, надо признать, что они совершили гораздо меньше злоупотреблений в самой Польше, чем в Литве – семейство Коссаковских: эти простерли свою власть абсолютно на все. Надо отдать справедливость и Феликсу Потоцкому, который считал постыдным заниматься сведением личных счетов и не соглашался с бесчинствами, творимыми в этой провинции, хотя и не мог их прекратить.
К тому времени главы конфедерации получили в Петербурге заверения, что российская армия будет использована только для восстановления порядка и спокойствия в Польше и что никакой речи о новом разделе не будет. Однако направление, в котором продвигалась эта армия – минуя Великую Польшу, – рождало подозрения, что имеют место какие-то частные договоренности между Россией и Пруссией. Вскоре в этом можно было убедиться: началось продвижение прусских войск, но при этом русские войска не сделали ни шагу, чтобы им помешать.
Побуждаемый обращениями жителей, страдавших от прохождения русских войск, генералитет передавал их жалобы генералам и посланникам, но не получал от них удовлетворительного ответа и потому вынужден был передать 10 декабря 1792 года ноту в Петербург. В ожидании ответа оттуда он не уставал повторять полякам, что во всех их несчастиях виноват только конституционный сейм, что все эти беды – временные и, как только конституция Речи Посполитой будет восстановлена, русская армия уйдет.
Феликс Потоцкий, похоже, сам был в этом настолько убежден, что даже назначил комиссию по составлению этой республиканской конституции, которая должна была вернуть полякам те права и свободы, которыми пользовались их предки.
Глава II
Приблизительно в это же время я отправился в Петербург, куда и прибыл 22 декабря 1792 года.
Эта великолепная столица являла собой само величие и роскошь. Внушительный вид Екатерины, превосходство ее ума внушали страх и трепет всем, кто к ней приближался. Самый блистательный двор Европы производил сильное впечатление, равно как и присутствие здесь самых изысканных иностранцев. Несмотря на все это, я чувствовал себя в Петербурге гораздо менее скованно и принужденно, чем это было со мной в Бресте.
Я был представлен императрице, которая приняла меня предупредительно и любезно. Мое самолюбие было польщено тем, что для представления ей я был приглашен вместе с иностранцами, а не вместе с депутатами Тарговицкой конфедерации – те прибыли несколькими днями ранее, чтобы засвидетельствовать императрице почтение к ней польской нации. Я был еще более удовлетворен, когда увидел, что в лучших салонах Петербурга делают явное различие между делегатами Тарговицкой конфедерации (их старались избегать) и теми поляками, которые вынуждены были приехать в столицу по личным делам, – эти встречали здесь изысканный и любезный прием.
Я искал возможности быть представленным Платону Зубову: он один мог принять мои просьбы и получить для меня скорый и удовлетворительный ответ. Он уже был предупрежден великим гетманом К… о моих ходатайствах. Этот последний был тем более расположен услужить мне в данных обстоятельствах, что опасался, как бы я, лично познакомившись с Зубовым, не попытался отомстить за себя и не рассказал бы обо всех злоупотреблениях, творимых в Литве.
Я провел четыре недели в Петербурге, не имея пока возможности узнать, рассматривались ли мои просьбы. Придворные праздники, публичные увеселения, пышные обеды и ужины, театральные представления, по-азиатски помпезные, балы, поездки на санях следовали одни за другими ежедневно – все эти шумные празднества свидетельствовали о роскоши и великолепии столицы и производили сильное впечатление на всех иностранцев, находившихся здесь.
В начале пятой недели князь Зубов пригласил меня к себе и сообщил, что императрица была огорчена теми неприятностями, которые я испытал по причине секвестра моих земель, что это было лишь какое-то недоразумение, так как она не имела ни намерения, ни даже права секвестировать земли в Польше. Иначе обстояло дело с владениями, которые я имел или мог получить по наследству в Белой Руси, так как жители этой провинции были подданными императрицы. Она распорядилась наложить секвестр на владения всех тех, кто активно участвовал в польских событиях со времени последнего сейма, то есть с 3 мая 1791 года. Князь прибавил, что, по всей вероятности, я уже обращался туда, куда положено было обращаться по закону, чтобы мне вернули земли в Литве. Что же касается моих владений в Белой Руси, то можно было бы отдать приказ генерал-губернатору Пассеку, чтобы секвестр был с них снят.
Однако, продолжал князь Зубов, если вы до сих пор не были знакомы императрице, но обращаетесь к ней с просьбой о возвращении ваших земель, то будет лишь справедливым показать, что вы достойны ее милости. Невозможно, чтобы человек, отличающийся высоким происхождением, состоянием и талантами, захотел отказаться от привилегии служить своей родине и взамен того предался так называемым идеям филантропическим, чтобы не сказать революционным.
Я ответил ему, что приехал не для того, чтобы искать милостей у императрицы, но чтобы обратиться за справедливостью, так как я не причинил никакого вреда России и не могу быть обвинен и наказан только за то, что выполнял свой долг, служа родине. Я добавил, что секвестр моих земель, который сам князь называл недоразумением, может нанести существенный урон моему состоянию, но я не жалуюсь на это и не прошу никакого возмещения ущерба. И наконец заявил, что никогда не был революционером, но не отрицаю своей склонности к филантропии, к которой призывает и сама императрица, что я охотно служил бы свободной и независимой родине, но мне претит служить ей, когда ею управляют несколько лиц, которые заставляют всех подчиняться себе только потому, что за ними следует русская армия, что я вообще принял решение покинуть свою страну навсегда, так как есть общее мнение, что Польша не избежит еще одного раздела.
Выбросьте эту мысль из головы, говорил князь Зубов с недовольством, так как только враги России могут распускать подобные слухи. Императрица искренне озабочена судьбой польской нации. Она едва успела разобраться в кознях, которые строил ей прусский король, и остановиться перед бездной, в которую хотели ввергнуть ее французские революционеры. Она видела, что поляки остались глухи к предупреждениям, передаваемым через ее посланника в Варшаве, и потому склонилась к настоятельным просьбам наиболее значительных членов сейма, более рассудительных, чем прочие, и послала свои армии в Польшу только для того чтобы ее спасти.
«Не думаете же вы в самом деле, что императрице нужны новые земли?.. Разве не могла бы она, если бы захотела, за одну военную кампанию захватить Турцию и посадить на трон в Константинополе своего внука?.. Польша становится гораздо полезнее для нее в качестве друга и связующего коридора с остальной Европой; только с такой точки зрения эта страна интересна для России…
Вы позволяете кричать повсюду в ваших провинциях этой мелкой шляхте, которая сама не знает, чего она хочет, вашим якобинцам-санкюлотам, которым нечего терять, и вашим бывшим барским конфедератам!..[17] Но разумные люди, которых немало в вашей стране, разве могут допустить предположение, что императрица согласится на раздел Польши? Я могу заверить вас, что таких намерений у нее нет. Если бы вы понимали величие ее души и благородство ее чувств, вы бы первый старались развеять ложные слухи на этот счет.
Неужели вы думаете, что Феликс Потоцкий, Браницкий и Ржевуский стали во главе Тарговицкой конфедерации для того, чтобы предать интересы своей родины, и что они обратились бы к российской императрице с такими низменными намерениями?
Но вернемся к начальному предмету нашего разговора. Вы понимаете, что вам невозможно более оставаться в бездействии, показывать свое недовольство новым положением дел и не признавать добрых намерений императрицы по отношению к вашим соотечественникам. Я должен сделать вам некоторые предложения, из которых вы выберете то, что вам подходит.
Это может быть, например, занятие, вполне достойное вас, – взять на себя управление королевскими владениями, которые из-за нынешнего плохого управления значительно потеряли в своей действительной стоимости и приносят малый доход королю, обогащая только тех, кто ими управляет».
На это я ответил, что, имея собственные значительные владения, не могу принять это предложение и что не имею желания обогащаться, управляя землями, которые мне не принадлежат, и жертвовать для этого своим отдыхом и спокойствием.
Тогда Зубов предложил мне взять на себя опеку над молодым князем Домиником Радзивиллом, которому требовался присмотр со стороны человека значительного и при этом честного и бескорыстного, так как, говорил он, состояние Радзивиллов огромно, но дела их расстроены. Князь подчеркнул, что поскольку я являюсь родственником этого семейства, то мне не подобает отказывать ему в своей помощи.
Я дал тот же ответ, что и на первое предложение, и прибавил, что никогда не брал на себя никакой иной опеки, кроме как над вдовами и сиротами, и что никогда не возьму на себя ответственность, которую налагает на опекуна такое большое состояние.
Князь, который уже начинал терять терпение, сказал наконец, что я не могу отказаться принять должность в польском правительстве, что у меня не может быть достаточных причин для отказа и что мне предоставлено самому избрать ее. Он дал мне несколько дней на раздумье и быстро покинул меня, не дав мне даже напомнить ему, что секвестр моих земель еще не снят и что я нахожусь в самом критическом положении.
Уйдя от князя, я предался грустным размышлениям. Было понятно, что сделанное мне предложение является приказом, от которого нельзя отказаться, не объявив себя открыто врагом России. При этом был риск подвергнуться личным преследованиям, потерять состояние и подвергнуть разорению семью и моих заимодавцев.
Я только что получил письма из Литвы, в которых меня умоляли не позволять увлечь себя крайним идеям, не жертвовать интересами семьи и тех, с кем я связан деловыми интересами, а также всех моих соотечественников, которые страдают от преследований со стороны семейства К…. Это были два анонимных письма, из которых одно было написано рукой Коллонтая. В них мне напоминали, что если было столь сладостно служить родине во времена ее процветания, то столь же необходимо и достойно не отказывать ей в своих услугах, когда она находится в тяжелом состоянии. Таким образом, меня обязывали вооружиться терпением и решимостью и употребить влияние, которое я мог иметь в Петербурге, для того чтобы постараться защитить своих соотечественников: если такие люди, как вы, говорилось там, удалятся от дел, то эти дела окажутся в руках интриганов и негодяев.
Через несколько дней князь Зубов пригласил меня к себе, чтобы узнать, принял ли я решение, и напомнил, что нельзя более терять время, так как императрица желает завершить труд по восстановлению доброго порядка в Польше и была бы рада видеть, что первые места в государстве заняты людьми, которые пользуются общим уважением.
Прежде чем ответить, я позволил себе уточнить, можно ли рассчитывать на заверения князя о том, что Польша не будет разделена. Зубов повторил эти заверения и заявил, что если я того желаю, он может предоставить мне возможность услышать их из уст самой императрицы. После этого я дал согласие принять должность в правительстве Польши, а именно по гражданской части.
Князь покинул меня, поздравив с тем, что я проявил добрую волю и не ответил отказом. Он обещал отправить письма генерал-губернатору Белой Руси Пассеку и заверил, что в тот же день будет говорить с К…, чтобы заставить его дать отчет о причинах секвестра, наложенного на мои земли, и приказать немедленно снять его. Действительно, на следующий же день великий гетман лично явился ко мне, чтобы сообщить о полученном им приказе, но пожаловался на то, что я несправедливо его обвинил: он действовал так по письменному распоряжению Зубова, о котором князь забыл, а потом сделал вид, что не вспомнил[18].
Накануне моего отъезда г-н Альтести, секретарь князя Зубова, принес письмо, подписанное императрицей и адресованное губернатору Белой Руси. В нем содержался приказ о снятии секвестра с земель моей семьи, а также распоряжение оказывать помощь по всем вопросам, по которым я буду к нему обращаться.
В течение всего времени моего пребывания в Петербурге нетрудно было заметить, что посреди всех этих празднеств, сменяющихся одно другим, и под внешней веселостью, царившей в российском обществе, на самом деле двор и правительство скрывали беспокойство и тревогу, причиной которых были известия из Франции. Здесь с болью воспринимались блестящие успехи республиканской армии. Все были напуганы той быстротой, с которой революционизировались, стихийно или по принуждению, все французские провинции и присоединялись затем к французской республике. Более же всего боялись того влияния, которое могли иметь по всей Европе новые революционные идеи: они грозили перевернуть весь общественный порядок и заставляли дрожать монархов на их тронах. Шепотом передавали друг другу, что 19 ноября 1792 года Национальный Конвент объявил от имени французской нации: он окажет братскую помощь всем народам, желающим восстановить свою свободу, и отдаст приказ своей исполнительной власти поручить генералам армии оказать помощь этим народам и защитить граждан, которые могут быть преследуемы за свободу.
Впрочем, издание этого декрета в указанное время было вызвано лишь отдельным случаем восстания крестьян в области Де-Пон и жестоким обращением с этими повстанцами, которых в декрете именовали патриотами. Тем не менее этому частному случаю придали широкий смысл и предрекали ему самые мрачные последствия.
Французские эмигранты воспользовались этим, чтобы усугубить тревоги петербургского двора и заодно возбудить недоверие и неприязнь к польской нации. В то же время и представители Тарговицкой конфедерации воспользовались случаем, чтобы обосновать свои претензии и усилить свое влияние при петербургском дворе: они старались показать, что в Польше можно рассчитывать только на них и на тех, кто был на их стороне.
Незадолго до моего прибытия курьеры доставили известие о том, что прусский король покинул французскую территорию, что экспедиция против Савойи была поручена генералу Монтескью, который менее чем за три дня продвинулся до Шамбери, что генерал Ансельм с той же легкостью вошел в Ниццу, что революционная Франция, совершив таким образом новые завоевания, присоединила эти земли под названиями департаментов Мон-Блан и Альп-Маритим.
Дошли известия об успехах генерала Кюстина в Германии, о захвате Майнца этим же генералом и об опасных идеях, проповедуемых им в результате его побед. Это был призыв народов к свободе. Наложение крупных контрибуций, но только на дворянство и духовенство и при этом угроза обрушить весь свой гнев на магистраты, которые потребовали бы выплат от простых граждан, – так он буквально следовал лозунгу «Война дворцам, мир хижинам!»
Известно было в Петербурге и о том, что генерал Дюмурье, вторгшийся в Бельгию, выиграл 6 ноября битву при Жемаппе, что 14-го числа французы захватили Брюссель и что 15 декабря Конвент объявил бельгийские провинции французскими департаментами.
Знали, что 3 декабря вышел декрет о том, что Людовик XVI будет предан суду Конвента, что 11-го числа он был призван в суд и допрошен председателем, что 26-го числа он был вторично призван в сопровождении трех защитников.
Эти последние известия относительно короля возбудили всеобщее возмущение, но никто не допускал возможности трагической развязки. Уже после моего прибытия в Петербург были получены два важных известия, которые оживили надежды французских эмигрантов и доставили им некоторое утешение. Первое заключалось в том, что генерал Дюмурье был возмущен декретом, который превращал бельгийские провинции во французские департаменты, и стал отзываться с презрением о Конвенте. Он устал от бесполезности своих докладов насчет грабежей в Бельгии: их учиняли комиссары, присланные из Парижа, – и теперь он был готов поднять восстание против Конвента во главе всех войск, которыми командовал.
Вторая новость заключалась в том, что 12 января на заседании Конвента была зачитана нота, переданная лордом Гринвиллем, государственным секретарем Англии, гражданину Шовелену, полномочному послу Франции в Лондоне. В ней британское министерство заявляло, что, прежде всего, не признает гражданина Шовелена в качестве аккредитованного посла, так как он не был назначен в Англию королем Франции. Затем министерство выдвигало Франции следующие упреки: 1. нарушение договоренностей и открытие канала на реке Эско для свободной навигации по этой реке; 2. обещание в декрете от 19 ноября защиты и помощи народам, желающим сбросить с себя иго собственного правительства. Министр заканчивал свое письмо заявлением, что Франция может рассчитывать на сохранение мира с Англией только при условии, что она откажется от стремления увеличить свою территорию и от всяческих претензий на вмешательство в дела других народов.
Курьеры, привезшие эти новости, были приняты в Петербурге с несказанным удовольствием. Здесь уже видели генерала Дюмурье торжественно марширующим по Парижу с огромной армией, чтобы спасти жизнь Людовику XVI, восстановить его на троне предков и вернуть ему все права, уже предвкушали, что спокойствие и порядок восстанавливаются во Франции и мир – во всей Европе. Уже не сомневались, что декларация Англии, а также смелое заявление Дюмурье приведут в замешательство ярых революционеров и помогут свершиться тем великим событиям, которых жаждали и ожидали с таким нетерпением.
Однако наслаждаться этими иллюзорными утешениями довелось недолго. Всего через пятнадцать дней герцог Ришелье[19], прибывший курьером из Вены, принес известие о том, что 21 января 1793 года Людовик XVI был казнен в Париже на площади Революции. Это событие совершенно сразило французских эмигрантов, глубоко опечалило императрицу, возмутило все российское правительство и всех иностранных посланников в Париже, как и всех добропорядочных людей. Мрачная тишина сменила в российской столице все те праздники и увеселения, которым я был здесь свидетелем.
Я покинул Петербург 17 февраля 1793 года и проездом через Могилев и Вильну прибыл в Варшаву в конце того же месяца.
Браницкий как глава депутации генералитета был допущен на общую аудиенцию в Петербурге. Императрица приняла его, сидя на троне в окружении знатных лиц своего двора. Он произнес хвалебную речь в адрес императрицы и при этом использовал самые льстивые выражения для изъявления признательности ей со стороны польской нации – он объявил себя выразителем мнения нации. Он заявил, что поляки желали заключить с Россией альянс, который обеспечил бы неделимость и независимость Речи Посполитой, и закончил свою речь возгласом, что только Бог и Екатерина были опорой, на которой покоились их надежды.
Я присутствовал с качестве зрителя на этой аудиенции вместе со многими иностранцами. Аудиенция завершилась уклончивым ответом, произнесенным великим канцлером от имени императрицы, и вручением великолепных подарков всем депутатам, представлявшим конфедерацию.
Возвращение в Гродно этих депутатов с малоубедительным докладом не принесло большого утешения генералитету. Было отмечено с удивлением, что Браницкий остался в Петербурге под предлогом улаживания семейных дел.
Феликс Потоцкий начинал отдавать себе отчет, но слишком поздно, в той ответственности, которую взял на себя, и уже предчувствовал, что навлек на Польшу новые несчастья.
Желая избавиться от занимаемой им должности маршалка конфедерации и сохраняя, возможно, некоторую надежду добиться от российской императрицы милостей для своих соотечественников, он запросил и получил разрешение отправиться с миссией в Петербург: впрочем, он получил разрешение отправиться туда лишь в качестве посланника и только после соответствующего распоряжения императрицы.
Вот копия инструкций, данных конфедерацией Феликсу Потоцкому, написанная в Гродно и датированная 7 марта 1793 года.
«1. Г-н маршалок должен в скорейшем времени отправиться в Петербург, чтобы определить, совместно с Е[е] В[еличеством] императрицей, условия, на которых обе нации могли бы быть объединены длительным альянсом. После утверждения основных пунктов, он обязан довести их до нашего сведения или запросить у нас полномочий, для себя одного или для иного лица, которое мы можем присоединить к нему, чтобы завершить, и без промедления, доверенные ему переговоры.
2. Основы нашего конституционного режима, являющегося республиканским, должны быть в различных отношениях учтены во взаимных обязательствах, принятых на себя одной и другой стороной; эта форма правления должна учитываться также при принятии решений. Долг г-на маршалка состоит в том, чтобы сделать на этот счет те замечания, которые он сочтет необходимыми, и настаивать на них, если обстоятельства того потребуют.
3. В случае необходимости г-н маршалок должен четко заявить, что нами и всей нацией была принесена клятва относительно неприкосновенности владений Речи Посполитой, которая гарантирована нам самыми торжественными обещаниями в договорах; эта клятва не позволяет нам идти на какие бы то ни было уступки в этом вопросе. Таким образом, никакое предложение подобного рода, от какой бы стороны оно ни исходило, не может быть допустимо в договоренностях, заключаемых с Речью Посполитой через ее представителей.
4. Имея полное доверие к твердости характера и усердию г-на Потоцкого, маршалка общей конфедерации, и к его стараниям соблюсти интересы нации и поддержать их выражением общей воли нации, решено, для придания большей действенности его миссии, скрепить этот общий акт, выражающий нашу волю, печатями обеих объединенных наций за подписями маршалков, и передать его в архивы нашей канцелярии. Данным актом ему передаются наши полномочия».
Нетрудно было предвидеть, что данные Потоцкому инструкции произведут не больше впечатления в российской столице, чем присутствие там самого их носителя.
Феликс Потоцкий, осыпанный любезностями двора, обольщенный надеждами, которым не было суждено сбыться, продолжил свое пребывание в Петербурге, влача в нем томительное существование, и больше не появился на арене политических событий в Польше.
Браницкий остался в Петербурге, как я уже говорил, даже не проводив в обратный путь депутацию, главой которой он был. Канцлер князь Сапега, Ржевуский и большинство главных членов конфедерации, предвидя печальную развязку событий, ретировались в свои владения.
Глава III
Приблизительно за семь недель до отъезда Потоцкого в Петербург генералитет, покинувший по приказу императрицы Брест и расположившийся в Гродно, получил там известие о вхождении в Польшу прусских войск. Этот враждебный акт сопровождался декларацией короля Пруссии, датированной 16 января 1793 года, которая начиналась следующей фразой: «Всей Европе известно, что революция, происшедшая в Польше 3 мая 1791 года, без ведома и участия соседних и дружественных Речи Посполитой государств, не замедлила вызвать недовольство и сопротивление большой части нации и т. п.»
После этой преамбулы шло перечисление тех мотивов, которые подвигли российскую императрицу ввести свои армии в Польшу, и те, которые заставили короля Пруссии последовать ее примеру. Далее указывалось, что эти два государства имели в виду только благополучие польской нации, и речь шла только о том, чтобы предотвратить распространение французской революционности, проникшей в Польшу, помешать умножению революционных групп, усмирить злоумышленников, призывающих к волнениям и восстанию и т. п. и т. д.
Прусский король ввел на территорию Речи Посполитой, а именно в несколько районов Великой Польши, значительный военный корпус, главнокомандующим которого был генерал инфантерии Моллендорф. Главной целью короля, говорилось, была защита своих приграничных областей от проникновения революционной заразы, а также восстановление и поддержание общественного порядка и спокойствия в Польше, чтобы обеспечить благонамеренным гражданам действенную защиту.
Декларация заканчивалась так: «Король льстит себя надеждой, что при его мирных намерениях он может рассчитывать на доброе отношение нации, чье благополучие ему небезразлично, так как он хочет только дать ей доказательства своего доброго расположения».
Можно было удивляться тому, что в этой декларации не был прямо назван Данциг (Гданьск), но в скором времени стала известна судьба, предназначенная этому городу. Король отдал приказ о его осаде. Прусские войска захватили многие владения и замок Вейхсельмунде. Гданьск, к концу марта уже страдавший от голода и внутренних раздоров, 4 апреля открыл ворота осаждавшим. Но, отдавая приказ генералу Раумеру об осаде города, король издал 24 февраля декларацию, из которой я дословно привожу несколько пассажей:
«Те же причины, которые побудили Его прусское величество ввести войска в некоторые районы Великой Польши, сейчас принуждают его к необходимости взять город Данциг и прилегающую к нему территорию.
Не говоря уж о тех недружественных намерениях, которые этот город в течение многих лет проявлял по отношению к прусской монархии, достаточно отметить, что именно в этом городе свила гнездо жестокая и ужасная клика, которая, идя от преступления к преступлению, старается сегодня с помощью своих отвратительных пособников распространиться во все концы и т. п. и т. д.»
Я привожу здесь некоторые фрагменты этих двух деклараций, чтобы отметить: после того как польская нация была обвинена в том, что дала слишком много власти королю по конституции 3 мая, немыслимо обвинять ту же самую нацию в якобинстве и уготовлять ей наказание по двум противоположным причинам.
Достоверно известно, что во Франции вовсе не приписывали полякам те революционные идеи, в которых ее обвиняли ближайшие соседи. В книге, которая была издана в Париже в 1792 году под названием «История так называемой революции в Польше» автор пишет:
«Я не знаю, кто смог внушить людям во Франции, что поляки – наши друзья и что они одобряют нашу революцию. Трудно найти страну, где глупость и гордыня так ожесточились бы против нас, как в Польше!.. Их король однажды простер свое бесстыдство и забвение всяких приличий до того, что открыто назвал французов людоедами. Все это может удивить только тех, кто не сравнивал между собой те принципы, на которых основаны конституции Франции и Польши… Поскольку смысл, придаваемый словам, – вещь условная, то поляки, бесспорно, имеют право назвать возрождением то, что было сделано 3 мая. Но мы, основываясь на существующих уже идеях, смело назовем конституционным деспотом того, кому конституция отводит большую часть законодательной власти, высшую исполнительную власть, командование армией, абсолютную неприкосновенность, право «вето», распределение должностей и чинов, званий гражданских и воинских и иных наград – все это можно назвать одним словом: рабское подчинение, безнаказанность и предательство».
Я цитирую здесь это произведение не как авторитет, на который можно ссылаться, так как его автор несправедлив к польской нации и часто отклоняется от истины. Так, в тех фразах, которые я привел, он приписал королю Польши слова, что французы – это нация людоедов, но подобное никогда не исходило из уст короля. Наименование «конституционный деспот» не может относиться к монарху, который получил власть и права от своей нации, желающей свободы, независимости и своих старинных привилегий. Известно, что все французские якобинцы называли наш сейм сборищем аристократов и не считали поляков способными подняться на высоту революционных идей. И действительно, крайние и извращенные идеи, потрясавшие Францию в то время, не оказывали воздействия на польскую нацию, которая стремилась только избавиться от иностранного ига и организовать собственное управление.
Если же впоследствии экзальтация и отчаяние вынудили поляков громко жаловаться, проявлять нетерпение, аплодировать патриотическим устремлениям французов, желать им успехов и даже основывать на них свои надежды, то все это нужно отнести на счет тех невзгод, которые им пришлось испытать.
Ожесточенные своими несчастьями, наказанные за свою доверчивость и чистоту намерений, преследуемые за то, что дороже всего человеку – за свободу мнений и национальную гордость, поляки, обманутые со всех сторон, были даже более несчастны, чем нации, завоеванные силой оружия и вынужденные подчиняться законам победителей.
Их дружбы искали – чтобы потом ее отвергнуть. По отношению к ним принимались самые священные обязательства – чтобы потом их нарушить. Их подталкивали к действиям, за которые потом обвиняли и осуждали. Им приписывали мысли и намерения, которых они никогда не имели. Их заверяли, что живо интересуются их судьбой, а затем вводили в Польшу войска для захвата ее провинций и подавления жителей. Ради амбиций нескольких заблуждавшихся магнатов пожертвовали судьбой миллионов ее жителей. Наконец было решено, что ради блага самих поляков нужно ограничить их территорию новым разделом, и заставили их санкционировать этот акт несправедливости и произвола на одном из заседаний сейма.
Какие же еще нужны доказательства, что снять с поляков обвинения в якобинстве, которое и послужило предлогом для нового раздела? Патриотический порыв поляков, воодушевление и ненависть к врагам не имели, конечно, ничего общего с теми чувствами, которые владели французами в ту эпоху, о которой идет речь.
Во Франции духовенство и дворянство рассматривались как враги нации, и их вынудили искать личной безопасности в бегстве и эмиграции. В Польше, наоборот, духовенство и дворянство составляли основу нации и старались создать конституцию, которая обеспечила бы личную свободу каждого, также как благополучие и спокойствие других классов, которые не участвовали в обсуждении конституции.
Во Франции надеялись получить все в соответствии с якобинскими принципами – за счет богатых владений тех, кого несогласия во мнениях вынудили эмигрировать. В Польше, наоборот, те, кто составлял просвещенную часть нации, ничего не выигрывали и все теряли, если бы исповедовали якобинство. Ведь они должны были бы лишиться собственности, чтобы разделить ее с теми, кто не имел ничего, при этом без всякой реальной пользы для родины.
И наконец, поляки никогда не были кровожадными и никогда не покушались на жизнь своего короля. То «третье сословие», которое и сделало, собственно говоря, революцию во Франции, никогда не существовало в Польше.
Но вернемся к изложению последовательности событий. Великий канцлер Малаховский направил 23 января ответ на первую декларацию прусского двора, в котором сделал слабую попытку защитить польскую нацию от обвинений и просил отвести прусскую армию. Эта нота не произвела никакого впечатления.
Общая конфедерация сочла нужным опубликовать протест, подписанный Феликсом Потоцким и князем Александром Сапегой 3 февраля 1793 года. В этом манифесте повторялись возражения против конституции 3 мая и возносились хвалы в адрес Тарговицкой конфедерации. Там также воздавалась честь и приносилась благодарность российской императрице, выражалось доверие нации венскому двору и высказывался протест против вторжения прусского короля. В конце стояла фраза, которая заслуживает того, чтобы ее процитировали.
«Мы заявляем, что нами не движет никакое иное соображение, кроме того чтобы передать нашим потомкам Речь Посполитую упорядоченную, свободную и независимую; мы возродили эту Речь Посполитую и либо сохраним ее в целости, либо никто из нас не переживет ее краха».
Не ограничившись этим протестом, генералитет принял решение организовать «посполитое рушение», то есть общее ополчение дворянства страны, но эта попытка, предпринятая без согласия российского представителя, навлекла на генералитет упреки, сопровождавшиеся угрозами.
В ноте, переданной 20 февраля, он выражал удивление, что осмелились на подобную меру, не посоветовавшись с ним. Он хотел, чтобы генералитет отозвал данные им распоряжения, и сообщал, что командующие российской армией уполномочены препятствовать всяким попыткам такого объединения. В конце он рекомендовал генералитету вести себя осторожнее в таких сложных обстоятельствах и воздерживаться от поспешных шагов, которые могли привлечь в Польшу военные силы какой-либо страны, внушавшей опасения.
Подчиняясь приказам российского представителя, генералитет был вынужден отозвать свое обращение и заявить, что он имел намерение всего лишь предупредить нацию об угрожающей ей опасности, чтобы подготовить ее к усиленным действиям, если обстоятельства того потребуют. При этом следовало возлагать надежды только на великодушие императрицы России, которая ввела свои армии лишь для того, чтобы обеспечить свободу Польши.
Тем временем Ржевуский, командовавший вооруженными силами конфедерации, уже отдал приказ о передвижении войска и артиллерии с целью защиты крепости Ченстохова, которая находилась под угрозой нападения, но генерал-аншеф российской армии Игельстром отозвал этот приказ и заявил, что ни один корпус польской армии не может перемещаться без его разрешения.
В то же время он распорядился расквартировать двадцать пять тысяч поляков на Украине, где находился русский корпус в пятьдесят тысяч. Он заставил передать ему крепость Каменец и издал приказ о том, что при малейшей попытке перемещения польской армии он разоружит варшавский гарнизон и захватит арсенал.
Этому распоряжению предшествовало событие, о котором долго не было известно в Варшаве, но которое стало еще одним предлогом из числа фактов, намеренно собираемых для того, чтобы обвинять поляков в якобинстве и угрожать им новым разделом. Так, некая депутация из нескольких поляков прибыла в Париж и явилась в Конвент, где была допущена на трибуну, и один из депутатов произнес речь, вполне соответствующую месту, в котором он находился, и тем трагическим жизненным картинам, посреди которых оказался. Он утверждал, что гордится тем, что разделяет якобинские идеи, равно как и его коллеги, и уверял, что вся польская нация испытывает те же чувства. Слышно было, как некоторые с восторгом пересказывали, какой прием был устроен в Париже этим «посланцам» польской нации, у которой были общие враги с Францией. В довершение рассказывали о братской встрече их со стороны президента ассамблеи и высоких почестях, которые были возданы этой депутации на заседании Конвента.
Эти детали могли бросить тень лишь на нескольких отдельных личностей, которые самовольно, не имея никаких званий и прав, осмелились так скомпрометировать своих соотечественников. Однако эта необдуманная выходка легла пятном на всю нацию и вызвала новые жесткие меры по отношению к так называемым польским якобинцам.
Вернемся теперь в Варшаву в тот момент, когда я приехал туда из Петербурга, то есть в конец февраля.
Глава IV
Несмотря на все эти перипетии и следовавшие за ними преследования честных людей, общественный настрой в столице не изменился. За исключением малого числа тех, кто был связан с Россией личными интересами, и некоторых других, которые держались за нее по своим убеждениям, остальные жители, невзирая на присутствие сильного русского гарнизона, громко жаловались на поведение петербургского и берлинского дворов, нещадно обвиняли глав Тарговицкой конфедерации, сожалели о конституции 3 мая, не щадили и самого короля Польши, считая его главным виновником всех зол.
Многие члены сейма 3 мая уже покинули Варшаву и отправились за границу, но большее их число осталось в столице в надежде, что сейм, деятельность которого была лишь приостановлена, может возобновить свою работу. Их охотно приглашали во все дома, где имели место дружеские собрания и где не стеснялись любыми способами выказывать им предпочтение перед сторонниками Тарговицкой конфедерации.
Несмотря на обеды и балы, даваемые российским посланником и некоторыми генералами, общество не могло более оставаться столь же блестящим и веселым, как прежде, и большинство патриотов отсиживались по своим домам. Это не означало, что избегают русских: их, кстати, нельзя было обвинить в том, что они слепо подчиняются приказам свыше. Но ни один патриот не хотел иметь дела с тарговицкими конфедератами.
Почти все польские дамы демонстрировали высокую преданность родине и не скрывали своих чувств, даже в разговорах с дипломатами и русскими военными. Речи красивых изящных женщин не вызывали обид, но они в немалой степени способствовали поддержанию патриотизма и энергии в поляках, особенно среди молодежи.
Если даже в салонах и дворянских собраниях высказывались свободно и открыто, то еще менее сдерживали себя в кафе, бильярдных и других общественных местах. Даже строгости со стороны русской полиции не могли сдержать нарекания и недобрые выпады против тех, кто призвал российскую армию в Польшу.
Казалось, все несчастья сговорились обрушиться на Польшу сразу. К началу 1792 года не было в Европе такой другой страны, где скопилось бы столько капиталов в наличных деньгах. Золото и серебро лились здесь рекой. В местах, где собиралась знать для заключения контрактов о купле-продаже и для улаживания разного рода дел, что имело место главным образом перед наступлением нового года в Дубно, в Сен-Яне и в Варшаве, – здесь в кассах банкиров и крупных собственников находилось в обороте от двух до трех миллионов голландских дукатов золотом.
Этот невероятный приток наличности и та легкость, с которой она обращалась, довели легкомыслие и тягу к роскоши во всех классах общества до немыслимой степени.
Самые богатые банкиры Варшавы являли собой самые зловещие тому примеры, и можно было предвидеть, что рано или поздно они будут разорены, так как невозможно было длительное время позволять себе такие огромные расходы, к которым они привыкли. И все же никто не ожидал, что так скоро и так внезапно все выплаты будут прекращены, банковские конторы закрыты и банкиры объявят себя неплатежеспособными.
Эта катастрофа стала для многих сильнейшим ударом, и не только в столице, но и по всей стране. Ведь в банки были вложены огромные суммы: даже мелкие собственники вкладывали туда все, что смогли накопить за год, – в расчете увеличить свой капитал за счет предполагаемых семисот-восьмисот процентов; аккуратность в выплате таких процентов и обеспечила банкирам общее доверие и ту легкость, с которой они приобретали столько капитала, сколько им было нужно.
Внезапное заявление о прекращении выплат повергло публику в изумление и ужас. Оборот наличности прекратился, кредит исчез, и каждый теперь старался припрятать свой остаток золота – столько, насколько хватило предусмотрительности не помещать его в банк.
Многие из банкиров, чтобы оправдать свою несостоятельность, заявили, что прекращают выплаты, потому что не могут урегулировать свои расчеты с иностранными дворами и вернуть авансированные им капиталы. Возникло даже общее убеждение в том, что банкирам было подсказано объявить себя неплатежеспособными, чтобы привести всю страну в состояние банкротства и принудить всех ее жителей заняться личными проблемами – вместо политики.
Я с трудом могу допустить такое предположение. Однако не вызывает сомнений то, что критическое положение Польши после событий 1792 года нанесло ущерб состояниям всех частных лиц, земледелию, торговле, общественному доверию и повлекло за собой падение самых старинных и солидных домов.
Следствием этой катастрофы стало не только то, что люди, поместившие свои основные капиталы в банки, оказались разорены, так как многие получили обратно всего лишь тридцать-сорок, максимум шестьдесят-семьдесят процентов от своих капиталов, – но она также отразилась на судьбе земельных собственников, так как земли потеряли до половины своей стоимости. Так и я, понеся значительные убытки из-за секвестра моих земель, потерял еще больше на своих новых приобретениях, которые намного снизились в цене по сравнению с той, по которой я их приобрел. Я также много потерял на капиталах, которые разместил во многих банках.
Среди общей растерянности, безденежья и прочих перипетий, следовавших одни за другими, были получены две декларации: одна – от Фридриха Вильгельма, 25 марта, а другая – от российской императрицы, 29 апреля 1793 года. Эти два документа были переданы дипломатическому корпусу в Варшаве. Они содержали описание того, что должно было стать новыми границами. Там повторялись все те же обвинения в якобинстве, указывалось, что враждебное отношение поляков заставляет опасаться новых сицилийских вечерен и что требуется срочно их предотвратить. В конце было заявлено, что для спокойствия соседних государств и самой Речи Посполитой оба двора, петербургский и берлинский, не нашли лучшего решения, как сократить Польшу до пределов, более соответствующих форме ее правления.
После объявления этого решения представителям нации предлагалось собраться на сейм, и как можно скорее, чтобы достичь добровольного соглашения на этот предмет, удовлетворить требования безопасности обоих дворов и обеспечить самой Речи Посполитой стабильный мир, а также надежную и прочную конституцию.
Михал Валевский, бывший воевода Серадзкий, который заменил Феликса Потоцкого на должности маршалка Тарговицкой конфедерации, занимал этот пост всего лишь несколько дней. Он был попросту подставлен под интересы иностранных дворов. Подвергшийся ложным внушениям, увлекаемый Браницким, своим близким родственником, он согласился принять маршальский жезл, переданный ему Феликсом Потоцким, не подозревая, что его попытаются заставить совершать поступки, противные его убеждениям. Будучи на этом посту, он, как бывший барский конфедерат, не мог отказаться от своих взглядов и не мог отречься от тех чувств, которые испытывал, сидя в кресле сенатора на сейме 3 мая. С первых же дней он отказался от роли президента на ассамблее генералитета – то есть ставить на обсуждение и голосование предложения, которые вызывали в нем отвращение.
Сиверс пригрозил ему наложением секвестра на его земли, но он не переменил своего решения и вышел из зала, оставив маршальский жезл: так он выразил протест против любой попытки покушения на независимость и неделимость Польши.
Результатом протеста Валевского стало секвестирование его владений. Они были возвращены ему только после многочисленных ходатайств его друзей перед послом Сиверсом. Тем не менее он не вернулся более в Гродно, и заменил его там Пулавский.
Через шесть дней после протеста Валевского, то есть 26 апреля, Пулавский как заместитель маршалка конфедерации Короны и Забелло как маршалок конфедерации Литвы подписали ответ, удовлетворявший требованиям посла Сиверса, изложенным в двух нотах – от 9 и 18 апреля.
Сиверс и Игельстром уже давно оказывали давление на короля Польши, понуждая его отправиться в Гродно и созвать там сейм. Недвусмысленные приказы самой российской императрицы наконец вынудили его пойти на это. Однако король указал, что не имеет права созывать сейм без своего Совета. Тогда Сиверс объявил, что нужно восстановить Постоянный совет, и отдал приказ об этом генералитету. Именно этот приказ вызвал протест Валевского, но затем последовал ответ на него, подписанный Пулавским и Забелло.
Несмотря на противодействие нескольких членов генералитета требованию восстановить Постоянный совет, который всегда был ненавистен полякам, в конце концов пришлось уступить угрозам Сиверса. Был издан акт, получивший силу закона, и по этому акту был восстановлен Совет, учрежденный сеймом в 1775 году, – тот самый Совет, который на сейме 3 мая, как надеялись, был отменен навсегда.
Если многие члены конфедерации, с одной стороны, демонстрировали свое отвращение при подписании этого акта, то значительно большая ее часть, со своей стороны, была явно довольна тем, что российский двор возлагал ответственность за созыв сейма на короля и его Совет: они полагали, что смогут снять с себя вину за готовящийся раздел Польши – ведь именно он должен был стать предметом обсуждения на этом сейме.
Прежде чем разослать универсалы о выборах нунциев, король решил еще раз обратиться к императрице Екатерине. В надежде смягчить ее он предлагал самому отказаться от польской короны, так как считал себя не в состоянии и не вправе ее носить. В своем письме он, в частности, говорил: «Тридцать лет трудов, в течение которых я, стремясь к добру, вынужден был бороться с разного рода несчастьями, привели меня наконец к следующему результату: я не могу служить своей родине с пользой для нее, ни даже выполнять свой долг перед ней с честью. Обстоятельства сегодня таковы, что мой долг запрещает мне любое личное участие в тех мерах, которые могут привести Польшу к катастрофе. Мне надлежит, следовательно, отказаться от своего положения, которое я не могу занимать достойным образом… Я желаю, чтобы кто-нибудь более счастливый занял то место, которое, учитывая мой возраст и мое нездоровье, через несколько лет все равно окажется вакантным».
Императрица не ответила королю напрямую и ограничилась тем, что сообщила свое мнение относительно этого предложения в депеше, направленной его посланнику. «Что касается отречения короля, то я нахожу, что момент для этого им выбран наименее удачный. Все соображения благопристойности требуют, чтобы он держал в своих руках бразды правления государством, пока не выведет его из нынешнего кризиса. Это единственное условие, при котором я могу решиться обеспечить ему достойную участь в той отставке, о которой он рассуждает».
Чтобы выбор новых нунциев на сейм отвечал интересам российского двора, посол Сиверс еще раз воспользовался генералитетом. Однако он предполагал, что генералитет, не пользовавшийся доверием нации и строивший свою власть лишь на том страхе, который был вызван присутствием русской армии, – этот генералитет мог быть обманут в своих ожиданиях и провалить дело, если бы позволил все дворянам без исключения свободно голосовать на сеймиках. Тогда Сиверс решил ограничить действие старинных законов, определявших порядок выборов: заставил генералитет издать 11 мая 1793 года «sancitum»[20] о том, что все те, кто не произнес отречения от конституции, не присоединился к Тарговицкой конфедерации, кто голосовал за права буржуазии, кто входил в состав благодарственной депутации в честь празднования конституции 3 мая и участвовал в ее организации, – все они не могли избирать и быть избранными.
Второй «sancitum», изданный по приказу посланника, также ограничивал права тех, кто, присоединившись сначала к Тарговицкой конфедерации, позволил себе затем протестовать против некоторых из ее решений.
Легко представить себе, какое неблагоприятное впечатление произвели эти два декрета на всю страну и какие недоразумения должны были возникнуть в дворянских собраниях во время выборов нунциев. Понятно и то, что для обеспечения выборов, угодных генералитету, были расставлены русские гарнизоны в местах, где должны были проходить сеймики.
Тем временем король, несмотря на все свои попытки уклониться, был вынужден отправиться в Гродно и ожидал там, в смущении и тоске, открытия этого сейма, которому суждено было скрепить официальной печатью катастрофу Польши. 17 июня 1793 года он открыл первое заседание, на котором объявил о своих опасениях насчет дальнейшей судьбы Польши и сетовал на неумолимые обстоятельства, в которых оказались поляки. Он указал, что переговоры являются единственным средством, которое может несколько облегчить положение.
Глава V
В самом начале заседаний сейма чрезвычайный и полномочный посол Е[е] В[еличества] императрицы Всея Руси, а также чрезвычайный представитель и полномочный посол Е[го] В[еличества] прусского короля представили единую ноту следующего содержания: «Нижеподписавшееся лицо, видя все земли светлейшей Речи Посполитой Польши представленными на сейме и его членов объединенными узами конфедерации, безотлагательно предлагает к рассмотрению объединенному сейму, с самого его начала, предмет и содержание декларации от 29 марта (9 апреля), переданной по приказу августейшей монархини (и его величества короля) общей конфедерации обеих наций. Имеется в виду такое совершенно необходимое устроение дел, которое в скорейшем времени приведет в спокойствие Речь Посполитую и установит в ней здоровый образ правления, приемлемый для всей нации. Нижеподписавшееся лицо требует от собравшихся представителей нации немедленно назначить комиссию, облеченную достаточными полномочиями, с которой оно может обсудить, составить и заключить окончательный договор в соответствии с содержанием вышеупомянутой декларации. Данный договор будет затем ратифицирован Е[го] В[еличеством] королем и сеймом, и обмен ратификациями будет произведен незамедлительно.
Составлено в Гродно, 8 (19) июня 1793 года.
Подписались: Яков фон Сиверс
Де Бухгольц»
Через четыре дня канцлерам Короны и Литвы было поручено передать этим лицам ответ от имени сейма. Вот ответ, адресованный Сиверсу.
«Мы, нижеподписавшиеся, в ответ на ноту, переданную Его превосходительством г-ном Сиверсом 19-го числа сего года, имеем честь сообщить следующее: Речь Посполитая Польша всегда понимала, насколько ее безопасность зависит от тесных связей с Российской империей. Следовательно забота о поддержании этого союза всегда была предметом ее постоянных забот. Свобода является неотъемлемым свойством республиканского образа правления, и если некоторые граждане позволили вовлечь себя в некоторые действия, не совпадающие с данной системой взаимоотношений, то было бы излишним распространяться здесь о мотивах подобных отклонений, хотя их неожиданные и вредоносные последствия бросают тень на короля и нацию в целом. Достаточно отметить здесь, что появление декларации императрицы Всея Руси от 18 мая 1792 года сразу же дало почувствовать всем полякам, обладающим просвещенным умом, насколько важным для них было объединиться, чтобы поправить то, что в событиях последнего времени противоречило политическим намерениям их августейшей и могущественной соседки. Такова и была цель конфедерации, созданной в Тарговице. Король присоединился к ней, как только его положение позволило ему осуществить этот шаг.
Полностью полагаясь на святость предшествующих договоров, а именно на договор 1773 года, эта общая конфедерация обеих наций, в ожидании момента, который должен был сплотить союз двух государств еще более тесными узами, основывала свое доверие на заявлении вышеуказанной декларации, которое гарантировало нации ее свободу, благосостояние и независимость. Нижеподписавшиеся могут сослаться на свидетельство Его превосходительства господина посла, была ли эта вера в великодушие его повелительницы очернена хотя бы в малейшей степени действиями либо короля, либо конфедерации. В то же время необходимо заметить, что, с одной стороны, войска государыни, находящиеся в нашей стране и воспринимаемые как дружеские, здесь обильно снабжаются и содержатся; с другой стороны, правительство, проявляя бдительность в искоренении малейших ростков того опасного духа современной философии, которому, как полагали, подвержены и некоторые умы в Польше, – было вынуждено принять некоторые меры предосторожности, которые были вызваны не столько серьезностью самих случаев, сколько уважением к ходатайствам соседних государств.
Сегодня объединенная нация представлена на сейме и проявляет постоянную готовность вносить в существующие договоры необходимые уточнения, имеющие целью либо их подтверждение, либо изменение того, что нуждается в исправлении. В то же время нижеподписавшиеся уполномочены заявить, что упоминание о сокращении границ Речи Посполитой в декларации от 9 апреля, переданной конфедерации от имени Е[е] В[еличества] императрицы, ни в коей мере не рассматривается собранием как требование безусловного отчуждения ее областей. Различные предложения, выдвинутые затем, также рассматриваются не более как исходящие от второстепенных лиц, но никак не от высочайшей воли государыни, чье величие души и справедливость известны всем и превосходят даже ее могущество. Наконец, и просьба, содержащаяся в последней ноте Его превосходительства г-на посла, не рассматривается как предложение создать комиссию, уполномоченную утвердить тем или иным способом занятие какой бы то ни было области. Нижеподписавшиеся имеют особый приказ заявить, что Речь Посполитая не имеет и не может иметь никакой свободы действий в отношении торжественно произнесенных клятв о сохранении неприкосновенности своих территорий, так как эта неприкосновенность обеспечена договорами и гарантирована тремя соседними государствами. Решившись не заключать каких бы то ни было соглашений на этот предмет, Речь Посполитая может только взывать к великодушию Ее Величества императрицы, как и других соседних государств, чтобы они соизволили не настаивать на предложениях, которые не содержат в себе идей, приемлемых для Польши, поскольку никакая власть в государстве, и даже сейм, не полномочна решать вопрос об отделении какой-либо части владений Речи Посполитой, и любое соглашение на этот предмет не будет иметь силы закона.
Нижеподписавшимся поручено, в соответствии с изложенным здесь, просить Его превосходительство господина посла, чтобы он соблаговолил точно указать цель создания данной комиссии, чтобы ассамблея сейма имела возможность после такого уточнения вынести свое решение с соблюдением всех договоров, на которые сейм никогда не посягнет, а также с учетом границ своей власти и клятвы, которой связана вся нация.
Составлено в Гродно, 23 июня 1793 года.
Подписались Антоний, князь Сулковский
Казимир, граф Плятер».
Вот ответ сейма, переданный Бухгольцу, датированный тем же днем и подписанный теми же канцлерами.
«Нижеподписавшиеся, в ответ на ноту г-на Бухгольца, чрезвычайного и полномочного посла Е[го] В[еличества] короля Пруссии, переданную 19-го числа текущего месяца, имеют честь сообщить ему следующее.
Польша всегда высоко ценила дружбу Его прусского величества и сделала все, чтобы продолжать пользоваться этой дружбой, которую вся нация имеет право считать неизменной и закрепленной договорами. Потому после вхождения войск Его прусского величества на территорию Речи Посполитой это обоснованное доверие не позволяло предположить за этими действиями никаких других намерений, кроме тех, что содержались в декларации, сопровождавшей это вхождение.
Нация продолжает находиться в состоянии этой надежды. Сегодня вся нация представлена на сейме, и поскольку нынешнее положение дел не дает никакого повода для опасений, даже самых отдаленных, которые могли бы объяснить введение прусских войск в Польшу как меру предосторожности, то нация вправе надеяться, что Е[го] В[еличество] король Пруссии распорядится вывести вышеуказанные войска из польских провинций, которые они до сих пор занимали.
Что же касается просьбы, изложенной в ноте г-на посла, то нижеподписавшиеся направили ответ на ноту того же содержания, полученную от Его превосходительства г-на Сиверса, и сочли правильным направить г-ну послу копию этого ответа, где он найдет соображения, соответствующие характеру данного вопроса, в достаточно развернутом виде.
Составлено в Гродно, 23 июня 1793 года.
Подписано, как указано выше».
В тот же день приказом короля и сейма канцлерам было поручено направить всем послам иностранных дворов, сохранявших дружеское расположение к Польше, вышеуказанные ноты представителей России и Пруссии вместе с ответами на них.
На следующий же день посол России передал сейму следующую ноту.
«Нижеподписавшийся получил ответ на свою ноту от 19 июня, который объединенный сейм счел нужным дать ему через Их превосходительств господ канцлеров, и должен, не теряя ни минуты, ответить, что, следуя определенным инструкциям и неизменным намерениям Ее императорского величества, своей августейшей государыни, он не может вступать ни в какие дискуссии, уклоняющиеся от предмета, обозначенного в декларации двух союзнических дворов от 9 апреля, так как от него зависят будущие спокойствие и благосостояние Речи Посполитой.
Нижеподписавшийся обязан, таким образом, потребовать от объединенного сейма назначить без промедления соответствующую комиссию, снабженную достаточными полномочиями, чтобы вступить в переговоры и заключить окончательный договор на предмет, ясно выраженный в вышеназванной декларации и в ноте, переданной 17-го числа текущего месяца. Новые отсрочки лишь усугубят нынешнее состояние Речи Посполитой и лишь отдалят соглашения, столь необходимые для возрождения национального благосостояния посредством разумной формы правления.
Нижеподписавшийся не преминет немедленно доставить своей августейшей государыне вышеозначенный ответ объединенного сейма. Ее императорское величество с живейшим удовольствием найдет в нем, несомненно, выражение дружеских чувств и лояльности Речи Посполитой по отношению к ней.
Нижеподписавшийся считает себя вправе заверить авансом блистательную ассамблею сейма в постоянной дружбе и благорасположении своей августейшей государыни.
Составлено в Гродно, 24 июня 1793 года.
Подписал Яков фон Сиверс».
В тот же день подобная нота была передана представителем Пруссии Бухгольцем, и 29 июня оба этих представителя передали сейму единую ноту, в которой выражали свое удивление по поводу того, что ассамблея сейма пытается разделить интересы обоих союзных дворов, объединенные мудростью их августейших повелителей. Заявлялось также, что следует принять единый подход в обращении с обоими союзными дворами, и выдвигалось требование незамедлительно назначить комиссию для совместных переговоров с обоими представителями.
Я привел здесь эти официальные документы, чтобы пояснить, что должно было стать предметом обсуждения на том злосчастном сейме, и указать на тот повелительный тон, который применялся в обращении к представителям нации.
На последующих страницах я также предпочел приводить ноты, которыми взаимно обменивались сейм и представители России и Пруссии, вместо того чтобы переписывать дневник заседаний, который лишь представил бы картину яростных метаний в разных направлениях и череду разных речей: одни являли собой низость и угодничество, другие – объяснения и оправдания. В иных, вдохновленных главенствующей партией, выражались самые крайние якобинские идеи, чтобы раззадорить Сиверса. Иные же, произносимые с силой и энергией многими членами ассамблеи, содержали жалобы на совершаемые здесь акты насилия.
Я ограничился тем, что процитировал лишь некоторые пассажи из малого количества этих речей, которые считал себя обязанным упомянуть.
Создавая эти «Мемуары», я обещал себе не упускать ничего из того, что касается меня лично, чтобы показать себя таким, каким я был во время всех тех исторических перипетий, которые претерпевала Польша. Потому я посвящу следующую главу рассказу о своих отношениях с королем и российским послом, а также описанию того грустного положения, в котором я тогда оказался, прежде чем возобновить нить повествования о последующей деятельности сейма.
Глава VI
В течение некоторого времени до своего отъезда из Варшавы король довольно часто призывал меня к себе, чтобы узнать мое умонастроение. В одной из наших бесед я осмелился спросить у него, какое решение он примет и не считает ли необходимым составить некий план действий, чтобы противостоять угрозам российского посланника и сохранить честь, свою и всей нации, – то есть не принимать ни единого предложения, имеющего характер унизительного для сейма, который он должен был созвать.
Я старался пробудить в нем самолюбие и напомнил ему об обещании, произнесенном перед лицом всей нации, – защищать родину и конституцию даже ценой собственной жизни. При этом прибавил, что речь не идет о столь большой жертве и что самый большой для него риск – это потерять корону, за которую он явно не держался, потому что уже предлагал передать ее в руки императрицы Екатерины. Я убеждал его, что если бы он сумел проявить мужество, энергию и твердость, то угрозы даже такой монархини не имели бы последствий, так как не было никаких законных причин лишать его королевского достоинства.
Я обратил его внимание на то, что Пруссия играет во всем этом второстепенную роль и лишь подстраивается под намерения России, тогда как венский двор держится отстраненно и никогда не согласится на уничтожение королевской власти в Польше именно тогда, когда вся Европа вооружается, чтобы восстановить монархию во Франции. Я уверял короля, что если он доверится нескольким лицам, на которых может положиться, и, прежде чем покинуть Варшаву, наметит план действий, который и начнет осуществлять с первого же дня работы сейма, то он добьется всех желаемых результатов.
Как я предполагал, королю следовало открыть заседание заявлением, что физические силы нации действительно истощены и не могут оказывать сопротивление превосходным армиям, занимающим страну. Национальный же характер и моральная сила не могут быть сломлены ударами штыков – он сам убежден в этом и, поддержанный благородными чувствами всего высокого собрания, не примет и не подпишет никакого предложения, унизительного для соотечественников, и уверен, что его примеру последуют все, кто его окружает.
И наконец, я дал ему самые положительные заверения, что если он последует этому совету, то не будет ни одного сенатора, или министра, или представителя нации, который не поднялся бы, чтобы аплодировать королю и разделить его мнение. Такое заседание стало бы самой памятной вехой его правления.
Король, казалось, был живо тронут моими словами. Он, по видимости, был убежден этими доводами и одобрял их. В тот момент, когда я закончил говорить, было объявлено о приходе двух великих маршалков, Короны и Литвы, Мошинского и Тышкевича (я предупредил их об этой своей беседе с королем, но они были приглашены королем по другому поводу), и они были введены в кабинет. Этим двум министрам, известным своими принципами, честностью и преданностью монарху король передал мои слова, которые хорошо запомнил: он повторил почти слово в слово то, что я только что ему говорил. Он был удивлен, увидев, что они разделяют мое мнение. Но затем, похвалив мое рвение, он сказал: «Бог – свидетель чистоты моих помыслов, мне не в чем себя упрекнуть. Несчастья, угнетающие Польшу, погружают меня в тоску и сокращают мои дни, которые я не могу посвятить тому, чтобы быть ей полезным… В любых других обстоятельствах проект графа Огинского (который, в общем, делает ему большую честь) мог быть хорош. Но, в конечном счете, каков был бы результат такого моего бахвальства, которое не приличествует ни моему возрасту, ни моим слабым силам, истощенным постоянными трудами и печалями?»
Я не смог, помимо своей воли, скрыть неприятное впечатление от этого ответа короля: он признавался в своей обычной слабости и в том, что принял бесповоротное решение сделать все, чего от него требовали. Я оставил без внимания его высказывание о «бахвальстве», которое прозвучало неуместно, но, прежде чем покинуть его кабинет, возразил ему с живостью: «Вы спрашиваете, Государь, каков был бы результат того демарша, о котором я говорил. Я Вам отвечу со всей искренностью: он смыл бы пятно, которым Вы замарали себя, присоединившись к Тарговицкой конфедерации, вместо того чтобы стать во главе нации и ее армии, которая горела желанием сражаться за свою конституцию и неприкосновенность своих границ. Он вернул бы нации, в глазах всей Европы, ее славу и честь: если бы во главе ее стоял человек, способный ее направить, то он не позволил бы никому подчинить ее. Сердца всех поляков обратились бы к Вашему величеству, и Вы нашли бы в них то же доверие, ту же любовь и ту же благодарность, которые были в них 3 мая».
«Вы правы, – возразил мне король. – Но разве это помогло бы уладить наши дела? Неужели вы думаете, что если бы я поступил так, как вы мне советуете, то мы смогли бы предотвратить раздел Польши?»
«Да, Государь, – сказал я ему, – я в этом почти уверен, так как единодушие сейма в ответ на энергию и твердость главы нации опрокинуло бы все дипломатические расчеты и поставило бы представителей Пруссии и России в затруднительное положение. Если бы мнения разделились, они могли бы еще надеяться извлечь для себя пользу из оппозиции, – но кто решился бы открыть рот после Вашей речи и после того, как Вы предложили бы себя в качестве примера и, может быть, даже жертвы своей любви к Родине? Я слишком хорошего мнения о своих соотечественниках, чтобы поверить, что среди них могут быть предатели своей родины.
Если среди них и были трусы, получившие плату от иностранных дворов, чтобы покрыть свои срочные нужды, то я смею думать, что никто из них не сделал это, чтобы способствовать новому разделу, и что любой из них предпочел бы умереть в нищете, нежели пожертвовать своей родиной. Найдется в сейме и немало лиц, которые привыкли, от отца к сыну, видеть Польшу управляемой российскими посланниками и считать это государство самым необходимым для поляков. Они искренне убеждены, что нельзя плыть против течения и что Польша не может существовать без влияния и защиты России. Однако я думаю, что не ошибаюсь, когда говорю, что по меньшей мере три четверти ассамблеи не разочаровались в конституции 3 мая и ее благотворных следствиях, которые уже начинали ощущаться по всей стране. Говорите, Государь, и Вы убедитесь в единодушии наших чувств!.. Разве найдется такой неразумный гражданин, который осмелится Вам противоречить и заявит, что согласен взять в руку перо и подписать договор о разделении Польши, если Вы, Государь, мужественно откажетесь сделать это? Все угрозы российского посла отступят перед таким грозным единодушием, к которому он не готов, – и ему останется только сообщить об этом в своем докладе в Петербург. В любом случае мы выигрываем много времени, прежде чем будет принято какое-то решение: заседания сейма будут временно прекращены. Возможно, будут предложены переговоры. Возможно, встанет вопрос о созыве нового состава сейма, – а тем временем могут произойти события, которые вынудят Россию и Пруссию отложить осуществление этого проекта! Ведь нужно учитывать, что развитие событий французской революции неизбежно привлекает внимание всех европейских кабинетов к этому главнейшему предмету. И в конце концов, Государь, даже если все это лишь предположения, то одно я могу утверждать с определенностью: российский посол не осмелится ничего предпринять против короля и сейма, пока не получит вполне определенных указаний от своей повелительницы. Даже если он имеет достаточно власти, чтобы применить насилие к отдельным личностям, то у него не хватит ее, чтобы отправить в Сибирь всех делегатов сейма или казнить их». И наконец, я прибавил, что если все-таки на разделе Польши будут настаивать, то пусть это произойдет из-за той военной силы, которой мы не можем противостоять, а не потому что нас вынудили самих участвовать в этом, подписывая договор о захвате нашей собственной страны.
Король отослал нас, все так же жалуясь на несчастную судьбу, свою и Польши, но не оставив нам ни малейшей надежды на изменение своего решения.
С этого момента я стал думать лишь о том, чтобы отказаться от должности главного подскарбия литовского, которую я был вынужден принять помимо своего желания. Я отправился к российскому послу Сиверсу, чтобы заявить ему следующее. После введения русских войск и возникновения Тарговицкой конфедерации я покинул страну и отправился в Altwasser в Силезию, вернулся же только после того, как получил известие о секвестре, наложенном на мои земли. Вынужденный присоединиться к этой конфедерации, я должен был отправиться в Петербург, чтобы добиться снятия секвестра, и получил разрешение только при условии, что буду продолжать служить моей стране, войдя в правительство Польши. Но принял я это условие только после торжественного заверения князя Зубова о том, что вопрос о разделе Польши не стоит и что от меня не потребуется никаких действий, противных моим убеждениям, долгу и чести. Я поверил ему с тем большим основанием, что сам г-н Сиверс несколько раз повторял мне, что его государыня императрица желала лишь восстановления мира, порядка и спокойствия в Польше, не имея никаких намерений увеличить свои владения за счет этой несчастной страны. Теперь же я вижу, что большая часть Польши занята иностранными армиями и со дня на день можно ожидать распространения слухов о новом разделе. Потому я считаю себя свободным от обещания послужить своей родине в столь критическое время, так как не могу быть ей полезным, и следовательно должен отказаться от той должности в правительстве, которую меня заставили принять.
Посол, который обычно бывал очень живым и энергичным, на этот раз ограничился тем, что ответил мне с видимым спокойствием: «Вы не можете отказаться от столь важного поста, тем более в тот момент, когда ваша родина более всего нуждается в ваших услугах. После всех переворотов, которые происходили в вашем правительстве, ему пора опереться на прочные и незыблемые основания – таково желание императрицы, и это же будет предметом обсуждения на сейме. Что же касается слухов о новом разделе, то это чистый вымысел пустых голов, праздных и вечно беспокойных, которые ищут на себя новых несчастий и неблагосклонности императрицы, благодеяний которой не признают. Вы жалуетесь на занятие большей части Польши иностранными войсками и угрозы оставить такое положение дел навсегда. Но разве есть иное средство привести в разум вашу вечно бурлящую нацию, не умеющую прийти к согласию, которая без конца волнуется – как бурное море? Разве вы не видите, что императрица, требуя созвать сейм в Гродно, надеется, что новая ассамблея представителей нации окажется более разумной, чем предыдущая? Не думаете ли вы, что если она не обманется в своих ожиданиях, то выведет свои войска с тем же удовольствием, насколько трудно ей было принять решение об их вводе, – и сделала она это только для того, чтобы открыть вам глаза на ваши подлинные интересы? Полагаете ли вы, что в намерения императрицы входит увеличение владений ее соседа прусского короля? И что в ее интересах сокращение границ Польши?
В конечном счете все зависит от благоразумия тех, кто направляет действия сейма, и от того, каково будет их отношение к России. Я не знаю, какие указания моя государыня соизволит дать мне в дальнейшем, но до сих пор я не имел от нее ни одного, которое говорило бы о враждебных намерениях по отношению к польской нации. Как я уже сказал, если поляки сумеют достойным поведением приобрести доверие и защиту императрицы, вы сможете сохранить политическую независимость среди государств Европы и укрепить ее гарантией России и разумным образом своего правления».
Вследствие такого объяснения, которое имело всю видимость правды, я несколько успокоился, но не был до конца убежден. Ведь так легко поверить в то, чего так сильно желаешь!
Я объявил послу, что после всех заверений, которые он мне представил и в которые я верю, потому что считаю его человеком чести, – я отправлюсь в Гродно. Но я предупреждаю, что поскольку главным предметом обсуждения, как он сказал, будет организация новой формы правления, соответствующей нынешним обстоятельствам в Польше, то я беру на себя представить такой проект, чтобы создать затем комитет, который займется составлением нового проекта конституции.
Сиверс не нашелся ничего возразить и даже, наоборот, поощрил меня заняться этим. Мы с ним расстались в добром согласии, которому не суждено было продлиться, как это вскоре будет видно.
Предполагая представить такой проект сейму, я имел в виду: 1. предупредить, что никакой иной проект не должен приниматься к обсуждению до данного проекта; 2. учесть, какое впечатление произведет этот демарш на послов России и Пруссии, как и на самих членов сейма; 3. в случае если такой проект пройдет, предложить королю назвать честных и образованных людей для создания комитета, который постарается сохранить большую часть законов, установленных конституцией 3 мая, лишь подправив их применительно к нынешним обстоятельствам. И наконец, 4. если проект не пройдет и начнутся дипломатические переговоры с послами России и Пруссии, покинуть любой ценой Гродно и удалиться в деревню.
Мне и в самом деле не понадобился бы предлог в виде болезни, так как я покидал Варшаву в состоянии желчной лихорадки, от которой затем еще долго страдал.
В день начала работы сейма, то есть 17 июня, после речи короля и еще некоторых традиционных речей, я произнес свою – вначале как занимающий в первый раз пост министра, а закончил тем, что заявил: «Исходя из неотложной нужды уврачевать язвы нашей родины, облегчить ее несчастья и заложить прочные основы ее правления, вижу потребность в создании новой конституции, которая заменила бы те законы, которые то принимались, то отменялись партиями, интересы которых сталкивались между собой, и потому предлагаю назначить комиссию, которая займется этой работой, указываю инструкции, которые должны быть ей даны, и заявляю, что подчиняюсь воле сейма». Затем я передал секретарю сейма мой проект, который и был зачитан. Я предполагал, что, в соответствии с прежними законами, этот проект будет напечатан, распространен среди членов сейма, затем, через три дня, зачитан перед полным составом сейма, чтобы затем быть обсужденным, отклоненным или одобренным большинством голосов.
Два дня спустя, в час ночи, я получил записку от российского посла, в которой содержалось следующее: «Господин граф, я только что узнал, что вы осмелились представить сейму проект, о котором я ничего не знал и который может только помешать работе сейма, прерывая обсуждения того вопроса, который должен быть целью заседаний. Таким образом, я заявляю вашему превосходительству, что если вы не напишете немедленно маршалку сейма о том, что отзываете ваш прекрасный проект, я через час отдам приказ о наложении секвестра на все ваши земли.
Составлено в Гродно, 19 июня 1793 года.
Подписал Сиверс».
Трудно представить себе то впечатление, которое произвела на меня эта записка, – я никак не мог ожидать подобного после того разговора, который я имел с послом в Варшаве.
Ничего ему не отвечая, я тут же написал маршалку сейма, графу Белинскому. В записке содержалось только следующее: «Господин маршалок, я посылаю вам сообщение, которое только что получил. Я не могу и не должен отзывать проект, который я предложил сейму. Вам решать, что следует предпринять в этом случае, опираясь на законы, предписанные Вашим постом».
На следующий день я отправился к послу и, не входя ни в какие объяснения по поводу полученной от него записки, заявил ему, что мое здоровье нуждается в поправке и потому я полагаю нужным удалиться на некоторое время в свою деревню в окрестностях Варшавы. Серьезных возражений я от него не услышал, но вынужден был обещать ему, что вернусь в Гродно, как только мне позволит здоровье, затем немедленно уехал со всей своей семьей.
Продолжу свои дневниковые записи о том, что касается лично меня, и расскажу о том, что было после моего возвращения в Гродно, через несколько недель, а пока продолжу повествование о ходе работы сейма.
Глава VII
В мое отсутствие ассамблея сейма, находясь под давлением и угрозами, оказалась в большом затруднении. Ее участники не могли более откладывать назначение комиссии для переговоров с российским послом, но надеялись, что смогут избежать необходимости уточнять вопрос, по которому посол требовал назначения депутатов. Ограничились тем, что дали им инструкции, которые не могли скомпрометировать ассамблею.
Им поручали лишь вступить в переговоры по заключению договора об альянсе между Польской Речью Посполитой и Россией, который имел бы под собой прочные и незыблемые основания, обеспечил бы двум договаривающимся сторонам взаимные выгоды и взаимно гарантировал бы им независимость и неприкосновенность их владений. Комиссии не позволялось обсуждать никакой другой предмет, и все ее члены обязаны были принести клятву «sub fide, honore et conscientia»[21] строго соблюдать эти инструкции и добавить, что они не получали и никогда не получат от кого бы то ни было никакого предложения или обещания.
Итак, король и ассамблея сейма имели достаточно смелости, чтобы явно отклонить предложение российского посла, давая депутатам инструкции, которые никоим образом не отвечали его намерениям и ожиданиям. Так почему тот же король не последовал данному ему совету – при самом открытии сейма сплотить всех в единодушном решении не обсуждать никакой вопрос, касающийся свободы, независимости и гражданских прав поляков, так же как и неделимости их родины?..
Я повторяю снова, так как не могу отделаться от этой мысли, что эта решительная мера, возможно, не смогла бы переменить решение русского двора и предотвратить раздел Польши, но она защитила бы польскую нацию от того унижения, которым ее покрыли, а короля и членов сейма – от упреков современников и от обвинений потомков.
Сиверс, обманутый в своих ожиданиях, удивленный этим сопротивлением и раздосадованный тем, что не имеет достаточного влияния на сейм, чтобы дать депутатам те инструкции, которые нужны ему, разразился выпадами против всей ассамблеи. Перемежая лесть угрозами, он приказал казначею Короны не выплачивать более королю суммы, назначаемые ему из казны. Раздражение посла еще более усилилось, когда многие члены сейма тут же объединились, чтобы предложить королю пятьсот тысяч польских флоринов из собственных средств, которые он, однако, не согласился принять.
Обозленный Сиверс дал волю своему гневу и наложил секвестр на собственность многих членов сейма и, среди прочих, на великих маршалков Короны и Литвы за то, что заседания сейма не проводились при закрытых дверях, как он того требовал.
Несколько дней спустя он приказал арестовать нескольких нунциев в их собственных домах, но эта насильственная мера не произвела того впечатления, на которое он рассчитывал, так как все остальные члены сейма отказались отправиться на заседание и принимать участие в дальнейших обсуждениях. Они заявили, что сейм не является свободным и после таких насильственных мер заседаний не будет до тех пор, пока арестованные нунции не будут отпущены на свободу.
Более того, они составили акт, которым принесли торжественное обещание считать работу сейма прерванной при первом же допущенном аресте. Они также выразили манифестом протест против давления, оказываемого иностранными государствами на представителей свободной и независимой нации без уважения к их священным правам.
Сейм распорядился, чтобы этот манифест был включен во все акты, чтобы его передали всем иностранным дворам и чтобы его официально вручили, через канцлеров, послу Сиверсу. Однако некоторые противники нашли способ помешать включению манифеста в акты и довели его до сведения Сиверса полностью. Тот, вероятно, прочел манифест частным образом, но канцлеры сообщили его и официально, так что послу пришлось раскаяться в крайних мерах, которые он применил. Его сожаления были тем более искренними, что, при его увлекающемся и вспыльчивом характере, он не был, в сущности, злым.
Впрочем, был и другой мотив, более весомый, чем раскаяние, который повлиял на сознание Сиверса и заставил его пожалеть о том, что он не применил более мягкие и примирительные меры воздействия на работу сейма. Он понимал, что для получения согласия сейма на раздел страны ему нужно такое национальное собрание, которое бы имело хотя бы видимость свободного волеизъявления. Ему важно было, чтобы заседания продолжались, и, чтобы добиться этого, нужно было отменить арест нунциев и вернуть их на заседания сейма. Но та мягкость и умеренность, которую он проявил, пойдя навстречу пожеланиям протестующих, сопровождалась еще более сильными угрозами: если сейм под каким бы то ни было предлогом позволит себе еще одну отсрочку, то вся территория Речи Посполитой будет занята.
В своей ноте от 11 июля посол выразил негодование по поводу предыдущего заседания, на котором, как он высказался, беспокойная и скандальная фракция изъяснялась в тоне, от которого слишком пахло якобинством революционного сейма 3 мая. Он выражал удивление, что в полномочиях депутатов была упомянута Тарговицкая конфедерация, которая должна была прекратить свою деятельность с началом работы сейма и должна быть распущена в соответствии с пожеланием Е[е] В[еличества] императрицы. Следовательно, он счел себя обязанным объявить, что имея дело с чрезвычайным сеймом, свободным и признанным самим по себе конфедерацией, он не признает полномочия, в которых упоминается так называемая Тарговицкая конфедерация.
Кроме того, узнав, что членов комиссии хотят заставить принести клятву, чтобы исключить коррупцию, посол заявил, что рассматривает это как личное оскорбление. По его мнению, такая клятва также покрыла бы позором столь блистательное собрание: это означало бы, что оно предполагает в своей среде лиц, которые могут быть подозреваемы в коррупции.
Наконец он потребовал, чтобы «комиссия была созвана на следующий же день, 12 июля, чтобы, не теряя времени, начать переговоры с ней. В ином случае он будет вынужден устранить подстрекателей и возмутителей мира и спокойствия, настоящих врагов своей родины, являющихся единственным препятствием законному ходу работы сейма: он потерял около четырех недель драгоценного времени, чтобы сделать то, что можно было сделать за четыре дня, и этой медлительностью лишь усугубил трудности, нависшие над нацией, – и это вместо того чтобы отныне обеспечить ей надежный мир и спокойное, прочное существование».
15 июля посол направил сейму еще одну ноту, чтобы сообщить, что «на втором заседании комиссия представила ему краткое изложение своих дискуссий, в котором говорилось о том, что она не имеет права переходить границы полномочий, которые даны ей инструкциями, и просит посла довести результат ее дискуссий до Ее императорского величества, чтобы ожидать затем ее милостивого решения. Он вынужден дать отрицательный ответ на эту просьбу. Кроме того, он обратился непосредственно к сейму, чтобы объяснить ему срочную необходимость наделить комиссию полномочиями, достаточными для подписания договора в том виде, в котором он составил этот проект, без внесения в него малейших изменений». Посол добавил при этом, что тогда он немедленно будет наделен полномочиями для обсуждения и заключения с Речью Посполитой договора об альянсе и тесном союзе, а также торгового договора к взаимной выгоде обеих наций.
Наконец, 16 июля он направил сейму грозную ноту, столь примечательную, что из нее нельзя выбросить ни единой фразы. Она приведена здесь дословно.
«Нижеподписавшееся лицо, посол и т. д. уведомлено о том, что сиятельный сейм на заседании 15 июля, на котором был зачитан доклад комиссии и нота нижеподписавшегося лица от того же числа, не счел нужным объясниться, ни даже распорядиться, чтобы рассмотрение этого важного вопроса было назначено «ad deliberandum»[22] на определенный день. Вышеназванное лицо, видя, что заключение договора в очередной раз откладывается, что конфедерация сейма закрывает глаза на печальную судьбу своей родины и забывает о долге перед своими доверителями, – это лицо вынуждено заявить, что будет рассматривать дальнейшую отсрочку и несогласие дать необходимые полномочия комиссии как отказ вести переговоры и прийти к доброму согласию с вышеназванным лицом, то есть как враждебную декларацию.
Печальные последствия такой позиции сейма, которому нация доверила свое нынешнее и будущее благополучие, могут быть только неблагоприятными для нации в целом, но особенно для несчастных и невинных сельских жителей. Нижеподписавшееся лицо будет вынуждено, к своему великому сожалению, в случае такого отказа, равносильного враждебной декларации, продвинуть находящиеся здесь войска Ее императорского величества на земли и владения тех членов сейма, которые останутся в оппозиции к общим интересам благонамеренных людей и нации в целом. Нация же слишком устала и не может вынести возобновления анархии в то время, когда с ней должно быть покончено.
Продвижение войск должно распространиться, в случае если Е[го] В[еличество] король примкнет к оппозиции, на все королевские владения и недвижимость всех лиц, связанных с королем, независимо от их титула. Наложение ареста на доходы Речи Посполитой тоже будет естественным следствием такой позиции сейма, также как и прекращение выплат на содержание войск, которые будут жить за счет несчастных сельских жителей.
Нижеподписавшееся лицо надеется, что эти меры, которые оно может применить в соответствии с данными ему инструкциями, произведут достаточное впечатление на сейм, и он не позднее завтрашнего дня наделит комиссию полномочиями, необходимыми для подписания договора.
Нижеподписавшееся лицо не может скрыть от сейма, насколько подобные меры противоречат тем принципам, которым оно предполагало следовать в доверенной ему миссии. Эти меры предвещают сейму вместо тесного альянса и торгового договора с Россией потерю всех этих преимуществ, а также благосклонности и дружбы императрицы, без чего Польша не сможет ни выжить, ни надеяться на лучшее будущее, тогда как в предложенном договоре все эти преимущества ей обеспечены.
Составлено в Гродно, 5(16) июля 1793 года. Подписано Сиверсом».
Нетрудно представить себе, какое впечатление произвело на сейм чтение этого послания Сиверса. Одни были растеряны, поражены, уничтожены, другие дрожали от негодования и предавались самому глубокому отчаянию. Никто не мог слушать равнодушно оскорбления и угрозы посла.
После чтения этой ноты заседание проходило чрезвычайно бурно. Произносились энергичные и яростные речи, но это были голоса вопиющих в пустыне – они не доходили ни до сведения императрицы, ни до сердца ее министра, да и прозвучали они слишком поздно.
Король предложил в самом начале заседания 17 июля поручить канцлерам составить послание от имени всего сейма, в котором сообщить российскому послу, что сейм полностью полагается на великодушие и доброту императрицы и ей одной вручает судьбу Речи Посполитой, при этом извещает ее о том избытке несчастий, от которых стонет нация, союзником которой она хочет быть.
Такая почтительность все же не показалась достаточной Сиверсу, и он потребовал, чтобы комиссия получила указание сейма подписать договор на том же заседании 17-го числа.
После этого требования посла горячность в зале заседаний сейма достигла апогея: подождем, раздавались голоса, результатов этих новых угроз и насильственных действий. Один из нунциев воскликнул: «Только тогда мы сможем сказать, что уступили лишь в последний момент, и только силе. И тогда кто сможет убедить всю Европу в том, что уступка наших провинций была результатом свободных переговоров?»
Другой доказывал: вместо подписания договора нужно заявить послу, что сейм твердо решил ждать осуществления его угроз, как римские сенаторы ждали смерти галльских вождей.
Еще один отмечал, что если мы уступим угрозам, то будем недостойны внимания со стороны других государств, от которых ожидаем посредничества. Он закончил свою речь словами: «Лучше погибнем с честью, достойными уважения других государств, и не покроем себя вечным позором в призрачной надежде спасти остаток страны».
Другой горячо воскликнул: «Страдания – ничто перед добродетелью. Суть добродетели – в презрении к страданиям… Нам грозят Сибирью… Эти пустынные места не будут лишены очарования для нас… все будет напоминать там о нашей преданности родине!.. Ну что же, пойдем в Сибирь! Ведите нас туда, Государь!.. Там Ваша и наша добродетель заставит побледнеть наших врагов».
В непроизвольном порыве энтузиазма часть ассамблеи поднялась с криком: «Да, в Сибирь! Пойдем!» После такой сцены нунций Карский, отметив тех, кто не разделял этот патриотический порыв, заявил, что «если в этом зале найдется кто-нибудь, кто решится санкционировать этот договор, то он первый покажет ему, какой участи заслуживает предатель».
Король, напуганный этими речами и патриотическими сценами, говорившими об экзальтированном состоянии собравшихся, взял слово и постарался успокоить общее возбуждение. Заверив в своей приверженности Тарговицкой конфедерации и набросав картину грустного положения, в котором мы оказались, он счел своим долгом призвать к умеренности и сдержанности, говоря: «Именно вам, конфедерации сейма, следует оценить опасность, нависшую над головами миллионов ваших братьев граждан, живущих в той части страны, которую хотят нам оставить. Это опасность утратить само имя «поляк». Моя собственная судьба заботит меня меньше всего – я озабочен вашей судьбой… Помните, что вы можете спасти или погубить остаток нации… Долг отца, который любит своих детей, – говорить им правду без прикрас».
В своей второй речи, гораздо более долгой, король привел все возможные аргументы, чтобы оправдать свое поведение. Он старался смягчить выпады тех, кто упрекал его в слабости и в недостатке заботы как о собственной славе, так и о чести всей нации. Он пытался доказать, что все те действия, которых от него требовали, могли лишь усугубить несчастья нашей родины. Употребив весь свой дар красноречия и приемы убеждения, чтобы успокоить разгоряченные умы, он прибавил, что большинство нунциев этого сейма ему совершенно незнакомы, и тем приятнее ему познакомиться со столькими истинными патриотами… и чем яснее он это понимал, тем более осознавал свой отцовский долг перед ними.
«Они заслуживают, – говорил он, – чтобы их берегли. Они заслуживают, чтобы их предупреждали и сдерживали, когда сама их добродетель толкает их на ошибочный путь. И одной такой ошибкой было бы сказать государству, которому мы ничего не можем противопоставить: «Разрушьте нас, поработите еще три с половиной миллиона оставшихся жителей, мы желаем этого, потому что вы уже стали повелительницей четырех миллионов наших соотечественников». Вот что вы скажете дворянству воеводств, которые вы представляете, мещанам городов, которые приходят в упадок, и, наконец, землепашцам, этому классу, который числится последним в обществе, а на самом деле – его главный благодетель. Эти люди, в случае если нынешнее положение вещей сохранится, вскоре увидят свои амбары и стойла пустыми!.. Я хотел бы избавить вас от страшных картин голода и чумы, которые неизбежно последуют за всем этим!..
Я понимаю эти порывы отчаяния, и я знаю, как далеко они могут завести! Но не в этом состоит ваш долг: вы представляете здесь интересы нашей родины и должны защищать их. Вы это сделали, мы все это сделали. Мы не можем спасти наших братьев, которых отделили от нас, но мы можем спасти тех, кого нам еще оставляют!»
Раздалось немало голосов, ссылавшихся на клятву, принесенную конфедерацией, о сохранении неприкосновенности Речи Посполитой: говорилось о том, что нарушить эту клятву означало изменить своему долгу и предать родину.
Два епископа, виленский и ливонский, старались умерить щепетильность собравшихся, убеждая, что нет правил без исключения и что в сложившихся обстоятельствах сокращение территории неизбежно. Епископ Ливонии добавил, что следует, отказавшись от ставшего бессмысленным сопротивления, согласиться, что неизбежность – это единственное право, которое нас заставили признать. Чтобы убедить аудиторию, он высказал мысль о том, что «если российская императрица будет удовлетворена, она сможет не настаивать на отделении тех провинций, которые захвачены прусским королем. Следовательно, делая уступку России, мы предохраняем себя от уступок, требуемых прусским королем».
Зароненный им луч надежды успокоил одних, речь короля, обрисовавшего ожидаемые несчастья, убедила других, и, наконец, страх перед угрозами российского посла – все это сократило число тех, кто высказывался с наибольшей горячностью и патриотизмом. Сократило настолько, что проект о подписании договора, предложенный Сиверсом, был принят большинством в семьдесят три голоса против двадцати.
Нунций, которому хватило храбрости представить вначале этот проект, был ошикан почти всем собранием. Его отказывались заслушать, предаваясь раздражению и отпуская резкие замечания. Наконец жертва была все же принесена, и комиссия получила разрешение подписать договор в том виде, каким его представил Сиверс. Комиссии было дано пять дней отсрочки, чтобы внести в него незначительные изменения, и этот злосчастный договор был подписан 23 июля 1793 года.
Не имеет смысла приводить его здесь, так как все его статьи, исключая ту, в которой определялась новая граница с Россией, были чисто формальными. Вот лишь некоторые пассажи из разрешительного акта, который был выдан комиссии сеймом для заключения договора с российским послом.
«…Предоставленные самим себе, лишенные всякой поддержки извне, не имея иных ресурсов, кроме малочисленного войска и исчерпанной казны, осаждаемые беспрерывно со всех сторон тысячами невзгод, груз которых становится все более гнетущим день ото дня, мы имеем основание полагать, что само человечество запрещает нам войну, которую мы не в состоянии вести и которая привела бы лишь к бессмысленному пролитию крови наших граждан… Всякое иное наше решение могло бы иметь результатом верное и скорое разрушение нашей жизни и самого имени польского; всякое иное решение было бы осуждено нашей совестью и вошло бы в противоречие с долгом представителей нации… Мы достигли верха несчастий и ничем не можем их отвратить, и нам не остается ничего другого как взять в свидетели наших несчастий и нашей невинности самого Бога, справедливого и всемогущего, который судит сердца людей и всю вселенную, который видит подавление и насилие по отношению к нам…»
Если подобный общественный манифест и не кажется достаточно убедительным, чтобы оправдать решение сейма о подписании договора, то, по крайней мере, он может показать тем, кто не знает о возмутительных сценах, имевших место в Гродно, в каком печальном положении находился сейм и какие неслыханные меры были применены для того, чтобы направлять его действия.
Помимо многочисленных войск, находившихся в окрестностях Гродно, и сильного гарнизона, стоявшего в самом городе, все улицы были так тщательно охраняемы, что никто, не исключая даже иностранцев, не мог выйти за пределы города без пропуска от русского коменданта. Иностранные послы жаловались на такой порядок, и тогда Сиверс предложил им и их свитам пропуска на вход и выход, но они отказались их принять, рассматривая подобное предложение как оскорбление своему дипломатическому статусу.
Глава VIII
Прусский министр приостановил на время свои демарши, чтобы не прерывать ход переговоров с Сиверсом и не откладывать подписание договора, которое должно было за ними последовать. Однако уже 24 июля он передал сейму ноту, требуя, чтобы тот предоставил своей депутации все необходимые полномочия для ведения с ним переговоров и заключения договора с Е[го] В[еличеством] королем прусским.
Эта нота вызвала в зале заседаний чрезвычайное волнение, которое начинало ощущаться уже несколькими днями ранее. Теперь все стали вспоминать, что именно прусский король первым стал заверять в своей дружбе польского короля и Речь Посполитую – с самого начала сейма 1788 года, что именно он убедил их заманчивыми обещаниями и дружескими заверениями порвать отношения с Россией, отказаться от альянса с ней, увеличить количество польских войск, изменить форму правления в Польше и учредить в ней новую конституцию. Именно он официальными нотами через своих послов и личными письмами в адрес польского короля не переставал заверять поляков в своих чувствах дружбы и уважения по отношению к ним, повторял при любом удобном случае, как он гордится альянсом с этой славной нацией. Именно он после принятия конституции 3 мая поздравлял объединенную ассамблею сейма с изменениями, внесенными в формы государственного правления Польши, которые он не только одобрял, но и прямо возносил им хвалы. Это он аплодировал намерениям избрать наследником польского трона после смерти Станислава Понятовского представителя Саксонии и даже выражал свое одобрение этому выбору и свое особое удовлетворение по этому поводу в письмах на имя саксонского претендента и короля Польши, при этом многократно повторяя заверения в своей искренней заинтересованности в судьбе Польши.
Многие нунции брали слово, чтобы осыпать упреками прусского короля и провести очевидную теперь параллель между его прежним поведением и нынешним. Сейм склонялся даже к тому, чтобы не отвечать на ноту Бухгольца или ответить категорическим отказом.
Станислав, выносивший энергичные нападки и обвиняемый многими членами сейма, оправдывался с большим смирением и предложил передать российскому посланнику подробное описание всех ходов, предпринятых берлинским двором по отношению к польской нации с самого начала работы конституционного сейма. Он надеялся, как и весь сейм, одобривший этот проект, что удастся возродить в императрице Екатерине ее прежнее недовольство прусским королем и неприязненные отношения между этими двумя государями. Надеялись также, что выражение почтения к императрице и доверительность, с которой обращались к ее министру, будут иметь благотворные последствия, однако время было уже упущено. Россия имела договоренность с прусским королем и не была заинтересована в ссоре с ним, так как это ослабило бы коалицию, сложившуюся против революционной Франции. Не была она заинтересована и в том, чтобы приобрести себе врага, который мог бы опротестовать ее новые приобретения в Польше. Не могла она открыто снизойти к просьбам поляков и отказаться от политики поддержки предложений прусского короля, которые сама же и спровоцировала.
Единственным утешением, хотя и очень слабым, которое императрица косвенно подала полякам, было то, что она признала справедливым их возмущение против Пруссии и открыто об этом заявила. Единственной местью, которую она позволила себе по отношению к прусскому королю, была передача всех претензий к нему польского сейма его посланнику в Гродно и задержание на несколько недель подписания договора с берлинским двором.
Намерения самой России были недвусмысленны. Сиверс дал свободно выговориться всем нунциям, которые с большим или меньшим жаром высказывались против Пруссии, и нисколько не возражал против выпадов, которые они позволяли себе в адрес этого государя. Нужно заметить, что члены сейма, наиболее преданные петербургскому двору, выражались наименее сдержанно.
Все это, однако, были лишь утешительные средства для смягчения участи поляков, которые уже принесли самую большую жертву из требуемых от них. Сиверс не сомневался в конечном успехе своей политики: сначала заставить прусского короля ожидать столько, сколько считал нужным, не прекращая при этом поддерживать запросы Бухгольца своими нотами, сначала умеренными, а затем все более угрожающими, и наконец нанести последний удар, чтобы принудить сейм сделать для Пруссии то, что он уже сделал для России.
Мы увидим, однако, что Сиверсу пришлось применить гораздо более жесткие меры, чтобы вынудить ассамблею подписать договор с Пруссией: он ввел российских генералов и немалое количество офицеров в зал заседаний, усилил городской гарнизон, разместил военных в самом замке, окружил собрание представителей нации солдатами, вооруженными штыками, и навел на него пушку – так было получено согласие сейма. Как будто столь необходимо было доказать обществу, что поляки испытывают гораздо большее отвращение к уступкам Пруссии, чем то было по отношению к России!
По распоряжению сейма канцлеры передали российскому представителю ноту от 26 июля 1793 года, в которой просили вмешательства российской императрицы, чтобы защитить Польшу от бед, которыми грозила ей декларация прусского короля. На следующий день был получен официальный ответ, из которого здесь приведены наиболее примечательные фрагменты.
«Нижеподписавшееся лицо считает долгом незамедлительно ответить на ноту, которой ассамблея сейма просит вмешательства Е[е] В[еличества] императрицы в переговоры, которые должны быть начаты с представителем Е[го] В[еличества] короля Пруссии.
Нижеподписавшийся польщен этим новым доказательством полного доверия сейма своей государыне, но при этом не может пойти на какую-либо отсрочку, чтобы не впасть в противоречие с ее распоряжениями и недавно полученными вполне определенными приказаниями…
Он вынужден, следовательно, заявить ассамблее сейма, что сейму не остается никакой иной возможности, как незамедлительно начать переговоры с представителем Пруссии, снабдив соответствующую депутацию инструкциями и требуемыми полномочиями.
Добрые намерения, которые проявит сейм в ходе переговоров с берлинским двором, послужат поводом к вмешательству, которое Ее императорское величество не замедлит оказать, чтобы устроить дела, столь живо волнующие сиятельную Речь Посполитую. Эти же намерения расположат Е[го] В[еличество] короля Пруссии к благотворным решениям в области коммерции и в других областях, которые могут быть предложены депутацией к рассмотрению в ходе переговоров и т. п. и т. д.
Составлено в Гродно, 16 (27) июля 1793 года.
Подписал Яков фон Сиверс»
Спустя три дня Сиверс передал сейму вторую ноту, в которой шла речь о том же, но в очень взвешенных выражениях.
Эти две ноты отличались своим умеренным тоном от всех полученных ранее и порождали надежду на то, что российский двор лишь по видимости поддерживает претензии короля Пруссии и что здесь можно рассчитывать на значительный выигрыш во времени и некие непредвиденные события. Поэтому было принято смелое решение создать затруднения посланнику Пруссии, направив ему через канцлеров ноту, на которую ему было бы очень нелегко ответить: не преуменьшает ли он свои трудности, рассчитывая на занятие части Польши войсками своего повелителя-короля и на поддержку со стороны России?
Вот эта нота от 31 июля 1793 года.
«Король и ассамблея сейма рассмотрели ноту г-на Бухгольца от 20-го числа текущего месяца и обнаружили, что в ней идет речь о новых договоренностях между Польшей и Е[го] В[еличеством] королем Пруссии. Поскольку между этими двумя государствами уже существуют договоры 1773 и 1790 годов, в уклонении от которых Речь Посполитая не может себя упрекнуть, то нижеподписавшиеся уполномочены запросить г-на посланника, считает ли Его прусское величество себя связанным вышеуказанным альянсом или нет.
Сейм имеет самое высокое мнение о лояльности характера этого монарха, которая не должна оставлять никакого сомнения в его верности своим обязательствам, торжественно подтвержденным договором, и потому он поручил нижеподписавшимся указать г-ну посланнику, насколько присутствие прусских войск в части владений Речи Посполитой противоречит существу договоров, имеющих место между Речью Посполитой и Его прусским величеством. Таким образом, нижеподписавшиеся вынуждены потребовать от г-на посланника, чтобы он соизволил немедленно связаться со своим двором на предмет вывода своих войск из тех областей Речи Посполитой, которые ими заняты, и надеются получить удовлетворительный ответ на этот счет.
«Составлено в Гродно, 31 июля 1793 года».
В тот же день посланник Пруссии Бухгольц ответил на эту ноту следующей декларацией:
«Нижеподписавшийся и т. д. мог быть лишь удивлен содержанием ноты, переданной ему сегодня от имени сейма. Тем не менее он спешит незамедлительно ответить, что содержание этой ноты, выдержанной в уклончивой манере, не является ответом на декларацию двух высочайших союзных дворов, Берлина и Петербурга, а также на ноты, переданные при открытии заседаний настоящего сейма, как от его имени, так и от имени г-на посла России. Он должен воздержаться от более пространных объяснений по этому поводу, поскольку та же депутация, которая обсуждала те же вопросы с посланником России, уже начала переговоры и с ним».
Бесполезно входить в детали заседаний сейма, на которых рассматривался вопрос о договоре с королем Пруссии, так как это было бы бесконечное повторение весьма оживленных высказываний, которые держали всю ассамблею в состоянии постоянного возбуждения.
Однако нужно было подготовить инструкции, чтобы начать переговоры с Бухгольцем. Впрочем, депутатам было ясно указано не вести переговоры ни по какому иному вопросу, кроме условий и пунктов договора о коммерции. Кроме того, им было предписано и подкреплено принесенной ими клятвой уделять особое внимание во всем, о чем они будут договариваться с вышеуказанным представителем, будь то интересы торговли или какие-либо иные, – тому, чтобы тщательно воздерживаться от малейшей дискуссии, имеющей какое-либо отношение к уступкам территории, областей, городов или портов, принадлежащих Речи Посполитой.
Хотя такие инструкции ни в малой степени не отвечали намерениям представителей России и Пруссии, эти переговоры должны были начаться 5 августа, однако на первом же заседании обнаружились взаимные затруднения, связанные с полномочиями.
Бухгольц ссылался на то, что полномочия депутации были недостаточны. С другой стороны, депутация находила в полномочиях самого представителя Пруссии формальные недостатки, которые следовало устранить, прежде чем вступать в переговоры.
В ходе дебатов по этому поводу заседания сейма становились все более бурными. Король, атакуемый нунциями со всех сторон, обвиняемый во всех бедах, которые он навлек на Польшу, произнес 10 августа очень долгую речь, в которой произвел обзор всех периодов своего правления и старался найти себе оправдание, детально объясняя свое поведение в ходе всех событий, предшествовавших данному сейму. Он нарисовал трогательную картину печального положения, в котором он вынужденно оказался, будучи подвержен в одно и то же время унижениям со стороны иностранных дворов и упрекам со стороны своих соотечественников.
Эта речь произвела впечатление лишь на некоторых, кто сочувствовал судьбе этого злосчастного правителя, но не могла ни успокоить умы, ни убедить большинство членов сейма в том, что при большей твердости и храбрости король не смог бы отвратить все эти несчастья.
Тем временем ноты представителей России и Пруссии чередовались одна за другой. Ноты Сиверса постепенно приобретали тон суровый и угрожающий. Наконец он сообщил, что генерал Моллендорф получил от короля Пруссии приказ занять воеводства Краковское и Сандомирское, если переговоры с Бухгольцем затянутся. Представитель Пруссии, со своей стороны, повторял те же угрозы. И оба предрекали новые несчастья, которым Польша могла подвергнуть себя: опустошение сел, разорение крестьян и земельных собственников и прочие беды, которые неизбежны при военных действиях.
Бухгольц получил новые полномочия, и депутация не могла более отказываться от возобновления переговоров. Однако она изыскивала все возможные средства, чтобы затянуть их и даже прервать, если была такая возможность, так как чувствовала за собой поддержку той влиятельной части ассамблеи, которая открыто высказывалась против Пруссии.
Произошло еще одно событие, которое усилило всеобщее возбуждение и вызвало яростные дебаты. Посол России получил ратификацию договора, заключенного с петербургским двором, и представил его ассамблее 13 августа. На заседании 17 августа, которое длилось до двух часов после полуночи, король объявил, что после четырех дней оживленных дискуссий подряд и неуместных высказываний, которые могли вызвать справедливое неудовольствие императрицы и еще более зловещие последствия для Польши, невозможно было дольше откладывать ратификацию договора с Россией. Это предложение, обсуждавшееся с еще большей горячностью, наконец было принято большинством голосов – шестьдесят шесть голосов против двадцати одного.
Из-за настойчивости, которую проявил король в деле ратификации этого договора, со всех сторон пошли недобрые слухи о нем. Уже открыто говорилось, что король принял на себя роль ставленника императрицы, чтобы унизить нацию и покрыть бесчестьем ассамблею сейма, что он был орудием императрицы, которым она пользовалась, чтобы тиранить польскую нацию и вынудить ее прибавить к потере большой части Польши еще и санкционирование расчленения страны посредством договоров и т. п. и т. д.
Наиболее жесткие упреки в адрес короля раздавались на самом сейме. Это было неудивительно, если принять во внимание, что все его члены являлись, в соответствии с месторасположением своих владений, подданными России, Австрии или Пруссии и, следовательно, стояли перед печальным выбором: или голосовать вопреки своим убеждениям, подчиняясь силе, или отказаться от своих владений и пожертвовать благосостоянием своих семей.
Многие нунции упрекали короля в том, что он не организовал единодушного согласия в сейме сразу при его открытии, чтобы воспротивиться всем требуемым от него уступкам. Они положительно уверяли, что все представители нации разделили бы мнение короля, принесли бы себя в жертву и согласились бы подвергнуть себя всем бедам с той же готовностью, с которой пролили бы кровь за родину, если бы король встал во главе армии в начале военной кампании 1792 года. В том и в другом случае они исполнили бы свой долг, использовав шанс, может быть и неверный, но почетный, который мог бы обернуться и удачей, тогда как теперь на них смотрят как на несчастные жертвы и предают осуждению потомства.
Чтобы выиграть время, и в иллюзорной надежде, что российская императрица не будет с той же настойчивостью поддерживать притязания прусского короля, с какой она добивалась заключения договора между ней самой и Польшей, было решено попытаться облегчить ход переговоров с Бухгольцем, попросив посла Сиверса присутствовать на совместных заседаниях депутации с прусским посланником.
Это предложение было внесено королем, и Сиверс не отказался. Он даже внес некоторые небольшие изменения в проект договора, представленный Бухгольцем, но поскольку наиболее важные статьи были оставлены без изменения, то депутация продолжала вносить свои предложения, а сейм упорствовал в отказах, заявляя даже, что тот, кто осмелится одобрить территориальные уступки прусскому королю, будет осужден и наказан как изменник родины.
Один нунций, однако, имел смелость внести предложение о том, чтобы дать депутации полномочия для подписания договора с прусским королем. Во всех концах зала поднялся ропот. Упрямого оратора хотели прогнать, объявив его изменником родины, орудием несправедливости и узурпации.
Такое единодушие не было удивительным, но это были последние конвульсии в агонии сейма, когда уже не оставалось никакой надежды противостоять силе.
Другой нунций предложил вовсе прекратить всякие переговоры с представителем Пруссии, заявить протест перед Богом и всем миром против насилия любого рода, против возмутительной несправедливости и неслыханного уничижения, жертвой которых стала несчастная Польша…
Это предложение обсуждалось на нескольких заседаниях. Произносились речи, полные огня, патриотизма и красноречия, но они не имели никаких последствий, кроме новой декларации Сиверса от 22 августа (2 сентября), в которой он упрекнул ассамблею в том, что некоторые ее члены не проявляют должного почтения к королю, к национальному представительству и, что хуже всего, к высокому посредничеству России. Он приписал такое несдержанное поведение росткам якобинства в сейме, вырвать которые поставил себе задачей. Пока же он настаивает на немедленном подписании договора с прусским королем. Заканчивалась нота заявлением, что, с целью предупреждения всяких беспорядков, он видит необходимость в использовании двух батальонов гренадер с четырьмя пушками для охраны королевского дворца, что генерал-майор Раутенфельд примет командование над ними и получит приказ употребить необходимые меры вместе с великим маршалком литовским графом Тышкевичем – чтобы обеспечить спокойные условия для работы ассамблеи.
В тот же день он направил великому маршалку литовскому следующее письмо: «До меня дошел слух, что зреет заговор против священной особы короля, маршалка сейма и самых заслуженных сенаторов, министров и нунциев. Это вынуждает меня принять следующие меры для обеспечения безопасности данных лиц.
В два часа пополудни два батальона гренадер расположатся на террасе и во дворе замка. Г-н генерал де Раутенфельд расставит пикеты таким образом, что ни один арбитр[23], ни одна другая персона, не имеющая разрешения находиться в замке, не сможет туда войти.
Под окнами замка будут расставлены часовые, чтобы никто не мог туда проникнуть. Открытой останется только одна дверь, и она будет охраняться офицерами, которые будут проверять всех подозрительных арбитров. В случае если при ком-либо из нунциев будет найдено спрятанное оружие, он будет заключен в тюрьму и против него будет возбужден уголовный процесс, как против убийцы.
Нужно также произвести ревизию вооружения литовской гвардии, а также гвардии, находящейся под командованием Вашего превосходительства. Если при них будут найдены пули и порох, следует также поместить их под арест. Само собой разумеется, что эти гвардейцы должны оставаться на месте.
Арбитр, спрятавшийся в зале или в каком-либо ином месте, как и любые другие лица без определенного дела, должны быть арестованы и препровождены в тюрьму. В вестибюле будет находиться пикет из двенадцати русских офицеров, которые имеют право войти в зал и занять место на скамьях нунциев. Генерал де Раутенфельд будет иметь предназначенный для него стул рядом с троном. Он будет следить, чтобы не произошло беспорядка, особенно в отношении священной особы его величества, также как в отношении Вашего превосходительства и г-на маршалка сейма.
Ваше превосходительство соблаговолит объявить, что никто из членов сейма не может покидать своего места, если только не будет призван королем. При этом нунциям обеспечивается полная свобода слова. Я хочу лишь предотвратить крайние проявления и беспорядок – так что те, кто будет виновен в этом, должны быть осуждены по всей строгости закона. Ваше превосходительство соблаговолит передать это письмо королю, а также показать его тем членам сейма, которые захотели бы с ним ознакомиться.
Примите мои уверения и проч.
Яков фон Сиверс».
То, о чем было заявлено в ноте, переданной сейму, а также в письме, адресованном великому маршалку, было исполнено в точности, и эти жесткие меры произвели именно тот эффект, на который рассчитывал российский посол, то есть ассамблея сейма наконец отдала распоряжение депутации подписать договор с Пруссией. Но сделано это было с той оговоркой, что он не может быть ратифицирован, также как и торговый договор, пока включенные в него особые статьи, выработанные и принятые обеими сторонами при посредничестве и под гарантией России, не будут утверждены и подписаны.
Об этом уточнении было сообщено Сиверсу, и он, по видимости, его одобрил, однако прусский король с уточнением не согласился, и Бухгольц передал сейму весьма угрожающую ноту: в ней было заявлено, что условия, выдвигаемые сеймом, являются неприемлемыми. Сиверс также отказался от своего молчаливого одобрения и направил свою ноту ассамблее: он сообщал, что необходимо подписать данный договор без каких-либо оговорок и добавлений, чтобы избежать новых несчастий и не подвергать себя самым неприятным последствиям.
Этот демарш российского посла, которого от него не ожидали, породил живейшие дискуссии, в ходе которых многие члены сейма резко высказались против тирании обеих дворов по отношению к сейму.
В ночь с 22 на 23 августа (по старому стилю) после бурного заседания четверо нунциев были взяты в своих домах русскими солдатами.
Сиверс сделал заявление в своей ноте о том, что он задержал и депортировал четырех нунциев: Краснодембского, Шидловского, Микорского и Скаржинского, которые произносили подстрекательские речи, причем один из них осмелился восхвалять якобинские принципы предыдущего сейма и конституции 3 мая. По мнению посла, он оказал услугу сейму, употребив эти вынужденные меры, но он ни в коем случае не претендует на ограничение свободы слова, дискуссий и выражения собственного мнения.
В зале, где собрались все члены сейма, воцарилось тягостное молчание. Дважды канцлеры отправлялись к российскому послу, чтобы объявить ему, что ассамблея не возобновит заседания, пока захваченные четверо нунциев не будут возвращены. Дважды они возвращались в зал и передавали, вместо ответа, жесткие угрожающие слова Сиверса, который затем подкрепил свои устные заявления короткой грозной нотой.
В ней между прочим было сказано, что «эта манера поведения сейма является очередным оскорблением высочайшим союзным дворам; он никому не обязан отчетом об аресте четырех нунциев; он знает законы, на которые здесь ссылаются, и он положил всю свою жизнь на то, чтобы заставить их исполнять; в Польше не умеют уважать законы, и он должен здесь напомнить главный из них – это уважение к государям, которые были лишены его в соответствии с якобинскими принципами и конституцией 3 мая».
Когда эта нота зачитывалась, зал, напоминавший осажденную крепость, выслушал ее в удивительном молчании: никто не покинул своего места, никто не открыл рта. В едином порыве, не договариваясь, все члены сейма приняли решение не начинать заседание и воздержаться от всяких дискуссий.
Генерал Раутенфельд, занимавший кресло здесь же в зале, был поражен этим энергичным молчаливым сопротивлением и не знал, какое поведение в таком случае предписывает ему его служебный долг. Он обратился к королю, чтобы заставить его положить конец такому непонятному поведению сейма, но король ответил, что не имеет права принуждать нунциев прерывать молчание.
Раутенфельд вышел, чтобы сообщить послу об этом происшествии и получить от него соответствующие указания. Через некоторое время он вернулся и объявил королю, что все члены сейма обязаны оставаться в зале, пока не придут к разумному соглашению, и если это средство окажется недостаточным, то ему позволено употребить самые жесткие меры[24].
Однако эта последняя угроза произвела не больше эффекта, чем все предыдущие. Спокойствие и тишина продолжали царить в зале, ни жестом, ни движением собравшиеся не выразили чувств, которые их обуревали.
В три часа утра генерал Раутенфельд уже собирался встать со своего места, чтобы впустить в зал российский отряд, когда один из нунциев предложил способ закончить эту немую сцену и подчиниться воле обеих дворов так, чтобы никто не был вынужден выразить свое мнение вслух.
В соответствии с его предложением, маршалок сейма, столь же преданный России, как и упомянутый мною нунций, спросил, согласна ли ассамблея, чтобы депутация подписала договор без всяких добавлений. На этот вопрос, повторенный три раза подряд почти без пауз, не последовало никакого ответа. Это молчание было истолковано маршалком как согласие и позволило ему заявить, что депутация получила разрешение сейма подписать договор с королем Пруссии.
Подписание договора состоялось 25 августа, несмотря на протесты, имевшие место этой же ночью, против подобных актов.
После этой последней катастрофы, столь унизительной для собрания, которое вряд ли теперь могло называться сеймом и с которым общались посредством штыков, еще была надежда, что посол России смягчится и вернет четырех арестованных нунциев. Канцлерам было поручено передать обращение к Сиверсу:
«В соответствии с законом, принятым единогласно 6 июля сего года, король и представители нации заявили, что любое насилие по отношению к одному из членов сейма прекратит деятельность всего собрания. Соответственно, арест и депортация четырех нунциев подпадает под действие этого закона и ставит палату перед необходимостью потребовать, чтобы они были возвращены в Гродно и т. п. и т. д.
В качестве ответа они получили лишь выражение удивления по поводу сделанного ими демарша. Сиверс дал понять, что суровая мера, которую он был вынужден применить, являлась лишь видимостью насилия, на самом же деле это было благодеяние – устранить ослепленных зилотов, которые, вероятно, были подстрекаемы злоумышленниками».
Глава IX
До 15 сентября Тарговицкая конфедерация продолжала существовать и издавать свои беззаконные акты, и происходило это одновременно с работой сейма. Находясь под влиянием братьев К…, а точнее – подчиняясь их приказам, она простирала свою власть на все части Польши, еще не занятые неприятельскими войсками, и ее декреты, так называемые «sancita», ударяли в равной степени по богатым и бедным, нанося ущерб состоянию и чести любого человека, не подчинявшегося воле этих К….
Даже удивительно, что остатки такой самостийной власти сохранялись столь долго и продолжали действовать, вызывая у всякого порядочного человека только возмущение, не менее сильное, чем акты насилия, чинимые в Гродно. Было даже тяжелее видеть, как свои же люди мстят своим соотечественникам, чем наблюдать, как их преследуют неприятельские силы. Наконец императрица России, устав от жалоб на конфедерацию, которые поступали ей со всех сторон (эта конфедерация была нужна, в сущности, лишь для того, чтобы послужить предлогом для введения в Польшу российских войск), дала понять своему послу, что конфедерацию нужно распустить. С 15 сентября она прекратила существование в соответствии с актом о ее роспуске, подписанным по указанию Сиверса королем и министрами и одобренным сеймом. В то же время конфедерация объявила, что она остается объединением и оставляет у себя во главе того же маршалка, который возглавлял ее до сего времени.
Напоминаю, что с самого начала работы сейма я покинул Гродно и отправился поправлять здоровье в свою деревню Соколов вблизи от Варшавы. Я пребывал там больной и погруженный в самую мрачную тоску из-за всех тех известий, которые доходили до меня. Но, по крайней мере, я поздравлял себя с тем, что не был привлечен к переговорам с Сиверсом и не был свидетелем тех бурных заседаний сейма и актов насилия, которые имели там место.
Впрочем, мне не посчастливилось долго наслаждаться своим отсутствием. В течение нескольких недель меня настигли, одно за другим, несколько писем от Сиверса.
В первых меня приглашали вернуться в Гродно. В следующих меня настойчиво просили поторопиться и упрекали за то, что я злоупотребил разрешением отсутствовать. В последнем мне сообщалось, что будет отдан приказ наложить секвестр на мои земли и что за мной будет послан казачий отряд, чтобы с этим эскортом препроводить меня в Гродно.
Я отправился туда, не дожидаясь военного эскорта, и прибыл в разгар дебатов о переговорах с Пруссией и о ратификации договора с Россией.
Как только я прибыл в Гродно, все честные люди собрались вокруг меня с упреками в том, что я покинул их в момент кризиса, который они не в силах были предотвратить. Многие сенаторы Литвы и многие нунции от этой провинции, даже из числа тех, кто поддерживал Россию, просили меня не покидать их более и говорили о том, что если невозможно было избежать раздела страны, то, по меньшей мере, долгом каждого, кто имел отношения с послом России, было довести до его сведения о вопиющих злоупотреблениях в Литве и безобразиях, которые творила там конфедерация. Со всех концов Литвы ко мне приходили многочисленные письма, в которых меня настоятельно просили не отказать в защите всем тем, кто пал жертвой преследований со стороны семейства К…. Люди жаловались, что им не перед кем излить душу и не к кому обратиться со своими просьбами. Они заявляли, что я, в качестве министра Литвы, мог и должен был обеспечить им свою поддержку и помощь.
Эти многочисленные обращения вынудили меня постараться войти в контакт с послом Сиверсом, который, как я уже говорил, был человеком резким, увлекающимся, вспыльчивым, верным исполнителем полученных приказаний, но имел доброе сердце и даже желал делать добро, если то было в его власти.
Два министра, известные своей безупречной честностью, – великий маршалок литовский Тышкевич и великий маршалок коронный Мошинский – были первыми, кому я сообщил об адресованных мне жалобах и передал многочисленные запросы, мною полученные. Первый из них, человек внешне холодный, но по сути честный и чувствительный, соединял в себе чистоту намерений и прямоту чувств с ярко выраженной ненавистью ко всякой несправедливости. Будучи родом из обычной семьи в Литве и имея почти все свои владения в этой провинции, он тем живее сочувствовал страданиям своих соотечественников, что сам не мог уберечь ни себя самого, ни свое состояние от преследований семейства К….
Второй, человек прямой и справедливый, добродетельный гражданин, отличавшийся твердым характером и высокой образованностью, живо ощущал весь ужас положения, в котором мы оказались, и желал для облегчения страданий наших несчастных соотечественников употребить те усилия, которые оказались бесполезными в деле спасения его собственной родины. Поскольку эти два министра были людьми богатыми и пользовались всеобщим уважением, они никак не могли быть обвинены в якобинстве. Я был уверен в том, что если они захотят взяться за воплощение моих планов, то обязательно заручатся доверием Сиверса и добьются вместе со мной всего, что было возможно, для смягчения участи литвинов.
Сиверс ежедневно получал жалобы и обвинения в адрес конфедерации, которые настраивали его против нее. Он сам в глубине души не мог признать ее законной, хотя она и наделила себя суверенной властью. Он осмелился изложить свои соображения на этот счет императрице и не скрывал своего живейшего удовлетворения, когда получил от нее приказ о роспуске конфедерации.
Этот приказ был приведен в исполнение, как уже говорилось, 15 сентября. С этого момента Сиверс окружил себя теми людьми, которые первыми докладывали ему о жестоких несправедливостях, чинимых этой группировкой. Он поручил нам рассмотреть все опубликованные ею «sancita» и заявил, что те из них, которые были приняты незаконно, содержали несправедливые решения по отношению к лицам и владениям, заключали в себе акты неправомочности или обхода законов, носили характер личной мести – одним словом, те, которые противоречили справедливости и правосудию, должны были быть собраны, изучены комиссией, переданы на рассмотрение сейма и отменены.
Это решение Сиверса навлекло на него неприязнь семейства К…, а к тем, кого он консультировал, – самую откровенную их враждебность и ненависть.
«Sancita» бывшей конфедерации стали последовательно отменяться решениями сейма. Отвергаемые большинством и слабо защищаемые сторонниками семейства К…, которые едва осмеливались открыть рот, чтобы не навлечь на себя неудовольствие российского посла, – все «sancita» были одно за другим отменены. Это стало утешением и чем-то вроде победы для порядочных людей – иметь возможность помочь соотечественникам-литвинам, которые пока еще носили имя поляков.
Тем временем эти К…, потеряв надежду подтвердить свои «sancita», которые почти все были надиктованы через их агентов, и видя, что день за днем они оказываются все более опороченными даже в глазах своих наиболее усердных сторонников и все более презираемыми Сиверсом, – решили извлечь из всего происходящего повод для блистательной мести и не упустили ни единой возможности осуществить свой замысел.
Такая возможность вскоре им представилась, и я был вовлечен в их интригу вместе с королем – в числе главных их обвинителей, о которых К… доложили в Петербург.
Этому предшествовало заявление перед всем сеймом о том, что великий маршалок бывшей конфедерации перешел все границы своей власти и совершал беззаконные акты, которые частично и были здесь же перечислены. Было указано также, что его поддерживала и ему помогала военная комиссия, членов которой он сам же и назначал. Предлагалось выбрать депутацию, которая потребует отчета у этой комиссии о деятельности ее президента и об использовании им финансов, проходивших через его руки.
Этот проект был принят единогласно, так как никто не решился ему противоречить. Но когда встал вопрос о выборе лиц для введения в состав этой депутации, в зале поднялось общее движение и послышались громкие протесты по поводу способа осуществления данного проекта и выбора лиц, которые должны были составить данную депутацию.
Партии К… хотелось бы ввести в нее свои креатуры. Большинство же выдвигало лиц, известных своим убежденным патриотизмом. В этой ситуации посол России, с которым король посоветовался, сказал ему объявить сейму, что назначение депутатов является правом короля и что он сам полностью полагается на мудрость Его Величества в выборе лиц просвещенных, способных и честных.
Король, со времени моего возвращения в Гродно, выказывал мне все признаки симпатии и уважения. Он вспоминал о том совете, который я ему дал перед его отъездом в Варшаву, и, возможно, сожалел о том, что не последовал ему. Отягченный печалями и унижаемый, как своими, так и иноземцами, он имел возле себя лишь малое число преданных ему лиц и еще меньше друзей, которые могли бы сказать ему правду.
Он был доволен тем, что я присоединился к Мошинскому и Тышкевичу с целью отменить «sancita» и прекратить преследования и несправедливости, имевшие место в Литве. Он был восхищен тем авторитетом, который мы приобрели у Сиверса, и стал сам обращаться к нам, главным образом ко мне, всякий раз, когда оказывался в затруднении.
Таким трудным случаем и оказалась необходимость выбрать депутатов для изучения деятельности военной комиссии, и король, пригласив нас, посоветовался с нами на этот предмет. Я предложил ему десять кандидатов, которых все мои коллеги считали достойными быть в составе депутации. Король, со своей стороны, знал их лично, принял мои предложения с удовольствием и отправил список их имен российскому посланнику.
Я был убежден, что назначение этих лиц не вызовет недовольства у посланника, который сам требовал, чтобы выбор пал на порядочных людей, бескорыстных и преданных своей стране, и я оказался совершенно не готов к западне, которую устроил великий маршалок К… королю и его советчикам.
Так, посреди ночи, которая последовала за отправкой списка депутатов российскому посланнику, меня разбудил Фриз, один из преданных секретарей короля, и передал мне копию ноты Сиверсу. В этой ноте он объявлял «якобинцами» всех, кого назначил король, и грозил, что немедленно пошлет меморандум князю Зубову, чтобы довести до сведения императрицы то, что происходит в Гродно, и обвинить в этом самого посла, если он не отменит данного назначения.
Фриз передал мне также записку от Сиверса, адресованную королю, с горькими упреками ему относительно затруднения, в которое он его вверг. Передал и записку от Его Величества, где просил меня вывести его из неожиданной и трудной ситуации, в которой он оказался. Король умолял меня прийти к нему не позднее шести часов утра, потому что он должен был дать ответ Сиверсу к тому времени, когда тот проснется.
Я тут же принялся набрасывать биографические заметки о депутатах, намеченных королем, и отнес их королю в назначенное время. При этом я заверил его, что достаточно послать их без всяких комментариев Сиверсу или даже в Петербург, чтобы развеять неприятное впечатление, которое могло быть порождено доносом маршалка конфедерации. Если король пожелает, то я берусь подписаться под этими биографиями при условии, что могу добавить туда несколько строк, написанных мной на отдельном листке бумаги. Я показал их королю, чтобы получить его одобрение.
Король, как всегда слабодушный, был в нерешительности после прочтения этого листка, но в конце концов дружески пожал мне руку и поблагодарил за то, что я вывел его из затруднения. Затем перечел еще раз, одобрил мои биографические заметки и согласился на предложенное мною добавление при условии, однако, что я направлю эти записи посланнику без подписи: он объяснил, что не хочет меня компрометировать. Король ограничился тем, что написал записку Сиверсу, а я добавил к биографиям следующие строки:
«Эти записи содержат перечисление услуг, оказанных родине вышеназванными лицами, и дают лишь слабое представление об их добродетелях и талантах, но заключают в себе чистую правду. В доказательство этого можно смело сослаться на общественное мнение, которое всегда бывает справедливым и непредвзятым. Настоящими же якобинцами должны считаться те, кто оскорбляет их заслуги и добродетель, кто не умеет ценить в гражданах патриотизм и изыскивает средства, чтобы опорочить и преследовать тех, кто думает иначе, чем они.
Если ум, просвещенность, любовь к родине и преимущества, даваемые рождением и состоянием, заслуживают наименования якобинцев для своих обладателей, то это наименование оказывается слишком лестным, чтобы не стараться его заслужить».
Этот ответ, несомненно, дошел до сведения К…, и он не преминул, конечно, довершить свои угрозы, отправив свои жалобы в Петербург. В любом случае, этот вопрос в течение некоторого времени более не поднимался, и не он стал впоследствии причиной опалы и отзыва Сиверса.
Я упомянул здесь о новых обвинениях в якобинстве, предъявленных некоторым лицам и перенесенных на всю нацию, – целью этих обвинений было оправдать раздел Польши в глазах всех государств, объединившихся против французских революционеров. Не могу удержаться, чтобы не процитировать отрывок из речи, произнесенной на эту тему сенатором Суходольским, каштеляном Смоленска:
«До сих пор вся Европа именовала якобинством порочную доктрину, которая, в своем тщеславном бреду, разрушает законы нации, отнимает у правителей их священные права, лишает народы уважения к своим руководителям, покушается на верховную власть, ставит под удар общественное спокойствие и благосостояние всего общества… Государства, вооружившиеся против этих зловещих теорий, теперь преследуют под тем же предлогом тех, кто подобные теории всегда ненавидел…
Поляки никогда не давали своего одобрения актам насилия, возмутительным в своей несправедливости. Они не могут одобрить и расчленение своих земель, которому нет никакого оправдания, кроме права сильнейшего. Они убежденно отстаивают прерогативы своего короля и привилегии своей нации. Они противостоят гнету, под которым стонет то один, то другой – вот те причины, по которым агенты деспотизма упрекают их в своих публичных нотах в якобинстве, который на самом деле вызывает в них отвращение…
Какие же меры принимают эти превосходящие силы, чтобы обезопасить Вашу персону, Государь? Это явно какие-то новые меры и вполне достойные того мотива, которым они продиктованы. Это пушки, нацеленные на дворец Вашего Величества, военные лагеря, угрожающие ему, батальоны, стоящие вокруг города и в нем, это военные силы, осаждающие место, в котором идет обсуждение и где удерживают главу свободного народа прикованным к своему трону, основания которого сами же и расшатали, это лица, принудившие его подписать ужасный акт, которым его права и права его народа сведены к нулю. Таковы предосторожности, принятые против так называемых заговоров, замышляемых якобинцами…
Какой новый род безопасности и защиты изобрели эти министры, претендующие на охрану Вашей персоны от наших покушений?
Какой изобретательный поворот мысли нужен для того, чтобы превратить в якобинство этот чистый патриотизм, являющийся его противоположностью?.. Мы не нуждаемся в иных оправданиях… Монархи и нации – все знают, что никакой другой народ так не далек от этих чудовищных доктрин, как поляки… Чтобы дать оценку нотам и запискам, зачитанным на последних заседаниях и столь мало совместимым с достоинством нации, мы просим Ваше Величество поручить своим канцлерам ответить на них… Соблаговолите, Государь, не оставлять без ответа эти оскорбительные упреки. Соблаговолите, ради чести верной Вам нации, блистательно засвидетельствовать, что она никогда не исповедовала якобинство, которое ей вменяют в вину и которое она презирает. Таким образом, я передаю секретарю для зачтения проект предписания канцлерам, предметом которого является составление ответа такого рода, и прошу высокое собрание вынести решение на этот счет».
Эта речь, произнесенная с убежденностью и энергией, произвела сильное впечатление. Было дано распоряжение канцлерам передать соответствующие ноты министрам России и Пруссии и сделать официальное сообщение об этом всем дворам. Однако этот демарш не возымел никаких последствий, так как обвинения в якобинстве были всего лишь предлогом для осуществления планов, которые могли быть объявлены законными только по праву сильнейшего. И никакое другое государство, кроме тех, что разделили Польшу, не интересовалось более этой страной, которая теперь не значила ничего в политическом балансе Европы.
Оставался лишь один предмет для обсуждения с российским посланником – это договор об альянсе, дружбе и торговых отношениях с петербургским двором.
Проект его был предложен тем же нунцием, который убедил сейм подписать первый договор с Россией. И в этом случае он тоже употребил все свое красноречие, чтобы указать на всевозможные выгоды этого альянса, а затем попросил, чтобы на этот предмет была составлена инструкция.
К 30 сентября канцлеры передали ноту посланнику с предложением о заключении договора. В ответе Сиверса, полученном через пять дней, предоставлялись все возможности для начала переговоров. Окончательно договор об альянсе между Польшей и Россией был подписан 14 октября 1793 года.
Сейм в Гродно, который Сиверс предполагал завершить за четыре недели, продлился более пяти месяцев. Отсюда можно сделать вывод, что членами этой ассамблеи было гораздо труднее управлять, чем тарговицкими конфедератами, и только этим последним нужно вменить в вину все несчастья Польши…
Не кому-либо из самих поляков подобало бы высказываться по этому деликатному вопросу. Потому я не нахожу ничего лучшего, как процитировать по этому поводу мнение автора «Истории трех разделов Польши», который отмечает, что «нужно проводить существенное различие между Тарговицкой конфедерацией и Гродненским сеймом. Сейм утвердил раздел страны, но сделал это под угрозами, будучи окруженным войсками, которые были призваны самими главами конфедерации. Из-за них сейм был поставлен перед необходимостью уступить насилию и тиранической воле двух дворов. Он упорно сопротивлялся вплоть до того момента, когда продолжение сопротивления угрожало бы существованию нации в целом. Тарговицкие же конфедераты никогда не оказывали никакого сопротивления.
«Нунции в Гродно честно оставались у бреши, которую не могли защитить и перед которой некоторые из них были готовы погибнуть. Тарговицкие конфедераты, разбив на части страну, тоже объявили, что не в состоянии ее защищать, а затем вовсе покинули ее и присоединились к ее врагам. Я, конечно, не претендую на то, чтобы с помощью этих параллелей оправдать все действия сейма в Гродно, но он не должен быть занесен в тот же проскрипционный список, в который историческая справедливость занесла тарговицких конфедератов».
Хотя влияние этой конфедерации на выборных сеймиках было мощным, тем не менее почти все выбранные там нунции презирали ее и вменяли ей в вину все последовавшие беды Польши, как и сам захват ее территорий. Они изливали свой гнев прежде всего на вождей конфедерации. Когда на одном из заседаний сейма было сделано предложение задержать выплату денег гетману Браницкому, его заместителю Ржевускому и генералу артиллерии Потоцкому, со всех сторон раздались голоса в поддержку этого предложения. Не побоялись присутствия одного из их коллег, который еще продолжал незаконно управлять этой конфедерацией в Литве; забыли, что русские держат в осаде зал заседаний, в тот момент думали лишь о том, чтобы обрушить свое возмущение на тех, кто был виновен во всех испытываемых ими унижениях.
Из всех речей, произнесенных на этот предмет, ни одна не превзошла силой, красноречием и смелостью выражений то, что было сказано Гославским.
«Только тот, – сказал он, – имеет право на вознаграждение, кто сам верно исполняет свой долг. Опираясь на этот принцип, я задаю вопрос: могут ли рассчитывать на оплату те, кто покинул свою родину в самый критический момент, когда она больше всего нуждалась в их помощи? Я, бесспорно, погибну вместе с этой несчастной страной, но с последним вздохом из меня вырвется упрек этим деградировавшим гражданам своей страны, которые были сначала бесполезным грузом на ее земле, а кончили тем, что предали ее грабежу и опустошению… Недовольные новым конституционным порядком, который вынуждал их высокомерные головы склониться перед законом, эти «великие» простерли свою низость до того, что отправились бесстыдно пресмыкаться перед чужеземным двором, чтобы получить от него помощь, посредством которой они могли бы возвести на руинах законного правительства алтари своего горделивого честолюбия и установить трон своей олигархии… У подножия этих алтарей, у ступеней этого трона поляки, опозоренные их низкой клеветой, подавленные, должны были склонить колени перед этими сиюминутными божествами, чья власть зиждилась лишь на чужеземных силах. Родина в трауре проливает слезы отчаяния над этими неблагодарными выродившимися сыновьями, которые заплатили за ее заботы самым отвратительным предательством… и т. п. и т. д.»
Российский посол был готов снисходительно терпеть суровые нападки не только на вождей Тарговицкой конфедерации, но и на все решения, принятые в последние месяцы ее существования, вплоть до отмены многих ее «sancita», но затем потребовал от сейма жертвы, которая повергла в глубокое смущение всех добрых патриотов. Так, 23 ноября сейм вынужден был принять декларацию о том, что в момент роспуска данного сейма должны быть отменены и прекратить действие все законы, принятые на последнем, Варшавском, сейме. Таким образом, возрождались все те законы, которые существовали в стране до 1788 года.
Грустно признавать, но и легко понять, что ассамблея, все дискуссии которой направлялись российским послом и проходили в зале, осажденном солдатами, и которая вынуждена была дать позволение на подписание самых унизительных договоров, не имела более ни силы, ни власти отказаться от этого последнего своего постановления, которое уничтожало конституцию 3 мая и всю работу предыдущего сейма.
Последнее заседание длилось всю ночь и закончилось лишь к семи часам утра. Вся ассамблея разошлась смущенная и уничтоженная, за исключением отдельных лиц. Король, конечно, не был в числе тех, кто считал себя наименее задетым. Униженный и опечаленный более, чем многие другие, он казался постаревшим на много лет. На его бледном и искаженном лице отразились все его душевные страдания и телесные немощи. В этом своем виде он возбуждал симпатию и жалость даже в тех, кто больше всего выступал против него: они понимали, что только естественные слабости его характера, которые он уже не мог преодолеть в своем возрасте, а вовсе не дурные намерения по отношению к своей стране, помешали ему в этом случае, как и во многих других, проявить храбрость, твердость и энергию – те качества, которые совершенно необходимы главе нации.
Глава X
Король должен был покинуть Гродно через несколько дней после окончания сейма. Он попросил у меня разрешения провести сутки в моей деревне, что в четырнадцати километрах от Варшавы на большом почтовом тракте. Он сказал, что имеет нужду в отдыхе и особенно – в утешении и что он все это найдет, несомненно, в доме человека, которого он уважает и отец которого был в числе его самых близких друзей.
Я не мог отказать ему в этой просьбе и отправился в путь впереди него, чтобы подготовиться к приему у себя короля. Его свита состояла из малого числа доверенных лиц, но он имел многочисленный выезд, и сопровождал его значительный эскорт польских улан.
По прибытии в мой дом он отстранил часовых, которые были выставлены у дверей, и даже тех, которые находились на своих обычных местах. Он очень изящно объяснил это тем, что нигде не может быть в большей безопасности, чем у меня.
Я старался его развлечь: показал ему свою библиотеку, и он нашел ее прекрасно подобранной, а ее классификацию чрезвычайно одобрил. Затем я показал ему планы садов и сельских домов, которые он с удовольствием изучил, также представил ему продукцию различных фабрик и мануфактур, которые открыл у себя. Король спросил, откуда я набрал рабочих и как давно они работают у меня. Я ответил, что это швейцарцы, немцы и, главным образом, вюртембергцы, которые прибыли работать у меня в те времена, когда конституционный сейм постановил, что любой иностранец, прибывший на польскую землю, является свободной личностью и пользуется всеми правами, предоставленными конституцией.
Этот ответ сменил направление нашей беседы. Разговор, который затем последовал, дал мне понять, что необходимо описать подробнее этот визит короля: в нем раскрылись некоторые характерные черты его образа мыслей и интересные детали восприятия им насильственных актов, имевших место на сейме в Гродно, а также результатов, которые должны были за ними последовать.
Упоминание о конституционном сейме вызвало у короля сильное волнение. Он сначала хотел его скрыть и спросил у меня, сколько иностранных семей проживает на моих землях. Я ответил, что у меня их более ста пятидесяти, среди которых – разного рода рабочие для фабрик и мануфактур, но самое большое количество среди них – земледельцы, которым я предоставил обрабатывать столько земли, сколько они просили, не требуя от них никаких повинностей в течение десяти лет. Я показал королю план деревни Изабельсбург, которую построил для новых арендаторов, и с таким усердием изобразил ему картину благополучия, в котором они жили до сих пор, что он прослезился и воскликнул: «Несчастные! Что с ними теперь будет?..» Затем добавил: «Неисправимые беды принесла нам эта проклятая Тарговицкая конфедерация! Насколько счастливее была бы Польша, если бы конституция 3 мая, действуя в течение нескольких лет, дала бы ей прочувствовать на себе все преимущества доброго правления!.. Но такова моя горькая судьба: я всегда хотел добра моей стране, но приносил ей только зло!»
Говоря так, он оживлялся все более и продолжал говорить не прерываясь. У него вырвался вздох, не имевший в себе ничего нарочитого: «Ах! Зачем я согласился принять эту корону с шипами, которая сжимала мне голову столько лет! Я испытал все тяготы, которые сопровождают королевский сан, но не насладился его радостями! Лишь один раз за все свое царствование я испытал радостное чувство: это был день 3 мая… я думал, что Провидение, устав наконец нас преследовать, вняло моим просьбам и мольбам моих соотечественников!.. Я пользовался полным доверием нации и внутренне был уверен, что заслуживаю его. Это был самый чудесный момент в моей жизни, и воспоминание о нем я сохраню до могилы!.. Но почему этот момент был так краток? Почему не прекратилось мое существование сразу после этого достопамятного дня? Я бы завершил достойно свою карьеру. Закрыв глаза, я оставил бы поляков довольными мной, а мою родину – счастливой! Я чувствую, что живу слишком долго – и для меня самого, и для моей страны… Бедная Польша! Какая судьба ей уготована и как несчастлив ее король!»
Произнеся эти последние слова, он закрыл лицо руками, чтобы скрыть душившие его рыдания, которые некоторое время мешали ему говорить.
Короля часто упрекали в том, что он в своих речах прибегал к декламации, движениям и жестам, уместным для актера на сцене, и тем старался пробудить в аудитории чувства, которыми лишь притворно был проникнут сам. Но, бесспорно, этого не могло быть в тот момент, когда он был один на один со мной и у него не было никакой нужды разыгрывать комедию! Один из его самых преданных служителей и друзей, обер-шталмейстер Короны Кикий, находившийся в соседней комнате, сказал мне после этого разговора и повторял потом несколько раз, что никогда не видел короля столь искренне переживавшим и старавшимся излить душу с такой искренностью и честностью.
Король видел, что я тронут его переживаниями, и постарался взять себя в руки. Сделав несколько кругов по комнате, он продолжал: «Если бы страдал только я, то мое положение было бы еще терпимым. Но сколько несчастных жертв нового раздела Польши прибавится к тем, которые уже были отданы в жертву! Например, вы: потеряв столько из-за секвестра ваших земель и падения банков, вы неизбежно будете разорены. Вы ведь имеете земли в трех разных владениях, кроме тех, что еще остаются в самой Польше, и, конечно, после опустошения этой страны они не смогут приносить большого дохода!.. Когда я прибавляю к этим потерям состояния еще и то отчаяние, которое вы разделяете со всеми честными гражданами, – я понимаю, насколько тягостно ваше положение. Я искренне жалею вас, но не имею ни сил, ни мужества подать вам какое-либо утешение… Скажите мне, что вы намерены делать?»
«Что касается меня, Государь, – ответил я, – то я свое решение принял. Я навсегда покину родину. Я продам все, чем владею, чтобы честно привести в порядок все мои дела, и затем, обеспечив судьбу моей семьи, я уеду как можно дальше из страны, которая будет лишь постоянно напоминать мне о несчастьях, пережитых в ней, и об унижениях и страданиях моих соотечественников».
«Берегитесь, – сказал мне король, – не торопитесь с вашим решением, чтобы потом не раскаиваться в том, что вы пренебрегли возможностью послужить своей родине или, по меньшей мере, своим соотечественникам… Вы думаете, что наши беды закончились? Я предвижу в будущем события гораздо более зловещие, чем те, которые мы уже пережили. Но что делать? Надо довериться Господу и до конца испить предназначенную нам горькую чашу!..»
Он замолчал на некоторое время, а затем добавил: «Я не допускаю возможности, что те, кто поклялся поддерживать конституцию 3 мая ценой своей жизни, могли изменить свое мнение. Многие из них уже эмигрировали. Они отправятся во Францию, Англию, Швецию, Турцию. Их действия, которые я считаю бесполезными, могут породить новые волнения и спровоцировать новую войну, следствием которой может стать третий и последний раздел… Я боюсь отчаянных настроений в нашей армии. Я знаю пылкий характер и преданность родине моего племянника Юзефа: он ухватится за первую же возможность стать во главе армии, так как ко всем своим добрым качествам он присоединяет чрезмерную страсть к военной службе… Признаюсь вам честно: я подозреваю, что Игнаций Потоцкий, человек государственного ума и твердых убеждений, а также Коллонтай, предприимчивый, неистовый и опасный, начнут действовать при иностранных дворах, заинтересованных в судьбе Польши, чтобы развязать революцию, которая приведет к полному падению этой несчастной страны… Что вы на это скажете?»
«Все, что я услышал от Вашего Величества, – ответил я, – это лишь гипотезы и предположения, кроме умозаключения о третьем и последнем разделе, который я тоже считаю делом решенным. Это основная причина, по которой я принял решение покинуть родину. Однако я не скрываю от Вас, Государь, что если подозрения и опасения Вашего Величества относительно реакции в стране оправдаются, то я не покину Польшу и охотно стану в ряды тех, кто будет сражаться за ее свободу и независимость».
Король казался удивленным и даже огорченным этим моим решением. Он опасался, что сказал слишком много… Будучи доверчивым по своей природе по отношению к тем, кто его окружал, он мог легко быть обманутым в домашних делах, и напротив, был подозрителен в том, что касалось политических мнений и действий. Он, несомненно, испугался того, что у меня могла зародиться мысль о том, что ему известны определенные данные о намерениях патриотов и армии в целом. Он тут же прервал разговор на эту тему и заговорил о каких-то незначительных вещах.
Проведя около тридцати часов в моем доме, король отбыл в Варшаву, поблагодарив меня за добрый прием, оказанный ему, за отдых, которым он насладился и которого, как он сказал, уже долго не имел.
Этот разговор был слишком интересен, чтобы я не постарался его записать и тщательно сохранить, а потом в точности переписать.
Я никогда не думал, что король мог знать о планах будущего восстания, так как его, конечно, не могли посвятить в эту тайну. Но так же верно, что он догадался об этом, потому что предполагал в мыслящих людях наличие тех чувств, которые он не имел храбрости осознать в себе самом.
Удивительно, что среди людей, названных им тогда, не было имени Костюшко, однако именно Костюшко оказался тем единственным, кого армия и нация единодушно призвали на защиту чести поляков, и на него одного возлагались в течение длительного времени все надежды нации.
книга третья
Глава I
Я уже говорил о причинах неприязни, возникшей между семейством Коссаковских и российским посланником, – это было связано с «sancita», изданными Тарговицкой конфедерацией, которые посланник подверг ревизии комитета сейма, а затем – и отмене их сеймом.
Несмотря на все старания этих К…, их обвинительные донесения императрице через князя Зубова в адрес посланника не были приняты во внимание, и Сиверс продолжал выполнять свои функции вплоть до своего возвращения в Варшаву, но затем произошло событие, которого он не мог предвидеть и которым ловко воспользовались его враги, – в результате последовала его окончательная опала и отзыв.
В последние дни работы сейма особенно ощущалась поспешность в отмене всех тех «sancita» Тарговицкой конфедерации, которые комитет счел нужным аннулировать, и эта поспешность зачастую вынуждала ассамблею полагаться на мнение комитета, не обсуждая его решения в палате, особенно когда не имелось явно выраженного несогласия. Из-за этой небрежности незадолго до закрытия сейма ему было предложено для рассмотрения сразу большое количество «sancita», которые были представлены лишь названиями. Они все вместе были аннулированы и отменены.
Среди них проскользнуло и то постановление, которым отменялся военный орден, учрежденный во время последней кампании против России, в 1792 году, с надписью «Virtuti military»[25]. Сейм, отменив этот «sancitum», тем самым восстанавливал офицеров, награжденных им, в праве его носить. Это решение ассамблеи было воспринято всеми партиями с общим энтузиазмом, однако мотивы этого энтузиазма имели разный источник. С одной стороны, военные были рады вернуть себе почетные знаки отличия за службу родине, которых они были лишены. Патриоты также радовались этой временной победе, одержанной над тарговицкими конфедератами. С другой стороны, враги правого дела и личные враги посланника торжествовали по поводу этого события, которое не могло не вызвать живейшего отклика в Петербурге и должно было привести к опале Сиверса. Действительно, вскоре он получил приказ покинуть Варшаву, и его заменил Игельстром.
Зловещие последствия этой замены не замедлили сказаться. Новый посланник, который был в то же время генерал-аншефом[26] и командующим всеми российскими войсками в Польше, осуществлял свою власть с той же непреклонностью, что и Сиверс, но его горделивый и высокомерный тон раздражал всех, кто с ним общался. Он слишком жестко разговаривал с королем, бесцеремонно обращался со всеми, кто его окружал, презрительно третировал любого, кто осмеливался высказать свое мнение.
Первый же приказ, который он довел до сведения короля и Постоянного совета, содержал требование восстановить все без исключения «sancita» конфедерации, которые были отменены сеймом. Одного этого демарша было достаточно, чтобы понять, что новый договор об альянсе с Россией не положил конец насилию, чинимому в Польше. Такое учреждение, как Постоянный совет, должно было заниматься лишь надзором и исполнением законов, но по приказу посланника он становился суверенным законодательным органом, который мог отменить все, что было принято ассамблеей сейма.
По моем прибытии в Варшаву, дней через двенадцать после короля, я застал Сиверса за сборами к отъезду в Петербург, а Игельстрома – исполняющим обязанности посланника. Апартаменты Сиверса опустели, как это бывает с сановниками, попавшими в опалу. Приемные же комнаты того, другого, заполняла толпа придворных, привлеченных к новому сановнику долгом, страхом или корыстью.
Несмотря на жесткие действия Сиверса в Гродно, те, кто был с ним близко знаком, оправдывали его, объясняя его поведение исключительно приказами, полученными из Петербурга. Его личные качества привлекли к нему нескольких искренних друзей, которые после известия о его отзыве стали навещать его даже чаще, чем тогда, когда он был при должности и облечен неограниченной властью, исходящей от его государыни.
Я горжусь, вспоминая, что был из их числа. Раньше у меня случались довольно острые столкновения с Сиверсом-посланником, но теперь я видел в опальном министре лишь почтенного старца и с сожалением расставался с ним.
Первый же визит мой к Игельстрому показал, что мы ничего не выиграли от этой замены. Он стремился произвести впечатление и внушить страх не только как представитель своей государыни, сопровождая все, что он говорил, угрожающим выражением лица и тоном, вызывавшим дрожь, – к политическим обвинениям он прибавлял зачастую личные упреки и выпады, не стесняясь в выборе выражений. Так, он излил свою желчь на гетмана Огинского, припомнив ему факты двадцатилетней давности, начиная с 1771 года, позволил себе злые шутки по поводу его нынешнего пребывания в Вене, его вкуса к удовольствиям и рассеянному образу жизни. Меня же он упрекнул в том, что я был посланником Польши в Англии и Голландии в период конституционного сейма, что я был другом Сиверса и недругом К… и тарговицких конфедератов, что иногда высказывался против него самого, о чем ему докладывало немало моих же соотечественников, что я подавал советы королю, который имел, по счастью, достаточно здравого ума, чтобы им не следовать, что я отсутствовал в течение нескольких недель на сейме в Гродно, что избегал возможностей заслужить благосклонность императрицы. Закончил Игельстром резко и гневно – заявлением, что он не какой-нибудь Сиверс, что не позволит собой вертеть и еще покажет всем, кто не признает его власть и отказывается выполнять его приказания, как именно они должны ему подчиняться.
Я сохранял хладнокровие и, не вдаваясь в объяснения, ограничился тем, что заметил ему: я пришел лишь затем, чтобы отдать ему положенный визит как представителю могущественной государыни, так как я стал ее подданным в результате последнего раздела страны. Теперь же, не в качестве министра Польши, а в качестве такого же, как он, подданного Ее Величества императрицы России, я смею спросить у него: по какому праву он позволяет себе упрекать человека, которому сама императрица не отказала в своей протекции?.. Далее я заявил, что, не будучи привычен к грубостям, я не потерплю их ни от кого; что он может разговаривать таким тоном со своими подчиненными или с теми, кто нуждается в его милостях; что же до меня самого, то я принял решение сложить с себя должность великого подскарбия литовского, покинуть немедленно Варшаву и отправиться в Петербург, что я предпочитаю быть последним из подданных императрицы, чем занимать один из первых постов в Польше.
Это заявление подействовало на Игельстрома как мановение волшебной палочки: морщины на лбу разгладились, гнев уступил место проявлениям вежливости и уважения. То ли он действительно пожалел о том, что дал волю своему буйному нраву, то ли испугался, как бы я и в самом деле не отправился в Петербург, но тон он сменил. Надо отдать ему должное, что после этого разговора он всегда проявлял ко мне большое уважение. Двадцать два года спустя, когда я встретил его уже в опале, удрученного годами и болезнями, он проявил ко мне внимание и предупредительность, словно пытаясь загладить передо мной ту вспышку гнева и заставить о ней забыть, хотя я с тех пор и не вспоминал о том случае.
Я использовал эту перемену в умонастроении Игельстрома, чтобы получить возможность удалиться из Варшавы. Я не хотел заседать в Постоянном совете, членом которого, к несчастью, являлся в качестве главы департамента финансов. К моему удовольствию, это мне удалось, и потому не пришлось голосовать за решения, навязанные посланником и вызывавшие во мне отвращение, – иначе неизбежно последовали бы новые столкновения с ним, которых я хотел избежать.
Через несколько дней после моего разговора с Игельстромом я получил письмо из Вены от гетмана Огинского, в котором он сообщал, что тяжело болен, и просил срочно приехать повидаться с ним. Я сообщил об этом российскому послу, и тот без всяких затруднений выдал мне паспорт. Я тут же отправился в дорогу, но некоторое недоразумение вынудило меня остановиться в Ольмюце[27]. Там меня и настиг курьер посла, к письму которого была приложена записка от короля: в ней была предупредительная, но и весьма настойчивая просьба не теряя времени вернуться в Варшаву ради государственных дел чрезвычайной важности. Я ответил в нескольких словах, что болен, что не продолжу путь в Вену и вернусь в Варшаву, как только позволит здоровье.
Я задержался еще на несколько дней в Ольмюце и за это время послал в Вену с верным человеком драгоценности, деньги и бумаги, принадлежавшие гетману Огинскому и бывшие у меня на сохранении. При этом я дал ему знать о причинах, по которым не мог продолжать свой путь в Вену.
Поскольку гонец, посланный мною, был человеком надежным, на которого можно было вполне рассчитывать, ему в Вене передали для меня письма, в которых сообщалось, что готовится заговор против поработителей Польши; что ядро этого заговора находится в зарубежной стране, которая не называлась; что тайные связи соединяют все провинции Польши и что они тянутся в самый центр Варшавы. Ранее или позднее разразится восстание, гибельное для русских и их сторонников, однако при этом трудно надеяться на благотворность его результатов для нашей несчастной страны.
В соответствии с различными характерами лиц, пославших мне эти письма, я находил в них больше или меньше подробностей, а также излияния чувств, страхи или надежды по поводу предстоящих событий, но все сходились в одном: идет скрытая, но активная работа как в самой стране, так и за ее пределами ради избавления от российского ига; готовятся силы для освобождения Польши и восстановления конституции 3 мая.
На деле я не имел никакого прямого сообщения с теми, кто оказывался во главе восстания, да и не мог иметь, так как, состоя в правительстве в период захвата Польши русскими, я вынужден был прекратить всякую переписку со своими давними друзьями. Хотя никто из них не подозревал меня в том, что я могу переменить свои взгляды, они все понимали, что не должны со мной общаться, что я не могу к ним присоединиться и что, поскольку я оставался в Варшаве, занимаемый мною пост не может внушать доверия обществу.
Я вернулся из путешествия в начале февраля 1794 года. Больше не было разговора о срочных делах, по поводу которых Игельстром и король считали необходимым мое присутствие в Варшаве[28].
Я заметил также, что Игельстром был вежлив, но сдержан со мной и даже не настаивал, чтобы я обязательно присутствовал на всех заседаниях Совета, от которых я уклонялся под предлогом состояния здоровья, которое еще не совсем восстановилось. Было очевидно, что посол не доверял мне и боялся моего влияния на короля и на то малое число членов Совета, которые были искренне преданы интересам родины.
Я еще раз воспользовался снисходительностью Игельстрома, чтобы заявить ему, что, прежде чем отправиться в Петербург, как я ему уже говорил, мне необходимо привести в порядок и завершить мои семейные дела в Литве по поводу контрактов в Минске и Новогрудке на месяц март.
Игельстром нашел мою просьбу уважительной, а поскольку вопрос о моей поездке в Петербург стоял по-прежнему и он побаивался, что я могу причинить ему вред, то без всяких затруднений согласился на мой отъезд. Однако, под предлогом облегчения моего проезда через расположение российских войск, он приставил ко мне сопровождающим унтер-офицера, очень сообразительного, которому было поручено, как я догадался вскоре, наблюдать за мной и следить за всеми моими действиями.
Это был последний раз, когда я виделся с Игельстромом в Варшаве. Я спешно покинул столицу и увидел ее вновь только после трагических событий, ареной которых она стала. Застал я этот город в состоянии, весьма отличном от того, в каком он был к концу февраля.
Чтобы изложить по порядку мои записи о восстании 1794 года, я решил, что должен отделить события, происходившие в Варшаве и польских провинциях, от тех, которые имели место в Вильне и вообще в Литве, хотя между ними была непосредственная связь и происходили они в одно и то же время.
Тому есть причины. Я узнал о восстании в Кракове и о том, что происходило в первые месяцы восстания в Польше, по устным пересказам, приказам по армии, прокламациям Костюшко и Верховного совета, а также из национальных газет.
Иначе обстояло дело с восстанием в Литве, многие события которого проходили перед моими глазами. Я находился в семи верстах от Вильны, когда там разразилось восстание. Через несколько дней я прибыл в этот город и был там избран членом Временного совета Литвы, позднее принял активное участие в военной службе, из которой выбыл только после захвата Вильны российскими войсками и отступления армии Литвы.
Чтобы дополнить записи о восстании в польских провинциях, которые я с течением времени собрал воедино, пришлось воспользоваться сведениями, полученными из малочисленных дошедших до меня источников, а именно: «Истории восстания в Польше в 1794 году, глазами очевидца», немецкого источника, опубликованного в Галиции, под названием «Versuch einer Geschichte, der letzen Polnischen Revolution», и наконец, «Мемуаров, найденных в Берлине, о восстании в Польше», написанных Пистором, главным квартирмейстером при генерале Игельстроме.
Что касается восстания в Литве, то о нем почти не идет речь в указанных источниках и некоторые сведения можно было найти в газетах, выходивших в это время в Вильне и в Варшаве. И я первый, кто может сообщить об этом восстании самые точные подробности: я черпаю их из своих записей, достоверность которых может быть подтверждена многими свидетелями, дожившими до того времени, когда я эти записи публикую.
Пусть не покажется удивительным, что я опускаю описание кровавых событий, имевших место в Варшаве и Вильне, – считаю нужным сосредоточиться на основных причинах самого восстания и его быстрого распространения. Здесь приведены различные прокламации и публичные акты, сопутствовавшие восстанию; основные военные события; воздействие, оказанное восстанием на характер нации в целом; порожденные восстанием страхи и надежды; достоинство, мудрость и скромность его выдающегося вождя, а также военные способности и гражданские добродетели тех, кто поддержал его порыв.
Глава II
Я возвращаюсь пока в Варшаву того времени, в которое я ее покинул, – в последние дни февраля. Несмотря на многочисленный гарнизон российских войск, стоявший в этом городе, несмотря на суровость Игельстрома и активную бдительность полиции, население Варшавы находилось в постоянном возбуждении, которое с трудом сдерживали люди благоразумные и осторожные. Это возбуждение часто проглядывало из-под личины кажущегося спокойствия, и Игельстрому было об этом известно.
Начиная с 1792 года, когда генерал Каховский вошел со своим войском в Варшаву, недовольство ее жителей проявлялось открыто. Создавались тайные общества, развешивавшие на углах улиц революционные воззвания, которые беспокоили и тревожили представителей российской власти. Это положение еще более усугубилось с прибытием Игельстрома и особенно во время Гродненского сейма, а затем – после известия о разделе Польши. Волнение нарастало вместе со всеобщим отчаянием, вызванным последними катастрофическими событиями. Оно быстро распространялось на области, оставленные Польше, и ощущалось даже в тех областях, которые были захвачены неприятелем и отделены от нее. Впрочем, патриоты действовали с такой предусмотрительностью и скрытностью, что им удавалось утаить от бдительной полиции Игельстрома свои прямые связи с польскими эмигрантами. Те же имели самые точные сведения о том, что происходило в Польше.
Помимо тайных собраний, на которых все их члены высказывали открыто свои мнения и взгляды, люди без опасения разговаривали в семьях и даже в обществе – если там не присутствовали русские. Вслух жаловались на то, что враги Польши отождествляют поляков с французами, что с французами воюют за то, что они уничтожают монархию, тогда как с поляками – за то, что они ее укрепляют. В головах не укладывалось, как можно именовать «якобинцами» равно и тех, кто убил короля, и тех, кто гарантировал права монарха, стремился поднять его авторитет и укрепить его власть.
Обвиняли посланника Сиверса в том, что он употреблял свое влияние в дворянских собраниях на то, чтобы нунциями были избраны люди, преданные России; что он применял жесткие меры, чтобы заставить молчать тех членов сейма, которые осмеливались не разделять его мнений: наказывал их секвестром их земель или арестом и депортацией под конвоем казаков.
Как можно, говорилось, третировать ассамблею представителей свободной нации как сборище рабов! В конечном счете, почему бы просто не воспользоваться правом сильнейшего и опорой на армию, чтобы осуществить раздел Польши?.. Тогда мы были бы покорены, потому что не имели достаточно силы сопротивляться, но мы не были бы унижены, опозорены и доведены до отчаяния! Не думают же, что раздел Польши стал более законным от того, что он был утвержден сеймом, который состоял из представителей нескольких воеводств и областей, исключенных из раздела?.. Почему не позволили жителям областей и воеводств, захваченных российскими и прусскими войсками, избрать своих представителей на сейм, чтобы решить там самим свою судьбу? Если бы они проголосовали за отторжение тех областей, от которых они были посланы на сейм, то были бы, по крайней мере, соблюдены формальности и этому вынужденному согласию была бы придана хотя бы видимость законности и права. По какому праву могли представители трети нации, в отсутствие двух ее третей, обсуждать предложения о разделе Польши?.. Как меньшинство свободной нации могло решать судьбу большинства – тем более когда речь шла о его покорении и переходе под чужеземную власть?..
Подобные речи передавались из уст в уста и ни у кого не встречали возражений. Со временем они распространились настолько, что люди стали меньше сдерживаться даже в присутствии русских. Количество уличных воззваний возрастало день ото дня – и с ними росло общее воодушевление и взаимное побуждение к действиям.
Пьесы, шедшие в театрах, содержали под видом фарса, смешившего самих русских, намеки на определенные обстоятельства и пикантные выпады, которые были хорошо понятны патриотам и еще более возбуждали их воображение.
Шел тайный обмен брошюрами о конституции 3 мая, о нынешнем состоянии Польши и о надеждах на будущие перемены. Доходили известия из Франции, несмотря на всяческие предосторожности, которые должны были такие известия исключить. Наконец, хотя и существовала суровая цензура для газет, издатели которых подчинялись приказам посланника, но сторонники правого дела находили возможности поместить в них статьи, не имевшие по видимости ничего подозрительного, но содержавшие важные сведения для тех, кто имел к ним ключ.
Тем временем сторонники российских властей, со своей стороны, докладывали Игельстрому обо всем, что им удавалось узнать, и зачастую даже прибавляли клевету к действительным фактам – чтобы преувеличить свои заслуги перед ним и получить за это вознаграждение. Министр с каждым днем все более мрачнел, его подозрения усиливались, участились аресты. Внезапно произошло событие, все обстоятельства которого были известны лишь немногим, но оно довело его до такого отчаяния, что он едва не потерял голову.
Некий молодой поляк непредусмотрительно уронил на улице брошюру в сорок страниц под названием «Nil dеsperandum»[29]. Агент полиции поднял ее и отнес Игельстрому.
Автор этой брошюры, одержимый демагогической экзальтацией, сначала распространялся в нападках на русских, затем обвинял короля Польши в трусости и наконец заявлял: он считает предателями родины и недостойными имени поляка тех, кто не поклянется перерезать всех русских в Варшаве, а также их сторонников, не исключая самого короля и всех, кто его поддерживает.
Эта брошюра на французском языке, сам стиль которой указывал, что этот текст вышел из-под чужеземного пера, была напечатана во Франции, но место издания в ней было заменено на «Варшаву». Все поляки, даже самые рьяные свободолюбы, ужаснулись этой писанине и были возмущены теми идеями, которые в ней проповедовались. Они не сомневались в том, что только враг правого дела мог намеренно пустить ее по рукам, чтобы дать угнетателям Польши новый предлог для ужесточения ее участи.
Игельстром заставил подробно рассказать ему, как была найдена эта брошюра, и затем отнес ее королю. Тот прочел ее, дрожа и бледнея, и с беспокойством спросил, что же теперь делать. Игельстром, видя его слезы и тревогу, не дал воли своему резкому нраву, но сказал решительным и твердым тоном, что пора положить конец подобным проявлениям и что начинать надо немедленно с реформирования польской армии, которая не должна превышать пятнадцати тысяч человек. Покидая короля, он поклялся, что в двадцать четыре часа найдет автора этой подстрекательской брошюрки, арестует и сурово накажет тех, в чьих домах найдет ее копии. Однако ни того, ни другого он сделать не сумел, так как слух об этом происшествии и об угрозах Игельстрома быстро дошел до людей, и у них было время сжечь и уничтожить все разошедшиеся экземпляры. Издателя также не нашли, так как было установлено, что во всем городе не имелось шрифта, подобного тому, которым была набрана эта брошюра. И сам автор, который явно являлся агентом французских якобинцев, нашел способ, переодевшись, поспешно скрыться из Варшавы под покровом ночи.
Обо всем этом я узнал от самого короля, когда шесть месяцев спустя прибыл туда в разгар восстания: он поведал мне все подробности и показал эту брошюру – он ее сохранил. Король сказал мне, что ее автором был некий Шарль Роке: это он сбежал из Варшавы, переодевшись иудеем, а затем был арестован как шпион польским корпусом Мадалинского; что с ним стало потом – неизвестно. Король дал мне понять, что некоторое время даже подозревал, что этот текст мог выйти из-под пера какого-нибудь поляка, так как уже тогда среди них, как он полагал, было немало таких, кто уподоблялся французским демагогам. Однако затем он увидел, что, даже когда восстание уже началось, отношение к нему оставалось уважительным, и он еще и еще раз имел возможность убедиться в лояльности и благородстве польского характера.
Я обязательно вернусь вскоре к рассказу о последствиях беседы короля с Игельстромом, к ноте, переданной им Постоянному совету, в которой он требовал сократить польскую армию к 15 марта, расскажу о дебатах, вызванных этой нотой, и о результатах, которые неизбежно должны были последовать за этим требованием Игельстрома и принятием его большинством сейма. Но, поскольку я приближаюсь в своем повествовании ко времени начала восстания в Польше, мне необходимо прежде рассказать, как оно готовилось за пределами страны, каковы были его движущие мотивы и на чем основывались связанные с ним надежды.
Среди главных эмигрантов, покинувших Польшу после вхождения в нее российской армии в 1792 году и отправившихся в Дрезден и Лейпциг, были Игнаций Потоцкий, Коллонтай, Малаховский, Тадеуш Мостовский и Костюшко. Это были люди, исключительно преданные интересам родины, неизменно приверженные принципам конституции 3 мая, исполненные решимости любой ценой освободить соотечественников от иноземного порабощения. Их сердца разрывались от боли, когда они узнали, что Тарговицкая конфедерация ниспровергла все решения конституционного сейма, но их отчаяние достигло предела, когда они получили известие о новом разделе Польши.
Они были убеждены, что Польша не может самостоятельно выйти из состояния подавленности без помощи какого-либо иностранного государства, и потому ими были употреблены все возможные средства, чтобы в Европе узнали о печальном положении их родины и о том перевесе в силе, который получили Россия и Пруссия в результате недавнего раздела Польши.
Они доказывали, что этот раздел является попранием самых священных прав, что существование Польши совершенно необходимо для поддержания политического равновесия в Европе, но все их попытки убеждения были бесплодны.
Австрия занимала пассивную позицию с самого начала Гродненского сейма: все ее силы были обращены в сторону Франции, но она, вне всякого сомнения, рассчитывала получить свою долю в разделе Польши, когда таковой произойдет. При этом она не несла никаких расходов по организации военных действий и не портила отношений с государствами, вместе с которыми выступала против революционной системы в Европе.
Турция, истощенная последними кровавыми войнами против Австрии и России, была не в состоянии оказать военную помощь Польше, даже если бы того захотела. Впрочем, посланник России в Константинополе, который приобрел большое влияние в Диване, распространял там неблагоприятные представления о поляках и с успехом перевешивал те усилия, которые употреблял там же в пользу поляков французский посланник Декорш[30].
Франция всегда была естественным союзником Польши. Между этими государствами всегда существовали близкие отношения. С самого начала конституционного сейма высказывания версальского двора свидетельствовали о явном его интересе к судьбе Польши. К несчастью, французская революция, призванная изменить всю политическую систему Европы и имевшая целью обеспечить народам свободу и независимость, на самом деле более какого бы то ни было другого исторического события повредила намерениям Польши избавиться от иноземного владычества. Эта революция повлекла за собой целую череду преследований, катастроф и несчастий и тем самым доставила соседям Польши удобный предлог для ее раздела.
В этом легко убедиться, если всмотреться в то, насколько французская революция изменила образ мыслей и политическую деятельность короля Пруссии – заставила его отказаться от альянса с поляками и сблизиться с Россией. Она же заставила короля Швеции отказаться от его враждебных намерений по отношению к России. Польша была предоставлена ее несчастной судьбе, так как шло всеобщее вооружение против революционной Франции. Из-за этой революции послы Франции утратили прежнее влияние в Константинополе и, наоборот, повысилось доверие к России и укрепилось ее влияние в Турции. Наконец, из-за нее Польшу оставили прежние и новые союзники, предоставили ее самой себе и покинули на произвол ее соседей.
Таковы, конечно, не были намерения французов, так как эта нация всегда была заинтересована в том, чтобы иметь Польшу своим барьером с севера. Дальнейшие события показали, насколько важна Польша для спокойствия и благополучия всей Европы. Нельзя, конечно, обвинять французов в том, что они вызвали катастрофу Польши, и еще менее – в том, что они сделали это сознательно, но нельзя оправдать и их нежелание помочь польским патриотам, когда они в 1794 году подняли восстание в своей стране.
Польский гражданин Барсс, бывший адвокат, принимавший активное участие в составлении конституции 3 мая, чья верность и честность были общепризнанными, был уполномочен своими соотечественниками-эмигрантами, собравшимися в Дрездене, отправиться с поручением в Париж. Там он представил республиканскому правительству план революции в Польше, – этот план был встречен общим одобрением и энтузиазмом. Посланец дал понять, насколько необходима Польше любая помощь в этом важном и смелом предприятии… Комитет общественного спасения нашел эту просьбу справедливой и обещал сделать все, что возможно. Этим, однако, переговоры и ограничились.
Швеция была единственным государством, которое, когда началось восстание 1794 года, открыто заявило о своем возмущении последним разделом Польши. Ее посланник, барон Де Толль, присутствовавший в Варшаве, не только поддерживал храбрость поляков и побуждал их к тому, чтобы сбросить российское иго, но даже давал понять, что в случае необходимости Швеция не откажется поддержать усилия поляков.
Польские эмигранты, объединившиеся в Саксонии, тоже не питали больших надежд на воззвания, посылаемые с эмиссарами в разные концы Европы. Они были вынуждены ускорить принятие мер, которые считали необходимыми: так, полагаясь на сообщения, получаемые от организации заговорщиков в Варшаве, они предоставили воле Провидения исход самого дерзкого предприятия, которое только можно было вообразить[31].
Не возникло никакого затруднения с выбором того, кто должен был возглавить армию и кому следовало предоставить неограниченную власть. Общее мнение возвело на эту должность генерала Костюшко. Его боготворили польские военные, уважали и почитали все честные люди, обожала вся нация. Достойный ученик Вашингтона, под началом которого он сражался за свободу и независимость Америки, он вкладывал все силы души в любовь к родине и в исполнение своего долга перед ней. Его честолюбие служило только родине, его слава – пользе родины, счастьем для него была возможность пролить свою кровь ради ее спасения.
Именно такой вождь был нужен польской нации – и Актом Краковского восстания он был провозглашен генералиссимусом. Вся нация считала его благодетелем и спасителем Польши.
Глава III
Мы уже видели, что генерал Игельстром самым настойчивым образом требовал, чтобы Постоянный совет безотлагательно занялся сокращением польской армии, от которой должно было остаться лишь пятнадцать тысяч человек. Этот приказ, сопровождаемый угрозами, должен был быть выполнен к 15 марта. К тому времени армия Польши состояла примерно из тридцати тысяч человек: как было сказано выше, часть ее была сокращена сразу же после кампании 1792 года, и еще около двадцати тысяч, окруженные неприятельскими войсками и расположенные в разных частях Польши, которые недавно были отделены от нее в результате раздела, входили теперь в состав российской армии.
Постоянный совет не имел ни силы, ни власти противиться воле Игельстрома. Лишь два-три его члена осмелились высказать какие-то возражения, но затем большинством было принято решение обратиться к начальнику военного департамента с распоряжением произвести сокращение армии в соответствии с планом, переданным посланником, и затем разослать приказы на этот счет командирам тех корпусов, которые должны были подвергнуться расформированию.
Мадалинский был первым, кто поднял флаг восстания. Он со своей бригадой стоял в Пултуске, в восьми лье[32] от Варшавы, и получил приказ распустить корпус, которым командовал. Вместо того чтобы выполнить этот приказ, он объявил, что его корпус уже два месяца не получает жалования и что он не рискует приступить к его сокращению, пока его солдаты не получат жалования. После такого ответа, который был лишь предлогом, чтобы выиграть время, он отправился маршем на Краков с намерением соединиться с Костюшко.
Проходя через Млаву, он послал отряд в Зольдау, чтобы захватить казну, принадлежавшую прусскому командованию, и там оставил расписку от имени казны Речи Посполитой. Оттуда он направился в Серпск – это было 15 марта – и там взял в плен нескольких прусских офицеров. Затем он пересек Вислу в районе Вышгорода, прошел вдоль границ южной Пруссии и перешел их, чтобы пройти через Сохачев и Раву до Ново-Място, – он дошел туда, не встретив никакого сопротивления.
Генерал Игельстром при первом же известии об отважном предприятии Мадалинского обратился к Постоянному совету с требованием, чтобы тот отправил в преследование за ним польский корпус: следовало заковать в цепи и привезти в Варшаву этого офицера-бунтовщика, который воспротивился приказам командования. В ответ ему возразили, что этот польский корпус первым же и присоединится к так называемому бунтовщику. В результате Игельстром отправил русского бригадного генерала Багреева и майора Нечаева с несколькими эскадронами кавалерии и батальоном инфантерии, чтобы пресечь и остановить марш бригады Мадалинского, которая угодила бы между двух огней, если бы приказ Игельстрома был выполнен быстрее, чем Мадалинский успел проложить себе путь.
Мадалинского потом упрекали в том, что он не воспользовался отсутствием прусских войск на границе, чтобы продвинуться дальше в недавно занятые области Польши. Возможно, если бы он воспользовался тем страхом, который он навел на пограничников и новоназначенных прусских чиновников, бежавших при его приближении, он мог бы произвести серьезное вторжение в эти недавно захваченные области, где население дышало ненавистью и местью против пруссаков и хранило бесконечную преданность родине, от которой их отторгли.
Можно предположить, что его ресурсы и силы могли бы быть значительно увеличены, прежде чем прусские войска, размещенные в Силезии и маркграфстве Бранденбург, успели продвинуться и вынудили его отступить. Я не знаю, каким мог бы быть результат в данном случае, но достоверно то, что несколько месяцев спустя те же «новые» прусские подданные, без всякой помощи со стороны регулярной армии, дали самые убедительные доказательства своей храбрости и патриотизма: поддержали восстание согласованными действиями в тылу прусской армии и тем вынудили короля, командовавшего ею, снять осаду Варшавы.
Возможно, Мадалинский действовал так по полученному им приказу соединиться с Костюшко, потому что он не воспользовался своим преимуществом и отправился на Краков. Как бы то ни было, он благополучно прибыл со своей бригадой, усиленной многими новыми рекрутами, в Сандомирское воеводство и там 25 марта встретился около Пинхова с генерал-лейтенантом Лыкошиным, который покидал Краков с российским корпусом в пятьсот человек. Мадалинский уклонился от битвы, а на марше этого российского корпуса к Опатову с ним столкнулась бригада Валевского. Сам же Мадалинский постарался пробиться через другие российские корпуса, загораживавшие ему путь, и двинулся к Кракову.
Костюшко, по возвращении из Италии в Дрезден, получил известия о первых передвижениях Мадалинского и без колебаний немедленно отправился в Краков. Российский корпус в пятьсот человек только что покинул город. Четыре сотни поляков по главе с Водзицким встретили Костюшко с беспримерным энтузиазмом, который был разделен всеми жителями окрестностей, сбежавшимися приветствовать своего освободителя.
24 марта 1794 года он был провозглашен генералиссимусом армии, и все, кто был в Кракове, принесли ему присягу. Со своей стороны, Костюшко принес клятву верности нации и приступил к выполнению своего долга.
Специальный Акт Краковского восстания доверил Костюшко осуществление диктатуры, действие которой должно было прекратиться лишь с освобождением Польши. Одновременно был учрежден Национальный совет, выбор членов которого был доверен верховному руководителю.
Генералиссимус направил обращения к армии и населению, издал универсалы, чтобы объединить дворян и буржуа, учредил комитет воеводства, восстановил буржуазию в правах гражданства, назначил коменданта Кракова и через шесть дней покинул город, чтобы соединиться с корпусом Мадалинского, которого преследовали семь сотен русских под командованием Денисова и Тормасова.
За Актом восстания немедленно последовал указ, единодушно воспринятый всеми жителями Краковского воеводства, в соответствии с которым все молодые люди от восемнадцати до двадцати семи лет обязаны были по первому же призыву присоединиться к армии генералиссимуса. Кроме этого, все жители городов и сел должны были вооружиться и быть готовы действовать в соответствии с распоряжениями, которые они получат.
Для пополнения фондов было решено, что каждый гражданин должен сделать денежное вложение, пропорциональное своим доходам, в соответствии с принятым общим указанием. Эти вложения существенно увеличили прежние повинности граждан.
Сверх того, было объявлено, что население обязано доставлять зерно из имевшихся в амбарах запасов и все необходимое для содержания армии, так же как сменных лошадей, подводы для перевозок разного рода снаряжения и людей для восстановления дорог – все это в соответствии с приказами генералиссимуса в обмен на расписки, выдаваемые им самим или подчиненными ему офицерами, которых он уполномочит его заменить.
Костюшко собрал все находившиеся в запасе силы в Кракове, а также присоединил к нескольким тысячам линейных войск большое количество крестьян, вооруженных косами, которых едва успели немного обучить за несколько дней. Он покинул город 1 апреля и двинулся в сторону Скалмерса, где должен был атаковать два российских корпуса под командованием Денисова и Тормасова, которые были высланы навстречу ему Игельстромом.
4 апреля у села Раславице завязалась битва между корпусом генерала Тормасова и польской армией. После пяти часов ожесточенного боя поле битвы осталось за поляками. Они захватили одиннадцать пушек, знамя и многих пленников.
Эта победа в любое другое время не имела бы такого уж большого резонанса, но в самом начале кампании она произвела удивительный эффект: напомнила о доблести польских воинов, укрепила доверие солдат к своему вождю, показала крестьянам, что можно идти с их косами против огнестрельного оружия, и ускорила распространение восстания по всей стране.
Нельзя не упомянуть здесь о дерзкой храбрости польского крестьянина Гловацкого, который, увидев, что неприятельский канонир собирается выстрелить из пушки картечью, бросился на него, заткнул запал шапкой, опрокинул канонира ударом косы и тем самым дал другим крестьянам время завладеть пушкой и утащить ее на свои позиции.
Легко представить себе, какое впечатление на жителей Варшавы производили новости, доходившие до них начиная с 24 марта. Все с жадностью читали Акт Краковского восстания, распоряжения жителям этого воеводства и прокламации Костюшко. Даже наименее восторженные и самые робкие граждане поздравляли друг друга с тем, что верховное командование было поручено человеку, который пользовался всеобщим доверием. Они понимали, что порядок и организация всех последующих действий были установлены с общего согласия, разумно и взвешенно. Им было известно, что все военные принесли присягу Костюшко без всяких колебаний. Наконец, они знали и о том, что повстанцы толпами отправлялись в костел Святой Марии, чтобы перед ее алтарем засвидетельствовать правоту своего дела и принести клятву не марать кровавыми делами, которые обычно сопровождают всякую революцию, тот Акт о восстании, который они подписали.
Радость всех добрых патриотов возросла еще более, когда стало известно, что в том же костеле состоялось чтение конституции 3 мая, которое было выслушано с энтузиазмом, но в почтительной тишине. Все присутствующие единодушно поклялись хранить верность конституции, не щадя своей крови и состояния.
И конечно, восторг жителей Варшавы и всей страны не имел границ, когда стало известно о первом успехе Костюшко в сражении под Раславице, но чем больше радости проявляла столица, тем более суровые меры принимал Игельстром, чтобы ее подавить.
Многие лица, осведомленные в польских делах, утверждали, что если бы Сиверс не был отозван, то он мог бы предотвратить пролитие крови в ходе революции 1794 года.
Один из авторов, говоря о Сиверсе, уверял, что «его характер не был ни в коей мере злым или бесчувственным; насильственные меры, принятые им в Гродно, были лишь следствием полученных им приказов; это был умный человек и с молодых лет наученный вести дела; он был осторожен и никогда не выходил из себя без особой надобности».
Тот же автор утверждает, что его разумное и сдержанное поведение могло бы предотвратить и появление Акта восстания, и кровавые события в Варшаве, которые последовали за ним. То есть он смог бы упредить ожесточение поляков и не довел бы их до крайней степени отчаяния. Автор предполагает даже, что, в случае если бы восстание и произошло, Сиверс смог бы применить меры более действенные и более уместные в данных обстоятельствах, чтобы пресечь восстание в корне.
Как бы то ни было, бесспорно, что Игельстром сделал все возможное, чтобы вывести из терпения, ожесточить и унизить поляков, и не сделал ничего из того, что было в его власти, чтобы предотвратить или, по меньшей мере, приостановить развитие этого достопамятного восстания, которое мелькнуло мгновенным блистательным метеором на политическом горизонте Европы и явило собой последний порыв поляков к свободе перед окончательным падением их родины.
Глава IV
Прусский король поручил своему представителю в Варшаве Бухгольцу вручить ноту польскому правительству, чтобы потребовать объяснений по поводу вторжения на прусскую территорию польского корпуса под командованием Мадалинского.
Игельстром в свою очередь передал королю и Постоянному совету грозную ноту по поводу происшедшего в Кракове, в которой требовал объявить врагами и предателями и поставить вне закона всех вождей этого очередного восстания.
Поверенный в делах венского двора Де Каше тоже представил свою ноту, негодуя насчет слухов о том, что его двор с безразличием относится к Краковскому восстанию и даже вошел в сговор с повстанцами. Он категорически отрицал такие предположения и заявлял, что венский двор полностью разделяет мнения Берлина и Петербурга.
Ответы, данные на эти ноты, были продиктованы Игельстромом. Чтобы буквально выполнить распоряжения этого жесткого министра, король Польши подписал прокламацию от 11 апреля 1794 года, в которой открыто осуждал Краковское восстание и обвинял повстанцев в следовании крайним революционным идеям французов. Он высказывал сожаление по поводу того, что повстанцы, не имея поддержки и достаточных сил, в своем необдуманном рвении бесполезно истощают силы. Он предписывал также всем властям следить за тем, чтобы в публичных актах не могли появиться высказывания, направленные против религиозных убеждений, королевского трона, правительства, нравов, чести граждан, священного права собственности, прерогатив военного сословия. Если же таковые высказывания обнаружатся, то они должны быть немедленно изъяты и препровождены в Постоянный совет, чтобы он принял самые жесткие меры против авторов этих подстрекательских писаний, поскольку таковые лица подлежат наказанию как возмутители общественного спокойствия.
Покорность, с которой Постоянный совет подчинялся приказам Игельстрома, довершила возмущение жителей Варшавы, и они с нетерпением ожидали начала всеобщего восстания.
Можно судить о том положении, в котором находилась Варшава и вся Польша, и о беспокойстве и тревогах генерала Игельстрома по его письму в Петербург от 16 апреля в адрес военного министра (оно было перехвачено поляками):
«Вся армия Польши численностью восемнадцать тысяч человек охвачена восстанием, за исключением разве что четырех тысяч, составляющих гарнизон Варшавы. Конфедерации Кракова, Сандомира, Люблина, Хелма, Владимира и Люка основаны на якобинских принципах. Восстание распространяется очень быстро, его размах пугает. Мне самому угрожает конфедерация Люблина, и я могу надеяться только на Бога и на благодеяния моей государыни. Литва, бесспорно, не преминет присоединиться к Короне. Прошу Вас, во имя Господа, самым серьезным образом принять во внимание то, о чем я Вам сообщаю, так как нам необходимо разделаться с этим новым неприятелем, прежде чем начать войну с Турцией. Вышлите армию генерала Салтыкова, и мир вскоре водворится. Затем его может заменить Суворов, и я Вам гарантирую, что через два месяца в Польше восстановится прежний порядок. Можно не брать в расчет пруссаков и австрийцев: Богу известно, во что превратились их войска, ранее считавшиеся отменными. Пруссаки уже не те, какими были при Фридрихе II. Похоже, они способны лишь держать оборону. Они претендуют на образцовость – и боятся всего. Более того, батальон у них состоит всего из двухсот человек, а эскадрон – из пятидесяти кавалеристов. Можно судить по этому, в каком грустном положении я нахожусь, будучи вынужденным поддерживать порядок на столь обширной территории, в постоянном окружении врагов и шпионов, не получая поддержки ни от союзников, ни от наших войск. Наши же следовало бы использовать по крайней мере для того, чтобы отдалить от наших границ пожар крестьянского бунта, пока двор предпримет другие меры. Подумайте обо мне и займитесь безопасностью нашей родины.
Примите и т. п.
Игельстром».
В тот же день Игельстром приказал Постоянному совету собраться в восемь часов утра, и уже в одиннадцать часов послал им предписание арестовать двадцать наиболее значительных лиц, которых он указал.
Совет поручил великому канцлеру князю Сулковскому передать устное возражение генералу Игельстрому, но тот разразился угрозами и потребовал, чтобы его приказ был неукоснительно выполнен. Князь Сулковский, вернувшись в Совет, получил апоплексический удар и через некоторое время умер. Совет не замедлил сделал то, чего от него требовал Игельстром.
Автор «Мемуаров о польском восстании, найденных в Берлине», упоминает о двадцати шести арестованных вместо двадцати и датирует это событие днем раньше, чем я. Он пишет: «Требование, составленное в сильных выражениях, которое генерал Игельстром направил Постоянному совету 15 апреля и в котором требовал ареста двадцати шести подозрительных лиц, способствовало, несомненно, возбуждению умов и ускорило вспышку восстания».
Генерал Игельстром счел долгом направить часть своих войск из Варшавы навстречу повстанцам и не переставал торопить прусского генерала Шверина присоединиться к корпусу Денисова и идти маршем на Краков. В то же время он написал прусскому генералу, который командовал несколькими частями в окрестностях Закрошима, перейти Вислу и расположить их в селах вблизи Варшавы. Вероятно, он опасался лишь приближения армии Костюшко и не был готов к восстанию в самой Варшаве, где были приняты настолько продуманные меры, что перед самым началом восстания обстановка в городе казалась совершенно спокойной.
Впрочем, Игельстром решил все же разоружить польский гарнизон, и, чтобы осуществить свой план, он сообщил о нем гетману Короны Озаровскому и польному гетману Литвы Забелло[33]. Он наметил для этого 18 апреля, так как это был праздничный день, и генерал предполагал, что, поскольку все будут в костелах, у него есть меньше оснований опасаться сопротивления.
По его приказу, все костелы должны были быть закрыты и охраняемы. Все казармы, арсенал и склады пороха – заняты русскими войсками, разоружение польского гарнизона должно было осуществиться как можно быстрее.
Те, кому Игельстром доверил свои намерения, направили секретный приказ командующему полком инфантерии Короны присоединиться к русским и остановить поляков, если среди них начнется движение. Кроме того, был отдан приказ казакам поджечь четыре квартала города, чтобы пожаром отвлечь внимание жителей, в этой суматохе вывезти короля и облегчить выполнение плана генерала в целом.
Этот план мог иметь самые трагические последствия для армии Костюшко, против которой были бы затем брошены все силы русских и пруссаков, если бы в столице восстановилось спокойствие. Но произошло то, что в тот же день, когда эти приказы были отданы, все посвященные в замысел восстания отправились к Килинскому, чтобы держать совет о том, что следует предпринять.
Времени нельзя было терять, особенно тем, кто был занесен в проскрипционный список, так как Игельстром назначил исполнение своего плана на 18 апреля. Решено было упредить его и начать восстание 17-го числа.
В этой спешке не было возможности составить свой продуманный план восстания, так как не было того главного, кто мог бы его набросать за столь короткое время и передать нужные распоряжения польским воинским частям, а также жителям различных кварталов города. Таким образом, оставалось только одно – отдаться на волю Провидения и довериться усердию каждого из восставших. В успехе никто не сомневался, так как все, кто должен был действовать, были едины в своих стремлениях. Отчаяние дало толчок, а случай помог одному из самых дерзких предприятий, когда-либо совершавшихся.
Единственной мерой, которую приняли заговорщики, собравшиеся у Килинского, – было решение связаться с офицерами польских частей, чтобы убедиться в их верности и договориться с ними о захвате арсенала. Начать нужно было именно с этого захвата. Он должен был стать сигналом к восстанию и в то же время необходимым шагом, чтобы опередить русских, обеспечить себя пушками и вооружить всем необходимым народ.
Заговорщики разошлись, поклявшись победить или умереть за родину.
Глава V
Я опускаю в своих записках описание кровавых событий, имевших место в Варшаве 17 и 18 апреля 1794 года. Мне достаточно привести здесь отрывок из «Мемуаров» Пистора, главного квартирмейстера российского войска при генерале Игельстроме, чтобы дать представление о первых шагах восстания. Тогда меня, как поляка, нельзя будет обвинить в предвзятости, поскольку я привожу здесь слово в слово рассказ русского офицера – свидетеля событий.
«Накануне восстания, – пишет он, – я, как обычно, оставался у генерала Игельстрома до одиннадцати часов вечера. Уйдя от него, я еще зашел к прусскому посланнику и покинул того после полуночи.
На улицах было спокойно; чем ближе было к началу восстания, тем менее было похоже на то, что оно должно вскоре разразиться. Говорят, однако, что вечером 16-го более пятидесяти тысяч патронов передали из рук в руки в разных кварталах города.
После трех часов утра было замечено движение в арсенале. После четырех часов отряд конной гвардии вышел из казармы и атаковал наш пикет, стоявший с двумя полевыми орудиями между этой казармой и железными воротами сада Саксонского дворца.
Пикет защищался и дважды выстрелил из пушки в неприятельский отряд, но тот был больше численно и принудил наш пикет отступить. Отряд изрубил на куски колеса наших пушек и вернулся в казарму. Вскоре выступила вся конная гвардия: два эскадрона отправились в арсенал, и два – на склады пороха.
Этой атакой были начаты открытые враждебные действия поляков против наших войск. Затем от арсенала послышалось несколько пушечных залпов – это были сигналы польским частям стать на свои места, а также сигналы для сбора населения.
Генерал Цихоцкий прежде всего послал приказ полку Дзялинского войти в город и идти ко дворцу. Он кричал из своих окон народу: «К оружию! К оружию!»
В арсенале раздавали сабли и ружья всем, кто хотел. Их бросали даже из окон прохожим.
Гвардейский полк Короны тоже вышел из своей казармы и с большой решимостью направился к складам пороха. Оттуда один батальон отправился ко дворцу, а другой – к арсеналу, после того как три отряда ополчения казначейства сменили их у складов пороха.
Эти отряды рано утром переправились через Вислу на лодках и пошли к арсеналу, где их снабдили оружием, а оттуда они направились к складам пороха. По дороге в арсенал они прошли мимо двух групп русских, стоявших на Долгой улице. Когда об этом доложили генералу Игельстрому, он приказал пропустить их, так как не хотел начинать боевые действия вблизи от своего квартала.
Эскадроны национальной кавалерии, расположенные в Праге, также пересекли Вислу и направились к арсеналу. Сначала они занимали посты на улицах, прилегающих к арсеналу, затем стали сражаться спешившись и рассыпались по домам, чтобы из окон стрелять по русским.
Генерал Игельстром, которому доложили о враждебных действиях отряда конных гвардейцев против нашего пикета, приказал сначала генерал-лейтенанту Апраксину расставить наши войска на посты. В то же время он направил послание королю, чтобы узнать у него о причинах происходящего.
Я не знаю, каков был ответ короля; Е[го] В[еличество] и генерал Игельстром обменялись несколькими посланиями.
Бывший главный капеллан, князь Казимир Понятовский один раз приходил к генералу от имени короля, но мне неизвестно содержание всех этих посланий … и т. п. и т. д.»[34]
В этих «Мемуарах», отрывок из которых я привел, можно найти подробное описание передвижений всех польских частей, а также описание мер жесткого сопротивления, оказанного им. Там же можно найти рассказ о боях, имевших место на улицах Варшавы, о нападении на резиденцию генерала Игельстрома и персонала российской дипломатической миссии и об ожесточенной ее защите.
В этих же «Мемуарах» можно найти советы, которые автор, офицер службы при Игельстроме, давал ему насчет того, как следует действовать в такой критической ситуации; наконец, рассказ о том, как было устроено бегство генерала, чтобы спасти его от неминуемой гибели.
Бесполезно искать в них доброго отношения к полякам, на которых у автора было столько причин жаловаться. Удивительно, однако, читать в ремарках Пистора, следующих за этими трагическими картинами, что число людей из народа и военных, действовавших тогда против русских, было намного меньше количества войск, которые были у Игельстрома в городе и которые он мог употребить против поляков. Перечисляя польские воинские части и отряды вооруженного населения, находившиеся в разных местах города, он указывает число около тысячи двухсот у первых и около тысячи – у вторых.
Один офицер из прусских гусар был послан в Варшаву генералом Вольки, который находился со своим корпусом в окрестностях города. Днем 17-го числа он предупредил о своем появлении звуком трубы и осведомился, относятся ли в Варшаве к пруссакам как к друзьям или врагам и признают ли Станислава Августа королем Польши. Ему ответили, что никто не отказывает в уважении королю и что ему всегда были привержены, что на пруссаков не будут нападать, если они будут держаться вдали от города и от склада пороха.
Через некоторое время польские уланы, охранявшие склад пороха, приблизились к прусскому лагерю, и тогда генерал послал к ним офицера, которого беспрепятственно пропустили. Ему было поручено спросить короля Польши, являются ли эти уланы сторонниками Его Величества или они действуют против него. Ответ короля был, что он и его нация составляют единое целое, что русские – единственные их враги и что он рад тому, что прусский генерал не предпринимает никаких враждебных действий.
Из военных донесений, найденных в захваченных бумагах Игельстрома, стало известно, что русский гарнизон состоял из семи тысяч девятисот сорока восьми человек, из которых за два дня Варшавского восстания погибло две тысячи двести шестьдесят пять и было ранено сто двадцать два. Кроме этого, сто шестьдесят один офицер попал в плен, попали в плен и тысяча семьсот шестьдесят четыре солдата, включая тех, что оказались в руках поляков в окрестностях Варшавы до начала мая.
Были захвачены архивы российской миссии и личной канцелярии Игельстрома, найденные в его резиденции. Из них узнали о его переписке и связях со многими лицами из поляков. Эти документы послужили затем обвинительными свидетельствами против тех, кто сильно себя скомпрометировал, – их освистал народ, их два дня подвергали издевательствам, а затем – и смертной казни, которой они не могли избежать посреди взрыва общей ненависти к сторонникам России.
В резиденции Игельстрома, захват которой стоил большой крови одной и другой стороне, невозможно было удержать народ от грабежа. Но следует считать чрезвычайным событием то, что, когда спустя три дня появилось обращение к народу президента-регента, все банковские билеты, захваченные в резиденции министра, были возвращены, также как девяносто пять тысяч дукатов золотом, которые были забраны из его касс.
Нельзя обойти молчанием пример честности и бескорыстия одного солдата из полка Дзялинского, который, найдя тысячу дукатов золотом, принес их в общественную казну, отказался от предложенной компенсации, и его с трудом заставили взять один дукат – на память: он повторял только, что его наградой было счастье служить родине и исполнять свой долг.
Вечером 17-го народ толпой явился ко дворцу, где находились генерал Мокрановский и прежний президент города Закревский. Народ сразу объявил первого комендантом Варшавы, а второго – президентом города. Оба пользовались доверием, так как имели заслуги перед родиной: один храбро сражался в кампании 1792 года, другой усердно и преданно исполнял обязанности главы муниципалитета в соответствии с конституцией 3 мая. Этот последний не упускал из виду возможность восстановления конституции 3 мая, упразднения декретов Тарговицкой конфедерации, отмены договора о последнем разделе и вывода иноземных войск с территории Речи Посполитой.
Мокрановский и Закревский, облеченные властью, которой их удостоил народ, начали с того, что постарались остановить распространение пожара, вспыхнувшего в разных концах города. 18-го вечером в городе уже было спокойно. 19-го, будучи уверены, что русские и пруссаки ретировались, они отправились в городскую ратушу, чтобы создать регентский совет: объявили себя его членами и присоединили к себе еще двенадцать граждан, известных своими достоинствами. Этот совет был временным и состоял из восьми дворян и шести мещан. Он начал свою деятельность с того, что объявил о своем безусловном присоединении к Акту Краковского восстания. Затем совет послал депутацию к королю, чтобы заверить его в своем почтении, но при этом отметить, что совет полностью подчиняется только приказам Костюшко.
Эта депутация убедила короля одобрить все действия нации и не покидать столицу. Король дал понять, что и в мыслях не имел покидать Варшаву; что он ценит проявление почтения к нему; что никто искреннее его не может желать благополучия Польше; что он всегда присоединялся к тому, чего желало большинство; что сегодня первый раз в своей жизни, сотканной из катастроф и печалей, он видит свою нацию соединившейся в единую волю и предрекает ей прочное благосостояние; что он желает разделить это благосостояние с соотечественниками, также как и постоянство средств для его достижения; что он желает, чтобы все эти события обернулись на благо государства; что он советует полякам доказать своими действиями, насколько они чтят религию, собственность, орденские отличия и трон. Одновременно он попросил эскорт для посланника Пруссии Бухгольца, чтобы безопасно проводить его в прусский лагерь.
В тот же вечер регентский совет послал еще одну депутацию к королю, чтобы сообщить: в доказательство своего уважения к религиозным обрядам он прикажет исполнить «Te Deum» после завтрашней торжественной мессы, в тот же день кавалеры орденов получат обратно знаки отличия, будут предприняты действия по организации полиции и доставке продовольствия в Варшаву. Что касается прусского посланника, то в данный момент нет возможности дать ему приличный эскорт из-за раздраженного населения, и ему предложено подождать несколько дней, в течение которых ему будет дана охрана.
Назавтра, в праздник Пасхи, «Te Deum» было исполнено в присутствии короля, его двора и кавалеров польских орденов, уже носивших на груди свои знаки отличия. Бухгольц имел охрану вплоть до своего отбытия и написал генералу Вольки, к которому намеревался отправиться, убеждая его отступить из окрестностей Варшавы.
Временный совет послал курьера к Костюшко, чтобы сообщить ему обо всем, что произошло. 20 апреля он принял решение о разоружении народа, чтобы предотвратить неприятности, которые могли возникнуть, если задержаться с этой мерой. Жителям Варшавы было приказано вернуть в арсенал выданное им оружие – и это было немедленно исполнено. Затем совет указал кварталы, подходящие для содержания русских пленников, как военных, так и гражданских, среди которых было много чиновников дипломатической миссии, и принял необходимые меры для обеспечения их безопасности и спокойствия.
Такое поведение Совета по отношению к русским, взятым в плен в Варшаве, дошло до сведения Игельстрома, присоединившегося к остаткам российских войск. Он написал в ответе княгине Гагариной, которая сообщила ему об уважительном отношении к ней в Варшаве: «Я вижу с удовольствием, что к Вам относятся человечно и даже не лишают Вас должного почтения. Узнаю в этом польскую нацию. Поляки никогда не были склонны к жестокости: гуманность всегда была одной из их главных добродетелей. Заявляю Вам настоящим письмом, что ценю тех, кто проявляет к Вам уважение в Вашем несчастье».
Мне довелось через несколько лет после Варшавского восстания встречать некоторых иностранных представителей, в том числе папского нунция, посланника Швеции барона Де Толля, посланника Пруссии Бухгольца, уполномоченного в делах венского двора Де Каше, – и все они заверяли меня в том, что в те дни, 17 и 18 апреля, их покой ни на минуту не был нарушен и, если оставить в стороне то ожесточение, с которым били русских, они никогда не видели народа более спокойного и покладистого, чем жители Варшавы.
Однако Временный совет, не вполне успокоенный насчет своего приказа горожанам о возврате оружия в арсенал, опасался, что отдельные лица из населения под влиянием брожения умов могут злоупотребить оружием. Он распорядился произвести обыск у тех, кто казался наиболее по-бунтарски настроенным; назначил начальников, чтобы привлечь этих людей к нужному делу и использовать их на аванпостах.
Специальной прокламацией, распространенной по всему городу, совет запретил носить на улицах сабли и огнестрельное оружие любому человеку, не находящемуся на службе. Он заявил, что будет преследовать как преступников всех тех, кто под предлогом поиска виновных позволит себе малейшее насилие в частных домах или по отношению к отдельным лицам.
Из этих действий Совета, как и из Акта Краковского восстания и воззваний Костюшко, видно, что восстание в Польше отнюдь не основывалось на якобинских принципах. Впоследствии могли найтись некоторые авантюристы без веры, нравственности и принципов, которые могли воспользоваться революционным фанатизмом простого населения и провинились в чем-то, но мирные жители Варшавы отвечали им презрением, а гонения на таких авантюристов убедительно показали характер нации в целом, которая оправдывала строгость мер, примененных правительством, чтобы не допустить злоупотреблений.
Глава VI
После своего бегства из Варшавы генерал-аншеф Игельстром с двумястами пятьюдесятью людьми присоединился к прусским войскам и перебрался на правый берег Вислы и Нарвы[35]. Затем он вновь перешел Вислу, чтобы соединиться в Ричиволе с русскими войсками по главе с генералом Новицким, ушедшими из Варшавы, и приблизиться одновременно к корпусу Денисова, который находился в окрестностях Опатова.
Игельстрому удалось наконец собрать в Ловиче все свои войска численностью около семи тысяч человек. Прибыв туда, он получил донесение от генерала Денисова о том, что повстанцы из Хелма и Люблина в количестве десяти тысяч человек перешли Вислу под Пулавами. До этого предполагалось, что Денисов сможет помешать этому переходу, и этот неожиданный переход создал опасность того, что поляки могут атаковать его с тыла и с фланга под Сташовом, тогда как перед ним находилась армия Костюшко, окопавшаяся в Полянице на Висле.
Генерал-аншеф Игельстром был обеспокоен тяжелым положением, в котором оказался Денисов. Узнав, что генерал Фаврат с прусским войском вошел в Краковское воеводство, он хотел, чтобы Денисов присоединился к нему и чтобы для этого прусский генерал продвинулся несколько вперед навстречу корпусу Денисова, этим облегчив ему присоединение.
Фаврат, получив продовольствие для своей армии, пошел маршем на Краков, чтобы отвлечь на себя внимание Костюшко, и в трех лье от Кракова, в местечке Скала, атаковал польский аванпост, который ретировался обратно в город. С другой стороны, генерал Денисов ушел со своих позиций под Сташовом той же ночью, когда состоялся бой под Скалой, и после трех переходов присоединился к прусским войскам.
Сам он с частью своего войска стал лагерем под Щекоцинами, расположив справа от себя в одном лье корпус генерала Хрущева, чтобы поддерживать таким образом связь с пруссками, которые стояли в окрестностях Зарновица, в двух лье от Щекоцин. Наконец, корпус генерала Рахманова расположился на некотором расстоянии слева от генерала Денисова, развернувшись к границе южной Пруссии.
Тем временем герцог Нассау явился в Лович с известием, что прусский король прибудет сюда через несколько дней, чтобы собственной персоной возглавить войско. Соответственно, генерал Игельстром передал Денисову приказ приготовиться выполнять те операции, которые прусский король сочтет нужным предпринять против поляков.
Костюшко, идя следом за генералом Денисовым, занял позицию под Енджеювом, в четырех лье от Щекоцин и в пяти – от Зарновица. У него было пятнадцать-шестнадцать тысяч регулярных войск и до десяти тысяч крестьян[36].
Таковы были позиции союзных войск и польских накануне прибытия прусского короля в Зарновиц. Спустя три дня Костюшко выступил против корпуса, которым непосредственно командовал Денисов, и занял позицию на расстоянии трех четвертей лье от Щекоцин.
5 июня он атаковал аванпосты противника и принудил их отступить. Однако плохие дороги и приближение ночи помешали ему воспользоваться своими первыми успехами. Обе армии провели остаток ночи под ружьем и на следующий день сблизились в боевом порядке. Каково же было удивление поляков, когда они увидели напротив своего левого крыла пруссаков, которых никак не ожидали здесь встретить. Пришлось выдерживать огонь их артиллерии, не имея достаточно своей артиллерии, чтобы им ответить.
Я не привожу деталей этого дела, которое было названо Щекоцинским, так как не был его свидетелем и могу полагаться лишь на более или менее предвзятые его описания. Бесспорно то, что генералиссимус Костюшко предполагал иметь дело только с русской армией, а нашел еще и всю прусскую армию во главе с королем – таким образом, неприятельские силы в два раза превосходили численностью поляков. Поляки сражались с обычной своей храбростью. Они потеснили во многих местах русскую армию. Они с таким напором атаковали левое крыло пруссаков, что заставили его отступить[37].
Несмотря на все эти успехи, Костюшко не счел правильным рисковать своей армией против намного превосходящего ее противника и решил отойти к Варшаве, чтобы прикрыть город от неприятеля, учредить там новое правительство и собрать все имеющиеся в наличии силы. Он приказал отступать своим войскам, которые, возможно, одержали бы победу, если бы не ошибки некоторых офицеров, не выполнивших в точности приказы Костюшко, и если бы не потеря генералов Гроховского и Водзицкого, убитых в этом бою. Костюшко отступил в боевом порядке без помех со стороны неприятеля, который не осмелился его преследовать.
В бюллетене боевых действий, который Костюшко опубликовал в Кельце 9 июня, были указаны потери: у поляков – тысяча человек и одно орудие, у русских – убит один генерал и многие офицеры ранены.
Вот письмо Костюшко, адресованное Верховному совету Варшавы, в котором он сообщает о битве под Щекоцинами:
«Желая как можно скорее известить совет о деле, имевшем место вчера, спешу сообщить, что был атакован противником, в два раза превосходившим нас численно и располагавшим отличной артиллерией. Мы понесли не столь значительные потери – в сравнении с потерями неприятеля, но все же значительные, так как потеряли генералов Гроховского и Водзицкого, убитых в сражении. Противник также отбил у нас несколько пушек. Провидение не захотело, чтобы мы смогли вполне гордиться результатом этого дня: в тот момент, когда победа была уже у нас в руках, отсутствие на своих местах некоторых субалтернов[38] и бегство одного батальона лишило нас всех наших преимуществ. Тем не менее мы отступили в боевом порядке после трехчасовой канонады.
Вскоре я представлю нации точный и подробный отчет об этом деле. Пока же ограничиваюсь тем, что рекомендую Верховному совету не упускать ничего для поддержания спокойствия в Варшаве и во всей стране и вдохновлять истинных республиканцев крепить в себе волю и рвение к победе. Я напоминаю совету о необходимости возобновить распоряжения о новом наборе в войско, чтобы это вооруженное подкрепление могло как можно скорее влиться в разные части нашей армии, которые уже приблизились к столице.
Писано в лагере, вблизи Малогоща, 7 июня 1794 года.
Подписал Т. Костюшко»
Об этом письме стало известно широкой публике, но совет счел нужным хранить молчание о деталях Щекоцинского дела, и жители Варшавы были тем более обеспокоены и даже встревожены, что одновременно было получено известие о поражении генерала Зайончека 8 июня под Хельмом. Эта баталия, длившаяся около шести часов, могла бы закончиться к выгоде поляков, тем более что их возглавлял волевой и энергичный командующий, но они не смогли продержаться с малым числом орудий против отличной артиллерии, которая громила их со всех сторон.
Противники восстания воспользовались впечатлением, произведенным на жителей Варшавы этими неутешительными известиями из армии, и постарались смутить самых убежденных патриотов.
Публика в столице начала вслух высказываться об измене или небрежности многих выдающихся офицеров: люди не допускали мысли, что могут быть иные причины для неуспехов наших войск, которые считались у них непобедимыми.
Чтобы подбодрить павших духом людей, Верховный совет издал декларацию об объявлении войны Пруссии. Она была возвещена жителям Варшавы при звуках труб: энергичный стиль этого воззвания воодушевил нацию и пробудил в ней все ее силы.
Эта декларация была подписана Игнацием Потоцким, президентом Верховного совета, и опубликована в Варшаве 12 июня 1794 года.
10-го числа того же месяца генералиссимус в своем лагере вблизи Кельце издал бюллетень, в котором извещал, что войска прусского короля, объединившись с русскими против польской армии, нарушили границы, которые государства-стороны раздела сами же и установили. В связи с этим он принял решение дать иное направление силам нации и, соответственно, приказал всем командующим линейными войсками продвинуться, насколько возможно, за пределы российских и прусских границ, объявить там об Акте польского восстания, провозглашая свободу, и призвать народ, стонущий под игом рабства, объединиться против своих угнетателей. Костюшко предписал всем командующим корпусами продвинуться не только на территории, недавно отрезанные от Польши, но и на те, которые ранее вошли в состав России и Пруссии, и обратиться там за помощью ко всем, кто хотел вновь обрести свободу и свою прежнюю родину. Он обещал щедро вознаградить тех, кто захотел бы исполнить свой долг, и гарантировал им денежные выплаты из национальных фондов, а также из числа владений, которые будут конфискованы у предателей родины. Он настаивал на скорейшем исполнении своих приказов и не сомневался в их успехе, учитывая малое количество войск, находившихся на тех землях, куда он намеревался перенести театр военный действий.
Этот бюллетень Костюшко и объявление войны Пруссии не могли не произвести живейшее впечатление на умы поляков, и тут же большое число волонтеров прибыло служить под знаменами Костюшко. Финансовое же состояние страны было плачевным. Правительство ранее уже было вынуждено прибегнуть к чрезвычайным мерам: 8 июня оно объявило о введении в оборот банковских билетов под гарантию казны и под залог имущества в староствах и в национальной собственности. Эти билеты должны были заменить наличность, нехватка которой ощущалась все более с каждым днем.
13 июня Верховный совет запретил, под страхом самых жестких мер, вывоз золота и серебра. Чтобы быть уверенным в исполнении этого запрета, он распорядился чеканить польскую монету поверх прусской, объявив, что одна серебряная марка Колоньи будет равняться восьмидесяти четырем флоринам с половиной. Кроме того, совет потребовал, чтобы все жители платили, кроме чрезвычайных налогов, введенных Актом Краковского восстания, все те налоги, которые были введены конституционным сеймом. Он пригрозил самым строгим наказанием тем, кто ослушается его приказов.
Случилось еще одно событие, усилившее недовольство и тревогу жителей Варшавы. Прусский король после битвы под Щекоцинами продвинул часть своей армии в направлении Кракова. Два его генерала появились в виду города вечером 14 июня. Генерал Венявский, стоявший в городе, получил приказ от Костюшко отступать со всем гарнизоном и артиллерией в случае угрозы городу со стороны прусских войск, если их силы будут превосходить те, что находятся в его распоряжении. Ему было приказано перейти Вислу, войти в Галицию и передать Краковскую цитадель в руки австрийцев. Но то ли потому что Венявский не сумел убедить австрийцев занять цитадель, то ли потому что он проявил небрежность в деле защиты доверенного ему города, то ли совершил предательство, как его потом в этом обвиняли, – он не оказал никакого сопротивления, и 15 июня Краков сдался пруссакам. Генерал Эльснер вошел в город с корпусом в три тысячи человек, после того как Венявский провел несколько часов в прусском лагере[39].
Эта печальная весть быстро дошла до жителей Варшавы. Поскольку Верховный совет некоторое время хранил по этому поводу молчание, то еще оставались сомнения, но когда пришла определенность, все были потрясены.
Два поражения одно за другим и взятие Кракова пруссаками стали катастрофами, более чем достаточными, чтобы обескуражить жителей столицы. Глубокое разочарование, сопровождаемое угрюмым молчанием, царило повсюду. Интриганы и враги правого дела сумели извлечь выгоду из таких умонастроений, чтобы еще более их усугубить и подтолкнуть людей на мятежные действия. Они старались усилить подозрения по поводу сдачи крепости, которая и при более слабых средствах защиты смогла устоять в предыдущих войнах перед значительно превосходящими силами. Иной причины, кроме предательства, для сдачи ее не называлось, и со всех сторон стали раздаваться крики о предателях. Ультра-революционеры, которых вполне справедливо можно было назвать якобинцами, воспользовались этой всеобщей подозрительностью, чтобы внушить простому народу, который легче всего ввести в заблуждение, идею о том, что все эти предательства объясняются нежеланием правительства судить и наказать тех, кем были заполнены общественные тюрьмы.
Стали раздаваться громкие крики с требованием предать казни заключенных этих тюрем, как будто они были виновны в двух поражениях и в сдаче Кракова.
25 июня Верховному совету было подано заявление с требованием различных реформ, которое заканчивалось призывом наказать предателей. Совет состоял из людей разумных и умеренных, и поэтому те ультра, которые составили это заявление лишь для соблюдения формальностей, не получили от них удовлетворительного ответа. Тогда они решили употребить насильственные меры, будучи уверенными, что их поддержит заблудшее большинство.
27 июня некий молодой человек лет двадцати четырех, вдохновленный демагогическими идеями, взбудоражил людей, расписывая пережитые ими беды, главной причиной которых указывал задержку магистратов с наказанием виновных. Почти все его слушатели разделяли такие взгляды и, воспламененные его убедительным красноречием, решили вершить справедливость сами, если уж не могут добиться ее от правительства.
В тот же вечер в разных кварталах города были воздвигнуты виселицы. Президент совета приказал их перевернуть, но под покровом ночной темноты они снова были установлены.
28 июня в восемь часов утра толпа вооруженных людей подошла к дверям президента и потребовала, чтобы виновные перед родиной были немедленно осуждены и наказаны. Президент вежливо обратился к толпе и попытался показать им неуместность этого требования и невозможность исполнить его. Доложив об этом Верховному совету и обсудив с ним происходящее, он повторил то же самое народу, и люди, усмиренные доводами, приведенными им, начали уже успокаиваться и расходиться, как вдруг несколько демагогов, окруженных самой разнузданной чернью, бросились к тюрьмам, выломали двери и схватили тех, кто, как им думалось, заслуживал смерти. Сначала они проводили восьмерых из них в уголовный трибунал, нисколько не сомневаясь, что получат там такое постановление, какое они продиктуют. Однако затем они узнали, какое впечатление произвели на народ доводы президента и что решено пустить в дело полицию, чтобы восстановить спокойствие в городе. Тогда они изменили свое намерение подвергнуть пленников суду трибунала и сами повесили их всех разом: и невинных, и тех, кто заслуживал суда.
Толпа дошла бы до самого крайнего варварства, вплоть до убийства совершенно невинных людей, известных своими заслугами и патриотизмом, если бы президент города Закревский, пользовавшийся всеобщим доверием, не помешал им. Он подверг опасности себя самого, бросившись в гущу толпы и прикрыв собой тех, кого еще собирались выдернуть из тюрьмы и отдать на растерзание. Он увещевал людей до полной потери голоса, бросался на колени, сложив руки в мольбе, уговаривая этих одержимых воздержаться от преступных действий, которые марали честь польской нации и отягчали судьбу их несчастной родины… Его порыв спас несчастных пленников, утихомирил народ, и общественное спокойствие было восстановлено. Толпа в большинстве своем стала расходиться и вскоре рассеялась по улицам города.
Подозревали некоторых членов правительства, известных своими крайними воззрениями, в том, что они знали о готовящихся скандальных событиях и не помешали им: в их намерения входило отделаться от некоторых лиц, уцелевших 9 мая, которые могли бросить на них тень, если бы судебные трибуналы признали их невиновными. Их подозревали также в намерении составить себе мощную партию сторонников среди ультра-революционеров и простого народа, который легко увлечь за собой и повести куда вздумается под предлогом наказания предателей. Такие подозрения могли иметь под собой некоторые основания, так как в любых революциях имеют место впадения в крайности, и нездоровое возбуждение толкает на них даже тех, кто с самого начала желал лишь блага своим соотечественникам. Как бы то ни было, если исключить какую-то тысячу индивидов, которых сумели повести за собой авантюристы, то все остальные жители Варшавы были возмущены тем, что произошло 28 июня, а генералиссимус Костюшко был этим глубоко опечален. Он слишком хорошо знал свою нацию, чтобы не понимать, что она еще не приспособлена к демократической форме правления. Он осознавал, что эта форма правления не подходит стране, в которой пока нет третьего сословия и народ погружен в невежество. К тому же, он был слишком мудрым и честным, чтобы не опасаться установления режима террора, под которым в это самое время стонала Франция: там этот режим проливал реки крови, и не было видно ни развязки, ни конца его убийственным деяниям.
Костюшко говорил тем, кто его окружал, и я сам слышал, как он повторял (об этом еще будет упомянуто ниже), что лучше бы он проиграл две битвы, чем узнать об ужасах, творившихся в Варшаве, и что проигранные битвы принесли меньше вреда делу революции, чем кровавые события 28 июня.
На следующий же день он издал следующую прокламацию.
«В то время, когда все мое внимание и все мои усилия были обращены к главной цели – отражению неприятеля, я узнал, что у нас появился гораздо более страшный враг, который угрожает нам изнутри. События, происшедшие в Варшаве, наполнили мое сердце печалью и горечью. Желание людей видеть виновных наказанными само по себе не подлежит осуждению – но должны ли они быть наказаны без решения уполномоченного на то суда? Почему кто-то осмелился посягнуть на священный авторитет закона? Почему не выслушали и отнеслись без уважения к тем, кто говорил от имени закона? Наконец, почему правительственный чиновник, которого не в чем было упрекнуть, подвергся унизительной каре вместе с теми, кого считали виновными? Разве так должен вести себя народ, который взял в руки оружие для того, чтобы победить армию противника, завоевать себе свободу и независимость и достичь мира, спокойствия и благосостояния своей родины? Задумайтесь над этим, граждане, и вы поймете, что против вас под покровом тайны действуют низкие интриганы, чтобы ввести вас в заблуждение, помрачить ваши умы и толкнуть вас на бесчинство. Ваши враги только и мечтают, чтобы вы погрязли в анархии, яростно восстали против правительства, законов и общественного порядка, – тогда им легче будет распылить ваши силы и победить вас: ведь посреди хаоса, общего смятения и возможной опасности для каждого человека у вас не будет возможности подумать о благе государства.
Как только ход военных действий позволит мне отлучиться из армии, я прибуду к вам. Хочу верить, что присутствие среди вас военного человека, который каждый день подвергает свою жизнь опасности ради вас, – не будет вам неприятно. И я очень надеюсь, что не почувствую в вас отголосков этих печальных событий, которые разрушили бы во мне радость встречи с вами. Моя радость от этой встречи будет совершенна, если я увижу, что вы искренне разделяете ее со мной, и надеюсь, что мое присутствие напомнит вам, что сейчас нам важна только защита родины и свободы. Только достойное единство и строгое следование закону, то есть воздержание от актов насилия, может заслужить нам уважение в глазах всего мира. Граждане, я заклинаю вас во имя родины и всего, что вам дорого, изгнать навсегда из вашей памяти то заблуждение, в которое вы позволили себя втянуть, и восстановить в ней наше единство и горячее стремление действовать против общего неприятеля, а также уважение к закону и к тем, кто отдает вам приказы от имени закона. Знайте, что не заслуживает свободы тот, кто не умеет подчиняться законам своей страны.
Чтобы более не допустить подобных печальных событий, разрывающих мне сердце, я вынужден осудить небрежность в работе наших судебных трибуналов, которые задержались с рассмотрением дел поляков, арестованных и содержащихся в тюрьмах. Соответственно, я рекомендую Верховному совету ускорить деятельность подначальных ему магистратур и поручить уголовному трибуналу немедленно заняться рассмотрением дел заключенных, чтобы наказать виновных и освободить тех, кто будет признан невиновным.
Но, доверив компетентным органам исполнение правосудия, я строжайше запрещаю населению собираться толпами и приближаться к тюрьмам, и тем более – выбивать двери и издеваться над заключенными.
Если у вас есть просьбы к правительству, вы не должны выражать их, собираясь бесчинствующими толпами, с криками и угрозами и даже с оружием в руках: ваш долг позволяет использовать это оружие только против врагов родины. Вы должны обращаться с такими просьбами спокойно и достойно, через соответствующих чиновников или посредством лиц, выбранных среди вас и заслуживших ваше доверие. Только такое поведение достойно свободной нации. Вам известно, что правительство учреждено только для вас и работает только для вашего блага. Значит, тот, кто взывает к нему незаконными средствами, может быть только подстрекателем и возмутителем общественного спокойствия, который сам заслуживает сурового наказания.
Войска Речи Посполитой добровольно пошли за мной, чтобы защитить свободу, целостность и независимость нашей страны. Только ради этих бесценных благ и ради жаждущих их граждан мы согласны подвергать свои жизни опасности. Так что и вы, чья пламенная храбрость дошла до предела, можете использовать ее против внешнего врага и поторопиться в мой лагерь, если вы не заняты на другой службе государству или не удержаны настоятельной необходимостью заниматься семейными делами. Там, в лагере, вы будете встречены как братья; мы с удовольствием примем вас на службу родине. Доверьтесь совершенно заботам правительства, и вы увидите, что в стране установится спокойствие, а предатели будут наказаны. Это единственный способ вести достойную жизнь и избежать заслуженной кары.
Писано в лагере, вблизи Голкова, 29 июня 1794 года.
Подписал Т. Костюшко».
Генералиссимус не ограничился этим воззванием: он распорядился отыскать самых активных лиц, чтобы обнаружить среди них главных зачинщиков, подстрекавших народ к бунту 27 и 28 июня. Семеро из них были повешены, один, который обратился тогда к народу с речью, был изгнан. Чтобы не допустить повторения подобной тяжелой сцены, Костюшко дал секретное распоряжение магистрату города выбрать среди населения лиц, наиболее виновных и наиболее склонных к смуте, чтобы направить их на работы в его лагерь, в места, наименее защищенные от неприятельского огня, а также поставить их в первые ряды сражающихся.
До того времени венский двор хранил молчание по поводу последних событий в Польше и никак не проявлял своих намерений. Однако после занятия Кракова прусскими войсками император не захотел лишить себя выгод, которые мог получить от нового раздела Польши. Он понимал, что после объединения прусских войск с российскими для совместных действий против Польши исход этой борьбы не вызывает сомнений, потому решил ввести свою армию в Малую Польшу и обнародовал через своего генерала, графа Арнонкура, следующую прокламацию:
«Его императорское величество, обладающее королевскими и папскими прерогативами, более не может равнодушно взирать на волнения, разразившиеся в Польше, так как они могут иметь самые зловещие последствия для безопасности и спокойствия народов, находящихся под властью Е[го] В[еличества]. Соответственно, Е[го] В[еличество] счел необходимым отдать мне приказ войти с армейским корпусом, которым я командую, на польскую территорию, чтобы этой мерой пресечь опасность, которой могут подвергнуться границы Галиции, а также чтобы обеспечить безопасность и спокойствие владений Е[го] В[еличества].
Настоящим я заявляю, что все те, кто будет вести себя спокойно, по-дружески, сдержанно и с должным уважением к австрийским военным, смогут пользоваться высоким покровительством Е[го] В[еличества] и обретут гарантию безопасности – для себя лично, для своих владений и своего имущества. Те же, наоборот, кто окажется виновным в неразумном сопротивлении, подвергнут себя суровости законов военного времени.
Писано в штаб-квартире, Воловец, 30 июня 1794 года.
Подписал Жозеф, граф д’Арнонкур».
Поскольку в этих землях почти не было польских войск, австрийцы вошли в них без всякого сопротивления, и покой жителей там не был нарушен. Правительство Польши не могло, конечно, остаться равнодушным к этому демаршу австрийцев, но, не имея сил воспротивиться, было вынуждено покориться, и Костюшко удовольствовался тем, что написал Арнонкуру: «Поляки свято чтили существовавшие договоренности с Е[го] В[еличеством] императором, и никто не сможет обвинить Речь Посполитую Польшу в могущих произойти тяжелых последствиях введения в нее австрийских войск».
Поверенный в делах венского двора, Де Каше, спустя несколько дней покинул Варшаву, впрочем, его отъезд и введение австрийских войск на территорию Польши нисколько не обеспокоили жителей Варшавы, которые не допускали возможности, что венский двор захочет принять непосредственное участие в этой войне.
Тем временем российские и прусские войска приблизились к Варшаве и угрожали столице осадой. Ее положение было тем более опасным, что она никогда не укреплялась и, таким образом, со всех сторон предоставляла свободный доступ неприятелю. Только с началом восстания было решено делать рвы и окопы, чтобы защитить город от пешей атаки. Когда же, после Щекоцинского дела, Костюшко отступил в сторону Варшавы, эти работы стали производиться гораздо активнее, и, сверх того, на некотором расстоянии от города были возведены укрепленные лагеря, где можно было укрыться от обстрелов.
Поскольку я обещал отдельно дать описание событий, имевших место в Литве, начиная с восстания в Вильне, я временно прерву здесь описание военных действий, происходивших во время осады Варшавы, и вернусь к ним на момент моего возвращения в столицу после занятия Вильны российскими войсками и отступления армии Литвы.
книга четвертая
Глава I
Я прибыл в Литву, в Новогрудок, ко времени заключения контрактов[40] и в ночь на 30 марта 1794 года был разбужен появлением курьера из Варшавы. Это был надежный человек, сумевший ускользнуть от бдительности полиции: он привез мне копии Акта Краковского восстания, а также прокламации Костюшко и сообщил верные сведения о том, что восстание в Варшаве должно начаться не позднее чем через две недели.
Я воспользовался его приездом, чтобы отправить обратно с ним письмо моей жене в Варшаву: просил ее покинуть город и немедленно отправиться в Вильну. Заодно постарался избавиться от русского унтер-офицера, которого генерал Игельстром приставил ко мне в дорогу как сопровождающего, а на самом деле – чтобы следить за мной. Я смог отделаться от него лишь щедро заплатив ему и под предлогом необходимости отправить с ним часть кассы, которую якобы должен был отослать в Варшаву.
Я сообщил о полученных важных известиях только нескольким друзьям, которых особенно хорошо знал, и постарался покончить с делами, высвободив капитал приблизительно в сорок тысяч дукатов золотом, предполагая использовать их на нужды родины – в ходе грядущих событий.
Через несколько дней я отправился в Вильну, где ко мне присоединилась жена. Здесь я с удивлением обратил внимание на спокойствие, царившее среди жителей, совершенную невозмутимость коменданта города и полное неведение русских относительно того, что готовилось в стране с тех пор как сюда дошли прокламации Костюшко.
Я не был посвящен, как уже говорил, в тайны тех, кто замыслил восстание. Признаюсь даже, что, зная о наших малых ресурсах и значительных силах, которые могли быть употреблены для нашего подавления, я не убаюкивал себя тщетными надеждами, что ожидания наших патриотов оправдаются. Несмотря на это, я твердо решил не покидать страну, разделить опасности с моими согражданами и скорее погибнуть с оружием в руках, чем обесчестить себя отказом присоединиться к этому патриотическому порыву и акту отчаяния.
20 апреля 1794 года Нелепец, офицер седьмого полка, предупредил меня, что восстание в Вильне будет поднято в ночь на 23-е. Я решил покинуть город, чтобы не оказаться вместе с женой, слугами и багажом посреди смуты и смертоубийств, которые обязательно последуют, так как российский гарнизон города составлял более трех тысяч человек.
Однако, чтобы не подать виду, будто я собираюсь спешно покинуть город, решено было провести вечер 22-го в доме мадам Володкович, куда был приглашен генерал Арсеньев, русский комендант города, и несколько офицеров генерального штаба. Там я уверился, что они даже не подозревают о том зловещем событии, которое ожидало их через двадцать четыре часа.
Назавтра, в три часа утра, я со всеми своими экипажами был уже по дороге в Гродно, когда мне повстречался поляк Зылинский, следовавший курьером в Вильну: он сообщил мне по секрету, что восстание в Варшаве вспыхнуло еще 17 апреля. Он заверил меня, что все закончилось к удовольствию поляков и что он сам покинул город уже после бегства Игельстрома и некоторых русских, которым удалось избежать расправы.
Я сразу же принял решение свернуть с большого тракта и взял направление на Олькеники, к графу Грановскому. Он был чрезвычайно удивлен моему приезду со столь многочисленным сопровождением и еще более – двум новостям, которых не ожидал: тому, что восстание в Варшаве уже подошло к концу, и тому, что восстание в Вильне запланировано на ближайшую ночь. Мы же находились всего в семи лье от Вильны. Один из друзей дома, Семашко, тут же вскочил на лошадь и к началу ночи был уже в окрестностях Вильны: оттуда он слышал не только выстрелы, но даже крики сражающихся, и этого было вполне достаточно, чтобы подтвердить правоту того, о чем я говорил. Впрочем, сообщить нам о результатах услышанного он не мог.
Назавтра, по возвращении Семашко, я отправил в путь смышленого лакея с приказом добраться до Вильны. Он добрался туда без происшествий и привез обратно записку от вице-президента Антония Лучинского, в которой содержались следующие строки: «Мы провели ужасную ночь. Кровь еще течет ручьями по улицам. В Вильне русских больше нет. Одни убиты, другие пленены. Среди пленников находится сам генерал Арсеньев и многие офицеры. Русские, сумевшие убежать, собрались за пределами города и стреляют во всех, кого встречают на дороге. К… был схвачен, подвергнут суду и осужден на смерть. Радостные крики раздаются во всех кварталах города. Ясинский с тремя сотнями военных и небольшим количеством людей из народа совершил все это опасное мероприятие. Я советую вам вернуться сюда, как только проезд освободится. В городе вы подвергаетесь меньшей опасности, чем в сельской местности».
Было решено подождать дальнейших известий, прежде чем пускаться в путь. Мы уже готовились к отъезду, когда узнали о прибытии отряда из двух сотен кавалеристов в маленький городок Олькеники – вблизи от дома, в котором мы находились. К счастью для нас, этот отряд, следовавший из Лиды, не знал о том, что произошло в Вильно, а его командующий, Корф, который, как выяснилось, когда-то служил под началом отца Грановского, нанес нам визит и отобедал с нами. Только покинув нас, он получил известия о побоище в Вильне и срочно отправился маршем в направлении этого города. Однако он покинул Олькеники, не причинив никакого вреда владельцу имения и его жителям, хотя и узнал, что несколько крестьян Грановского в тот же день остановили обоз с сукном для мундиров и убили русских солдат, которые его сопровождали.
Конечно, не Корфа нам следовало в первую очередь опасаться. Остатки российского гарнизона, отступавшие от Вильны, предавали огню все на своем пути и теперь быстрым маршем двигались по Гродненской дороге. Деревня, в которой мы находились, была лишь в полулье от тракта. Люди, которых мы выставили на посты в том направлении, чтобы предупредить нас о передвижении этого корпуса, прибежали, запыхавшись, и предупредили нас, что он сошел с дороги и быстрым ходом направляется к Олькеникам.
Тучи пыли возвестили о его приближении. Вскоре сотня казаков ворвалась во двор замка, перекрыла все выходы и окружила нас со всех сторон. Около трех сотен пехотинцев, покрытых пылью, полумертвых от усталости, с выражением ярости и мстительности на лицах, выстроились перед домом, в котором мы находились: намерения у них были недобрые, и только случай помешал этим намерениям осуществиться.
Среди офицеров, которые со спущенными поводьями въехали во двор вслед за пехотой, я узнал одного из адъютантов генерала Арсеньева, которого тремя днями ранее я видел в Вильне. Это был то ли француз, то ли швед. Он был очень удивлен, найдя меня в Олькениках, и обеспокоенно спросил, нет ли вооруженных конфедератов в доме Грановского. Мой уверенный вид и хладнокровие, с которым я ответил, что не знаю, кого он имеет в виду под конфедератами, и не понимаю причин его беспокойства и этого вторжения под кров, где царят мир и спокойствие, его, казалось, успокоили. Однако я с трудом уговорил его сойти с лошади и войти в дом. Только после того как я дал ему слово чести, что ему здесь ничто не угрожает, он решился последовать за мной. Его удивление было равно только его же смущению, когда он нашел в апартаментах только мою жену и дочь[41] Грановского.
Он взволнованно рассказал мне, что командир русского корпуса, находившегося в полулье отсюда на Гродненском тракте, получил ложные известия о том, что в Олькениках находится сборище вооруженных конфедератов и что, соответственно, он должен был отдать приказ запалить замок с четырех концов, а также заковать в цепи и увезти в кибитках всех, кто там находился.
Я без всякого волнения ответил офицеру, что, надеюсь, он не исполнит приказа, полученного из-за ложных сведений, и что я прошу его объяснить, чем вызван озлобленный вид солдат и это поспешное и неожиданное вторжение… Он рассказал мне в нескольких словах, с горечью и отчаянием в голосе, о том, что произошло в Вильне позапрошлой ночью.
Он пожаловался, что его солдаты, падавшие от усталости, уже сутки ничего не ели и что он сам, как и другие его офицеры, едва успел сбежать из города посреди ночи лишь в том, в чем был.
Ведомый исключительно жалостью, я сунул ему в руку сто дукатов – офицер был смущен и не хотел их принимать; тогда я сказал ему, что он так же поступил бы, если бы оказался на моем месте. Он был живо тронут и исполнился благодарности. Он заверил меня, что тут же отправится к своему командиру, чтобы доложить ему о том, что здесь видел, и подал мне надежду на то, что по возвращении сможет передать казакам и пехотинцам приказ командира мирно уйти.
Во время этого разговора с офицером и потом, до его возвращения, мажордом приказал подать щедрое угощение и прохладительное питье солдатам, которые уселись посреди двора немного отдохнуть. Час спустя офицер вернулся с положительным приказом от своего командира, и они отправились дальше по той же дороге, по которой шли ранее. Их кибитки, прежде предназначенные для нас, «преступников», были заполнены теперь провиантом и фуражом. Они забрали всех лошадей из конюшни, а также тех двадцать четыре, на которых я прибыл сюда из Вильны. Казаки ограничились тем, что забрали несколько домашних животных, оказавшихся на дороге, так что на сей раз мы отделались лишь испугом. Однако те же казаки громко высказывались против своего командира и особенно – против офицера, который запретил им грабить: они заявили слугам и нескольким крестьянам, что этой же ночью вернутся в Олькеники и не пощадят здесь ничего.
Было шесть часов вечера, когда наконец скрылись из виду последние ряды русской колонны, доставившей нам столько беспокойства и страха. Угрозы казаков, переданные нам, явно указывали на то, что нам следует немедленно покинуть это место, где мы не могли оставаться, не подвергая себя неминуемой опасности… Но у нас не было лошадей. Грановский приказал привести шестерых с ближней фермы. Мы запрягли их в карету, в которой поместились он сам с дочерью, моя жена и я. Все остальное мы оставили на милость судьбы.
С наступлением ночи мы выехали из Олькеник в сопровождении сына Грановского и его племянника Поцея – они раздобыли себе лошадей у крестьян. Трудность заключалась в том, чтобы выбрать более надежную дорогу. Мы предпочли дорогу на Лиду и, отдохнув несколько часов в лесу, благополучно прибыли в Вильну. Все наши экипажи и вещи тоже прибыли спустя три дня в целости, избежав казачьего грабежа: как и обещали, казаки вернулись, но только через тридцать шесть часов – забрав все, что попалось им под руку, они подожгли несколько домов.
Вернувшись в Вильну, я нашел все улицы города чисто убранными, а жителей – такими спокойными и мирными, как будто здесь никогда и не было никакого восстания. К… был подвергнут смертной казни, тюрьмы забиты русскими военными и разными подозрительными личностями. Был создан Временный совет. Ясинский принял на себя командование войсками и отправился со всеми, кого смог собрать, преследовать неприятеля в сторону Неменчина. Были посланы курьеры в Варшаву, в штаб-квартиру Костюшко.
Мы с Грановским сделали значительные пожертвования деньгами и разного рода продовольствием для удовлетворения первых нужд армии. Обоих нас приняли в качестве членов во Временный совет. Я охотно сложил с себя полномочия великого подскарбия литовского и заявил, что согласен стать членом Временного совета Литвы только до тех пор, пока приказом Костюшко не будет установлен новый порядок правления. Моим дальнейшим намерением было заняться военным делом и разделить с оружием в руках труды и опасности моих соотечественников.
Армия Литвы не была многочисленной. Ее командующий Ясинский был полон рвения, добрых намерений и патриотизма и являлся даже очень хорошим артиллерийским офицером, но не имел необходимого опыта.
Два сражения – при Неменчине и Солах – оставили неприятеля в состоянии замешательства, но решающих результатов не принесли. Ни одно из них не доставило нам победы. Солдаты сражались бесстрашно, все офицеры достойно выполняли свой долг и каждый из них дал убедительные доказательства своей личной храбрости. Особенно отличился Седьмой литовский полк: вдохновленный примером своего командира Грабовского и его доблестных офицеров, он показал чудеса храбрости, покрыв себя славой. Однако мы не могли похвалиться тем, что разбили и прогнали неприятеля. Он лишь отступил на некоторое расстояние от города и к тому же мог получить подкрепление с любой стороны, тогда как мы, сжатые на тесном пятачке, не имели возможности обеспечивать себя продовольствием и поддерживать связи с отдаленными от Вильны провинциями – так что нам оставалось надеяться только на помощь, присланную из Варшавы.
Эта помощь все не приходила, несмотря на наши настоятельные просьбы, а тем временем нам угрожали со всех сторон. Разные российские части, под началом Кнорринга, Николая Зубова и Беннигсена, удерживали свои позиции между Минском и Вильной. Генерал Цицианов, выступивший из Гродно с шестью тысячами человек, находился в окрестностях Ивья, в двенадцати лье от Вильны. Другие части, не столь значительные, двигались по Литве во всех направлениях, и хотя жители Литвы были полны энтузиазма – они не имели достаточных средств для защиты.
Временный совет с нетерпением ждал известий из Варшавы и приказов от Костюшко. Между тем он занимался организацией управления внутри города и в его окрестностях, издавал прокламации для поднятия духа населения, принял разумные и энергичные меры для обеспечения самых срочных нужд армии, издавал распоряжения, которых требовали обстоятельства и которые в его власти было сделать исполнимыми.
Видные горожане представили совету записку, прося разрешения создать корпус стрелков, главой над которыми хотели назначить меня. Эта просьба была удовлетворена. Ян Нагурский взялся создать кавалерийский корпус. Волонтеры, более или менее экипированные за свой счет, прибывали со всех сторон, чтобы пополнить ряды защитников отечества. Энтузиазм был всеобщим, но не хватало ни времени, ни средств, чтобы атаковать врага и заставить его отступить к своим границам. Печальная необходимость оставаться в бездействии сводила на нет все добрые намерения литвинов. Они жаловались на то, что не получают помощи из Варшавы, так как не представляли себе, сколь трудно было подать ее при тогдашнем положении дел.
Глава II
Хотя приказ Временного совета был опубликован лишь в два часа пополудни, но все же около тридцати тысяч жителей обоего пола собрались к шести часам вечера в назначенном месте и сгрудились вокруг пригорка, на котором был установлен стол в качестве трибуны для ораторов. Более трех сотен первых дам города из дворянства и буржуазии окружали это заготовленное место. Корпус из нескольких тысяч человек, в основном из новобранцев и волонтеров, на некотором расстоянии от него образовывал собою каре, в середине которого располагался генерал Ясинский со своим штабом. Такая торжественная обстановка воодушевила меня и побудила произнести речь, к которой я не имел времени подготовиться. Я продолжил ее, сам того не замечая, и с удовольствием увидел, что она производила на собравшихся нужное впечатление – именно то, на которое мог бы рассчитывать Временный совет.
Поскольку несколько лет спустя недоброжелатели обвиняли меня в том, что я говорил тогда «языком революции», сильно напоминавшим якобинский, я считаю себя обязанным привести здесь несколько отрывков из той речи, которую многие молодые люди записывали, пока я говорил, и которая была частично опубликована в «Национальной газете» Литвы. Придется признать, что посреди кризиса, в котором мы тогда находились, я видел свой долг в том, чтобы успокаивать и умиротворять простых людей, не переставая в то же время волновать их души картинами наших несчастий и поддерживать в них бодрость и патриотический энтузиазм. Моя задача была трудной, но успех этой речи отдает ей должное и развенчивает обвинения в якобинстве, которые были адресованы мне завистливыми врагами. Вот ее точный перевод:
«Граждане! Временный совет, жаждущий сохранить уважение и доверие жителей Литвы, с глубоким прискорбием узнал, что общество Вильны, введенное в заблуждение коварными слухами, жалуется на медлительность правительства в деле наказания тех, кто содержится в тюрьмах, и приписывает непростительной небрежности либо даже предательству задержку в наказании виновных.
«Убежденный в том, что правдивое изложение фактов – лучшее оружие против клеветы, Временный совет счел нужным направить двух своих членов к этому многочисленному собранию граждан, чтобы ознакомить его со своим мнением насчет неразумных действий некоторых индивидов, которые ищут возможностей возмутить общественное спокойствие, подстрекая к жалобам и угрозам против правительства и не понимая при этом, какие непредвиденные последствия может повлечь за собой такое поведение.
Временный совет не знает за собой ничего, в чем можно было бы его упрекнуть, – и поэтому ему нечего бояться. Но можно ли безразлично смотреть на все то, что внушает недоверие к правительству, вносит в общество разлад, непонимание и предвзятость – именно тогда, когда без полного единения всех жителей ради общего блага не может быть надежды для всех нас и спасения – для нашей родины?
Взгляните на все, что вас окружает, и вы найдете, граждане, совсем свежие следы отступления врага и не будете дрожать при мысли, что он может вернуться в ваши стены, чтобы мстить и нести повсюду ужас, печаль и отчаяние.
Посмотрите на еще дымящиеся развалины ваших сельских домов – эти нагромождения руин указывают места, где были ваши предместья; эти кучи пепла погребли под собой целые семьи вместе с тем, чем они владели. Взгляните на эту землю у себя под ногами – несколько дней назад она была орошена кровью ваших братьев… Посмотрите вслед этим почтенным гражданам, которых только что вырвали из семей и теперь влекут в кандалах в самую глубь Сибири! Вслушайтесь в стоны несчастных, которые не смогли ускользнуть из рук своих угнетателей, в рыдания матерей, лишившихся своих детей. И если эти душераздирающие картины вызывают у вас слезы, судите сами, можете ли вы заниматься чем-либо иным, кроме как идти мстить на ваших братьев, ваших родных и ваших друзей!..
Да, граждане, это единственный долг, который нам остается исполнить, если мы хотим предотвратить еще более тяжкие несчастья, помешать возвращению врага, защитить наши владения, сохранить жизнь дорогим для нас людям, защитить национальное достоинство, обеспечить свою независимость и спасти родину!
Таковы должны быть чувства всякого честного человека – и таковы чувства всех членов совета: они не ограничиваются тем, что вдохновляют вас речами и прокламациями, – они не побоятся сами повести вас туда, куда призывает всех нас любовь к родине и долг перед ней.
Но берегитесь, граждане: в нашем городе, среди нас скрываются гораздо более страшные враги, чем те, против которых мы сражаемся, – это наши соотечественники, которым мы верим, но которые маскируют свое лицемерие и, прячась под личиной патриотизма, расставляют вам коварные ловушки. Стыдно признавать, что есть таковые среди наших соотечественников, однако нет сомнений в том, что находятся индивиды, подчиненные внешнему врагу, которые интригуют, порабощают, обманывают, пробуждают в вас низкие страсти, подталкивают к сомнительным действиям – чтобы тем легче предать вас тем, кому они вас продали, и вовлечь в эту пропасть ваших жен, детей, собственность, вашу честь, независимость и судьбу вашей родины.
Это не те, кого общественное доверие поставило во главе правительства и кто постоянно бодрствует на службе государства; это не ваш почтенный магистрат, который с усердием и старанием предается исполнению своих обязанностей; это не члены судебных трибуналов, которые неустанно разыскивают виновных, чтобы подвергнуть их заслуженному наказанию; это не те разумные и спокойные граждане, которые готовы жертвовать своим состоянием и проливать кровь за родину. Нет – не их надлежит вам бояться и подозревать… Все они видят перед собой лишь свою родину; они не признают иного вождя, кроме Костюшко; они принимают лишь те правила поведения, которые предписаны им декретом восстания; они ненавидят врага, который нас угнетает; они презирают предателей.
Послушайте, что говорит вам совет в своих прокламациях… Взывая к вашему мужеству, энергии и преданности общему делу, – разве он отказывается разделить с вами ваши опасности и жертвы? Разве найдется хотя бы один член этого совета, который не пошел бы охотно умирать в первых рядах армии ради чести погибнуть за свою страну?.. Это так и есть, и в этом вы не сомневаетесь, – тогда, как вы назовете эти продажные души, этих безумных фанатиков, которые порочат правительство? Осмеливаются оскорблять порядочных людей? Стараются ввести вас в заблуждение своей ложью? Смешать невинных с виновными? Исполнить вас злобы против тех, кто занимает общественные должности, посеять несогласие и раздор между сословиями наших жителей, воспользоваться возбуждением умов, чтобы толкнуть вас на преступные крайности?
Да, граждане, эти извращенные личности, пытающиеся вас обмануть и вовлечь в насильственные действия, – они правы, когда говорят о предательстве!.. Но это предательство, в котором виновны они сами!
Избегайте этих коварных советчиков! Отбросьте от себя их обманные речи и клевету! Откройте свои глаза на те опасности, которым подвергается наше святое дело, которое мы все поклялись поддерживать и защищать… Пусть все мнения и все стороны объединятся, чтобы действовать в полном согласии и противопоставить наше благородное сопротивление всем опасностям, которые нам угрожают!.. Будем же чтить приказы Костюшко! Будем же подчиняться представителям его власти! Идемте вперед на врага, который стоит почти у ворот нашего города! И пусть лозунгом нашего единения станет: Свобода и независимость нашей родины – или смерть!
Только победив врага и отбросив его от наших стен, только упрочив нашу жизнь и укрепив нарождающийся образ правления, – только тогда совет, который разделяет ваше нетерпение и желание видеть виновных наказанными, примет все необходимые меры, чтобы осуществить акты справедливости. Только тогда мы сможем воскликнуть в горячем порыве наших сердец: Да здравствует свобода! Да здравствует родина! Да погибнут ее враги!»
Как только я закончил свою речь, все шапки взлетели в воздух; все были охвачены вдохновением, слезы текли из глаз слушателей. Со всех сторон слышалось: «Да здравствует наш народ! Да здравствует Костюшко! Ясинский! Члены совета и все истинные патриоты!» Эти возгласы искреннего энтузиазма раздавались еще долго; затем эта многочисленная толпа мирно разошлась, и с тех пор более не было речи ни о каких обвинениях в адрес совета, угрозах и тем более – о каких-либо крайних действиях. Этот день, на счастливое окончание которого я не надеялся, но который принес мне истинную радость совершенным восстановлением порядка и спокойствия, – этот день никогда не сотрется из моей памяти!
После того как совет успокоился насчет грозивших городу внутренних беспорядков, он смог гораздо активнее заняться мерами, которые следовало принять против неприятеля. Я сообщил Вавжецкому свой проект по созданию трех или четырех корпусов по несколько сотен человек в каждом под началом смелых и предприимчивых командиров, которые смогли бы проникнуть в разных направлениях и в разные места на границы с Россией. Я предвидел все опасности, которым они могли подвергнуться, и даже не исключал для них возможности быть окруженными, отрезанными и уничтоженными, но я был уверен, что это единственный способ устранить от границ Литвы российские войска, которые вынуждены были бы свернуться и двинуться в сторону прежних границ империи, оказавшихся под угрозой.
Вавжецкий, хотя и одобрял этот проект, указал мне на трудности в его осуществлении и отметил, что 1. нелегко будет найти командиров, которые захотели бы подвергнуться опасности вместе с этими отчаянными головами; 2. если бы таковые и нашлись, то вряд ли можно предположить, что Временный совет, в который входили лица разных взглядов, захочет безоглядно довериться тем, кто возьмется за столь рискованную операцию, успех которой сомнителен; 3. командующий армией вряд ли разрешит расчленить армию и тем самым ослабить ее; 4. следует согласовывать военные действия в Литве с передвижениями армии в Польше и поэтому не должно предпринимать ничего, не получив распоряжений Костюшко.
Я разорвал на глазах у Вавжецкого этот проект, который собирался нести в совет, так как он убедил меня в том, что его могут неправильно истолковать. Тем не менее в дальнейшем будет видно, что сама жизненная необходимость заставила принять этот проект: именно этим диверсиям в направлении границ, как я и советовал, мы были обязаны отсрочкой со взятием Вильны и удержанием остальной территории Литвы нашими армиями.
С тех пор как граждане Вильны избрали меня и совет назначил меня командиром корпуса стрелков, я занимался тем, что набирал людей, экипировал их, вооружал и обучал. Я нес все расходы по этому делу и с тем большим удовольствием, что видел, как мой корпус с каждым днем растет за счет притока молодых людей, вдохновленных лучшими намерениями, среди которых было много талантливых и образованных: они покидали родительские дома и перспективу обеспеченной и спокойной жизни в обмен на неверные надежды – ради счастья послужить своей стране. Известные люди города, негоцианты и художники, разделяли этот энтузиазм и вступали в ряды корпуса либо как солдаты, либо как офицеры.
Я не могу не отдать здесь должное моим бравым стрелкам, командиром которых имел честь быть: все они доказали свою беспримерную храбрость и преданность. Из четырехсот восьмидесяти офицеров и солдат в живых осталось не более сорока к концу восстания – все остальные погибли с оружием в руках. Среди малого числа уцелевших, некоторые из которых еще живы, нет ни одного, кто не был бы искалечен или покрыт почетными ранами.
Я делил свое время между моими обязанностями во Временном совете и военными занятиями, старался также приносить пользу, собирая все средства, которыми располагал, на нужды армии. Я передал сто тысяч флоринов на создание полка Нагурского, закупил лошадей для офицеров моего корпуса стрелков, оружие – для солдат, сукно для мундиров. Вскоре этот корпус, состоявший более чем из четырех сотен хорошо экипированных людей, был готов выступить для боевых действий.
Поскольку я обещал себе ничего не скрывать из того, что со мной было, даже рискуя возбудить подозрения у своих личных врагов, я не могу не рассказать о событии, которое в свое время наделало слишком много шума, чтобы я мог обойти его молчанием, тем более что оно дает пример того, каким опасностям могут подвергаться граждане, даже наиболее преданные родине, посреди революционных событий и волнений.
Я принял решение отправить мою жену из Вильны, чтобы она провела некоторое время в деревне, в семейном кругу, у тетки-генеральши Огинской в Седльце, что в двенадцати лье от Варшавы. Я решил сам сопроводить ее до места. Получив на это разрешение совета, мы, снабженные необходимыми паспортами, выехали на большой почтовый тракт. Едва проехали мы с десяток лье, как повстречались с людьми, которые уверили нас, что видели казаков и банды вооруженных людей, нападавших на путников между Белостоком и Гродно. Не желая подвергать жену опасностям, которых мы могли избежать на другом направлении, я решил свернуть с тракта с намерением проехать через таможню Щебра, затем вдоль границы и прибыть в Седльце, минуя Гродно.
На таможне Щебра мне попался грубый и мстительный интендант, который не забыл, как несколькими годами ранее я, исполняя обязанности комиссара, проверяющего таможни, сместил его с занимаемой им должности и заменил его человеком знающим и опытным. Он увидел, что я прибыл к границе и подъехал к его дому, и решил, что не должен упустить такую блестящую возможность отомстить мне. Он так бы и сделал, если бы я не был уверен в своей невиновности и если бы смелость и присутствие духа вдруг покинули бы меня в этом положении – столь же критическом, сколь и неожиданном.
Этот интендант, по фамилии Гуща, направился ко мне с саблей в руке, остановил мои экипажи, позвал всех своих вооруженных таможенников и толпу крестьян, а затем громко объявил, что я приверженец России, что я хочу пересечь границу, чтобы попасть в Пруссию, и что при мне, помимо важных бумаг, находятся деньги, бриллианты и другие ценные вещи стоимостью в несколько миллионов.
Моим первым движением было схватиться за пистолет, чтобы наказать наглеца, покусившегося на мою честь и жизнь: в ходе революций их можно защитить, только оказывая твердое сопротивление всякому насилию. Но жена остановила мою руку, и во мне гнев сменился рассудительностью: я заявил, уверенно и хладнокровно, что останусь в Щебре, направлю жалобу Временному совету и подожду, пока придет его решение. Моя выдержка обезоружила Гущу, но не заставила его отказаться от своих намерений. Курьер, которого я через час отправил в Вильну с письмами, где кратко описывалось это происшествие, был остановлен таможенниками, а мой пакет был у него изъят.
Со своей стороны, Гуща тоже составил рапорт, преувеличенный и лживый, и отправил его в Гродно. Три дня спустя административный совет этого города, в ответ на этот рапорт, направил ко мне одного из своих членов, который отнесся ко мне со всяческим уважением, но заявил, что уполномочен убедить меня вернуться в Гродно, откуда моя жена сможет свободно продолжать свой путь в Седльце. Он отказался от эскорта интенданта и его таможенников и даже определенно запретил ему сопровождать мои экипажи, но тот, пылая местью, в ожидании награды от правительства, последовал за нами, держась, однако, на некотором расстоянии, до самого Гродно.
По нашем прибытии Гуща с четырьмя таможенниками расположился прямо на площади и провел там всю ночь, чтобы наблюдать за малейшими движениями в доме, который мы занимали.
Назавтра за пределами города был назначен сбор военного корпуса, там присутствовали многие дворяне, и туда сбежалось несколько тысяч любопытствующих людей из народа – увидеть маневры этого нового войска. Гуща отправился туда со своим племянником и, проходя по рядам, старался повторять на мой счет всю ту ложь, которая послужила ему предлогом для моего ареста. Иоахим Хрептович, гродненский дворянин, известный своим патриотизмом и революционными убеждениями, снискавшими ему большую популярность, не мог вынести оскорблений в мой адрес и мысли о той опасности, которой я подвергался из-за этой клеветы. Он бросился к Гуще, высказал ему свое презрение, а затем стал на скамейку, чтобы быть лучше услышанным, и в нескольких словах вознес хвалу моему патриотизму, проявившемуся при разных обстоятельствах. Он говорил об услугах, оказанных мною стране, и особенно – жителям Литвы. Он подчеркнул то усердие, с которым я поддерживал проекты руководителей восстания, создавал на свой счет корпус стрелков, давал значительные средства на первые нужды армии… Он говорил с такой горячностью и произвел такое впечатление на слушателей, что ропот, поднявшийся вначале против меня, сменился выражениями восторга в мой адрес… Но это было еще не все. Оратор сказал, что Гуща – лжец, что им двигала личная ненависть ко мне, что он, по всей вероятности, приверженец России, если отваживается клеветать и портить репутацию уважаемого гражданина, имеющего заслуги перед родиной, – тогда народ бросился на моего обидчика, и тот спасся от оскорблений и пинков только бегством с того места, где думал одержать надо мной победу.
Во время этих событий, о которых я совершенно ничего не знал, я сам просился быть допущенным на заседание совета города, собравшегося в прежнем зале сейма в замке. Я нашел там около тридцати лиц, большинство из которых были мне хорошо известны с определенной стороны. Я заговорил энергичным и уверенным тоном, объясняя, что со мной произошло. Я воспользовался местом, в котором находился, чтобы напомнить, сколько раз в этих же стенах раздавались мои речи – речи человека, преданного своей родине: как я защищал права своих угнетенных сограждан и осуждал тех, кто их тиранил. Я утверждал: если в ходе революции необходимо следить за врагами правого дела и строго их наказывать, то не менее важно заботиться о том, чтобы невинные не были смешаны с виновными и чтобы клевета не могла нанести ущерб их заслуженной репутации… Я напомнил о кровавых сценах, опозоривших французскую революцию в период власти террора… Мне не составило труда доказать, что среди присутствующих не было ни одного, кому удалось бы избежать потери чести, состояния и самой жизни, если бы кому-либо вздумалось бросить на них подозрение с помощью клеветы и если бы для их наказания было бы достаточно только подозрения.
Эта небольшая речь произвела в тот момент тем больший эффект, что в совет пришло известие о том, что произошло за городом. Собрание решило, что не имеет права отвечать на обвинение Гущи, поскольку я являюсь членом Временного совета Литвы и, следовательно, должен оправдываться в Вильно, если от меня этого потребуют. Тут же было приказано отправить паспорта моей жене: она немедленно отправилась в Седльце, а я – в Вильну.
По моем возвращении в этот город я отправился на заседание Временного совета, где честно рассказал о своем приключении – известия о нем дошли сюда раньше меня самого, причем с очень невыгодными для меня подробностями. Я потребовал, чтобы мои бумаги были завизированы, и настаивал, чтобы интендант таможни Щебра был судим и осужден как клеветник и подстрекатель народных волнений и беспорядков. Затем я вышел из зала заседаний и собрал своих стрелков, по-прежнему мне преданных, каждый из которых пожертвовал бы собой, чтобы защитить мою честь. Я продолжил заниматься с ними, как и раньше, по несколько часов в день; тем временем совет отдал приказ комитету общественной безопасности рассмотреть мою жалобу на Гущу и сделать ревизию моих бумаг.
Спустя три дня этот комитет, состоявший из семи членов, передал мне удостоверение о том, что мои бумаги имеют отношение только к моим семейным делам, и прибавил к нему хвалебных отзыв о моем поведении, прошлом и настоящем; этот отзыв был воспринят в обществе с доверием, так как члены этого комитета были признаны всеми как люди чести, безоговорочно преданные родине и новому правительству.
Что касается Гущи, то он не был ни осужден, ни отстранен от должности, так как его поступок приписали избытку старания на службе общественному благу: этот избыток ввел его в заблуждение, но не сделал его очевидно виновным.
Я не обратил особого внимания на свидетельства, переданные мне: уверенность в своей невиновности и верности своему долгу приносила мне больше радости, чем самые многочисленные и лестные высказывания в мой адрес. Тем не менее, после всего, что со мной произошло, я утвердился в решении оставить гражданскую карьеру и стать военным. Я предпочитал погибнуть, сражаясь за родину, нежели подвергаться несправедливым подозрениям, суждениям, продиктованным духом предвзятости, и попадать в тяжелые обстоятельства, из которых не всегда удается так удачно выбраться посреди революционной смуты.
Вавжецкий уже принял такое же решение: получив командование корпусом регулярных войск и волонтеров, он направился в сторону границ с Курляндией, где успешно вел боевые действия. Затем он дошел до Либавы, взял город и был поддержан генералами Ромуальдом Гедройцем и Неселовским, которые, следуя в том же направлении, сдерживали продвижение неприятеля и наносили ему поражения.
Все трое, вместе с храбрецами, которыми они командовали, имели большие заслуги перед родиной, и их действия принесли бы гораздо больше пользы, если бы основные военные силы Литвы были поддержаны помощью, которую они тщетно ожидали от Варшавы.
Глава III
Через несколько дней по моем возвращении в Вильну я отправился к генералу Ясинскому и объявил ему: если он даст мне две сотни кавалеристов и хорошего офицера, на которого можно положиться, то я присоединю к ним моих стрелков, чтобы составить авангард нашей армии, тогда находившейся в бездействии, и направлюсь к Минску. Если я дойду туда, не встретив серьезного сопротивления, я берусь проникнуть на территорию Белой Руси и поднять там десяток тысяч крестьян на землях, принадлежащих моей семье, отпустив их на свободу, – чтобы срочно усилить свой корпус новобранцами, насколько это будет возможно.
Я предполагал, что не составит труда поднять жителей этой провинции, которые уже проявляли желание участвовать в восстании, и что такой демарш вынудит российские войска свернуться к границам империи и уйти вообще из Литвы.
Генералу Ясинскому очень понравилось это предложение, так как он понимал все его выгоды. Однако он не утаил от меня всех опасностей такой экспедиции и беспокойства за меня и за корпус, который доверял моему командованию. Я заверил его, что буду стараться щадить людей и себя самого, насколько это будет возможно. Мы условились, что этот план и маршрут, по которому я собирался идти, останется пока в секрете. Через несколько дней я покинул Вильну с двумя сотнями кавалеристов во главе с бравым майором Корсаком и тремя сотнями моих стрелков.
Мы миновали штаб-квартиру, находившуюся в Ошмянах, в семи лье от Вильны, и прошли три лье в направлении к селу Боруны. Первые дни мне пришлось тяжело, так как сильные отряды казаков все время вступали с нами в стычки. Однако я не потерял ни одного человека – наоборот, мы взяли нескольких пленных, которых я отправил в штаб-квартиру. От них стало известно, что они были отделены от корпуса генерала Кнорринга, который сам с шестью тысячами человек стоял лагерем в шести лье от Борун. С другой стороны, справа от меня, приблизительно на таком же расстоянии, находился такой же значительный корпус под началом генерала Цицианова. Несмотря на это, я настаивал на своем решении двигаться на Минск, до которого оставалось всего лишь десять лье, и потребовал от генерала Ясинского послать сильный авангард в Боруны, которые собирался покинуть. Я направился маршем через Вишнев, чтобы внезапно напасть на Воложин, где, по некоторым сведениям, находилось всего триста человек русской инфантерии и пять десятков казаков.
Я строил свои расчеты на успех на том безопасном положении, в котором находился русский гарнизон, расположенный между двумя сильными армиями по шесть тысяч человек каждая: он не мог ожидать атаки с той стороны, с которой шел я, так как усиленные русские патрули ночью и днем следили за дорогой, ведущей к нашему генеральному штабу. Я рассчитывал также на ночную темноту и на принятую мною предосторожность: моя кавалерия должна была войти в город тремя разными путями, тогда как я сам со своими стрелками продвигался на Вишнев по главной дороге. Все эти предосторожности оказались ненужными, так как по пути нам встретилось лишь четыре десятка солдат с тремя унтер-офицерами и одним лейтенантом, которые спрятались по домам. Стороны обменялись лишь несколькими выстрелами, офицер был серьезно ранен, несколько солдат убиты, остальные сложили оружие и сдались в плен.
Полтора десятка казаков, бежавших при первом приближении нашей кавалерии, посеяли ужас в окрестностях. Они вовремя предупредили князя Николая Зубова, который ничего не опасаясь двигался на Воложин и попал бы к нам в руки в полулье от него, так как не ожидал там нас найти. Он быстро повернул обратно и немедленно отдал приказ окружить меня со всех сторон и отрезать мне путь к отступлению. Поскольку я ничего не знал об этом, то ничего не изменил в своем плане и своих решениях и продолжал двигаться в том же направлении.
Мы нашли в Воложине много вещей из меди, олова и железа, которые были отобраны у окрестных жителей, а также многочисленное стадо и несколько сотен быков, которые были собраны там для российской армии. Я сразу отправил пленных и все, что попало нам в руки, в штаб-квартиру, где Неселовский временно заменял генерала Ясинского. Этот транспорт сопровождался эскортом из двадцати кавалеристов. Так как нельзя было терять ни минуты, то после нескольких часов отдыха я направился в сторону Ивенца – маленького городка в пятнадцати лье от Вильны.
Неподалеку от Воложина мне повстречались два русских курьера, которые везли распоряжения для армии из Петербурга. Я вместе с моим адъютантом и двумя молодыми офицерами-стрелками остановил их. Один из них выстрелил в нас из пистолета и скрылся в кустарнике, другого мы захватили вместе с сумкой с документами и отправили его под конвоем в нашу штаб-квартиру. Этот второй конвой, также как и первый, добрался до места назначения без происшествий, но не смог вернуться обратно ко мне, и это стало первым признаком того, что наше сообщение со штаб-квартирой прервано.
Прибыв в Ивенец, я не нашел там русских военных, так как они срочно ретировались при нашем приближении. Я же был удивлен и смущен, обнаружив там большое количество амуниции, сукна для мундиров и других предметов экипировки для армии, а также серебряную, медную и оловянную посуду и другие вещи, отобранные у местных жителей и сложенные на различных складах и в амбарах.
Я колебался, следует ли мне продолжить движение, оставив здесь эти трофеи стоимостью в несколько сотен тысяч польских флоринов, или же эскортировать их вместе со своим войском по окольной дороге. С нерешительностью было покончено, когда я узнал, что губернатор Минска Неплюев собрал в этом городе все окрестные военные силы, что он забаррикадировался со всех сторон и выставил за пределами города вооруженных крестьян, чтобы они первыми приняли огонь на себя. Этого известия оказалось достаточно, чтобы я решил вернуться в штаб-квартиру. Трудность, однако, заключалась в необходимости найти транспорт для всех этих вещей, которые с трудом вместились бы в две сотни крестьянских телег. Помог случай, но мне недолго пришлось пользоваться полученным преимуществом.
Наутро, прибыв в Ивенец, я не нашел ни лошадей, ни повозок. Однако, поскольку это был день приходского праздника, к дверям церкви подъехало около двадцати экипажей, запряженных четверкой или шестеркой лошадей, которые принадлежали зажиточным жителям окрестностей, а базарная площадь была заполнена сотнями крестьянских телег. Я стал убеждать владельцев вывести меня из затруднения, и все они тут же согласились следовать за мной. Они позволили выпрячь из экипажей своих лучших лошадей – их сразу впрягли в два десятка русских телег, заполненных сукном и амуницией. По их примеру, крестьяне тоже предоставили нам столько лошадей и повозок, сколько нам требовалось, и менее чем за шесть часов сто семьдесят полностью нагруженных повозок были готовы пуститься в дорогу с нашим эскортом. В тот же вечер я покинул Ивенец и отправился по другой дороге – не той, по которой прибыл сюда.
Мне нужно было проехать к селу Бакшты через густые леса, тропинки в которых были перегорожены деревьями, поваленными то ли ветром, то ли самими местными жителями, чтобы затруднить передвижение врагу. Я потратил восемь часов на то, чтобы проложить нам дорогу, и, несмотря на нашу усталость от столь быстрого многодневного марша, мы радовались тому, что сумели ускользнуть от бдительности неприятеля. Но, когда мы приближались к деревне Саковщина, что в полулье от Воложина, до нас донеслись звуки барабанов, труб и пронзительные крики солдат, которые надеялись захватить нас. Я ускорил продвижение нашего обоза, которому повезло пересечь по мосту реку Березину. Сам же остался позади с отрядом кавалерии, чтобы наблюдать за передвижениями неприятеля, а затем, также перейдя мост, приказал офицеру с несколькими волонтерами сжечь его. Предполагалось, что русские не смогут перейти эту болотистую реку вброд и должны будут потратить время, чтобы навести переправу, – а значит, не смогут вскоре продолжить преследование. Мы продолжали свой марш, полумертвые от усталости, но надеясь безопасно добраться до штаб-квартиры, которая, как я полагал, находилась не более чем в четырех-пяти лье. Я не знал достоверно, где мы находимся, так как несколько курьеров, посланных с моими донесениями и известиями о маршруте нашего передвижения, не смогли вернуться и доставить нужные нам сведения.
Только по прибытии в Вишнев я узнал, что наш авангард под началом бригадира Юзефа Вавжецкого и полковника Гушковского был вынужден покинуть Боруны после слабого сопротивления, оказанного ими превосходящим силам генерала Цицианова; что наша штаб-квартира оставалась в Ошмянах и что мне не могли послать подкрепление, так как вынуждены были держать оборону. И наконец, в довершение несчастья, мне сообщили, что офицер Войцеховский, которому я поручил сжечь мост через Березину, лишь разобрал его настил и сам срочно ретировался, то есть этим он подверг меня преследованию и нападению русских, остававшихся позади нас. Это и произошло – гораздо раньше, чем я предполагал.
Когда мы спустились с холма под Вишневом, я остановил обоз и стал изучать по карте дорогу, которой нам следовало идти, так как проход через Боруны был нам закрыт. И тут появился многочисленный корпус казаков, а следом – полк Николая Зубова: они проскакали галопом через Вишнев, порубили саблями нескольких моих офицеров и мародеров, которые там задержались. Мы внезапно оказались атакованными, а в то же время трехтысячный корпус Кнорринга быстрым шагом двигался со своими орудиями, чтобы взять нас в окружение. При первом же сигнале тревоги я бросился на неприятеля, но за мной последовало всего лишь два десятка волонтеров, так как остальная кавалерия пустилась в бегство. Мои стрелки объединились, чтобы оказать сопротивление, и в течение некоторого времени сдерживали натиск русской кавалерии, однако они были вынуждены отступить в заросли кустарника, откуда не переставали стрелять в неприятеля[42].
Так как я безоглядно бросился в атаку, моя шляпа была в нескольких местах пробита пулями, и я бы несомненно погиб, если бы офицер Павлович не схватил мою лошадь под уздцы и тем не заставил меня повернуть.
В этом деле были потеряны все трофеи, взятые в Ивенце, моя касса, в которой было не менее семи тысяч дукатов золотом, много ценных вещей, принадлежавших мне лично, и все мои бумаги. Было убито двенадцать кавалеристов, два десятка волонтеров, двадцать пять стрелков и все мои слуги.
В четверти лье от того места, где мы были атакованы, я нашел свою рассеявшуюся кавалерию. Бравый майор Корсак, лошадь которого пронесла его сквозь ряды неприятеля, присоединился к нам. Отругав солдат, я настоял на их возвращении, чтобы прикрыть хотя бы отступление моих стрелков.
Мне удалось заставить последовать за собой около ста пятидесяти человек, но мы увидели только, как весь наш обоз повернул в сторону Вишнева. Мои стрелки вышли из леса, а неприятельская кавалерия продолжала двигаться к нашим флангам, чтобы окружить нас и не дать отступить. Таким образом, нам пришлось отступать второй раз, что мы и сделали в полном порядке, не потеряв ни одного человека. Мы с трудом нашли кратчайший путь, который привел нас к позициям нашей армии. Избежав атаки корпуса Кнорринга, мы в течение нескольких часов отбивались от нападений патрулей корпуса Цицианова. Наконец, с наступлением ночи, нам удалось соединиться с авангардом нашей армии в Крево.
На следующее утро я отправился в нашу штаб-квартиру, которая по-прежнему находилась в Ошмянах. Генерал Ясинский и все доблестные офицеры его армии, уже не ожидавшие меня увидеть, встретили меня по-дружески, упрекали за мою отчаянность и старались утешить в испытанных мною превратностях. Спустя сутки вернулись и мои стрелки, в добром порядке, несмотря на усталость от непроходимых лесов и дорог. Затем я немедленно отправился в Вильну, где был встречен публикой самым доброжелательным образом, и этот прием вдохновил меня подумать о том, чтобы попробовать еще попытать военного счастья.
За то время, что я отсутствовал в этом городе, здесь произошли немалые изменения в составе гражданского и военного управления Литвой. Костюшко призвал к себе нескольких членов нашего Временного совета, чтобы ввести их в Высший совет в Варшаве. Ясинский должен был также отправиться к Костюшко, как только генерал Михал Вельгорский прибудет в Вильну, чтобы заменить его на посту командующего армией Литвы. Эти перемены одобрялись одними и осуждались другими – явно ощущались разногласия во мнениях публики. Революционно настроенные лица жалели о Ясинском, чьи крайние принципы их устраивали; умеренные же лица радовались назначению Вельгорского, так как он отличался мягким характером и уже не раз давал доказательства своего военного таланта. Впрочем, никто не решался высказать громко свое мнение, так как Костюшко пользовался всеобщим доверием, и все его решения считались неоспоримыми.
Вельгорский прибыл в Вильну через несколько дней после моего возвращения туда. Он был в ужасе, читая доклад о состоянии армии, и ужаснулся еще более, когда сам произвел ей смотр: в ней имелось слишком мало солдат, которые были в состоянии сражаться, не хватало артиллерии и снаряжения. Он понимал растерянность этих войск перед лицом неприятеля, – так как они просто не имели средств его атаковать и заставить отступить из окрестностей Вильны.
Первым его движением было отказаться от командования войсками Литвы и вернуться к большой польской армии, но его друзья указали ему на неуместность такого демарша и убедили его послать секретного курьера к Костюшко, чтобы сообщить ему о положении дел и попросить у него советов и распоряжений, а главное – артиллерии, снаряжения и подкрепления людьми и лошадьми.
Вельгорский попросил меня взять на себя эту миссию, и я с удовольствием согласился. Мы с ним имели долгий разговор, и он сообщил мне много деталей и своих наблюдений, о которых не мог написать в депешах. Наконец, несколько часов спустя, я отправился в путь в качестве курьера, чтобы как можно быстрее оказаться в штаб-квартире Костюшко.
Глава IV
Я был польщен доверием Вельгорского и горд тем, что могу выполнить поручение, имевшее в тот момент чрезвычайную важность. Я сгорал от нетерпения увидеть Костюшко и его храбрых товарищей по оружию; я жаждал обнять своих старых товарищей и быть свидетелем их энтузиазма!.. Но я никак не ожидал, что прибуду в Варшаву на следующий же день после трагических событий, очернивших собой несколько страниц истории этой революции, которая должна была иметь целью лишь свободу и независимость Польши.
Я прибыл в Варшаву ночью 29 июня, проделав путь из Вильны за пятьдесят часов. Там я застал всеобщее ожесточение после достопамятных дней 27 и 28 июня, о которых уже упоминалось в 3-й книге «Мемуаров». Я сразу отправился к Костюшко в его лагерь в Працка-Вульке что в трех лье от Варшавы. В пять часов утра меня ввели в его палатку, где он отдыхал на охапке соломы после ночного обхода лагеря: неприятель не переставал беспокоить лагерь. Он встал, чтобы сердечно обнять меня и выразить дружеские чувства, которые всегда ко мне испытывал. Прежде чем вскрыть пакет, который я ему передал, он подробно расспросил меня о положении дел в Литве, пояснив, что такой курьер, как я, может дать ему устно не менее точные сведения, чем те, которые содержатся в письменном донесении на его имя. Затем он вскрыл письмо от Вельгорского, внимательно прочел грустные известия, содержавшиеся в нем и совпадавшие с тем, что я ему уже рассказал. Он был живо тронут, но сказал мне, что, будучи сам окружен неприятелем, стоявшим почти уже у самой Варшавы, не может дробить свои силы и послать просимую помощь Вельгорскому.
Затем он прочел доклад Ясинского о моей собственной экспедиции и лестные отзывы Вельгорского о моем старании и преданности. Он крепко пожал мне руку и поблагодарил за то, что я служу примером своим соотечественникам и даже испробовал себя в опасном деле, совершенно новом для меня, чем заслужил себе еще больше чести. Он сказал мне: «Раньше вы работали только у себя в кабинете и приносили пользу родине своими знаниями и талантами; вы, конечно, вернетесь к своим прежним занятиям, когда, с Божьей помощью, мы победим врага и в нашей стране восстановится мир и спокойствие. Сегодня же нам нужнее всего храбрые солдаты… Пример, который подаете вы, богатые вельможи из самых знатных семей, не может не произвести самое большое впечатление, потому что вы жертвуете ради родины гораздо большим, чем другие… Я хотел бы, чтобы все сражались без лишних раздумий, беспокойств и не вмешивались в дела, которые их не касаются. Посмотрите, какие трагические события происходили в Варшаве – и почти на моих глазах!.. Толпа позволила себе непростительные крайности, которые я вынужден был строго пресечь… Позавчерашний день останется несмываемым пятном в истории нашей революции, и я могу уверить вас, что две проигранные битвы принесли бы нам меньше позора, чем этот несчастный день: наши враги обязательно воспользуются им, чтобы составить о нас дурное мнение в глазах всей Европы!.. Передайте Вельгорскому, скажите всем нашим соотечественникам в Литве, как глубоко я опечален этим неожиданным событием! Еще более опечален я теми жесткими мерами, которые вынужден буду принять, но я свое решение принял и, вопреки той снисходительности, в которой меня обвиняют, я сумею сурово наказать виновных, так как того требуют интересы нашего государства и надежда на успех нашего дела».
Лицо Костюшко, бывшее обычно спокойным и вежливым, все более оживлялось по мере того как он говорил. Нас прервал приход нескольких членов Высшего совета, которые явились за приказаниями генералиссимуса, и депутации от города – с оправданием магистрата за то, что он не смог предотвратить 28-го числа бесчинства толпы простонародья: причиной этого была указана слабость городского гарнизона.
Костюшко принял эту депутацию с достоинством и высказал ей суровые упреки. Он сказал им, что его солдатам хватает сражений с врагом, что он не может употреблять часть своих военных сил на поддержание общественного порядка в Варшаве. Если бы городская гвардия была хорошо организована, ее начальники – более бдительны, полиция – активнее, а магистрат – менее беспечным, то скандальных событий 27-го и 28-го могло бы не произойти. Он прибавил, что каждый владелец собственности должен быть заинтересован в сохранении внутреннего порядка в городе, так как его состояние и личная безопасность зависят от мер, принимаемых для предотвращения народных волнений. Лично он не может быть одновременно генералиссимусом армии и начальником варшавской полиции. Он повторил свои требования провести самое подробное расследование всего, что происходило в эти несчастные два дня, и сделать ему об этом самый точный доклад; разыскать самых ярых бунтовщиков и всех наиболее виновных и арестовать их впредь до его нового распоряжения[43].
После этого Костюшко отослал от себя депутацию и, обернувшись ко мне, сказал, что вынужден отлучиться на несколько часов, так как услышал залпы орудий, которыми его аванпосты подали знак, что в неприятельском лагере началось какое-то движение. Он прибавил, что я, отобедав с ним, смогу в тот же день отправиться обратно и что по возвращении он передаст мне свои письменные распоряжения для Вельгорского и некоторые устные указания.
За то время, что Костюшко отсутствовал, я обошел лагерь с одним из его друзей-офицеров. Там царили порядок, спокойствие и искреннее веселье. Воинственный настрой солдат свидетельствовал о желании сражаться с врагом и о вере в победу под началом вождя, покрывшего себя славой и заслужившего любовь и доверие всех, кто его окружал. Вряд ли где-нибудь в военное время мог быть более глубокий мир и спокойствие, чем в этом лагере, где всего было в полном достатке, где артиллерия, кавалерия и инфантерия были в равной степени хорошо организованы и снаряжены. Офицеры, к которым я обращался с разговором, были преисполнены любви к родине, преданности своему делу и восхищения своим вождем. Некоторые солдаты жаловались только на бездействие и на то, что будучи почти каждый день поднимаемы по тревоге, не получают приказа атаковать врага и сражаться с ним. Впрочем, они добавляли, что генералиссимус лучше знает, что делать, и что он откладывает битву лишь для того, чтобы иметь более верный успех. Один старый капрал, качая головой, сказал мне сердито, что тот пушечный залп, который недавно раздался, был лишь ложной тревогой со стороны неприятеля, не решавшегося напасть, и что сегодняшний день, так же как и предыдущие, пройдет без всяких решительных действий.
И действительно, пушечных залпов больше не было. Через несколько часов Костюшко вернулся. В своей палатке он прилег, пригласил меня присесть подле него и долго рассказывал, что я должен передать Вельгорскому от его имени. Он просил его не отказываться от командования армией Литвы, убеждал его набраться терпения и не отчаиваться из-за плохого состояния своего войска и тех препятствий, с которыми он сталкивается при выполнении полученных приказов. Он призывал его поддерживать бодрость духа в обществе и сохранять строгую субординацию в армии, советовал ему не ввязываться в дело, результаты которого могли оказаться гибельными, если придется потерпеть поражение и отступить, оставив Литву русским и тем дав им возможность подойти на подкрепление к войскам, стоявшим под Варшавой. Костюшко пояснил, что российские и прусские силы, стоявшие перед ним, настолько значительны, что он может только сдерживать их, не будучи в состоянии их успешно атаковать. В конце он поручил мне заверить Вельгорского, что если его планы, о которых он пока не может мне сообщить, осуществятся, то он сможет через несколько недель послать в Литву генерала Мокрановского с корпусом в восемь-десять тысяч человек и колонной артиллерии.
Я рассказал Костюшко о своем проекте, который хотел представить Временному совету и от которого меня отговаривал Вавжецкий: послать несколько корпусов волонтеров к прежним границам с Россией. Он горячо одобрил этот проект и прибавил, что его польза уже была доказана определенным успехом: мои попытки продвижения в сторону Минска и диверсия Вавжецкого в сторону Курляндии имели положительный результат: эти вылазки в противоположных направлениях мешали соединению различных русских корпусов и не позволили неприятельской армии бросить все свои силы против армии Литвы. Он заверил, что это уже было большим успехом, так как вполне вероятно, что армия Литвы, с ее слабыми средствами, не выстояла бы до сих пор против хорошо обученных и численно превосходящих сил противника.
Костюшко поручил мне отстоять свой проект и настаивать на своем решении самому возглавить эту экспедицию, благодаря которой я заслужу тем более чести, что такое предприятие очень опасно; обязать Вельгорского доверить мне отряд кавалерии и моих стрелков и отдать под мое начало ополчение, состоящее из дворянства разных областей. Он подсказал мне, что наиболее полезной будет экспедиция в сторону Ливонии и Курляндии, чтобы вынудить русских разделить свои силы, направленные против Вавжецкого, облегчить нам обоим сообщение между собой и согласованные действия, которые помешают неприятелю сосредоточиться в окрестностях Вильны.
Из палатки Костюшко мы перешли к накрытому под деревьями столу. Тот более чем скромный обед в компании десятка приглашенных никогда не сотрется из моей памяти. Он был украшен присутствием великого человека, которым восхищалась вся Европа. Этот человек был ужасом для врагов и кумиром всей нации. Возведенный в достоинство генералиссимуса, он не имел иного честолюбия, кроме желания служить своей родине и сражаться за нее. Он всегда оставался скромным, любезным и мягким, не носил никаких знаков отличия той высшей власти, которой был облечен, был одет в редингот из плохого серого сукна, а его стол был сервирован не лучше, чем у любого субалтерна. Такой человек не мог не вызывать во мне чувств уважения, восхищения, почтения, которые я неизменно испытывал к нему во все периоды моей жизни.
После обеда он передал мне пакет, адресованный Вельгорскому, и подписал все патенты, которые я представил ему на офицеров моего корпуса стрелков. В большом волнении я расстался с ним и проехал через Варшаву не останавливаясь, чтобы как можно быстрее вернуться в штаб-квартиру армии Литвы.
Нашел я Вельгорского в Вороново, в девяти лье от Вильны. Наш лагерь в Литве сильно отличался от того, который я недавно покинул. Я не знаю, на кого следует возложить вину за эти оплошности: большинство офицеров штаба играли по-крупному в штабе главнокомандующего, где стоял, к тому же, обильно сервированный стол, – тогда как солдатам не хватало продовольствия, а лошадям – фуража. Так же очевидно было и то, что наша армия находится как бы на отдыхе, не обременяя себя чувством опасности, тогда как Вильна, без всяких средств защиты, оказалась предоставленной своей судьбе.
Глава V
Российские войска, стоявшие лагерем под Солами, в ночь с 17 на 18 июля внезапно покинули свою позицию, продвинулись ускоренным маршем в сторону Вильны и атаковали наши аванпосты на рассвете 19-го. К полудню колонна генерала Кнорринга вынудила поляков покинуть батареи, защищавшие подходы к городу со стороны Остробрамских ворот. В это же время колонна Николая Зубова направлялась к предместью Заречье. Атака на эти два пункта сопровождалась ожесточенной канонадой и продолжалась до семи часов вечера.
19-го числа польский корпус под началом генерала Мейена, стоявший в Неменчине, в одном лье от Вильны, был вынужден отступить. Храбрый генерал Ежи Грабовский долго держался во главе совсем слабого гарнизона внутри города, причем стоял твердо, несмотря на яростные атаки русских и их убийственную артиллерию, против которой, за неимением достаточного количества орудий, ничего нельзя было сделать.
Горожане Вильны являли чудеса храбрости, отчаянно бросаясь на неприятеля, который проник с двух разных сторон в предместья города и поджег все дома, к которым сумел подступиться. Мои стрелки, из которых в Вильне находилось не более трех десятков, так как все остальные несли службу в лагере, бегом заняли позиции на высоких стенах и крышах домов, откуда стреляли в неприятеля, не делая промахов, но сами оставались недоступными для выстрелов.
Храбрый артиллерийский офицер Горновский увидел, что одни из городских ворот, Остробрамские, вот-вот будут выбиты неприятелем, и подоспел туда с горсткой смельчаков, подтащив с собой пушку, которую нацелил прямо на ворота. Когда неприятельская колонна вышибла ворота и уверенным шагом уже направлялась в город, он так удачно пустил в дело эту единственную пушку, заряженную картечью, и оказал вместе с малым числом своих смельчаков такое упорное сопротивление, что русские вынуждены были отказаться от атаки в этом месте и отступить.
Однако русские стянули все свои силы в окрестности Вильны и продолжали яростно атаковать город. В это время наша штаб-квартира продолжала еще оставаться в Вороново. 19 июля в одиннадцать часов вечера Вельгорский получил донесение от генерала Мейена, защищавшего батареи перед Вильной, что он вынужден был пробиваться через неприятельские войска и отступить в Соленики, в одном лье от города; что Ежи Грабовский, который противостоял неприятелю лишь с несколькими сотнями человек, не может оказывать длительного сопротивления и будет вынужден покинуть город; что в этом случае русские неизбежно захватят город, если армия Вельгорского немедленно не придет на помощь.
Мы покинули Вороново в час ночи, оставив там свой обоз под охраной резерва в две тысячи человек под началом Павла Грабовского. После непрерывного ночного перехода мы прибыли к полудню в Яшуны, в четырех лье от Вильны. Наш артиллерийский обоз был почти не в состоянии более двигаться: лошади падали прямо на дороге от голода и усталости. Солдаты тоже были полумертвыми от усталости, так как уже несколько дней у нас не было продовольствия. Офицеры вслух жаловались на то, что генерал затянул пребывание в Вороново, не сумев предвидеть приближения врага к Вильне и помешать ему.
Печальным было положение армии под Вильной в то время, когда мы остановились в Яшунах, чтобы немного отдохнуть. Именно туда срочно прибыл Ян Вейсенгоф, чтобы сообщить Вельгорскому обо всем, что произошло в Вильне, и чтобы побудить его ускорить свой марш. Генерал немедленно послал своего адъютанта с распоряжениями Мейену и Грабовскому удерживать свои позиции и сообщить им, что он сам находится на марше недалеко от Вильны с корпусом в шесть тысяч человек. Когда его адъютант прибыл в Коржич, что в одном лье от Яшун, то обнаружил там сильный казачий отряд. Он сразу вернулся, чтобы известить генерала о том, что сообщение между Вильной и Коржичем перерезано неприятелем. Вельгорский был чрезвычайно обеспокоен и, будучи в неведении относительно судьбы Вильны, не знал, в каком направлении ему следовало двигаться, если город уже будет занят неприятелем. Он обратился к окружавшим его офицерам и спросил, кто из них возьмется пробраться в окрестности Вильны, чтобы добыть ему точные сведения, захвачен ли город неприятелем или еще сопротивляется. Я сказал, что могу взять на себя это опасное поручение, если он даст мне два десятка кавалеристов; я заверил генерала, что, имея многие владения в окрестностях Вильны, я смогу найти там проводников и проехать окольными дорогами до самого города. Вельгорский был в восторге от моей решимости. Мои друзья отговаривали меня от этого безрассудного намерения, а некоторые офицеры насмешничали, называя его между собой «фанфаронадой». Однако нельзя было терять ни минуты, и я направился прямиком на Коржич: там я уже не встретил казаков, но узнал, что их много на дороге в Вильну. Тогда я свернул влево, через свои леса, в которых знал каждую тропинку, и добрался без приключений до деревни, расположенной в полулье от Вильны; здесь я нашел около восьмидесяти наших волонтеров, которые предупредили меня не ехать дальше, но сообщили, что город еще сопротивляется. Я набросал несколько слов карандашом для Мейена и Грабовского, чтобы сообщить им о приближении нашей армии, и отдал эту записку надежному крестьянину, который и отнес ее по назначению. Я же привел мой эскорт обратно в Коржич и оставил его там наблюдать за передвижениями неприятеля, а сам присоединился к Вельгорскому, которого встретил уже на марше на некотором расстоянии оттуда.
Я сообщил генералу о своих действиях, и заверил его, что город не захвачен неприятелем, так как, помимо известий, полученных мною от волонтеров, я слышал вдоль дороги звуки сильной канонады, что свидетельствовало о продолжающихся атаках и обороне. Я убеждал его еще более ускорить марш, не останавливаться в Коржиче и идти по главной дороге прямо к воротам города. Я заметил ему, что русские и сами должны были устать от своих безрезультатных усилий, и потому, увидев нашу армию нападающей на них сзади, они неизбежно отступят.
Вельгорский разделял, казалось, мое мнение. Однако, прибыв в Коржич к восьми часам вечера, он посоветовался с несколькими адъютантами и решил дать войску ночной отдых. Верно то, что солдаты и лошади были измучены усталостью, но днем позже события доказали, что если бы тогда же были посланы всего два эскадрона кавалерии и один батальон инфантерии, то осада Вильны была бы снята еще до восхода солнца.
Большинство наших доблестных офицеров провели в Коржиче бессонную ночь. Их мучило опасение, что город может быть захвачен врагом прямо у них на глазах. Пламя, пожиравшее город, бросало жуткие отблески даже на том расстоянии, в котором мы находились от города, то есть на три лье. Но наше огорчение достигло предела, когда на заре, вместо того чтобы идти на Вильну, генерал распорядился отправиться по Вака-Гродненской дороге: если Вильна уже захвачена, объяснил он, то мы сможем отступить к Гродно.
Полковник Бишевский со своим полком уже был послан без нашего ведома, чтобы создать на этом направлении авангард, и получил приказ ждать нас в Ваке. Мы шагали уже три или четыре часа, но все еще продолжали слышать сильную канонаду, которая явно говорила о том, что Вильна защищается. Ничто, однако, не могло отвратить генерала от его плана. Он вновь приказал дать отдых уставшим солдатам, которые уже потеряли надежду вернуться к стенам родной столицы. Многие из наших доблестных офицеров, окружив меня, стали уговаривать взять разрешение у генерала идти с отрядом кавалерии прямо на Вильну. Я без колебания сделал это предложение Вельгорскому, тем более что таково было и мое мнение и я сам хотел участвовать в этом предприятии. После долгих колебаний и обсуждений генерал наконец разрешил полковнику Гушковскому с отрядом кавалерии и храброму Этьену Грабовскому с батальоном седьмого полка идти маршем на Вильну. Он не разрешил моим стрелкам следовать за ними и задержал меня самого под предлогом, что я необходим ему здесь для командования, в случае необходимости, восьмым полком, который не имел командира.
Я неохотно подчинился такому решению на мой счет, но утешал себя уверенностью в успехе нашего предприятия. И действительно, при приближении наших улан казаки исчезли, неприятельская армия отступила, и наши храбрецы вошли в город, не потеряв ни одного человека. Когда генерал получил известие об этом, все наши воины с радостью в сердцах с приближением ночи последовали за этим авангардом и, пройдя через город, стали лагерем со стороны Погулянки.
Генерал Вельгорский расположился в харчевне в самом городе, мы же, его свита, позабыв о своем нетерпении и тревогах, беспечно предались отдыху. Между тем наша безопасность была весьма относительной, так как неприятель находился у ворот города: его лагерь в Неменчине располагался всего лишь в одном лье от нас.
Малочисленный гарнизон города мог лишь слабо сопротивляться врагу. Вильна была оставлена без артиллерии и с малым снаряжением. Удаленное расположение армии Вельгорского в то время, когда русские атаковали Вильну, и медлительность его продвижения на помощь городу без понятных на то причин – все это рождало подозрения и возбуждало общее недовольство у жителей нашей столицы.
Большие группы людей собирались на площади и главных улицах города, громко возмущались Вельгорским и вообще всеми, кто носил военный мундир. Горожане, давшие столь явные доказательства своей храбрости в отражении врага, считали, и с достаточными основаниями, что это им город обязан своим спасением. Будучи уверены, что они сделали для города гораздо больше, чем военные, они набрасывались с оскорблениями на тех из них, кто им встречался, и главным образом – на офицеров из штаба и свиты Вельгорского.
Усталость горожан от долгого и упорного сопротивления, тревога за своих жен, детей, за свою собственность, ущерб от пожаров в предместьях и различных кварталах города, печаль о многих убитых жителях, которые пожертвовали собой ради общего дела, – все это отчасти оправдывало общее возмущение горожан.
Необходимо было, однако, срочно восстановить порядок в городе и предотвратить опасные последствия, которыми неприятель не замедлил бы воспользоваться. Князь Казимир Сапега[44], служивший волонтером под началом Вельгорского, решил обуздать народ и употребил все свое красноречие, чтобы успокоить разгоряченные умы, но был прерван криками и угрозами: со всех сторон ему выкрикивали, что здесь не заседание сейма и что нужно бить врага, а не разглагольствовать.
Ежи Грабовский, не раз жертвовавший собой при защите города, был арестован людьми из народа, которые хотели узнать о причинах его действий, и в частности – о пушках, которые он якобы велел утопить, что было совершенной неправдой.
Мои стрелки были почти единственным исключением среди военных: к ним относились благосклонно, потому что видели их храбрость и преданность во время последней атаки на город, и еще потому что все, кто входил в состав этого корпуса, имели родственников или друзей среди горожан.
Из этих соображений, несомненно, я и был принят в городе так доброжелательно. Я воспользовался этим, чтобы усмирить волнения, протесты и стычки, вспыхивавшие в разных кварталах города между горожанами и военными.
Вельгорский, напуганный возможными грозными последствиями такого недоброжелательства, понадеялся справиться с ним посредством публикации обращения к жителям Вильны. Он поручил мне составить его, и менее чем через шесть часов оно было напечатано и роздано. В нем восхвалялось мужество и преданность горожан, но указывалось также, что к защите города их побуждал собственный интерес уберечь от угрозы свои дома, свои семьи, свою собственность. В нем же отдавалась справедливость солдатам, которые, не имея таких личных интересов, постарались прийти на помощь Вильне, ведомые исключительно чувством долга, не боясь пролить свою кровь там, где того требовали интересы их соотечественников. Было дано понять, что та рознь, которую старались посеять между горожанами и военными, являлась делом рук клеветников и предателей. Было указано, что эти клеветники сидят в самом городе, но общаются с врагами, которым служат агентами и шпионами; что враги стоят у ворот города и не преминут воспользоваться теми разногласиями, которые сами и вызвали; что не только Вильна может пасть жертвой наших внутренних раздоров, но что вся Литва может быть вовлечена в эту распрю и мы не сможем потом предотвратить ее даже нашими объединенными усилиями.
Этого оказалось достаточно, чтобы привести в разум и успокоить людей, у которых было только одно желание: отразить врага и предупредить опасность нового нападения. Назавтра же можно было видеть, как горожане и военные дружески подавали друг другу руки – и для восстановления этого согласия было самое время, так как неприятель, знавший обо всем от своих шпионов, ожидал лишь сигнала, чтобы заявиться к воротам города.
После восстановления согласия между горожанами и военными, обманутый в своих ожиданиях неприятель решил попытаться хотя бы напугать нас. Спустя три дня после нашего прихода в Вильну Вельгорскому сообщили, что неприятельская колонна движется из Неменчина в направлении города. Наши аванпосты были отброшены. Казаки свободно разгуливали на батареях, установленных неподалеку от города: они выбили оттуда офицера Нелепеца с тремя сотнями инфантерии и несколькими пушками.
Мы обедали, когда об этом доложили генералу. Наша армия стояла лагерем с противоположной стороны, в четверти лье от города. Офицеры генеральской свиты отослали от себя оседланных лошадей, так как не рассчитывали, что они могут так скоро понадобиться. Потребовалось некоторое время, чтобы были отданы приказы войскам, но, к счастью для нас, эта атака со стороны русских была ложной: несколько дней спустя стало известно от нескольких пленных, приведенных в наш лагерь, что у противника не было больше снаряжений: все они были полностью истрачены в предыдущей атаке на Вильну.
Адъютант Брониковский, находившийся у ворот города с отрядом в пятьдесят улан, отогнал казаков от наших батарей. Я получил приказ вернуть Нелепеца с его пушками на покинутый им пост. Затем я присоединился к генералу Вельгорскому, который со ста пятьюдесятью кавалеристами и одной пушкой лично двинулся в сторону неприятельской колонны. В нашу сторону полетело несколько ядер, на что мы ответили выстрелом из единственной пушки, которую имели. Неприятель был изумлен этим безрассудным выпадом горстки людей, спокойно подошедших так близко к нему со столь воинственными намерениями. Он предположил, что все остальные наши войска пошли в другом направлении, чтобы обойти его со стороны Неменчина. Не имея намерения серьезно столкнуться с ними, неприятель отступил, а мы спокойно вернулись в город раньше, чем наша армия успела через него пройти, чтобы выйти навстречу неприятелю.
Нетрудно догадаться, что русские, стоя так близко к Вильне, знали о том, что в ней происходит, и о наших слабых средствах сопротивления и потому ожидали лишь нового подкрепления и снаряжения, чтобы вновь атаковать нас, – что вскоре и произошло.
Спустя несколько дней наше бездействие начало уже нас беспокоить. Нет сомнения в том, что если бы мы постарались выбить русских с их позиции в Неменчине раньше, то это предприятие удалось бы, так как у них не было ядер и пороха, а количество людей не превышало семи тысяч. Но генерал Вельгорский, по собственному убеждению и согласно с приказами Костюшко, избегал решительных действий и не отваживался что-либо предпринять.
Возможно, он и был прав, но офицеры и солдаты возмущались таким его поведением. Недовольство, и даже недоверие, все более овладевали умами жителей Литвы, и главным образом – Вильны. Им казалось справедливым обвинять нас в бездействии, которое расхолаживало наши войска и убеждало неприятеля в нашей слабости и бессилии. Впрочем, было очевидно, что, сосредоточив армию Литвы в окрестностях Вильны, мы исчерпали все возможности жителей этих провинций, не дав им взамен перспективы более утешительного будущего, так как раньше или позже наши войска, не получая подкрепления из Варшавы, должны были отступить и впустить в город русских, чья армия ежедневно получала новые подкрепления.
Известно, что через две недели после событий, которые я здесь описал, неприятельская армия насчитывала уже около четырнадцати тысяч человек.
Я чувствовал, возможно лучше, чем кто-либо другой, печальное положение Литвы: ранее я видел вблизи то, что происходило в Польше, и когда предавался размышлениям о будущем – оно виделось мне в черном свете!.. И все же нужно было испить чашу до дна и исполнить до конца свой долг.
Глава VI
В последние дни июля 1794 года я предложил генералу Вельгорскому провести экспедицию в сторону Ливонии и Курляндии, как этого желал и Костюшко. Я указал ему на то, что такое предприятие будет полезно уж тем, что доставит нам точные сведения о передвижениях неприятеля и задержит отправку подкрепления русской армии, которая держала в плотной осаде Вильну. Генерал, после долгих раздумий, решился наконец уступить моим настояниям. Он дал мне пятьдесят кавалеристов, с которыми я должен был присоединиться к дворянским ополчениям, собравшимся в районах Завилья, Браслава и Вилькомира. Он приказал генерал-майорам Зеньковичу, Беликовичу и Морикони, возглавлявшим их, поступить под мое начало. Это была очень своевременная мера, так как эти доверенные мне корпуса уже потерпели несколько поражений, были ослаблены и потеряли надежду на успех.
Я покинул Вильну 1 августа 1794 года и направился через Неменчин в Свенцяны. Этот наш переход был очень тяжелым. Мы двигались на небольшом расстоянии от русских частей, направлявшихся к Вильне, и повсюду, до самых границ Курляндии, нам в глаза бросались частные дома и целые деревни, преданные пожарам.
В тридцати лье от Вильны, в окрестностях Вилькомира, что граничит с Курляндией, я соединил вышеназванных генерал-майоров с их корпусами. Так в моем распоряжении оказалось около тысячи кавалеристов, половина из которых были слабо экипированы, и около тысячи пятисот пехотинцев, из которых едва ли три сотни имели ружья. Все остальные были вооружены только пиками. Вся наша артиллерия состояла из двух маленьких пушек.
Вся эта людская масса горела энтузиазмом, но не имела должной дисциплины и выучки, так как на это не было времени, – потому с ней и невозможно было предпринять серьезных действий. Мы избегали столкновения с неприятелем лишь по счастливой случайности, а в дополнение к ней я принимал еще и меры предосторожности: посылал впереди себя распоряжения о заготовке провизии и фуража, по которым можно было предположить, что у меня под началом находится войско в шесть тысяч человек со значительным артиллерийским обозом.
Рано или поздно правда должна была раскрыться, и я, боясь серьезной атаки и будучи не в состоянии принять бой, решил оставить в Дусятах, в безопасном месте, корпус, которым командовал, и проложить себе путь, вместе с Гедройцем, Вавжецким и горсткой храбрецов, до самой Двины.
С этой целью я отобрал три сотни кавалеристов из самых решительных, которые считали за честь следовать за мной; с ними я пересек Курляндию и направился в Ливонию.
Я знал, что на другом берегу Двины, в Динабурге, нет сильного гарнизона, мне было известно также, что большинство орудий там было разобрано, что там были значительные запасы пороха и что туда несколькими днями ранее завезли российскую войсковую казну, в которой было несколько миллионов рублей.
Вполне вероятно, что мы могли бы взорвать склады с порохом, забрать годные к перевозке пушки и завладеть казной, если бы все мои приказы были выполнены. Но патруль из пятидесяти человек, который я выслал к Двине с заданием перейти реку и облегчить переход через нее остатку моего маленького отряда, все еще находился по эту сторону реки, когда мы, проведя в походе всю ночь, прибыли туда. Я рассчитывал прибыть в Динабург внезапно, но мои намерения оказались уже раскрытыми.
От города нас отделяла река. Раздался набатный звон, послышались встревоженные крики женщин и детей; мы увидели около сотни инвалидов, часть из которых, с помощью жителей, ставили пушки на лафеты, а другие – наводили на нас те, которые могли стрелять. Наконец в нашу сторону полетело несколько ядер, кое-как нацеленных, которые не причинили нам никакого вреда, но я все же решил отложить на некоторое время исполнение своего плана, так как его результаты уже не могли бы соответствовать задуманным ранее.
Русские позаботились о том, чтобы немедленно вывезти войсковую казну из города. Порох поместили в безопасное место. По всем окрестным деревням была объявлена тревога, собраны отряды из крестьян – приготовились к серьезной обороне.
И все же я надеялся на те средства, которые выручали меня до сих пор. Я приказал майору Хороденскому с двадцатью кавалеристами переплыть Двину в двух лье ниже по течению от Динабурга. Неожиданное появление этой кавалерии, которую приняли за авангард значительного войска, вызвало растерянность в городе. Я воспользовался ею, чтобы отправить полковника Яна Зеньковича с военной трубой к коменданту Динабурга, и тот немедленно выслал лодку для моего парламентера. Ему было поручено предложить достойные условия сдачи города и пригрозить, в случае отказа, что назавтра же будет начат обстрел города. Ему было приказано также немедленно возвращаться, если капитуляция города по всем намеченным мною пунктам будет подписана. В этом случае он также должен был потребовать лодки, дабы переправить нас на другой берег, так как противник заранее позаботился о том, чтобы убрать все лодки, находившиеся на нашей стороне.
Ночью я приказал расставить в кустах фуры, и тем самым было создано впечатление целого артиллерийского обоза. На рассвете я подошел к берегу Двины и, не увидев Зеньковича возвращающимся, пригрозил сжечь город, если его не отпустят. Через некоторое время он вернулся и сообщил, что Гулевич подписал капитуляцию с согласия нескольких старых офицеров, но затем отказался ее передать, так как более молодые офицеры и особенно унтер-офицеры и солдаты резко воспротивились капитуляции и даже угрожали ему. Пришлось нам отказаться от дальнейших попыток такого рода, так как они становились совершенно бесполезными. К тому же гарнизон города был к тому времени усилен и достиг пяти сотен человек, а горожанам было приказано вооружиться и укрепить его собою.
В нас начали стрелять, но мы не могли ответить тем же. Мои храбрецы не дрогнули, несмотря на ядра, катившиеся к их ногам; их выдержка еще раз показала мне, на что способны пойти поляки, когда они доверяют своему вождю. Они не задумываясь бросились бы вплавь, чтобы взять приступом город, но эта отчаянная храбрость не принесла бы успеха. К тому же было понятно, что к Динабургу ожидается подкрепление, поскольку во все стороны от него уже были разосланы курьеры. Я приказал своей кавалерии отступить и решил вернуться к своим товарищам по оружию в Дусяты, в десяти лье отсюда.
Тем временем три десятка волонтеров, которые успели переплыть реку в полулье ниже по течению, проникли в город в то время, когда я отходил от него. Стреляя из пистолетов на узких улицах между домами с соломенными крышами, они, к несчастью, вызвали этим пожары и превратили в пепел часть городских строений.
Я был сильно раздосадован, когда заметил густой дым и языки пламени, пожиравшие этот город, почти целиком деревянный. Я и в самом деле пригрозил было коменданту сжечь город, чтобы вынудить его к капитуляции, но никогда не совершил бы такого варварства по отношению к мирным жителям Динабурга. Поэтому мною было произведено серьезное расследование, чтобы наказать тех, кто устроил пожар, но затем выяснилось, что это злосчастное событие совершилось случайно, а не по злому умыслу.
Бесспорно, однако, то, что после этого пожара в Динабурге русские, которые до этого часто поджигали частные дома и сжигали целые деревни в этих окрестностях и в других частях Литвы, получили строжайшие приказы более не доходить до таких крайностей. Впрочем, понятно было, что ни офицеры, ни командиры таких приказов никогда не отдавали, а пожары были делом рук мародеров и пьяных солдат, жадных до грабежа.
Мою экспедицию к Двине нельзя считать вовсе бесполезной, если принять во внимание, что к этому месту была отвлечена часть подкреплений, предназначенных для российской армии, осаждавшей Вильну. Были также нарушены коммуникации, так как мои патрули разрушали мосты, понтонные мосты и лодки, помогавшие их осуществлять. Таким образом, была достигнута поставленная мною цель – установить связь между генералом Гедройцем, одержавшим победу над русскими возле деревни Саланты, и Вавжецким, который находился еще в окрестностях Либавы.
Оба эти генерала прислали мне дружеские письма, проникнутые патриотизмом, и в них благодарили меня за то, что я разделил с ними их труды. Особенно Вавжецкий, который указывал мне на те преимущества, которые могло бы принести объединение наших с ним действий по всей линии от Балтийского моря до оконечности Курляндии и вблизи от Ливонии. Так, мы могли бы, по меньшей мере, сдерживать продвижение различных российских корпусов на расстоянии более сорока лье до Вильны. Он не знал, что у меня было всего лишь три сотни человек, с которыми мне было невозможно удерживать позицию на берегах Двины.
Обстрел из Динабурга возобновился, когда меня уже потеряли из виду, и продолжался весь остаток дня и даже часть следующей ночи, так как там подозревали, что мое отступление было ложным и что другая часть моего корпуса, в котором предполагалось до шести тысяч человек, может пересечь Двину по другому мосту и захватить Динабург.
Была и другая причина для продолжения обстрела – предупредить различные русские части, находившиеся на расстоянии в несколько лье, об опасности, которой они подвергались; и действительно, помощь русским стала прибывать со всех сторон. Два дня спустя срочно прибыл генерал Херманн с тремя тысячами пехоты, доставленной на крестьянских телегах, но я был уже вне опасности, так как миновал Езеросы и Илукшту и воссоединился с корпусом, оставленным мною под началом генерала Морикони в Дусятах. Ни один человек не был потерян в ходе всей этой экспедиции.
Майор Хороденский, которому было приказано пересечь Двину с двумя десятками кавалеристов, чтобы произвести рекогносцировку, привел мне двух пленных русских офицеров: майора артиллерии Монмотказена и лейтенанта Сурокина. Они спокойно следовали по большому почтовому тракту из Петербурга курьерами в штаб-квартиру князя Репнина.
Кроме устных приказов командующему армией, они везли большой ящик с тремя сотнями писем, адресованных разным русским и полякам. Я немедленно отправил, пока еще не покинул берега Двины, курьера к Костюшко с рапортом лично ему, как он того хотел, и одновременно спрашивал его указаний относительно отправки к нему двух пленных офицеров и всей перехваченной корреспонденции. Вот ответ, полученный от него, оригинал которого я бережно сохранил:
«Гражданин, я получил донесение, отправленное вами с берегов Двины. Чрезвычайно рад тому, что вы смогли исполнить мои намерения и что мы вознаграждены успехом в ответ на наши ожидания.
Немедленно отправьте двух русских офицеров со всей захваченной вами корреспонденцией в штаб Мокрановского. Идите вперед с той же преданностью и усердием, с которыми вы до сих пор пренебрегали опасностями ради службы родине. Заслужив благодарность родины, исполнив свой долг настоящего гражданина, вы сделаете себе честь и обретете признательность всех ваших сограждан.
11 августа 1794 года.
Т. Костюшко».
Вернувшись в Дусяты, я поставил перед собой задачу произвести смотр оставленной здесь кавалерии и пехоты и отобрать всех, кто был хорошо экипирован и способен сражаться, чтобы вернуться к Двине и двинуться в другом направлении, стараясь сблизиться с генералом Гедройцем, который был ближе ко мне, чем Вавжецкий.
Тем временем, в разгар этих моих приготовлений, спустя два дня после моего возвращения в Дусяты, мы получили через курьера известие о том, что Вильна была атакована и захвачена русскими.
Генерал Вельгорский, с тех пор как я его оставил, тяжело страдал от офтальмии, которая не давала ему писать и даже покидать его комнату. Он чувствовал себя настолько слабым физически и удрученным ожиданием помощи, которая все никак не приходила, настолько измученным бездействием, на которое была обречена наша армия, что счел должным снять с себя командование и доверить его генералу Хлевинскому.
Этот генерал, не имея достаточных сил, чтобы противостоять российской армии, был вынужден отступить после первой же атаки: на самом деле потери были незначительными, но они окончательно ослабили боевой дух литовского войска.
Он отступил к Ковно, и все части, продвинувшиеся в сторону Курляндии, оказались вынужденными покинуть занятые ими выгодные позиции, чтобы тоже отступить и затем сосредоточиться.
Я еще раз написал Вавжецкому и Гедройцу: предупредил их, что отправляюсь в штаб-квартиру Костюшко, что оставил во главе моего войска Морикони и поручил ему сообщать им обо всех своих передвижениях, чтобы при отступлении не быть отрезанным неприятелем.
Я отправился по Ковенской дороге, чтобы повидаться с Хлевинским и узнать, в каком состоянии находится литовская армия после отступления, прежде чем направлюсь в Варшаву. Надежда на то, что армия вернется в Вильну, была очень слаба, так как известия, доходившие из Польши, тоже не были утешительными.
Я нашел генерала Хлевинского с армией в Янове, что в трех лье от Ковно. Я сообщил ему о своем решении отправиться к Костюшко и покинул берега Немана, которые мне суждено было увидеть вновь лишь через восемь лет, по возвращении из эмиграции, после целой череды событий, которые я, при всех моих дурных предчувствиях, никак не мог предвидеть.
На этом заканчивается описание главных событий восстания в Литве, так как после взятия Вильны русскими там более не происходило ничего существенного.
Этьен Грабовский, во главе доверенного ему корпуса, еще совершил экспедицию в Минское воеводство. Он, также как и его храбрецы, отличился в ней мужеством и преданностью делу, но в конце концов потерпел поражение, не устояв против силы. И поскольку ядро армии отступало, все остальные отдельные ее части были вынуждены последовать за ним.
Русские вошли в Вильну 12 августа, и надо отдать им справедливость в том, что они не совершали там тех злодеяний, в которых их потом обвиняли. Пострадали только окраины города – от пожара, причиненного обстрелом, который длился весь предыдущий день с десяти часов утра до девяти часов вечера.
книга пятая
Глава I
В Варшаву я приехал 18 августа 1794 года. Так уж получилось, что мне пришлось пре– рвать рассказ о военных операциях польских войск под командованием Костюшко в последние дни июня, и теперь я вновь возвращаюсь к описанию событий той поры.
Уже 2 июля были зафиксированы первые движения неприятеля по сосредоточению армии и концентрации ее сил под Варшавой. Цель здесь просматривалась одна – подготовка к осаде города. 7 июля передовые вражеские части провели несколько атак неподалеку от Блоне. Большого эффекта эти атаки не имели, но именно они дали основания предположить о намерении противника наступать на польскую столицу. Это подтолкнуло Костюшко предпринять соответствующие меры и сделать все необходимое для организации обороны Варшавы.
Ядро армии Костюшко составляли подразделения линейной пехоты, бойцы которой отличались отменной выучкой и дисциплиной, хорошо экипированная кавалерия и безупречно организованная артиллерия. Кроме того были сформированы многочисленные отряды добровольцев, а также группы людей, вооруженных пиками и косами, которые при необходимости могли выступить в поддержку регулярной армии.
Весьма массовой была и национальная гвардия, бойцы которой использовались в тыловых службах, для поддержания общественного порядка, а в случае необходимости по первому сигналу направлялись на защиту оборонительных сооружений. В национальную гвардию входили зажиточные горожане, высшие городские чины и их окружение.
Армия неприятеля для осады Варшавы насчитывала сорок тысяч прусских солдат и десять тысяч русских. Последние расположились на правом фланге. Прусские войска стояли у деревни Воля, в одном лье от Варшавы, и в Маримонте. Король Пруссии, лично командовавший своими войсками, находился в центре.
Первые серьезные атаки неприятель предпринял 27 июля. Прусские гусары вытеснили передовые части наших стрелков из деревни Воля. После этого успеха вражеская пехота пошла на батареи генерала Зайончека, но наши сумели отбиться, и противник, понеся потери, отступил. Затем, в частности, 30–31 июля, а также 1 и 3 августа, прусские войска применили тяжелую артиллерию для обстрела Варшавы, однако ни одно здание в городе повреждено не было. Безуспешными оказались и попытки атаковать батареи генерал-лейтенанта Мокрановского.
2 августа прусский генерал Шверин обратился к коменданту Варшавы Орловскому с посланием, в котором содержались требование сдать город и угрозы в случае неповиновения. Комендант ответил генералу, что свой ультиматум ему следует направить главнокомандующему польской армии, которая занимает позиции в зоне между прусскими войсками и столицей.
В тот же день король Польши получил от Фридриха Вильгельма следующее письмо:
«Государь, брат мой! Успехи наших войск с каждым днем усугубляют положение польской армии под Варшавой. Наши наступательные операции не будут остановлены, всякое сопротивление бесполезно, и все это должно убедить Ваше Величество в том, что участь города предрешена и не вызывает никаких сомнений. А судьбу жителей Варшавы я спешу вручить в руки Вашего Величества. Безотлагательная сдача города и высочайшая дисциплина, которую по моему указанию принесут воины мои, обеспечат жизнь и сохранность имущества всех мирных горожан. Отказ от выполнения первого и последнего требования, которое мой генерал-лейтенант Шверин только что направил коменданту Варшавы, неизбежно повлечет за собой и даже оправдает отчаянное бедственное положение, на которое обрекает себя город, провоцирующий своим упрямством месть обеих армий и все ужасы осадной войны.
Если бы в этих условиях Ваше Величество позволило себе известить жителей Варшавы о данной альтернативе, и если бы горожане сами могли принять решение, я заранее с величайшим удовольствием увидел бы в лице Вашего Величества спасителя варшавян. В противном случае мне ничего не остается как пожалеть о бесполезности этой моей инициативы, тем более, что повторять ее я не в состоянии, несмотря на всю мою живую заинтересованность в сохранении Вашего Величества и всех тех, кого кровные связи и преданность призвали к Вашей персоне.
В любом случае прошу Ваше Величество принять уверения в высоком уважении и остаюсь, Государь, брат мой, Вашего Величества брат добрый.
Фридрих Вильгельм.
Военный лагерь, Воля, 2 августа 1794 года».
А вот какой ответ на это письмо дал король Польши на следующий день:
«Боеспособность польской армии во главе с генералиссимусом Костюшко, которая ныне находится между Варшавой и лагерем Вашего Величества, а также положение дел в столице не дают основания говорить о ее сдаче. В этих обстоятельствах не будет никаких оправданий для отчаянного бедственного положения, о котором Ваше Величество предупреждает меня в своем письме, ибо город наш не может ни принять, ни отвергнуть требование генерал-лейтенанта Шверина, направленное коменданту Варшавы. Моя собственная жизнь интересует меня не более, чем жизнь варшавян, но раз уж судьбе было угодно вызвысить меня до такого положения, которое позволяет мне засвидетельствовать Вашему Величеству братские чувства, то к ним я и взываю, дабы отвести от Вас сами мысли о жестокости и мести. Понятия эти никак не вяжутся с добрыми деяниями королей во имя своих народов и, как я искренне полагаю, чужды Вашему личному характеру.
Станислав Август.
Варшава, 3 августа 1794 года».
В тот самый день, когда генерал Шверин отправил свое предупреждение коменданту города Варшавы, генерал Домбровский провел мощную атаку против русских войск в районе Чернякова и отбил у них два фортификационных сооружения. 16 августа Домбровский вновь пошел на русских и поначалу имел некоторое преимущество, однако воспользоваться им не сумел и отступил в сторону Вилянова, так как противник получил многочисленное подкрепление.
Вражеские войска дрались ожесточенно, и поляки проявляли все свое достоинство и подлинный патриотизм, участвуя в суровых локальных боях, которые велись почти ежедневно. А Высший совет, стоящий во главе правительства, в это же время обеспечивал порядок в столице и на территориях, не оккупированных захватчиками.
От имени Высшего совета издавались прокламации для повышения боевого духа жителей и поощрения их к новым благородным делам. Прокламации напоминали населению о необходимости уплачивать налоги, безотлагательно и точно исполнять указания главнокомандующего о поставках рекрутов, провизии и всего того, в чем нуждалась армия.
Было совершенно очевидно, что эти напоминания являлись своеобразным упреком жителям за ненадлежащее выполнение обязательств перед государством и армией. И упрек этот, к сожалению, не был лишен оснований: финансовые средства поступали в казну в неполном объеме, а войска тщетно ожидали необходимое пополнение.
Игнаций Потоцкий и Коллонтай, с которыми я несколько раз встречался после приезда в Варшаву, сетовали на то, что жители провинций теряют интерес к постановлениям правительства и не торопятся их выполнять.
Я и сам с болью смотрел, с каким равнодушием большинство богатых варшавян воспринимало успехи нашей армии. Им было в тягость каждый день отправлять своих подчиненных в национальную гвардию, а тем более самим порой брать в руки карабин, чтобы не вызвать порицания от народа и не прослыть врагами родины в глазах тех, кого они называли пламенными патриотами.
Среди состоятельных жителей Варшавы были и такие, кто страстно желал прекратить эту борьбу с превосходящими силами противника, в победе которого у них не было никаких сомнений. Эти люди рассчитывали, что после вступления вражеских войск в Варшаву у них появится больше возможностей для доходных спекуляций, чем при революционном правительстве, которому они не доверяли, и которое лишь обещало им какие-то туманные выгоды и преимущества в будущем. Следует признать, однако, что число таких личностей, движимых скорее эгоизмом, нежели злыми намерениями, было весьма невелико, и никакого влияния на общественное сознание они не имели. Почти все жители столицы с неиссякаемым усердием изо всех сил трудились там, куда их направляли, и безропотно разделяли все тяготы и опасности, которые изо дня в день преследовали военных.
С 16 августа начались смертоносные бои, в которых покрыли себя славой генерал Домбровский, князь Юзеф Понятовский, Адам Понинский и много других офицеров. Последнее и самое кровопролитное сражение прошло ночью 28 августа. Все войска генерала Домбровского подверглись атакам со стороны значительно превосходящих вражеских сил. В это же время генерал Зайончек внезапно совершил дерзкое нападение на прусские позиции.
Во всех ситуациях польские войска проявляли всегда присущие им отвагу и доблесть. Однако нельзя не отдать должное трудолюбию, усердию и неустрашимости жителей Варшавы, которые в огромной мере способствовали успеху в те памятные дни.
После этих событий, свидетелем и очевидцем которых я стал, будучи добровольцем, атаки врага прекратились. Пруссаки готовились к отступлению. Русская армия под командованием генерала Ферзена отделилась от прусских войск и двинулась в сторону Люблинского воеводства. Прусские части переформировались в три колонны: одна пошла в сторону Ченстоховы, другая направилась в Пётркув, а третья взяла курс на Закрочим. Не теряя ни минуты, враги отступали с такой поспешностью, что оставляли на своих позициях, например в Рашине (это в трех лье от столицы), больных и раненых, а также немало амуниции.
1 сентября, то есть, за несколько дней до начала общего отступления, объявленного втайне от нашего командования Фридрихом Вильгельмом, адъютант короля Пруссии Манштейн прибыл в штаб генерал-лейтенанта Зайончека с целью получить разрешение на свидание с плененным полковником Трауенфельдом.
Зайончек самостоятельно не мог принять решения и отправил запрос главнокомандующему. Тем временем Манштейн завязал разговор о политических событиях, которые привели к разладу между Пруссией и Польшей, а затем как бы невзначай поинтересовался, можно ли было бы договориться и все уладить полюбовно.
Генерал Зайончек не имел компетенции обсуждать такой вопрос и ограничился ответом весьма уклончивым. И тут Манштейн начал высокопарно расхваливать великодушие своего монарха, уверяяя, что всего можно ожидать от его мягкого, уживчивого характера и добрых чувств, которые тот всегда питал к польскому народу. В ответ Зайончек лишь напомнил собеседнику о союзном договоре, нарушенном королем Пруссии, и о последнем разделе Польши. Манштейн пробормотал какие-то слова, безуспешно пытаясь оправдать своего государя, и откланялся, так и не приступив к обсуждению вопроса о примирении.
Весть о нежданном отступлении сорокатысячной армии короля Пруссии вызвала в польской армии радость и изумление. Нетрудно догадаться, с каким восторгом ее встретило население Варшавы. Потрясена была вся Европа. Самые различные предположения и догадки о мотивах этого события покрывали его реальные причины плотной завесой тайны.
Были люди, полагавшие, что этот демарш прусских войск как-то связан с российской императрицей, которая не желала, чтобы польская столица оказалась в руках Фридриха Вильгельма. Другие списывали это на дурное расположение царицы Екатерины к королю Пруссии, который, имея такое превосходство в силе, не сумел расправиться с армией повстанцев. В народе поговаривали даже, что это обстоятельство рассорило петербургский и берлинский дворы. И, наконец, третьи утверждали, что прусский монарх был вынужден отступить от Варшавы из-за массового дезертирства, болезней, последовавших в результате затянувшейся осады города, и отсутствия необходимой амуниции.
Все эти доводы имели право на существование, однако они носили всего лишь второстепенный характер, так как подлинной причиной отступления стало революционное движение, которое нарастало в тылу прусской армии, в польских провинциях, совсем недавно разделенных не без участия Фридриха Вильгельма.
Поляки, оказавшиеся в результате последнего раздела страны под господством России, воспринимали свою участь не столь уж и болезненно, потому что всегда видели, с какой нескрываемой враждой эта держава относится к ним. Не имевшим возможности оказывать сопротивление грозной российской силе полякам ничего не оставалось как винить несправедливую фортуну за свое подневольное положение. Совсем иные чувства испытали поляки под властью короля Пруссии, который в их глазах был союзником, другом, опорой в борьбе против России. И вдруг он превращается в агрессора, захватчика и идет на союз с Россией, чтобы расчленить Польшу.
Под прусским ярмом трудно было полякам позабыть о своем участии в политической жизни страны. Не легче было вычеркнуть из памяти права, по которым граждане делегировали своих представителей в сейм, пользовались услугами своих судебных ведомств и своих государственных чиновников.
Не по своей воле ставшие подданными чужого государства, доведенные до позорного состояния и полного ничтожества, поляки только и ждали удобного момента, чтобы сбросить оковы.
Вслед за оккупацией польских земель в страну хлынули немецкие чиновники и заполнили все судебные учреждения. В Польше было создано немецкое правительство. Поляков принудили к тому, чтобы судебное разбирательство над ними велось по законам гражданского и уголовного кодекса, изданного по-немецки. Более того, миллионы людей, которые владели лишь своим родным языком, вынуждены были учить немецкий, чтобы общаться на языке победителей.
Все оккупированные провинции были охвачены волнениями, которые начались в марте при приближении к Кракову генерала Мадалинского, куда он направлялся со своим корпусом от южных границ Пруссии. Пламя народного протеста разгорелось с новой силой после появления прокламации Костюшко о восстании в Кракове и апрельской революции в Варшаве.
Из Великой Польши в столицу были направлены тайные посланники, которые должны были согласовать с новым правительством вопросы по организации вооруженного восстания. Этот замысел, однако, успехом не увенчался из-за осады города прусскими войсками.
Мневский, Немоевский, Выбицкий и многие другие представители Великой Польши сумели объединить вокруг себя людей, преданных своей родине, и незаметно для врага вели подготовку восстания. Пользуясь доверием и любовью сограждан, они потихоньку свозили в глухие удаленные леса боеприпасы, продукты питания и одежду. Эти приготовления заняли около пяти месяцев. Работа шла с такой осторожностью и скрытностью, что никто из посторонних ни о чем не догадывался.
После того, как все основные силы прусской армии сгруппировались под Варшавой, а в провинциях Великой Польши (Познань, Калиш, Пётркув и Серадз) оставались маломощные гарнизоны захватчиков, было принято решение о том, что пробил час для активных действий и начала восстания. Повстанцы рассчитывали продержаться по крайней мере до тех пор, пока король Пруссии будет занят осадой столицы.
22 августа был подписан акт конфедерации[45]. На следующий день немногочисленные жители Серадзского воеводства собрались в лесу неподалеку от города Серадза и пошли в атаку на местный гарнизон. Им удалось взять в плен охрану и захватить склады с боеприпасами. Это было первое вооруженное выступление инсургентов.
Примерно в это же время 1200 человек в Калишском воеводстве обратили в бегство несколько прусских отрядов. 25 августа повстанцы Познанского воеводства пробрались в город Равич, овладели оружейными складами и взяли в плен немало пруссаков.
Мневский с небольшим отрядом храбрецов неожиданно напал и разгромил прусский гарнизон в Брест-Куявском, а оттуда пошел на Вроцлавек, где швартовались тринадцать огромных барок с военным снаряжением для армии неприятеля под Варшавой. Мневский захватил их, несколько судов упрятал в надежном месте, а остальные вместе с грузом потопил.
Восстание быстрыми темпами охватывало всю Южную Пруссию. Волна революции подступала к городу Данцигу.
Глава II
Революционное движение в тылу прусской армии не на шутку встревожило Фридриха Вильгельма и вынудило его в срочном порядке отказаться от осады Варшавы. Войска стали отходить от города, а в ночь с 5 на 6 сентября 1794 года свой лагерь оставил и король Пруссии.
На рассвете 6 сентября адъютант генерала Зайончека по фамилии Молоховец, которого я воспитывал и обучал с самого детства, примчался ко мне с сообщением о том, что пруссаки нежданно-негаданно покинули свои позиции, на которых стояли несколько недель. Сгорая от любопытства, я тотчас же оседлал коня и вместе с молодым офицером мы понеслись в деревню Волю, где еще несколько часов назад слышался голос главнокомандующего прусской армии. В деревне мы обнаружили около тридцати казаков, устремившихся прямо на нас. Ничего нам не оставалось, как развернуться и стремглав пуститься наутек назад в город.
В то же утро Костюшко отправил в поход специальный корпус, который должен был отслеживать все передвижения войск неприятеля. Генералиссимус не счел целесообразным выдвигать всю армию для атаки отступающего противника, так как не знал истинных причин этого внезапного отступления и не исключал, что оно могло превратиться в хитросплетенную ловушку.
Мне ни разу не довелось встретиться с королем Польши за все это время пребывания в Варшаве. Однако через два дня после снятия осады он прислал мне приглашение на обед. Я сообщил об этом Игнацию Потоцкому[46], который заверил меня, что нет никаких оснований отказываться от предложенного обеда с высочайшим лицом.
На этот раз король выглядел гораздо лучше, нежели на заседании сейма в Гродно, но был чем-то озабочен, задумчив и не очень разговорчив. Он подробно расспрашивал меня о событиях в Литве после восстания в Вильне. Отобедав, мы подошли к окну, и король обратился ко мне с просьбой честно высказаться о революции и ее возможных последствиях… Я стал говорить о том, что не благоразумие и рассудительность, не политическая расчетливость, а безысходность и отчаяние вынудили поляков взяться за оружие; что я доверяюсь судьбе, которая покровительствует угнетенным; что я полагаюсь на доблесть наших военных и уповаю на единение и преданность всего народа… Но король перебил меня: «Это совсем не то, о чем я вас спрашивал. Я хорошо знаю ваши высокие патриотические чувства и считаю вас человеком мудрым и осмотрительным. Хочу услышать от вас, верите ли вы, что мы сможем дать отпор нашим троим соседям? Ведь теперь уже нет никаких сомнений, что Австрия выступает на стороне России и Пруссии. Так вот, я прошу вас сказать, что, по-вашему, произойдет, если мы потерпим неудачу?»
Ответ мой, помнится, содержал немало условностей: если король и народ станут единым целым, если исключить интриги и воздействие заграничных дворов на окружение короля и на сознание малодушных, трусливых граждан, ставящих свой покой и личные интересы выше благополучия всей страны, и если бы вся нация в едином порыве восстала против оккупантов, то, вероятно, можно было бы лелеять надежду уж если не на успех в кровавой борьбе, то, по крайней мере, на достижение почетного мира. «В противном случае, – продолжал я, – Польша будет вычеркнута из списка великих держав Европы, а вы, Ваше Величество, лишитесь короны и завершите свои дни в жалкой обители, которую вам великодушно предоставят».
Поначалу король пытался довести и мне, и себе, что он не склонен видеть свое будущее и судьбу страны в таком неблагоприятном свете, как я это только что представил. Государь стал ссылаться на возвышенные чувства российской императрицы, которая никогда не пойдет на третий и последний раздел Польши, а затем промолвил, что ему ничего не остается, как смиренно ожидать своей участи.
Наша беседа прервалась из-за прибытия коменданта Варшавы Орловского и адъютанта генералиссимуса. Адъютант вручил королю донесение Костюшко о ходе восстания в Великой Польше. Король внимательно ознакомился с посланием и, кажется, остался доволен. Он попросил передать главнокомандующему благодарность, свои уверения в высочайшем уважении и, как всегда, вежливо проводил нас.
То было мое последнее свидание с этим несчастным монархом. Как я и предсказывал, Станислав Август два года спустя был вынужден отречься от трона. С позором и унижениями он переехал в столицу России, где и окончился его безрадостный жизненный путь.
Между тем восстание в Великой Польше нарастало изо дня в день. Повстанцы продвигались со стороны Торуня. В их ряды стихийно вливались новобранцы и добровольцы. Все они давали клятву на верность конституции 3 мая. Бойцы одного из отрядов достигли Силезии, разгромили там товарные склады и захватили обоз со скотом для прусской армии.
Костюшко был осведомлен об успехах инсургентов и направил к ним корпус под командованием Мадалинского, который, однако, прибыл с опозданием к месту событий из-за поражения при переправе через реку Нарев. Это непредвиденное обстоятельство существенно нарушило планы восставших, и они не смогли воспользоваться уже имеющимися преимуществами. Обстановка усугублялась еще и тем, что король Пруссии мог теперь направить на уничтожение повстанцев войска, выведенные из-под Варшавы.
События в Великой Польше встревожили Фридриха Вильгельма еще больше, когда он узнал о передвижениях французской армии в Германии: отныне ему угрожали уже две вражеские силы, которые, конечно же, могли вступить в сговор и совместно выступить против Пруссии.
Королю посоветовали принять самые суровые меры по отношению к повстанцам и на корню пресечь любое неповиновение польских подданных. Не в характере прусского монарха были жестокость и месть, но исполнители его указов, в частности, полковник Шекули, своими драконовскими налетами лишь подлили масла в пламя восстания на захваченных территориях.
Пока кавалерийский отряд под предводительством полковника Шекули в поисках врагов носился по Великой Польше, в Пётркуве 1 сентября 1794 года появилось предписание, подготовленное магистратурой провинций Южной Пруссии. Документ, в частности, гласил:
1. Каждый повстанец, взявший в руки оружие, должен быть немедленно и безжалостно расстрелян либо повешен.
2. Привилегированные духовные и светские лица в случае их прямого участия в восстании должны быть немедленно повешены, независимо от их пола, либо, с учетом характера совершенного преступления, приговорены к пожизненному тюремному заключению и принудительным работам, с конфискацией имущества.
3. Все подозрительные лица, независимо от их социального положения, подлежат аресту и тюремному заключению.
4. Всякое духовное либо светское лицо, давшее приют нарушителям общественного порядка и не донесшее об этом властям, будет обязано не только оплатить за счет своих средств стоимость ущерба, нанесенного правонарушителями, но и, с учетом характера совершенного преступления, может подвергнуться телесным наказаниям, вплоть до смертной казни, без исполнения каких-либо дополнительных юридических формальностей.
Такие свирепые меры вызвали возмущение руководства Варшавы. 9 сентября было опубликовано правительственное заявление, в котором оправдывались акции граждан Великой Польши, выражался протест против жестокости прусских властей и содержались угрозы применения ответных мер.
Новое правительство Варшавы придавало огромное значение событиям в Великой Польше и надеялось, что восстание постепенно охватит и другие районы страны. В правительстве созревало понимание того, что вооруженные силы должны оказать поддержку повстанцам. К сожалению, тяжелое финансовое положение было серьезной помехой для воплощения в жизнь этого замысла, а пополнить государственную казну могли только чрезвычайные меры.
Высший совет постоянно напоминал жителям провинций о необходимости оплаты просроченных задолженностей по налогу, взымание которых велось самым строгим образом. Кроме этого, под гарантию государственного казначейства в обращение были выпущены банковские билеты. Из-за нехватки наличных денег в стране оплачивать налоги становилось все сложнее и сложнее. По той же причине, а также из-за недоверия к бумажным деньгам, которых Польша никогда не знала, оказались маловостребованными и банковские билеты.
Правительство считало своим долгом предпринять меры по оздоровлению финансовой системы, что, собственно, и было предусмотренно резолюцией сейма от 26 апреля 1792 года. Обстоятельства не позволили тогда приступить к реализации этих мер. Теперь правительство объявило о продаже государственных вотчин, стоимость которых по приблизительным подсчетам оценивалась в 1792 году примерно в шестьсот миллионов польских флоринов.
Начало продажи было назначено на 1 декабря 1794 года (для провинций Короны) и на 1 марта 1795 года (для Литвы). Предусматривалось, что в течение первого года продаже подлежат лишь вотчины, находящиеся в распоряжении финансового ведомства, и объем продажи не превысит 10 миллионов флоринов. Средства от продажи предполагалось использовать для выкупа банковских билетов и восстановления денежного обращения. Таким же образом планировалось поступать и в последующие годы, вплоть до того момента, когда все банковские билеты поступят в кассу казначейства и будут удовлетворены все неотложные финансовые потребности государства. Поскольку до 1 декабря оставалось еще немало времени, а необходимость в финансовых средствах с каждым днем становилась все острее, правительству ничего не оставалось, как обратиться к патриотическим чувствам граждан и объявить о принудительном займе.
11 сентября было обнародовано официальное заявление, в котором разъяснялись причины принятия такой вынужденной меры как реквизиция золотых и серебряных предметов, а также наличных денег, находящихся у частных лиц и иных владельцев на всей территории страны. Для исполнения данного указания отводилось семь дней. Касса государственного казначейства и соответствующие комиссии воеводств должны были принимать все предоставляемые материалы.
Правительство брало на себя обязательство выдавать банковские билеты и облигации с пятипроцентной надбавкой к стоимости сдаваемых драгоценностей и денег. На такие же условия могли рассчитывать и граждане, решившие добровольно, из патриотических побуждений, сдать в пользу государства свои деньги, а также золото и серебро в монетах либо в ином виде.
Эти финансовые операции оправдались и дали желаемый эффект, о чем сообщил Высший совет в извещении от 29 сентября. Власти заверяли граждан, что отныне не будут взыматься налоги, введенные по примеру решения жителей Кракова во время восстания. Оплате наличными деньгами будут подлежать исключительно те налоги, которые были установлены сеймом, а банковскими билетами можно будет погашать не только неуплаченные налоги за июнь – сентябрь, но и все задолженности по налогу.
Костюшко отправил небольшой отряд для отслеживания действий прусской армии после ее отступления от Варшавы. Значительно большие силы были предоставлены в распоряжение генерала Домбровского, который должен был войти в Пруссию и поддержать там повстанцев.
13 сентября три колонны войск Домбровского переправились через реку Бзура. Затем они атаковали в различных точках рубежи противника, взяли в плен множество пруссаков, захватили склады с боеприпасами и обмундированием и соединились с группой войск под командованием генерала Мадалинского. После первых неудач он восстановил свои боевые ряды и провел в Великой Польше несколько успешных операций. Уклоняясь от боя, неприятельские полки не чинили особых препятствий продвижению польских отрядов. 27 сентября наши вошли в город Гнезно. Восстание достигло такого размаха, что пруссаки потеряли всякую надежду подавить его.
Полковник Шекули, наделенный правом применять самые жестокие меры против повстанцев, в перехваченном письме сообщал королю, что постоянно сталкивается с бесконечными непреодолимыми препятствиями и не может исполнить полученные приказания.
Жители всех территорий, оставленных прусской армией, спешили направить своих представителей в правительство в Варшаве с заявлением, что они присоединяются к Акту восстания в Кракове и желают участвовать во всенародном движении под руководством генералиссимуса Костюшко. 17 сентября в штаб главнокомандующего прибыли делегаты из Сохачева. В дар они привезли денежные средства и от имени земляков заверили в готовности проливать свою кровь и пожертвовать всей собственностью во имя спасения родины.
Под прусской оккупацией оставались города Познань, Ченстохова, Пётркув и Ленчица. Остальная часть Великой Польши была охвачена восстанием, в котором участвовала огромная маса вооруженных людей. Однако у них не было ни постоянного места для поддержания контактов, ни времени для обучения новобранцев.
Отдельные военные успехи поднимали боевой дух и придавали новые силы нашим солдатам и офицерам. Генерал Карвовский практически беспрепятственно пересек реку Нарев. Князь Юзеф Понятовский, прикрывавший Варшаву со стороны Блоне, направил на прусские позиции свои кавалерийские отряды, которые сильно потрепали нервы неприятелю.
После взятия Гнезно генерал Домбровский довольно успешно продолжал наступление. В районе Лабышина он подвергся внезапной атаке полковника Шекули. Домбровский не только отразил эту атаку, но и вынудил противника отступить в город Бромберг. После этого генералы Домбровский и Мадалинский атаковали позиции неприятеля, разогнали отряды полковника Шекули и овладели Бромбергом, жители которого дали клятву на верность Речи Посполитой Польше. Тяжелораненый полковник Шекули попал в плен и через три дня скончался от ран.
В Бромберге поляки обнаружили огромные склады, переполненные боеприпасами, солью, металлом и сукном. Неподалеку от города, в населенном пункте Лукна, повстанцы захватили большой продовольственный склад и десяток стоящих на Висле барок с оружием.
Город Бромберг был освобожден в первых числах октября. Как только новость об этом докатилась до Берлина, там пришли в смятение: никто никогда не ожидал, что восстание в Великой Польше получит столь стремительное развитие и принесет такие пагубные последствия. В этих условиях ничего не оставалось, как направить в Польшу дополнительные полки, включая корпус под командованием князя Гогенлоэ, который дислоцировался на Рейне.
Блестящие рейды генерала Домбровского оказывали благодатное моральное воздействие на поляков, в особенности, на варшавян. Высший совет постоянно публиковал подробные сообщения о событиях в Великой Польше. Варшава посылала в Южную Пруссию листовки, призывающие граждан на новые подвиги и свершения во славу Родины.
Каждый день в Варшаву привозили пленных. Многочисленные обозы доставляли имущество, отнятое у врага… Но вскоре все эти меры, призванные поддерживать дух и надежду людей, перестали давать результат. И случилось это после событий, о которых я сейчас расскажу.
Глава III
Россия, овладев Вильной, постепенно становилась властелином почти всей Литвы. Лишь одно формирование литовских войск пока удерживало свои позиции в Жемайтии, еще одно находилось в Брестском воеводстве, и генерал Мокрановский сохранял в своем распоряжении несколько тысяч штыков в Гродно.
Наши немногочисленные войска ушли из Курляндии. Группировки раздробленной армии были разбросаны в районах, оставленных русскими войсками, где до поры до времени им никто не угрожал. Вскоре, однако, неприятель решил оттеснить литовские подразделения, расположившиеся в тылу русской армии под Ковно. Из Олиты на лодках туда были отправлены шестьсот пехотинцев. Польский генерал Майен, затаившийся со своим отрядом в пятьсот человек на лесистых берегах Немана, пропустил казаков и карабинеров, которые по суше сопровождали пехотинцев, а затем ударил бомбами по лодкам. Все они вместе с солдатами ушли ко дну. Это был последний успех нашей армии.
Российской императрице очень хотелось покончить с революцией в Польше. Перед самой зимой, когда военные действия со стороны Турции уже не давали ни малейшего повода для опасений, царица повелела генералу Суворову двинуть войска от российско-турецкой границы в сторону Варшавы. Очагом революции считала Екатерина II этот город, который и предстояло покорить Суворову.
18 сентября у деревни Крупчицы русские войска атаковали польскую дивизию под командованием генерала Сераковского. Оказав яростное сопротивление превосходящим силам противника, Сераковский вынужден был отойти к Брест-Литовску. Назавтра последовала еще более мощная атака русских. На этот раз наши потеряли много бойцов и не смогли оказать достойного сопротивления: слишком много сил было отдано накануне, слишком тяжелым было разочарование от вчерашнего поражения и отступления. Многие оказались в плену, почти вся наша артиллерия попала в лапы врага.
После этих печальных событий дорога на Варшаву была открыта. На правом берегу Вислы в незащищенном предместье столицы Праге тысячи людей в спешном порядке рыли окопы и строили укрепления. Генералиссимус выехал из своего лагеря в Мокотуве, чтобы лично выступить против нашествия врага, остановить его, со славой одержать победу либо сложить голову в борьбе за Родину.
Перед отъездом к воинам Сераковского Костюшко подготовил свое последнее воззвание к народу, которое я цитирую полностью, так как ничто иное лучше не расскажет о чувствах, которыми был движим этот человек в час наивысшей опасности:
«Свобода, это бесценное человеческое благо, ниспосланное божественным провидением исключительно для тех народов, которые своими деяниями, отвагой и стойкостью перед любыми бедствиями и угрозами заслужили такой дар.
Эта истина доказана примерами многих свободных народов, которые, пройдя через годы изнурительной борьбы и тяжелейших испытаний, собирают ныне плоды своей отваги и стойкости. Как и эти славные свободные народы, вы, поляки, любите свою родину и свободу. На вашу долю выпало еще больше горя и несчастья. Вдохновленные самыми благородными чувствами, вы не смогли больше терпеть унижения Польши и мужественно возвысили ее гордое имя. Вы доблестно поддержали борьбу вашей угнетенной родины против деспотизма, и я заклинаю вас: сохраните и впредь ваше упорство, смелость и душевный порыв!
В неравном бою с превосходящими силами неприятеля вы понесли тяжелейшие утраты, испытали столько бед и мучений, но я должен напомнить, что мы живем в такое время, когда во имя свободы каждый из нас должен принести большие жертвы, когда для достижения всеобщего прочного благосостояния каждый из нас должен пройти через страдания.
Всегда помните, что эти страдания (если так можно назвать жертвы, приносимые родине) – кратковременны, но как раз ими и будет вымощена дорога к свободе и независимости страны, когда вам будут уготованы вечные дни славы и счастья.
Сегодня, как никогда, необходимо срочно удвоить наши усилия для спасения родины, а правительство, со своей стороны, должно сделать все возможное, чтобы облегчить участь граждан. И поэтому комиссиям по поддержанию порядка я настоятельно рекомендую убеждать и заверять людей в том, что все их имущество останется в целости и сохранности и будет взято под защиту правительства. Крайне важно, чтобы незамедлительно оплачивались все ценности, передаваемые поляками по требованию конституционных законных властей. И, наконец, вы должны быть абсолютно уверены в том, что все ныне возложенные на вас обязательства будут отменены после войны. Тогда же избранные вами представители учредят Национальное собрание. Оно и сформирует такое правительство, которое вы пожелаете, и которое обеспечит вам спокойную жизнь и благополучие.
Совершено в лагере в Мокотуве, 24 сентября 1794 года.
Подпись: Т. Костюшко».
Прибыв в расположение войск генерала Сераковского, главнокомандующий первым делом стал выяснять причины провала операций 18–19 сентября. По его распоряжению понесли наказание те, кто должным образом не исполнил свой воинский долг, а солдаты и офицеры, отличившиеся в боях, получили награды.
После этого Костюшко отбыл в Гродно, где поручил генералу Мокрановскому возглавить всю армию Литвы, перед которой была поставлена задача – всячески противодействовать русским войскам и задержать продвижение генерала Суворова на Варшаву. Вернувшись к Сераковскому, генералиссимус принимает решение не допустить соединения корпуса генерала Ферзена с армией Суворова и 10 октября атакует вражеские силы под Мацеёвицами.
Это была кровавая битва. Поляки проявляли чудеса героизма…
Так и не дождавшись подкрепления и будучи неуверен в исходе сражения, Костюшко в сопровождении элитной кавалерии и лучших офицеров армии бросился в самое пекло боя. Он получил тяжелые ранения, в том числе в голову, и упал вместе с лошадью. Соратники из его ближайшего окружения храбро сражались до самого конца, защищая свою жизнь и свободу… Однако этот дерзкий, отчаянный маневр все же пощадил самолюбие генералиссимуса: ему уже было не дано увидеть полный разгром своих войск.
Вместе с Костюшко русские захватили в плен его раненого неразлучного товарища Юлиана Немцевича, адъютанта Фишера, генералов Сераковского, Княжевича, Каминского, полковника Зайдлица и многих других офицеров, отличавшихся беспримерным воинским дарованием, доблестью и патриотизмом.
По воле случая Костюшко нашли на поле битвы среди тех, кого считали убитыми. Многочисленные ранения и скромная одежда не стали помехой, чтобы его опознали. Как только кто-то произнес его имя, многие казаки, подходившие к Костюшко с целью поживиться и ограбить раненого, застыли на месте, не скрывая уважения к этому мужественному и несчастному военачальнику. На носилках из боевых пик и казацких плащей его принесли к генералу Ферзену, который сразу же приказал немедленно, в его присутствии, оказать медицинскую помощь Костюшко. Со своим врагом, равно как и с остальными пленниками, русский генерал обошелся с должным вниманием и уважением.
Вот так и завершилась славная карьера Тадеуша Костюшко, а вместе с ней рухнули и все надежды повстанцев. То участие, которое вся Европа приняла в этой прискорбной драме, обернулось невосполнимой утратой, только что постигшей человечество. Вся армия оплакивала своего главнокомандующего. Все добрые люди Польши с острой болью восприняли такую потерю.
Монументы, воздвигнутые в память великих людей, редко сохраняются в огне гражданских войн и революций. Ничто не может противостоять времени, которое все превращает в прах. Но память о Костюшко, чье имя запечатлено в глубине сердца у каждого приверженца гуманизма, люди сохранят на долгие-долгие годы, и эта память не умрет никогда. Потомки наши будут его благославлять, и их благодарные слезы, которые упадут на могилу Костюшко, станут самой чистой данью уважения всем его добродетелям.
Моя душа трепетно хранит о нем столько чувств, что мне хочется хотя бы коротко рассказать о делах славного сына земли нашей от кампании 1792 года до его последнего дня, который наступит через двадцать три года после сражения под Мацеёвицами.
Всех боевых товарищей Костюшко, его отважных соратников, которые делили с ним часы опасности и славы, всех, кто имел счастье общаться с ним и кто знает подробности его общественной и личной жизни, я прошу отдать на скрижали истории их воспоминания об этом благородном человеке, добропорядочном гражданине, бесстрашном защитнике свободы и независимости нашего государства. А что касается меня, то я здесь ограничусь тем, что приведу только некоторые факты из его биографии, чтобы было понятно, почему я с таким восхищением всегда говорю о нашем выдающемся соотечественнике.
После кампании 1792 года ему давали высокую должность в русской армии, от которой он отказался. Ему предложили пансион, и он его отверг, как и положено благородному, гордому человеку, желающему служить лишь своей стране. Он уехал из Польши совсем небогатым, и без поддержки добрых друзей жить ему было бы трудновато.
Без всякого тщеславия и честолюбия в 1794 году он стал генералиссимусом и свой единственный интерес видел исключительно в том, чтобы трудиться не покладая рук во имя освобождения родины. Как и его учитель Джордж Вашингтон, Костюшко сам соблюдал законы и данной ему властью делал все, чтобы их соблюдали все остальные.
По воле нации получив высшие полномочия и возглавляя все гражданские и военные власти, он не дал согласия занять место на троне. Более того, он все время требовал от правительства и граждан Варшавы уважать и почитать Станислава Августа как законного короля Польши. Без всяких сомнений Костюшко поставил бы короля во главе только что сформированного правительства, если бы ему не отсоветовали сделать это люди, которые с недоверием относились к монарху и опасались влияния королевского двора.
Хотя сражение под Щекоцинами завершилось не в пользу поляков, отступление Костюшко было расценено опытными военными как победа. Неувядаемую славу оставил о себе генералиссимус и при защите Варшавы, которая не имела никаких оборонительных сооружений и могла лишь держать осаду.
В битве под Мацеёвицами Костюшко и его лучшие кавалеристы, стремясь прорваться через неприятельские ряды, конечно же, не надеялись уцелеть в тяжкую для Родины годину и попасть в плен к русским. Потеряв свободу, израненный Костюшко стойко переносил испытания судьбы и свои личные страдания. Но никогда, до самого последнего дыхания, он не смог смириться с потерей родины.
После вступления на престол русского царя Павла Костюшко выпустили на волю, и он был глубоко тронут этим великодушным поступком императора, который освободил главных действующих лиц революции, а также двенадцать тысяч поляков, томившихся в ссылке на бескрайних просторах России. И тем не менее он отклонил все предложения о работе в русской армии на высоких дорогооплачиваемых должностях.
Правда, он не смог не принять в дар от императора Павла приличную сумму денег, которых вполне хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Но выехав за пределы России, он тут же возвратил эти деньги. В сопроводительной записке он с уважением и достоинством уведомлял царя о своей глубокой признательности, подчеркивая, что с потерей родины никакие богатства ему ни к чему, и что остаток жизни он намерен провести в уединении и безвестности.
Некоторое время он провел в Америке и Англии, а затем обосновался во Франции в окрестностях Фонтенбло. Там за свои былые военные заслуги он получал скромную американскую пенсию, которой, впрочем, хватало для удовлетворения всех его весьма ограниченных потребностей. Узкий круг друзей, чтение, рисование, охота – вот, пожалуй, и все, в чем он находил отдушину в этот период. Занимался благотворительностью, помогал беднякам, подавал милостыню, и это приносило какое-то утешение его тонкой душе, которая никак не могла вырваться из глубокой тоски.
Он был свидетелем различных перемен в тогдашней Франции, но никак не реагировал на них и только в частных беседах порой сетовал на то, с какой беспечностью и легкомыслием французы относятся к судьбе Польши.
Наполеон, зная о привязанности Костюшко к Франции, а также о доверии поляков к своей персоне, пытался склонить бывшего верховного главнокомандующего польской армии к участию в кампании 1807 года. Бонапарт сделал ему очень соблазнительные предложения и для начала высказал пожелание, чтобы Костюшко подписал обращение к польскому народу с призывом к пробуждению и возрождению былого боевого духа. При этом Наполеон уверял, что у него уже есть план восстановления Польши. Костюшко, готовый отдать последнюю каплю крови для осуществления такого плана, не поверил корсиканцу и не стал обманывать своих соотечественников надеждами, которые и сам не мог принять.
В 1814 году после вступления в Париж войск союзников император Александр встретился с Костюшко, поделился своими соображениями о будущем Польши и советовал ему вернуться на родину… Костюшко выразил благодарность императору за то, как он принял делегацию польских офицеров, которые воевали под знаменами Наполеона и теперь хотели бы возвратиться к родным очагам. Он также высказал слова признательности за добрые намерения царя возродить Польшу, нисколько не сомневаясь, что их удастся воплотить в жизнь. Костюшко пообещал вернуться на родину как только будет обеспечена ее государственность и создано польское правительство. Однако некоторое время спустя, в 1817 году, он скончался в доме своего друга в Швейцарии.
Благодарные люди всей планеты скорбели о смерти этого замечательного человека, чье имя будет повторяться всегда, пока почитаются нравственность, мораль, духовность. В лице Костюшко приверженцы свободы и независимости потеряли пример для подражания, военные – одного из самых отважных боевых товарищей, поляки – великого гражданина, который прославил их родину и до последнего мгновения своей жизни делал все для ее процветания.
Новость о ранении и пленении Костюшко под Мацеёвицами со скоростью молнии полетела от Варшавы до самых отдаленных уголков страны. В тот день я как раз приехал в Варшаву и могу вас уверить, что за всю свою жизнь я не видел более трогательных и волнующих сцен, чем тогда в польской столице.
На всех улицах, во всех слоях общества, в каждой семье только и слышалось: «Нет с нами Костюшко!» А вслед за этим восклицанием – слезы. И так по всей Польше.
Быть может, в это трудно поверить, но я говорю то, что сам видел и что могут подтвердить сотни свидетелей. От такого страшного известия у некоторых рожениц случались выкидыши, многих больных бросало в жар, некоторые из них теряли рассудок, так и не приходя затем в сознание. На улицах можно было видеть, как люди в отчаянии ломали руки, бились головой об стены, неистово повторяя: «Нет больше Костюшко и родины нет!»
Самый бессердечный человек едва ли сможет невозмутимо читать эти строки, не уронив слезу от таких мрачных душераздирающих картин и глубочайших переживаний миллионов людей в связи с утратой вождя, с кем так прочно были связаны их собственные судьбы. Даже у такого черствого человека в душе родится уважение и сострадание к Костюшко, которые он, бесспорно, заслужил.
Я не собираюсь обсуждать упреки, которыми строгие бездушные люди осыпают Костюшко за дерзкий рейд под Мацеёвицами, когда он шел на верную гибель, дабы не знать позора поражения. Конечно, все хотели бы, чтобы он уберег свою жизнь и попытался отступить к Варшаве, где его присутствие стоило дороже, нежели целая армия.
Были и такие, кто допускал, что Костюшко от всего устал и был доведен до такого отчаяния, что жизнь ему стала обузой. Среди причин, якобы мотивировавших все это, назывались разногласия между Высшим советом и главнокомандующим, безответственное исполнение указаний генералиссимуса, его преувеличение трудностей от доведения революции до конца, происки различных недоброжелателей, которые порицали Костюшко за сдержанность и стремились во что бы то ни стало создать демократическое правительство… Все эти догадки и предположения будут решительно отметены теми исследователями, которые возьмут на себя труд внимательно изучить предшествующие и последующие поступки и поведение Костюшко. И все увидят, что этот человек был неспособен жалеть собственную кровь и даже жизнь для служения родине, и он никогда не смог бы проявить такую слабость, чтобы жертвовать собой из-за личных огорчений и неприятностей.
Глава IV
Одно из положений Акта восстания предоставляло Высшему совету полномочия избирать ввиду несчастных случаев нового генералиссимуса на место Костюшко. Наибольшее количество голосов набрал Томаш Вавжецкий. 12 октября 1794 года Высший совет назначил его преемником Костюшко.
Об этом назначении дивизионные генералы проинформировали солдат и офицеров в своих подразделениях. Армия поклялась в верности и повиновении. Новый генералиссимус вполне устраивал и гражданское население. А вот тот, на кого пал выбор, долго сопротивлялся. Из-за своей скромности Вавжецкий никак не мог поверить, что у него хватит умения и таланта, чтобы достойно заменить действительно выдающегося предшественника, которого оплакивала вся нация.
И все же увещевания друзей, уговоры добрых людей сделали свое дело, и 16 октября Томаш Вавжецкий дал клятву. В воззвании к народу, опубликованном через неделю, Вавжецкий страстно и проникновенно говорил о невосполнимой утрате, только что постигшей Польшу, и о своей глубокой признательности за оказанное высокое доверие, которое он должен оправдать своим усердием и безграничной преданностью интересам страны. Армию он призывал отомстить за плененного Костюшко, а гражданское население убеждал удвоить усилия и жертвовать всем для освобождения от вражеского гнета.
Новый военачальник искренне и трогательно признавался, что не располагает необходимыми качествами и дарованием, чтобы занимать такой важный пост, и умоляет судьбу помочь ему нести груз новых обязанностей. Вавжецкий подчеркивал также, что получая высшее воинское звание генералиссимуса, он видит свой новый долг в том, чтобы еще ближе быть к народу и участвовать вместе с ним в борьбе с врагом вопреки всем опасностям, которые неизбежны в противостоянии с превосходящими силами противника.
Между тем наступило время, когда Варшаве уже следовало опасаться не осады, а штурма. По этой причине было принято решение сконцентрировать все силы в самом незащищенном и уязвимом месте.
Генералы Домбровский и Мадалинский получили приказ немедленно выдвигаться к столице. Генералу Мокрановскому было велено оставить Литву и идти на соединение с армией генералиссимуса. Генерал Зайончек разбил свой лагерь перед Прагой, а князь Понятовский занял позиции под Варшавой на левом берегу Вислы.
Независимо от социального положения все гражданские лица были задействованы на строительстве оборонительных сооружений в районе Праги. Для координации боевых операций был создан военный совет под председательством генералиссимуса. Варшавяне получили право выбирать местных руководителей, пользовавшихся их доверием, и ни один человек не получил свобождения от обязанности защищать город.
Все общество пребывало в глубочайшем потрясении. Изо дня в день в Варшаве нарастали страх и отчаяние. Кое-кто уже начинал во всеуслышание говорить о необходимости сдаться на милость победителя. Но какого? И тут мнения расходились. Торговцы и наиболее состоятельные люди отдавали предпочтение пруссакам, люди, приближенные к королевскому двору – русским, а простой народ, который не строил никаких корыстолюбивых планов на будущее, видел себя только в борьбе с врагами родины.
14 октября из русского лагеря в Варшаву прибыл курьер с визой Костюшко и вручил королю Польши письмо от барона де Ферзена. Вот его содержание:
«Милостивый государь! Практически полный разгром польской армии, против которой я имел честь сражаться, пленение огромного количества солдат, офицеров, военачальников и даже верховного главнокомандующего и вождя революции 1794 года – таковы, государь, результаты событий 10 октября.
Будучи уверенным, что Ваше Величество и Речь Посполитая Польша восстановили ваши полномочия и все прежние права, я обращаюсь к законному правительству с просьбой освободить русских генералов, офицеров, солдат, служащих, сотрудников дипломатического корпуса и членов их семей, а также мужчин и женщин, которые вопреки праву народов до настоящего времени находятся под арестом.
Я хотел бы, чтобы все указанные лица были направлены в расположение армейского корпуса под моим командованием. Рассчитываю на незамедлительное исполнение этой просьбы и со своей стороны обязуюсь предпринять все имеющиеся в моем распоряжении меры для оказания содействия данным лицам.
В надежде на то, что такие шаги, не приносившие в прошлом никаких результатов, обеспечат Польше спасительный и прочный мир, и я уже в конце этого года смогу лично выразить свое почтение Вашему Величеству, заранее прошу принять уверения моего высокого уважения и т. д. и т. д.
Барон де Ферзен».
Это письмо было расценено не более как предлог, которым русская сторона решила воспользоваться для того, чтобы прозондировать обстановку в польском правительстве и приступить к переписке в надежде на то, что она могла бы дать благоприятные результаты. Король передал это послание в Высший совет и после консультаций с самыми доверенными лицами дал следующий ответ:
«Милостивый государь! Каким бы печальным не стало поражение части польской армии 10 октября, какой бы горестной не явилась утрата достойнейшего человека, заложившего основы независимости нашего государства – все это, однако, не смогло поколебать стойкость и твердость тех, кто торжественно поклялся победить или погибнуть в борьбе за свободу.
И вы нисколько не удивитесь, милостивый государь, что мы не можем принять ваше предложение об освобождении русских пленных, которых мы рассматриваем как залог для поляков, чья судьба находится в ваших руках.
Если вы действительно желаете содействовать обмену ваших пленных на наших, мне было бы весьма приятно сотрудничать с вами в этом направлении.
Станислав Август».
Со своей стороны Высший совет в письме к Костюшко сообщал о готовности отпустить на волю всех русских военнопленных в обмен на его личное освобождение. Совет заверял бывшего главнокомандующего в том, что все средства, за исключением тех, которые могли бы нанести ущерб интересам родины, будут использованы для того, чтобы он вновь обрел свободу. В письме говорилось также о том, что польские власти высоко ценят заботу и внимание, которыми окружен Костюшко в стане врага, и в ответ постараются по возможности облегчить участь русских пленников.
Тем временем в рядах бойцов польской армии стали преобладать упадочные настроения. Почти все военные операции давали очень слабый эффект. Прусский генерал Гюнтер разбил отряд повстанцев на переправе через реку Нарев. 24 октября в Остроленке еще один отряд попал в окружение и сдался прусским войскам под командованием князя Гольштейна-Бека. Только генералам Домбровскому и Мадалинскому удалось прорваться через неприятельские ряды и без боя и потерь направиться в сторону Варшавы.
После вывода армейских формирований, поддерживавших повстанцев, революционное движение в Великой Польше пошло на спад. В связи с этим прусский король отменил свой приказ об отправке с берегов Рейна в Польшу корпуса под командованием князя Гогенлоэ. Остальным войскам было приказано наступать на Варшаву. Фридрих Вильгельм надеялся опередить русских и, если возволит время, занять польскую столицу.
Генерал Суворов разгадал эти намерения и ускорил продвижение своей армии. 26 октября, соединившись с войсками генералов Ферзена и Денисова, Суворов атаковал поляков на подступах к Праге и вынудил их отступить к оборонительным сооружениям. Наступление русских не прекращалось, а 29 октября в Варшаве послышались первые залпы канонады.
Предместье Варшавы Прага, расположенное на правом берегу Вислы, было укрыто оборонительными сооружениями и батареями, насчитывающими более ста орудий. Лучшие силы польской армии, национальная гавардия, тысячи и тысячи отважных варшавян оказали врагу неистовое сопротивление. В этот решающий момент все командиры, офицеры и солдаты сражались в едином порыве, не думая об отчаянии и безнадежности. Во всех шеренгах раздавался единственный клич: «Победа или смерть!»
3 ноября поляки начали артиллерийскую подготовку. По первому же сигналу тревоги все вооруженные граждане Варшавы явились на оборонительные сооружения. Канонада продолжалась целый день, но не принесла каких-либо ощутимых результатов.
4 ноября на рассвете русские пошли в атаку на левобережные оборонительные сооружения и через несколько часов разбили их, понеся немалые людские потери.
За этим первым успехом последовали страшные кровавые сцены. В бою смешались русские и поляки. Со всех сторон лились потоки крови. Восемь тысяч поляков с оружием в руках пали на поле брани. Русские захватили всю артиллерию. Погибли генералы Ясинский и Грабовский. Генерал Зайончек, осуществлявший общее командование, был ранен. Генерал Майен и большинство штабных офицеров попали в плен.
Это сражение, продолжавшееся значительно меньше времени, чем можно представить, стало настолько смертоносным и привело к такой массовой гибели поляков главным образом потому, что русские подожгли мост через Вислу, соединявший Прагу с Варшавой. Данное обстоятельство весьма затруднило и сделало фактически невозможным отступление наших войск. Огромное количество офицеров и солдат, которые не смогли предотвратить поджог моста, нашли свою смерть в водах Вислы, пытаясь ее переплыть. Двенадцать тысяч мужчин и женщин, стариков и детей были истреблены в Праге. Русские подожгли предместье со всех четырех углов, и через два – три часа от деревянных домов (а из них в основном и состояла Прага) остались лишь дымоходы да кучи пепла.
Эта жуткая картина на фоне полного разгрома армии вселяла ужас в сердца варшавян, у которых не оставалось никакой надежды, что с ними обойдутся лучше, чем с мирными гражданами предместья.
В центре польской столицы от бомб загорелось несколько зданий. Высший совет принял, наконец, решение о капитуляции и направил в русский лагерь Игнация Потоцкого. Однако Суворов отказался принять его, заявив, что не желает вести переговоры ни с кем из руководителей восстания. И добавил, что его императрица воюет не с польским народом, а с повстанцами.
После возвращения Игнация Потоцкого в Варшаву ведение переговоров решили поручить магистрату, куда и было адресовано настоящее письмо:
«Высший совет считает, что для спасения Варшавы от нависшей опасности президент города от имени магистрата направляет несколько депутатов в сопровождениии трубача к русскому генералу с целью получить от него официальное заявление о том, что будет обеспечена безопасность варшавского населения и его имущества. В случае, если такие гарантии не будут предоставлены, все варшавяне без исключения встанут на защиту родного города.
Варшава, 4 ноября 1794 года.
Кохановский, президент».
Магистрат назначил трех полномочных депутатов, а король дал согласие оказать посреднические услуги в переговорах с русским генералом о сохранении столицы.
5 ноября генерал Суворов прислал предварительные условия капитуляции:
1. Оружие должно быть сложено за городом, в месте, которое будет выбрано по обоюдному согласию.
2. Все артиллерийские орудия и боеприпасы должны быть доставлены в то же самое место.
3. Мост должен быть восстановлен немедленно. Русские войска войдут в город и возьмут под защиту всех жителей.
4. Именем Ее Величества императрицы гарантировалось, что все военные могут оставаться в своих имениях либо направляться в другие места по своему желанию. При этом их имущество будет находиться в целости и сохранности.
5. Как и прежде, король Польши будет пользоваться почтением и должным уважением.
6. Именем Ее Величества императрицы России торжественно заявлялось, что остаются в забвении былые обиды, гарантируется спокойствие и обеспечивается неприкосновенность жизни и имущества граждан.
7. Войска Ее Величества императрицы России вступят в город Варшаву сегодня после обеда либо завтра утром, в случае, если ремонт моста не будет завершен сегодня.
Совершено в лагере под Прагой, 5 ноября 1794 года.
Многие члены Высшего совета уже выехали из Варшавы, однако совет еще не был распущен и продолжал работу. Он в основном одобрил условия капитуляции и направил в магистрат Варшавы ответ:
«Ознакомившись с условиями капитуляции, выдвинутыми русским генералом магистрату города, и желая совместить стремление варшавян получить гарантии безопастности и сохранения их собственности с нашим долгом поддерживать акт национального восстания и отстаивать свободу и независимость родины, мы сочли целесообразным довести до сведения магистрата наше мнение об условиях, предложенных генералом Суворовым.
Совершено в Варшаве на заседании Высшего совета 5 ноября 1794 года.
Игнаций Закжевский».
Вот текст документа Высшего совета, который был передан магистратом генералу Суворову:
1. Город Варшава доставит оружие в место, выбранное по взаимному согласию.
2. Город Варшава не располагает собственной артиллерией и боеприпасами.
3. Мост будет отремонтирован в самое ближайшее время, и русские войска возьмут город, равно как и его жителей под свою защиту.
4. Город Варшава не в состоянии выполнить четвертое условие генерала Суворова и содействовать тому, чтобы польские войска были выведены за пределы столицы, так как городские власти не имеют права и полномочий вмешиваться в дела армии.
5. Город Варшава нисколько не сомневается, что король Польши везде и всегда будет пользоваться почтением и должным уважением.
6. Безопасность варшавского населения и его имущества рассматривается как первооснова для всех остальных условий при соблюдении Россией гарантий предать забвению все случившееся до настоящего времени.
7. Восстановление моста за сегодня и завтра едва ли возможно. Мы согласны с тем, что русские войска вступят в город как только польская армия оставит его пределы, на что потребуется восемь дней. В течение этого времени между русскими и польскими войсками соблюдается перемирие.
В случае, если войска Ее Величества императрицы сочтут уместным продлить сроки перемирия, это встретило бы наше согласие.
Граждане Варшавы просят оставить в обращении бумажные деньги, банковские и казначейские билеты с сохранением их номинальной стоимости.
Игнаций Закжевский.
Генерал Суворов, ознакомившись с этим документом Высшего совета, 6 ноября дал свой окончательный ответ, который и завершил все дискуссии.
1. Все оружие, полученное от граждан Варшавы, на лодках должно быть доставлено в Прагу. Оружие, находящееся на складах, должно быть передано в магистрат.
2. Городские власти обязуются осуществить необходимые меры для того, чтобы арсенал, а также запасы пороха и боеприпасы, сосредоточенные в Варшаве, оказались в распоряжении русских войск сразу же после их появления в городе.
3. Городские власти должны принудить польские войска сдать оружие согласно условиям, изложенным ранее. Лица, воспротивившиеся исполнить данное указание, обязаны немедленно покинуть город.
4. Последний срок восстановления моста и передачи оружия назначен на утро 8 ноября. Русские войска также принимают участие в ремонтных работах.
5. Все русские военнопленные должны быть освобождены утром 7 ноября. В это же время выйдут на свободу арестованные жители Праги, Варшавы и другие граждане Польши.
6. Граждане города Варшавы должны просить Его Величество короля Польши своим авторитетом оказать поддержку городу и повелеть солдатам сдать оружие либо оставить город. Исключение здесь составит лишь королевская охрана из шестисот пехотинцев и четырехсот кавалеристов для несения службы в замке.
7. При вступлении русских войск в город магистрат во главе с президентом должен находиться на мосту для вручения ключей. Все дома, расположенные вдоль улиц, по которым будут двигаться войска, должны быть заперты.
8. Магистрату предписывается разыскать архив посла России и все остальные документы.
После того, как все вопросы о капитуляции были согласованы генерал-аншеф Суворов распорядился издать следующеее уведомление:
«Я с удовольствием узнал, что обе стороны по взаимному согласию определили и приняли условия капитуляции, и прошу варшавян оказать дружественнную встречу войскам моей милостивой императрицы. К польским военным, которые, возможно, еще будут находиться в Варшаве, я также обращаюсь с просьбой не препятствовать спокойному продвижению наших войск.
В то же время я повторяю самые торжественные заверения в том, что гарантируются спокойствие, неприкосновенность жизни и имущества граждан и предается забвению все былое, как об этом и сказано в шестой статье предварительных условий капитуляции.
Совершено 6 ноября 1794 года».
После этого Высший совет сразу же был распущен. Генерал Вавжецкий снял с себя все полномочия и передал их в руки короля. Таким образом был восстановлен прежний порядок вещей, в котором страна пребывала до начала восстания.
Лидеры революции, генералы, офицеры и солдаты, не пожелавшие сложить оружие, 8 ноября вышли из города и через Пясечно двинулись в сторону Пилицы. Следом за ними тремя колоннами устремились русские войска под командованием генералов Ферзена и Денисова. Как только русские стали по пятам преследовать поляков, часть наших солдат разбежалась. Многие солдаты и офицеры оставили боевые ряды под Опочно. А 18 ноября, в Радошице, что в двадцати трех лье от Варшавы, сдались все польские бойцы. Там же остались боеприпасы и сто двадцать два орудия.
22 ноября генералиссимус Вавжецкий и генералы Домбровский, Гедройц, Неселовский и Гелгуд были доставлены в штаб Суворова. Генерал Мадалинский распустил своих подчиненных по домам, а сам пытался скрыться, но попал в плен к пруссакам.
Канцлер Коллонтай покинул Варшаву намного раньше польских войск. В Галиции он был задержан и заключен в крепость Олмутц.
Игнаций Потоцкий, Закжевский, Мостовский и Мокрановский остались в столице, доверив свою судьбу на милость победителя.
Армия под предводительством князя Юзефа Понятовского и различные воинские формирования, откомандированные для борьбы с прусскими войсками, также сложили оружие, а солдаты отправились в родные места. Лишившись всякой поддержки и опоры, восстание в Великой Польше вскоре потерпело поражение.
Теперь императрица России, восстановив свое владычество в Польше, где к тому же было покончено и с революцией, столь беспокоившей ее, довольствовалась тем, что повелела заточить в петербургские тюрьмы и сослать в Сибирь всех, кто оказался в руках русских и вызывал хоть малейшее подозрение. Однако в остальном царица сдержала свое обещание о забвении прошлого: ни в Варшаве, ни по всей территории страны никто не подвергался гонениям и преследованиям.
А вот в Пруссии дела обстояли совсем по-иному. Там после того, как на захваченных польских землях были сформированы прусские властные структуры, начала работать специальная комиссия по осуждению и наказанию участников восстания.
24 октября 1795 года был подписан договор о разделе Польши, в соответствии с которым пруссаки заняли Варшаву 1 января 1796 года. О границах Краковского воеводства Пруссия и Австрия смогли договориться лишь 21 октября 1796 года.
В результате этого третьего и последнего раздела Польши Австрия получила самую большую часть Краковского воеводства, Сандомирское и Люблинское воеводства, часть Хелмского уезда, а также части Брестского, Подляшского и Мазовецкого воеводств, расположенные вдоль левого берега Буга. Все эти территории составляли примерно восемьсот тридцать четыре квадратных лье.
К Пруссии отошли земли Мазовецкого и Подляшского воеводств на правом берегу Буга, части Трокского воеводства и Жемайтского староства на левом берегу Немана и уезд Малой Польши в составе Краковского воеводства – в общей сложности около тысячи квадратных лье.
Россия расширила свою территорию приблизительно на две тысячи квадратных лье за счет еще остающейся в составе Польши части Литвы до Немана и до границ Брестского и Новогрудского воеводств, большей части Жемайтии, Хелмского уезда на правом берегу Буга, части Волыни, а также Курляндии и Семигалии.
Еще в ходе обсуждения условий третьего раздела Речи Посполитой Россия настаивала на том, чтобы король Польши отрекся от престола. 25 ноября 1795 года Станислав Август, зависящий все годы своего господства от прихотей и капризов императрицы Екатерины, подписал акт о сложении с себя королевских полномочий и согласился на ежегодное жалованье в двести тысяч дукатов и оплату всех долгов, что, собственно, и гарантировалось тремя участниками раздела Польши. После этого бывший король отправился в Гродно, а затем, по пришествии на трон императора Павла, выехал в Петербург, где и отошел в вечность 12 февраля 1798 года.
Глава V
После того, как русские заняли Вильну, 18 августа я вернулся в Варшаву, где вел довольно праздный образ жизни вплоть до того самого дня, когда король Пруссии отвел свои войска от столицы. пережившему все тяготы и треволнения, к которым я не привык, и при отсутствии перспектив, не сулящих ни надежд, ни утешения, мне необходимо было отдохнуть. Я развлекался тем, что почти каждый день по несколько часов проводил в нашем лагере, где до снятия осады города постоянно кипела жизнь.
Отступление короля Пруссии в ночь с 5 на 6 сентября я воспринял с удивлением. Однако я вовсе не был склонен разделять искреннее или фальшивое умиление тех, кто расценивал этот демарш Фридриха Вильгельма как шаг к разъединению Пруссии и России и усматривал в этом некие положительные последствия для Польши.
Полмесяца я провел в Варшаве в ожидании увидеть какие-либо результаты от снятия осады и затем обратился к генералиссимусу за разрешением посетить свою деревню Соколув, что по дороге на Гродно, в четырнадцати лье от столицы. Я легко получил этот документ, так как не состоял на военной службе в качестве добровольца и в связи с полным бездействием нашей армии на дистанции от Гродно до Белостока.
Недолго отдыхал я в деревне, где и узнал о поражениях наших войск под командованием генерала Сераковского в Крупчицах и под Брестом. Но я совершенно ничего не знал о том, что Костюшко лично взял на себя командование армией Сераковского, и даже не догадывался, что Суворов со своим многочисленным войском уже идет на Варшаву.
12 октября вся округа забила тревогу, и мне сообщили, что отряд из пятисот казаков приближается к моей деревне с целью захватить кассу и товарные склады, доставленные сюда из уездного города Дрогичина, а также арестовать меня со всеми членами комиссии по поддержанию порядка, собравшимися в моем доме. В планы казаков входил и арест молодого Исидора Красинского, лечившегося от ран в трех лье от нашей деревни.
Вначале я подумал, что это ложная тревога, но комиссия получила официальное донесение о том, что казаки были уже в двух лье от нас. Члены комиссии спешно покинули мой дом и, погрузив на складах все, что можно было увезти с собой, уехали в город Венгрув, расположенный всего в двух лье от деревни. Там я и догнал коллег через несколько часов. В ту ночь с 13 на 14 октября нам было не до сна от тревожных криков и паники беглецов, которые стремились встретиться с комиссией и уберечься от преследования казаков.
Впрочем, у самих членов комиссии уже почти не оставалось времени на спасение. Своим освобождением из этой ловушки я обязан только почтмейстеру Майснеру. Этот человек, рискуя всем, в том числе и собственной жизнью, нашел способ скрытно вывести меня из дома и дал мне ямщика. Окольными путями через дремучий лес он провел меня на варшавскую дорогу. Без такой предосторожности мне было не избежать опасности, так как все выезды из города уже были перекрыты казаками. К тому времени один казацкий разъезд успел добраться до Лив, в одном лье от Венгрува. Там казаки устроили засаду на мосту, миновать который никак невозможно, если ехать по главной дороге.
Ночная тьма и быстроногая лошадь помогли мне незаметно проехать пикеты в окрестностях города. Одним махом проскакав добрых пять лье, я решил передохнуть и тотчас же увидел несколько экипажей с женщинами и детьми. За ними следовал отряд казаков, посланных для моей поимки. Времени на раздумье не было. Я вскочил на лошадь, доехал до города Кобылка, где и смог пару часов отдохнуть. До Варшавы оставалось три лье.
15 октября на заставе под Прагой я узнал от бригадного генерала Лазнинского о поражении наших войск под Мацеёвицами. Эта новость удручила меня больше, чем все мои ночные злоключения.
Не стану здесь описывать печальную картину, представшую перед моими глазами на улицах Варшавы. Об этом шла речь в предыдущей главе, когда я рассказывал, с какой скорбью жители столицы восприняли весть о пленении Костюшко. Но не могу обойти молчанием волнения, смуту и порождаемые ими зловещие предзнаменования, царящие в различных слоях общества.
Разлад среди членов Высшего совета свел на нет все надежды найти пути к сплочению людей и выработать какой-то план решительных действий перед лицом неотвратимой опасности.
Одни проповедовали идею сдержанности, монолитности и согласия всех классов общества как единственный способ спасения родины. Другие, более экзальтированные люди, критиковали эту идею, утверждая, что именно сдержанность обрекла на неудачу революцию, поддержать которую могло только кровопролитие. Они предлагали лишить короля короны, принести в жертву дворянство во имя интересов народа, идти на любые крайности, чтобы поднять боевой дух нации.
Король, разумеется, знал о проектах ультрареволюционеров и, сознавая опасность своего положения, старался делать все для укрепления своих позиций.
Разногласия в Высшем совете оказывали тлетворное воздействие на общественное сознание. Более того, трения стали проявляться и в руководстве армии. Словом, налицо были все предпосылки уже близкого кризиса с самыми непредсказуемыми последствиями.
Будучи свидетелем агонии революции, я не поддерживал ни одну из сторон: ни те, ни другие были не в состоянии добиться единства сил, движения и действий во имя победы над врагом. А это и была единственная цель, о которой всегда следовало помнить. Своего неодобрительного отношения к полемистам я не скрывал. Тем не менее как раз об этом меня расспрашивали каждый день.
Генерал Ясинский – славный патриот и храбрейший человек – несколько раз заходил ко мне отобедать и переговорить с глазу на глаз. Как-то он предложил мне вступить в клуб якобинцев, добавив, что, в случае отказа меня могут повесить, и это его безумно огорчило бы… Я ответил, что знаю лишь один клуб, который ратует за объединение всех граждан для защиты родины, и я горжусь, что состою в этом клубе и готов сражаться до последней капли крови за свою страну. А что касается угроз, то они меня никогда не волновали, и запугать меня ничем не удастся.
Немного погодя генерал вновь наведался ко мне и пытался доказать, что спасти Польшу можно лишь расправившись с дворянством. Улыбаясь, я заметил, что и он, и я – мы оба дворяне, и если дело дойдет до расправы, то не сносить нам головы обоим, что едва ли входило в планы Ясинского. Я также дал понять, что нелепо обвинять во всех грехах целое сословие, но если в этом сословии есть люди, совершившие преступления и заслужившие наказание, то их следует предать суду, независимо от социального положения и происхождения, с чем, собственно, и согласился мой собеседник.
Через несколько дней немного грустный, немного мечтательный Ясинский опять посетил меня и предложил прогуляться по Парижу, так как в Польше, мол, остались одни только предатели да слабаки, с которыми нечего делать. В ответ я сказал, что если дело обстоит именно так, то стоит ли совершать столь длительное и утомительное путешествие из-за каких-то недостойных соотечественников, и не лучше ли взять в руки оружие, чем оставлять родину, заботясь лишь о собственной безопасности.
«Вы правы, – холодно отпарировал генерал, – я последую вашему совету», – и молча ушел… Восемь дней спустя он погиб в лагере под Прагой, на батарее, которой сам и командовал.
Люди, приближенные к королю, тайно предупредили меня, что 28 октября партия якобинцев намерена организовать народный бунт, низвергнуть короля и уничтожить всех, кто подозревался в сотрудничестве с королевским двором. Для охраны короля и предотвращения кровопролития, последствия которого были бы самые гибельные для Варшавы и Польши, мне было предложено связаться с группой вооруженных людей, чья преданность не вызывала никаких сомнений.
Все эти факты заставили меня обратиться к генералиссимусу Вавжецкому за разрешением выехать в одно из формирований наших войск, воюющих с Пруссией. Я предвидел, что под напором войск неприятеля Варшава не сможет долго сопротивляться. У меня были серьезные опасения оказаться в плену у русских. После моего похода на Динабург мне доложили, что за мою голову назначено вознаграждение и меня сошлют в Сибирь.
Вавжецкий охотно отозвался на мою просьбу и распорядился направить меня в лагерь генерала Гедройца, который дислоцировался в Тарчине, в пяти лье от Варшавы. Мы сразу же уехали и уже на следующий день продвинулись вперед на три лье. В Старовесе мы присоединились к корпусу из шести тысяч человек под командованием генерала Домбровского, который согласно приказу возвращался из Великой Польши.
Генерал Гедройц поручил мне возглавить отряд примерно из трехсот пятидесяти офицеров из народного ополчения, преимущественно дворян. Среди них было немало полковников, майоров и т. п. Теперь эти офицеры ожидали нового назначения, так как ранее вверенные им воинские подразделения были распущены либо включены в полки регулярных войск.
Ранним утром 4 ноября я собирался провести инспекцию своего отряда. В это время послышались мощные артиллерийские залпы. Канонада продолжалась около трех часов, и я подумал, что идет бой между польскими и прусскими войсками в нескольких лье от нас. Однако в два часа пополудни из Варшавы прибыл вестовой с сообщением, из которого следовало, что русские атаковали наши оборонительные сооружения под Прагой и взяли их штурмом. Поляки были вынуждены отходить. Чтобы помешать их отступлению, русские подожгли мост. Пожаром охвачена вся Прага. Вестовой также доставил приказ: генералу Гедройцу следовало возвращаться в Тарчин и двигаться к Варшаве, а генералу Домбровскому предписывалось оставаться для передышки в Старовесе и ждать новых указаний.
Вечером мы двинулись в путь. В глубокой печали я шел во главе колонны вместе с генералом Франковским. Генералы Гедройц, Неселовский и Гелгуд покинули лагерь немного раньше.
На нашем пути встречалось несметное количество семей, оставивших в Варшаве свои дома и все имущество. Люди шли пешком, ехали верхом, в роскошных и убогих экипажах. В этом скорбном людском потоке царило гробовое молчание, и только изредка оно нарушалось рыданием женщин и детей.
С наступлением ночи я все чаще и чаще стал слышать, как люди повторяли мое имя и интересовались не нахожусь ли я в колонне Гедройца. Приблизившись к ним, я узнал многих членов Высшего совета. В основном это были литвины. Они вкратце поведали мне, что произошло в Праге. Никто из них уже не сомневался, что все пропало и Варшава не сегодня-завтра капитулирует. Мои собеседники очень настоятельно рекомендовали мне по дороге в Варшаву не выставляться и быть вместе с ними, хотя и сами не знали, куда идут и какая судьба их ожидает.
Я, конечно же, не мог уехать из армии, не предупредив Гедройца. С ним я встретился в Тарчине и попросил выдать мне пропуск. Через несколько минут я держал в руках этот документ с указанием всем военным властям оказывать мне содействие в следовании в Сандомирское воеводство, куда, как предполагал генерал, я направлялся с секретной миссией.
Глава VI
Вместе с бригадным генералом Лазнинским, без прислуги, в ту же ночь мы выехали из Тарчина и через сутки уже были в расположении корпуса генерала Домбровского в Томчице. Сообщения о событиях под Варшавой до глубины души потрясли Домбровского, но он не терял надежды на спасение родины и посвятил нас в свой план, который уже находился на рассмотрении генералиссимуса. Теперь оставалось только ждать положительного ответа главнокомандующего да уверенности, что у поляков хватит мужества и сил для осуществления этого плана.
По расчетам Домбровского во всех наших войсках теперь под ружьем было около сорока тысяч человек, плюс две сотни орудий и десять миллионов польских флоринов в кассе государственного казначейства. Генерал давал понять главнокомандующему, что в таком состоянии армия вполне могла оказать определенное сопротивление неприятелю, выйти из Варшавы не с пустыми руками и сформировать центральное правительство на территории, подконтрольной польским войскам.
Домбровский был убежден, что король должен быть вместе с армией и не следует связывать судьбу всей страны и народа исключительно с защитой города Варшавы.
Генералу хотелось, чтобы наши объединенные вооруженные силы через Пруссию пошли на сближение с французской армией. С этой целью он составил карту, маршрут и план возможных военных операций польской армии. По мнению военачальника, на преследование наших войск русские не могли бросить все свои силы, часть которых непременно должна оставаться для поддержания порядка в захваченных провинциях, и в особенности в столице, где обстановка была накалена до предела. Домбровский нисколько не сомневался, что русская армия в двадцать – тридцать тысяч штыков не сможет препятствовать нашему отступлению. Он также считал, что и прусские войска не будут создавать помехи для продвижения поляков к французской армии, которая, получив известие о таком смелом решении руководства нашего правительства, конечно же, окажет нам всевозможную помощь: дело у нас теперь общее, и сотрудничество с Польшей пойдет только на пользу Франции. Впрочем, Домбровский допускал и такой поворот событий: в случае, если польским и французским войскам не удастся соединиться из-за огромного расстояния, которое их разделяло, Россия и Пруссия, стремясь восстановить общественный порядок и спокойствие в Польше, пожелают вступить с нами в переговоры. Генерал был уверен, что сорокатысячная польская армия, король и руководители правительства являли собой подлинное народное представительство, заслуживающее достойного уважения и положения. В результате переговоров мы могли получить выгодный мир для всей страны, а не с позором сдаваться врагу и идти на постыдную капитуляцию, единственной целью которой стала бы кратковременная свобода одного города Варшавы.
Мы до утра читали и обсуждали этот план и были в таком восторге, что я перестал думать о выезде за границу при условии, конечно, что предложения Домбровского получат поддержку в Варшаве. 7 ноября утром посыльный Вавжецкого доставил долгожданный ответ: представленный на рассмотрение Военного совета план Домбровского был одобрен и поддержан, но тем не менее признан неосуществимым ввиду того, что король по своей воле не мог выехать из Варшавы. Оказывается, люди захватили все выходы из королевского замка и угрожали всеобщим восстанием, в случае, если будет совершена попытка силой вывезти монарха из столицы. Кроме этого в ответе высказывались большие сомнения в боеспособности польской армии, солдаты и офицеры которой деморализованы от неудач и потеряли доверие к своим командирам. В конце ответа Вавжецкий сообщал, что он вместе со всеми военными, которые пожелают следовать за ним, покидает Варшаву и приказывал Домбровскому прибыть вместе со своим корпусом в установленное им место.
В предыдущей главе было показано, как отступление из Варшавы и объединение войск, следовавших за Вавжецким, завершились полным распадом польской армии в Радошице.
Ответ генералиссимуса ошеломил Домбровского. Он посоветовал мне, не теряя ни минуты, попытаться пересечь границу и выдал паспорт, с которым я под фамилией Михаловский, проживающий в Галиции, мог появиться на австрийских землях. Распрощались мы очень трогательно, прекрасно понимая, что расстаемся, быть может, навсегда. Домбровский и тогда не терял надежды на спасение родины и говорил, что свой долг перед ней исполнит до конца. Он намеревался поехать во Францию, чтобы там искать способы помочь Польше, которая рано или поздно должна обязательно возродиться.
С Лазнинским мы продолжили свой путь и направились в сторону Радома. За три лье до границы мы оставили наших верховых лошадей, сменили униформу на поношенные сюртуки и в таком наряде явились на австрийский погранпост. Оттуда нас доставили в Люблин, где я сразу же отправился к коменданту. Тот, посмотрев мой паспорт, заявил, что никакого Михаловского в Галиции не знает, и, вообще, разрешения на проезд на австрийскую территорию выдаются только лицам, имеющим российские паспорта. Он приказал мне немедленно покинуть Люблин и выехать в Тарногуру, что на польско-русской границе.
С такой новостью я и вернулся на постоялый двор, где поджидал меня мой попутчик в окружении многих наших соотечественников, оказавшихся в таком же положении, как и мы. Волнения и тревоги нарастали: не хватало только, чтобы нас арестовали и с эскортом выдворили на границу…
Одна дама – из благадарности не могу не назвать ее имя – госпожа Солтан – взялась помочь троим из нас. Она ехала в Галицию в богатом экипаже, и паспорт у нее был подлинный. Госпожа Солтан отпустила своих слуг, а мы: Кароль Прозор, Лазнинский и я, должны были их заменить. Так нам удалось уйти от неминуемой опасности.
Мы благополучно пересекли хорошо охраняемую границу, въехали в Галицию и прибыли в Ярослав. Мне пришлось играть роль секретаря госпожи Солтан. Эта замечательная соотечественница и подруга позаботилась о том, чтобы я и мои попутчики получили паспорта. Через доверенное лицо нам оформили их в Лемберге. Мы прожили в Ярославе три недели, а затем Прозор уехал в Париж, Лазнинский отправился в Венецию, а я поспешил в Вену, чтобы забрать жену и выехать в Италию.
Под фамилией Михаловский в Вене я находился дней десять. Для жены не составило никакого труда оформить бумаги на поездку в Венецию, куда мы и прибыли в середине декабря. В нашем распоряжении оставалось всего лишь несколько сотен золотых дукатов. Строить большие планы на будущее не доводилось, зато мы были в безопасности.
20 декабря посыльный из Варшавы привез письма от моих столичных друзей. Все они настойчиво убеждали меня возвращаться на родину, где уже ничто мне не угрожало. Друзья прислали мне паспорт и письмо от генерал-аншефа Суворова. Я был очень растроган вниманием и заботой двух дам, которым пришлось лично обращаться в штаб-квартиру Суворова за получением официального уведомления о том, что я не буду подвергаться преследованиям. Однако во все это верилось мне с трудом. Мне ведь в Вене сообщили, что после капитуляции Варшавы Вавжецкий, Игнаций Потоцкий, Немцевич, Мостовский и многие-многие другие оказались в тюрьмах Петербурга и тысячи поляков были сосланы в Сибирь.
И все же мысль о возвращении на родину, где тебя не подстерегают никакие опасности, согревала меня. Радовала и надежда на то, что удастся вернуть свои имения. Среди писем я нашел и послание воеводы Хоминского. Он пользовался доверием князя Репнина, главнокомандующего русскими войсками в Литве, где тот имел неограниченные полномочия. Хоминский настоятельно советовал мне воспользоваться хорошей возможностью, чтобы получить знак великодушия и милости от Ее Величества императрицы России и вернуть все мои владения, которые я недавно потерял. Воевода буквально заклинал меня, чтобы я переписал присланный им текст письма к императрице, записанный, как он утверждал, под диктовку самого князя Репнина.
Что и говорить, я был очень признателен воеводе, но строки письма, которые мне предлагалось переписать, немало удивили и даже оскорбили меня. Ни много ни мало от меня требовалось, чтобы я признал свою вину перед императрицей как повстанец и в том, будто настолько запутался в революционных идеях, что ради них пожертвовал интересами своей страны. Далее, мне надлежало признать всю свою неправоту, отречься от содеянного и обещать, что в будущем своим примерным поведением я постараюсь снять с себя предъявленные серьезные обвинения. И, наконец, мне следовало заявить, что хотя я не считаю себя достойным прощения, все же доверяюсь великодушию и милосердию императрицы и прошу высочайшего разрешения вернуться в страну, где буду смиренно ожидать своей участи, которую соблаговолит определить государыня.
Я не сомневался, что воевода Хоминский перестарался, избрав такой способ вернуть меня в Польшу. Но я допустить не мог, что князь Репнин, а тем более императрица ставили столь унизительные условия благородному человеку. Я написал Хоминскому, что нисколько не тронут, а неприятно поражен его дружеским предложением совершить поступок, который мог только скомпрометировать меня, не дав никаких положительных результатов. И если поверить в то, что князю Репнину действительно не хватило деликатности, и он поставил такие унизительные условия, то можно усомниться, что ему хватит порядочности, чтобы сдержать слово и выполнить свои обещания. В заключение я дал понять воеводе, что верю в благородство российской государыни и в ее способность простить человека, который, возможно, не оказал ей должного почтения, но человек этот своим безупречным поведением заслужил право на уважение к себе и покровительство. А тот, кто опустился, жертвуя ей свою честь и достоинство, заслуживает лишь царского презрения.
Я вручил посыльному свои письма, а сам остался в Венеции. Без достаточных средств, без надежды на их получение и на скорое возвращение на родину, зато с горьким предчувствием, что земли мои конфискуют и я, и моя семья потеряем их навсегда. Так оно и получилось… Должен признать, однако, что ожидание добрых перемен в судьбе Польши при стечении определенных политических событий, которые мне смутно предвиделись, а также убежденность в утрате свободы в случае переезда на родину придавали мне мужества, терпения и смирения.
книга шестая
Глава I
В Венеции я встретил Петра Потоцкого, бывшего посла Польши в Константинополе, Станислава Солтыка, обоих братьев Вышковских, Лазнинского, Франца Дмоховского, Колыско, Фаддея Выссогерда, Каэтана Нагурского, Кароля Прозора и еще многих поляков. Некоторые из них впоследствии выехали в Париж или Дрезден. На их место прибывали новые эмигранты, которые не могли или боялись возвращаться в свою страну.
Французский министр Лаллеман пользовался в Венеции огромным уважением и имел заметное влияние в правительстве, действующее еще в старом формате. Этот министр сделал заявление для поляков, в котором подчеркнул, что хорошо осведомлен о существовании объединения польских беженцев и по поручению правительства будет защищать их наравне с гражданами Франции. Министр предлагал обращаться к нему всякий раз, когда в этом будет необходимость, обещая обеспечить личную безопасность каждого, кто уважает законы и обычаи страны пребывания и своим поведением не вызывает никаких нареканий со стороны венецианского правительства.
После этого заявления мы могли собираться чаще, пытаясь установить регулярную связь с нашими соотечественниками в Париже. В скором времени мы начали получать оттуда сообщения. Нам писали, что парижские власти весьма доброжелательно относятся к нашим землякам, что Франция не останется безучастной к восстановлению Польши и никогда не смирится с тем, что эта страна перестала быть великой европейской державой. Более того, нас обнадеживали, что Франция вынудит короля Пруссии выйти из российско-австрийской коалиции и настроит против России Швецию и Турцию. И когда наступит благоприятный момент, французы окажут нам реальную помощь, а пока от польских беженцев требуется лишь твердость и стойкость в несчастье, а также вера и терпение.
Мы находились поближе к границам Польши, нежели наши соотечественники в Париже, и тайно через верных людей передавали такие обнадеживающие сведения. При этом чаще всего мы использовали торговцев из Триеста, которые ничего не знали о содержании корреспонденции. Таким образом наши письма через Галицию быстро доходили до центральной части Польши, укрепляя дух тех, кто не смог покинуть пределы страны.
Первые месяцы 1795 года прошли спокойно. Наши собрания и переписка не вызывали никаких опасений и подозрений. Но внезапно поползли слухи, что полиция Венеции ведет за нами слежку. А тут еще и между нами разгорелись острые споры о государственном устройстве будущей Польши. И то, и другое стало поводом отправить делегацию к французскому министру.
В делегацию включили Солтыка, Дмоховского и меня. Я кратко изложил цель нашего визита. Министр заверил нас, что правительство Венеции никоим образом не будет препятствовать проведению наших собраний. При возникновении каких-либо сомнений на этот счет Лаллеман предложил нам помещения в своем особняке, где мы могли проводить мероприятия в удобное для нас время. А что касается наших внутренних разногласий о будущем Польши, то министр заявил, что у него нет никаких инструкций по этому вопросу: «Ибо, – как выразился он, – для французского правительства не имеет значения, что будет положено в основу восстановления Польши: конституция 3 мая или Акт восстания 1794 года. Да поставьте вы на трон хоть самого султана, если вам того хочется! Была бы только Польша! Это единственное пожелание Франции, и я льщу себя тем, что оно сбудется!»
Наши надежды на поддержку и помощь французов возрастали по мере того, как их войска добивались все новых и новых успехов. Казалось, что страшный пример Польши сблизил воззрения людей, внушив каждому французу еще большую неприязнь к врагу и желание скорее погибнуть, чем сдаться чужеземцам.
В тот год суровая зима сослужила добрую службу французам. Они вошли в Голландию, отразили атаки австрийцев, англичан и войск штатгальтера. В конце 1794 года французские войска овладели Маастрихтом и Неймегеном. С января следующего года воинские формирования под командованием генерала Пишегрю начали громить союзников от Атлантического океана до Рейна. Они с удивительной легкостью пересекали по льду реки и каналы. Ясное дело, что сделать это весной или летом было бы гораздо труднее. На глазах у потрясенных, застигнутых врасплох голландцев их страна перешла в руки чужой армии. Никому не было дано предвидеть такое и тем более помешать этому. А случай, когда французские кавалеристы атаковали линейные корабли противника и захватили их, сам по себе уникален.
Многие голландские провинции выступали за прекращение войны, но штатгальтер противился этому из-за опасения, что мир с Францией вызовет подъем патриотического движения. Вильгельм V Оранский горел желанием, чтобы весь батавский народ восстал и дал отпор французам, но указания последнего штатгальтера уже не выполнялись. Кстати, это он еще в первые дни вторжения французов, пытаясь остановить их продвижение, предлагал открыть шлюзы и устроить потоп. Поначалу это предложение отклонили, а затем ударили морозы и воплощать его в жизнь было поздно.
В морозные дни генерал Пишегрю, не теряя времени, быстрыми темпами переправился через все водные массивы, форсирование которых в обычных условиях могло затормозить операцию. Генерал Макдональд первым перешел скованную льдом реку Ваал, оставленную неприятелем. Этот дерзкий марш-бросок стал решающим в покорении Голландии. Республиканская армия взяла с бою Утрехт и Роттердам. Разбитые части генерала Клерфэ оказались по другую сторону Рейна, и теперь уже ничто не могло остановить французов. Принц Оранский вместе с семьей скрылся в Англии. Открыл свои ворота победителям город Берген-оп-Зом. Эскадрон гусар свободно въехал в Амстердам. Все патриоты, освободившиеся от гнета, вступали в ряды республиканцев. Англичане, убедившись, что народ, который они собирались защищать, выступает против них, под давлением французов отступили к Бремену, а оттуда на кораблях двинулись на родину. Вскоре революция в Голландии завершилась. Штатгальтерство упразднили, и французское правительство вернуло Соединенным провинциям независимость. Франция оставила лишь несколько своих гарнизонов для отражения возможных атак со стороны коалиции.
Стремительная победоносная кампания вызвала изумление и восхищение в нейтральных государствах и повергла в ужас и отчаяние всех неприятелей. Этот оплакиваемый всеми подневольный народ 9 термидора умертвил своих тиранов; эта раздавленная нация, как кое-кому казалось, повсюду праздновала победу; эта страна, которую хотели разорвать на части, во все стороны расширяла свои границы и, как-будто, не горела желанием уберечь свои завоевания[47].
В результате этой кампании к семи Соединенным провинциям Нидерландов Франция добавила Трир, Кельн, Майнц, Льеж, Шпайер, Вормс, часть Рейнского Пфальца, герцогства Клевское и Юлих, Экс-ла-Шапель, герцогство Цвайбрюккен, Савойское герцогство, графство Ницца и большую часть Бискайи и Каталонии. Французы выиграли двадцать пять крупных сражений и более ста раз выходили победителями в локальных битвах. Они овладели ста пятьюдесятью двумя городами, захватили три тысячи восемьсот орудий, семьдесят тысяч ружей и девяносто вражеских знамен. Было уничтожено восемьдесят тысяч человек и взято в плен девяносто тысяч. Военное противоборство с Францией довело до изнурения короля Испании, и он уже мечтал только о мире. Король Пруссии вступил в переговоры с Комитетом общественного спасения, и в жерминале была достигнута договоренность о временном перемирии. Князья империи, сохранившие свое достояние, устали от разрушительной войны, которая к тому же несла с собой дух демократии вместо того, чтобы сводить его на нет. Не последнюю роль при этом сыграло и то обстоятельство, что финансовые возможности императора к тому времени были весьма ограниченны.
И успехи французской армии, и критическое положение коалиционных государств, и сдержанность, с которой действовали республиканцы в Голландии, и их решительность в борьбе с анархией и террором, осквернявшими Францию, и разработка справедливой конституции, и, наконец, формирование стабильного, активного, но умеренного правительства – все это позволяет понять, почему угнетенные народы страстно желали Французской республике дальнейшего развития и укрепления. Свои чаяния о возвращении на свободную и независимую родину связывали с Францией и поляки. Они питали ненависть к преступлениям, которыми запятнали себя анархисты; они содрогались от ужаса, когда в эпоху Террора якобинской диктатуры реки крови залили землю Франции. Но когда они узнали, что республиканцы покончили с анархией, что Робеспьер уже на том свете и что новый конституционный режим при поддержке армии восстанавливает порядок и спокойствие во Франции, укрепляет ее могущество и ведет страну к мирным переговорам с самыми заклятыми врагами – тогда поляки и вовсе перестали сомневаться в широких возможностях французского правительства и его способности оказать содействие в деле восстановления Польши.
Уже одно то, как в Париже принимали польских беженцев, обнадеживало еще до Директории, когда действовал Комитет общественного спасения: всякий раз, когда поляки имели дело с представителем Французской республики, они могли быть уверенными, что получат убежище, помощь и защиту.
5 апреля 1795 года в Базеле гражданин Бартелеми, посол Франции в Цюрихе, и барон Гарденберг, прусский уполномоченный, подписали мирный договор между Французской республикой и Пруссией. 17 мая эти же представители подписали конвенцию между обеими державами, и Франция в глазах Европы стала еще сильнее, устранив из антифранцузской коалиции крепкого соперника. Англия, Россия и Венский двор неодобрительно отнеслись к этому решению короля Пруссии, который пожертвовал интересами коалиции ради благополучия и покоя на своих землях. Поляки, возлагавшие свои надежды на Французскую республику, настороженно восприняли это сближение еще вчерашних врагов, хотя всех его последствий предвидеть не могли.
Я был среди тех немногочисленных поляков, которые видели, что договор, заключенный Францией и Пруссией, своим содержанием гарантировал сохранение всех территориальных владений обоих государств, и в нем не было ни одного положения о захваченных польских провинциях. Таким образом, оккупация этих провинций в соответствии с последним разделом Польши ipso facto[48] узаконивалась и той державой, которую мы рассматривали как единственную нашу опору и поддержку.
Как только до нас дошли первые известия о начале французско-прусских переговоров, я отправил несколько писем гражданину Барсу, польскому уполномоченному в Париже, и попросил его как можно скорее напомнить французскому правительству, что появилась благоприятная возможность помочь полякам. Французы могли это сделать, поставив королю Пруссии условие: отказаться от захваченных польских земель и сотрудничать с французским правительством в деле восстановления Польши, раздел которой нарушил политическое равновесие в Европе. Мне представлялось, что такое условие встретит понимание в Берлине, ибо мира искал не кто иной, как король Пруссии, встревоженный активными действиями России, и ее оккупацией основной части территории Польши.
Барс нашел такие соображения очень справедливыми и полностью разделял мое мнение. Эту позицию он довел до сведения членов правительства, которые с особой симпатией относились к Польше. Но Барсу ответили, что французская сторона не может выдвинуть предлагаемое нами условие на начавшихся переговорах с Пруссией по многим причинам. Выдвижение такого условия, по мнению французов, могло сорвать или затормозить переговоры о заключении мира, в котором Франция нуждалась не меньше Пруссии. Страна должна срочно залечивать раны, нанесенные анархией и режимом Террора, восстановить финансовую систему и хотя бы на какое-то время прекратить военные действия, чтобы дать отдохнуть войскам и заняться организацией правительства. В ответе правительства подчеркивалось, что вопрос о Польше не будет фигурировать в тексте договора, и уже поэтому документ не будет гарантировать сохранение территорий, захваченных незаконным путем. Отмечалось также, что мир с Пруссией будет непродолжительным, так как антифранцузская коалиция государств не распалась, и эти государства попытаются вновь привлечь на свою сторону короля Пруссии. Однако, заверяли нас французы, никому не удастся ослабить мощь и упорство республиканцев, которые дадут отпор любому неприятелю и силой вырвут Польшу у захватчиков, если те будут противиться восстановлению ее былого положения в Европе. Барсу было предложено передать этот ответ соотечественникам, призвать их к терпению и подготовке к деяниям во имя свободы, в том числе и освобождения своей родины.
В самом начале июля 1795 года в Венеции появился посол Его Величества короля Испании дон Доминго д’Ириарте. Я хорошо знал этого дипломата во время его работы в Варшаве, откуда он уехал, как только туда вошли русские, и теперь ожидал новых распоряжений от королевского двора. А в это время дипломатические курьеры разыскивали посла то в Вене, то в Дрездене, то в Берлине, пока не нашли его в Венеции.
Впрочем, еще до получения корреспонденции из Мадрида дон Доминго д’Ириарте уже знал от третьих лиц, что ему придется отправиться в Базель для ведения мирных переговоров с гражданином Бартелеми, послом Франции. Охваченный тревогой и нетерпением, испанский посол никак не мог осмелиться и переговорить о своей предстоящей миссии с гражданином Лаллеманом, министром Французской республики в Венеции. А тот, получив официальную информацию о полномочиях гражданина Бартелеми на ведение переговоров с Доминго д’Ириарте, сам пребывал в замешательстве, не рискуя спросить у испанца, почему он тянет с отъездом из Венеции в Базель.
Ни я, ни граф Солтык не могли больше ждать. Мы решили выступить посредниками, чтобы организовать личную встречу этих двух важных персон и ускорить отъезд д’Ириарте в Базель для подписания мирного договора. Связались с одним и другим и получили обоюдное согласие встретиться как бы случайно где-нибудь в укромном месте. При этом обе стороны ставили условие, что все должно произойти так, чтобы ни одна из них не показалась инициатором этого свидания. Было решено провести встречу в условленное время дома у Солтыка.
Я в своей гондоле доставил французского министра, а Солтык привез испанского дипломата. Мы оставили наших гостей в салоне, где они беседовали с глазу на глаз добрых три часа, обсуждая основные положения и условия договора, изложенные Лаллеманом. В тот же день дон Доминго д’Ириарте выехал в Базель, где 22 июля 1795 года вместе с гражданином Бартелеми подписали окончательный текст мирного договора между Францией и Испанией.
Глава II
После недавних перемен во Франции на смену бывшим министрам и влиятельным чиновникам пришли другие люди, чьи взгляды и принципы соответствовали новой политической системе. Так, Декорш, французский министр в Польше во время конституционного сейма, а затем посол в Константинополе, был отозван оттуда за свои демократические убеждения, которые и подвели его на переговорах в государственном совете в Турции. На его место послали гражданина Вернинака.
Будучи проездом в Венеции, Вернинак сообщил нам обнадеживающие новости о заинтересованности Франции в восстановлении Польши. Согласно инструкциям Комитета общественного спасения он был уполномочен довести до сведения поляков, что французское правительство, одержав победу над анархистами и внутренними врагами, куда более опасными, чем страны антифранцузской коалиции, ищет возможности для оказания помощи мужественным народам, пытавшимся освободиться от иноземного ига. По мнению руководства Франции, восстановление Польши необходимо для стабилизации положения всей Европы, и ради этого французы готовы использовать любые средства, включая как применение силы, так и переговоры.
Вернинак намекнул, что его правительство считает целесообразным создание двух представительств польских патриотов: одного в Константинополе, а другого в Стокгольме. Со своей стороны, при Оттоманской Порте он обещал всячески поддерживать интересы польского народа, дело свободы и независимости всех народов, что входило и в собственные интересы Франции.
Вернинак уточнил, что Комитет общественного спасения о своих намерениях уже проинформировал наших соотечественников в Париже и обратил их внимание на то, что появление польских представителей в Турции и Швеции стало бы важным шагом для более успешного осуществления мер, планируемых Францией для возрождения Польши.
О встрече с Вернинаком я написал нашим патриотам в Париже и дал им знать, что, в конце концов, уступил многочисленным настояниям соотечественников и готовлюсь к поездке в Константинополь.
В скором времени гражданин Барс прислал из Парижа письмо от 20 августа 1795 года. Привожу здесь его содержание:
«В своем последнем письме от 11 августа сего года я сообщал вам, граждане, что в соответствии и с вашими, и нашими намерениями я передал правительству Франции две ноты. В первой содержалась просьба к французским министрам в союзнических странах о защите специальных представителей Польши, которые уже находятся в данных государствах либо появятся там в будущем. В этом же документе была показана взаимная выгода от постоянных контактов, которые будут поддерживаться французскими министрами либо лицами, связанными с ними, а также нашими представителями и соотечественниками, проживающими в Польше и за границей.
В другой ноте дана информация об отъезде гражданина Огинского в Константинополь. В ответе французского правительства говорится:
«Гражданин! Министры Французской республики, работающие за рубежом, по роду своей службы обязаны заниматься сбором необходимой информации везде, где это только представляется возможным. Что касается сведений о вашей родине, а ее судьба всегда интересовала нашу республику, то упомянутым министрам было бы весьма приятно получать соответствующую информацию от тех ваших сограждан, которые отличаются определенным дарованием, любовью к свободе и пользуются доверием своих собратьев, спасшихся от преследования врага. По этой причине мы решили не давать никаких специальных инструкций нашим представителям. Ранее отправленные нами рекомендации в связи с общим состоянием дел на вашей родине вполне совместимы с правилами и интересами свободного правительства, заслуживающего доверия у всех угнетенных».
Этот ответ я получил в письменном виде. Отдельно сообщалось также, что в Константинополь на имя Вернинака уже высланы письма относительно гражданина Огинского. Кроме того, через гражданина Лаллемана мы передаем гражданину Огинскому письмо, в котором свидетельствуем ему глубокое почтение и излагаем наше мнение о его предстоящей поездке. Данное письмо было направлено в правительство для его дальнейшей пересылки в Венецию. Таким образом, никаких препятствий для поездки гражданина Огинского не имеется. Мы возлагаем большие надежды на его миссию, так как хорошо осведомлены о деятельности, усердии и таланте этого человека, готового пойти на самопожертвование во имя интересов родины. Остается лишь уточнить условия переписки через Венецию, передать гражданину Огинскому шифр для переписки с нами и польскими представителями, а также документы для выполнения миссии. Все это вы получите в ближайшие дни от министра Французской республики в Венеции.
Подпись: Барс».
В тот же день, 20 августа 1795 года, польские патриоты из Парижа отправили мне следующее письмо:
«Гражданин! В тяжелые дни для всей нашей страны мы с утешением узнали, что наши граждане, уже принесшие столько жертв на алтарь отечества, готовы, как и вы, на новые свершения во имя родины.
Гражданин Барс доложил нам и нашим соотечественникам в Венеции о вашем согласии на поездку в Константинополь для решения там польских вопросов. Он же сообщил о вашем желании заблаговременно обеспечить себе помощь и поддержку со стороны посла Французской республики при Оттоманской Порте. Об этом вашем пожелании, которое мы полностью поддерживаем, гражданин Барс незамедлительно проинформировал правительство Франции.
По мнению Комитета общественного спасения, Польша всегда находилась в сфере интересов Французской республики, и ее министры охотно воспользуются полезной информацией, исходящей от тех наших соотечественников, которые на деле доказали свою доблесть, страсть к свободе и пользуются доверием своих братьев в изгнании.
С учетом этого едва ли возникнет необходимость в дополнительных заверениях, что посол Французской республики в Константинополе окажет вам должное внимание и содействие. Более того, мы не сомневаемся, что когда вы своими активными, но осмотрительными действиями убедите посла Вернинака в полезности вашего пребывания в Константинополе, он, при определенных обстоятельствах, а возможно, даже с согласия правительства, даст вам определенные рекомендации для успешного выполнения вашей миссии.
Мы высылаем информацию об истории польско-турецких отношений и просим обратить внимание на наши советы.
1. По прибытии в Константинополь никому не говорите о характере вашей миссии, кроме посла Французской республики и лиц, которых он назовет. Старайтесь вводить в заблуждение вражеских агентов относительно наших связей с людьми, оказывающими нам содействие.
2. Сегодня, когда правительство нашей страны развалено, когда угнетенный народ не может ни свободно высказываться о своих чаяниях, ни иметь желанную форму правления, в нашем стремлении к свободе и независимости у нас есть только одна путеводная звезда – честь, совесть и страстное желание кардинально изменить ситуацию в Польше и вернуть ее попранные права. Пусть подписи бывших членов национального совета и других соотечественников, уполномоченных на это нашими собратьями в Париже, станут неоспоримым свидетельством нашего единодушного доверия к вам.
Впрочем, ваш патриотизм, ваши старания, ваше благоразумие и все, что вы сделали для нашей родины, особенно, во время последней революции – это и есть залог успеха вашей новой миссии, которая вызовет еще большее уважение и признательность ваших соотечественников и всего нашего несчастного народа.
Искренне желая действовать совместно с вами, мы постараемся помочь вам и будем делать все, что зависит от нас и наших сограждан, для которых главной ценностью стала свобода и независимость нашей родины.
Подписи: Габриэль Ташицкий, Франц Дмоховский, Д. Мневский, П. Немоевский, Томас Марушевский, Франц Вышковский, Юзеф Котелл, Клемент Либерадский, Казимир Ларош, Юзеф Выбицкий, Ян Дембовский, Кароль Прозор, Адам Бронец, Ромуальд Гедройц, Ксаверий Дамбровский, Юзеф Вельгорский, Е. Заблоцкий, Игнаций Ясинский, Франц Барс, Ян Майер.
Париж, 20 августа 1795 года».
В Венеции мне передали это письмо со следующей припиской:
«Мы, нижеподписавшиеся, присоединяемся к пожеланиям наших соотечественников в Париже и удостоверяем подлинность настоящего заявления, подготовленного в канцелярии гражданина Лаллемана, министра Французской республики. Мы подтверждаем также получение оригинала письма наших сограждан в Париже, адресованного в Комитет общественного спасения.
Подписи: Прусимский, Лазнинский, Нагурский, Выссогерд, Езерский, Венгленский, Колыско.
Венеция, 23 сентября 1795 года».
Мне вручили информационную записку за подписями вышеупомянутых соотечественников, текст которой гражданин Барс передал также в Комитет общественного спасения.
Информация для гражданина Огинского, выезжающего по инициативе соотечественников с миссией в Константинополь
«Польские патриоты в Париже, как и все наши соотечественники, движимые принципами свободы и независимости, страстно желая работать не покладая рук ради спасения родины и сознавая необходимость иметь своего представителя при Оттоманской Порте, приняли единодушное решение возложить данную миссию на гражданина Михала Огинского, человека талантливого, благоразумного и с безупречной репутацией. Призванный на эту важную работу заботой о чести родины и волей соотечественников, гражданин Огинский по нашей просьбе ознакомится с настоящими инструкциями. Это отнюдь не приказы и обязанности, предписываемые гражданину Огинскому, который по своим человеческим, политическим и моральным качествам в них не нуждается. Речь идет о рекомендациях, основанных на патриотических чувствах, которыми пылают наши сердца. Настоящие инструкции подготовлены с учетом ясных позиций дружественных нам держав, общего современного положения в Европе и мер, принятых Французской республикой для успешной деятельности во имя спасения нашего отечества.
Инструкции разбиты на три категории: общие, секретные и особые.
Общие инструкции
1. Принимая во внимание обстоятельства, сложившиеся на данный момент, все ваши инициативы, поступки и действия в Оттоманской империи должны осуществляться конфиденциально, так как речь идет о предварительном этапе работы. Как только будут получены ожидаемые результаты, ваша деятельность перестанет быть конфиденциальной и приобретет официальный характер.
2. Все мероприятия следует проводить совместно с французскими дипломатами от имени государственной власти Речи Посполитой Польши, которая была признана польским народом во время независимости страны.
3. Сущность и цель всех мероприятий изложены в последующих статьях:
I. Оттоманская Порта признает польский народ как дружественный и союзнический народ.
II. Поляки, ведя борьбу против своих врагов, воюют также с врагами Оттоманской Порты и содействуют таким образом безопасности и укреплению Оттоманской империи.
III. Оба государства будут давать отпор общим врагам до тех пор, пока неприятель не сможет более нарушать их спокойствие и посягать на территориальную целостность и независимость этих государств.
IV. Обе договаривающиеся стороны объединяются в военное время и действуют совместно на мирных переговорах, которые не могут вестись сепаратно; Оттоманская империя, с одной стороны, и признанная поляками государственная власть, с другой, берут на себя обязательство предпринимать все меры к тому, чтобы склонить Французскую республику, Швецию и Данию к поддержке действий обеих договаривающихся сторон и получению благоприятных результатов.
4. В ходе общения с собеседниками желательно раскрывать последствия политических событий, делать комментарии с учетом прилагаемых данных, извлеченных из общих планов французского правительства, часть которых в настоящее время уже выполняется. Следует делать акцент на пользе и выгодах, которые получит Оттоманская империя в случае обретения Польшей независимости. Старайтесь обращать внимание на могущество Французской республики – нашего общего союзника, от которого зависит сегодня политическое равновесие в Европе. Есть смысл напомнить, какой путь прошел французский народ, чтобы страна получила свой нынешний статус. Нельзя, разумеется, обходить молчанием и борьбу польского народа за независимость. Здесь требуется подчеркнуть, что последняя революция в Польше потерпела поражение именно потому, что европейские державы, казалось бы, самые заинтересованные в сохранении независимой Польши, оставили ее в одиночестве. В этой связи будет вполне уместно указать на опасности для Турции, возникшие в результате разгрома революционного движения в Польше, и добавить, что правящие круги империи проявили бы политическую мудрость, если бы с учетом прошлого поддержали сегодня смелые свободолюбивые инициативы поляков. И, наконец, подытожить, что главной задачей миссии является укрепление открытых искренних отношений между двумя странами, имеющих и общие интересы, и общего врага.
5. Требуется использовать все аргументы для того, чтобы побудить Оттоманскую Порту обратиться к правительствам европейских государств с предварительным заявлением, в котором она выражает желание скорейшего возвращения Польше свободы, территориальной целостности и независимости, призывает три державы – участницы раздела Польши – со всем вниманием отнестись к этому документу, и в ожидании положительной реакции на свою инициативу, направленную также на улучшение благосостояния и укрепление мира во всей Европе, считает своим долгом удвоить на суше и на море свои вооружения для обеспечения собственной безопасности.
6. Обе договаривающиеся стороны ведут переговоры и поддерживают контакты на временной основе с тем, чтобы приблизить дни, когда свободный польский народ сможет упрочить гармонию польско-турецких отношений договором о союзе и торговыми соглашениями.
Секретные инструкции
1. Вам предстоит начать секретные переговоры с Оттоманской Портой о предоставлении пристанища для польских беженцев на территории Молдовы. Самым подходящим местом для этого могли бы стать Ботошани или Хотинская райя, находящиеся между Буковиной и Подолией. В таком случае эта группа наших соотечественников попала бы под двойную юрисдикцию князя Молдовы и Хотинского паши. На начальном этапе, в случае, если Порта не сочтет возможным немедленно выступить против России, польские беженцы могли бы передвигаться из одного района в другой, в зависимости от того, куда российский комендант Каменца обратится с протестом против поляков: в Яссы или в Хотин.
2. Глава миссии в Константинополе постарается показать выгоды, которые получит Оттоманская Порта в случае предоставления запрашиваемого пристанища. Туда сразу же прибудут бывшие польские военнослужащие. Согласно прилагаемому плану из них будет сформировано достаточно боеспособное воинское подразделение. Следует заранее уточнить права пребывания поляков на этой территории и возможности их обеспечения продовольствием.
3. При условии, что обе предыдущие статьи принимаются:
I. Просить Оттоманскую Порту сообщить французским представителям, что она дает свое согласие на поставку артиллерии, ружей и боеприпасов, которые Французская республика передаст полякам.
II. Аналогичная просьба о пересылке турецких офицеров артиллерии на берега Днестра.
4. Гражданин М. О. договорится с Альбертом Турским, направляемым Французской республикой в качестве генерала турецкой кавалерии, о возможностях ускорения принятия решений в военном министерстве Турции по следующим статьям особой инструкции, текст которой передан и вышеупомянутому соотечественнику:
I. Настаивать на том, чтобы князю Молдовы и князю Валахии были даны указания принять польских беженцев, обеспечить им свободное пребывание и не препятствовать их объединению.
II. Ходатайствовать о предоставлении местопребывания польских военных вблизи Хотинской и Каменецкой крепостей, которые могут стать первыми объектами наступательных операций.
III. Рекомендовать Оттоманской Порте перебросить основные силы турецкой армии к Очакову. При этом часть войск должна пройти через Грузию, с тем, чтобы напасть на Крым с тыла в момент, когда полуостров будет заблокирован флотом. Это единственный план, который позволит Порте вернуть территории, захваченные русскими. Осуществить его несложно, тем более, что польские военные будут противостоять российской армии на берегах Днестра, где не потребуется привлечения значительного контингента турецких войск.
5. Как только вышеуказанные условия и меры будут приняты, положение дел на театре военных действий и на переговорах Турции и Польши с их союзниками временно станет таким же, каким оно могло быть предусмотрено уже заключенными договорами. Это означает, что Польша, с одной стороны, и Турция, с другой, согласовывают и наращивают боевые действия против совместных врагов с целью их уничтожения и одновременно используют все политические рычаги для консолидации и триумфа коалиции пяти государств: Франции, Турции, Швеции, Дании и Польши.
6. Исполнение вышеперечисленных статей создаст предварительную основу для союзных договоров о военном и торговом сотрудничестве. Эти договоры временно будут защищены секретными конвенциями обоих государств. При необходимости об их заключении можно сообщить остальным участникам коалиции.
7. Все действия будут согласовываться с турецкой стороной и в соответствии с
………………
………………
8. Оттоманская Порта должна пойти в наступление против русских и вести оборонительные операции против Австрии при условии, что последняя вопреки своим договорным обязательствам откажется предоставлять России собственные войска и не станет вмешиваться в дела польских военных. В противном случае австрийцам будет нанесен удар со стороны турецких войск, которые будут направлены в район населенных пунктов Нави, Градишка и баната Темешвар. При этом не будут задействованы турецкие вооруженные силы, воюющие с Россией. Таким маневром удастся отвлечь часть австрийских войск в Буковине и Галиции, против которых выступят поляки.
9. Глава миссии в Константинополе будет высылать свои отчеты представителю государственной власти, находящемуся в Молдове, а их копии – в польское агентство в Париже, которое уполномочено осуществлять общее руководство политическими операциями. Гражданин Огинский призван вести активную переписку с польскими представителями в Копенгагене, Стокгольме и других городах.
Особые инструкции
1. Гражданин Крута, направленный правительством Польши в Константинополь, будет сразу же включен в состав польской миссии в качестве переводчика.
2. Гражданин Огинский сам определит, можно ли воспользоваться услугами гражданина Мариона, бывшего сотрудника управления иностранных дел в Варшаве, ныне проживающего в Константинополе. Информацию о данном лице можно получить во французской миссии.
3. Признаваться поляками и получать поддержку будут лишь те граждане, которые приняли достойное участие в двух последних революциях. Во имя общих интересов, при необходимости, можно обращаться в местную полицию с ходатайством о привлечении к ответственности тех, кто пытается препятствовать развитию турецко-польских отношений. Господин Аксак за свои связи с русской миссией вполне может попасть в эту категорию.
4. Как и положено в кругах настоящих республиканцев, среди польских беженцев должны поддерживаться братские отношения и доброе согласие.
5. Обеспечить надежную переписку не только с государственной властью, но и с соотечественниками, проживающими в Париже, Стокгольме и Копенгагене, используя посыльных князя Молдовы и князя Валахии, частных посланцев, наших собратьев в Венеции и представителей Швеции и Дании.
В случае, если в данных инструкциях обнаружатся какие-либо пробелы, мы доверяем восполнить их лицу, которому и предназначены эти документы, так как полностью полагаемся на его благоразумие, талант и опыт. Наше доверие в этом отношении, равно как и во всем, что предстоит исполнить гражданину Огинскому, – глубочайшее и безграничное.
Примечание. Настоящие инструкции готовились в то время, когда Пруссия вела переговоры о заключении частичного мира с Французской республикой. На некоторое время работа над ними была приостановлена. Заключительная часть инструкций была составлена после появления сообщения о заключении мирного договора между Францией и Пруссией. Это обстоятельство никоим образом не влияет на содержание инструкций. Более того, сам факт заключения мира стал хорошим стимулом для объединения усилий Оттоманской Порты, Швеции и Дании против России.
Для более полной картины о положении в Польше мы сочли необходимым приложить к настоящим инструкциям информацию о последних событиях в стране. Она может оказаться полезной в беседах с европейскими представителями»[49].
Гражданин Лаллеман, передавая мне все материалы, сообщил, что 29 термидора III года республики они были представлены Комитету общественного спасения, который их одобрил и рекомендовал польским патриотам ускорить отъезд своего представителя в Константинополь.
23 сентября я получил шифр, карты, послания французского правительства, адресованные представителям Франции в странах Ближнего Востока и все документы для выполнения миссии.
Отовсюду мне шли и шли письма соотечественников. Все они радовались, что я дал согласие на поездку в Константинополь, и в один голос просили не затягивать с отъездом. Более трехсот человек своими подписями засвидетельствовали свое доверие к моей особе. Оставался, однако, открытым главный вопрос: финансы. Без денег, разумеется, нельзя было и думать о столь длительном и опасном путешествии.
Я отправил надежного человека в Польшу и поручил ему выяснить, на какие средства мог рассчитывать. В свое время я кое-что оставил двум своим старым друзьям, в честности и патриотических чувствах которых никогда не сомневался.
Надолго задержался в пути мой посланец: добраться до Варшавы – дело не простое, а выехать из Польши – еще сложнее. Вернулся он в Венецию только 1 ноября и сообщил, что все мои земли конфискованы и путь на родину мне заказан навсегда. Меня лишили ежегодной ренты почти в миллион польских флоринов, а также всей движимой и недвижимой собственности. Все, что осталось от моего состояния – это две тысячи золотых дукатов. Они и были мне доставлены из Варшавы. Без всяких колебаний я решил использовать эти деньги на поездку в Константинополь.
Глава III
4 ноября 1795 года я выехал из Венеции. Моим единственным попутчиком стал бригадный генерал Колыско. Ехали мы с английскими паспортами под чужими фамилиями, так как польским эмигрантам путешествовать в ту пору было небезопасно. И все же эти меры предосторожности не оградили нас от многих неприятностей.
Согласно моему плану нам предстояло добраться по самому короткому пути до Неаполя, а затем до Манфредонии. Там предполагалось сесть на корабль и пересечь Адриатическое море, а остаток пути, от Салоник до Константинополя, проехать по суше.
Мне и в голову не могло прийти, что в дороге могут случиться задержки, и я пообещал соотечественникам в Париже к концу года известить их о прибытии в Константинополь.
Мы миновали города Равенну, Анкону, Лоретту, Витербо и остановились в Риме. В дороге я заболел, и здесь мне довелось несколько недель лечиться от лихорадки. Кроме этого, в Риме неожиданно выяснилось, что въехать в Неаполь можно лишь по специальному разрешению министра Актона, который выдает их только при наличии рекомендации правительства Рима или иностранных министров. Моя соотечественница и родственница княгиня Радзивилл, урожденная Ходкевич, не уточняя моей фамилии, просила за меня князя Августа Английского. Он написал Актону, и через три дня мы с генералом Колыско получили нужные документы.
По прибытии в Неаполь я сразу же отправился в театр Сан-Карло. Первым человеком, встретившимся мне там, был граф Головкин, русский министр. Из-за слабого зрения я не смог как следует разглядеть его в толпе, но он меня точно узнал и сразу же пошел в ложу датского министра Бурке, о моей дружбе с которым был хорошо осведомлен. Он сообщил датчанину, что видел меня и обязан доложить об этом в Петербург. Приказа арестовать меня у него не было, но таковой мог и появиться, как только в Петербурге станет известно о моем пребывании в Неаполе. Граф Головкин по-дружески дал понять, что в этих условиях мне следовало как можно скорее покинуть город.
На следующий день я с любопытством и тревогой вскрыл конверт с запиской, адресованной графу Огинскому. Подруга министра Бурке и моя знакомая по Варшаве приглашала навестить ее. Она мне и рассказала о нависшей опасности.
Первое, что мне хотелось сделать – немедленно уехать из Неаполя на побережье Адриатического моря и попытаться найти место на корабле. И тут я узнаю, что несколько дней назад правительство наложило строжайший запрет на перевозку иностранцев по морю. Исключение было сделано только для судов, направляющихся в Венецию и Триест. Это совершенно разрушило все мои планы.
Много дней спустя владелица гостиницы, где я остановился, как-то загадочно спросила, не знаю ли я графа Огинского, который по сведениям полиции находится в Неаполе. Я ответил, что знаю такого господина, но мне совершенно безразлично, разыскивает его полиция или нет. И добавил, что сам я свои документы в полиции предъявил, и показал ей паспорт. Я был очень благодарен этой порядочной женщине-француженке: ведь она тонко намекнула, что кое о чем догадывается. Больше вопросов она не задавала, а лишь посоветовала быть осторожным, так как здешняя полиция отличается особой бдительностью и жестокостью. Уходя, она прошептала, что ее мне не следует опасаться, и сама она сильно переживает за судьбу несчастных узников, которыми переполнены все тюрьмы города. Как только дверь за дамой закрылась, я сжег большую часть своих бумаг, оставив лишь то, что непосредственно касалось миссии в Константинополе. Эти документы я старательно зашил за подкладку кожаного пальто. Вот так я в тот день навсегда и расстался со своими записками о революции 1794 года, личным дневником и перепиской с соотечественниками в период нахождения в Венеции.
Прошло совсем немного времени, и я обнаружил, что мы с моим попутчиком находимся под пристальным вниманием четверых соглядатаев, которые следят за нами даже во время прогулок.
Непрерывная стесненность, скованность, тревога за непредсказуемый исход дела, болезнь, из-за которой я не мог продолжить свой путь – все это ввергло меня в невыносимое, мучительное состояние.
Пока я был в комнате или в кровати, казалось, никому не было до меня дела. Но стоило только выйти на улицу и нанять экипаж, как тут же появлялся человек в кабриолете и неотлучно следовал за мной.
Как-то я гулял по улице Толедо. Шпион, шедший по пятам, вдруг останавливается на повороте. Ко мне подходит пожилой человек, пожимает руку и говорит: «Пожалуйста, немедленно уезжайте из Неаполя! Спасайтесь! Сегодня полиция разослала ваши приметы. Вас арестуют и передадут русским…» И человек мгновенно исчез. Я не успел даже поблагодарить его. Не возвращаясь в гостиницу, я поспешил к господину Райоле, бывшему представителю короля Польши. Он завизировал мой паспорт для возвращения в Рим, и ночью я оставил Неаполь, где прожил долгих шесть недель.
Доктор Черилло, о трагической кончине которого после прихода французов в Неаполь все знают, немало сделал для моего выздоровления. Однако и ему не удалось вылечить меня от малярийной лихорадки[50], от которой я избавился в Константинополе после четырнадцатимесячного лечения.
В тоске и тревоге уезжал я из Неаполя, предчувствуя новые и новые препятствия на пути в Турцию. Особенно огорчало то, что я так и не смог дать знать своим соотечественникам, где я нахожусь, с какими опасностями приходится сталкиваться, какие преграды я должен преодолевать и почему задерживаюсь с приездом в Константинополь.
Пока мы ехали в Рим, здоровье мое совсем пошатнулось, и я был вынужден снова застрять в этом городе на много дней. В конце концов, я расстался с генералом Колыско, сраженным тяжелейшим недугом, и один выехал во Флоренцию. Там меня тепло встретил генерал Миот, французский министр при Тосканском дворе, как мог, успокоил меня и рассказал приятные новости о положении во Франции и добром расположении ее правительства по отношению к Польше. Он заверил меня, что в Ливорно я смогу легко сесть на корабль и добраться, если не до Константинополя, то по крайней мере до Смирны, откуда уже совсем просто достичь конечной цели моего путешествия.
На всякий случай я сохранил у себя циркулярное письмо министра Лаллемана, адресованное всем представителям Французской республики, с просьбой оказать мне содействие при получении места на корабле. Генерал Миот написал французскому консулу в Ливорно и со своей стороны также хлопотал обо мне.
5 февраля 1796 года в ливорнском порту я поднялся на борт фрегата, который выкупил венецианский капитан и перестроил его в транспортное судно.
После этого мы вполне благополучно обошли остров Эльба, Сардинию и проплыли вдоль побережья Сицилии. Но вскоре встречный ветер и последовавший затем штиль надолго приостановили движение корабля. Понадобилось более трех недель, прежде чем мы добрались до Мальты, где капитан решил сделать остановку для пополнения продовольственных запасов.
Примерно через три недели мы снова двинулись в путь и за четыре дня пересекли Средиземное море. Как только вышли в воды Архипелага, сразу за островом Цериго корабль попал в сильный многодневный шторм. Затем целую неделю мы провели на небольшом острове Спеце, пока приводили в порядок паруса и чинили судно. Я страшно переживал и нервничал из-за бесконечных задержек, а тут еще капитан заявил, что корабль по техническим причинам не сможет дойти до Константинополя, и в Смирне судно вновь будут ремонтировать. На свой страх и риск капитан прошел-таки через Архипелаг и, избежав нападения пиратов, мы, наконец, стали на якорь в Смирне. Здесь я и сошел на берег после пятидесятипятисуточного плавания.
Недели, проведенные в этом древнем городе, пошли мне на пользу. Итальянский доктор Торретта очень старался, чтобы хотя бы частично восстановить мое расшатанное здоровье. Дружеские встречи с французскими негоциантами и консулом Голландии вернули мне моральные силы и отвлекли от моих забот и тревог.
На следующий день после моего приезда в Смирне произошел пожар. За каких-то семь часов более двух тысяч домов и магазинчиков превратились в пепел. И я впервые увидел, как беспечно и бестолково на Востоке люди борются с этим бедствием. Поразила невероятная скорость, с которой огонь пожирал деревянные постройки, расположенные в опасной близости друг от друга.
О приезде в Смирну я сразу же написал Вернинаку, послу Франции в Константинополе. В ожидании его ответа и оказии для продолжения путешествия в перерывах между приступами лихорадки я любил прогуливаться в окрестностях Смирны. Не раз и не два побывал на руинах храма Артемиды Эфесской.
Я часами мог простаивать на мосту Караванов, где на передышку останавливались погонщики верблюдов и, не торопясь, курили свои трубки. По преданию сюда приходил Гомер и прославлял здесь подвиги греков у стен Трои, прокладывая себе путь в бессмертие своими страстными изумительными песнями.
Недели через три пришло письмо от Вернинака. Он описывал свои волнения в связи с полным неведением, что со мной сталось, где я запропастился и почему так надолго задержался мой приезд в Константинополь. Вернинак сообщал, что уже несколько недель получает адресованные мне пачки писем из Парижа и Венеции, и просил меня по прибытии в Константинополь везде представляться как Жан Ридель. Под этими данными я, собственно, и ехал в столицу Оттоманской Порты. Посол предупреждал, что повсюду я должен выдавать себя за гражданина Франции, так как моя подлинная фамилия, равно как и миссия в пользу Польши могли вызвать нежелательную реакцию и даже подозрения и опасения в дипломатическом корпусе Константинополя.
Шло время. Корабля на Константинополь все не было, и я решил продолжить путь верхом. Вместо прислуги со мной следовал янычар от консульства Франции. Чуть позже нашими попутчиками стали и несколько турок: чем больше людей, тем безопаснее в дороге. На площади в городе Магнесии проехали мимо какого-то неказистого памятника. Янычар пояснил, что это гробница Фемистокла. На третий день пути мы встретили несколько человек из окружения правителя Магнесии Карасмана-оглу и его личного переводчика. Эти люди пригласили меня отобедать с их властелином. Пришлось свернуть с дороги и сделать крюк, что заняло пару часов. Я переплыл реку Граник и, проделав за шесть дней сточасовой путь, прибыл, наконец, в Мохалиц. Здесь я сел на скверный турецкий корабль и за сутки пересек Мраморное море. Остроконечный шпиль сераля, который великолепно смотрелся от Принцевых островов, и радующие глаз контуры константинопольского порта хоть на какое-то время отвлекли меня от всех невзгод и недугов, и мне стало легко и приятно, что я уже в столице Оттоманской Порты.
Глава IV
Корабль бросил якорь. Я спустился по трапу и встретил гражданина Дантана, переводчика французской миссии, который совершенно случайно оказался в порту. Он быстро отвез меня в резиденцию посла. Вернинак посоветовал мне пожить несколько дней в гостинице, а затем подыскать жилье в районе Пера, рядом с его резиденцией. Посол сообщил, что по рекомендации французского правительства он берет меня под свое покровительство и будет согласовывать со мной все вопросы, касающиеся Польши. Вернинак напомнил о необходимости не раскрывать мое польское происхождение и всюду выдавать себя за француза. Мне следовало быть внимательным и осторожным в отношениях с подозрительными лицами, в том числе и с гражданами Франции, и не спешить заводить знакомства и связи, в особенности среди иностранных дипломатов. Посол обещал также, что встречаться мы будем часто и для него станет приятным долгом передавать мне все сведения, которые, по его мнению, могут заинтересовать моих соотечественников.
Я не стал с первого раза расспрашивать Вернинака об отношении Оттоманской Порты к печальным событиям в Польше, но из его коротких реплик понял, что те надежды на Турцию, о которых он говорил девять месяцев назад в Венеции, не оправдались.
Посол жаловался на то, что турецкая сторона холодно и медленно реагирует на любые предложения по польскому вопросу. Кроме этого, иностранные дипломаты плетут интриги, чтобы свести на нет все попытки французского правительства оказать воздействие на Оттоманскую Порту. И тем не менее дипломат считал, что время и события принесут новые надежды.
Озадаченный такими новостями, я совсем расстроился, когда в гостинице начал читать письма, переданные Вернинаком. Стало понятно, что между нашими соотечественниками в Париже произошел разлад. В одиночестве остался гражданин Барс. На должность представителя короля и Речи Посполитой он был назначен еще на конституционном сейме и с тех пор безвыездно жил в Париже. Теперь гражданин Барс обращался ко мне с просьбой поддерживать переписку только с ним и предупреждал, что у него появились личные враги, которые попытаются дискредитировать его перед французским правительством. Именно они, считал Барс, и постараются сделать все, чтобы вызвать у меня недоверие к нему. Мне писали также, что с другой стороны, все поляки, проживающие в Париже избрали пять человек, которые и уполномочены вести переписку с зарубежными представителями польских патриотов. Мне было больно сознавать, что эти распри, конечно же, не добавят полякам авторитета в правительстве Франции и огорчат наших патриотов, которые свои планы строили на единстве принципов и действий всех, кто радеет о спасении родины. Но нельзя требовать невозможного. Было вполне естественно, что люди, не по своей воле оказавшиеся за пределами родины, легко ранимые и раздражительные от всех бед и несчастий, неуверенные в своем будущем, ставшие приверженцами самых различных идей и учений и не понимающие, как найти верный путь к восстановлению Польши, двинулись в обратную сторону, не найдя единого лидера, которому можно бы оказать всеобщее доверие.
Безусловно, около нас крутились и такие типы (к счастью, их было мало, и на них пальцем показывали), которые шпионили за патриотами и за особую плату обо всем информировали иностранных представителей. Своими интригами и клеветой эти мерзавцы сеяли раздоры в рядах подлинных борцов за освобождение родины. За исключением этих выродков все остальные соотечественники были связаны единым желанием и целью – быть полезными Польше и рука об руку сотрудничать для ее восстановления.
Несмотря на высокопарную риторику врагов Польши о разобщенности патриотов, я могу засвидетельствовать, что, в сущности, речь шла о наличии двух группировок. Первую представляли революционеры, считающие, что все средства и методы борьбы приемлемы, если только они направлены на возрождение Польши. В другую входили люди умеренных взглядов и приверженцы конституции 3 мая, которые опасались, что экзальтированные революционеры могут оказать крайне нежелательное воздействие на французское правительство.
Что касается меня, то я не поддерживал ни ту, ни другую сторону и главную задачу видел в том, чтобы выполнить возложенную на меня миссию. Работая в Константинополе, мне удалось сохранить доверие всех парижских поляков. Это будет видно из переписки. Первое официальное письмо, полученное в Константинополе, было подписано пятью соотечественниками, входившими в состав депутации, утвержденной французским правительством. Поскольку все пятеро имели доступ к шифру, копия которого была мне передана вместе с инструкциями, я не стал заниматься бесполезными поисками причин разногласий в Париже и вступил в переписку с депутацией.
Хранящиеся у меня копии двадцати трех депеш, отправленных по надежным каналам из Константинополя в Париж, дают представление о характере моей последующей работы. Я был один, и мне не так просто было шифровать и расшифровывать всю переписку да еще делать копии.
Не буду здесь приводить материалы переписки. Быть может, они и представляют какой-то интерес, но читать их было бы скучно из-за многочисленных повторений. Самые интересные документы и приложения к ним попали в мой семейный архив. Здесь же предлагаю вниманию читателя отрывки из моего константинопольского дневника, которые позволят судить о моих занятиях и о тогдашних политических событиях в Европе.
6 апреля пришло первое письмо из Парижа, датированное 6 января 1796 года, подписанное членами польской депутации: Мневским, Ташицким, Дмоховским, Прозором и Гедройцем. В письме сообщалось, что депутация из пяти вышеперечисленных лиц была единодушно избрана всеми соотечественниками, присутствовавшими на собрании. Этот выбор поддержало французское правительство, которое поручило своему министру обсуждать все польские вопросы исключительно с депутацией. Министр высказал определенные надежды на дружеские намерения Оттоманской Порты. В частности, речь шла о желании Порты начать военные действия против русских. Предполагалось, что в это же время на севере шведы также вступят в вооруженный конфликт с Россией.
Министр обещал поставку оружия полякам и взял на себя обязательство сотрудничать в переговорах с Оттоманской Портой о предоставлении займа в пятьдесят миллионов пиастров для вооружения поляков. Он уточнил также, что Вернинаку будут отправлены соответствующие инструкции и указание согласовывать все вопросы по Польше с представителем патриотов в Константинополе.
Депутация уполномочила меня ходатайствовать перед турецким правительством о предоставлении пушек для стотысячной армии и заверяла, что в этом вопросе мне будет обеспечена поддержка со стороны французского посла.
Из письма следовало, что правительство Франции поручило депутации приступить к разработке плана создания общей конфедерации Польши.
Соотечественники информировали меня о последних событиях на родине. За мою голову установлено вознаграждение. Все мои земли конфискованы, и я не должен тешить себя надеждой о возвращении домой, пока в стране не изменятся обстоятельства. Несмотря ни на что, в Польше не теряли веру, что такие изменения непременно наступят. Члены депутации ободряли меня, призывали сохранять спокойствие и быть, как и прежде, непоколебимым в своих убеждениях. Они подчеркивали, что как только в переговорах с Оттоманской Портой наметится прогресс, депутация обязательно прибудет в Константинополь, чтобы заняться формированием армии на турецких границах и продолжить работу над актом польской конфедерации.
В последних строках письма мне запрещалось поддерживать всякие контакты с гражданином Барсом, который отстранен от всех польских дел, и предписывалось высылать всю корреспонденцию на имя председателя польской депутации Мневского.
10 апреля я отправил свой ответ, в котором подробно изложил причины опоздания в Константинополь и содержание первой беседы с Вернинаком. Далее я уточнил, что в ходе двух последующих встреч с послом Франции он поставил меня в известность о предстоящем дипломатическом приеме и о скором завершении своей миссии, из-за чего он уже не сможет активно заниматься делами. На место посла Франции в Константинополе назначен генерал Обер дю Байе, известный кадровый военный, который, по мнению Вернинака, принесет полякам больше пользы, чем он сам. В случае необходимости генерал сможет руководить военными операциями и, безусловно, найдет способы воздействия на руководство Турции, чтобы ускорить начало конфликта с Россией.
В письме от 28 апреля я рассказывал какой торжественный и пышный прием Вернинаку оказал два дня назад великий господин и повелитель. А то, что султан пошел на такой шаг сразу же после прошения Вернинака, не дожидаясь традиционных для подобных случаев подарков из Парижа, было воспринято как знак особого расположения и почтения к представителю Франции.
Я проинформировал депутацию, что на следующий день после приема у меня состоятелась продолжительная беседа с Вернинаком. Он сообщил, что от Комитета общественного спасения ему поступили инструкции по польским вопросам. Они, в сущности, ничем не отличались от тех, которые получил и я. Посол заявил, что он делал и будет делать все, что от него зависит, чтобы выполнить эти инструкции. Вместе с тем, он не скрывал, что в этом деле есть немало трудностей и препятствий. Часть из них вызвана неосведомленностью и пассивностью турецкого правительства. К этому следует добавить интриги и козни врагов Франции. Весьма негативную реакцию в Турции вызвал мирный договор между Францией и Пруссией. Логика турецкой стороны была такова: раз Франция в ходе переговоров с Берлинским двором не смогла ничего добиться для Польши, то почему одна Турция должна теперь брать на себя инициативу в решении польского вопроса. При этом турки давали понять, что как только они поддержат польское патриотическое движение, у них сразу же появится дополнительный враг – король Пруссии, который пойдет на любой союз с Россией, дабы сохранить захваченные территории Польши. Впрочем, Вернинак не был скептиком и возлагал большие надежды на своего преемника. Он все время говорил, что удастся заключить коллективный договор между Францией, Швецией, Данией и Оттоманской Портой, а затем совместно выступить против России. А как раз в это время Россия должна была отправить сорокатысячную армию под командованием генерала Валериана Зубова на борьбу с персами, в рядах которых насчитывалось около двухсот тысяч бойцов.
Вернинак намекнул, что к нему уже не раз обращались поляки с предложением организовать восстание в Польше. Он не поддержал эту инициативу, полагая, что все выступления за свободу Польши – обречены и будут потоплены в крови, пока Турция не выступит против России. Посол с упреком говорил о некоторых поляках, которые слишком назойливо домогались у него помощи. Он упомянул, в частности, некоего Здановского. Этот «деятель» целыми днями надоедал сотрудникам французской миссии и даже угрожал им, а затем выяснилось, что это русский шпион. Вернинак очень нелестно высказался об Аксаке и Турском, по прозвищу Сармат. Оба они в то время находились в Константинополе. В будущем, настаивал Вернинак, все поляки будут направляться ко мне, а на помощь французского правительства смогут рассчитывать лишь те, за кого я буду ходатайствовать и кто предъявит соответствующую справку от меня.
4 мая я доложил депутации, что Вернинак не получил указаний на участие в переговорах о предоставлении займа для Польши, и что эта миссия скорее всего будет поручена Оберу дю Байе. При этом мой французский куратор допускал, что в кассе султана могло и не найтись наличными восьмидесяти – ста миллионов пиастров, и что, возможно, Оттоманская Порта не пойдет на выдачу займа из-за того, что сама нуждается в финансовых средствах перед началом военных действий. В этом же донесении я сообщал, что 1 мая турецкий флот в составе семи линейных кораблей, шести фрегатов и двух куттеров взял курс на Архипелаг. По свидетельству иностранных наблюдателей никогда прежде турецкие корабли не выходили в море в таком строгом порядке и с такой мощной экипировкой.
За несколько дней до этого все корабли, стоящие на рейде в порту Константинополя, произвели залп по случаю задержания двух мальтийских судов. На этой церемонии присутствовал сам султан.
10 мая мне доставили два письма от депутации. Одно было датировано 23 февраля, а второе – 12 марта 1796 года. Первое в основном повторяло содержание послания от 6 января. Была там и свежая информация. Министр внешних сношений своим честным словом республиканца и от имени Директории заверил депутацию, что Франция для блага Польши будет делать все возможное в Берлине, Стокгольме и Копенгагене. Соотечественники в Париже обращались ко мне с просьбой уточнить характер отношений посла Франции в Константинополе и турецкого министра иностранных дел и сообщали, что совсем недавно министр обороны Обер дю Байе назначен чрезвычайным послом Франции в Константинополе. С новым послом депутация планирует встретиться накануне его отъезда в Турцию.
Авторы письма отмечали, что Париж уже рассматривает турецко-русскую войну как неотвратимую неизбежность, а правительство Французской республики настаивает на организации конфедерации в Польше и обещает поставки оружия для шестидесяти тысяч пехотинцев и двадцати тысяч кавалеристов. Что касается переводчика Круты[51], то мне рекомендовалось отказаться от услуг этого человека и взять на работу Киркора. Он поддерживал революцию в Варшаве и на него можно полностью положиться. Во время польской революции Костюшко и Игнаций Потоцкий, имея определенные сомнения в отношении Круты, отправили его в Константинополь, где он и находился на момент моего приезда.
Во втором письме кроме копий ранее отправленных документов имелись краткие сведения, характеризующие Обера дю Байе, призванные помочь мне правильно строить отношения с новым французским послом. Меня предупреждали, что у него были определенные предубеждения к полякам, сгладить которые и пытались в Париже, подыгрывая честолюбию и амбициям генерала. Ему дали понять, сколько славы и новых титулов он приобретет, поддержав друзей свободы и дело восстановления Польши. Вместе с тем меня ставили в известность, что в соответствии с инструкциями своего правительства посол имеет поручение склонять Турцию к вооруженному выступлению против России и содействовать польскому патриотическому движению, как это и предполагалось актом конфедерации, одобренным Директорией[52].
В письме сообщалось также, что 26 февраля генерал Гедройц был направлен в Литву для подготовки новой конфедерации. В тот же день из Парижа в Галицию выехал наш представитель, который должен был проинформировать Дедушицкого о делах соотечественников во Франции и о создании конфедерации. 6 марта депутация направила правительству Франции ноту с просьбой отправить всех польских военнопленных и дезертиров австрийской армии на турецкую границу для формирования там вооруженных подразделений новой конфедерации. Мое внимание привлекла весть о том, что гражданин Стеммати только что был назначен консулом Франции в Молдове и Валахии, в компетенцию которого входило и оказание помощи прибывающим туда бывшим польским военным. Членам депутации удалось договориться с консулом. Никто не сомневался в его усердии и добрых намерениях, и все же, для большей уверенности, было решено направить в эти страны нашего представителя.
Меня предупреждали, что Директория предъявила гражданину Турскому претензии за написание двух писем, адресованных Феликсу Потоцкому, главному вдохновителю Тарговицкой конфедерации, и Петру Потоцкому, проживающему ныне в Венеции. Депутация нисколько не сомневалась в порядочности и искренности намерений Турского и просила меня посоветовать ему воздерживаться от пересылки сообщений, которые воспринимаются неоднозначно и могут получить нежелательное истолкование[53].
12 мая в ответе депутации я подтвердил получение писем от 23 февраля и 12 марта и выразил сожаление, что до сих пор по воле французского посла вынужден выступать в Константинополе как гражданин Франции. И это, конечно же, сковывало меня в работе с польскими патриотами. Я перечислял доводы и причины, постоянно повторяемые Вернинаком, которые никак не дают ему вывести руководство Турции из состояния апатии. И все же нельзя было не заметить, что посол начал противоречить самому себе, ссылаясь на официальные сообщения о подготовке к войне на всей территории империи и на то, что в Адрианополе главнокомандующий получил и указание, и карт-бланш на дополнительный набор рекрутов. Я сообщил, что по нашим сведениям, полученным из приграничных районов Турции, в сторону Днестра направляются большие группировки русской армии под командованием генерала Суворова. В Константинополе активизировались тайные и явные происки представителей стран антифранцузской коалиции с целью подорвать доверие Оттоманской Порты к Франции.
Я писал (и это была правда), что турки любят французов, видят в них своих друзей, с открытой душой приветствуют всех республиканцев. И тем не менее турки боятся и одновременно ненавидят русских. Они так и не начнут войну, несмотря на все военные приготовления, до тех пор, пока в районе Архипелага не появится французский флот. Вот он то и поднял бы боевой дух армии и дал бы толчок к вооруженной атаке.
Тем временем рейс-эфенди – министр иностранных дел Турции – выразил неудовольствие Вернинаку в связи с речью известного государственного деятеля Буасси д’Англа, в которой восхвалялась императрица Екатерина. Высокий турецкий чиновник недоумевал, почему Париж восхищается и до небес превозносит российскую царицу и в то же время склоняет Турцию к войне с Россией. Французский дипломат чувствовал себя очень неловко и пытался объяснять положение тем, что частное мнение одного человека и даже многих людей, разделяющих взгляды Буасси д’Англа, не имеет ничего общего с позицией правительства. А руководство страны не может игнорировать колоссальное могущество России и ищет союзников против нее не только в Константинополе, но и в Стокгольме и Берлине.
В конце письма я призывал членов депутации работать совместно, слаженно, поддерживать согласие и сплоченность в рядах соотечественников и самим во всем быть добрым примером. Только так мы можем заслужить доверие держав, которые нам покровительствуют и проявляют интерес к Польше. Только сохраняя единство принципов, мнений и действий, мы можем преуспеть в наших начинаниях.
14 мая я присутствовал на смотре войск, обученных и переодетых, как тогда говорили, на европейский лад. Уже давно все газеты писали о нововведениях в турецкой армии. Многие утверждали, что сам султан дал указание пригласить из-за границы сотни офицеров и перестроить турецкую кавалерию, пехоту и артиллерию по образцу европейских войск. Одновременно с реформированием армии турки собирались значительно увеличить ее личный состав. В последнее время в Константинополе мне доводилось встречать немало французских офицеров. Кое-кого из них я знал лично. И действительно, в артиллерии произошли некоторые изменения в лучшую сторону, а вот с кавалерией ничего не вышло[54]. На смотре я увидел семьсот восемьдесят пехотинцев, одетых наполовину по-турецки, наполовину по-европейски. На виду у султана и великого визиря пехотинцы по команде французских офицеров маршировали не в ногу и весьма неловко выполняли строевые упражнения. Через пару часов этих показательных выступлений я заметил, как некоторые солдаты протягивают руки к офицерам, явно выпрашивая денег. А в это время какой-то человек ходил с бурдюком и, словно из крана, поил уставших бойцов. При этом ни один из них не покидал строй и не бросал оружия.
Если где и произошли серьезные перемены в турецких вооруженных силах, так это во флоте. К руководству судостроительными верфями были приглашены опытные специалисты из Швеции и Франции, которые менее чем за десять лет подняли техническое состояние турецких военных и транспортных кораблей до уровня ведущих морских держав.
15 мая ко мне прибыл Крута с инструкциями Костюшко и Игнация Потоцкого. Бумаги были датированы 3 июля 1794 года, это значит – перед самым отъездом Круты из Варшавы в Константинополь. Ничего особенного в них не было: описание событий на начальном этапе восстания в Польше и просьба об оказании поддержки Круте. С этой просьбой Костюшко и Потоцкий обращались к гражданину Декоршу, министру Франции в Константинополе, доказавшему свою преданность интересам Польши во время работы в Варшаве. Крута также привез мне шифр для переписки и два письма Декорша к Игнацию Потоцкому. Их он так и не смог вручить адресату. Поскольку это единственные материалы о тогдашних отношениях между Варшавой и Константинополем, копии этих писем я решил поместить здесь. Оригиналы хранятся у меня на руках.
ПЕРВОЕ ПИСЬМО
Константинополь, 28 термидора II года Французской республики (15 августа 1794 года по старому стилю).
Господину Игнацию Потоцкому, члену Высшего национального совета польских республиканцев.
«Сударь! Говорить вам о том, что я чувствую, о чем думаю, чем занимаюсь было бы, пожалуй, излишне. Вам прекрасно известны мои неизменные принципы и чувства, а это значит, вы не станете сомневаться в том, что мой ум и сердце занимают великая и благородная инициатива ваших отважных соотечественников и ее судьбоносные последствия. Постоянство моих взглядов – это также и залог того, что я все время стремлюсь поддерживать вашу инициативу. Наша поддержка и здесь, и повсюду является тем, чего желают настоящие польские патриоты. Хотелось бы, чтобы она принесла плодотворные результаты. А пока что они удовлетворительны и с учетом уже сделанного, и того, что предстоит еще совершить. Все идет медленно и вяло, так как сердце, пораженное раком, плохо справляется со своими функциями. Задачи стоят небывалые. Общественное мнение настроено прекрасно. Вождь[55] желает добра. И хотя его сверхосторожные поступки способствуют благополучию, здесь не помешали бы и кое-какие лекарства. Пару недель назад были произведены многочисленные высылки из страны, и можно предположить, что начинается чистка. Говорят, скоро последуют еще более массовые изгнания. Такое надо видеть. Наши успехи производят сильное впечатление, но хотелось бы чего-нибудь и от Средиземноморья.
О ваших делах хлопотал много раз. Заручился поддержкой добрых людей, в чьей искренности сомневаться не приходится. Вам хотят помочь, но пока не наступило время для решительных и активных действий. Продержитесь в этом году, а в следующем разговор, по всей видимости, будет другой. Мощный толчок мы дадим, это я гарантирую. За время пребывания здесь, я научился верить только тому, что вижу перед собой. Желаю, чтобы вы знали: я тешу себя надеждой, что меня здесь воспринимают серьезно и как представителя республики, и просто как человека.
Я мог бы, конечно, рассказать еще о многих вещах, но мне не дано знать, какая судьба ждет это письмо. Как-никак, между нами столько препятствий, и я не могу судить, сможет ли их преодолеть человек[56], которому я вручаю сие послание.
С первых дней вашего восстания, я начал думать о том, как наладить с вами связь. Нам бы здорово помогла переписка. Увы, у меня ничего не получилось. И как так произошло, что здесь от вас никто не появился? О положении дел в Польше Оттоманская Порта все время посылает запросы греческим князьям. А те говорят, что невозможно получить достоверную информацию. Между тем наши враги не спят и распространяют всякие выдумки и небылицы, которые нам порой не так просто и опровергнуть. Да, всерьез их не воспринимают, им не верят, но сомнения и неуверенность вселяются в души даже тех, кто нам особенно дорог.
В этой связи я пишу и генералу[57] и прошу его ради нашего общего дела сделать все возможное, чтобы установить с нами надежную связь. Я даю ему адреса верных людей в Бухаресте, Измаиле, Хотине и сообщаю, что здесь под маской вашего соотечественника действует опасный волк в овечьей шкуре Аксак.
Пусть наши друзья не сомневаются, что их уважение, которым я всегда буду дорожить, предоставит мне право на их доверие. Поклон всем им!
С братским приветом и пожеланием успехов!
Мари Декорш».
Постскриптум
8 вандемьера III года Французской республики (29 сентября 1794 года по старому стилю).
Сулковский, получив приличную финансовую поддержку от наших друзей, наконец, уехал. И это величайший секрет. Я дал слово[58] хранить тайну и очень не хотел бы, чтобы оно превратилось в низкопробную монету.
Среди здешних последних новостей обращает на себя внимание возможная отставка министра иностранных дел и его секретного агента, драгомана Мурузи. Это пока еще не полная немилость, но, безусловно, закат карьеры.
С удвоенной энергией ведется серьезная подготовка на суше и на море. Не дремлют, как вы догадываетесь, и взяточники и интриганы. Но они напрасно стараются. Сам ход событий, господство правосудия и разума на фоне наших триумфальных побед так или иначе приведут к тем результатам, которых мы желаем. Еще несколько недель тревог и трудов праведных, и ваша судьба, дорогие славные поляки, будет в ваших руках!
ВТОРОЕ ПИСЬМО
Константинополь, 2 фримера III года Французской республики (22 ноября 1794 года по старому стилю).
«Мари Декорш, чрезвычайный посланник Французской республики в Оттоманской Порте.
Гражданину Потоцкому, члену Высшего национального совета польских республиканцев.
Гражданин и друг! Не могу найти слов, чтобы описать тебе и всем, кто меня знает, те чувства, которые я испытал, когда увидел твоего представителя Петра Круту и твое письмо от 29 сентября. В тот самый день, и быть может, вовсе не случайно, раз в наших душах родились одинаковые побуждения, в тот самый день, 29 сентября, я тоже написал тебе письмо. Надеюсь, к этому времени оно уже у тебя в руках. Я[59] вручил письмо молодому Сулковскому. Он находился здесь некоторое время и уезжал к Костюшко. Впрочем, о судьбе Сулковского после того, как он покинул Бухарест, мне ничего неизвестно. Поэтому высылаю тебе копию того письма. Ты желаешь узнать мое мнение о польской миссии. Тактичность и порядочность подсказывают мне положительный ответ, и, уверяю тебя, то же говорят и мои убеждения. Должен сказать, однако, что мой личный пример не очень обнадеживающий. Это вовсе не значит, что мое пребывание здесь было и остается бесполезным. Ощутимые результаты есть, и их немало. А если бы обстоятельства позволили задействовать те средства, о которых ты говоришь (а их ведь у меня нет!), то, несомненно, можно было бы говорить о блестящих итогах работы.
Только системный подход в организации работы, а не мелкие интриги, может обеспечить настоящий успех. Идти следует дальше и дальше, и идти не торопясь.
Можешь себе представить, что здесь нет ни инертности, ни бессилия, а есть невежество, есть боязливость, взращенная невзгодами, есть подозрительность, свойственная тем, кого часто обманывали. И не забудь, что у наших друзей имеется большая склонность к выжиданию. Наконец, сохраняются еще зоны, пораженные раком. Струпья падают, а корни остаются. И все-таки общее настроение и симпатии на нашей стороне. По всем приметам на этой же стороне и сердце нового руководителя. Хотелось бы только удостовериться, что его решения смогут положить конец всем интригам, тормозящим движение к уже совсем близкой цели… Ждать осталось совсем недолго… На суше и на море идет серьезная подготовительная работа. В этом нет никаких сомнений, как и в том, что наши старания приносят свои плоды. А ведь именно этого вы и желаете.
Совсем недавно я официально заявил, используя выражения документа, полученного от руководства, что позиция Оттоманской Порты по отношению к Польше станет для нас пробным камнем и т. д. и т. п. Только тогда, когда мы увидим, что эта страна на суше и на море по-настоящему готовится к войне, когда мы удостоверимся, как на деле реагирует она на высокомерные оскорбления и наглость петербургских и венских кабинетов и т. д. и т. п., только тогда Французская республика будет уверена, что она не обманулась в своих надеждах.
В это время и прибыл сюда Петр Крута. Появился он очень кстати. Я это сразу понял. Но его появление здесь, как я и предполагал, кроме апатии ничего не вызвало. Пришлось настоять, чтобы на Круту обратили внимание. Как оказалось, этого хотел не только я. Но система не изменилась. Все блюдут осторожность и стремятся из всего делать тайну. И все же первый шаг уже сделан: в данный момент Петр Крута находится на приеме у драгомана Оттоманской Порты. Он сам тебе расскажет об этом приеме. А пока спешу коротко высказаться о Круте. Любезно прошу принять к сведению, что мои личные наблюдения и все, что я о нем слышал, дают основания характеризовать этого человека с самой лучшей стороны.
Возвращаясь к вопросу о целесообразности открытия миссии, хотел бы высказать одно соображение. Желательно, чтобы ваш человек, претендующий на работу в миссии, прибыл сюда в качестве иностранного путешественника под чужой фамилией. Это упростит процедуру и поможет в организации переписки.
Важно, чтобы ты знал, дорогой гражданин, что наша шведская миссия, по-моему, имеет весьма хорошие намерения, но не более того. Ее поддержка в нашем деле была бы очень полезной. Если можешь, поработай в этом направлении. И еще, кажется, что датчанин тоже мог бы подставить свое плечо. Он по-прежнему в полной зависимости от своего коллеги, уважаемого торговца, раболепного льстеца и очень русифицированного барона Н… Тоже подумай о лекарстве, если у тебя найдется рецепт.
Содержание известного абзаца твоего письма хорошо помню и сразу же начал над этим работать. Заодно поговорил и о вас. Ты выбрал бедноватого банкира. Он постоянно сталкивается с какими-то неприятностями и трудностями. Но ради дружбы с тобой и твоими славными соотечественниками он готов творить чудеса.
Ваш переводчик не останется без опеки и внимания, пока я буду здесь. Я уже дал ему две тысячи пиастров на личные расходы.
Сердечный привет всем гражданкам и гражданам!
Наилучшие пожелания успехов тебе, брат мой, друг и гражданин!
Мари Декорш».
20 мая пришли письма из Венеции с последними новостями из Польши. По достоверным сведениям, огромное войско под командованием генерала Суворова подошло к Днестру. Русские готовятся форсировать реку и занять Хотин и Бендеры. Я передал информацию Вернинаку, а тот довел ее до сведения турецкого правительства. Ему выразили благодарность и уточнили, что по имеющимся у турецких властей данным, Суворов находился в Подолии, но отошел от границы. Вернинаку также дали понять, что Россия сейчас отнюдь не расположена к каким-либо агрессивным действиям, а наоборот, как никогда ранее, проявляет дружелюбие по отношению к Оттоманской Порте.
Со своей стороны Вернинак поделился со мной новостями из частной переписки. Оказалось, что на Украине и в окрестностях Каменца было организовано восстание. Восемь тысяч инсургентов под предводительством Колыско, Либерадского и Домейко несколько раз брали верх над русскими и даже отняли у них военную кассу. Газеты Гамбурга и Эрлангена со ссылкой на публикацию в торуньской газете от 9 апреля сообщали, что подробности об этом специальный курьер доложил прусскому королю. Вернинак не мог гарантировать достоверность такой информации, но отметил, что, если это соответствует действительности, то следует лишь пожалеть поляков за их преждевременные действия.
Подробый отчет об этом разговоре я отослал в Париж.
Глава V
22 мая в Константинополь приехали граждане Рымкевич, Яблоновский, братья Шумлянские и Блюм. Рымкевич и Яблоновский являлись представителями от жителей Галиции и сообщили мне, что привезли для Вернинака письмо и акт конфедерации граждан своей провинции. Когда они узнали, что Вернинак уже отозван и будет заменен Обером дю Байе, то решили дождаться приезда нового французского представителя и вручить ему свои важные бумаги. Что касается трех остальных соотечественников, то это были храбрые офицеры, которые искали себе применение, чтобы служить родине. О прибытии гостей я сразу же написал Вернинаку, который изъявил готовность принять представителей Галиции уже на следующий день, а в отношении трех офицеров сообщил следующее:
«Гражданин! Вопрос о польских военных, прибывающих в Константинополь либо желающих выехать во Францию, мы не раз обсуждали. Мне представляется, что каждый поляк, готовый послужить своей родине, не должен удаляться от Польши, с тем, чтобы при первой же возможности включиться в борьбу за ее освобождение.
С братским приветом,
Р. Вернинак».
23 мая я представил Вернинаку Рымкевича и Яблоновского. Они передали ему письмо, упомянули об акте конфедерации, но копию документа не вручили. Как мне показалось, Вернинак был польщен таким доверием к себе. Он был удивлен, что галичане, бывшие подданные австрийского императора, с такой же заинтересованностью относятся к восстановлению Польши, как и жители территорий, недавно оккупированных тремя государствами – участниками раздела. Вернинак задавал немало вопросов о нынешнем положении в Галиции и ее ресурсах, о вооруженных силах Австрии, о реакции местных жителей на успехи французской армии, о возможности восстания в Польше, об отношениях Галиции с захваченными польскими провинциями… В конце он заявил, что я являюсь уполномоченным миссии польских патриотов в Константинополе и что, согласно указаниям своего правительства, он может только со мной обсуждать и принимать решения по всем вопросам, касающимся Польши.
Беседа с представителями Галиции, пусть себе и не совсем достоверные новости о начале восстания в Польше, информация из Парижа о том, что Директория одобрила акт конфедерации, предложенный польской депутацией, в корне изменили позицию Вернинака. С 5 июня он начал понимать, что передвижения поляков к турецким границам и формирование там подразделений из бывших польских военных могли разбудить турок и подвести их к принятию ответственного решения. Вернинак обратился к министру иностранных дел Турции с просьбой о встрече. Она началась в девять часов вечера и завершилась в четыре утра. После чего мой французский куратор вызвал меня к себе и сообщил:
1. Министр иностранных дел Турции дал обещание принять меня, чтобы получить полноценную информацию о событиях в Польше;
2. Министр посетовал на многочленные сообщения, получаемые турецким правительством от поляков из Вены, Галиции и других мест. Эти сообщения, однако, не дают ясного представления о том, чего на самом деле хотят поляки и какими принципами руководствуются. Создается впечатление, что здесь много разногласий;
3. Успехи французской армии в Италии, по предположениям Вернинака, могут ускорить подписание мира с Венским двором, что не повлечет за собой негативных последствий для Польши, так как условия договора будут продиктованы Францией;
4. Появилась уверенность, что Швеция выступит против России, а это значит, что и Турция предпримет аналогичные шаги;
5. Объединение польских военных в Константинополе является нежелательным, так как оно компрометирует турецкое правительство и больше вредит, нежели помогает делу поляков. Было бы целесообразнее сосредоточить силы польских патриотов на турецких границах.
Вернинак заверял меня, что никогда турецкий министр не был в таком добром расположении к Польше как на этой аудиенции. Более того, министр выразил готовность, не теряя времени, воплотить свои добрые намерения в реальные дела. Он решил, что будет разумно, если я напишу на имя Вернинака письмо, помеченное задним числом, с короткой мотивацией необходимости встречи с руководителем внешнеполитического ведомства Турции. Содержание этого письма Вернинак должен был конфиденциально изложить министру и заодно прощупать его позиции до того, как я смогу с ним встретиться сам. Мне, разумеется, ничего не оставалось, как согласиться с таким предложением и написать вот это письмо, которое я датировал 21 мая:
«Гражданин Вернинак! Новость о восстании на польских землях, в частности, в окрестностях Каменца, которую вы изволили сообщить, навела меня на серьезные размышления. Мы обсудили этот вопрос с гражданином Турским и пришли к выводу, что у участников восстания было много причин для решительных боевых действий, которые, по нашему мнению, все же были не очень осмотрительными и слишком поспешными. Отчаяние, которое на все толкает несчастных людей, жестокость русских чиновников, ужасы рабства, надежда на поддержку защитников свободы и всех, кому не безразлична горькая трагическая судьба Польши, – все это побуждает поляков во что бы то ни стало избавиться от ига.
Страна разорена и опустошена. От нее остались одни развалины. Земля залита кровью многих тысяч патриотов, пожертвовавших собой во имя спасения родины. И здесь, на этой земле, поляки, которые пережили крах своего государства и не смогли оставить родные края, не только пьют горькую чашу собственных страданий, но и оплакивают печальную участь тысяч и тысяч соотечественников, томящихся в темницах Петербурга, замерзающих в ссылке на бескрайних сибирских просторах, влачащих жалкое существование за границей. Эти люди потеряли все: родину, нажитое по’том имущество, семьи, друзей. Горестные чувства напоминают всем полякам о благородных порывах зачинателей последнего восстания, выводят их из оцепенения, придают им бодрости и сил, обостряют ненависть, озлобленность и месть к угнетателям Польши.
Гражданин Вернинак! Муки и страдания уже долго терзают поляков, и нет никакой уверенности, что в скором времени удастся от них избавиться. Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что поляки, не дожидаясь перемен в политической системе Европы, решили еще раз испытать свою прискорбную судьбу в новом восстании, исход которого не совсем ясен. А что им остается делать, в конце концов?.. Оставить потомкам нищету и рабство или же своей кровью смыть бесчестие позорных кандалов, в которые их заковали?
Я полагаю, что восстание под Каменцом вполне могло произойти. И даже, если это не так, то взрыв может прогреметь в любую минуту. Я полностью разделяю мятежные настроения моих соотечественников, и мне было бы очень больно, если я не смогу им помочь. Тем более, что именно такая задача и поставлена передо мной органом управления наших соотечественников в Париже.
Вы читали, гражданин Вернинак, письмо, адресованное мне польской депутацией в Париже. Из переданных вам последующих писем и инструкций, полученных мной в Венеции, вы хорошо осведомлены о моих полномочиях при ведении переговоров, равно как о цели и задачах моей работы в Константинополе.
Стремясь выполнить свою миссию, я сегодня имею честь, гражданин Вернинак, привлечь ваше внимание к очень актуальному и животрепещущему вопросу: окажет ли турецкое правительство содействие освободительному движению в Польше, и могут ли поляки рассчитывать на поддержку и финансовую помощь со стороны Турции?
Вы, безусловно, знаете, что иллюзорные надежды, основанные на ошибочных представлениях, приводят к опрометчивым действиям, а отсутствие надежды гасит все патриотические чувства даже у людей с самыми лучшими намерениями. Мне бы очень хотелось, чтобы мои соотечественники не оказались ни в том, ни в другом положении, а единственным ориентиром для их действий стала точная информация о сегодняшней политике и планах дружественных Польше государств.
В случае, если восстание уже началось либо начнется позже, полякам очень важно знать, как на это будет реагировать Турция… В этой связи, гражданин Вернинак, я был бы вам весьма признателен, если бы вы сочли уместным и возможным выяснить отношение турецкого правительства к событиям в Польше. В качестве благовидного предлога в переговорах можно было бы использовать недавнее известие о восстании на моей родине. И еще, не полагаете ли вы, гражданин Вернинак, что в настоящее время создались благоприятные условия для того, чтобы вы могли походатайствовать о моей встрече с турецким министром иностранных дел? Это позволило бы мне под вашим покровительством познакомиться с ним и сообщить о моей готовности предоставлять материалы о событиях в Польше, если того потребуют обстоятельства.
Просьба моя не покажется вам нескромной, если вы вспомните, что предметом всех моих забот является родина, которой я безмерно дорожу. Обращаясь к вам, я лишь исполняю волю и предписания своих сограждан, представлять которых мне оказана высокая честь. Ведь вся наша уверенность зиждется на причастности Франции к нашей судьбе. А лично для меня, гражданин Вернинак, огромной поддержкой стали ваши ревностные старания в отстаивании свободы, ваше умение вести дела, ваша любовь к роду человеческому, ваша постоянная забота и внимание к Польше, на которую обрушилось столько бедствий и невзгод.
М.О.».
Копию этого письма, а также все сведения, полученные от Вернинака, я отправил в тот же день польской депутации в Париже.
Заверенную копию акта конфедерации, составленного в Кракове 6 января 1796 года с подписями множества поляков, Рымкевич и Яблоновский также выслали в Париж польским патриотам для предоставления в Директорию.
Акт конфедерации, составленный в Кракове 6 января 1796 года
(Перевод)
«Мы, нижеподписавшиеся граждане Речи Посполитой Польши, глубоко верим в лояльность французского народа. Франция – это единственная страна, покрывшая себя славой за всемерную поддержку угнетенных народов, которые, познав цену свободы, делают все возможное, чтобы обрести ее вновь.
Мы радуемся, что французы в недавних действиях поляков высоко оценили нашу заинтересованность и единодушное желание совершать отвлекающие маневры, которые вынуждают врагов Франции рассредоточивать и разъединять свои войска. Мы польщены также тем, что французские друзья заметили, как наши душевные силы помогли нам преодолеть страх перед коалицией соседних держав, объединившихся для нашего уничтожения.
Несмотря на то, что успех пока не сопутствует нашему движению, мы убеждены, что своими деяниями мы заслужили право на поддержку со стороны французского народа. Едва ли Франция сможет найти себе более надежного и естественного союзника, чем наш народ, дорожащий, как и французы, свободой и стремящийся во что бы то ни стало восстановить ее в своей стране.
От имени польского народа, от имени всех наших патриотов, от имени всех лишенных в неволе права голоса наших сограждан, чьи чаяния нам хорошо известны, заявляем:
1. Надежда на наше освобождение зиждется на правоте нашего дела, на уверенности, которую придают нам наше мужество, великодушие французского народа, непредвзятость и справедливость государств, не принявших прямого участия в преступлении против нашей страны.
2. Мы, нижеподписавшиеся, все вместе и каждый в отдельности, считаем себя связанными неразрывными узами. Мы готовы по первому призыву благородного французского народа пожертвовать всем, что имеем в своем распоряжении, включая имущество и саму жизнь. Мы выражаем готовность в составе коллектива либо индивидуально отправиться в любое место, где наше присутствие будет необходимо и определено большинством.
3. Мы признаем юридическую дееспособность польской депутации в Париже и всех ее представителей за пределами Франции.
4. Нынешние обстоятельства и меры безопасности, которые мы вынуждены соблюдать, не позволяют нам подтвердить аутентичность этого документа за счет большего количества подписей либо его широкой огласки. Однако мы убеждены, что его подлинность вполне могла бы быть заверена печатью всеобщей воли народа. Мы несем ответственность за все санкции, которые по тем же причинам не можем опубликовать в настоящее время. Как только появится возможность, содержание данного акта будет доведено до всеобщего сведения.
5. Более того, в таком случае мы оставляем за собой право выступить еще с одним заявлением, чтобы показать всей Европе на какие преступления шли наши захватчики и с каким вероломством попирали собственные законы и договоры.
6. В то же время мы намерены обратиться за помощью ко всем народам, которые рискуют оказаться в катастрофическом положении сегодняшней Польши из-за необузданных амбиций держав, чья политика сводится к пренебрежению самыми святыми понятиями.
В удостоверение сего мы подписываем настоящий манифест, один экземпляр которого хранится в нашем протокольном отделе, а другой будет отправлен по месту требования… Следуют многочисленные подписи.
Копия верна.
Подписи: генерал Рымкевич, полковник Яблоновский. Представители Галиции».
12 июня Вернинак сообщил, что ознакомился с моим письмом и имел продолжительную беседу с министром иностранных дел Турции. О результатах беседы Вернинак ничего не написал и лишь намекнул, что очень скоро на встрече в министерстве я получу полное представление об отношении правительства Турции к проблемам Польши.
Глава VI
13 июня Вернинак и его переводчик Вентура представили меня князю Мурузи, брату господаря Валахии и первому драгоману Оттоманской Порты, имеющему полномочия вести переговоры с представителями зарубежных государств. Высокопоставленным чиновником оказался молодой человек лет двадцати восьми, хорошо владеющий несколькими иностранными языками, заклятый враг России и преданный друг Франции. Мы приехали к нему в семь вечера, а расстались в полночь.
После кофе, курения трубок и шербета князь Мурузи сказал мне, что турецкое правительство неплохо осведомлено о моем прибытии и работе в Константинополе. Князь добавил, что турецкую сторону вполне устраивает то, что я прибыл в Константинополь инкогнито, проживаю здесь под вымышленным именем и выдаю себя за гражданина Франции. Тем самым я избавил руководство Турции от возможных претензий представителей Австрии, России и Пруссии, которые непременно предъявили бы их, если бы раскрылись мое настоящее имя, фамилия и подлинная цель приезда. Мурузи похвалил меня за поведение и советовал вести себя таким же образом и впредь, дабы не компрометировать турецкое правительство и не навредить делу моих соотечественников, защищать которых я сюда и приехал. Влиятельный чиновник заявил, что, учитывая ходатайство французского представителя, он не мог не встретиться со мной, чтобы откровенно поговорить об отношении Турции к Польше и полякам. В то же время он предупредил, что и сама встреча, и содержание нашего разговора должны храниться в строжайшем секрете.
Первым делом князь Мурузи стал расхваливать конституцию 3 мая и всех тех, кто имел отношение к ее подготовке. При этом он проявил удивительную осведомленность не только о событиях в Польше, но и о личных качествах главных политических деятелей нашей страны. Он дал очень точную характеристику королю, Игнацию Потоцкому, Коллонтаю, Костюшко, главным инициаторам Тарговицкой конфедерации. А его высказывания о братьях Коссаковских просто изумили меня своей безупречной достоверностью. Мурузи посетовал на то, что с самого начала работы конституционного сейма из Польши в Константинополь не направили деятельного инициативного представителя на смену польскому послу, который больше года ехал из Варшавы до Константинополя и привез с собой сотни совершенно бесполезных для своей миссии сопровождающих лиц. Он без конца кичился своей небывалой азиатской роскошью, совершенно запутался в пустой неуместной переписке с великим визирем и с капудан-пашой[60], содержание которых обошлось Оттоманской Порте почти в три миллиона пиастров. Соответствующие документы князь обещал мне показать в финансовой палате. Ясно, что такие баснословные расходы не могли не вызвать раздражение во властных эшелонах Порты. Надменное и оскорбительное поведение польского посла приводило в шок руководство империи. Беспредельные глупости и неблаговидные поступки, совершаемые людьми его окружения, создавали дурную славу всем полякам в Константинополе. Этим охотно пользовались российские эмиссары, чтобы вновь и вновь шельмовать поляков и поддерживать недоверие турок к новому польскому правительству.
Князь Мурузи подчеркивал, что сейм допустил непростительную ошибку, когда отказался уступить Торунь и Гданьск прусскому королю. Таким образом можно было бы раз и навсегда консолидировать договор о союзе, дружбе и торговле не только с берлинским двором, но и с Англией и Голландией. Он обвинил депутатов сейма в том, что они больше занимались несерьезными дискуссиями о формировании полков и их униформе, нежели финансовыми вопросами и созданием стотысячной армии. Без такой армии не считаться с Россией было опрометчиво и недальновидно. Мурузи признался, что турецкое правительство имело своих тайных агентов на границе и даже в Варшаве, чтобы располагать точными сведениями о событиях в сейме, и что господари Молдовы и Валахии были уполномочены передавать через своих курьеров в Константинополь информацию, получаемую от агентуры. Ведь до прибытия посла Польши поляки так и не удосужились установить хоть какую-нибудь связь с Константинополем. А когда посол, наконец, приехал, дела в Польше пошли из рук вон плохо. Швеция подписывает мир с Россией. Король Пруссии все внимание сосредоточивает на революции во Франции и охладевает в своих чувствах к полякам. Россия из кожи вон лезет, чтобы заключить мир с Турцией. А недовольные поляки, составившие акт Тарговицкой конфедерации, обращаются за покровительством и поддержкой к России, чтобы уничтожить конституцию 3 мая.
Князь Мурузи убедительно доказывал, что Оттоманская Порта вынуждена была пойти на заключение мира с Россией. Вместе с этим он признавал, что именно это обстоятельство серьезно помогло России решить многие задачи: ввести войска на территорию Польши и победоносно завершить кампанию 1792 года, отменить все инициативы конституционного сейма, принудить короля и всех жителей Польши присоединиться к акту Тарговицкой конфедерации, вернуть российским чиновникам их прежние полномочия и влияние на польских землях.
По мнению Мурузи, турки никогда не любили русских, а судьбе поляков искренне сочувствовали, хотя и помочь им ничем не могли. Не было у Турции никаких оснований и для обвинений поляков, так как все видели, что Польша никак не может оказать сопротивление столь мощным объединенным враждебным силам. Правда, турки никак не могли взять в толк, как эти бравые поляки пошли на такую дерзкую и славную акцию – восстание, не поставив в известность правительства Парижа и Константинополя. А ведь была возможность договориться, разработать план совместных действий, который мог бы привести к успеху поляков и изменить расстановку сил в Европе… И тут князь обращает свой взор на французского представителя и интересуется, имело ли правительство Франции какие-либо сообщения от руководителей революции 1794 года о их намерениях. Вернинак дает отрицательный ответ[61]. Мурузи с полной уверенностью утверждает, что и турецкое правительство не располагало никакими сведениями о подготовке восстания в Польше. А вот смелые действия поляков, их страстная решимость дать бой общему врагу были восприняты в Турции с изумлением и удовлетворением, и не кто иной, как сам Мурузи распорядился приступить к сбору всей информации о событиях польской революции. Сомневаться в правдивости этих высказываний не приходилось. О чем бы князь ни говорил – битвы Тадеуша Костюшко, народные выступления в Варшаве и Вильне, создание Высшего совета и личные качества его лидеров – он излагал все это с такой точностью, что ему позавидовали бы очевидцы и участники этих событий.
Мурузи отметил, что, несмотря на непростительное безмолвие поляков (посланец патриотов Крута доставил в Константинополь первые сведения о выступлениях повстанцев буквально за несколько дней до битвы под Мацеёвицами), Оттоманская Порта все же пыталась косвенно поддерживать польских инсургентов. Следствием этой поддержки стало то, что революция получила свое продолжение, а Россия не смогла ее подавить значительно раньше.
Последнее заключение меня весьма удивило, и князь Мурузи сделал такие пояснения. Каждый год весной турецкое правительство выводит свой флот к Архипелагу, но в 1794 году все лето военные корабли в состоянии полной боеготовности стояли на рейде в порту Константинополя. Кроме этого, в тот же год турки инициировали введение новых правил навигации по Дунаю, что вынудило Россию засомневаться и задуматься о скрытых истинных целях этого нововведения. Чтобы я лучше смог понять смысл сказанного, Мурузи подсказал, что генерал Суворов со своей армией ушел от турецких границ и направился в Польшу лишь с наступлением осени, когда исчезла вероятность военных действий со стороны Турции.
Мой собеседник добавил также, что восстание в Польше привлекло внимание не только правительства, но и всех турок, полагавших, что наступил очень благоприятный момент, чтобы сбить спесь с России. Он вовсе не отрицал, что поляки явно поторопились с началом восстания, не согласовав свои действия с Францией и Турцией. Отдавая должное отваге и активности ингургентов, Мурузи неодобрительно отзывался об экстремистских лозунгах и действиях некоторых революционеров, которые могли бы привести Польшу к самым пагубным последствиям даже в том случае, если бы страна не оказалась в кабале у объединившихся захватчиков. Он назвал двух генералов и одного бывшего министра, которые, по его мнению, были якобинцами, и своим фанатизмом натворили столько же зла, сколько и король со своим окружением, хотя последний руководствовался диаметрально противоположными идеями и делал все возможное, чтобы на корню уничтожить добрые всходы революции 1794 года.
Мурузи с глубоким уважением говорил о Костюшко, который, как он выразился, был ниспослан самим Господом для спасения Польши. Высокой похвалы удостоился также Игнаций Потоцкий.
Больше всего князь был озадачен отсутствием согласия среди поляков. Эта беда, по его словам, вредила польскому делу в прошлом, вредит и поныне. И это дурное предзнаменование, ибо возродиться Польша может только на основе сплоченности всех патриотических сил и единства их помыслов и действий. В подтверждение своих слов Мурузи показал груду писем, справок, записок, воспоминаний и проектов, присланных со всей Польши. В этих материалах содержались самые противоречивые рекомендации и меры по восстановлению Польши. Всякий, кто пожелал бы выстроить их в какую-либо систему, потерялся бы в догадках, предположениях, неясностях и неопределенностях. Конечно, мой собеседник допускал и считал естественным, что отчаянное положение поляков предполагало разноообразные пути к освобождению страны. Он нисколько не сомневался, что все поляки руководствуются самыми лучшими намерениями и цель у них одна – возрождение Польши, и все же полагал, что Бартелеми – французский посол в Базеле – был совершенно прав, когда говорил: «Необходимо для поляков сделать все без самих поляков».
После столь пространного вступления князь Мурузи заявил, что ведет эту искреннюю беседу со мной исключительно для того, чтобы засвидетельствовать свое доверие к моей особе, принимая во внимание мое надлежащее поведение в Константинополе и информацию обо мне, полученную от Вернинака.
Далее главный драгоман Оттоманской Порты попытался отвести от турок обвинения в их безразличии к польским проблемам. Упреки подобного рода, по его мнению, следовало бы направить правительству Франции, которая своими военными достижениями и дипломатическими успехами с каждым днем наращивает свое превосходство в Европе. Франция завершила войну с Пруссией, подписала с ней в Базеле мирный договор и… забыла о поляках. По всем правилам Франция как страна-победительница могла диктовать свои условия побежденной Пруссии и предусмотреть в тексте договора статьи в поддержку Польши. «А вы хотели бы, чтобы турки одни пошли за вас воевать против трех объединившихся держав-соучастниц раздела Польши?.. Впрочем, не следует беспокоиться по этому поводу. Что теперь требуется, так это время, терпение и, особенно, благоразумие поляков», – подытожил Мурузи.
Затем он перешел к характеристике современного положения в Европе, подробно рассказал об успехах французских войск в Италии, Германии и предположил, что в скором времени может быть подписан мир с Венским двором, переговоры с которым могут и должны принести благоприятные результаты для будущего Польши. Князь заверил меня, что в Оттоманской Порте близко к сердцу принимают все, что происходит в Польше, и не переставая готовятся к военным действиям. Как только Швеция сможет выступить против России, Турция немедленно пойдет на вооруженный конфликт с русскими, и туркам будет очень приятно ощущать поддержку храбрых поляков, получивших убежище, поддержку и покровительство на турецких границах. Мурузи настоятельно требовал, чтобы поляки не допускали никаких поспешных шагов, которые могут иметь самые печальные последствия.
На этой встрече я собирался подробно изложить свое видение процессов, происходящих в Польше, но драгоман Оттоманской Порты избавил меня от этой необходимости, так как сам был информирован о состояниии дел на моей родине, пожалуй, не хуже меня… У меня было что сказать в оправдание поляков по конкретным эпизодам их истории и настоящего времени, о которых упоминал мой собеседник, но мне не хотелось прерывать его и вступать в бесполезную дискуссию. Я подождал, пока он закончит, и выразил признательность за те добрые чувства, которые Оттоманская Порта сохраняет к своей давней союзнице Польше. Я от всей души поблагодарил за теплый, сердечный прием, а также за готовность предоставить убежище моим соотечественникам и оказать им поддержку и покровительство на турецких границах.
Не скрывая своего восхищения от глубокой осведомленности князя Мурузи о последних событиях на моей родине, я все же позволил себе заметить, что был немало удивлен нейтральной реакцией турецкого правительства на третий раздел Польши. А ведь уже тогда были поставлены на обсуждение меры, призванные уготовить и Турции печальную участь Польши. Я также добавил, что правительство Турции во время восстания в Польше в 1794 году упустило хорошую возможность для обеспечения безопасности страны и не вернуло себе Крым. Если бы Турция не держала свой флот в Константинополе и не раздражала Россию новыми трудностями навигации по Дунаю, а объявила ей войну в тот самый час, когда поляки сражались за независимость своей страны, польские патриоты одержали бы триумфальную победу. Польша вернула бы себе свои прежние границы и стала бы для Турции мощной оборонительной линией от России, которая никогда не оставит ее в покое.
Я напомнил, что уже много лет в Петербурге лелеют мечту возвести на турецкий престол кого-нибудь из внуков императрицы Екатерины. Теперь, после раздела Польши, ничто не мешает российской армии осуществить эту мечту, если только не воспользоваться нынешними обстоятельствами и не возродить Польшу. Это позволило бы Турции обеспечить господство на всех своих обширных территориях, отодвинуть границы России, сбить спесь с победоносной русской армии, восстановить политическое равновесие в Европе и на долгое время утвердить мир и спокойствие.
В конце встречи я с пафосом заявил, что если мы сделаем вид, что не замечаем социально-политических коллизий в Польше и не воспользуемся ее пока еще не растраченными материальными ресурсами, а также успехами французской армии и недружественным отношением Швеции к России, то через год-другой такая ситуация не повторится. Оттоманская Порта будет раскаиваться и жалеть о своей нерешительности, когда Россия захватит Молдову и Валахию, взбудоражит Грецию, укрепит свой военный флот на Черном море и посеет страх и ужас у ворот Константинополя.
Мой прогноз событий, кажется, нисколько не удивил и не огорчил князя Мурузи. Он улыбнулся и сказал, что пока все эти бедствия наступят, много воды утечет в Дунае. По его мнению, в силе остаются многие факторы, которые могут не только нейтрализовать мощь России, но и способствовать восстановлению Польши, раздел которой стал актом беззакония и нарушил политическую стабильность в Европе. В конце концов, считал Мурузи, земли Оттоманской Порты в Европе и Азии столь обширны и богаты ресурсами, что турки и одни могут успешно противостоять всем вооруженным силам России.
Глава VII
14 июня Вернинак сообщил мне, что представитель Франции в Берлине проинформировал его о восстановлении и укреплении отношений Французской республики с берлинским двором. Более того, выяснилось, что король Пруссии начал понимать, что владение Варшавой доставляет ему больше неудобств, чем реальных выгод. На содержание чиновников и крупного гарнизона в Варшаве уходило немало средств. При этом не было никакой уверенности, что в любой момент эти беспокойные поляки не начнут протестовать и бунтовать. Король даже дал понять, что восстановление Польши ему кажется менее предосудительным, нежели прямые контакты его государства с Российской империей и владениями австрийского императора.
Французский представитель в Берлине уточнил, что генералы Мадалинский и Домбровский с почестями были приняты в королевском дворе. Домбровский был в униформе польского генерала. Король спросил у него о настроениях поляков и как они относятся к его особе… Домбровский ответил, что монарх вполне мог рассчитывать на преданность поляков, чьи желания сводятся к тому, чтобы он поставил на польский трон одного из своих сыновей и восстановил конституционное правительство. Такого ответа король явно не ожидал. Немного помолчав, он возобновил разговор, воздавая хвалу мужеству и силе польского народа.
15 июня я отправил большой отчет депутации в Париже, в котором подробно изложил содержание беседы с главным драгоманом Оттоманской Порты и пересказал новости, полученные от Вернинака. Я также написал в Париж о случае, который наделал много шума в Константинополе и дал повод для ложных слухов о перемене отношения Порты к Французской республике.
В тот самый день, когда султан присутствовал на церемонии отправки флота к Архипелагу, капудан-паша дал указание поднять на флагманском корабле флаги всех европейских держав за исключением французского триколора. Вопреки традиции не было флагов Франции на самом почетном месте и на французских кораблях, входящих в состав турецкого флота. В связи с этим Вернинак подал жалобу. В ответ на нее капудан-паша прислал своего переводчика, который извинился за эту, по его словам, «непроизвольную ошибку» и передал Вернинаку приглашение посетить корабль командующего флотом, где ему будут оказаны все знаки уважения, достойные представителя великой державы.
Назавтра Вернинак поехал в порт. В его честь прогремел двадцать один залп артиллерийского салюта. А вот флага Франции на флагманском корабле по-прежнему не было. Это породило новые слухи и порадовало представителей всех государств, враждебно настроенных к Французской республике. Впрочем, радовались они недолго, потому что в день, когда корабли покидали порт, по команде капудан-паши самым первым подняли французский флаг, а затем – английский, испанский, шведский, голландский и венецианский. В ответ над французским фрегатом взвился турецкий флаг, а затем французы отсалютовали уходящему флоту двадцатью одним залпом. Столько же залпов дали и с флагманского корабля. К Вернинаку тут же явился переводчик капудан-паши с дополнительными извинениями за недавний инцидент и вручил подарок: фарфоровые вазы, наполненные шербетом, огнестрельное оружие и др.
Я так и не смог понять, какие причины скрывались за этим недоразумением с французским флагом, и почему это так расстроило Вернинака, но у меня никогда не было сомнений, что капудан-паша вовсе не является сторонником французов.
1 июля я пожаловался парижским соотечественникам, что уже почти семь недель не получал от них никаких вестей, и написал о том, что главнокомандующему в Адрианополе было приказано выдвигаться вместе с вверенными ему войсками в сторону границы. Однако по неизвестным причинам за два дня до марша приказ отменили.
11 июля гражданин Константин Стеммати, недавно назначенный генеральным консулом Франции в Молдове и Валахии, доставил мне из Парижа пакет, датированный 23 марта. Депутация характеризовала Стеммати как активного республиканца, который готов страстно служить делу Польши и будет весьма полезен в качестве руководителя консульства, поскольку сообщество поляков в изгнании будет формироваться на территории Галиции и Подолии. Мне рекомендовалось поддерживать с ним доверительные отношения и прислушиваться к его мнению.
Из Парижа меня информировали о том, что нового посла Франции в Константинополе будет сопровождать генерал Бопуаль, которому депутация передала планы военных операций. Генерал дал свое согласие на инспектирование польских офицеров в приграничных районах.
В пакете я обнаружил также письмо от 27 марта за подписью гражданина Барса. Он ставил меня в известность, что поляки, нашедшие пристанище в Париже, приняли решение направить в Константинополь гражданина Дембовского, который доставит мне важные документы и подробные сообщения о контактах депутации с французским правительством. Гражданин Барс сообщал, что несколько недель назад в Париже появился Сулковский[62] и поведал ему неутешительные новости о разладе среди поляков не только во Франции, но и в других краях.
Письмо Барса содержало немало подробностей о направленных на рассмотрение французского правительства проектах создания польских легионов. Особый интерес представляла аналитическая записка, содержащая разумные взвешенные наблюдения и выводы о современной обстановке в Европе, об отношениях между Францией, Швецией и Турцией, о линии поведения польских представителей в этих странах и их работе по восстановлению родины. Под текстом стояли подписи Барса, Выбицкого, Прозора, Войчинского, Кохановского, Юзефа Вельгорского и многих других.
13 июля Вернинак предупредил меня, что недавно получил из Парижа письмо на имя молодого грека по фамилии Киркор, который длительное время находился в Варшаве и не так давно приехал к своей семье в Константинополь поправить здоровье. Несколько дней назад молодой человек скончался, и Вернинак вскрыл полученное письмо, полагая, что там могли быть какие-либо сведения о событиях в Польше. Он хорошо знал Киркора как горячего сторонника Польши, который имел много связей среди поляков и передавал полезную информацию французской миссии.
Письмо на четырех страницах было написано по-польски и датировалось 7 февраля 1796 года. Его автором был Сулковский. Вернинак передал письмо мне и попросил перевести его на французский язык. Перевод я ему отдал, а оригинал сохранил как свидетельство постоянной заботы Сулковского о своей родине.
В письме Сулковский сообщал добрые вести о расположенности французского правительства к восстановлению Польши. В то же время он с досадой говорил о раздорах в среде польских патриотов. Сулковский поименно называл наших соотечественников в Париже, характеризуя их личные качества, политические принципы и принадлежность к той или иной партии.
Он пояснял, что поскольку в Париже не имели никаких известий о моем прибытии в Константинополь[63] и, быть может, даже уже сомневались в успехе моих переговоров, было принято решение о поездке Дембовского, который должен был вручить мне документы и инструкции в случае, если, конечно, застанет меня в Константинополе. Дембовскому поручалось также отправить в Париж подробный отчет обо всем, что он увидит и услышит в Константинополе.
По оценкам Сулковского, среди поляков в Париже были роялисты, приверженцы конституции 3 мая, сторонники революции 1794 года, умеренные республиканцы и даже якобинцы и демагоги. В этой классификации каждый получил свое персональное место. При этом автор письма подчеркивал, что не знает таких поляков, которые бы симпатизировали России, Австрии или Пруссии и не были бы готовы по первому сигналу взяться за оружие и проливать кровь за родину независимо от их партийной принадлежности и политических пристрастий.
Сулковский рекомендовал Киркору сообщить Вернинаку те сведения, которые он сам сочтет нужными, и постараться не навредить общему делу поляков, компрометируя фамилии названных в письме лиц. Он настаивал, чтобы Киркор сразу же сообщил о моем приезде в Константинополь. Советовал ему сблизиться со мной и относиться ко мне с полным доверием, так как я не принадлежу ни к какой партии, имею собственное мнение, поколебать которое никому не дано, и работаю исключительно по своим убеждениям и принципам долга и чести, делая все возможное для успеха и благополучия соотечественников.
17 июля. Все новости, полученные в последние дни, могли вывести из равновесия самого смелого и решительного человека, и только убежденность в том, что ты должен быть готов на любые жертвы ради служения родине, дала мне новые силы достойно встретить очередные нелегкие испытания.
Здоровье мое совсем расшаталось, финансы были на исходе. Своими деньгами я делился с соотечественниками, приезжающими в Константинополь без всяких средств к существованию. Французская миссия могла оказать им лишь очень слабую поддержку. Я устал от туманных обещаний и неопределенных обнадеживающих заверений Вернинака. Выводила из терпения двусмысленная позиция турецкого правительства. Удручало бесконечное ожидание новостей из Парижа. Ничего кроме отчаяния не вызывали мысли о разногласиях в рядах соотечественников во французской столице…
Я начал сомневаться, кому все же следует посылать корреспонденцию в Париж. Если вначале все материалы от депутации приходили ко мне за подписью всех пяти ее членов, то последний документ подписал лишь один человек. Присланная недавно гражданином Барсом аналитическая записка, о которой я уже говорил, была подписана многими соотечественниками. Среди них фигурировал и Прозор, чьи патриотические чувства и человеческие качества вызывают у меня глубочайшее уважение. Однако до этого я полагал, что Прозор является членом депутации.
Пребывая в таком недоумении, я все же принял решение поддерживать связь с депутацией, так как надеялся, что ее представители будут передавать мои сообщения всем польским патриотам независимо от их партийных симпатий.
В тот же день подготовил письмо депутации, сделав ссылку на предыдущие отчеты, дубликаты которых обещал передать по надежным каналам. Я сообщил о прибытии в Константинополь Стеммати и Парандье. Первый был назначен консулом Франции в Валахии, другой – в Молдове. Правда, с момента принятия этого решения в Париже кое-что изменилось, так как турецкое министерство не горело желанием во всем идти навстречу Франции. И я даже допускал, что у Стеммати, грека по происхождению, возникнет немало трудностей при утверждении в должности консула.
Разумеется, я не мог не проинформировать Париж о том, что на днях в Константинополь прибыли четыре польских офицера: Жодкевич, Улатовский, Кошуцкий и Дзимирский. Узнав о том, что польские военные съезжаются в Валахию, эти офицеры покинули Польшу, беспрепятственно проехали через Галицию и присоединились к своим братьям по оружию. По этому маршруту проследовали и многие другие офицеры, несмотря на наши письма, в которых мы обращались с просьбой ко всем польским солдатам и офицерам не покидать родных мест и ждать момента, чтобы послужить родине.
Я дал знать депутации, что по информации, полученной от секретных источников из Польши, Варшава отказалась воздать почести министру короля Пруссии, аргументируя это тем, что город Варшава всегда являлся столицей польского королевства и резиденцией своих монархов. А это означало, что Варшава могла дать клятву верности только самому королю. После чего монарх Пруссии отозвал в Берлин Хойма, вернул на родину прусских чиновников, работавших в администрации Варшавы, заменив их на поляков, и отправил Бухгольца в Бреслау.
Из тех же заслуживающих доверия источников явствовало, что дорога от Кракова до границы с Россией совершенно свободна. Военных нигде не видно. Восстановлены пути сообщения между Галицией, Волынью и Литвой. Однако по состоянию на 3 июня въехать в Великую Польшу было еще невозможно.
Я уведомил парижских соотечественников о том, что, согласно последним сообщениям из Вены, особую актуальность приобретает вопрос о заключении мира с Францией, и в этой связи обращался к депутации с просьбой походатайствовать перед французским правительством о включении в текст будущего договора с Венским двором статьи в поддержку поляков и восстановления Польши.
В последних строках своего послания я упомянул о письме Барса, подтвердил получение всех документов от Стеммати и умолял соотечественников хранить единство и согласие, без чего наши планы обречены на провал и все старания наши напрасны.
Вечером того же дня, 17 июля, я понял, что путь в Турцию для польских военных далеко не всегда такой простой, каким он оказался для четверых офицеров, о которых говорилось выше. Мне доложили, что на турецкой границе были задержаны десятки наших военных. У них отняли последние деньги и вещи. По требованию консула России в Яссах арестовали девять польских офицеров. Их якобы совсем недавно освободили из цепей пленников. При этом представитель Франции в Валахии и Молдове Эмиль Годен на все это никак не отреагировал. Я вынужден был немедленно написать Вернинаку.
«Гражданин Вернинак! Огромное количество польских офицеров, избежавших смерти и неволи во время последнего восстания в нашей стране, стремится уйти от преследования врага. Найдя убежище за границей, они уповают на судьбу, на защиту французского правительства, на поддержку государств, в которых видят естественных союзников Польши. Эти люди ждут не дождутся, когда наступят перемены в их многострадальной стране, когда придет конец их мытарствам.
Россия и Пруссия искушали многих из них, предлагая службу в своих войсках. Наши офицеры отвергли эти предложения, так как отлично осознавали, что человек, принявший их, дорого заплатит за это и навсегда искалечит свою душу. Они отказались служить угнетателям своей страны. Их не прельстили обещанные щедроты и не испугали неизвестность и превратности судьбы. Все их состояние, утешение и надежды зиждутся на стойкости и патриотизме.
Практически все наши офицеры-патриоты испытывают к французскому народу чувства восхищения и восторга, которыми вдохновляются все друзья свободы. Польские офицеры связывают возрождение родины с Францией и готовы рядовыми сражаться в рядах отважных республиканцев, чьи победы ставят в унизительное положение врага, приносят новую славу Французской республике и создают благоприятные условия для оказания помощи слабым и угнетенным.
Вот такими благородными чувствами, гражданин Вернинак, охвачены польские офицеры. И мне очень хотелось бы, чтобы вы проявили к ним интерес и уважение, которые они вполне заслужили.
Я не буду говорить о тех, кому повезло, и кто уже нашел свое место во французской армии. Я не стану говорить о тех, кто лелеет такую надежду. Я не собираюсь говорить о тех, у кого есть возможность жить на собственные средства, не рассчитывая на помощь из-за границы. Но я хотел бы привлечь ваше внимание к тем польским военным, которые не смогли добраться до Франции и теперь страдают в бедности и нужде на турецких границах. У них нет безопасного убежища, нет никакой поддержки, и ни одна рука не протянется к ним, чтобы облегчить их участь.
А у них было столько надежд, что в турецких провинциях они найдут себе приют и будут в безопасности.
Они верили, что могут рассчитывать на такое гостеприимство, которое поляки всегда оказывали туркам, в частности, после последней кампании, когда варшавяне согрели иноземцев уважением и заботой.
Они нисколько не сомневались в благосклонности правительства, которое призвано решать вместе с поляками единую задачу: предотвращение угроз и опасностей со стороны общего врага, стремительно наращивающего свое могущество.
Более того, они убеждены, что это правительство не останется безразличным к их судьбе и глухим к их просьбам. Весь вопрос в том, чтобы раздался голос, который будет услышан.
Я обращаюсь к вам, гражданин Вернинак, представителю благородного и великодушного народа, который сокрушает угнетателей невинных жертв и обороняет угнетенных, и прошу вас, чья тонкая душа умеет сочувствовать страдающим людям, стать глашатаем польских военных. Поверьте, они очень нуждаются в вашем содействии.
Гражданин Вернинак! Пожалуйста, не откажите в любезности и постарайтесь довести до сведения турецкого правительства, сколь гуманным и полезным для страны стало бы открытие границы и оказание помощи несчастным офицерам, готовым проливать свою кровь за Турцию. Извольте обратить внимание руководства Турции на преимущества, которые оно получит, если определит место сбора польских военных, откуда они по первой команде смогут приступить к боевым действиям. Соблаговолите также дать понять турецкой стороне, что политические соображения и несомненная выгода стали бы хорошей подоплекой такого демарша.
Не следует опасаться, что эти шаги Турции вызовут подозрения и жажду мести соседней державы. Такой чудовищный и грозный враг не ждет повода для развязывания войны и захвата чужих земель.
По моему глубокому убеждению, Оттоманская Порта не должна равнодушно взирать на то, что выпало на долю Польши. И я предвижу, что турецкое правительство с живейшим участием отнесется к бедственному положению польских офицеров и их просьбе о предоставлении убежища и помощи.
Во все времена Франция была дружественной страной для поляков и открыто защищала моих сограждан в эмиграции. Во всех дружественных и даже нейтральных государствах, которые не участвовали в недавних событиях в Польше, поляки находят приют и покровительство властей. Я не вижу причин, по которым поляки перестали бы питать надежды, что турки дадут пристанище и окажут содействие представителям государства, которое они всегда рассматривали как дружественное и как естественного союзника.
Гражданин Вернинак! Я второй раз позволяю себе обратиться к вам по этому вопросу. Я не испытываю никакой боязни, беспокоя вас от имени польских офицеров, умоляющих вас о посредничестве, а также от имени моих соотечественников, уполномочивших меня на эту миссию.
Буду весьма признателен за ваш ответ, который позволит мне показать моим доверителям, что я добросовестно выполнил свои инструкции. Мне очень хочется утешить и поддержать этих смелых офицеров. Все свои надежды они возлагают на ваше великодушие и ваше влияние в Оттоманской Порте.
Михал Огинский».
Глава VIII
20 июля, как обычно, я отправился на прогулку по Кампо дей Морти. Закурил трубку, остановился и, как принято в этой стране, заказал чашечку кофе. И тут ко мне подходит турок лет пятидесяти и начинает говорить по-французски. Оказывается, он уже много недель постоянно следит за мной и только позавчера узнал от гражданина Руфена, секретаря посольства Франции в Константинополе, что я поляк. Именно поэтому он не побоялся подойти ко мне и дать кое-какие полезные советы.
Человек признался, что по происхождению он француз. В двадцатилетнем возрасте стал вероотступником. Его турецкое имя – Ибрагим. Судя по умению вести разговор, он много путешествовал и получил неплохое образование. Во время предпоследней войны попал в плен к русским. Но счастье ему улыбнулось: он и еще трое турок вырвались из плена и дошли до Варшавы, где их по-человечески встретили и бескорыстно во всем помогли. А Ибрагиму, владеющему французским языком, было оказано столько уважения и доброжелательности, что он до сих пор забыть не может свое пребывание в Польше. Он рассказал мне о польском короле, о его братьях, о некоторых высокопоставленных государственных деятелях, с которыми был знаком. Я услышал много верных и точных суждений о деловых и личных качествах этих людей. Он восторженно вспоминал дам, которым был представлен, и даже похвастался, что повсюду его называли красавцем-турком. Ибрагим утверждал, что ему предлагали остаться на постоянное жительство в Польше, однако обстоятельства, которые он не пожелал раскрывать, вынудили его уехать на приемную родину. Здесь он стал достаточно влиятельным человеком, разбогател и занял прочное положение, породнившись с семьей предыдущего великого визиря.
Ибрагим не скрывал, что чувство благодарности за то, как его приняли в Варшаве, породило в нем интерес к польскому народу, и он всегда был в курсе всех событий в Польше.
Мой новый знакомый догадывался, что мое пребывание в Константинополе так или иначе связано с Польшей и ее нынешними трудностями. Он старался убедить меня, что, несмотря на все уважение, которое оказывалось представителю Французской республики, посол России имел значительно больший авторитет в Константинополе. По мнению Ибрагима, российский дипломат был действительно умным и мудрым человеком, который не жалел денег на расширение круга приверженцев России в Турции. А Вернинак делал упор на триумфальные победы французских войск и на свой надменный деспотический тон в общении с турецкими министрами, совершенно не думая о щедрых дарах на приобретение новых друзей Франции.
Ибрагим уверял меня, что единственным человеком, кто испытывал к французам добрые искренние чувства, является великий государь. Если же в министерстве и найдется несколько чиновников, выдающих себя за сторонников французской государственный системы, то это подхалимы. Из страха либо лести они только притворяются, что разделяют чувства своего хозяина, и получают выгоды, поддерживая интерес правителя к нововведениям во Франции. В целом же, по мнению моего собеседника, туркам не нравились эти новшества, хотя его соотечественники любили французов и ненавидели русских. Причиной тому было следующее: русские причинили туркам много горя, а во французах они надеялись увидеть своих друзей и союзников, которые их защитят и пойдут войной на Россию.
«В нашей стране, однако, – заявил Ибрагим, – от народа ничего не зависит. Все решает правительство. И хорошо еще, что на его решения могут оказывать воздействие либо страх, либо золото».
Рассказал он мне и о Декорше, предшественнике Вернинака. Французский дипломат любил надевать длинную шубу, феску и мог часами просиживать в кафе, подробно излагая потрясающие, почти сказочные новости о достижениях французов. Декорш так высоко превозносил Францию, так страстно говорил о ненависти французов к русским и об их теплом отношении к туркам, что свободных мест не было не только в кафе, но и в ближайших лавочках. Люди ловили каждое его слово и видели в нем нового пророка. Однако пока народ восторгался речами Декорша, в Париже уже решался вопрос о его отзыве из Константинополя.
«Я часто встречался с Декоршем, – добавил Ибрагим, – и мне было интересно наблюдать, как его воспринимали окружающие. Хотя на мне турецкий фрак, сердце у меня французское, и я от всей души желаю добра этой стране».
С Вернинаком Ибрагим тоже был знаком, но виделся с ним редко, так как находил в нем много высокомерия, тщеславия и умственной лени. По мнению моего собеседника, Вернинаку не удалось достичь успехов в Константинополе, потому что он лишен таланта общения с людьми, не умеет нравиться им, и в особенности из-за того, что никогда не делал никаких подарков от имени своего правительства.
Приближалась ночь, и мы расстались. Ибрагим пообещал вернуться к нашему разговору и порою передавать мне необходимые сведения, когда мы случайно встретимся в этом же месте. Приходить ко мне домой было небезопасно, так как это могло вызвать подозрения у представителей некоторых иностранных держав.
Перед самым уходом Ибрагим предупредил меня, что молодой грек Дмитрий, которого я взял к себе на службу, является шпионом. Каждый день, утром и вечером Дмитрий посещает русскую миссию и докладывает о моих делах, о людях, с которыми я встречаюсь, о получаемых и отправляемых мною письмах. Более того, по наблюдениям Ибрагима, еще несколько греков ходят за мной по пятам и шпионят, как только я появляюсь на улицах Пера. В довершение всего Ибрагим попросил принять во внимание, что посол России прекрасно осведомлен обо всем, что делается в канцелярии Вернинака, в том числе и о моих визитах к нему[64].
30 июля я сообщил депутации о приезде в Константинополь гражданина Эмиля Годена. Он прибыл из Бухареста в сопровождении поляка по фамилии Дениско. При Декорше Эмиль Годен был первым секретарем посольства в Константинополе. После отъезда главы миссии являлся временным поверенным в делах, а когда руководство посольством взял на себя Вернинак, Годен был назначен посланником в Валахии и Молдове, где проявил себя как настоящий республиканец и искренний друг поляков[65].
Я проинформировал парижских соотечественников, что Вернинак получил неподтвержденные сведения о вступлении русских в Галицию. Не вызывало сомнений, однако, что после ряда поражений персидской армии от российских войск правительство Персии обратилось с просьбой о помощи к Оттоманской Порте в соответствии с договором между обоими государствами. Двадцатитысячная турецкая армия вышла из Адрианополя и направилась в сторону Филиппополя. Правда, не совсем ясно было, насколько далеко она продвинулась.
Я известил депутацию, что несколько дней назад Вернинак предложил вместе с ним пересечь канал и побывать в Азии. Он обещал организовать обед с хорошо известным мне человеком, который знает немало интересных подробностей о положении дел на моей родине.
Я был очень удивлен, когда увидел перед собой господина де Ла Тюрби, которого частенько видел в Петербурге в 1793 году. В ту пору он был министром сардинского короля. На этой должности он находился семь лет, хорошо знал Россию, и мы как завороженные слушали повествование бывшего министра.
Он подробно рассказал, как в Петербурге восприняли польское восстание 1794 года. Одни симпатизировали восставшим. Другие занервничали и забеспокоились. А больше всего толков велось вокруг просчетов и ошибок руководителей восстания и причин его поражения.
Де Ла Тюрби уточнил, что с польскими пленными, находящимися в Петербурге, обращаются хорошо, но основная часть захваченных в плен поляков сослана в Сибирь. Тюрьма, в которой сидит Костюшко, – это вполне удобное жилище. Там он может читать, рисовать, работать за токарным станком. У Игнация Потоцкого тоже приличные условия. Окна его квартиры выходят на улицу, откуда прохожие могут видеть узника. Зубов, как всегда, на коне. Его секретарь Альтести, попавший в немилость, на некоторое время был отстранен от дел, но сейчас вновь в фаворе.
Численность русской армии в Польше, со слов господина де Ла Тюрби, достигла ста восьмидесяти тысяч человек. Войска растянулись в линию от Либавы до границы с Турцией. Сорокатысячной армией командовал князь Репнин, шестидесятитысячной – Румянцев и восьмидесятитысячной – Суворов, который отвечал за охрану южных границ России. Впрочем, господин де Ла Тюрби был склонен считать эти цифры завышенными, и в войсках Суворова, по его мнению, было не более шестидесяти тысяч бойцов, с которыми командующий проводил бесконечные учения и маневры. Теперь, после предательства Швеции, именно эти войска могли реально угрожать Турции.
Господин де Ла Тюрби только что проехал всю Польшу, десять дней пробыл в Витебске в Белой Руси и на все лады восхвалял энтузиазм, силу и патриотизм поляков, которые потерпели поражение только в силу неблагоприятно сложившихся обстоятельств. Один за другим он приводил факты, когда поляки не скрывали своей ненависти к русским, в том числе и в провинциях, которые мы потеряли после первого раздела Польши в 1773 году.
Рассказ де Ла Тюрби так поразил Вернинака, что он не только написал отчет об этой встрече французскому правительству, но и подготовил проект, согласно которому поляки могли переходить к активным действиям, как только они соберутся в достаточном количестве в Валахии и Молдове. Вернинак прислал мне этот проект. Он был очень похож на план, ранее представленный польской депутацией в Париже. Правда теперь, когда стало ясно, что Стокгольм и Петербург пошли на сближение, возникло много сомнений, что турки приступят к активным военным действиям. Вполне вероятно, что такую активность могли стимулировать маневры польских военных на турецких границах либо присутствие французского флота в районе Архипелага.
Завершая свой отчет депутации, я указал, что турецкое министерство чинило много препятствий для вступления в должность Стеммати в качестве консула Франции в Валахии. Главной причиной здесь было греческое происхождение кандидата. В конце концов, веские доводы и даже угрозы главы французской миссии в Константинополе сделали свое дело, и турецкое ведомство уступило.
8 августа представители Галиции Рымкевич и Яблоновский получили письма от своих доверителей с претензиями за непростительное бездействие, когда само время и обстановка требовали конкретных дел. В письмах также содержались упреки за молчание представителей, которое в Галиции никто не мог понять и объяснить.
Подобные упреки приходили и в мой адрес из Дрездена и Венеции. Кое-кто даже пытался обвинять нас за упадок духа и равнодушие в рядах наших соотечественников в Польше.
Для того, чтобы поднять настроение моих сограждан и донести до них всю правду, я принял решение направить полковника Яблоновского[66] в Галицию с поручением довести до сведения жителей, поддерживающих краковский акт конфедерации, всю информацию о моей работе в Константинополе. Затем Яблоновский должен был поехать в Варшаву и, если позволят обстоятельства, встретиться с нашими общими друзьями и подробно рассказать им, чем мы занимаемся в Константинополе. После этого Яблоновскому предстояла поездка в Париж, где он должен был поделиться сведениями об обстановке в Галиции и Польше. По моей просьбе Яблоновский увез с собой корреспонденцию для депутации в Париже, а также мои письма Барсу, Выбицкому, Прозору и другим. В этих письмах я убеждал всех в необходимости восстановления единства и согласия соотечественников в Париже.
10 августа пришлось отложить отъезд Яблоновского до прибытия курьера с новостями из Парижа, которых я уже довольно давно не получал.
Перед моим приездом в Константинополь Вернинак использовал поляка Дениско с той же целью, с которой Яблоновский теперь собирался ехать в Галицию и Польшу. Вместе с Эмилем Годеном Дениско недавно вернулся из Бухареста, так и не выполнив поставленной перед ним задачи. Вернинак рекомендовал мне сразу же отправить его и недавно прибывших польских офицеров в Бухарест. Содержать их было дороговато, а главное, что их нахождение в Константинополе доставляло определенные неудобства турецкому министерству. Непросто было мне добиться, чтобы Дениско и Жодкевич остались здесь на моем содержании.
В тот же день, 10 августа, более двухсот французов, проживающих в Константинополе, собрались во дворе резиденции Вернинака, чтобы отметить национальный праздник. Был роскошный обед. Все радовались, веселились. Звучали заздравные тосты, в том числе и за благополучие Польши. После отъезда Декорша такое я слышал впервые. Все французские гости с восторгом отзывались о моей родине.
12 августа получил письмо от гражданина Ксаверия Дамбровского из Бухареста. Он сообщал, что прибыл в этот город, имея указание и инструкции польской депутации о работе в качестве представителя в Валахии и Молдове. Поскольку на этот счет у меня не было никакой информации, я ограничился довольно сдержанным ответом.
В тот же день, гуляя по Кампо дей Морти, встретил турка Ибрагима. После нашего первого свидания я виделся с ним много раз, но ничего интересного от него не услышал. Теперь же он со всей уверенностью заявил, что все попытки Вернинака воздействовать на турецкое правительство, чтобы оно утвердило назначение Стеммати консулом в Бухаресте, бесполезны, так как имеется давний указ султана, который не позволяет иностранным правительствам использовать греков в таком качестве. По секрету Ибрагим рассказал, что со дня на день в турецком министерстве произойдут большие перемены, и Россия значительно усилит свое влияние на руководство Турции. Он добавил, что Россия подкупила фаворита матери султана, который выступает против войны с русскими, борется со всеми нововведениями и имеет огромный вес в правительстве.
17 августа в отчете для депутации я сообщил, что французские офицеры, отправленные Вернинаком для несения службы в персидской армии, доберутся до театра военных действий через двадцать дней. Четыре недели им понадобилось на то, чтобы прибыть в Багдад, и еще семнадцать дней, чтобы добраться до населенного пункта, откуда они отправили свое первое донесение. Их прекрасно встретили на границе, затем по ходу движения оказывали радушный прием и снабжали всем необходимым. Французов заверили, что их тепло примет сам Мехмед-хан, возглавивший трехсотпятидесятитысячную армию для борьбы с Россией.
Я написал также, что около двадцати дней между Вернинаком и турецким министерством царило взаимное непонимание. Все инициативы и предложения французского представителя в турецком ведомстве услышаны не были. Вернинак не только выразил свое недовольство, но и дал понять, что будет вынужден покинуть Константинополь, если и впредь его заявления от имени Французской республики останутся без внимания.
Не на шутку встревоженный великий визирь прислал к Вернинаку своего зятя, который заверил, что его тесть всегда был и остается преданным интересам Франции. И если все же турецкое министерство несвоевременно реагировало на обращения Вернинака и в своих ответах давало слишком расплывчатые формулировки, то виной тому – один-единственный человек, который очень скоро лишится своей должности и будет заменен. Доверенное лицо великого визиря также сообщило, что отношения между Россией и Турцией испортились до такой степени, что осталось лишь формально объявить войну.
Я присутствовал при этой беседе, и Вернинак попросил меня о ее содержании доложить в Париж. Поразмыслив, он усомнился, что Турция начнет войну до конца нынешнего года, так как войска, дислоцированные на азиатской территории, уже получили приказ о возвращении в расположение своих частей. А вот весной будущего года война станет неизбежной. И, как обычно, Вернинак посоветовал полякам не терять терпения и стойкости, беречь силы и т. д. и т. п.
Свой подробный отчет я дополнил новостью, полученной в самый последний момент: отстранены от своих должностей министр иностранных дел и главный драгоман Оттоманской Порты. Место первого занял Аскир-эфенди, служивший когда-то послом в Петербурге, а второго – князь Ипсиланти, сын бывшего господаря Валахии.
20 августа встретился с турком Ибрагимом, к которому я стал относиться с большим доверием после предсказанных им перемен в министерстве. Он охарактеризовал нового министра как чиновника, лишенного всяких способностей, а Ипсиланти – как умного и очень образованного человека. И тот и другой симпатизируют России. Ибрагим вновь посетовал на то, что руководство Франции прислало сюда такого ленивого и пассивного дипломата как Вернинак, который палец о палец не ударил, чтобы хоть как-то помешать росту авторитета и влияния посла России среди членов правительства.
Мой собеседник уточнил, что уволенных в отставку министра и князя Мурузи ждет ссылка. Последнего должны были сослать на остров Кипр, но большие деньги помогли ему получить разрешение на проживание на острове Хиос. Его брата, господаря Валахии, тоже лишили должности и поставили на его место князя Ипсиланти, отца нового драгомана. По всей видимости, грозит отставка и господарю Молдовы Каллимаки, которого должен сменить князь Суза.
По информации Ибрагима, великий визирь не удержится на своем посту, и на смену ему скорее всего придет Хаки-паша, командовавший войсками, которые воевали с мятежниками в Румелии. Ссылаясь на надежные источники, Ибрагим утверждал также, что бывший великий визирь Юсуф-паша, прославившийся своими военными подвигами, отозван из армии и уже едет в Константинополь, где ему предложат если не пост великого визиря, то, по крайней мере, должность крупного военачальника.
Глава IX
21 августа депутация поручила мне вступить в активную переписку с адъютантом Бонапарта Сулковским. В то время оба они находились в Италии.
Выполнить это поручение было не так просто. И все же адресат получил мои два письма и передал свой короткий ответ через одного французского офицера, который направлялся в Персию проездом через Константинополь. Сулковский дал мне понять, что не мог в данный момент обстоятельно поговорить с Бонапартом о польских делах, так как генерал полностью поглощен разработкой военных операций в Италии. Сулковский настоятельно советовал мне прислать письмо от имени наших соотечественников, которое, как он утверждал, будет воспринято со всей благожелательностью. Далее в письме Сулковского было ясно сказано, что если мы сможем заинтересовать генерала Бонапарта, то наши надежды на возрождение отчизны обретут реальную поддержку, так как Наполеон уже пользуется доверием всех французов, и недалек тот день, когда он возглавит правительство.
Следуя этому совету, я подготовил настоящее письмо, датированное 10 августа 1796 года. Отправлено оно было с курьером Вернинака, который вез очень важные документы прямо в штаб Бонапарта:
Гражданину Бонапарту, командующему Итальянской армией
«Гражданин генерал! Если бы понадобилось характеризовать славу французского народа лишь победами и завоеваниями, если бы речь шла только о том, чтобы воздать вам должное как защитнику и достойному гражданину отчизны, и если бы ваше честолюбие ограничилось уже одержанными победами над врагом, а также уважением и восхищением всей Европы, вы уже теперь могли бы укротить страсть к подвигам и спокойно почивать под сенью лавров.
Пройденный вами блестящий, опасный и рискованный жизненный путь уже уготовил вам достойное место рядом с выдающимися людьми, память о которых донесли до нас древние летописи. И во всей Франции, и у семейного очага вы получите в награду благодарность герою, сражавшемуся за утверждение мира в Европе, за благополучие, славу и могущество вашей родины.
Но еще остаются, гражданин генерал, и другие вопросы, достойные вашего внимания. Несмотря на все успехи, ваше сердце по-прежнему слышит вопли страждущих и кровью обливается при одном лишь упоминании о тысячах и тысячах несчастных, уповающих на спасение, которое они связывают с Францией.
Пятнадцать миллионов некогда независимых и свободных поляков, волею судеб ставших ныне жертвами, устремляют свои взоры на вас. Они очень хотели бы преодолеть этот барьер, отгораживающий их от вас, чтобы разделять ваши опасности, увенчать вас новыми лаврами и добавить ко всем вашим титулам еще один – Отец угнетенных.
Гражданин генерал! Не предавайте забвению этот народ, чьи горести и невзгоды никого не оставляют равнодушным. На него обрушились страдания только за то, что он осмелился выступить за свободу и независимость своей родины. Вы, гражданин генерал, являетесь одним из тех, кто в состоянии помочь полякам сбросить ненавистное унизительное ярмо, нести которое уже нет терпения и сил. Как французский гражданин вы найдете многочисленные побудительные причины, чтобы вызволить поляков из беды. Ваши высокие патриотические чувства и ваш талант военачальника помогут вам одолеть любого врага.
Пока живет и здравствует Франция, поляки не будут обречены на то, чтобы влачить на себе цепи рабства. И даже если бы эта радующая душу истина не имела под собой такой надежной основы как схожесть чувств, сближающих наши народы, то неужели мы не могли бы рассчитывать на братскую помощь и поддержку французов в ответ на нашу дружбу и доверие к ним?
Поторопитесь, гражданин генерал, известить весь мир, что Франция гордится тем, что поддерживает слабых и несет благополучие всем народам, взывающим о помощи! Поторопитесь исполнить наши желания и чаяния! Восстановите политическое равновесие в Европе, вернув свободу и независимость народам, у которых их отняли! И пусть от центра Италии до истока Борисфена[67] народы, вновь обретшие свои права, воздают славу вам – другу рода человеческого и воину-освободителю!
Михал Огинский»[68].
31 августа. Со дня на день ждем приезда Обера дю Байе. Он давным-давно выехал из Парижа и по последним сообщениям уже находился в Боснии. Турецкое правительство дало указание гражданским и военным властям страны оказать высокие протокольные почести прибывающему послу Франции. По поручению французской миссии нового руководителя посольства должен был встречать переводчик Пюзитц.
Вернинак, который никогда не был склонен к принятию быстрых оперативных решений, и вовсе оцепенел, когда узнал, что его преемник уже в Боснии. Не желая вникать в суть дела, он перенаправлял все вопросы, поступающие в миссию, на рассмотрение нового посла.
Во время ежедневных прогулок Вернинака по константинопольскому каналу я частенько сопровождал его, чтобы вновь и вновь напоминать ему о моих соотечественниках. Французский представитель любил повторять, что дело наше правое, и от всей души желал успехов Польше. Этим, собственно, и ограничивались его добрые услуги для нас.
Однажды Вернинак сказал мне, что князь Ипсиланти, новый драгоман Оттоманской Порты, долго его расспрашивал обо мне и высказал пожелание встретиться со мной. В этом мой французский собеседник увидел добрый знак и предположил, что Ипсиланти, очевидно, намерен занять благожелательную позицию к делу поляков. Я не разделял эту точку зрения: из сообщений Ибрагима и других источников я хорошо знал о пророссийских настроениях Ипсиланти.
Целый день 15 сентября я просидел без дела, как и французский представитель, на которого мы возлагали все наши надежды. Я даже упустил возможность получить информацию от Ибрагима и от одного очень осведомленного грека, большого сторонника Франции. Частые встречи и беседы с ним всегда обогащали меня новыми знаниями о Турции и рассеивали тревогу за будущее Польши. Первый отправился в путешествие на острова Архипелага, а второй сопровождал князя Мурузи в его отшельничестве на острове Хиос.
Новости из Парижа приходят нечасто. Из Венеции постоянно сообщают об успехах Бонапарта. В Польше, как нам пишут, царит всеобщее недовольство, обстановка накалена до предела. Наши возможности общения с родиной очень ограничены, и мы ничего не знаем ни о планах, ни о способах борьбы с захватчиками. Похоже, наши соотечественники полностью полагаются на переговоры парижской депутации, а также на усердие и работу своих представителей в Константинополе и Стокгольме.
Как только Россия и ее северная соседка пошли на сближение, рассчитывать на поддержку Швеции не приходилось. Надежды на активные действия Турции таяли с каждым днем. И все же одно неожиданное событие не могло не порадовать.
После того, как Дамбровский приехал в Бухарест, около двух тысяч бывших польских военных различных воинских званий прибыли в Валахию и Молдову. Они расположились вдоль границы и даже внутри страны, и пока что их никто не тревожил. Однако чувство страха, что их изгонят, а то и передадут в руки русских, вынудило поляков обратиться ко мне с докладной запиской. Соотечественники просили меня, чтобы я попытался получить у великого государя документ – фирман, гарантирующий им защиту на территории страны, которую они избрали для своего убежища. Я передал эту петицию Вернинаку. Через несколько дней он ответил, что получить фирман нам не удастся, а правительство направило господарям Валахии и Молдовы распоряжение не только не препятствовать сосредоточению польских военных в этих провинциях, а, наоборот, благожелательно их встречать и в случае необходимости защищать. При этом перед поляками ставилось единственное условие: вести себя корректно, не причиняя беспокойства местному населению и не компрометируя турецкое правительство перед Россией.
Поскольку мне пришлось по ряду причин отложить отъезд Яблоновского, которому еще предстояло пройти в пути карантин, и он никак уже не успевал прибыть в Париж в желаемые сроки, 24 сентября я вручил гражданину Вернинаку все материалы, и он отправил их со своим курьером в Венецию. Это значительно сокращало сроки доставки корреспонденции: пока курьер из Константинополя проходил в Венеции карантин, другой курьер сразу же увозил прибывшую почту в Париж. В итоге получалось, что документы Вернинака для Директории приходили в Париж за двадцать – двадцать четыре дня.
Несмотря на все меры предосторожности далеко не все мои письма доходили до адресатов. Одно из своих посланий в депутацию я полностью зашифровал и отправил венской почтой на адрес купца, которому вполне доверял.
Я разъяснил депутации причины, по которым был вынужден прибегнуть к такому способу переписки, вкратце рассказал о поляках в Валахии и Молдове, а также сообщил о назначении Али-эфенди послом в Париже. Его место в Берлине займет Нашили-эфенди. Не забыл я упомянуть, что недавно турецкая эскадра вернулась в порт с двумя задержанными мальтийскими кораблями, и что Обер дю Байе уже находился в Адрианополе и в Константинополе его ожидают через несколько дней. Я просил депутацию направлять мне письма на имя Обера дю Байе через гражданина Лаллемана, официального представителя Франции в Венеции.
1 октября французский переводчик Пюзитц, который накануне встречал Обера дю Байе, вернулся в Константинополь для организации торжеств по случаю прибытия нового посла Франции. Все французы собрались в резиденции дипломатической миссии. Было решено, что все они отправятся на лошадях встречать Обера дю Байе, когда тот окажется в трех лье от Константинополя.
Как рассказывал переводчик, Обера дю Байе везде принимали радушно и воздавали почести в соответствии с его рангом. От границы с Румелией нового посла сопровождал Хаки-паша с трехтысячным отрядом.
Я не видел необходимости ехать с французами навстречу послу и ограничился тем, что написал короткое письмо о своей работе в Константинополе и передал его переводчику.
В тот же день стало известно, что граф Кочубей, российский посол в Оттоманской Порте, будет переведен на работу в Лондон. А вечером от Дамбровского из Бухареста пришло коллективное письмо, в котором польские офицеры жаловались на господаря Молдовы и пашу Хотина за многочисленные обиды и оскорбления. В своей записке Вернинаку я изложил все претензии офицеров. Меня заверили, что турецкое министерство будет проинформировано об инциденте, и вскоре я получу благоприятный ответ.
Глава X
2 октября, в воскресенье, когда я завершал свой отчет депутации, мне сообщили, что в 7 часов вечера прибыл Обер дю Байе. Через пару часов Вернинак представил меня новому послу. Принял он меня с глубоким уважением и сказал, что рад видеть в моем лице представителя народа, чьи интересы уполномочен защищать.
Проезжая по территориям, подвластным Оттоманской Порте, Обер дю Байе открыто во весь голос заявлял, что цель своей миссии видит, в частности, и в том, чтобы отнять у России Крым и восстановить Польшу. Эти новости долетели до Константинополя задолго до приезда посла.
19 октября. Уже более двух недель ничего не писал для депутации в Париже. Все это время внимательно изучал особенности характера и политические взгляды Обера дю Байе. Естественно, меня особенно интересовали предписания, полученные послом по польским вопросам.
Новый руководитель французского посольства, конечно же, рассчитывал на триумфальный прием в Константинополе, который должен был показать иностранным дипломатам и всей общественности авторитетность и весомость дипломатической миссии Франции, с чьей позицией будет считаться сам султан и турецкое министерство. Однако Вернинак, несмотря на все старания, так и не смог получить «почетную карточку», которую иногда выдают иностранным дипломатам в знак особого расположения. Наличие такой карточки позволило бы послу и многочисленным сопровождающим лицам торжественно проследовать по улицам города до самой резиденции. Поскольку переговоры Вернинака по этому вопросу не увенчались успехом, Обер дю Байе вечером въехал в Константинополь инкогнито в сопровождении лишь тех своих соотечественников, которые встречали его в окрестностях города. От самого Парижа его сопровождали генерал Кара Сен-Сир, полковник Коленкур и довольно большая свита.
Обер дю Байе – человек благородный, располагающий к себе. Военная выправка прекрасно сочетается со светскими манерами. На первый взгляд он может показаться надменным, высокомерным, но в узком кругу – всегда любезен, общителен, красноречив. Естественная живость и энергичность придают его речи особую выразительность и убедительность. Я видел, как он встречал драгомана Оттоманской Порты и капудан-пашу. Они приехали поприветствовать его с прибытием. Как и подобает послу Франции, он принял их с чувством собственного достоинства и с той приветливостью, которая услаждает и покоряет сердца. Я видел, как через переводчика и у себя в резиденции, и на прогулках в городе он любезно общается с турками независимо от их социального положения. Он так искусно умел подать себя в выгодном свете, что очень скоро своими манерами и характером очаровал турок. И так уж получилось, что об отъезде Вернинака не пожалели ни французы, ни коренные жители Константинополя, как впрочем и я.
5 октября Обер дю Байе пригласил меня на обед. Более двух часов продолжалась наша беседа, в которой мне досталась роль внимательного, участливого слушателя. Он рассказал мне о переменах во французском правительстве, об опасностях, которые ему довелось пережить, о личных заслугах перед родиной. Ответственность за неоказание помощи погибающей Польше он возложил на анархистов и заверил меня, что теперь ситуация в стране совсем иная. Разумная взвешенная политика республиканского правительства вынудила демагогов замолчать и предоставила свободу для выражения различных политических взглядов. Военные успехи обеспечили Франции лидирующее место среди европейских держав. Переговоры, заключение выгодных и почетных для Франции мирных договоров сокращают число ее врагов и расширяют ряды ее могущественных союзников.
Обер дю Байе кратко изложил план французского правительства по ослаблению враждебных государств, которые еще могли внушать его стране некоторые опасения. Он добавил, что после победоносного похода французской армии в Италию, уже никто не ожидает никаких угроз со стороны Венского двора. А что касается России, то было бы хорошо разбудить, наконец, турок и направить их вместе с поляками к российским границам.
У посла не было никаких сомнений, что под воздействием Франции на Стокгольм и Копенгаген, а также в результате переговоров, начавшихся в Берлине, Россия наживет себе новых противников. Они нападут на русских с севера, что значительно поможет туркам вернуть себе Крым, а полякам вырвать свою страну из лап хищников.
Обер дю Байе признался, что в письменных инструкциях о Польше речь идет лишь в общих чертах. Ему рекомендовано оказывать поддержку польским беженцам в Константинополе и в провинциях Оттоманской Порты. Однако устные распоряжения Директории предоставляют ему карт-бланш, и он может действовать по собственному усмотрению в соответствии с обстоятельствами. В случае необходимости Директория обещает направить под его начало тридцатитысячную армию для совместных боевых действий с турками и поляками против России.
Затем посол стал подробно рассказывать об особенностях войны шуанов, о том, как сложно было победить их и остановить эту кровавую бойню. По его твердому убеждению полякам непременно следует взять на вооружение именно методы ведения войны шуанов, тем более, что нечто подобное они уже использовали во времена Барской конфедерации, о чем с восхищением ему рассказывали французские офицеры.
Теперь, когда почти все мои надежды рухнули, я слушал все это как завороженный, не осмеливаясь ни на секунду перебить собеседника. И лишь в самом конце я позволил себе осведомиться о том, что я могу сообщить депутации об этой встрече. Он просил уверить моих соотечественников, что с огромным вниманием и сочувствием относится к судьбе Польши, но пока что необходимо дождаться результатов моих первых демаршей перед правительством Турции, которые во многом и определят будущее моих сограждан в изгнании.
Почти каждый день я бывал у Обера дю Байе, стараясь не тревожить его и не задавать никаких вопросов. Но 14 октября на прогулке я все же рискнул спросить, доволен ли он своей работой в Константинополе, и получил, как и предполагал, дипломатический ответ. Правда, многое прояснилось, когда он добавил, что терпеть не может слово «bakalym»[69], которое слышит ежедневно и всякий раз, когда что-либо предлагает турецким властям.
После этого каждый раз, когда я встречал французского посла, он, улыбаясь, всегда повторял: «bakalym» и просил не отчаиваться, давая понять, что у него еще много веских аргументов, чтобы образумить турок.
21 октября произошло событие, которое засвидетельствовало и вспыльчивость характера Обера дю Байе, и его высокое самообладание. Как мне рассказали, в тот день рано утром в константинопольском порту сошли на берег триста французов. В основном это были ремесленники и мастеровые различных специальностей, прибывшие по приглашению султана для работы на турецких судоверфях. Многие из них, покидая корабль, нарушали порядок, хулиганили и творили бесчинства. О случившемся администрация порта направила жалобу в посольство Франции. Обер дю Байе вызвал к себе всех только что прибывших соотечественников и в довольно резких тонах отчитал их. Не стесняясь в выражениях, он пригрозил повесить каждого, на кого вновь пожалуются турки. Бедные республиканцы, только-только оставившие родину, где они отвыкли от таких речей, стали открыто роптать и требовать их немедленного возвращения во Францию. И тут посол после небольшой паузы заговорил иначе: «Не удивляйтесь, граждане, что я позволил себе разговаривать с вами в таком тоне. Моя должность обязывает меня внимательно следить за тем, чтобы ни один француз не порочил своей национальной гордости. Республиканцы не могут скандалить и бесчинствовать. Никому не позволено безнаказанно бесчестить родину. Я сейчас обращаюсь лишь к тем из вас, кто, возможно, не является французом либо не достоен быть сыном этого народа. И если среди вас есть люди, которые не способны оценить выгод от принадлежности к гражданам свободной и могущественной республики, то пусть они ропщут и стонут! А вы, настоящие республиканцы, вы прекрасно понимаете всю подоплеку моего эмоционального состояния и разделяете мои чувства. Помните, что каждый француз своим дарованием, своим словом и делом может способствовать моей миссии. И я надеюсь, вы не будете сомневаться, что сегодня я должен был поступить именно так, как это только что случилось».
Французы покидали резиденцию с возгласами «Да здравствует республика!»
Вечером того же дня мы отправились на прогулку по Кампо дей Морти. Обер дю Байе отошел в сторону от сопровождающих и взял меня под руку. Внимательно рассматривая надгробные камни на турецких и армянских могилах, он вдруг сказал, что подыскивает себе место для погребения, так как уверен, что Господь приберет его к себе в Константинополе. Мы шли и шли, пока, наконец, посол не прошептал, что здесь он не нашел подходящего места для своей могилы и предпочел бы, чтобы его похоронили во дворе резиденции у древа свободы. Я попытался превратить в шутку столь мрачное предчувствие, но он все повторял и повторял, что умрет в Константинополе и жить ему осталось не больше года[70].
23 октября получил от Сулковского письмо со штампом генерального штаба Итальянской армии под Леньяго и датой: 15 сентября 1796 года. Сулковский писал, что 8 сентября у города Бассано произошло решающее сражение, в котором французская армия взяла в плен несколько тысяч австрийцев и захватила 35 пушек. Это сражение и еще несколько боев местного значения позволят французам овладеть Леньяго. Войска третьей австрийской армии, прибывшие для обороны Италии, были разогнаны в разные стороны. Оставшиеся подразделения под командованием Вюрмсера отступили и скрылись в Мантуи.
Сулковский сообщал, что генерал Бонапарт, прочитав мое письмо, задумался, а затем сказал: «Что я должен ответить?.. Что могу обещать?.. Напишите вашему соотечественнику, что я люблю поляков и высоко ценю их. Раздел Польши – это акт беззакония, которому следует положить конец. Закончим войну в Италии, я сам поведу французов в Польшу, и мы заставим русских восстановить эту страну. Но напишите вашему другу, пусть поляки и сами позаботятся о своем освобождении, а не уповают только на помощь из-за границы. Пусть объединяются, пусть вооружаются, пусть почаще тревожат русских. Красивые речи и пустые обещания ни к чему не приведут. Я хорошо знаю дипломатический язык и безделье турок. Раздавленный и угнетенный народ может вернуть себе свободу лишь с оружием в руках».
В тот же день, 23 октября, я написал Дамбровскому о назначении генерала Кара Сен-Сира генеральным консулом Франции в Валахии и Молдове и о его завтрашнем отъезде в Бухарест.
24 октября пришли совсем неутешительные вести из Парижа. Среди членов правительства воцарился разлад. Рассудок военачальников помутился от зависти и ревности. Директория с тревогой наблюдала, как доверительно солдаты относились к Бонапарту, и как стремительно росла его слава во всей Франции. Страна пребывала в предвкушении революционных событий. Внешнеполитическая активность пошла на спад.
Обер дю Байе погрузился в раздумье, не скрывая своей озабоченности в связи с молчанием Парижа: все его депеши, посланные Директории, остались без ответа.
Из писем от парижских родственников и друзей многие французы узнавали, что король Пруссии готов подписать с Францией оборонительный и наступательный союзный договор против России и Австрии. Пруссия получит большое вознаграждение в обмен за возвращение провинций, доставшихся ей от разделов Польши, и создание конституционного польского королевства. Рассказывали, что прусский монарх якобы согласился принять эти условия лишь после того, как ему пообещали, что один из наследников королевской семьи получит польскую корону. Во Франции появилось много брошюр в поддержку такой перспективы развития событий. Одно из изданий вызывало особый интерес. Речь шла о брошюре под названием «Политическое обозрение», автором которой был поляк.
Между тем члены польской депутации в Париже, а также другие соотечественники настоятельно просили меня хотя бы на несколько недель прибыть во французскую столицу, чтобы восстановить единство в рядах наших сограждан и разработать план совместных действий на ближайшую весну. Выехать из Константинополя мне советовали поздней осенью (в такую пору турки никогда не начинают войн).
Не давали покоя новости из Валахии и Молдовы, где находилось более двух тысяч поляков. Выведенные из терпения затянувшимися переговорами с Константинополем, эти люди хотели проникнуть в Галицию и разжечь костер войны уже на территории Польши.
Напрасно писал я Дамбровскому, заклиная его во имя спасения отчизны, остудить горячие головы и не предпринимать безрассудных поступков, которые могли опорочить наше дело и погубить всех нас. Ответы Дамбровского никоим образом меня не успокаивали, и я был даже убежден, что именно он задумал план, роковых последствий которого я так опасался.
25 октября я отправил записку Оберу дю Байе с просьбой назначить мне время встречи для обсуждения очень важного вопроса. Ответ последовал незамедлительно, и вскоре я поделился с послом Франции последними новостями и своими тревогами.
Рассказ мой нисколько не озадачил Обера дю Байе. Более того, по его мнению, поляки, находящиеся в Валахии и Молдове, вполне могли установить прямые контакты с жителями Галиции, а также Польши, и запланированное дерзкое выступление моих соотечественников, возможно, принесет делу освобождения нашей родины больше пользы, чем все бесплодные переговоры, которые велись до сегодняшнего дня.
Развивая эту тему, глава французской дипломатической миссии заметно оживился. Он вполне допускал, что Турция, скомпрометировавшая себя предоставлением убежища бывшим польским военным, отныне будет вынуждена держаться настороже, прежде чем приступить к боевым операциям следующей весной.
Обер дю Байе выразил готовность назначить генерала Кара Сен-Сира во главе польских военных. Главное, чтобы их было достаточно для формирования крупного войскового соединения. Посол предполагал, что вторжение в Галицию станет очень благоприятным отвлекающим маневром для французских войск и вынудит Венский двор немедленно заключить мир. При этом Директория, как и обещала, направит тридцатитысячную армию, которую сам Обер дю Байе поведет на борьбу с русскими для освобождения Польши. И только тогда турки волей-неволей проснутся от летаргического сна.
Я впервые видел своего собеседника таким веселым и вдохновенным. Завершая свои размышления, он процитировал Вольтера:
…………… Смельчак счастливый Деяниями своими сразит того, кто долго рассуждает[71].По правде говоря, план действий моих соотечественников виделся мне несколько в ином ракурсе, и я не был уверен в столь быстром и благоприятном развитии событий, как это только что предвосхитил Обер дю Байе. Он попросил меня письменно изложить все мои соображения, чтобы еще раз хорошенько все обдумать и доложить в Директорию. Другого оракула у меня не было, и 26 октября я написал такое письмо:
«Гражданин посол! Польские беженцы, нашедшие приют в Париже, желая использовать любую возможность для возрождения своего многострадального отечества, сочли целесообразным направить своего уполномоченного в Константинополь и доверили ему выражать интересы истинных патриотов Польши в Турции. Передавая сведения о положении дел в Польше официальным представителям Франции, а также информируя своих соотечественников о планах турецкого правительства, данный уполномоченный призван осуществлять посредническую миссию между Польшей, Константинополем и Парижем.
Польщенный доверием сограждан, я охотно согласился исполнить эту роль. За семь месяцев работы в столице Турции я убедился, что правительство Франции весьма доброжелательно относится к Польше и стремится помочь полякам в решении их проблем. Этого нельзя сказать о другом правительстве, которое либо совсем не видит своих реальных интересов, либо слишком слабо и не может предотвратить тех опасностей, которые ему угрожают.
Еще четыре месяца назад, слушая заверения гражданина Вернинака, я хотел верить, что война все-таки начнется, и это вселяло надежды. Благоприятная позиция Швеции, боевой дух поляков, поддержка Франции, концентрация турецких войск на границе – все предвещало успех. Но с тех пор обстановка резко изменилась.
После предательства шведов у Турции пропало всякое желание ввязываться в вооруженный конфликт с Россией. О чем прямо было заявлено гражданину Вернинаку. Это же услышали от турок и вы, гражданин посол. Они откровенно говорят о своей слабости и бессилии, о дружеских чувствах к полякам и невозможности оказать им поддержку, о ненависти к России и боязни открыто проявить ее.
Только вы, гражданин посол, человек, обладающий качествами дипломата и воина, можете изменить политические и военные умонастроения в турецком правительстве и принудить его, если так можно выразиться, уяснить подлинные интересы Оттоманской империи. Либо ваш авторитет и ваши доводы помогут вам преуспеть в данном деле, либо это не удастся уже никому: третьего не дано.
В случае успеха поляки получили бы серьезные преимущества. Мои сограждане до сегодняшнего дня пребывают в плену иллюзорных обещаний наших союзников и потеряли из виду пути, которые им должны подсказывать боевой дух и патриотизм. В ожидании спасительных перемен, которые, возможно, наступят в турецком правительстве благодаря вашим действиям и усердию, считаю своим долгом довести до вашего сведения некоторые соображения, появившиеся в ходе наших многочисленных бесед о Польше.
1. Мне кажется, что в ближайшие полгода мое присутствие в Константинополе будет совершенно бесполезным, так как никаких военных действий против России в этот период Турция не начнет. Что касается поляков, находящихся на территории Оттоманской империи, то в вашем лице, гражданин генерал, они найдут и своего друга, и покровителя.
2. Совершенно очевидно, что французскому правительству и вам как его представителю, а также моим собратьям в изгнании важно иметь точные и подробные сведения о политических настроениях в сегодняшней Польше, о силах и средствах патриотов внутри страны. Такие сведения позволят приступить к разработке плана дальнейших операций.
3. Было бы желательно в прямом общении с членами польской депутации в Париже согласовать план военных выступлений, которые по вашей оценке только и применимы в условиях современной Польши.
4. Может статься так, что после тщательного исследования ситуации в Польше и изучения умонастроений граждан возникнет необходимость ускорить наши смелые и, возможно, слишком стремительные военные действия, которые, как вы полагаете, могут спасти Польшу и разбудить турок для совместной борьбы.
Учитывая все вышесказанное, я принял решение лично посетить польские провинции, находящиеся под господством Австрии и прусского короля.
В случае, если выяснится, что имеются все предпосылки для безотлагательного взрыва и нет никакой необходимости в дополнительной помощи, я вернусь на границу, чтобы проинформировать вас и получить от вас соответствующие указания. В противном случае я вышлю вам обстоятельный отчет о положении дел в Польше и уеду в Париж на встречу с польской депутацией.
Я установлю связь между Галицией и Бухарестом, и вы получите подробную информацию о Польше через одного моего соотечественника, который охотно согласится поддерживать с вами постоянную переписку.
Также имею честь сообщить, гражданин посол, что вместо себя в Константинополе я оставляю генерала Рымкевича, кадрового военного. У него много заслуг перед родиной, и он пользуется уважением и доверием наших соотечественников. Генерал Рымкевич будет передавать вам сообщения польской депутации из Парижа, а также новости, получаемые непосредственно из Польши.
Убедительно прошу вас, гражданин посол, рассмотреть эти мои намерения и планы на ближайшее будущее. Ваш ответ определит мои дальнейшие действия.
Подпись: Михал Огинский».
Ровно через день, 27 октября, я получил ответ посла. Полностью поддерживая мою затею лично отправиться в Польшу, он предупреждал меня о рисках и опасностях, которым я себя подвергаю. Никаких возражений у посла дерзкий план моих действий не вызвал. Наоборот, он отнесся к нему, как и ко всему делу поляков, с искренним интересом. Меня тронули забота посла обо мне и его слова о том, что он будет сильно переживать, если со мной что-либо случится.
Более сдержанно, чем в наших беседах, посол высказался о действиях польских военных в Валахии и Молдове. Он отметил, что отвага, вдохновение и активность могут принести замечательные результаты только при мудром и осмотрительном руководстве. Впрочем, и это, по мнению генерала, не всегда гарантирует успех. Бесспорным, однако, является лишь то, что добродетель всегда приносит утешение каждому, кто исполняет свой долг.
В конце письма посол утверждал, что все мои наблюдения и выводы – правильные, высказывал сожаление в связи с моим отъездом и выражал надежду, что поездка моя пройдет успешно и не причинит мне никаких беспокойств и волнений. Он убедительно просил держать его в курсе всех моих дел и писать ему при первой же возможности.
Я сознавал дерзкость своего замысла и в то же время не сомневался, что в Константинополе в эти зимние месяцы ничего полезного сделать мне не удастся. А вот поездка в Польшу и Париж давала шансы на определенный успех. Здесь, вдали от родины, я не мог рассчитывать на финансовую поддержку со стороны семьи и друзей, а деньги, которые привез с собой, разошлись на оказание помощи остро нуждающимся соотечественникам. На сегодняшний день у меня в наличии оставалось не более тысячи франков. Половину из этих денег я должен был отложить для генерала Рымкевича, который до настоящего времени не получил из Галиции никаких вестей и средств к существованию.
30 октября вместе с послом Франции мы определились, что в ближайшие дни я под видом французского купца по фамилии Мартен отправлюсь в дорогу. Посол обещал, что к моему отъезду будет готов фирман – указ султана о свободном перемещении по территории Оттоманской империи. Янычар французского посольства будет сопровождать меня до самой границы. Перед тем, как покинуть Константинополь, я должен был представить Оберу дю Байе генерала Рымкевича и передать ему копию инструкций.
2 ноября я в последний раз отобедал с послом. Должен признаться, что со дня своего появления в Константинополе он неоднократно раскрывал мое инкогнито, называя меня то гражданином генералом, то господином графом. Мне уже было неловко напоминать ему, какие неприятности могли возникнуть у меня из-за такого легкомыслия. А в тот ноябрьский день Обер дю Байе без злого умысла, сгоряча, в один момент обнажил то, о чем даже не догадывалось большинство французов, которые видели во мне своего соотечественника и называли меня не иначе как Жан Ридель. Прямо за столом, обращаясь к переводчику французской миссии Дантану, посол высказал обеспокоенность в связи с задержкой оформления фирмана для графа Огинского, отъезд которого не терпит никаких отлагательств. И тут взгляды всех присутствующих обратились на меня. Я был поражен и расстроен, понимая, какие последствия наступят для меня лично и для нашего общего дела, если представители зарубежных дипломатических миссий узнают о моем отъезде. Но слово слетело с языка, и тайна стала явью до того, как я успел покинуть Константинополь.
После обеда Обер дю Байе очень переживал и все винил себя за свою врожденную пылкость. Но что поделать? Что случилось, то случилось. Он советовал мне сразу же уезжать, как только будет готов фирман. Вручил мне письмо для генерала Кара Сен-Сира в Бухаресте, а также десятки конвертов для адресатов в Париже (если только я туда доеду). Наконец, посол передал мне секретные инструкции, написанные им собственноручно. Воспользоваться ими я должен был в случае необходимости, о чем речь пойдет в следующей книге.
книга седьмая
Глава I
4 ноября 1796 года я уехал из Константинополя. Меня сопровождали Дениско (о нем я уже упоминал), лейтенант польской кавалерии Жодкевич и янычар, который ни слова не понимал по-французски. Благо, моих знаний турецкого хватало, чтобы хоть как-то с ним общаться.
10 ноября. Позади остались Балканы – цепь крутых пустынных скалистых гор Хемус. Пересечь их можно только пешком либо на лошадях, привыкших к здешним тропам[72]. Только что проехали Румелию и Болгарию, где не так давно свирепствовала чума. Путников в дороге мы почти не встречали, так как зараза пощадила лишь немногие селения. Издалека завидев жилища, янычар во все горло начинал орать, спрашивая, была ли тут чума?.. После краткого ответа: «чок» – «да» или «йок»– «нет» мы принимали решение, продолжать путь либо оставаться на ночлег.
Поскольку в этом путешествии я мог вести дневниковые записи исключительно во время остановок на отдых, то решил до приезда в Париж опускать несущественные подробности, касающиеся лично меня, и излагать только самые важные события, даже нарушая порой их хронологическую последовательность.
По прибытии в Рущук я дал указание Жодкевичу и янычару задержаться здесь и возобновить движение ровно через сутки после моего отъезда.
Вместе с Дениско мы занялись поисками лодки, чтобы переправиться через Дунай. Река в этих местах очень широкая, а проливные дожди и сильный ветер сводили наши шансы почти к нулю. Но терять время мы никак не могли, тем более, что в Рущуке нас настигли два курьера: один русский, а другой австриец.
После трехчасовой опаснейшей и мучительной переправы мы добрались, наконец, до берега Дуная. Далее на лошадях отправились в Бухарест, где первым делом я посетил генерала Кара Сен-Сира. Я вручил ему письмо от Обера дю Байе, и мы провели весьма продолжительную беседу, из которой стало ясно, что у генерала имеется много жалоб на действия Дамбровского и других польских военных в Молдове и Валахии.
Со своей стороны, я проинформировал Кара Сен-Сира о делах в Константинополе и рассказал о цели моей поездки.
Я охотно дал согласие поселиться у Дамбровского, чтобы своими глазами посмотреть на его поведение и ознакомиться с его бумагами.
Когда я вошел в предназначенную для меня комнату, Дамбровский представил меня примерно сорока польским офицерам в разных званиях и доложил, что в настоящее время в Молдове и Валахии находится тысяча восемьсот семьдесят офицеров и солдат из Польши.
Дамбровский не был осведомлен о цели моего приезда, но знал, что у меня имеются секретные инструкции посла Франции. Мое появление в Бухаресте несколько встревожило Дамбровского, однако я сумел успокоить его и даже разговорить, подыграв самолюбию офицера-изгнанника. Через несколько дней я узнал все, что хотел. Дамбровский мог бы и поменьше скрытничать передо мной: офицеры, находящиеся в Бухаресте, которым я внушал доверие, поведали мне о его необдуманных поступках и некоторых планах.
Узнав о существовании в Бухаресте клуба, в котором собирались поляки и по очереди избирали себе председателя, я смог попасть в эту компанию. Бегло просмотрев протокол, я схватил его и швырнул в огонь. От имени посла Франции я потребовал закрыть клуб и впредь не проводить никаких подобных сборищ.
Дамбровский сам признался, что объявил себя генерал-аншефом войск Польши и Литвы и акт о присвоении ему этого звания от имени польских военных в Молдове и Валахии подписали офицеры Бухареста. Я укорял Дамбровского за такой поступок, который не был согласован ни с правительством Франции, ни с польской депутацией в Париже. В то же время я обнадежил его, что указанный документ, пожалуй, может получить санкцию посла Франции, и Дамбровский без колебаний вручил его мне.
Если акт о предоставлении Дамбровскому звания генерал-аншефа, который до сих пор хранится в приложениях к моим Мемуарам, удивил и озадачил своей непоследовательностью, а также не очень взвешенными выражениями, то план, представленный им двумя днями позже, заставил меня содрогнуться от ужаса. Ни много ни мало речь шла о том, чтобы пересечь границу Галиции и ввести туда вооруженные польские подразделения. Затем Дамбровский намеревался захватить деньги на австрийских таможнях и использовать их для приобретения военного снаряжения и привлечения новых рекрутов. После чего это войско должно было двинуться на Лемберг и попасть в этот город именно в то время, когда туда для решения своих дел традиционно съезжаются самые богатые люди со всей Галиции и Польши. Туда же стекаются и почти все капиталы провинции, завладеть которыми планировал Дамбровский. Никаких сомнений и угрызений совести на этот счет у него не было. Для успешного осуществления своего плана Дамбровский намеревался взбудоражить студентов, забивая им голову патриотическими идеями, а также вооружить лакеев и молодых рабочих, проповедуя среди них мысли о социальном равенстве. И наконец, новоиспеченный генерал-аншеф принял решение открыть тюрьмы и выпустить на свободу преступников, чтобы они обкрадывали горожан и грабили зажиточных капиталистов.
Не могу выразить, какое отвращение я испытывал к человеку, который осмелился подготовить такой преступный план. Никогда главарь бандитской шайки не смог бы придумать столь чудовищную схему!.. И все же я был благодарен Дамбровскому за его откровенность. Тщательно скрывая потрясение от плана, написанного его рукой, я не хотел раздражать Дамбровского своими укорами и порицаниями, но от имени Обера дю Байе запретил ему проводить какие-либо перемещения польских военных без согласия и разрешения посла Франции и пригрозил арестом в случае неповиновения. Я забрал с собой план вместе с пояснениями к нему, намереваясь сжечь все это, чтобы не осталось и следа от позорных бумаг, сотворенных поляком[73].
Перед отъездом из Бухареста я собрал всех польских офицеров и сообщил, что отправляюсь не в Константинополь, а в Галицию для встреч и переговоров с жителями этой провинции. Я рекомендовал офицерам проявлять благоразумие, спокойствие и не предпринимать никаких действий без ведома генерала Кара Сен-Сира, которого я уже успел проинформировать обо всем, что происходит среди польских военных.
Вместе с Дениско и янычаром мы выехали из Бухареста и направились в Фокшаны. Ехать через столицу Молдовы Яссы мне не хотелось, так как тамошний господарь был слишком предан русским, и в этом городе плохо обходились с польскими военными.
Желая ускорить наше передвижение, я оставил в Бухаресте верховых лошадей и нанял почтовый экипаж. Однако в Фокшанах выяснилось, что дальше ехать мы не можем без специального разрешения господаря Молдовы. Получить эту бумагу можно было только в Яссах. Не помогли никакие уговоры и увещевания, и я вынужден был соблюсти установленный порядок. В ночь с 28 на 29 ноября мы въехали в столицу Молдовы, где несколько дней назад были задержаны и доставлены в российское консульство многие польские военные.
Прямо у городских ворот нас остановили, и какие-то люди вознамерились проводить меня во дворец господаря. И тут янычар, который головой отвечал за мою безопасность и обещал послу Франции без всяких происшествий доставить меня к границам Оттоманской Порты, стал шуметь, скандалить и угрожать всем полицией. Он утверждал, что его господин имеет указ, подписанный самим султаном, а поэтому не нуждается ни в каких разрешениях на проезд. Янычар сурово приказал форейтору немедленно ехать на почтовую станцию. Он провел меня в помещение, а сам помчался в княжеский дворец. Там, как он потом рассказывал, при одном виде фирмана низко склонились все головы подданных султана, и никто не посмел промолвить и слова, чтобы хоть на секунду задержать отъезд французского курьера.
Пока не было янычара ко мне подходили молдавские дворяне, пытаясь выяснить, кто я такой и почему здесь нахожусь, а почтовые служащие – два молодых грека – ходили вокруг да около, не спуская с меня глаз, и, кажется, догадывались, кто я и какова цель моей поездки. Меня расспрашивали на разных языках, но я очень кратко отвечал, вперемешку используя то турецкие, то немецкие слова. В конце концов, мои лаконичные ответы утомили молдаван. Восточная манера отвечать на вопросы, мой боснийский наряд и повадки коренного константинопольца убедили их, что никакой опасности я не представляю, и меня оставили в покое. Вскоре появился янычар и радостно сообщил, что лошадей уже запрягли и можно беспрепятственно ехать дальше.
Я поблагодарил Господа за то, что удалось уйти от, казалось бы, неминуемой опасности. Впрочем, тогда я не догадывался, что меня ожидает впереди.
На пятом перегоне от Ясс я узнал о смерти российской императрицы Екатерины II, которая скончалась 17 ноября 1796 года. Эту новость мне сообщил курьер, едущий в Константинополь. Вместе с ним я обедал на почтовой станции. Этот уже немолодой, хорошо воспитанный, знающий несколько языков человек, рассказал подробности, связанные с кончиной императрицы и восшествием на престол Павла. С несказанным удовольствием слушал я слова курьера о том, что новый император начал свое царствование действительно с героических поступков. Посетив в тюрьме Костюшко, он обнял его и отпустил на свободу. Такую же доброту царь проявил к Игнацию Потоцкому, к польским узникам, томящимся в петербургских тюрьмах, а также почти к двенадцати тысячам поляков, сосланных в Сибирь. Все они получили свободу и могли возвращаться к своим семьям.
Я вне себя был от радости, и это, кажется, удивило курьера. Он поинтересовался, из какой я страны?.. Мой ответ, что я французский торговец, который едет из Константинополя в Париж, его вполне устроил и он охотно допустил, что моя радость была совершенно естественной, так как хорошо знал, с каким сочувствием французы относятся к полякам. Мой собеседник уверял меня, что император Павел очень любит французский народ и несомненно в скором времени он пойдет на сближение с правительством Франции, и все завершится заключением всеобщего мира в Европе.
Спросить у курьера его имя и где его родина не хватило смелости. Что-то мне подсказывало, однако, что он не русский, и я решился полюбопытствовать, какие дела ведут его в Константинополь. Он ответил, что ему поручена очень приятная миссия: всем полякам в изгнании он везет царские слова о мире, забвении прошлого, прощении, великодушии и благотворительности. В списке польских беженцев, к которым были обращены эти слова, обнаружилось и мое имя. От волнения я не знал куда деваться и вполне мог выдать себя, если бы тотчас не расстался с этим незнакомцем.
В дороге я погрузился в размышления… Разумеется, я не мог доверяться неизвестному человеку и не стал тешить себя надеждой, что скоро встречусь с семьей и без опасений смогу вернуться в Польшу. И тем не менее только что услышанные новости о возвышенности чувств нового российского монарха зарождали в душе хоть какую-то надежду на свидание с родиной.
Мог ли я предположить, что улучшение судьбы многих тысяч моих соотечественников принесет добрые перемены для всех остальных поляков? Мог ли резко изменить свои мысли и взгляды? Мог ли растоптать доверие своих сограждан и французского правительства? Мог ли отступиться от общего дела, которому отдано столько жертв, чтобы предаться несбыточным мечтаниям и думать лишь о собственных интересах?..
Из таких вот раздумий и сомнений меня вывела неожиданная остановка возле какой-то лачуги. Как выяснилось, это было последнее жилище на границе Молдовы и Буковины. Ферма принадлежала господину Туркулу, богатому галицийскому землевладельцу и очень порядочному поляку. По его землям, которые находились под двойной юрисдикцией, проходила разделительная линия между территориями Молдовы и Буковины, и таможенники не чинили здесь никаких препятствий для местных крестьян при их ежедневных передвижениях через границу. Большинство польских военных, направляющихся в Валахию и Молдову, именно здесь пересекало границу. Этот переход использовали и мы для быстрой и надежной связи между Константинополем и Галицией.
Управляющий фермой Гловацкий очень тепло встретил меня и провел в захудалый домишко, почти до самой крыши спрятавшийся под снегом. Там была одна-единственная темная комната с низким потолком, где ютились и домочадцы, и приезжие.
Я отправил янычара в Константинополь, передав ему письмо для Обера дю Байе, и решил переждать несколько дней перед тем, как попытаться пересечь границу.
Никто ничего обо мне здесь не знал, а Дениско, который много раз останавливался в этом домике, в открытую рассказал Гловацкому, что я являюсь важной персоной, еду из Константинополя, выполняя ответственное поручение посла Франции, и мне необходимо помочь попасть в Галицию. Наш гостеприимный хозяин немедленно отправился к господину Туркулу, чтобы обо всем ему доложить и договориться, как организовать для меня безопасный переход границы и как ускорить мой приезд в Яблонов, где мне предстояло встретиться с самыми активными патриотами Галиции.
Гловацкий блестяще справился со своей задачей и уже через день вернулся от своего господина. За это время я успел написать письма в Париж, Венецию и Константинополь. Я вручил их Дениско, который должен был оставаться на границе и ждать моих распоряжений из Яблонова.
Отъезд был назначен на следующий день, но среди ночи ко мне явились трое молдавских полицейских. В полиции узнали, что сюда приехал иностранец в сопровождении янычара, и решили допросить меня.
Я вышел из положения точно так же, как в Яссах: отвечал предельно кратко то по-турецки, то по-немецки. Кроме того, полицейские сочли меня больным и посоветовали, завтра же съездить в город на консультацию к хорошему врачу. Я обещал последовать их совету, и они ушли.
После внезапного ночного визита я решил ускорить отъезд. Дениско принял меры предосторожности и уже успел позвать к нам лейтенанта Ильинского. Этот польский беженец прекрасно знал все окольные тропы, по которым можно было незаметно пробраться через границу. В два часа ночи оседлали лошадей. Накануне выпало много снега, ударили морозы, дул сильный порывистый ветер, в ночной тьме невозможно было разглядеть дорогу. Проехать нам следовало меньше одного лье, чтобы добраться до мельницы, где нас поджидал надежный проводник. Мы блуждали добрых пять часов и только на рассвете оказались за четверть лье от мельницы. Пересекать границу средь бела дня не рискнули и остановились в крестьянской избушке, хозяина которой Ильинский хорошо знал. Промерзли до костей… То была самая ужасная ночь во всей моей жизни.
В шесть часов вечера вновь двинулись в путь. Непроглядная ночь, обильный снегопад и такой же, как прошлой ночью, ветер на этот раз помогли нам уйти от бдительных австрийских стрелков, число которых удвоилось на границе после сообщений о распространении чумы в Румелии и Болгарии. Нигде не останавливаясь, приехали к загородному дому господина Туркула. Сам он был в отъезде, но приняли нас как дорогих гостей и предложили очень вкусный обед, который оказался как нельзя кстати. Затем нам дали повозку и лошадей, и мы проехали еще не менее трех лье. После этого мы оказались без перекладных лошадей, чтобы доехать до Яблонова. Нам не успели их поставить, потому что мы выехали из Молдовы почти на сутки раньше, чем договаривались с Гловацким. Положение мое было отчаянное: транспорта нет, паспорта нет, а на руках документы чрезвычайной важности…
Выручил меня Ильинский. Он купил лошадь, сани и крестьянскую одежду. Мы переоделись и ночью 10 декабря окольной дорогой приехали в Яблонов.
Глава II
Графа Дз…, владельца здешних земель, разбудили глубокой ночью и сообщили о прибытии Ильинского, который уже много раз бывал в этом доме, доставляя важные сообщения. Каково же было удивление графа, когда он увидел перед собой усатого человека в овчинном тулупе и в боснийском наряде! Узнать меня было не так просто еще и потому, что я сильно похудел, и у меня глубоко провалились щеки.
Граф хотел было броситься ко мне в объятия, но быстро опомнившись и мгновенно осознав всю опасность, какой я подвергаюсь, а также угрозу, под которую он ставит самого себя, принимая меня в своем доме, мой старый друг задумался, как скрыть приезд Ильинского и показать, что он вовсе со мною незнаком. К счастью, все домашние спали мертвым сном. Не спал лишь камердинер, верный и преданный графу слуга. Он и получил сразу много поручений: отправить Ильинского, оставшегося недалеко от дома, аккуратно сложить все мои бумаги в кабинете графа, сбрить мне усы, надежно спрятать мой дорожный наряд и дать мне белье и новую одежду.
Приняв ванну, позавтракав, передохнув пару часов, я появился в салоне этого гостеприимного дома, позабыв на какое-то время о своих тяготах и горестях.
Как давно не ступала нога моя на польскую землю! Как давно я не жил в тихом, спокойном доме с такими удобствами!..
Граф Дз… представил меня своей супруге и дочери Анжелике, не скрывая от них моего настоящего имени. Для всех остальных я был заезжим музыкантом Рачинским, который приехал из Варшавы и остановился здесь на некоторое время по просьбе графа.
В Яблонове я провел восемь прекрасных незабываемых дней. Меня поселили в библиотеке, окружили теплом и заботой. Я великолепно проводил время в этой дружной семье: беседовал с милыми дамами, аккомпанировал на скрипке Анжелике, которая замечательно играла на пианино, часами рассказывал графу о делах в Польше, о работе в Константинополе, о наших общих планах и надеждах.
Узнав о проекте, согласованном с послом Франции Обером дю Байе, граф задумался над тем, как бы меня свести с Лещ…, Гж…, Рац…, Тж…, Нов…, которые стояли у истоков акта краковской конфедерации. О высоких патриотических чувствах этих людей, их преданности и готовности служить отчизне граф знал не понаслышке. Местные власти отличались особой бдительностью и жестокостью, поэтому граф не строил себе иллюзий на счет сложности осуществления своей затеи. Он решил перестраховаться и направил к каждому из указанных лиц надежных людей с устным приглашением собраться у него в доме.
На девятый день беззаботной жизни у господина Дз… как раз во время обеда доложили о прибытии уполномоченного округа. Он вошел в гостиную вместе с секретарем и вручил графу несколько циркулярных писем. Граф попросил зачитать их вслух. Одно из писем имело непосредственное отношение к моей особе. В нем, в частности, говорилось, что «граф Михал Огинский, великий подскарбий литовский, ставший известным благодаря своему экзальтированному поведению в ходе революции в Польше в 1794 году, в течение последних девяти месяцев находился в Константинополе, являясь агентом польских патриотов. Совсем недавно Огинский под видом французского торговца по имени Мартен, имея на руках паспорт, выданный послом Франции, а также фирман турецкого султана, внезапно покинул Константинополь. По сведениям, полученным из достоверных источников, граф Огинский проследует через территорию Галиции. В связи с этим возникла необходимость воспрепятствовать передвижению данного господина по Галиции, задержать его и овладеть всеми документами, имеющимися в его распоряжении. Все представители гражданских и военных властей несут ответственность за безынициативность и ненадлежащую организацию работы по розыску, аресту и последующему конвоированию графа Огинского в Вену. Домовладельцы, предоставившие убежище упомянутому господину или не сообщившие о его местонахождении, будут подвергнуты самому суровому наказанию».
В конце циркулярного письма давалось весьма точное описание моей внешности и особых примет, включая боснийскую одежду.
Нетрудно себе представить, сколько тревог и волнений я пережил, пока читали это письмо. Граф Дз… сумел прекрасно скрыть свои чувства и спокойно проводил местных чиновников. Но было решено, что отныне следует больше беспокоиться о моей безопасности, и я почти все время находился в своей комнате.
Наступил, наконец, день, когда в Яблонов прибыли Гж…., Лещ… и Рац…. Наша встреча продолжалась несколько часов. У каждого была возможность высказаться по любым вопросам, и мы решили:
1. Быстро и незаметно покинуть апартаменты графа Дз…, чтобы исключить всякие подозрения к нему и никому не дать повода строить какие-либо догадки о нашей встрече и ее мотивах.
2. Несмотря на предрасположенность жителей Галиции к протестным акциям и массовое выражение недовольства в Польше, было бы неблагоразумно приступать к решительным действиям, не заручившись поддержкой Турции и не дожидаясь положительного решения французского правительства об оказании помощи нашему движению. Что касается мнения посла Франции в Константинополе, то оно для нас не могло быть непререкаемой истиной, и мы, в сущности, ничего не знали о намерениях Директории.
3. С учетом вышесказанного мое срочное возвращение теряло всякий смысл и мне следовало ехать в Париж для переговоров с польской депутацией и выяснения позиции французского правительства по польскому вопросу.
4. Участники встречи будут предоставлять мне подробную письменную информацию о происходящих событиях, а также перешлют мне заверенную копию акта краковской конфедерации.
5. О встрече и нашем решении мне поручалось известить посла Франции в Константинополе.
6. И, наконец, всем нам предстояло направить письмо в Бухарест Дамбровскому с решительным требованием не предпринимать никаких демаршей, не получив на то разрешения.
А сейчас я приведу несколько фрагментов из моего письма Оберу дю Байе. Оно было написано в Яблонове 24 декабря 1796 года.
«Гражданин посол! Предвидя препятствия, которые предстоит преодолеть этому посланию на пути к вам, вынужден опустить многие подробности и сосредоточиться лишь на самых главных итогах моей поездки.
Сейчас я нахожусь среди своих соотечественников, о стойкости и патриотизме которых мы не раз говорили с вами в Константинополе. Эти качества, как я вновь убедился здесь, по-прежнему являются определяющими в умонастроениях моих соплеменников. Они преданы делу освобождения родины. Они страдают под игом угнетателей, и как только французское правительство даст сигнал к началу борьбы, в нашем крае вспыхнет всеобщее восстание. Не следует, однако, удивляться, гражданин посол, что отсутствие реакции французского правительства на события в Польше, миссия генерала Кларка в Вене, благоговение Франции перед Берлинским двором и перемены на европейской политической сцене после кончины императрицы Екатерины задерживают ход событий, предначертанных нашим отчаянием. И дело не в том, что последнее обстоятельство может стать предпосылкой для изменения отношения к нам со стороны России. Более того, у нас нет особых оснований для сомнений, что великодушие и благорасположение императора Павла снизойдет не только на польских военнопленных, но и на весь наш народ. Вопрос в другом: кто может предугадать эффект, который произведут в Париже мирные инициативы российского монарха и его личные отношения с королем Пруссии?
Из надежных источников нам стало известно, что император Павел открыто высказался против ведения всяких военных действий и встал на позиции, значительно отличающиеся от политики своей матери. Дело дошло до того, что государь намеревается направить во Францию высокопоставленного российского представителя. В таком случае кто возьмется что-либо сказать о непредсказуемых последствиях сближения России и Франции? И что будет с Польшей? Неужели наш край будет обречен навсегда остаться один на один со злым роком?
Гражданин посол! В приложении вы найдете подробную информацию обо всем, что мне удалось сделать в Галиции. Кроме этого вы сможете ознакомиться с решением небольшого комитета местных патриотов.
Через десять дней я уеду в Париж, откуда непременно сообщу вам о своих делах.
Михал Огинский».
27 декабря мы провели последнее заседание с моими друзьями в Яблонове. Мне передали письмо, адресованное всем полякам, проживающим в Париже. Документ подготовил Гжимала, а подписали его представители Галиции из Яблонова. Поскольку это письмо слишком длинное и содержит много деталей, не представляющих большого интереса, я позволю себе привести здесь всего несколько цитат из него.
«Граждане! За три беспокойных года, которые еще больше усугубили и обострили наши страдания и беды, мы впервые испытали настоящую радость от встречи с человеком, которому вручаем настоящее послание.
Хорошо понимая необходимость сохранения тайны в наших делах, мы не стали просить этого уважаемого и достойного гражданина сообщать нам то, что можно будет раскрыть по истечении определенного времени и только ограниченному кругу лиц. Мы воздаем ему должное за то, что он не стал играть на струнах наших патриотических чувств и не пошел по проторенной дороге всех революционных движений, подпитывая наши надежды пустыми фальшивыми лозунгами.
Мы откровенно обменялись мнениями и констатировали следующие две бесспорные истины:
1. Здравый смысл и опыт, приобретенный во время последнего восстания, убеждают в том, что для восстановления нашей родины мы обязаны искать поддержку за границей. И очень желательно, чтобы поддержка эта выражалась не только в виде дружественных деклараций, но и приносила реальные конкретные результаты, соответствующие нашим ожиданиям.
2. В случае, если по воле злой судьбы держава, наводящая ужас на всю Европу, а также соседнее государство, которое на фоне трагической катастрофы Польши больше других должно было бы ощутить тревогу и позаботиться о собственной безопасности, оставят нас в одиночестве, то мы перестанем уважать тех, кто услаждает нас призрачными обещаниями. И в таком случае нам ничего не останется, как рассчитывать исключительно на наши собственные силы, на нашу честь, достоинство и любовь к родине. И тогда каждый поляк, которому посчастливится дожить до освобождения отчизны, поставит на одну чашу весов и верховных деспотов, огнем и мечом поработивших наш народ, и это республиканское государство, чьи легионы ниспровергают все, что препятствует осуществлению планов республиканцев. Именно это государство укрепило свои основы во время падения Польши. Ныне оно равнодушно взирает на все наши невзгоды и обещает нам помочь в будущем, это значит тогда, когда мы поднимемся с колен сами, либо когда наше поколение будет истреблено, а потомки наши будут обречены на вечное молчание.
Братья в изгнании! Первый вариант передает инициативу вам и предполагает вашу плодотворную работу, второй требует и от нас, и от вас совместных усилий. Не нам вам предписывать правила ведения борьбы: они продиктованы вашим опытом, просвещенностью и любовью к родине. Наше доверие к вам значительно возросло после того, как мы познакомились и сблизились с человеком, который привезет вам это письмо, и которого вы уполномочили представлять наш народ в самом центре важнейших предстоящих событий. И если счастье вам улыбнется, и вы найдете других патриотов с таким же дарованием, стойкостью и осмотрительностью, то быть не может, чтобы то дело, которое вы так прекрасно начали, не завершилось полным успехом».
Далее в письме содержались призывы к объединению, сплочению и единству всех поляков в борьбе за свободу отчизны и выражалось доверие польской депутации в Париже. Не все наши патриоты в Галиции были лично знакомы с членами депутации, но их принципы и деятельность вызывали всеобщую поддержку. Высказывалось также пожелание не раскрывать французам планы о будущем государственном устройстве Польши, а сосредоточиться на том, как освободить страну. Автор письма выступал с опровержением брошюры «Политические заметки…», где были показаны преимущества в случае отказа короля Пруссии от захваченных польских провинций и создания на их территории отдельного королевства под правлением прусского принца.
В заключительных строках этого послания рекомендовалось не привлекать особого внимания к сохранению династии в Польше и к формам конституционной монархии, а вести общение с французским правительством на языке республиканцев. Такой язык вызовет больше симпатий у французов и расширит круг друзей Польши.
Получив необходимые документы и кое-какие деньги на поездку в Париж, я только и думал об отъезде. 10 января 1797 года после трехнедельного пребывания в Яблонове я тронулся в путь. Граф Дз… любезно согласился сопровождать меня до Лемберга.
На всех постоялых дворах можно было увидеть афиши с описанием моих примет. К счастью, в дороге никто меня не опознал, а общество графа Дз… и вовсе отводило всякие подозрения. Вечером 12 января мы прибыли в Лемберг. Меня разместили в мансарде дома Нов… Там я пробыл не более часа. Ни с кем не повидавшись, я сразу же выехал, как только почтовых лошадей запрягли в сани. Молодой человек по фамилии Зимирский был моим ямщиком. Его мне дали в целях безопасности. Ничего, кроме добрых слов благодарности, сказать об этом человеке не могу.
Глава III
Я уехал из Лемберга с паспортом на имя графа Валериана Дз… Чтобы добраться до Кракова, мне предстояло проехать пятьдесят немецких миль по австрийским провинциям. Много раз доводилось мне ездить по этой почтовой дороге. Здесь легко могли меня опознать, и я проделал путь до самого Кракова, практически не покидая саней. Голод вынудил меня остановиться в гостинице «Париссо», где глубокой ночью я провел пару часов[74].
Не теряя скорости и соблюдая все меры предосторожности, я продолжил путь до силезской границы, въехал в Тарновиц и оказался на прусских землях. Здесь задержался на сутки, чтобы немного отдохнуть и сменить экипаж, так как снега в здешних местах не было.
Случайно узнав, что неподалеку от Тарновица живет мой единоутробный брат граф Феликс Любенский, я послал к нему человека с просьбой навестить меня. Нам было о чем вспомнить, и мы всю ночь напролет говорили и говорили. Брат долго рассказывал о матери, увидеться с которой мне уже не удастся никогда. На прощание мы обнялись, не питая никакой надежды на новую встречу, и я отправился в Бреслау. В этом городе встретился с надворным маршалком Польши графом Рачинским, который поселился здесь не так давно. Он убеждал меня, что вопрос о восстановлении польского королевства на основе провинций, инкорпорированных Пруссией, уже был решен в Берлине. По согласованию с правительством Франции предполагалось, что принц королевской семьи будет провозглашен королем Польши. Однако с восшествием на престол императора Павла данный вопрос перестал быть актуальным. Эта новость полностью соответствовала информации, которую мы получили в Константинополе три месяца назад.
По прибытии в Дрезден я провел несколько встреч с соотечественниками, в частности, с Гедройцем и Валихновским. Они буквально засыпали меня своими вопросами о состоянии дел на родине. Как оказалось, после перемен в России они почти полностью потеряли связь с Польшей.
Приехав в Берлин и памятуя о мерах предосторожности, о которых мне говорили в Дрездене Гедройц и Валихновский, я сразу направился в резиденцию французского представителя Кайара. Мы познакомились и подружились с этим дипломатом еще в Гааге. Он выдал мне паспорт на мое настоящее имя и, не теряя ни минуты, я отправился в Гамбург, а оттуда, через Брюссель – в Париж, где и оказался 2 февраля 1797 года.
В Париже я начал с того, что провел индивидуальные встречи с соотечественниками, чтобы хотя бы предварительно выяснить их воззрения и позиции, определить подлинные причины распрей между ними и попытаться восстановить согласие и единодушие в их рядах. Только после этого я собирался ознакомить всех моих собратьев с информацией, которую привез с собой. Мне было приятно, что почти все они отнеслись ко мне с полным доверием. Честно и откровенно они делились со мной своими соображениями о подоплеках разлада. Выполняя доверенную мне миссию посредника и арбитра в этом деле, я без особых усилий смог погасить искры недоверия среди поляков и возродить в их отношениях прозрачность и взаимопонимание.
На общем собрании членов депутации, а также граждан, имеющих определенные заслуги перед Польшей, я сделал короткий отчет о своих переговорах в Константинополе, о пребывании в Галиции и о польских военных в Валахии и Молдове. В свою очередь депутация проинформировала о состоянии отношений с французским правительством и перспективах их развития. Было подчеркнуто, в частности, что после смерти императрицы Екатерины II эти отношения пошли на спад. В этой связи все присутствующие выразили убежденность, что мой приезд в Париж стал хорошим поводом для выяснения позиций французского правительства, и мне было предложено встретиться с министром иностранных дел Франции Шарлем Делакруа.
К тому времени Обер дю Байе успел известить руководство о моем отъезде из Константинополя и о врученной мне корреспонденции, предназначенной для министра. Шарль Делакруа уже несколько раз интересовался у членов депутации, прибыл ли я в Париж.
Я не заставил себя ждать и обратился в канцелярию министра с просьбой принять меня для беседы.
В рабочем кабинете Шарля Делакруа мы провели несколько часов. Министр очень внимательно слушал меня и задавал много вопросов. Он попросил изложить на бумаге все сведения об обстановке в Турции, которые мне удалось собрать за время работы в Константинополе. Шарль Делакруа выразил отзывчивое, участливое отношение к Польше и полякам. Но стоило мне спросить у него о намерениях Директории по отношению к нам и на что конкретно мы можем рассчитывать, как он ответил, что в данный момент не может удовлетворить мое любопытство, так как время для активной поддержки поляков еще не пришло. При этом министр несколько раз повторил, что симпатии правительства Франции на нашей стороне и оно не упустит случая, чтобы помочь нам восстановить Польшу.
Шарль Делакруа со всеми подробностями поведал об успехах французских войск и выразил недовольство в связи с волнениями и антиправительственными выступлениями внутри страны. Совсем недавно он получил известие о том, что французы заняли Мантую, Фаэнцу, Анкону и заключили в Толентино мир с папой римским. Министр был совершенно уверен в грядущих победоносных походах французской армии, а беспокоили его лишь роялисты, священники и эмигранты. Мы договорились встретиться через две недели, после того, как я закончу работу, о которой меня попросил Делакруа.
Признаться, беседа эта большого удовлетворения мне не принесла. Здесь в Париже, как и в Константинополе, я слышал одни и те же туманные обещания и утешительные слова, которые никого ни к чему не обязывали.
В назначенный срок я вновь явился к министру. Он взял на себя труд прочитать от начала до конца мою длинную докладную записку о Турции. Ясное дело, что в этот документ я преднамеренно внес все, что могло привлечь внимание к польскому вопросу. Шарль Делакруа не скрывал своего удовлетворения от прочитанного материала. Он поблагодарил меня и признался, что пока не может сообщить ничего обнадеживающего. И вновь прозвучали слова о том, что проблемы поляков близки сердцу каждого честного француза и необходимо еще потерпеть, чтобы дождаться счастливого исхода нашего дела.
С этого дня я замкнулся в себе, почти никого не принимал и в полном бездействии с тревогой ожидал, когда же наступят столько раз обещанные события. Впрочем, веры в эти обещания у меня оставалось все меньше и меньше. Больше встречаться с Шарлем Делакруа я уже не стремился. Но 16 жерминаля V года (5 апреля 1797 года) мне принесли собственноручно написанное им приглашение на встречу у него дома.
Министр кратко рассказал о боевых делах французской армии и заметил, что генерал Бонапарт уже может идти на Вену. Сама по себе оккупация этой столицы не поставит точку в войне с Австрией, если только ее император не пойдет на заключение мира. А это означает, что может наступить самый подходящий момент для активных действий в пользу Польши. Для начала можно будет поднять восстание в Галиции. Он показал мне поступившие в правительство Франции донесения об умонастроениях в Венгрии, Трансильвании и Далмации. Там готовы начать восстание и организоваться по примеру новых республик в Италии. Шарль Делакруа добавил, что столь рискованные крупномасштабные действия могут рассчитывать на успех только при наличии разумного основательного плана и его быстрого исполнения. По его словам, Директория не может себя компрометировать, подталкивая поляков и жителей Галиции к восстанию против правительства, лишившего их родины. Будет вполне достаточно дать им понять, что пробил час для борьбы за возрождение Польши и более благоприятного момента для такой борьбы не найти. И пусть поляки воспользуются этим моментом и поступят так, как им подсказывает честь и долг.
Министр рекомендовал мне немедленно ехать в штаб-квартиру генерала Бонапарта в Италии и согласовать с ним план операции, по которому поляки должны подготовить условия для вступления французских войск на австрийские земли. Он еще долго разъяснял мне, как следует поступить, чтобы жители Галиции, Трансильвании, Венгрии, Хорватии и Далмации одновременно поддержали восстание. Через несколько часов после нашей встречи мне передали вот эту записку:
«Гражданин! Как только сегодня мы с вами расстались, мне пришла мысль предложить вам и вашим соотечественникам подготовить план действий с учетом основных положений, которые мы недавно согласовали. Было бы весьма целесообразно, если бы вы внесли в текст и ваши собственные дополнения и предложения. Я обязательно представлю этот документ в Директорию и непременно дождусь решения, которое позволит вам сразу же приступить к действиям. 16 жерминаля V года.
Шарль Делакруа».
Я передал это предложение многим соотечественникам. Сначала все мы были очень польщены тем, что правительство Франции вводит нас в курс своих дел и подключает к активному участию в осуществлении своих инициатив. Затем, однако, я счел своим долгом сделать следующие замечания:
1. В предложении министра ясно просматривается желание французского правительства получить выгодные условия для введения своих войск на земли императора Австрии. Это, разумеется, создает благоприятные предпосылки для успехов французской армии, однако это вовсе не ведет к восстановлению Польши.
2. Мы можем и должны направить все усилия на освобождение своих соотечественников из-под гнета держав, разорвавших на части нашу родину. Но мы считаем неприемлемым призывать галичан к восстанию и подвергать их опасности, не давая гарантий, что Польша будет восстановлена и что вновь они не попадут под господство Австрии.
3. Восстание, в котором нам предписана ведущая роль, может только ускорить подписание мирного договора между Венским двором и Французской республикой. А это значит, что никто нам не вернет Галицию и тем более польские провинции, аннексированные Россией и Пруссией.
4. Мы хотели бы иметь полную уверенность, что за все наши усилия и жертвы при решении задач французского правительства мы сможем рассчитывать на покровительство Франции, ее поддержку и помощь в деле возрождения нашей страны.
Эти замечания я передал Шарлю Делакруа. Он был немногословен. Французское правительство в нас особо не нуждается и может обойтись без нас. Раз мы не испытываем доверия к Франции, то можем ничего не предпринимать и искать свое счастье с другими партнерами. И все же министр недоумевал, почему мы усомнились в искренности французской стороны: ведь Французская республика предоставила пристанище и взяла под защиту польских беженцев, сформировала польские легионы – ядро будущей армии для освобождения Польши и, наконец, только что проявила высочайшее доверие к полякам, посвятив их в свой план, единственной целью которого было восстановление Польши… Расставаясь, Шарль Делакруа заметил, что мы вправе поступать так, как сочтем целесообразным, но через три дня о плане, предложенном французами, придется забыть.
Чтобы отвести от себя всякие обвинения и упреки, на собрании патриотов было решено, что мы с гражданином Выбицким возьмемся за составление плана и передадим его Шарлю Делакруа, а также подготовим послание к жителям Галиции. Согласно этому плану польские легионы, насчитывающие от пяти до шести тысяч человек, должны были переправиться через Адриатическое море в Далмацию и попытаться проникнуть в Венгрию, где к ним присоединятся еще примерно две тысячи поляков, находящихся в настоящее время в Валахии и Молдове. Последним доведется перейти через Трансильванию и затем войти в Венгрию, где по сведениям, полученным французским правительством из этих провинций, поляки не встретят никаких препятствий. Все это объединенное польское войско вскоре получит пополнение новобранцев из Галиции и даже из самой Польши. Польские подразделения ни в коем случае не должны будут слишком близко подходить к границам Галиции и тем более вступать на ее территорию, чтобы не ставить под угрозу местных жителей и не спровоцировать вторжения русской армии, чего может потребовать император Австрии. Французские эмиссары, уже выполняющие по заданию Директории секретную миссию в Венгрии, обеспечат свободное прохождение польских легионов. Там к ним присоединится французский корпус в пять – шесть тысяч штыков.
Поляки, находящиеся в Париже, назначили двух своих представителей для поездки в Италию и ведения переговоров с генералом Бонапартом о способах наиболее оперативного осуществления плана. Оставалось только дождаться, чтобы Бонапарт получил соответствующее разрешение Директории. Еще два наших представителя должны были выехать в Галицию с посланием к местным жителям. В этом документе сообщалось о только что принятом решении и о согласованных мерах по обеспечению их безопасности. Мы обращались к патриотам Галиции с просьбой устанавливать и поддерживать связь с польскими легионами и оказывать им посильную помощь деньгами и людьми.
В течение суток план был готов. Его подписали Мневский, Выбицкий, Прозор, Барс, Ташицкий, Шанявский, Валихновский, Подоский и другие. Мы сразу же передали документ министру иностранных дел Франции и проинформировали его о решении командировать в Италию меня, Мневского и Прозора, который, однако, не сможет отправиться в поездку. Мы попросили министра о выдаче паспортов для меня и Мневского и доложили о готовности к отъезду, как только наш план получит одобрение правительства.
Через несколько дней Шарль Делакруа официально уведомил нас, что Директория без всяких изменений утвердила наш план и уже отправила его генералу Бонапарту, которому поручено приступить к осуществлению данного проекта. Министр сообщил, что мы можем получить наши паспорта и обещал переслать в тот же день копию решения Директории и несколько рекомендательных писем в нашу поддержку от близких друзей Бонапарта.
На этот раз я уже нисколько не сомневался, что мы сможем принять самое активное участие в предстоящих событиях, и надеялся исключительно на положительные результаты поездки в Италию. Но вскоре радость моя и все надежды рассеялись. В самый последний момент перед отъездом из Италии явился курьер с новостью о подписании 7 апреля 1797 года в Леобене предварительных условий мирного договора между Австрией и Францией. И тогда я предположил (к сожалению, так оно и случилось), что больше ожидать от Франции мы уже ничего не можем: после ее сближения с Венским двором и переговоров о мире все наши мечты о помощи французов стали несбыточными и призрачными.
Между тем такого мнения придерживались далеко не все мои соотечественники. Среди них были такие, кто искренне полагал, что раз революционные меры ни к чему не привели, то это совсем не означает, что нет других путей для достижения успеха.
Члены депутации и все, кто связывал свои надежды с продолжением войны и с успехами французских войск, разделяли мое мнение и не считали в данный момент, что есть смысл приступать к каким-либо новым действиям. Были и такие, как например, Барс, Выбицкий и Прозор, которые настаивали на необходимости созыва в Милане конституционного сейма Польши. Они утверждали, что один из членов Директории намекнул, что это стало бы единственным способом сохранить ядро национального представительства. Но тут возникла огромная трудность: как найти и собрать членов этого сейма, куда по закону должны входить король, сенат и представители духовенства от соответствующих воеводств и провинций? А ведь король уже отрекся от трона и завершал свой печальный жизненный путь в Петербурге. Среди нас нашелся один сенатор, одно духовное лицо из сейма 3 мая и один представитель шляхты.
Чтобы немного отойти от дел, я решил уехать из Парижа в Голландию и там дождаться более благоприятных событий, которые могли произойти после возвращения Бонапарта во французскую столицу. Но мне пришлось отложить отъезд на несколько дней: соотечественники упросили меня задержаться, чтобы здраво, разумно и всесторонне осмыслить возможности созыва польского сейма в Милане и попытаться выяснить, как относится к этой идее правительство Франции.
Когда я прибыл к Шарлю Делакруа, чтобы вернуть копию решения Директории и рекомендательные письма для генерала Бонапарта, я увидел, что министр не только огорчен провалом нашего плана, но и чрезвычайно озабочен предстоящими переменами в министерстве, после которых он останется без портфеля. Стоило мне только заговорить о нашем сейме в Милане, как министр лишь пожал плечами и сухо сказал, что эта затея просто смешна.
Однако такой ответ вовсе не устроил моих соотечественников, которым очень хотелось знать, как на самом деле Директория реагирует на наши намерения о созыве сейма. Они утверждали, что мнение Шарля Делакруа, который слыл якобинцем и скоро уйдет в отставку, не является авторитетным, и склонили меня к тому, чтобы я попробовал получить информацию из более компетентных источников. И я решил обратиться к гражданину Бонно, бывшему временному поверенному в делах и генеральному консулу Франции в Варшаве. Русские арестовали его в Польше и продержали пятнадцать месяцев в тюрьме. Не так давно Бонно освободился и вернулся в Париж, где его встретили с большим почетом. Некоторые члены Директории испытывали к нему личные симпатии и особое доверие.
Вернувшись на родину, Бонно по-прежнему живо интересовался событиями в Польше и горячо поддержал идею о созыве сейма в Милане. По его словам эта идея вызвала немалый интерес в Директории. Поскольку ответ бывшего дипломата имел слишком общий и довольно расплывчатый характер, отражавший скорее его личное мнение, нежели позицию французского правительства, было принято решение, чтобы я обратился к нему с письменным запросом. При этом предполагалось, что письмо мое он мог бы показать своим друзьям из Директории и услышать их суждения из первых уст, в чем, собственно, мы и нуждались.
Вот это письмо от 28 апреля:
«Гражданин! За двадцать пять лет пребывания в Польше вы прекрасно изучили нашу страну и характер нашего народа. Своей деятельностью и благоразумием вы снискали себе всеобщее уважение. Любовь к свободе, за которую вы подверглись гонениям, поставила печать на всех документах, удостоверяющих ваш статус достойного гражданина своей родины, интереснейшей личности в глазах сторонников гуманизма, почтенного человека среди всех людей доброй воли. Сознавая все это, мы с несказанной радостью восприняли новость о вашем приезде в Париж. На встречах в правительстве вы, конечно же, не могли обойти тему Польши. Вы не могли поступить иначе как официальный представитель Франции, ее гражданин и человек, преданный делу свободы и независимости…
Разумеется, не нам надлежит уточнять намерения французского правительства о действиях по восстановлению Польши. Но нам бы очень хотелось предугадать, предвосхитить пожелания французских партнеров о том, что мы могли бы сделать с нашей стороны для успеха общего дела…
Вы хорошо осведомлены, гражданин, о нашей беззаветной преданности родине, о наших связях и отношениях с соотечественниками в Польше, и вряд ли вас удивит наша просьба: нам очень важно знать, рассматривалась ли в правительстве наша инициатива о созыве польского сейма в Милане? Мы были бы весьма признательны за ответ, полученный от источника, который, как и вы, гражданин, вызывает у нас высокое уважение, доверие и т. д.
Михал Огинский».
Через два дня ко мне приехал Бонно, поблагодарил за наши добрые слова в свой адрес и за наше доверие, которое, по его мнению, он вполне заслужил своей преданностью польскому народу. Затем он сообщил, что передал мое письмо двум членам Директории, которые склонны считать, что наличие польского национального представительства в Милане в будущем могло бы стать весьма полезным. Однако все зависит от развития событий, предсказать которые никто не может. Бонно честно признался, что на сегодняшний день нет никакого единства мнений даже среди членов Директории, не говоря уже о всей Франции. В этих условиях ничего не остается, как ждать перемен, которые наступят после подписания мира с Венским двором и возвращения генерала Бонапарта. Это все, что я услышал от Бонно, и чем я мог поделиться с соотечественниками. На предоставление ответа в письменном виде Бонно разрешения не получил.
Глава IV
30 апреля к нам пришла весть о том, что Костюшко после освобождения из петербургской тюрьмы прибыл в Гамбург. Мне было поручено написать ему письмо от имени всех соотечественников, находящихся в Париже, и поздравить славного поляка с выходом на свободу, а также выразить, как глубоко мы все тронуты великодушием российского самодержца по отношению к вчерашнему врагу. Все горели желанием вновь встретиться с Костюшко и тешили себя надеждой, что восстанавливать свои силы и здоровье он приедет во Францию. Я отмечал в письме, что освобождение Костюшко окрылило нас, и мы, как и все поляки, преисполнены к нему самых высоких чувств.
От себя лично я послал Костюшко еще одно письмо. Так же поступил и Барс. Через три недели, когда я уже находился в Брюсселе, пришел ответ от Костюшко. Барсу он тоже написал. Не желая никому лишних неприятностей, Костюшко не стал отвечать на наше коллективное послание с сорока подписями и ограничился тем, что в письме ко мне выразил свою глубокую признательность всем нам за теплые приветствия и добрые пожелания, которые растрогали его до глубины души. Он также подчеркнул, что никогда не прекратит своей деятельности на благо отечества.
Соотечественники никак не хотели отпускать меня из Парижа и уговаривали, чтобы я занялся организацией национального представительства в Милане. Уже несколько дней Барс то и делал, что собирал аргументы в пользу этого проекта. А Выбицкий почти не выходил из моей комнаты, пытаясь убедить меня в достоинствах плана о созыве сейма. И тот, и другой не сомневались, что мой отъезд не помешает им осуществить свои намерения. При этом они рассчитывали на поддержку французского правительства и генерала Домбровского, который разделял их взгляды и в то время находился со своими легионами в Италии. Барс и Выбицкий решили подготовить и разослать циркулярное письмо членам сейма, оставшимся в Польше, полагая, что моя подпись придаст дополнительную весомость документу и поможет бывшим депутатам сделать свой выбор в пользу созыва сейма в Милане.
Как мог я пытался показать им бесперспективность и нецелесообразность этого проекта. Говорил про угрозы и опасности, которые мы можем навлечь на уважаемых, добропорядочных людей, уже принесших немало жертв для своей страны. Растолковывал, что если мы – изгнанники, потерявшие свое имущество и оставшиеся без копейки, можем сами распоряжаться своей судьбой и строить как хотим свои призрачные планы, то призывать собственников оставить свои владения, отрывать отцов от детей и втягивать их в неразумное, рискованное и, как я считал, бесполезное дело – было бы опрометчиво, бесчеловечно и недостойно с нашей стороны.
В правоте своих резких возражений я не сомневался еще и потому, что текст циркулярного письма, которое предполагалось послать в Польшу, показался мне бездарным. В письме давалось неверное толкование сущности вопроса, и частное мнение нескольких поляков было представлено в виде официальных предложений, якобы принятых Директорией.
Меня внимательно слушали, потому что хотели получить мою подпись. В конце концов, я ее поставил, но только после продолжительных дискуссий и после того, как сам отредактировал этот опус. Я максимально сократил текст и ясно изложил принципы, которые легли в основу проекта о созыве представителей конституционного сейма в Милане. При этом в тексте не было никакой агитации ни в пользу, ни против этого проекта.
Мы давали понять, что правительство Франции не отвергает данную инициативу, и обращались к бывшим представителям сейма взвешенно отнестись к проекту и поступать в соответствии со своими убеждениями, опытом и патриотическими чувствами.
Письмо подписали Мневский, Ташицкий, Прозор, Выбицкий, Барс, Валихновский, Раецкий, Кохановский, Войчинский и многие другие. Содержание письма и все выражения теперь не вызывали никаких замечаний, и я без колебаний под ним подписался. Впрочем, я был уверен, что инициаторы проекта напишут личные письма своим друзьям в Польше. Но это было уже не мое дело.
Я считал, что на конвертах не следует указывать фамилии получателей нашего письма, а лучше обязать курьера выучить их наизусть. Меня не послушались и специально написали фамилии таких адресатов, как Адам Чарторыйский, Игнаций Потоцкий, Малаховский, а также самых влиятельных депутатов сейма, так как решили, что без этих фамилий наше послание сочтут подозрительным и все наши старания будут напрасными.
Далее случилось то, что я и предвидел. Нарбут, которому поручили доставку корреспонденции, был задержан на границе. То же самое случилось и с Кохановским. Он вез послание жителям Галиции, в котором по неосторожности поставили фамилии многих галичан. У обоих все бумаги были изъяты пограничниками.
Провал проекта, компрометация многих уважаемых граждан, гонения и преследования по всей стране – вот что стало результатом этой необдуманной и безответственной инициативы.
Наконец, я уехал в Брюссель с твердым намерением вернуться в Париж сразу же после возвращения из Италии генерала Бонапарта.
Услуги французскому правительству, оказываемые польскими легионами, увеличение их численности за счет поляков, желающих нести службу в армии, грядущие перемены в правительстве Франции, недолговечность мира с Венским двором, возможность объявления войны со стороны России несмотря на миролюбивую риторику императора Павла – все эти факторы еще поддерживали во мне веру в благоприятный исход нашего дела. Такая перспектива обнадеживала, но она была где-то далеко-далеко… А пока… Лишенный всякой надежды на возвращение на родину, вдали от семьи, без средств к существованию, я не располагал никаким иным противоядием от всех бед, обрушившихся на меня, кроме терпения. В чем я находил утешение, так это в уверенности, что я сделал то, что мне велел долг.
В Брюсселе я получил новости, которые меня окончательно доконали. Польские военные в Валахии и Молдове нарушили данное мной указание от имени Обера дю Байе о недопущении никаких действий без получения на то соответствующего разрешения. Около сотни поляков во главе с Дениско перешли границу с Галицией и попытались совершить налет, за что и были наказаны. Они попали в окружение австрийских войск. Пятнадцать бойцов с оружием в руках погибли. Двенадцать человек были взяты в плен и тут же повешены. Остальные вместе с командиром сбежали в Молдову.
До меня дошли сведения, что не кто иной, как Обер дю Байе поручил Дениско провести эту операцию, цель которой состояла в том, чтобы проверить состояние боеготовности австрийцев в Галиции. Никаких подтверждений этому я не получил, и мне тяжело поверить в такую версию. Между тем совершенно точно известно, что посол Обер дю Байе вызывал к себе в Константинополь Дениско, который после возвращения в Бухарест и предпринял эту дерзкую, безрассудную вылазку. Никакой пользы от этого не было, зато пострадали многие жители Галиции. Сотни людей были арестованы и в оковах доставлены в венские тюрьмы, где они подвергались пыткам и долгие годы томились в неволе.
Много лет спустя я узнал, что после этой глупой выходки Дениско поехал в Константинополь и попросился на прием к послу России. Он покаялся в содеянном и пытался оправдаться за свой поступок, совершенный в состоянии крайней безнадежности и отчаяния. Получив от посла письмо в свою поддержку, Дениско отправился в Петербург, где был представлен самому императору Павлу. Монарх принял его весьма благосклонно и одарил огромным земельным участком с сотнями крестьян, дабы возместить убытки за потерянные владения в Польше.
Дамбровский, как отмечалось выше, перешел на службу к русским. Остальные военные из Валахии и Молдовы возвратились на родину либо поехали в Италию и пополнили там польские легионы.
А гражданин Барс все никак не мог забыть проект о созыве сейма в Милане. Я получил от него в Брюсселе обращение, подписанное многими офицерами польских легионов. Мне, Выбицкому и Мневскому предлагалось приехать в Ломбардию и сформировать там ядро национального представительства. Это послание было датировано 3 мессидора.
К тому времени Мневский уже уехал из Парижа поближе к прусской границе. Я же не собирался покидать Брюссель до возвращения генерала Бонапарта в столицу и только после этого намеревался определиться со своим решением. Так что в Милан поехал один Выбицкий.
Из частной переписки я узнал, что генерал Зайончек недавно был назначен комендантом города Брешиа. Ему приказано сформировать шестнадцатитысячный корпус национальной гвардии и линейные войска из шести тысяч штыков. Генерал Домбровский представил Бонапарту всех польских офицеров, несущих службу в Италии. Наполеон тепло приветствовал поляков.
Я с удовольствием читал сообщения о продвижении по службе наших военных в составе польских легионов. Некоторые офицеры, как, например, Зимирский, Хамант и другие, которых я хорошо знал и интересовался их судьбой, дослужились до самых высоких воинских званий. Одним словом, все новости о наших легионах, которые приходили ко мне прямо из Милана либо из Парижа, доставляли мне радость и не давали угаснуть последним надеждам.
Во время моего пребывания в Брюсселе я узнал, что 17 октября 1797 года в Кампо-Формио подписан мирный договор между Французской республикой и Австрией. Отныне австрийский император признавал границами Франции ее естественные пределы: Рейн, Альпы, Средиземное море, Пиренеи и океан. Он давал согласие на то, чтобы Цизальпинская республика была образована из Ломбардии, герцогств Реджио, Модены, Мирандолы, из трех легатств, отнятых от Папской области – Болоньи, Феррары и Романьи, из Вальтелины и части венецианских владений на правом берегу реки Адидже. Австрийский монарх также уступил Брайсгау. Тем самым его наследственные земли удалялись от французских границ. Было условлено, что важный плацдарм Майнц будет передан французским войскам по военной конвенции, которую подпишут в Раштатте французский уполномоченный и граф фон Кобенцль.
Бонапарт доверил доставить Кампоформийский договор в Париж генералу Бертье и знаменитому Гаспару Монжу, члену комиссии наук и искусств в Италии. Подписание мирного договора в Кампо-Формио для Директории стало неожиданностью. Более того, этот документ показался ей не очень удачным, и она не торопилась его ратифицировать. Однако общественное мнение взяло верх, и вскоре все согласились, что условия мирного договора с Австрией весьма выгодны французскому правительству, и было решено утвердить все подписанное генералом Бонапартом.
В Брюсселе я узнал и о смерти короля Пруссии Фридриха Вильгельма II. Он скончался 16 ноября 1797 года.
После подписания договора в Кампо-Формио у меня уже не оставалось сомнений, что либо по собственной инициативе, либо по решению Директории генерал Бонапарт появится во французской столице. И я стал собираться в Париж, но непредвиденный случай задержал мой отъезд из Брюсселя.
Я обратился к мэру с просьбой о выдаче паспорта. Однако он предупредил меня, что без разрешения парижской полиции никто не сможет выдать мне такой документ. Через две недели мэр сообщил, что в Брюсселе я могу оставаться столько, сколько пожелаю, а получить разрешение на въезд в Париж можно лишь при наличии справки от одного из членов Директории либо от министра Французской республики, который знает меня лично. Я был в полном замешательстве. Польской депутации в Париже уже не было. Неразбериха, царившая в столице между членами правительства, а также перемены в министерствах не позволяли остановить свой выбор на чиновнике, к которому можно было бы обратиться. К счастью, в Париже теперь находился бывший посол Французской республики в Константинополе Вернинак[75]. Ему я и послал свое письмо, и вскоре получил справку следующего содержания:
«Я, нижеподписавшийся, довожу до сведения гражданина Сотена, министра полиции Французской республики, что познакомился с польским патриотом Михалом Огинским в Константинополе во время исполнения дипломатической миссии в Оттоманской империи. Гражданин Михал Огинский представлял в этой стране интересы своих соотечественников, которые являются друзьями Французской республики и врагами угнетателей своей страны. Вышеупомянутый гражданин пожертвовал свое огромное состояние на алтарь свободы и независимости отечества. Россия объявила его вне закона. Мне представляется, что всеми своими деяниями гражданин Михал Огинский заслужил право на благорасположенность и сочувствие французских властей. Париж, 10 фримера VI года республики.
Р. Вернинак».
Я передал эту справку мэру Брюсселя, через несколько дней получил паспорт и 2 декабря 1797 года уехал в Париж.
Глава V
6 декабря, завершив одну из самых блестящих кампаний в Италии, генерал Бонапарт возвратился в Париж. Теперь вся Италия оказалась под властью Франции. По французской политической модели в Италии недавно были созданы две новые республики. Император и князья Империи признали Французскую республику. Только в виде контрибуции Франция получила от Италии более ста двадцати миллионов. Национальный музей обогатил свои фонды за счет шедевров искусства, доставленных из Пармы, Флоренции и Рима. Их стоимость оценивали более чем в двести миллионов. Корабли, захваченные в Генуе, Ливорно и Венеции, укрепили мощь военно-морского флота Франции. Тулонские эскадры держали под контролем водные просторы Средиземного моря, Адриатики и Ближнего Востока. Новый торговый путь открылся через Альпы для товаров из Лиона, Прованса и Дофине. Эти удивительные результаты одной-единственной военной кампании, которая продолжалась всего лишь два года и принесла столько ярких побед, вызывали восхищение и уважение всей Франции к тому, кому она была обязана таким успехом.
Между тем Бонапарт появился в столице очень скромно и остановился в своем маленьком домике на улице Шантрен, которую муниципалитет спонтанно переименовал в улицу Победы.
Я прибыл в Париж накануне приезда Бонапарта и поставил перед собой цель чаще бывать в высшем свете, чем в предыдущий раз. Я решил как можно больше общаться с членами правительства и с самыми известными людьми того времени. Мне хотелось, чтобы все во мне видели не представителя польских патриотов, а самого обыкновенного гражданина Польши, живущего в изгнании. В таком случае мне не придется никого утомлять бесконечными жалобами о состоянии моей страны, за мной не будут следить иностранные агенты, я без всякой предвзятости буду относиться к своим собеседникам, из какой бы страны они не были. А самое главное – никто не подумает, что я пытаюсь выудить какую-то информацию. Ни у кого не возникнет ко мне никаких подозрений, и я смогу войти в любое общество, чтобы услышать различные мнения от всех, с кем сведет меня судьба.
Я обнаружил, что практически все французы любят поляков и находят у них немало общего со своим характером. Они хвалят поляков за их обходительность в общении, за их достоинство и любовь к родине. Французские военные не перестают восхвалять польские легионы. Однако эти приятные и лестные оценки никоим образом не проясняли подлинные намерения французского правительства, которое в тот период вело себя крайне нерешительно и было слишком озабочено внутренними проблемами собственной страны, чтобы заниматься еще и Польшей.
Меня представили новому министру иностранных дел Франции Талейрану. Я познакомился с такими важными лицами как Баррас, Бартелеми, Пишегрю, Тальен, Сийес и большинством французских генералов, принимавших участие в итальянской кампании.
Всех этих людей чаще всего я встречал в доме графа Лекутле де Кантеле. Они заходили сюда отобедать либо провести вечер. Именно здесь я узнал много подробностей о важнейших периодах французской революции и о главных событиях военных операций в Италии и Германии. В этом доме я также познакомился с генералом Бонапартом. Нас представил друг другу хозяин дома, и сразу после этого Наполеон поинтересовался, давно ли я уехал из Константинополя, как там поживает Обер дю Байе, кто из военнослужащих остался с ним, какие впечатления на меня произвела Турция?.. Мои ответы были столь же краткими, как и вопросы.
Однажды, когда я обедал у графа Лекутле де Кантеле, явился адъютант Бонапарта и подтвердил заказ генерала, который задерживался и не смог своевременно приехать.
После обеда находящиеся в зале дамы стали расспрашивать Наполеона о последних новостях из Рима, так как уже все знали, что дворец посла Франции Жозефа Бонапарта окружили, а генерал-адъютант Дюфо убит. Наполен очень любезно и доброжелательно пообщался с любопытными дамами и даже рассказал кое-какие подробности об этом происшествии. Говорил он хриплым голосом, и мне показалось, что в ту пору он должным образом еще не овладел навыками самовыражения. Я утверждаю это, вспоминая тот разговор, свидетелем которого стал сам. Бонапарт что-то говорил о видении, которое у него было за несколько дней до убийства генерала Дюфо, но я не смог расслышать подробностей о связи этого видения с реальностью. Слушали его, затаив дыхание, хотя всех удивило не столько само видение, сколько то, что такие вещи звучат из уст героя дня.
Затем многие дамы собрались у пианино и попросили меня сыграть марш, который я написал для польских легионов. Наполеон тоже подошел к инструменту и сказал: «А давайте послушаем! Ведь это о польских легионах. Только всегда следует добавлять: об отважных польских легионах, потому что поляки дерутся как дьяволы».
После этого заговорили о музыке, о выдающихся итальянских композиторах… Бонапарт также поддержал этот разговор, с похвалой отозвавшись о Паизиелло.
Через два дня министр иностранных дел Талейран дал великолепный бал в честь возвращения генерала Бонапарта из Италии. Собрались высокие зарубежные гости и лучшие люди Франции[76].
Сам генерал Бонапарт явился на бал с большим опозданием. Взгляды всех гостей уже давно были устремлены на дверь, через которую он только что вошел в зал. Люди, не встречавшие его раньше, были немало удивлены. Перед ними стоял мужчина невысокого роста, худощавый, смуглое от усталости и от избытка солнечных лучей лицо, гладкие блестящие волосы, ниспадающие до самых глаз, простой серый сюртук, на вид человек серьезный и не очень располагающий к себе.
Казалось, Бонапарт совсем не замечал ни праздничной суеты, ни заискивающих взглядов гостей и чувствовал себя чужим на этой пышной церемонии, где главным лицом был все-таки он сам. Кое с кем из ближайшего окружения он все же обменивался короткими репликами, но как только замечал, что вокруг него растет толпа желающих приблизиться к нему, разглядеть, услышать его, Бонапарт хладнокровно переходил в другое место, а то и в соседние залы, где все повторялось сначала. Вскоре Наполеон уехал: то ли от усталости, то ли от скуки, то ли от желания заняться более полезными делами. Бонапарта совершенно не волновало, какое впечатление на публику произвело его появление на балу[77].
Сразу же после возвращения Бонапарта в Париж к нему явились руководители всех политических партий. Принимать их Наполеон отказался.
Парижане жаждали увидеть его. Толпы народа стояли на улицах и площадях, по которым предположительно он мог проехать. Однако никому так и не удалось встретиться с генералом. Правительство проявляло к нему огромное уважение. И когда у членов Директории возникала необходимость проконсультироваться с Бонапартом, к нему присылали кого-нибудь из министров с любезным приглашением принять участие в заседании. После изгнания Карно вакантное место в Институте было предложено Бонапарту. Желая засвидетельствовать признательность республики генералу Итальянской армии, правительство устроило грандиозное празднество, формальным поводом которому стала доставка в Париж мирного договора, подписанного в Кампо-Формио. Перед Люксембургским дворцом были воздвигнуты огромные декоративные сооружения, на которых над пятью членами Директории развивались знамена, завоеванные в Италии. С речью выступил сам Бонапарт. Из его уст, между прочим, прозвучали и такие слова:
«Чтобы обрести свободу, французский народ вынужден был воевать с королями. Чтобы получить конституцию, основанную на разуме, ему довелось восемнадцать столетий бороться с предрассудками: религия, феодализм, деспотизм приходили на смену друг другу и управляли Европой. А с момента подписания мира, который вы заключили недавно, начинается эпоха представительной формы правления. Я вручаю вам Кампоформийский мирный договор, ратифицированный императором. Этот мир обеспечит свободу, процветание и славу республике. Когда благополучие французского народа будет основано на лучших конституционных законах, станет свободной и вся Европа и т. д.».
Я часто виделся с Сулковским, который был одним из адъютантов Наполеона и почти никогда с ним не расставался. Как-то он рассказал мне, что Бонапарт – человек довольно молчаливый, хмурый, задумчивый, как правило, чем-то озабоченный. На публике никогда не улыбается, а вот в узком кругу, среди своих, как это бывало в доме графа Лекутле де Кантеле и везде, где не было людей, чье присутствие стесняло его, генерал охотно включался в разговор и поддерживал беседу. В общении с глазу на глаз с Сулковским он откровенно и доверительно делился своими планами, а порой до слез смеялся, услышав какую-нибудь пикантную историю о дамах, которых знал лично. Как уверял меня Сулковский, вернувшись в Париж, Бонапарт поселился в маленькой, очень скромно обставленной квартире, и большую часть дня проводил над географическими картами. Он расстилал их на ковре в своем кабинете и с компасом и карандашом в руках переходил от одной карты к другой, намечая маршруты предстоящих кампаний и планируя то вторжение в Англию, то поход в Египет. В свет выезжал редко. Иногда посещал театр, где всегда предпочитал место в задрапированной ложе. Чаще всего домой возвращался часам к девяти, а затем при лампе читал до двух-трех часов ночи.
Несмотря на все знаки уважения, которые Директория оказывала Бонапарту, ни для кого не было секретом, что ее руководители завидуют генералу. Завидуют его славе, его весу и влиянию, его популярности. А вот солдаты и офицеры, возвращающиеся во Францию, с восторгом рассказывали о боевых способностях своего генерала.
Тем временем разногласия между членами правительства создавали все больше и больше препятствий для нормального развития страны. Работа центральных органов управления Франции не оправдывала ожиданий людей. Со всех сторон сыпались жалобы и нарекания. Многие стали с надеждой обращать свои взоры на триумфатора итальянской кампании.
Прошло несколько месяцев, как я приехал в Париж. На моих глазах Франция разрывалась на части от волнений и действий заговорщиков. К чему это могло привести, предугадать было сложно. Мне же представлялось, что близится правительственный переворот и грядут новые перемены. И это уже было вопросом времени. Такая перспектива ничего хорошего для поляков не сулила, и нам ничего не оставалось, как запастись терпением и ждать.
Ход моих мыслей подтвердил и министр иностранных дел Талейран, с которым я встретился перед отъездом из Парижа. Хочу воздать должное этому политику. Он был первым, кто не стал услаждать наши химерические надежды и открыто сказал, что теперь полякам было бесполезно обращаться в правительство Франции со своими просьбами и ходатайствами. При этом признавал, что все его соотечественники озабочены судьбой польского народа, и охотно допускал, что придет день, когда французы захотят и смогут помочь нам возродить Польшу. Однако в данный момент, повторил министр, думать и мечтать об этом не следовало. Говоря обо мне, Талейран заметил, что человеку, имеющему семью, едва ли стоит приносить в жертву свое состояние и противиться искушению вернуться на родину. Он знал, что в России я попал в списки лиц, объявленных вне закона, лишенных состояния и подлежащих преследованию, но не учитывал, что и в Пруссии приняты самые суровые меры в отношении польских эмигрантов. Министр советовал мне ехать прямо в Берлин и обратиться к королю Пруссии, нынешнему союзнику Французской республики, который всячески демонстрирует свою приверженность этому альянсу. Он заверил меня, что я вполне мог рассчитывать на лояльность правительства Берлина, где в случае необходимости меня возьмет под свое покровительство официальный представитель Франции.
Я поблагодарил Талейрана за внимание и заботу обо мне и сказал, что прежде чем решусь отправиться в Берлин, должен внимательно изучить тамошнюю обстановку, а пока что остановлюсь в Гамбурге. Как-никак, оттуда уже ближе к Берлину. Я попросил о рекомендательных письмах для гражданина Робержота, полномочного представителя Франции в Ганзейских городах. Уже на следующий день эти письма доставил мне гражданин Дюран, руководитель секретариата министерства иностранных дел Франции.
Глава VI
Уехал я из Парижа в конце апреля 1798 года, позаботившись о том, чтобы при мне не было никаких документов, писем и записок, которые могли бы вызвать хотя бы малейшие подозрения. Именно в ту пору в душе моей появилась уверенность, и с ней я уже не расставался никогда, что Польша возродится. Но ни я, ни патриоты, которые всегда были рядом со мной, к этому уже причастны не будем. Спасения я ожидал исключительно от Провидения, от счастливого стечения обстоятельств, от польских легионов, которые действительно становились ядром национального представительства.
В Гамбурге мне пришлось вести себя крайне осторожно: я попал в поле зрения российских и английских агентов, которые постоянно следили за мной. Я не общался с экзальтированными типами, избегал встреч с подозрительными личностями, не поддерживал никакой переписки с соотечественниками, проживающими в Дрездене, Венеции и Париже. В конце концов, мне удалось не подставить себя под удар. Несколько раз я встречался с генералом Дюмурье, герцогом де Лианкуром и Александром Ламетом. Гораздо чаще виделся с генералом Валансом. Мне показалось, что он старался познакомиться со мной поближе. А вот к Риваролю я заходил каждый день. Беседовать с ним было одно удовольствие. Всякий раз я обязательно слышал от него что-нибудь поучительное, разумное и интересное. Больше всего мне нравилось, когда Ривароль читал статьи из своего словаря французского языка. Жаль, что природная лень не позволила ему завершить эту оригинальную работу. Запомнились также его любопытные разъяснения и комментарии к текстам Горация, которые мы вместе читали.
В Гамбурге я узнал из газет о новом походе французов в Египет. План этой военной экспедиции недавно разработал сам Бонапарт. Генерал понял, что не наступило еще время, чтобы воспользоваться раздором и смутой во французском обществе и возглавить правительство, а потому решил дистанцироваться от Директории и отправился в экспедицию в далекие края, где никто не будет мешать ему вести военные операции. И там, в Египте, вдали от Франции, от мятежных группировок и политических партий, он сможет стяжать себе новые лавры.
Египетскому походу предшествовали интересные события. По всей стране поползли слухи о высадке французов в Англии. В Нормандии, Пикардии и Бельгии начали сосредоточиваться французские войска, и это на самом деле не могло не беспокоить английское правительство. Наполеон лично следил за передвижением войск и неоднократно выезжал с инспекторскими проверками в указанные районы, тем самым великолепно подтверждая слухи. А в это время в Тулоне и других средиземноморских портах шла реальная концентрация французских вооруженных сил. Там уже дислоцировались отборные части сорокатысячной армии. Тринадцать линейных кораблей, четырнадцать фрегатов, четыреста транспортных судов в любую минуту были готовы взять на борт и эскортировать это войско под командованием генералов Бертье, Кафарелли, Клебера, Дезе, Ренье, Ланна, Дюма, Мюрата, Андреосси, Бельяра, Мену и Зайончека. Уже был сформирован штаб Бонапарта. В числе адъютантов Наполеона были его брат Луи Бонапарт, Евгений Богарне, Дюрок и Сулковский. В обстановке сверхсекретности в состав участников экспедиции включили и сотню членов комиссии наук и искусств.
19 мая 1798 года корабли французского флота под командованием вице-адмирала Брюэса вышли из Тулона. 13 июня французы заняли остров Мальта, а 1 июля высадились в Египте и овладели Александрией. Победные реляции об успехах французской армии распространялись по Европе с удивительной быстротой. Но вот пришло сообщение о неожиданном разгроме французского флота в морском сражении при Абукире, и все заговорили о неминуемом провале египетской кампании, несмотря на все победы французов на суше.
Все прекрасно знают, что произошло в Египте и Сирии позже, до возвращения Бонапарта во Францию.
События в Египте никоим образом не касались Польши, и я не стал бы о них упоминать, если бы в рядах французских войск не воевали мои соотечественники, отличившиеся своей доблестью и ратными подвигами. В газетах и бюллетенях были опубликованы сообщения о награждении генерала Зайончека за личное мужество и отвагу, проявленные на полях сражений в Египте, и о гибели Сулковского, адъютанта Бонапарта, который пал смертью храбрых 21 сентября 1798 года под Каиром.
Но вернемся в Гамбург, где я влачил жалкое существование без денег и без всякой надежды. Я предпринял безуспешную попытку воссоединиться с семьей, которая находилась на польской территории, подвластной Пруссии. В конце сентября мне сообщили, что король и королева Пруссии во время путешествия в Варшаву интересовались у супруги о моих делах. Жена воспользовалась этой встречей и попросила о разрешении для меня вернуться на родину. После этого мне прислали паспорт вместе с очень любезным письмом от принца Вильгельма Оранского, шурина короля[78]. В этом послании, в частности, говорилось: «Искренне рад, что могу оказать вам услугу и содействовать вашему выезду на родную землю и возвращению в лоно семьи».
Трудно мне передать чувства, охватившие меня на польской границе. Мать моя несколько месяцев назад умерла. Ушли из жизни и многие друзья, а те, кого Бог уберег, находились за непреодолимой границей: путь в российские и австрийские владения был для меня заказан. И только король Пруссии предоставил мне пристанище на подчиненных ему польских территориях. Все мои поместья пропали, и мне ничего не оставалось, как остановиться в отцовском имении жены неподалеку от Варшавы.
Четыре недели я провел там в безумной тоске, совершенно не зная, чем заняться и что готовит мне судьба. Из глубочайшей меланхолии меня вывели слухи о том, что в Польше вновь начались аресты. Полиции якобы было дано указание удвоить бдительность и внимательно следить за действиями многих известных патриотов, среди которых фигурировали Игнаций Потоцкий, Малаховский и Солтык. Я решил немедленно ехать в Берлин, поблагодарить короля за разрешение побывать на родине и одновременно обезопасить себя от всяких подозрений, если таковые имеются.
15 ноября 1798 года я прибыл в Берлин. Невозможно передать незабываемые впечатления от теплого доброжелательного приема, оказанного мне королевской семьей.
Однако уже на следующий день мой добрый друг барон Рид, голландский министр, прислал мне записку. В ней сообщалось, что в то самое время, когда мне оказывали почести в королевском дворце, министру полиции доложили, что мое имя находится в списке подозрительных и опасных лиц. А на ужине у графа Шуллембурга меня назвали якобинцем, и все были в недоумении, почему король так расположен ко мне. Барон Рид успокаивал меня, что больших последствий это не получит и все недоразумения развеются, как только в светских кругах Берлина меня узнают поближе. А пока барон советовал мне не терять время и записаться на прием к министру иностранных дел графу Гаугвицу и министру полиции графу Шуллембургу.
Я так и поступил. Уже на следующий день побывал у обоих министров. Беседовать с ними было одно удовольствие, и в дальнейшем и тот и другой относились ко мне предельно корректно. Каждый из них сказал мне практически одно и то же, используя при этом одни и те же выражения. Они были прекрасно осведомлены о моем участии в восстании 1794 года и не видели в этом ничего предосудительного, так как защита родины – долг каждого гражданина. Министры знали о моем пребывании в Венеции, Константинополе и Париже, а также об остальных моих делах после восстания. Все это не вызывало с их стороны никаких упреков: как свободный человек я мог поступать согласно своим желаниям и убеждениям. Ни один, ни другой не сомневались, что вести себя в Пруссии я буду благоразумно и достойно, а правительство возьмет меня под свое покровительство и обеспечит мне тихую, спокойную жизнь во всех владениях Его Величества короля Пруссии.
Почти четыре месяца я жил в Берлине и все это время обдумывал, как можно получить разрешение на въезд в Россию. Все варианты, которые приходили в голову, я вынужден был отметать, так как в Петербурге у меня никого не было, кто мог бы порадеть за меня. А в Литве нашлось бы много людей, не желавших моего приезда, и они очень огорчились бы, если бы я туда вернулся.
Король не раз и не два подробно расспрашивал меня о конфискации моих земель и о причинах гонений против меня. В один прекрасный день через графа Гаугвица король передал мне свой совет: обратиться с письмом к императору Павлу. Предполагалось, что мое письмо царю вручит уполномоченный Пруссии в Петербурге, который уже получил инструкции об оказании мне поддержки от имени короля.
Такой демарш показался мне очень многообещающим. А получилось все наоборот: император Павел оскорбился, что бывший российский подданный ходатайствует о помощи от имени чужого двора, вместо того, чтобы напрямую обратиться к нему со своей просьбой.
29 марта 1799 года я получил письмо от графа Ростопчина:
«Господин граф! Его Величество император, ознакомившись с вашим посланием от 12 марта сего года, счел невозможным удовлетворить вашу просьбу и повелел мне довести это до вашего сведения.
Честь имею и т. д. и т. п.
Подпись: Ростопчин».
Много лет спустя я узнал, что была и еще одна причина, по которой император Павел мог отказать в моей просьбе. Дело в том, что незадолго до того, как в Петербурге получили мое письмо, в одной гамбургской газете появилась статья о моей работе в Константинополе, о частых встречах с Обером дю Байе и о контактах с членами Директории в Париже. В Петербурге все это истолковали против меня, о чем было доложено императору Павлу.
Покинув Берлин, я вновь приехал к семье. В полном уединении, в нужде, ничем не занимаясь, жил в деревне. Подробности из моей личной жизни вплоть до 1802 года не представляют никакого интереса. Дважды съездил в Берлин, где встречал неизменную поддержку, покровительство и сердечный прием у короля. Еще раз написал императору Павлу, но ответа так и не дождался. Затем пришло сообщение о кончине российского монарха 24 марта 1801 года.
Через несколько месяцев обратился к императору Александру, преемнику Павла. Я так поверил в великодушие и благородные чувства нового российского царя, что не сомневался в его положительном ответе. Не знаю, быть может, письма мои не доходили до Петербурга, а возможно, новые владельцы моих конфискованных земель и личные враги чинили какие-то препятствия для моего возвращения в Россию, но ждать, пока сбудутся мои надежды, мне довелось долго.
В Пруссии из газет легко было получить информацию о событиях во Франции и общей ситуации во всей Европе. Это было хорошим подспорьем для меня. После моего отъезда из Гамбурга в жизни европейских государств и дня не проходило без интересных фактов первостепенной важности. Последней новостью, которую все активно обсуждали, стало сообщение о морском сражении при Абукире.
Пока французские войска под командованием генерала Бонапарта вели бои в Египте и уже стали угрожать Сирии, генерал Жубер занял Турин, генерал Шампионне вошел в Неаполь, провозгласил Партенопейскую республику, и теперь вся Италия оказалась под властью Франции. Несмотря на все эти успехи в самой Франции ничего не менялось. Там по-прежнему царили разногласия, распри, тревоги и недовольство.
В то время как уполномоченные республиканцы в Раштатте вели переговоры о мире с Империей, сформировалась вторая коалиция, объединившая все европейские державы за исключением Пруссии и Испании. В коалицию решилась вступить и Россия несмотря на мирные инициативы императора Павла. Из-за нашествия французских войск в Египет коалицию поддержали Берберийские государства, а также Оттоманская Порта.
Имея явное превосходство в численности вооруженных сил, страны коалиции одновременно пошли в атаку на Францию в трех зонах: в Италии, Швейцарии и Голландии. Наступательные операции прошли столь успешно, что во французской столице не на шутку встревожились. Внутриполитическая обстановка обострилась до предела.
Посол Франции в Берлине Сийес был срочно отозван в Париж, где в Директории заменил Ревбеля. Сийес пытался отменить республиканскую конституцию III года и установить новый, более умеренный основной закон, над текстом которого сам усердно работал.
Генералы Массена, Брюн, Жубер, погибший в сражении при Нови, и Шампионне оказывали яростное сопротивление союзническим войскам. Однако раздоры между членами правительства и ожесточенная борьба между партиями довели ситуацию в республике до критического состояния.
Тем временем генерал Бонапарт, внимательно отслеживавший все события во Франции, оставил Египет, пересек на фрегате Средиземное море, кишевшее английскими кораблями, и 9 октября 1799 года сошел на берег во Фрежюсе. Его восторженно встречали по дороге в Париж. В столице уже заждались Наполеона генералы, члены Директории, депутаты и даже ультрареспубликанцы. Каждому хотелось представиться ему, получше разглядеть его, услышать каждое слово корсиканца. В его честь справлялись праздничные вечера и обеды. А Бонапарт все время оставался бесстрастным наблюдателем, степенным, серьезным, сдержанным и не очень предупредительным человеком, который молча строил свои планы, на осуществление которых потребуется не так уж и много времени.
После некоторых колебаний он пошел на сближение с Сийесом, так как увидел в нем единственного сторонника, способного понять и активно поддержать его замыслы. Они пришли к единому мнению о необходимости отмены конституции III года. 19 брюмера VIII года (10 ноября 1799 года по старому стилю) после блестяще спланированной и проведенной операции, в которой Сийес проявил неповторимую ловкость и сноровку, а Бонапарт все свое влияние среди военных, с народным представительством во Франции было покончено. В состав временного правительства вошли три консула: Бонапарт, Сийес и Роже Дюко, а также две законодательные комиссии, которым было поручено подготовить новую конституцию и определить окончательный порядок вещей.
Политические партии настолько устали от разлада и глубоких разногласий, царящих во Франции, что почти все они выступили в поддержку нового правительства.
24 декабря 1799 года была опубликована конституция VIII года, которая не имела ничего общего с проектом Сийеса. Бонапарт как первый консул возглавил правительство. Камбасерес и Лебрен стали вторыми консулами с правом совещательного голоса.
Бонапарт назначил генерала Моро командующим Рейнской армией, а сам 6 мая 1800 года отправился в Италию. Там он провел великолепную сорокадневную кампанию, ознаменовавшуюся большими успехами, в том числе яркой победой в сражении при Маренго.
На этот раз Париж с особым радушием встречал Бонапарта, так как все ожидали восстановления мира на континенте. Со дня битвы при Маренго до подписания долгожданного мирного договора Бонапарт не скрывал своего расположения к партийным лидерам, заявлявшим о своей преданности и верности ему, и сурово порицал тех, кто осмеливался усомниться в правоте его решений и действий.
Наконец, 9 февраля 1801 года в Люневиле был подписан пресловутый мирный договор, который в основном подтверждал условия Кампоформийского мира. Только теперь территория левого берега Рейна полностью переходила к Франции, а границы австрийских владений устанавливались по реке Адидже. Австрийский император признавал зависимые от Франции Батавскую, Гельветическую, Лигурийскую и Цизальпинскую республики, а также оставлял французам Тоскану, отданную сыну герцога Пармского Людовику.
Процесс укрепления мира в Европе набирал силу. После Люневильского мира был подписан Флорентийский договор с королем Неапольским, Мадридский договор с Португалией, Парижский мир с императором России. Начались предварительные переговоры о мире с Оттоманской Портой.
И только одна Англия не торопилась подключаться к этому процессу. В Булонском лагере и его окрестностях было сформировано двухсоттысячное войско, призванное противодействовать этой державе в случае, если она попытается создавать препятствия на пути к установлению мира. Англии даже угрожали высадкой десанта. Несметное количество плоскодонных судов, предназначенных для транспортировки французской армии к берегам Темзы, сосредоточилось во всех портах на севере Франции.
Все эти новости интересовали меня главным образом потому, что в триумфальных боевых операциях французских войск активное участие принимали и польские легионы. В армейских бюллетенях можно было прочитать немало материалов о награждениях польских военных, а такие фамилии, как Домбровский, Зайончек, Княжевич, Сокольницкий, Рымкевич и многие другие постоянно повторялись в газетах. Жаль только, что никому из моих соотечественников не удалось подробно описать подвиги поляков, совершенные в кампаниях в Италии, Германии, Египте, а затем в Санто-Доминго, Испании, Пруссии и России.
В последние дни октября 1801 года я получил, наконец, ответ из Петербурга. Князь Адам Чарторыйский, располагающий полным доверием императора Александра и использующий свое положение исключительно для поддержки наших соотечественников, выхлопотал для меня разрешение на въезд на родину и выслал его мне. Я получил этот документ в Белостоке в замке госпожи Краковской, сестры покойного короля Станислава. Там, вблизи от польско-российской границы, я провел несколько недель. Хозяйка замка – добрая почтенная дама – позаботилась о том, чтобы я по-настоящему отдохнул. Там я в последний раз повидался с князем Юзефом Понятовским.
Генерал-губернатор Литвы Беннигсен прислал мне паспорт, и я без труда пересек границу. В Гродно дал клятву верности и 5 февраля 1802 года прибыл в Петербург.
книга восьмая
Глава I
Здесь, в России, после восьми лет эмиграции я предполагал завершить свои записки, которые старательно вел вплоть до этого времени. Я потерял всякую надежду хоть чем-то быть полезным своей стране, соотечественникам и принял решение навсегда отойти от общественной деятельности и провести остаток жизни в покое и безвестности.
Много лет спустя непредвиденные обстоятельства вынудили меня пересмотреть это решение. Я вновь взял в руки перо, чтобы описать самые интересные для поляков события, состоявшиеся в период с 1810-го по конец 1815 года. Не желая, однако, чтобы в моих Мемуарах появился пробел о том, что произошло в течение восьми лет, я и пишу эту книгу, где кратко излагаю основные эпизоды и факты 1802–1810 годов, а также некоторые подробности своей частной жизни.
Содержание следующего тома составят события последних пяти лет. Там и будет поставлена последняя точка в моих записках.
Низкопоклонником и льстецом я никогда не был. Все, что я скажу про императора Александра не продиктовано никакими личными интересами и амбициями еще и потому, что сейчас, когда пишутся эти строки, императора уже нет с нами, и вся Европа скорбит о его кончине[79]. Но почтительное отношение к истине и потребность высказать свои чувства не позволяют мне обойти молчанием впечатление, которое родилось в моем сердце и уже никогда больше не покидало меня с тех пор, как я впервые встретился с императором в Петербурге.
Доброта и забота, которые впоследствии он мне оказывал, симпатия и лестные знаки внимания к моей особе, сердечность и теплота наших встреч вплоть до последнего свидания в 1817 году, когда я имел счастье видеться с ним, внимание ко мне и моей семье – вот чем привлекал меня к себе император Александр… А его доверие к полякам, его уважение и покровительственное отношение к моим соотечественникам, его стремление развивать народное просвещение в польских провинциях, подвластных России, и, конечно же, его желание возродить Польшу – разве меня как поляка все это могло оставить равнодушным?..
Я немного увлекся и заговорил о событиях, произошедших на последней стадии моего пребывания в России. В свое время я обязательно вспомню и о них, а пока вернемся к нашей первой встрече с императором Александром, состоявшейся в Петербурге 15 февраля 1802 года.
Император принял меня с присущей ему предупредительностью и приветливостью. Он с живым интересом расспрашивал обо всем, что со мной приключилось. Затем дал указание генерал-прокурору Беклешову представить ему мое прошение и совершить все по справедливости, дабы удовлетворить мои пожелания.
Раньше я и в мыслях не мог допустить, что сам император сочтет возможным хлопотать обо мне перед высокопоставленным чиновником. И мне ничего не оставалось, как порадоваться за господина Беклешова. Ведь в годы моей эмиграции этот человек, будучи генерал-губернатором среднерусских провинций, был одним из самых жестоких моих преследователей, а теперь стал усердным покровителем и добрым другом.
Из того, что я имел в Польше до революции 1794 года, мне теперь ничего не принадлежало. У меня не было разрешения требовать возвращения своих владений, которые были конфискованы и распределены среди различных лиц.
По высочайшему повелению императора для рассмотрения моего вопроса была создана специальная комиссия, и я получил право на наследование всего того, чего меня лишили во время моего отсутствия. Кроме того, мне назначили пожизненную ренту, которой было вполне достаточно и для меня, и для семьи.
В Петербурге меня застала новость о мире между Францией и Англией, подписанном в Амьене 25 марта 1802 года. Согласно этому документу Англия признавала все территории, завоеванные Французской республикой на континенте, включая зависимые от Франции республики, и возвращала захваченные колонии. Амьенский договор завершал процесс умиротворения в Европе.
Перспектива восстановления Польши стала далекой как никогда. Но какой-то неведомый инстинкт подсказывал мне, что наступит время, когда моя страна возродится именно благодаря Александру.
28 апреля 1802 года я выехал из Петербурга с твердым намерением обосноваться вместе с семьей в деревне под Вильной, жить там в полной свободе, ни от кого не зависеть и если чем и заниматься, то только обустройством усадьбы.
Несколько недель спустя я узнал, что император Александр собирается совершить поездку в Минскую губернию и в Белую Русь. Я посчитал своим долгом выразить царю свое почтение в этих краях, где благодаря его покровительству и благосклонности я совсем недавно обрел уют и покой.
Именно с этой поездкой связаны мои воспоминания, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не дадут угаснуть чувствам любви и преданности, родившимся тогда у меня к Александру.
Императора сопровождали его адъютанты граф Ливен, князь Волконский, граф Кочубей и господин Новосильцев. В Минске царю представили меня вместе с высшими чинами губернии. Когда я благодарил Александра за позволение оказать ему почтение здесь, у себя на родине, где не был целых восемь лет, находясь в эмиграции, он со слезами умиления воскликнул: «Как? Вы восемь лет провели вдали от родины?..» И по выражению его лица я догадался, что он доволен, что смог вернуть семье и соотечественникам человека, вынужденного по политическим причинам так долго скитаться на чужбине.
На обеде у минского губернатора говорили о научных учреждениях Англии, о крупнейших астрономических обсерваториях в Европе, о знаменитых ученых и художниках. Реплики императора красноречиво свидетельствовали, что он хорошо разбирается в вопросах науки и искусства.
Встал вопрос о неприкосновенности жилища иностранных дипломатов в Риме, где преступники укрылись от полиции в резиденции одного зарубежного представителя. Император был возмущен такой привилегией, которая, по его словам, противоречит всем принципам морали и справедливости. Он добавил, что не потерпит, чтобы российские дипломаты пользовались такими преимуществами за границей.
Когда речь зашла о Константинополе, граф Кочубей, видя доброе расположение императора ко мне, поинтересовался, знает ли Его Величество о том, что я находился в этом городе под чужим именем как представитель польских патриотов в те годы, когда он был там послом России?.. Глядя мне прямо в глаза, Александр улыбнулся и сказал, что, конечно же, осведомлен об этом, и тут же спросил, куда я отправился после Константинополя? Я ответил, что из Константинополя мой путь лежал в Париж, где мне хотелось удостовериться в том, о чем я знал из газет и не очень внятных донесений. События, происходящие тогда во Франции, вызывали во мне восхищение. Эпоха террора стала историей, и я был убежден, что французская революция несет человечеству огромную пользу… По прибытии во Францию я понял, в каком ложном свете мы порой воспринимаем явления и факты, когда судим о них издалека. В 1797 году это уже был совсем другой Париж, чем я его себе представлял.
Император стал серьезнее и сказал: «Вы совершенно правы, говоря, что мы нередко ошибаемся, когда смотрим на вещи глазами других людей и не воспринимаем события сами в непосредственной близости от них. Однако не следует впадать в другую крайность и осуждать, отбрасывать все, что не получило успеха. Необходимо использовать чужие ошибки и стараться избегать их. Никогда нельзя терять из виду то, что может привести к общему успеху».
Ничто не могло сравниться с моим изумлением и восхищением, когда я услышал эти слова, которые так хорошо выражали величие души и возвышенность чувств Александра.
На балу император танцевал со всеми присутствующими дамами. В какой-то момент он подошел ко мне и сказал: «Я с удовольствием замечаю, что предрассудки начинают рассеиваться в этих краях. Вот уже и мещанкам находится место в дамской элите. В моих немецких провинциях в Ливонии и Курляндии такое происходит давно. Но для меня стало приятным сюрпризом, что прогресс цивилизации дошел и до Минской губернии, где, как и в вашей стране, так сильно держались за старые предрассудки».
Мне казалось, что все это происходит во сне, и мне ничего не оставалось, как признать, что ни один монарх кроме Александра не сможет дать своим подданным счастья и заслужить их любовь и признательность.
Я сопровождал императора в его поездке в Могилев и Витебск. Обедал с ним. Бывал на балах и празднествах в его честь и собственными глазами видел, с каким восторгом его встречают люди всех сословий.
Покидая Витебск, император посадил к себе в карету генерала-от-инфантерии, военного губернатора Белой Руси Римского-Корсакова, который проехал с царем до первой почтовой станции. Вернувшись, генерал разыскал меня и сообщил, что император много рассказывал ему обо мне и высказал самое благосклонное суждение о моей особе. Римский-Корсаков, с которым я впоследствии подружился, дал мне совет ехать в Петербург, где, как он уверял, я смогу получить достойное место и пользоваться полным доверием императора.
Меня глубоко тронуло искреннее стремление генерала изменить мою жизнь и судьбу. Но я уже принял окончательное решение полностью отойти от общественных и государственных дел. Они перестали привлекать меня после того, как я потерял родину, которой мог бы послужить. Я вернулся в свою деревню и оставался там до самого конца 1806 года.
За эти четыре года пламя войны, на какое-то время притушенное мирным процессом, вновь разгорелось в Европе. Изменения в правительстве Франции расшатывали политическую систему всех европейских государств.
Бонапарт прекрасно сознавал стратегическую важность сохранения за собой острова Санто-Доминго, население которого сбросило иго Французской республики, и поэтому послал туда тридцатитысячную армию под командованием генерала Леклерка. Ее главной задачей являлось восстановление французского владычества на острове. В числе солдат и офицеров этой армии было немало поляков. Экспедицию постигла горькая участь: в условиях нездорового климата почти все воины погибли. Там нашли свою смерть и многие мои соотечественники. Особую скорбь в моей душе вызвала гибель генерала Яблоновского, которого я уже упоминал несколько раз.
6 мая 1802 года принятый по предложению Трибуната сенатус-консульт объявил о назначении Бонапарта консулом на десятилетний срок. 2 августа того же года Сенат сообразно решению Трибуната и Законодательного корпуса с согласия народа, опрошенного посредством всеобщей подачи голосов, провозгласил Наполеона пожизненным консулом.
26 августа 1802 года остров Эльба, а 11 сентября Пьемонт были присоединены к Франции. 9 октября Бонапарт занял Парму. 21 октября тридцатитысячная французская армия вступила в Швейцарию.
Такие действия Франции ускорили разрыв отношений с Англией. 13 мая 1803 года английский посол Витворт покинул Париж. Через год, 18 мая 1804 года, Наполеон Бонапарт был провозглашен императором, и папа Пий VII 2 декабря приехал в Париж на ритуал его коронации.
Одной из первоочередных забот Наполеона в ту пору было создание новых республик по образцу империи. И начал он с Италии. Приняв депутацию Цизальпинской республики, которая решила восстановить наследственную монархию в пользу нового императора французов, Бонапарт завладел этим королевством и 26 мая 1805 года в Милане получил железную корону. Своего приемного сына Евгения де Богарне он назначил вице-королем Италии.
Разрыв отношений с Лондоном побудил Бонапарта вновь вернуться к плану высадки войск в Англии. Снова вспомнили о Булонском лагере. Во всех портах на севере страны появились военные корабли. И в это время о себе заявила третья антифранцузская коалиция. 11 апреля 1805 года был подписан союзный договор между Великобританией и Россией. 9 августа к договору присоединилась и Австрия.
Наполеон срочно покинул Булонь и поспешил в Париж. 23 сентября по его настоянию Сенат принял решение о новом наборе восьмидесяти тысяч рекрутов. Уже на следующий день Бонапарт приступил к новой кампании. 1 октября он переправился через Рейн, вошел в Мюнхен и вынудил генерала Мака сдать Ульм. 13 ноября французы заняли Вену, а 2 декабря началось сражение под Аустерлицем, где армии Бонапарта противостояли австрийские и русские войска.
Победы при Ульме и Аустерлице привели к Пресбургскому миру, подписанному 26 декабря. Австрия признала Наполеона королем Италии и уступила ему Венецию, Далмацию и Албанию.
30 марта 1806 года Наполеон объявил своего брата Жозефа Бонапарта королем Обеих Сицилий. 5 июня Голландия была превращена в королевство, где королем стал брат Бонапарта Людовик.
12 июля 1806 года четырнадцать князей из юго-западной части Германии объединились и создали Рейнский союз под протекторатом императора Наполеона.
1 августа на сейме в Регенсбурге князья официально заявили о выходе из состава Священной Римской империи германской нации. Германская империя прекратила свое существование, и Франц II отрекся от престола.
Стремительное развитие всех этих событий и укрепление могущества Наполеона во многом обусловили создание четвертой антифранцузской коалиции. Пруссия, вставшая после Базельского мира на путь нейтралитета, возможно, и помогла бы союзникам в ходе последней кампании, если бы французские войска не проводили свои операции столь быстро и решительно, из-за чего война закончилась намного раньше, чем можно было предположить.
На этот раз Пруссия вступила в союз с Россией, чтобы изгнать французов из Германии. Располагая многочисленной и хорошо обученной армией, Пруссия угрожала Наполеону разрывом мирного договора и активными военными действиями, если он не позволит прусским войскам перейти Рейн.
Как раз в то время, когда русские войска двинулись к западным границам России, а Пруссия делала явные шаги к разрыву отношений с Францией, я решил уехать из своей деревни и провести зиму 1806 года в Вильне.
Я видел, что центр политических событий перемещается на запад, и мне хотелось быть поближе к ним. Кроме того, я полагал, что жить в столице благоразумнее и спокойнее, нежели в глухой провинции, где все более-менее известные личности всегда на виду и становятся предметом пересудов. Мне не хотелось лишних разговоров еще и потому, что с некоторых пор в здешних провинциях стали появляться тайные агенты Наполеона. А кто-то, возможно, по неосторожности, возможно, по глупости прислал на мой адрес послание, из-за которого у меня могли возникнуть неприятности.
Глава II
Не успел я появиться в Вильне, как пришла новость о разгроме прусской армии. Это случилось в самом начале кампании в первые дни октября 1806 года. После битвы при Йене и Ауэрштедте 14 октября и взятия Эрфурта, Лейпцига и других населенных пунктов в окрестностях Берлина Наполеон 27 октября с триумфом въехал в немецкую столицу.
1 ноября генералы Домбровский и Выбицкий по указанию Наполеона выступили с обращением к польскому народу. Они извещали своих соотечественников о скором прибытии Костюшко, который присоединится к ним и будет сражаться под эгидой и покровительством императора французов за свободу Польши. Все с энтузиазмом восприняли это обращение. У людей вновь засветилась почти совсем угасшая искра надежды. А это было как раз то, на что и рассчитывал Наполеон. Он был убежден, что поляки окажут ему мощную поддержку в предстоящей войне с Пруссией и Россией.
Перед выездом из Парижа Бонапарт любезно предложил Костюшко принять участие в своей кампании и подписаться под обращением к польскому народу. Наполеон знал, каким доверием пользуется этот уважаемый человек среди поляков и какую любовь питают к нему соотечественники.
Однако Костюшко усомнился в обещаниях Наполеона о восстановлении Польши и превращении ее в свободное и независимое государство и не стал обманывать поляков надеждами, в которые не верил и сам.
Уединившись в деревне неподалеку от Фонтенбло, он безучастно взирал на все, что происходило вокруг, и с болью вспоминал, с какой беспечностью французы отнеслись к судьбе Польши, раздел которой они могли предотвратить, как и могли поддержать восстание 1794 года. Он отдавал должное военному таланту Наполеона и в то же время видел в нем властолюбивого завоевателя и деспота. А это претило его принципам и исключало всякое доверие к императору французов.
Отказ Костюшко вызвал негодование Наполеона, который попытался оправдать такое решение тем, что бывший польский военачальник по состоянию здоровья не может участвовать в его кампании. Тем не менее Бонапарт не перестал распространять новые обращения к полякам, обещая, что воевать они будут под началом своего любимого командующего.
Такие обращения, упования на возвращение Костюшко, доверие к непобедимому до сих пор Наполеону, его недавние победы в Пруссии, его уважительное отношение к польским военным, надежды на возрождение Польши, умело поддерживаемые наполеоновскими эмиссарами – все это воодушевляло жителей польских провинций, подчиненных Пруссии.
Со всех сторон прибывали добровольцы и становились под победные знамена французов, чье вступление в Варшаву стало подлинным триумфом. 16 ноября генерал Домбровский сформировал в Познани четыре полка новобранцев.
Восторг поляков достиг своего апогея, когда Наполеон расположил свой штаб в Познани. Несколько оброненных им фраз о былом величии Польши быстро стали достоянием поляков на всей территории, захваченной Пруссией. Правда, вскоре бюллетень, опубликованный в Париже, несколько охладил всеобщий восторг. В бюллетене излагались пожелания поляков, и при этом ничего не было сказано о намерениях Наполеона. В тексте, в частности, говорилось:
«Наше национальное достоинство, наша любовь к родине не только сохранились в сердцах поляков, но и закалились в беде. Главная страсть, главное желание поляков – вновь стать народом. Самые богатые оставляют свои замки и во весь голос требуют восстановления королевства. И ради этого они готовы жертвовать своими детьми, богатством и положением. Это действительно трогательное зрелище. Они уже нашли прежние наряды, они уже воскресили старые обычаи.
Удастся ли восстановить трон в Польше? Сможет ли этот великий народ возродиться и вновь стать независимым? Сможет ли он восстать из гроба и обрести жизнь? Один Господь, которому все подвластно в этом мире, даст ответ на этот важный политический вопрос. Не вызывает сомнений, однако, что все мы находимся в преддверии невиданных интереснейших событий».
Статья, опубликованная в этом бюллетене[80], дала повод для различных толкований. Некоторые не заметили в ней ничего существенного. Другие за ухищренными дипломатичными выражениями увидели стремление Франции скрыть от европейских государств подлинные планы Наполеона в отношении Польши и считали, что следует довериться обещаниям императора французов и ждать развязывания войны. Но поборники свободы задавались вопросом, можно ли верить в то, что человек, разрушивший свободу в своей собственной стране, сможет восстановить республику в Польше? А самые мудрые высказывали опасения, что Наполеон ловко использует польский вопрос для пополнения своей армии и получения субсидий с тем, чтобы осуществить свои далеко идущие планы.
Между тем основная часть населения, не склонная ни к каким рассуждениям, верила в скорое воскресение. А бесстрашные военные, слышащие лишь голос чести и командира, только и ждали сигнала, чтобы в патриотическом порыве покрыть себя славой в грядущих сражениях.
Русские войска под командованием генерала Беннигсена в ноябре заняли территорию Польши, захваченную Пруссией, овладели Варшавой, но при приближении французской армии ушли из столицы.
25 ноября Наполеон выехал из Берлина и, как я уже говорил, в Познани расположил свой штаб. Там же 11 декабря 1806 года он подписал мир с Саксонией, преобразовав ее в королевство и признав в ходе последней кампании короля Баварии и короля Вюртемберга. А в это время французские войска переправлялись через Вислу, и в Варшаве возводились мощные оборонительные сооружения.
После сражений при Пултуске и Голымине 26 декабря 1806 года под давлением русских войск Пруссия оставила польские земли.
В начале 1807 года корпус генерала Эссена, прибывший из Молдовы, пополнил войска генерала Беннигсена, и он возобновил наступательные операции. Бои местного значения предшествовали кровавому сражению при Эйлау 8 февраля 1807 года, в котором, по свидетельству самих французов, русские проявили исключительное мужество и героизм. Ни одной из сторон так и не удалось получить превосходство в этой битве. Тем временем русская армия под командованием генерала Беннигсена пошла в наступление на Торунь, пытаясь обойти левый фланг великой армии. Но этот маневр оказался неудачным. Французы приступили к зимнему расквартированию. Неожиданно маршал Лефевр получает приказ о наступлении на Гданьск. Он осадил этот крупный город, и 26 мая местный гарнизон капитулировал. 14 июня сражения при Гейльсберге и Фридланде стали завершающими в этой военной кампании.
Император России и король Пруссии находились в Тильзите. Русские генералы Багратион и Беннигсен запросили перемирия, которое было заключено 22 июня.
25 июня состоялась первая встреча императора Александра и императора Наполеона. Она проходила посередине реки Неман на плоту с закрытым павильоном. С одного берега к плоту на лодке прибыл Наполеон в сопровождении Мюрата, Бертье, Бессьера, Дюрока и Коленкура, с другого – Александр, великий князь Константин, Беннигсен, Уваров, Лобанов и Ливен. Одновременно лодки приблизились к плоту, и оба императора зашли в павильон, где провели двухчасовую беседу. На следующий день во встрече императоров принял участие и король Пруссии, а 8 июля 1807 года был подписан Тильзитский договор.
Следует прямо сказать, что с самого начала кампании 1806 года жители Литвы и всех польских провинций, занятых Россией, питали огромный интерес к Наполеону. Люди с жадностью вчитывались в его обращения к полякам, в прокламации Домбровского и Выбицкого, которые распространялись в Варшаве, в любые сообщения, где было хоть слово о будущем возрождении Польши.
Серьезные люди, конечно же, обратили внимание, что Костюшко наотрез отказался от лестных предложений Наполеона и не пожелал ни следовать за ним, ни подписывать какие-либо воззвания к полякам, что существенно подрывало доверие к Бонапарту вопреки варшавским прокламациям. Такие люди имели определенные сомнения, что Наполеон пойдет на восстановление былой независимости и мощи Польши, так как это не соответствовало ни его взглядам, ни всем его деяниям, совершенным доныне. И, наконец, внимательные наблюдатели допускали, что в своем стремлении склонить императора Александра к заключению соглашения либо к принятию мирных предложений Наполеон пожертвует Польшей и поляками во имя собственных интересов.
Я разделял подобные суждения. А тем, кто интересовался моим мнением, добавлял при этом, что, если даже Наполеону удастся овладеть Литвой и Волынью, то он создаст там отдельные герцогства, как это уже случилось на польских землях, отнятых у Пруссии, когда появилось герцогство Варшавское, или Мазовецкое, но только не Польское герцогство или королевство.
Уверенный тон, с которым я излагал свою позицию, вызывал негодование у многих моих соотечественников, которые восторгались и преклонялись перед Наполеоном. Но оставалось уже не так много дней, чтобы все убедились в правильности моих рассуждений.
В Вильне было немало людей с такими же мыслями. На многих особое впечатление произвело именно то, как Костюшко отнесся к предложениям Наполеона. Но факт остается фактом: двенадцать тысяч жителей Литвы и Волыни перешли границу и влились в ряды польских легионов. И если бы французские полки переправились через Неман и вступили в Литву, вполне возможно, что каждый, кто мог носить оружие, поспешил бы присоединиться к французам.
Жители Вильны замерли в ожидании результатов очередной военной кампании. Никто не мог сказать ничего определенного. И вот, наконец, почта принесла новость: в Тильзите подписан мирный договор. Выяснилось, что Наполеон вполне удовлетворен тем, что его императорство признал Александр и ему удалось сблизиться с этим монархом, который сегодня является единственным на континенте его самым сильным соперником. Императору России и засвидетельствовал Бонапарт свое уважение и расположение (отныне он это будет делать всегда) и постарался устранить все препятствия на пути к миру. Без всяких колебаний он выдвинул предложение о присоединении Варшавы и польских земель, захваченных Пруссией, к Российской империи. И хотя сторонники Наполеона сомневаются и не верят, что такое предложение действительно было, истина от этого не перестает быть истиной. На сей счет у меня имеются очень достоверные сведения.
Мы также узнали, что император Александр не принял такого подарка Наполеона, и тогда он создал Варшавское герцогство, присоединив его к Саксонии. В то же самое время на части отнятых у Пруссии польских земель Наполеон создает Белостокский округ с многотысячным населением и передает его императору России. Словно давая понять, что он вовсе не намерен овладевать Литвой и присоединять ее к Польше, Бонапарт с легкостью уступает Александру часть бывшей Польши и даже готов ему отдать все Великое герцогство Варшавское, лишь бы русский царь принял его принципы континентальной системы.
Такие новости потрясли жителей Вильны и польских провинций, занятых Россией. В семьях, члены которых были под подозрением, царили растерянность и паника. Многие молодые люди из Литвы и Волыни явно поторопились пойти на службу в польскую армию, и теперь их родственники и друзья подвергались преследованиям и травле. Все люди, которые только и ждали, чтобы наполеоновские полки поскорее переправились через Неман, были разочарованы и чувствовали себя обманутыми. Тильзитский мирный договор стал могилой, куда захоронили все надежды о возрождении Польши. Вера в Наполеона и его добрые намерения сильно пошатнулась во всех польских провинциях под господством России.
Обстановка еще более осложнилась после эрфуртской встречи двух императоров, когда их позиции еще более сблизились. Этому сближению способствовала и работа российского посла в Париже, а французского в Петербурге, которые предоставляли императорам исчерпывающую информацию обо всем, что могло стать угрозой внутренней безопасности обоих государств. Многие жители Литвы и Волыни были преданы как раз теми, кто подстрекал их к необдуманным поступкам!..
К счастью, при императоре Александре таких «злоумышленников» строго не наказывали и суровых мер по отношению к ним не применяли. Но чем больше люди ценили такое великодушие, тем меньше у них было желания повторять ошибки и идти навстречу правительству, которое с готовностью жертвовало каждым, в ком больше не нуждалось.
Создание Варшавского герцогства по условиям Тильзитского мира далеко не полностью отвечало интересам и чаяниям поляков, получивших недавно избавление от господства прусского короля.
Используя своих сторонников и эмиссаров, Наполеон старался внедрить полякам мысль о том, что в будущем появится возможность вернуться ко многим вопросам, которые сегодня еще не нашли своего окончательного решения. Бонапарт надеялся, что решение о назначении короля Саксонии, его верного союзника, главой Варшавского герцогства очень понравится полякам, которые в 1791 году приглашали этого вельможу на польский трон, поскольку процедура избрания короля Польши была упразднена конституцией 3 мая.
По распоряжению Наполеона была создана комиссия по разработке проекта конституции Варшавского герцогства. 22 июля 1807 года в Дрездене император французов одобрил и подписал текст конституции.
Конституция провозглашала католическую религию государственной и декларировала свободу всех вероисповеданий. Гарантировалось всеобщее равенство перед законом, упразднялась крепостная зависимость. Сеймики и гминные собрания назначали своих представителей в двухпалатный сейм. Король имел право законодательной инициативы, назначал сенаторов, министров, всех гражданских и военных сановников, руководителей сеймиков и гминных собраний. Министры входили в состав государственного совета. Они имели право роспуска сейма и осуществляли контроль над судопроизводством. Судьи исполняли свои обязанности пожизненно.
Варшавское герцогство, занимавшее территорию в тысячу восемьсот квадратных лье, было разделено на шесть департаментов: Познань, Калиш, Плоцк, Варшава, Ломжа и Быдгощ. Его население составляло около четырех миллионов человек.
Граждане Варшавского герцогства чувствовали себя вполне комфортно под властью монарха, к которому они относились с уважением и доверием. Им было лестно, что их достопочтенные сограждане занимают видные места в системе высших органов государственной власти, а бесстрашный князь Юзеф Понятовский возглавил военное министерство.
Однако вскоре новое герцогство, будучи слишком слабым, чтобы оградить себя от России и Австрии, стало ощущать на себе всю тяжесть повседневного существования. Давали о себе знать такие факторы, как содержание многочисленных армий, суммы к оплате по цивильному листу, составленному без учета реальных размеров страны и количества населения, управление герцогством саксонским королем, которого все уважали и любили, но чья ограниченная власть не могла защитить население от произвола военного правления Наполеона, и, наконец, система налогообложения и непосильные поборы, вынуждающие собственников продавать свои владения либо закладывать их в казну.
Нетрудно было догадаться, что при первом же конфликте между Францией и Россией или Австрией территория герцогства превратится в театр военных действий. И тем не менее польские военные настолько доверяли Наполеону, а его обещания о восстановлении всей Польши возымели такое магическое воздействие на население герцогства, что все терпеливо исполняли и свои обязанности, и воинскую повинность, и всяческие нововведения, переносили любые обиды в полной уверенности, что такие жертвы являются неизбежной платой за возрождение своей страны.
Глава III
Вскоре после подписания Тильзитского мира я получил разрешение императора Александра на сопровождение в Италию моей супруги, чье здоровье совсем испортилось из-за здешнего сурового климата. Я упоминаю об этой поездке только потому, что ей предшествовали некоторые события, вынудившие меня вернуться к делам, от которых я много лет назад отказался, и мне пришлось срочно съездить в Париж.
Из Вильны я уехал в сентябре 1807 года. Прибыл в Вену и оттуда отправился в Венецию, где волею случая оказался накануне приезда Наполеона. Он впервые посещал этот город с тех пор, как Венеция вошла в состав французских владений. По всему было видно, что средств на организацию встречи императора не жалели. Мне захотелось поприсутствовать на этом празднестве, и я попросил внести меня в список иностранцев на представление императору. Министр иностранных дел Италии Марескальки, к которому я обратился со своей просьбой, сообщил, что император с удовольствием увидится со мной на представлении, а дежурный камергер Карлетти уточнил, что это произойдет завтра в девять часов утра.
Ровно в указанное время я был во дворце, где остановился Наполеон. В большой передней я увидел вице-короля Италии князя Евгения, герцога Кадорского Шампаньи и много других лиц, сопровождавших императора. Вскоре дверь распахнулась и громкий голос сообщил: «Свита императора…» Люди из свиты прошли в кабинет, где, впрочем, долго они не задержались, потому что сразу же начали приглашать иностранцев и итальянцев.
Когда дежурный камергер произнес мою фамилию, Наполеон, согревавшийся у большого камина, направился ко мне и заговорил по-итальянски: «А, отлично! Вы – поляк!» и тут же перешел на французский: «Ведь вы поляк, не так ли?..» – «Да, государь, – ответил я, – живу на польских землях под российским владычеством». Он поинтересовался, давно ли я в Венеции. Я рассказал, что нахожусь здесь всего лишь два дня, остановился, чтобы воочию убедиться, с каким восторгом венецианцы встречают прибытие своего государя. Он учтиво сказал, что благодарен мне за это.
Затем Наполеон спросил, не намерен ли я провести некоторое время в Венеции. На что я ответил, что нахожусь здесь проездом и собираюсь ехать во Флоренцию, на юг Италии. «Вы очень правильно поступили, что выбрали для путешествия эту страну, – сказал император. – Я знаю, что поляки имеют пристрастие к искусству, и в этом отношении лучше Италии страны не найти».
Он задал еще несколько незначительных вопросов и остановил свой взгляд на моей орденской ленточке, потрогал золотой почетный знак у меня на униформе и сказал: «Ведь это польский орден Белого Орла». И тут же добавил: «Я удивляюсь, что император Александр разрешает носить такие награды на своих землях». Я ответил, что это все, что у нас осталось как память о политическом существовании Польши, и император Александр не пожелал лишать нас этой памяти, потому что он использует любую возможность, чтобы хоть чем-то помочь полякам и облегчить их участь, за что ему мы очень признательны.
Наполеон нахмурил брови, резко отвернулся от меня и обратился к князю В…, стоявшему рядом: «А вы, вы ведь русский? И вам ничего не остается, как приезжать в Италию за солнышком, у вас же нет его». Не дав человеку хоть что-то ответить, Наполеон стремительно пошел дальше, продолжая знакомство с остальными гостями. Кажется, мои слова об императоре Александре испортили настроение Наполеону, и это почувствовали все присутствующие, слушая его резковатые и не очень любезные реплики.
Бонапарт отошел от меня уже достаточно далеко, и не все я мог расслышать. Но затем мне многие рассказывали, что беседуя с каким-то итальянским господином, у которого на шляпе была черная лента, Наполеон сказал ему: «Вы носите траур… По жене… Ей повезло, что она умерла. Она же была интриганкой». Сам я не слышал этого разговора и не могу утверждать, что все прозвучало именно в таких выражениях, но я лично видел, как в конце церемонии Наполеон подошел к депутации евреев – самых богатых венецианских купцов, специально прибывших поприветствовать императора – и сурово сказал им по-итальянски: «Вы иудеи. Вас терпят во всех моих владениях, потому что я снисходительно отношусь ко всем вероисповеданиям. Но смотрите, не занимайтесь ростовщичеством! Не люблю ростовщиков и буду их вешать»[81]. Повернувшись в мою сторону, он добавил: «Куда ни приедешь – везде евреи, но нигде их столько нет, как у вас в Польше».
Бонапарт вновь обрел спокойствие и безмятежность и, словно желая исправиться за резкость в конце беседы со мной, очень вежливо проводил меня, выразив надежду, что я буду присутствовать на последующих торжествах.
Наполеон провел в Венеции еще несколько дней. Из-за своей болезни мне пришлось пробыть здесь более трех месяцев. Во Флоренцию я приехал только в начале февраля 1808 года и вместе с семьей собирался прожить здесь столько, сколько позволят обстоятельства.
Теперь это уже была совсем не та Тоскана, которую я оставил двенадцать лет назад. Когда-то этот цветущий край с богатейшей сельскохозяйственной и промышленной продукцией, а также активной торговлей пользовался всеми благами отеческого правления Леопольда и Фердинанда. Тихий, спокойный нрав жителей, развитое сельское хозяйство, высокий уровень всех отраслей промышленности, свобода, предоставляемая иностранцам, достижения науки и искусства – все это отличало Тоскану от других итальянских провинций.
Когда я вновь приехал сюда в начале 1808 года, Тоскана уже была под владычеством Франции. В одной только Флоренции двенадцать тысяч человек, прежде работавших на шелкопрядильных фабриках, доведены до нищенского состояния. Высокие налоги на вино, масло, соль, табак и другие товары постоянно усугубляют и без того нелегкую долю людей и вызывают ропот среди земледельцев. Но все покоряется силе, и как бывает в захваченных странах, французы богатеют за счет местного населения и лишь немногие коренные жители, верой и правдой служащие завоевателям, тоже набивают карманы казенными деньгами.
Я приехал в Тоскану как раз в то время, когда французскому политическому деятелю Доши было поручено сформировать там новое правительство. Вскоре ему на смену пришел генерал Мену. Он занял дворец Питти, стал генерал-губернатором Тосканы и получил очень широкие полномочия.
Хунта, состоящая из многочисленных парижских чиновников, завершила создание административно-политической системы Тосканы. Это случилось перед приездом сюда сестры Наполеона княгини Элизы – супруги князя Баччиоки. Во Флоренции она появилась в середине 1809 года и сразу же распорядилась о создании почетного караула. Из местной дворянской элиты ей удалось организовать великолепный двор.
Война, возобновившаяся в ту пору между Францией и Австрией, во многом усложнила пребывание иностранцев во Флоренции. В начале кампании передвижения австрийских войск сильно встревожили французских чиновников в Тоскане, так как все армейские подразделения французов были переброшены к границам Италии. По указанию княгини Элизы из гарнизона Лукки прислали сотню солдат, чтобы заселить опустевшие казармы во Флоренции.
Сторонники прежнего режима, составляющие большинство населения Флоренции, во весь голос выступали против новой администрации и ратовали за возвращение в Тоскану австрийцев. Тех немногих рабочих и торговцев, которые по принципиальным соображениям поддерживали французов, обзывали якобинцами и на них показывали пальцем. В целом следует признать, что благодаря мудрости и выдержке властей, а также миролюбивому характеру флорентийцев в городе сохранялась спокойная обстановка. И это при наличии всего лишь сотни солдат из Лукки да нескольких бойцов, которые по болезни оставались во Флоренции.
Горожане бранили французов и от души желали успехов австрийским войскам. Этим, собственно, все и ограничивалось. По-другому дела обстояли в деревне. Там доведенные до отчаяния крестьяне жаждали развязывания войны и скорейшего возвращения своего законного правителя.
Однако все надежды тосканцев были уничтожены французскими войсками и победами Наполеона. Судьба по-прежнему благоволила этому человеку, который обязательно добивался успеха несмотря ни на какие преграды.
После встречи с императором Александром в Эрфурте 27 сентября 1808 года Наполеон со своей восьмидесятитысячной армией отправился в Испанию. Там он выигрывает одно сражение за другим, покоряет большинство испанских провинций, торжественно вступает в Мадрид и узнает: Австрия воспользовалась его отсутствием и весной 1809 года начала кампанию против Франции.
Восстал Тироль, вестфальцы изгнали короля Жерома, зашаталась Италия, а Пруссия того и ждала, чтобы взяться за оружие.
Наполеон спешно оставил Мадрид. Его армия сгруппировалась на правом берегу Рейна. На этот раз Австрия хорошо подготовилась к боевым действиям и имела прекрасное вооружение. Австрийская армия переправилась через реку Инн и захватила Баварию. 17 апреля 1809 года штаб французских войск находился в городе Донаувёрт. Сражения при Экмюле и Эслинге, оккупация Вены 11 мая, битва при Ваграме 6 июля стали важнейшими военными событиями этой кампании в Германии, которая завершилась через несколько месяцев Венским миром, подписанным 14 октября 1809 года. Активные действия французов вынудили австрийскую армию забыть о запланированном походе в Италию, где австрийцы нашли бы немало сторонников, особенно в Тоскане.
Варшавское герцогство могло полагаться лишь на собственные силы. В его распоряжении имелся единственный не очень боеспособный армейский корпус. Все польские легионы находились либо в Испании, либо дислоцировались в прусских крепостях. Эрцгерцогу Фердинанду не составило большого труда проникнуть со своей сорокатысячной армией на польские земли и направиться прямо на Варшаву.
Князь Юзеф Понятовский, имея под своим началом от восьми до десяти тысяч штыков, 19 апреля оказал яростное сопротивление австрийцам у Рашина, но вынужден был уйти из Варшавы, чтобы уберечь город и пощадить жителей. В соответствии с актом о капитуляции, подписанным эрцгерцогом Фердинандом и князем Понятовским, 21 апреля 1809 года австрийские войска вступили в столицу
Князь Понятовский, нисколько не сомневаясь, что его встретят как освободителя на польских землях под владычеством Австрии, где он сможет укрепить свое войско новобранцами и создать благоприятную обстановку для действий французской армии, пошел в наступление со стороны Галиции.
14 мая он уже был в Люблине. 19 мая после трех затяжных атак капитулировал Сандомир. Под напором доблестной польской армии не устояли Ярослав и Замость. Повсюду люди восторженно встречали наши войска. Их ряды пополнялись добровольцами. Им помогали чем могли.
В ночь с 1 на 2 июня австрийцы вывели войска из Варшавы. 15 июля князь Понятовский во главе четырнадцатитысячной армии вступил в Краков. В этой кампании особенно отличились такие офицеры, как Владимир Потоцкий, Сокольницкий, Каминский, Годебский, Рознецкий, Косинский, Вейсенгоф и другие.
По Шенбруннскому, или Венскому мирному договору Варшавское герцогство расширило свою территорию на девятьсот квадратных лье. Эта территория была разделена на четыре департамента: Краков, Радом, Люблин и Седльце. Соляные копи Велички стали владениями Австрии и Варшавского герцогства. Округа Тарнополь и Збараж, ранее входившие в состав Галиции, перешли к России. Согласно этому мирному договору Франция, получив новые территориальные концессии в пользу своих союзников и Италии, приобрела себе Иллирию и Истрию.
С самого начала этой кампании все связи с Россией нарушились, а после оккупации французскими войсками Вены, контакты с этой страной и вовсе прекратились, в частности, для тех, кто жил в Италии. Я посылал свои письма в Париж, откуда российский посол князь Александр Куракин любезно согласился пересылать их в Литву. Однако ответа на них я во Флоренции так и не получил. И это доставляло мне дополнительные неприятности, так как вернуться на родину я мог, только дождавшись окончания войны. Князь Куракин очень учтиво старался уговорить меня приехать с семьей в Париж, где мы будем чувствовать себя спокойнее, и где нет перебоев в почтовой связи с Россией. В конце концов, я согласился и решил провести в Париже зиму 1809 года.
Пока военные вели свои баталии, на дорогах Италии, особенно в районах, прилегающих к Апеннинам, орудовали разбойники. Мародеры, австрийские дезертиры и даже обедневшие крестьяне вступали в сговор, бесчинствовали и грабили путешественников.
Рассредоточенные в самых различных местах шайки грабителей порой так наглели, что без всякого страха с угрозами приближались к городским воротам. Так, одна хорошо организованная бандитская группировка, совершив ряд разбойных нападений в окрестностях Болоньи, добралась до самой крепостной стены и наверняка прорвалась бы в город, если бы заблаговременно надежно не заперли ворота и не забаррикадировали въезд.
Неподалеку от Болоньи жил бывший польский военный Грабинский. В составе французских войск он принимал участие во всех кампаниях за исключением самой последней. Не так давно Грабинский вышел в отставку, купил себе домик и решил остаться в здешних краях. К нему и обратились местные жители с просьбой возглавить небольшой отряд из нескольких французских солдат и тридцати добровольцев, чтобы отогнать грабителей и покончить с бандитизмом. Поляк охотно согласился и смело взялся за это дело. Не раз и не два на него нападали, ранили в собственном домике, но, в конце концов, Грабинский и его отважные помощники навели порядок и налетчики оставили город в покое.
Я покидал Флоренцию уже после Венского мира, но спокойного путешествия никто гарантировать не мог. Самые большие опасности поджидали путников в апеннинских предгорьях.
Когда мы приехали в Болонью, нам рассказали, что дальше до самой Модены дорогу контролируют около ста пятидесяти разбойников. Я поинтересовался у префекта, насколько велики наши риски, если мы продолжим наш путь в Париж. Тот ответил, что ручаться ни за что не может и ждет свежую информацию о последних вылазках бандитов. И добавил, что он нисколько не удивится, если грабители окажутся в окрестностях Болоньи, от которой они, как правило, далеко и надолго не уходят. Префект посоветовал мне не рисковать и немного подождать.
Вечером форейтор, которого я отправил на разведку, рассказал, что он проехал полдороги до Модены и на почтовой станции в Самоджии видел, как сотни полторы бандитов подожгли большой сенной сарай, несколько жилых домов и перестреляли почти всех французских жандармов. Затем злодеи быстро скрылись в горах.
На следующее утро мы отправились в путь. В Самоджии остановились сменить лошадей. Прямо на дороге недалеко от моста мы обнаружили двадцать два трупа. На пожарищах еще дымились не догоревшие дотла бревна…
Благополучно проехали Модену, Парму, Милан, Турин, Шамбери, Лион и, наконец, 14 ноября 1809 года, оказались в Париже.
Глава IV
После заключения Венского мирного договора Наполеон уже вернулся во Францию и жил во дворце Фонтенбло. Там меня и представил императору посол России. Немного спустя двор переехал в Париж. Каждую неделю во дворце Тюильри устраивали мероприятия с участием дипломатического корпуса и иностранных гостей. По воскресеньям – месса в императорской часовне, по четвергам давали спектакли, иногда, правда, очень редко проводились вечера с последующим ужином.
В Париж я приехал в седьмой раз. Я бывал во французской столице в самые различные периоды и теперь пытался сконцентрировать свои воспоминания и впечатления на каких-то общих чертах в облике этого города.
Следует признать, что Париж – удивительный город, который очаровывает и манит к себе иностранцев. Но есть в нем одно великое преимущество: когда бы вы сюда ни приехали, какое бы правительство ни стояло у власти, какая бы форма правления ни действовала в государстве – вы никогда не заметите разительных изменений в этом многоликом городе.
В Париже всегда многолюдно, и жизнь бьет ключом во всех его кварталах. Здесь постоянно проводятся форумы выдающихся европейских ученых, замечательных писателей и художников. Даже во время революции во всех научных учреждениях Парижа поддерживался строгий академический порядок. Вместе с другими иностранцами я ходил в публичные библиотеки. Мы бывали на различных лекциях, слушали лучшие оркестры Европы, посещали мастерские живописцев. Мы восхищались талантом таких мастеров сцены, как Флери, Тальма, Ларив, Рокур и Дюшенуа, любовались великолепием театральных декораций и наглядеться не могли на изящные танцы артистов парижского балета. Магазинчики в Пале-Руаяль щедро предлагали изысканные предметы роскоши. Выйдешь в свет – глаз не оторвать от изумительных нарядов. В праздники на парижских бульварах яблоку негде упасть. Рестораны и кафе никогда не пустуют. На улицах – дорогие шикарные экипажи. Помнится, как в 1797 году на праздники выезжали до трех тысяч экипажей.
Вот и теперь, в первые дни после приезда в Париж, я не находил здесь каких-либо заметных перемен. Впрочем, кое-что во дворце Тюильри все-таки изменилось: это новые светские персоны и придворный этикет, который стал более претенциозным и вычурным. Обычные парижане, далекие от дворцовых интриг, пожалуй, ни в чем не изменились.
Я надеялся, что на этот раз увижу много новых зданий, поражающих своим внешним убранством, но надежды мои не оправдались. Единственным украшением триумфальной арки, на которую затратили миллионы, стали четыре лошади из позолоченной бронзы, снятые с церкви Святого Марка в Венеции. Мое внимание привлекли дома на новой улице Риволи, железная решетка ограды вокруг дворца Тюильри и реставрация Лувра. Мне много говорили о предстоящих декоративно-орнаментальных работах в Париже, показывали схемы, планы, но, кажется, все это – дело будущего.
Никак не мог я пройти мимо Лувра, в великолепных залах которого представлены шедевры, свезенные сюда со всей Европы.
Придворный театр, на который я возлагал столько надежд, большого восторга у меня не вызвал. А ведь там работают самые лучшие актеры, в оркестре играют выдающиеся музыканты.
Роскошь, блеск, пышность, царящие в Тюильрийском дворце, искусно сшитые дорогие наряды, ордена, медали и знаки отличия всех государств, жемчуга и бриллианты самых изысканных дамских украшений – все это вряд ли могло произвести сильное впечатление на человека, бывавшего на церемониях и торжествах во дворах почти всех европейских монархий. И тем не менее я столкнулся здесь с нововведениями, которые не оставили меня равнодушным и четко зафиксировались в памяти. Это прежде всего военные парады, которые проводились чуть ли не каждое воскресенье на площади перед дворцом Тюильри, и приезд многих коронованных особ, находившихся в то время во французской столице.
На самом деле, было очень интересно смотреть, как перед Наполеоном торжественным маршем проходили французские, итальянские, польские, голландские, португальские, испанские войска. И все дружно чеканили шаг, устремив вдохновенные взгляды на императора французов. А разве не любопытно было увидеть среди гостей сразу шесть королей и несколько королев, которые пребывали в Париже и своим появлением в Тюильрийском дворце подчеркивали значимость и величие нового императорского двора![82]
Ничего не буду говорить о празднествах в связи с бракосочетанием императора и эрцгерцогини Марии-Луизы, так как незадолго до этого события я вынужден был срочно уехать в Петербург по семейным обстоятельствам.
В конце мая я приехал в Вильну и был приглашен на собрание дворянства, где обсуждался вопрос о направлении жалобы императору Александру в связи с несправедливыми ограничениями и притеснениями свободы на территории Литвы. По таким вопросам обращаться непосредственно к императору было не принято. На этот счет имелось предписание о подаче заявлений граждан в связи с ущемлением их прав, в соответствии с которым направлять депутации с жалобами и ходатайствами в Петербург можно было лишь с согласия и разрешения военного губернатора. Генерал Римский-Корсаков, военный губернатор Литвы, вовсе не препятствовал своим гражданам обращаться к царю, тем более что к нему самому у них никаких претензий не было. Первые лица виленского дворянства пытались уговорить меня, чтобы я, решая в Петербурге свои частные вопросы, занялся и их делом и походатайствовал за них перед императором. Два дня я упорно отказывался брать на себя такую миссию, вновь и вновь повторяя, что много лет назад дал себе слово никогда не встревать в общественные дела. Однако дворяне просили меня так настойчиво, так убедительно, что я, наконец, согласился обсудить с Его Величеством их вопрос и даже предварительно изложить на бумаге его суть на основе фактов, которые они мне предоставят в Вильне. При этом я поставил два условия. Первое: в обращении к императору речь должна идти исключительно о самых важных вопросах, касающихся благосостояния всей губернии, а не частных лиц. Второе: срок, в течение которого я смогу в Петербурге заниматься выполнением взятого на себя обязательства, не должен превышать одного месяца.
Я уточнил также, что с первых дней пребывания в Петербурге охотно займусь вопросом виленского дворянства, однако рассчитывать на его быстрое решение не приходится, и поэтому предложил предводителю виленского губернского дворянства в случае необходимости заменить меня в Петербурге. Ведь может случиться так, что понадобятся какие-то дополнительные бумаги для более подробного изложения фактов. Такие материалы он мог бы привезти из Вильны и дожидаться в столице ответа императора.
24 июня 1810 года я прибыл в Петербург и уже не следующий день получил приглашение Александра на обед. Принял он меня, как обычно, очень тепло. Я рассказал, что помимо личных вопросов, которые, собственно, и привели меня в Петербург, у меня имеется прошение соотечественников из Вильны, уполномочивших меня довести его до сведения императора. Александр внимательно выслушал меня и, не скрывая своего удовлетворения в связи с тем, что жители Литвы доверили мне представлять их интересы, попросил как можно быстрее подготовить докладную записку и передать ее лично ему.
Через три дня мы вновь встретились на обеде. За столом на восемь персон были императрица, государственный канцлер граф Румянцев, обер-гофмаршал граф Толстой и дежурные адъютанты. После обеда император дал мне двухчасовую аудиенцию. Я вручил ему докладную записку и рассказал обо всех злоупотреблениях губернской администрации. Успешному выполнению моей миссии помогло и то, что император сам с интересом расспрашивал меня обо всех подробностях, о каких я мог только вспомнить. В конце беседы Александр признал, что не владел информацией о большинстве правонарушений в Литве, и обещал во всем разобраться и по возможности удовлетворить требования местного населения. Мне он посоветовал обратиться к государственному секретарю Сперанскому, которому будет направлена моя докладная записка. Он же и подготовит положительный ответ.
Я попросил императора учесть, что не хотел бы задерживаться в Петербурге больше месяца, и меня здесь заменит виленский предводитель губернского дворянства Сулистровский, который при необходимости предоставит дополнительные пояснения по этому делу. Александр заверил меня, что достойно примет господина Сулистровского.
Когда я уже выходил из кабинета император остановил меня и показал какую-то парижскую газету, где была помещена статья об отце князя Чарторыйского. Царь был в ярости и полагал, что в этой статье между строк скрыты мысли Наполеона, который, поддерживая поляков в их стремлении возродить свою родину, хочет вбить клин в отношения между поляками и русскими. Александр обвинил поляков в непоследовательности и с горечью посетовал на то, что они не только не испытывают никакой привязанности к русским, но и ненавидят их. Он продолжал, что не принимал участия в разделах Польши и в глубине души всегда осуждал их. Нынешнее поколение русских, по мнению императора, не виновато в бедах и несчастьях поляков.
Выслушивая это излияние чувств Александра, я позволил себе заметить, что он, очевидно, забыл, что я ведь тоже поляк, участвовал в восстании 1794 года, воевал за родину и, приехав в Россию, уже говорил императору, что никогда не изменю своего отношения к отчизне и соотечественникам…
«Я ничего не забыл, – возразил император, – и прекрасно знаю, что вы сделали для своей страны и за это вас еще больше уважаю… Я не стал бы так откровенно разговаривать с вами, если бы не доверял вам… Человек, который честно отдал долг своей родине, никогда не изменит своим принципам… Добрыми обещаниями Наполеон желает привлечь на свою сторону поляков и всех льстецов… Послушайте, я всегда уважал ваш народ и надеюсь, придет день, когда смогу это доказать…»
Расставаясь, император попросил непременно навестить его перед моим отъездом из Петербурга и пообещал дать указание господину Сперанскому как можно быстрее подготовить ответ для умиротворения жителей Литвы. Разумеется, для этого понадобится внимательно изучить и проанализировать все материалы, изложенные в моей докладной записке, а также дополнительные сведения, которые предоставит господин Сулистровский.
7 июля 1810 года я получил официальное письмо от государственного секретаря Сперанского, направленное мне по указанию императора. Привожу здесь небольшой отрывок из этого письма:
«Господин граф! Его Величество император передал мне письмо, представленное Вашим превосходительством от имени дворянства Литвы. Император поручил мне уведомить вас, что он высоко ценит засвидетельствованные вами чувства доверия и благодарности со стороны дворянства.
Проявляя постоянную заботу о повышении благополучия своих народов, Его Величество император использует любую возможность, чтобы глубже узнать нужды своих подданных и всеми средствами оказывать им поддержку.
Именно такими соображениями руководствовался император, рассматривая просьбы и пожелания, изложенные в письме Вашего превосходительства, и т. д. и т. п.».
Далее господин Сперанский сообщал, что все ходатайства жителей Литвы встретили положительный отклик императора, который либо уже распорядился об удовлетворении их запросов, либо дал обещание о пресечении злоупотреблений местных властей.
Концовка письма господина Сперанского выглядела так:
«Таковы предварительные решения Его Величества императора по сути вашего обращения. Дальнейшие и окончательные решения по всем затронутым вопросам, несомненно, станут для виленского дворянства новым свидетельством внимания и заботы Его Величества императора о благосостоянии Литвы.
Честь имею и т. д.».
Не могу припомнить, чтобы решение вопроса на таком высоком уровне принималось за столь короткий срок, и мне было приятно сознавать, что моя миссия в поддержку литовского дворянства завершилась полным успехом.
Давая мне разрешение на поездку на несколько месяцев в Париж для воссоединения семьи, император тепло сказал мне, что в знак своего доверия ко мне и, желая дать понять жителям Литвы, как правильно они поступили, избрав меня своим поверенным, назначает меня личным советником и сенатором Российской империи. Александр любезно добавил, что это должно нас сблизить и позволит мне чаще видеться с ним и рассказывать о жизни и нуждах моих соотечественников.
Что и говорить, лестно было услышать такие слова от императора. И все же они меня скорее озадачили: ведь я терял то, чем уже начал наслаждаться – покой и независимость. С другой стороны, я не мог отвергнуть этот знак проявления высокого расположения Александра к моей особе.
Я никогда не страдал честолюбием. И даже если бы в молодые годы эта болезнь сразила меня, я непременно излечился бы от нее, потому что по собственному опыту и наблюдениям за другими прекрасно понял, какую тяжесть берет на себя человек, получая высокую должность. К почестям я всегда относился хладнокровно, хотя в двадцать три года получил голубую орденскую ленту, которой награждали генерал-лейтенантов, а в последние годы существования Польши занимал важнейшие посты в стране.
Единственное, что успокаивало при вступлении в эти новые для меня должности, было то, что я не должен был все время жить в Петербурге. Это мне пообещал император, специально сделав оговорку, что часть времени я буду проводить в своем имении, письменно извещая царя о потребностях жителей губернии.
По дороге из Петербурга в Литву я еще раз убедился, с каким благоговением люди относятся к Александру. Не скрывали своих искренних чувств восхищения и благодарности российскому монарху и жители Вильны.
Вскоре из Литвы я отправился в Париж, где посол России князь Куракин представил меня Наполеону как сенатора Российской империи.
Глава V
На этот раз Наполеон принял меня совсем не так тепло, как на первом представлении, и как-то рассеянно спросил: «Вы – сенатор России? Но ведь вы поляк, не правда ли?» и, не дожидаясь ответа, пошел приветствовать членов дипломатического корпуса. Довольно долго он разговаривал с графом Дзялынским, сенатором Варшавского герцогства. Бонапарт расспрашивал о новостях из Познани, о делах в Варшаве и при этом повысил голос, чтобы все слышали, как он радеет о жителях герцогства.
Через несколько дней я был представлен императрице Марии-Луизе, после чего меня, как и прежде, стали приглашать на все мероприятия при дворе. В скором времени я начал замечать определенные перемены в поведении и действиях Наполеона, а также его окружения. Бонапарт всячески хотел подчеркнуть свое внимание и уважительное отношение к послу России Куракину. Французские министры и императорские сановники как могли ублажали всех представителей российского посольства. Чернышев, адъютант императора Александра, прибывший в Париж со специальной миссией, оказался под личным покровительством Наполеона, который при любой возможности не забывал выставить напоказ свои дружеские чувства к российскому монарху.
Многие, конечно же, видели всю фальшь и лицемерие этих нехитрых приемов и предполагали, что неминуемый разрыв отношений между Францией и Россией уже совсем близок.
Поляки, проживающие в Париже, в этом не сомневались и страстно желали именно такого развития событий. Им очень хотелось надеяться и верить, что одним из неотвратимых последствий предстоящей французско-русской войны станет восстановление их родины. В ту пору все способствовало появлению таких надежд. Наполеон воздавал должное национальному достоинству поляков, привлекая их на свою сторону. Он расширил состав старых польских легионов, сформировал новые, которые уже успели отличиться в кампании 1809 года. Особой любовью Бонапарта пользовался созданный им корпус польских улан, входивший в состав гвардии.
По сути дела, провинции, отнятой у короля Пруссии по Тильзитскому миру, Наполеон дал лишь название Великое Варшавское герцогство. Тем не менее новое государственное образование, как и во времена до разделов Польши, имело свои финансы, сенат, министерства, собрания выборных и даже слишком мощную для своей территории армию. Некоторые даже были склонны предполагать, что император французов создал такое несоразмерное с количеством населения и территорией герцогство, потому, что в глубине души лелеял новые, еще более выгодные для поляков планы и выжидал, чтобы при первой же благоприятной возможности осуществить их.
Известно, однако, что на переговорах в Тильзите Наполеон предлагал Александру присоединить Варшавское герцогство к России. Тогда русский царь отверг и условия, и саму идею включения герцогства в состав России. После этого стало очевидно, что Наполеона больше интересует континентальная блокада Англии, нежели восстановление Польши.
Правда, после создания Варшавского герцогства стали распространяться слухи, будто Наполеон принял решение о восстановлении всей Польши. Российское внешнеполитическое ведомство в Петербурге потребовало разъяснений по этому поводу. Министр иностранных дел Франции господин де Шампаньи в официальном письме на имя государственного канцлера графа Румянцева опроверг эти слухи, подчеркнув, что вопрос о восстановлении Польши никогда не входил в планы императора Наполеона. Могу засвидетельствовать достоверность этого факта, так как позднее в Петербурге мне передали оригинал этого письма.
Однако во время моего последнего пребывания в Париже, о котором я сейчас и рассказываю, произошел случай, чрезвычайно огорчивший всех поляков, связывающих свои надежды о возрождении родины с Наполеоном. Министр внутренних дел Монталиве в своей речи о современном положении Франции, опубликованной во всех газетах, заявил, что восстановление Польши никогда по-настоящему не интересовало императора Наполеона. Поляки встревожились. Но ненадолго. Наполеону доложили, какую реакцию у поляков вызвала речь Монталиве, и он поручил маршалу Дюроку успокоить моих соотечественников в Париже, а в Варшаву отправил своего представителя, который должен был убедить польское правительство, что антипольская риторика министра Монталиве – это всего лишь дань уважения российскому послу.
Буквально через несколько дней все страсти, волнения и тревоги улеглись. Поляки вновь воспрянули духом, а их надежды обрели новую силу, потому что о войне Франции с Россией теперь говорили почти как о свершившемся факте.
Должен признаться, я полностью разделял стремление моих соотечественников увидеть свободную Польшу. Забота о возрождении родины ни на минуту не оставляла меня и стала частью моей жизни, но я не верил в успех этого проекта восстановления Польши в увязке с французско-русской войной. Во-первых, по причине топографического положения России, ее сурового климата, ее неистощимых ресурсов и ее могучей армии. Во-вторых, потому, что никогда не допускал, что у Наполеона есть искреннее желание восстанавливать Польшу. Свой проект он выдвинул лишь для того, чтобы привлечь поляков на сторону французов. Я был убежден, что Наполеон использует мой бесстрашный народ в качестве пугала для России и не восстановит былую Польшу даже тогда, когда все его остальные планы сбудутся. У меня не было никакой веры в то, что Бонапарт захочет превратить мою страну в крепкое независимое государство, потому что это претило его политическим взглядам и противоречило всем принципам, которых он придерживался доселе.
Я не скрывал своих мыслей от многих соотечественников, с которыми был тесно связан кровными узами и крепкой дружбой. Пройдет время, и они поймут справедливость моих суждений, к которым я пришел не после реальных событий, а перед тем, как они состоялись. Это хорошо видно из содержания записки, представленной мной императору Александру в мае 1811 года. С этим документом можно будет ознакомиться позже.
Не могу поставить себе в заслугу, что я сам предугадал намерения Наполеона, не воспользовавшись некоторыми сведениями, полученными в Париже.
Многие приближенные к Наполеону лица, пользовавшиеся его полным доверием, наверняка имели от него указание прощупать меня, выяснить мое отношение к последним событиям восстания 1794 года, выведать цель моих предыдущих поездок в Париж и моей миссии в Константинополе, узнать, как я оцениваю нынешнее положение дел в польских провинциях под владычеством России…
Маршал Дюрок, которого я как-то встретил у госпожи Валевской, признался мне, что очень расстроился, когда узнал, что я дал согласие стать сенатором России… Я поинтересовался причиной такого расстройства, а он добавил, что я поступил бы более благородно, если бы оставался поляком и служил своей родине.
Я был задет за живое такой репликой и довольно резко ответил, что несмотря ни на какие титулы, звания и должности никогда не забывал и не забуду, что я родился поляком, имел честь служить своей родине до самого последнего момента ее существования и теперь готов всем пожертвовать ради отечества, если бы оно было. Не видя никакой возможности быть полезным своей стране, я счастлив, что могу, по крайней мере, хоть чем-то помочь своим соотечественникам, защищая их интересы при дворе императора Александра. На это маршал Дюрок отпарировал, что все это очень похвально, но ведь я мог последовать примеру других поляков, которые пошли на сближение с Наполеоном и оказались под его теплой опекой. И добавил, что Наполеон питает особое расположение к храбрецам-полякам. Неоспоримым доказательством его доброго отношения к людям Польши стало создание Варшавского герцогства во главе с их любимым королем Саксонии.
Не скрывая резкости, я ответил, что в свое время отказался от всего своего состояния, дабы уберечь свою честь и выполнить свой гражданский долг перед родиной, и теперь не желаю пользоваться сомнительными средствами ради приобретения каких-то благ, которые никогда меня не интересовали. Впрочем, от императора Александра я получил все, в чем нуждался сам и моя семья. Я уточнил, что по возрасту уже не могу состоять на военной службе, но был бы готов вновь взять в руки оружие и сражаться под началом такого командующего, который восстановил бы всю Польшу и учредил независимое польское правительство. Что касается Варшавского герцогства, то в моих глазах это провинция, где нет представительного польского правительства и где действуют исключительно наполеоновские законы… В конце я подытожил: пока не восстановим Польшу, пока не вернем себе утраченного гордого имени поляка, лучше быть литвином и подданным императора Александра, нежели обывателем Варшавского герцогства и вассалом Наполеона.
Я попросил маршала Дюрока не сердиться на меня, за такую откровенность, на которую он меня сам и вызвал. Не смог сдержаться и еще раз повторил, что если бы была хоть какая-нибудь возможность возродить Польшу в том виде, как мне этого хотелось, ничто бы не остановило меня от борьбы до последней капли крови, чтобы увидеть своих детей свободными и счастливыми, какими были когда-то их предки.
Последние слова я отчеканил с таким пафосом, что даже Дюрок, кажется, заволновался. Немного погодя, он сказал, что вопрос о восстановлении независимой Польши можно рассматривать всего лишь как несбыточный проект, как мечту, которую никому никогда не удастся осуществить. По его словам, Польша никогда независимой не была и долгие-долгие годы страдала от анархии. А так называемая свобода, которой так любят хвастаться поляки, существовала только в пылких речах дворян на заседаниях сейма. Рабское положение крестьян всегда было препятствием для нормального развития страны. Поляки слишком разобщены в своих взглядах, дворяне слишком дорожат своими правами, чтобы Польша могла тешить себя надеждой и вновь обрести свое место среди великих европейских держав…
Я очень обрадовался, когда слуга прервал нашу беседу и сообщил, что император срочно вызывает маршала к себе. Так закончился этот тяжелый для меня разговор. Он лишний раз убедил меня в том, что Наполеон пребывает в плену своих предубеждений против поляков и видит в них только хороших солдат-исполнителей, совершенно неспособных к самоуправлению.
После того, как маршал Дюрок вышел, госпожа Валевска поинтересовалась предметом столь продолжительной и оживленной беседы. Я не счел целесообразным вдаваться в детали и коротко ответил, что речь шла о Польше. Госпожа Валевска ни слова не слышала из нашего диалога и радостно защебетала, как ей было приятно, что мне удалось побеседовать с маршалом. Ведь Дюрок пользуется особым доверием Наполеона и непременно доложит ему о содержании нашего разговора. Она добавила, что Наполеон очень любит поляков, а с некоторых пор он их просто обожает…
Впоследствии я уже не сомневался, что маршал Дюрок добросовестно проинформировал Наполеона о моих взглядах и убеждениях. Бонапарт стал холоден и сдержан по отношению ко мне, сторонился меня, явно не желая общаться и даже здороваться со мной.
Я не очень боялся рассказывать друзьям о подробностях этой беседы, которая была неожиданной как для меня, так и для маршала Дюрока и дала повод для серьезных размышлений. Мне предстояло принять очень важное решение…
Передо мной возникла неизбежная альтернатива. Либо рискнуть и следовать за огромной армией Наполеона вместе с соотечественниками, охваченными чуждой мне ложной несбыточной надеждой вновь обрести родину, с которой я навечно связан душой и сердцем, либо довериться благородству и великодушию императора Александра, который так доброжелательно относится к полякам и уже давно имеет свой план восстановления Польши?..
И я предпочел отправиться в Петербург, чтобы убедить императора Александра воспользоваться обстоятельствами, объявить себя королем Польши, присоединить к своим польским провинциям Варшавское герцогство, не дать Наполеону времени на перевооружение армии и не позволить ему продвинуться к границам России.
Вот аргументы и доводы, которыми я руководствовался, принимая такое решение.
1. Император Наполеон со всеми своими объединенными вооруженными силами не сможет одолеть колоссальную мощь Российской империи, где кроме армии он столкнется с такими непреодолимыми препятствиями, как гигантские расстояния, суровый климат, к которому французы никак не смогут привыкнуть, и фанатичная преданность русского народа Богу, отечеству и царю.
2. Наполеон не сможет рассчитывать на поддержку Швеции и Турции, которые, разумеется, могли бы оказать ему содействие в России. Но Швеция слишком слаба и боится России, а ее государь слишком благоразумен и осторожен, чтобы начинать войну, которую сам не одобряет. А Турция, уставшая и измотанная предыдущими войнами, а также теперешним вооруженным конфликтом с Россией, конечно же, не откажется от мирных предложений, как только таковые Россия сочтет целесообразным выдвинуть.
3. Если императору Наполеону удастся отбросить русские войска до Двины и Днепра и он остановится там, ограничившись захватом территории Польши, и кроме мира не будет ставить России иных условий, то успех такой операции, пожалуй, не вызывал бы сомнений. Но все дело в том, что честолюбие будет толкать Бонапарта дальше. Ему захочется принудить Россию закрыть свои порты для Англии. Он попытается войти вглубь древней России и добраться до ее обеих столиц. Но, уходя все дальше и дальше от Парижа, теряя множество солдат и офицеров, блуждая по незнакомой стране, встречая сопротивление на каждом шагу и врага в каждом русском, Наполеон лишится боеприпасов, продовольствия и поймет, что его изнуренные войска могут быть уничтожены при наступлении ранней зимы. И никакая гениальность не поможет ему найти спасение от мороза.
4. Если даже предположить, что Наполеон все же остановится на границах прежней Польши, об освобождении которой он так много говорил, то совершенно очевидно, что всю страну он не восстановит и не позволит ей иметь конституционное и представительное правительство. У Бонапарта возникнут определенные обязательства перед императором Австрии, в частности, по Галиции. Поскольку своей главной цели в таком случае император всех французов не достигнет, он попытается возместить ущерб, принесенный им же развязанной войной, и обложит контрибуцией все польские провинции, отнятые у России.
5. В случае, если Наполеон пожелает завершить свою первую кампанию захватом Польши и начнет готовиться к продолжению войны в следующем году, то можно не сомневаться, что нашу страну ожидает не только контрибуция, но и всеобщая мобилизация поляков, способных носить оружие. Бонапарт заставит население сдать военным всех лошадей, поставлять продовольствие и все, в чем нуждается двухсоттысячная армия, дабы возобновить военные действия тогда, когда он сочтет нужным.
6. Если Наполеон откажется от похода в Россию и от новой военной кампании, он может переложить ответственность за защиту Польши на самих поляков, так как не будет никакой необходимости держать здесь столь многочисленные войска. Но можно ли поверить в то, что император Александр, несмотря на все свое миролюбие, отдаст завоевания своей бабушки и не воспользуется первой же удобной возможностью вернуть их? Можно ли сомневаться в том, что четырехсоттысячная российская армия в любой момент не вступит в Польшу, в эту открытую всем ветрам страну, где не осталось ни одной крепости, где никто не окажет серьезного сопротивления русским войскам, где, наоборот, предоставят все необходимое для их содержания? Если же у Наполеона появится желание и возможность вернуться и поддержать поляков, то Польша превратится в театр военных действий. Будут сожжены и разграблены деревни и города. Граждане всех сословий будут доведены до нищеты. И при таком исходе Польша сможет стать либо русской, либо французской, но только не самостоятельной и независимой Польшей.
7. По моему глубокому убеждению, было бы благоразумнее не подвергать мою страну опустошению и всем ужасам войны, а стремиться к тому, чтобы в этих условиях император Александр получил возможность присоединить Варшавское герцогство к своим польским провинциям; чтобы царь сам осознал преимущества, которые получит Россия, создав из хорошо организованной присоединенной Польши мощный заслон от всех нашествий со стороны Запада; и, наконец, чтобы российский монарх вспомнил о своих прежних планах и понял, какой бессмертной славой покроет себя, став королем Польши и подарив конституционное правительство двенадцатимиллионному народу, который забудет о былых страданиях и будет питать только чувства преданности и благодарности к спасителю своей родины.
Кампания 1812 года, ее итоги и действия Александра по отношению к Польше подтвердили мои тогдашние догадки, предположения и решения.
Конец первого тома
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА
КНИГА ПЕРВАЯ
Глава I
Состояние Польши при Станиславе Августе. – Он покровительствует наукам и искусствам. – Он реформирует национальное образование. – Сейм 1788 года. – Договор об альянсе, предложенный Россией. – Действия Пруссии. – Нота Бухгольца и Штакельберга. – Мнение короля об альянсе с Россией. – Продолжение сейма.
Глава II
Дискуссии об альянсе с Пруссией, Швецией, Голландией и Англией. – Нота посланника Швеции. – Комиссия по созданию проекта новой конституции. – Комиссия по иностранным делам. – Предложения об альянсе со стороны короля Пруссии. – Принятие статей по совершенствованию конституции. – Предложение положить конец выборности королей. – Меморандум, представленный городским сословием. – Общее согласие об увеличении налогов и армии. – Король Пруссии требует уступки Торуня и Гданьска. – Мнения разделились. – Подписан договор об альянсе с берлинским двором. – Король Польши высказывается в пользу Пруссии. – Назначение посланников Польши к разным иностранным дворам. – Я назначен чрезвычайным и полномочным послом в Голландию.
Глава III
Мой отъезд из Варшавы. – Пребывание в Бреслау. – Моя встреча с Герцбергом в Рейхенбахе. – Посещение штаб-квартиры короля Пруссии. – Вооружение императора Леопольда и короля Фридриха Вильгельма II. – Переговоры в Рейхенбахе. – Результат переговоров. – Продолжение моего пути в Гаагу. – Я представляю верительные грамоты. – Я общаюсь с членами дипломатического корпуса. – Полученные мною инструкции. – Впечатления, вызванные в Европе переменами в Польше. – Судебный секретарь Фажель. – Меморандум о Гданьске и Торуне. – Миссия барона де Рида в Варшаве. – Варельский договор. – Переговоры о займе для Польши. – Революция в Нидерландах. – Революция во Франции.
Глава IV
Миссия в Англии. – Проезд через Лилль и Кале. – Представление к лондонскому двору. – Беседы с Питтом. – Нота Хэйлза. – Фокс. – Бюрке. – Я еду в Баф, чтобы повидаться с Эвартом. – Отъезд из Лондона. – Я получаю отпуск и покидаю Гаагу.
Глава V
Любезный прием короля и королевский семьи в Берлине. – Беседа с министром Герцбергом. – Варшава. – Я вызван на заседание комиссии по иностранным делам. – Причины необходимости моего присутствия в Польше. – Медлительность в работе сейма. – Продление заседаний. – Циркуляры маршалков сейма собраниям сеймиков. – Единодушное принятие решений сейма. – Отмена конституции 1768 года. – Решение широко обсудить проекты реформы. – Упорядочение форм национальных собраний. – Уложение о жителях городов. – Запрет на какие-либо территориальные уступки Речи Посполитой.
Глава VI
Число депутатов сейма удвоилось. – Принято решение выдвинуть проект конституции. – О проекте сообщают королю. – Бурное заседание 3 мая 1791 года. – Король провозглашает с трона от своего имени проект конституции. – Чтение конституционного акта. – Король приносит клятву. – Он отправляется в церковь вместе со всем составом сейма. – Большое число зрителей. – Общий энтузиазм. – Присоединение нескольких членов сейма, ранее протестовавших. – Оглашение конституции 3 мая. – Мнения о новой конституции. – Нота посла представителя Саксонии. – Его ультиматум, переданный в Дрездене посланцам Польши.
Глава VII
Я отправляюсь на Белую Русь. – Пассек. – Князь Потемкин. – Возвращение в Варшаву. – Разговор с польским королем. – Письмо к шевалье д’Араухо. – Король поручает мне отправиться в Литву. – Я принят в муниципалитете Вильны. – Меня назначают представителем и депутатом от муниципалитета на сейм.
Глава VIII
Патриотическая партия поручает мне вернуться в Голландию. – Празднование годовщины 3 мая. – Описание праздничной церемонии. – Тревожные для Польши обстоятельства. – Заявление российского посланника Булгакова. – О нем сообщают Луккезини. – Его устный ответ. – Послание короля Польши королю Пруссии. – Ответ. – Меры, принятые сеймом. – Король обещает стать во главе армии. – Общий энтузиазм.
Глава IX
Лагерь под Варшавой. – Изменение королевского решения. – Вхождение российской армии. – Сражения под Зеленцом и Дубенкой. – Костюшко. – Король отдает приказ Юзефу Понятовскому отвести армию в сторону Варшавы. – Приказывает ему попросить о перемирии. – Декларация жителей Великого княжества Литовского. – Впечатление, произведенное ею на короля. – Я покидаю Варшаву. – Еду в Альтвассер. – Послание короля российской императрице. – Ответ. – Король созывает совет министров. – Его решение.
КНИГА ВТОРАЯ
Глава I
Присоединение короля к Тарговицкой конфедерации. – Преследования жителей. – Секвестр моих земель. – Я возвращаюсь в Варшаву. – Поезка в Брест. – Генералитет.
Глава II
Я еду в Петербург. – Князь Платон Зубов. – Анонимные письма. – Новости из Франции. – Депутация от Тарговицкой конфедерации. – Феликс Потоцкий назначен послом в Петербург.
Глава III
Заявление короля Пруссии. – Поляков обвиняют в якобинстве. – Ответ на ноту посланника короля Пруссии. – Протест общей конфедерации. – Она отдает приказ о массовом протесте. – Отмена этого распоряжения Игельстромом. – Польская депутация на трибуне Конвента в Париже.
Глава IV
Положение, в котором оказались жители Варшавы. – Банкротства. – Ноты России и Пруссии. – Учреждение Постоянного совета. – Протест Валевского. – Письмо короля Польши Екатерине II. – Проект отречения. – Приказ о собрании сейма в Гродно.
Глава V
Созыв сеймиков для выбора депутатов на сейм в Гродно. – Как это происходит. – Ноты, представленные сейму посланниками России и Пруссии. – Ответы канцлеров.
Глава VI
Разговор с королем Польши перед его отъездом на сейм в Гродно. – Проект, который я ему представил, поддержанный великими маршалками Короны и Литвы Мошинским и Тышкевичем. – Нерешительность короля. – Мое предсказание о будущем, которое его ожидает, и о судьбе Польши. – Разговор с российским посланником Сиверсом. – Я хочу отказаться от должности великого подскарбия. – Возражения Сиверса. – Я стараюсь успокоить себя относительно возможного раздела Польши. – Еду в Гродно. – Проект, представленный мною сейму. – Письмо от Сиверса, в котором он угрожает мне секвестром моих земель. – Я покидаю Гродно и еду в деревню.
Глава VII
Депутация, назначенная сеймом для переговоров с российским посланником. – Данные ей инструкции. – Дискуссии на эту тему с посланником. – Поведение Сиверса по отношению к королю и членам сейма. – Возбуждение в ассамблее. – Речь короля. – Полномочия, данные депутации для переговоров с российским посланником.
Глава VIII
Нота посла Пруссии. – Волнение, вызванное ею в палате сейма. – Ассамблея требует вмешательства российской императрицы. – Ноты Сиверса и Бухгольца. – Угрозы ввести войска генерала Моллендорфа в Краковское и Сандомирское воеводства. – Ратификация договора с Россией. – Речь короля. – Произведенный ею восторг. – Посланника Сиверса просят присутствовать на переговорах с посланником Пруссии. – Насильственные меры, принятые Сиверсом, чтобы вынудить ассамблею подписать без всякой отсрочки договор с королем Пруссии.
Глава IX
Тарговицкая конфедерация упразднена. – Я вынужден вернуться в Гродно. – Жалобы, получаемые мною от жителей Литвы. – Сиверс разрешает назначить комиссию для пересмотра декретов Тарговицкой конфедерации. – Проект о назначении комиссии для изучения деятельности военного министерства. – Его неожиданный результат. – Король в затруднении. – Я подсказываю ему ответ Сиверсу. – Речь Суходольского. – Договор об альянсе с Россией. – Различия между Гродненским сеймом и Тарговицкой конфедерацией. – Отмена всех решений конституционного сейма в Варшаве. – Окончание Гродненского сейма.
Глава X
Король покидает Гродно. – Он сутки гостит в моем сельском доме. – Интересные подробности об этом визите. – Мысли короля о конституции 3 мая, Тарговицкой конфедерации и несчастном положении Польши. – Его мнение об Игнации Потоцком, Коллонтае и князе Юзефе Понятовском. – Его рассуждения о действиях польских патриотов за границей и об их результатах.
КНИГА ТРЕТЬЯ
Глава I
Причины опалы Сиверса. – Поведение Игельстрома. – Моя первая беседа с ним. – Великий гетман Огинский зовет меня в Вену. – Я получаю разрешение на эту поездку. – Я доезжаю только до Ольмюца. – Прибытие курьера, чтобы ускорить мое возвращение в Варшаву. – Известия из Вены о подготовке восстания в Польше. – Возвращение в Варшаву. – Поведение Игельстрома по отношению ко мне. – Я решаю отправиться в Литву.
Глава II
Настроения жителей Варшавы после вхождения в нее русских в 1792 году. – Усиление там брожения после Гродненского сейма. – Восторженные воспоминания о конституции 3 мая. – Презрение к Тарговицким конфедератам; открытые жалобы против России и Пруссии. – Тайные собрания, воззвания на улицах, памфлеты и революционные брошюры. – Строгий надзор полиции. – Многие члены конституционного сейма собираются в Дрездене и Лейпциге. – Впечатление, произведенное на них новым разделом Польши. – Их действия при иностранных дворах. – Установление ими связей с патриотами в самой Польше. – Результаты их демаршей в Париже. – Поведение министра Швеции. – Заговор в Варшаве.
Глава III
Игельстром требует от короля и Постоянного совета сокращения польской армии. – Мадалинский поднимает флаг восстания. – Его успехи на прусских границах. – Его продвижение в сторону Кракова. – Жесткие меры, принятые Игельстромом, чтобы избежать последствий демарша Мадалинского. – Декрет восстания Краковского воеводства. – Генералиссимус Костюшко. – Общий энтузиазм; добровольные пожертвования на общее дело. – Костюшко покидает Варшаву во главе поспешно собранной армии. – Битва при Рацлавице. – Чувства, вызванные в Варшаве прокламациями Костюшко и его первыми успехами.
Глава IV
Ноты Бухгольца, Игельстрома и уполномоченного по делам венского двора. – Заявление короля Польши против повстанцев. – Беспокойство и тревоги Игельстрома. – Его письмо военному министру в Петербург. – Его требование королю и Постоянному совету относительно ареста лиц, являющихся, по его мнению, подозрительными. – Его секретные распоряжения по разоружению польского гарнизона Варшавы. – Собрание заговорщиков по предупреждению этих мер.
Глава V
Восстание в Варшаве. Комендант города Мокроновский и президент города Закревский. – Образование совета для управления городом. – Депутация, посланная к королю. – Разоружение жителей города по приказу Временного совета. – Меры, принятые советом для восстановления порядка в городе.
Глава VI
Генералу Игельстрому удается собрать войска в Ловиче. – Приказ, отданный генералом Денисовым. – Сражение при Щекоцинах. – Рапорт генералиссимуса Костюшко совету о результатах этого сражения. – Битва при Хелме. – Объявление войны Пруссии. – Бюллетень Костюшко. – Меры правительства для поправки финансового положения в стране. – Занятие Кракова прусскими войсками. – Народное брожение в Варшаве. – Памятные дни 27 и 28 июля. – Обращение Костюшко к народу в связи с этими событиями. – Вхождение австрийских войск на территорию Польши. – Заявление графа д’Арнонкура. – Российские и прусские войска на подходе к Варшаве. – Костюшко стягивает свои силы к окрестностям столицы.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Глава I
В Литве я получаю декрет Краковского восстания и прокламации Костюшко. – Еду в Вильну. – Покидаю город накануне дня восстания. – Пребывание в Олькениках. – Курьер сообщает мне обо всем, что произошло в Варшаве. – Восстание в Вильне. – Тревога, вызванная отрядом русской кавалерии. – Опасности, подстерегавшие нас по дороге из Вильны. – Я покидаю Олькеники. – Я избран членом Временного совета Вильны. – Военные стычки при Неменчине и Солах.
Глава II
Печальное положение Литвы и особенно – Вильны. – Попытки поднять народ. – Революционное движение в Вильне. – Совет высылает двоих своих членов для успокоения народа. – Собрание 30 тысяч человек на Погулянке. – Речь, произнесенная мною от имени совета. – Произведенное ею впечатление. – Предложение послать корпус волонтеров к российским границам. – Создание корпуса стрелков под моим началом. – Меня арестуют на таможне Щебра. – Отправка комиссара в Гродно. – Я еду в Гродно. – Интендант таможни Гуща пытается там настроить людей против меня. – Он вызывает неодобрение на самого себя. – Я возвращаюсь в Вильну. – Приношу свои жалобы Временному совету. – Для расследования дела назначен комитет. – Я получаю одобрительный отзыв. – Принимаю решение служить в армии волонтером.
Глава III
Я предлагаю генералу Ясинскому взять на себя экспедицию в направлении Минска. – План операции. – Прохождение маршем. – Удача в Воложине и Ивенце. – Не имея возможности идти вперед, я в то же время оказываюсь отрезанным от Вильны. – Опасное положение. – Как я из него выхожу. – Возвращаюсь в штаб-квартиру. – Отправляюсь в Вильну. – Изменения, которые я в ней нахожу. – Михал Вельгорский принимает на себя командование армией Литвы. – Его нерешительность. – Он решается отправить курьера к Костюшко. – Он поручает это мне, и я отправляюсь к Костюшко.
Глава IV
Мое прибытие в Варшаву. – Что я там застаю. – Костюшко в своем лагере в Працка-Вульке. – Он принимает меня. – Его расспросы о положении дел в Литве. – Его мнение о варшавском бунте 27 и 28 июля. – Он принимает депутацию, которая явилась с объяснениями по этому поводу. – Описание его лагеря. – Долгая беседа с Костюшко. – Устные инструкции, данные мне им. – Я обедаю с ним. – Он передает мне пакет для Вельгорского. – Мой отъезд в тот же день и прибытие в штаб-квартиру литовской армии в Вороново.
Глава V
Русские покидают свою позицию в Солах и направляются к Вильне. – Осада города. – Гарнизон слишком слаб, чтобы оказывать сопротивление. – Отчаянная защита граждан Вильны. – Вельгорский покидает Вороново. – Его нерешительность на подходе к Вильне. – Он высылает на разведку авангард. – При его приближении русские отступают. – Мы входим в Вильну. – Недовольство и жалобы горожан на военных. – Прокламация Вельгорского. – Тревога из-за ложной атаки неприятеля. – Обеспокоенность жителей Вильны. – Нетерпение в армии.
Глава VI
Я берусь совершить экспедицию в сторону Двины. – Вельгорский поручает мне возглавить ополчение трех районов. – Марш с тремя сотнями человек в сторону Динабурга. – Мотивы этого предприятия. – Возможные преимущества. – Причины неудачи этой экспедиции. – Я посылаю курьера к Костюшко с донесением с берегов Двины. – Ответ от него. – Взятие Вильны русскими. – Отступление нашей армии в сторону Ковно. – Я оставляю приказ генералу Морикони соединиться с польским корпусом, находящимся в Курляндии, чтобы не быть отрезанным при отступлении. – Еду в Варшаву.
КНИГА ПЯТАЯ
Глава I
В июле начинается осада Варшавы. – Военные действия 30–31 июля, а также 1 и 3 августа. – Письмо прусского генерала Шверина коменданту Варшавы. – Письмо Фридриха Вильгельма II королю Польши. – Ответ. – Продолжение осады Варшавы. – Деятельность Высшего совета. – Король Пруссии снимает осаду и вместе с войсками покидает окрестности Варшавы. – Причины такого развития событий. Восстание в Великой Польше.
Глава II
Король Польши приглашает меня на обед. – Меры предосторожности с моей стороны. – Вопросы короля о восстании и его последствиях. – Донесение от генералиссимуса, прервавшее нашу беседу с королем. – Поход Мадалинского. – Меры правительства Пруссии по подавлению восстания в Великой Польше. – Плачевное финансовое состояние и действия Высшего совета, направленные на его спасение. – Успехи генерала Домбровского в Великой Польше.
Глава III
Оккупация Литвы Россией. – Суворов уходит от границы с Турцией и ведет свою армию на Варшаву. – Сражения при Крупчицах и Бресте. – Костюшко в лагере Сераковского. – Воззвание Костюшко. – Кровавая битва под Мацеёвицами и ее печальные итоги. – Пленение Костюшко. – Биография этого выдающегося соотечественника. – Всеобщее отчаяние в Варшаве.
Глава IV
Назначение Вавжецкого на должность генералиссимуса и его воззвание к народу. – Строительство оборонительных сооружений под Прагой. – Подавленное состояние и растерянность жителей Варшавы. – Письмо генерала Ферзена королю Польши. – Ответ. – Письмо Высшего совета Костюшко. – Вражеские войска идут в атаку на Прагу. – Поляки отходят в оборонительные сооружения, которые неприятель берет штурмом. – Страшная резня. – Для переговоров о капитуляции депутаты из Варшавы отправляются к Суворову. – Условия капитуляции. – Польская армия, которая игнорирует капитуляцию, отступает в Радошице и распадается. – Скорбный исход и пагубные результаты восстания 1794 года.
Глава V
Казаки приближаются к моей деревне. – Я возвращаюсь в Варшаву. – Риск и опасность попасть в плен. – Обстановка в тогдашней Варшаве. – Раскол среди членов Высшего совета, взаимные обвинения и угрозы. – Причины, вынудившие меня уехать из Варшавы. – Я прибываю в лагерь генерала Гедройца, куда приходит весть о кровавых событиях в Праге. – Гедройц получает приказ следовать в Варшаву. – Я обращаюсь к нему с просьбой выдать мне паспорт, чтобы покинуть родину.
Глава VI
Встреча в Томчице с генералом Домбровским и его план, посланный генералиссимусу. – Варшава не поддерживает план Домбровского. – Я продолжаю свое путешествие. – Трудности при пересечении границы. – С паспортом под чужой фамилией еду в Вену, а затем в Венецию. – Посыльный из Варшавы и предложения о возвращении в Польшу. – Причины, по которым я отверг эти предложения.
КНИГА ШЕСТАЯ
Глава I
Польские патриоты в Венеции. – Французский министр Лаллеман. – Многие поляки выезжают в Париж, где правительство оказывает им теплый прием. – Налаживание связи с соотечественниками в Париже и патриотами, оставшимися на родине. – Франция завоевывает Голландию. – Краткое описание недавних успехов французской армии. – На что уповали поляки и почему их надежды стали угасать после подписания мирного договора между Францией и Пруссией? – Мои соображения по этому поводу, которые я отправил представителю поляков в Париже. – Его ответ. – Каким образом мне удалось организовать встречу французского министра и испанского дипломата перед подписанием мирного договора в Базеле?
Глава II
Вернинаку поручают представлять интересы Франции в Константинополе. – Будучи проездом в Венеции Вернинак сообщает очень обнадеживающие новости. – Мои соотечественники торопят меня возглавить миссию в Константинополе. – Из Парижа я получаю письма с инструкциями, шифр и все необходимое.
Глава III
Отъезд из Венеции. – Прибытие в Рим и Неаполь. – Далее по моему замыслу я плыву на корабле до Салоник, а оттуда по суше добираюсь до Константинополя. – В дорогу я отправляюсь под чужой фамилией. – В Неаполе меня раскрывают. – За мной следят агенты полиции. – Все мои замыслы и планы рухнули. – Возвращение в Рим. – Приезд в Ливорно и посадка на корабль, следующий в Смирну. – Длительное и утомительное путешествие. – Мальта. – Пребывание в Смирне. – Путешествие по суше в Мохалиц, откуда на корабле я пересекаю Мраморное море и оказываюсь в Константинополе.
Глава IV
Прибытие в Константинополь. – Первая встреча с Вернинаком, который передает адресованную мне корреспонденцию. – Разлад среди поляков в Париже. – Я отправляю письма польской депутации. – Торжественный прием, оказанный Вернинаку. – Проект договора между Францией, Швецией, Данией и Оттоманской Портой. – Указание о ведении переговоров о предоставлении займа для Польши. – Предложение правительства Франции о создании конфедерации в Польше. – Обещание Франции о поставках оружия и артиллерии. – Показательные выступления турецкой пехоты по европейскому образцу. – Письма Декорша Игнацию Потоцкому.
Глава V
Прибытие в Константинополь большого количества польских офицеров. – Отношение Вернинака к этому. – Беседа Вернинака с представителями Галиции. – Посол Франции обещает мне организовать встречу с министром иностранных дел Турции и сообщает другие новости. – По просьбе Вернинака я пишу ему письмо, содержание которого он доводит до сведения турецкого министра. – Акт конфедерации, составленный в Кракове 6 января 1796 года.
Глава VI
Получаю сообщение о встрече с князем Мурузи, первым драгоманом Порты. – На встречу отправляюсь вместе с послом Франции и его переводчиком. – Беседа продолжается с семи часов вечера до полуночи.
Глава VII
Новости из Берлина. – Размолвка между капудан-пашой и Вернинаком. – Письмо Сулковского Киркору о положении дел в среде польских патриотов в Париже. – Продолжение моего дневника, начатого по прибытии в Константинополь. – Мое письмо Вернинаку о притеснениях польских офицеров в Молдове.
Глава VIII
Встреча с вероотступником-французом, который предоставил мне очень интересные сведения. – Прибытие господина де Ла Тюрби, в прошлом министра сардинского короля в Петербурге. – Впечатления Вернинака от рассказа о Польше, провинции которой только что объездил господин де Ла Тюрби. – Мое решение об отправке Яблоновского в Галицию. – Новая встреча с вероотступником Ибрагимом и его сообщение. – Вести от французских офицеров, отправленных для несения службы в персидской армии. – Серьезные перемены в министерстве иностранных дел Оттоманской Порты.
Глава IX
Переписка с адъютантом Бонапарта Сулковским. – Мое письмо гражданину Бонапарту, командующему Итальянской армией. – Продолжение дневника.
Глава X
Прибытие генерала Обера дю Байе, посла Франции. – Его путешествие по провинциям Порты. – Внешность генерала, его характер, сопровождающие лица. – Первая встреча с новым послом и светлые надежды на сотрудничество с ним. – Активность Обера дю Байе падает. – Сообщение Сулковского о том, как генерал Бонапарт воспринял и отреагировал на мое письмо. – Новости из Франции. – Встреча с Обером дю Байе. – Мое письмо послу Франции и ответ на него. – Я покидаю Константинополь.
КНИГА СЕДЬМАЯ
Глава I
Проезд через Румелию и Болгарию. – Эпидемия чумы. Остановка на несколько дней в Бухаресте. – В дороге узнаю о кончине Екатерины II и вступлении на престол Павла I. – Беседа с русским курьером, направляющимся в Константинополь. – Молдова. – Прибытие на границу Молдовы и Буковины. – Переход границы в Галицию.
Глава II
Согласовываем план действий с польскими патриотами. – Решение о моей поездке в Париж и о последующем возвращении в Константинополь.
Глава III
Лемберг. – Краков. – Дрезден. – Берлин. – Приезд в Париж. – Встречи с министром иностранных дел Франции Шарлем Делакруа и предложенный им проект. – Разработка плана предстоящей деятельности. – Мневскому и мне поручено отправиться в штаб Бонапарта в Италии. – Подписание в Леобене предварительных условий мирного договора между Францией и Австрией. – Идея созыва польского сейма в Милане.
Глава IV
Костюшко в Гамбурге. – Письма польских патриотов в Париже бывшему генералиссимусу. – Отъезд в Брюссель. – Прискорбные новости. – Меня просят ехать в Милан. – Я отказываюсь. – Вести об успехах польских легионов в Италии. – Подписание мирного договора между Французской республикой и Австрией в Кампо-Формио. – Смерть Фридриха Вильгельма II. – Я возвращаюсь в Париж.
Глава V
Прибытие генерала Бонапарта в Париж после завершения первой итальянской кампании. – Пышный прием. – Бал Талейрана и торжественные мероприятия правительства по случаю возвращения Наполеона. – Моя деятельность в Париже. – Некоторые подробности о Бонапарте. – Заметки о положении во Франции. Я уезжаю из Парижа.
Глава VI
Пребывание в Гамбурге. – Поход французской армии в Египет. – Разрешение о возвращении в Пруссию. – Пребывание в Берлине. – Письмо графа Ростопчина от имени императора Павла I. – Краткое описание событий во Франции от битвы при Абукире до подписания мирного договора в Люневиле. – Подготовка к высадке французских войск в Англии. – Смерть императора Павла. – Я получаю разрешение на поездку в Россию и отправляюсь в Петербург.
КНИГА ВОСЬМАЯ
Глава I
Причины, побудившие меня продолжать эти записки. – Прибытие в Петербург в 1802 году. – Встреча с императором Александром. – Беклешов. – Император совершает путешествие в Минск и Белую Русь. – Некоторые интересные подробности этого путешествия, в том числе касающиеся меня лично. – Затворничество в деревне. – Краткое описание событий с 1802 по 1806 годы. – Я уезжаю в Вильну.
Глава II
Костюшко отказывается участвовать в кампании Наполеона и подписывать обращение к польскому народу, предложенное Бонапартом. – Энтузиазм и новые надежды поляков. – Кампания 1806–1807 годов. – Встреча Александра и Наполеона. – Тильзитский мир и отношение к нему в польских провинциях под господством России. – Создание Варшавского герцогства и его конституция. – Положение, в котором оказались местные жители.
Глава III
Я получаю от императора Александра разрешение на поездку в Италию и прибываю в Венецию. – Празднества и прием у Наполеона. – Я еду во Флоренцию. – Положение в Тоскане в ту пору. – Доши. – Мену. – Княгиня Элиза. – Встреча Александра и Наполеона в Эрфурте. – Кампания 1809 года. – Капитуляция Варшавы. – Успехи князя Юзефа Понятовского в Галиции. – Шенбруннский мирный договор. – Я направляюсь в Париж. – Шайки грабителей в Апеннинах.
Глава IV
Посол России представляет меня Наполеону в Фонтенбло. – Торжественные мероприятия во дворце Тюильри. – Заметки о Париже. – Изменения во французской столице. – Пребывание в Париже европейских монархов. – Военные парады. – Я уезжаю из Парижа и направляюсь в Петербург. – Жители Вильны просят походатайствовать за них перед императором и его реакция на это. – Указание Александра о принятии неотложных мер. – Письмо государственного секретаря Сперанского. – Условия моего назначения советником и сенатором. – Уважительное отношение жителей Литвы и особенно Вильны к императору Александру. – Возвращение в Париж.
Глава V
Прием у Наполеона. – Меня представили императрице Марии-Луизе. – Отношение Наполеона к послу России. – Все свидетельствует о скором разрыве Франции с петербургским двором. – Наполеон укрепляет веру поляков в их освобождение. – Заметки о Варшавском герцогстве. – Интерес к моим политическим взглядам. – Беседа с маршалом Дюроком. – Наполеон объявит войну России. – Догадки и предположения о развитии событий.
Примечания
1
Лондонские газеты в 1791 году дали сообщение о том, что я погиб, когда плыл на корабле из Кале в Дувр, и мои друзья оплакивали меня в тот самый момент, когда я читал в газете о моем собственном утоплении. Многие газеты изображали меня на трибуне Конвента в Париже в 1792 году: я читал даже копии речи, которую якобы там произносил, тогда как в то самое время находился в трехстах лье от границ Франции. Газеты Гамбурга, Кельна и другие утверждали, что в 1796 году я командовал корпусом в десять-пятнадцать тысяч человек на границах Турции. Это известие было преподнесено с такой уверенностью, что Вернинак, посол Франции в Оттоманской Порте, получил из Парижа порицание за то, что не сообщил об этом факте в своем докладе. Я узнал об этом от самого Вернинака, когда был в Константинополе. «Меркур де Франс» в 1797 году возвел меня в президенты комитета, уполномоченного составить в Париже польскую конституцию. Другие газеты выдавали меня за знаменитого Пассаван-оглы. Это утверждение было столь серьезно принято на веру, особенно в Литве, что по возвращении туда мне было так же трудно его опровергнуть, как и ту мнимую речь, которую я якобы произнес в парижском Конвенте. Я не буду приводить здесь другие ложные сообщения в том же духе, также как и некоторые параграфы из «Современной биографии», которые не потребовал исправить. После сказанного здесь не покажутся удивительными самые разнообразные суждения о моих принципах, которые навлекли на меня преследования и стали причиной задержки разрешения мне вернуться в свою страну. Это разрешение было дано императором Александром только в начале 1802 года, то есть после восьми лет моей эмиграции.
(обратно)2
В 1772 году. (Примеч. ред.)
(обратно)3
Ségur. Tableau politique de l’Europe.
(обратно)4
От nuntius (лат.) – вестник. Здесь – представитель в сейме. (Примеч. ред.)
(обратно)5
«Свободное вето» (лат.) – право любого члена сейма Речи Посполитой своим единственным голосом отменить постановление сейма. Впервые применено в 1652 году, отменено в 1791 году. (Примеч. пер.)
(обратно)6
Административно-территориальная единица, земли которой принадлежали королю и передавались им дворянам в пожизненное пользование за определенные заслуги. (Примеч. пер.)
(обратно)7
В оригинальном тексте автор везде предпочитает использовать немецкие названия этих городов: Торн и Данциг. (Примеч. пер.)
(обратно)8
Глава исполнительной власти в Соединенных провинциях. (Примеч. ред.)
(обратно)9
Французское название города Антверпен в Бельгии. (Примеч. пер.)
(обратно)10
Непременным (лат.). (Примеч. ред.)
(обратно)11
Дословно «намерение» (франц.). (Примеч. пер.)
(обратно)12
Другие времена – другие заботы (итал.). (Примеч. пер.)
(обратно)13
Занимались приемом жалоб от частных лиц и передачей их канцлеру, который в свою очередь доводил их до сведения монарха; после рассмотрения дела референдарий сообщал его решение заинтересованному лицу. (Примеч. пер.).
(обратно)14
Незабудки (нем.). (Примеч. пер.)
(обратно)15
Венский мирный договор последовал за переговорами в Пильнице, где в сентябре 1791 года собрались прусский король, представитель Саксонии и австрийский император Леопольд. Вена и Берлин договорились о взаимной защите своих владений от нападений извне и от внутренних волнений, которые могли возникнуть под влиянием французской революции. Основу этого договора составляли три секретных пункта. Первым пунктом обе стороны признавали неделимость, независимость Польши и законность ее новой конституции; второй пункт определял положение дочери саксонского представителя: было заявлено, что ни один прусский и австрийский наследник не должен на ней жениться; третьим пунктом Леопольд и Фридрих Вильгельм взаимно брали на себя обязательства употребить положительные средства для присоединения к этому плану российской императрицы.
(обратно)16
Гетман Огинский покинул этот пост несколькими месяцами ранее.
(обратно)17
Барская конфедерация (1768–1772) – вооруженный союз польской шляхты против короля Станислава Понятовского, ставленника императрицы Екатерины II. Стала причиной первого раздела Речи Посполитой в 1772 году. (Примеч. пер.)
(обратно)18
Князь Зубов официально отменил действие этого письма, тем не менее этот секвестр, продлившийся в течение нескольких месяцев, и те меры, которые я вынужден был принять, чтобы освободиться от него, нанесли ущерб моему состоянию более чем на два миллиона польских флоринов.
(обратно)19
Тот самый, который был затем генерал-губернатором Одессы и премьер-министром Франции после реставрации Бурбонов.
(обратно)20
Декрет конфедерации, имеющий силу закона. (Примеч. пер.)
(обратно)21
«Верой, честью и совестью» (лат.) (Примеч. пер.)
(обратно)22
Судебный приказ о передаче рассмотрения дела по месту его совершения (лат.) (Примеч. пер.)
(обратно)23
Арбитрами называли тех, кому было разрешено входить в зал заседаний сейма (если заседания не проходили при закрытых дверях) в качестве простых зрителей.
(обратно)24
Посол заявил в записке, адресованной великому маршалку литовскому, что сам король не имеет права покинуть свой трон и что он заставит сенаторов спать на соломе в зале заседаний сейма до тех пор, пока его воля не будет исполнена.
(обратно)25
«За воинскую доблесть» (лат.) (Примеч. пер.)
(обратно)26
Главнокомандующим армии (устар.) (Примеч. пер.)
(обратно)27
Немецкое название города Оломоуц в Чехии. (Примеч. ред.)
(обратно)28
Очевидно, что это был лишь предлог отозвать меня обратно в Варшаву. Игельстром, который боялся нареканий из Петербурга за то, что отпустил меня в Вену, заставил короля написать мне настоятельную записку, чтобы ускорить мое возвращение. Бесспорно одно: если бы я успел доехать до Вены и получил бы там сообщения, которые частично дошли до меня в Ольмюце, я никак не смог бы решиться вернуться в Варшаву.
(обратно)29
«Не терять надежды» (лат.) (Примеч. пер.)
(обратно)30
Декорша несправедливо упрекали в том, что он приложил недостаточно стараний, чтобы помочь делу поляков во время своей миссии в Оттоманской Порте. Я сообщу позднее, в описании моего пребывания в Константинополе в 1796 году, о подлинных мотивах, которые помешали туркам объявить войну России во времена Польского восстания.
(обратно)31
Общее мнение приписывает Игнацию Потоцкому и Коллонтаю организацию восстания в Польше, о котором здесь идет речь. На самом деле оно не было делом их рук, они лишь присоединились к восставшим. Восстание было поднято пылкой молодежью, не терпевшей иноземного ига, а также отчаявшейся армией, которую собирались реформировать. Потоцкий и Коллонтай действительно изыскивали в изгнании средства поднять Польшу, но ожидали более благоприятного момента. Они не одобряли преждевременной вспышки польского восстания и были ею удручены, но стали под знамена своей родины, поскольку они были уже подняты и потому что в то время они считали бездействие преступлением. («История революции в Польше в 1794 году, глазами очевидца», с. 84)
(обратно)32
Так как записи изначально делались автором по-французски, то им везде использована французская единица измерения расстояния «лье» – 4,44 км. (Примеч. пер.)
(обратно)33
Гетман Забелло был повешен разбушевавшейся чернью в Варшаве 4 мая 1794 года. (Примеч. пер.)
(обратно)34
Удивительно, что Пистор ничего не знал о советах, которые король давал Игельстрому, и о том, что он просил того как можно быстрее покинуть Варшаву, чтобы в столице восстановилось спокойствие.
(обратно)35
См. Пистор «Мемуары, найденные в Берлине», с. 150.
(обратно)36
См. Пистор, с. 153.
(обратно)37
См. Пистор, с. 162.
(обратно)38
Младших офицеров (устар.) (Примеч. пер.)
(обратно)39
Автор «Истории восстания в Польше в 1794 году» так говорит об этом на с.127: «Поражение в битве под Щекоцинами повлекло за собой потерю Кракова. Этот город, окруженный плохой стеной, лишенный средств защиты, имел лишь восемь пушек, а вместо гарнизона – новобранцев, вооруженных косами. В таких условиях спасение города могло быть только чудом. За то, что он не смог совершить этого чуда, и был так жестоко наказан комендант города Венявский».
(обратно)40
В Польше и Литве называли «контрактами» собрания жителей в определенные периоды года для совершения покупок, заключения земельных сделок, ипотек, займов, выплат и т. п. Местами таких «контрактов» в Польше были Варшава, Познань и Дубно, а в Литве – Вильна, Минск и Новогрудок.
(обратно)41
Та самая, которая впоследствии вышла замуж сначала за графа Адама Хрептовича, затем – за графа Замойского и наконец – за князя Казимира Любомирского.
(обратно)42
Спустя несколько лет я узнал от генерала Беннигсена, который командовал той атакой, что два эскадрона его кавалерии трижды отступали под огнем моих стрелков и понесли значительные потери в людях и лошадях.
(обратно)43
См. на предыдущих страницах о результатах этого расследования и тех мерах, которые принял Костюшко для наказания участников беспорядков 27 и 28 июня.
(обратно)44
Казимир Сапега, генерал артиллерии, считался одним из лучших ораторов в Польше. Он проявил свое красноречие на многих сеймах в качестве нунция, и особенно – на конституционном сейме, где он был маршалком вместе с Малаховским. Чтобы убедиться в его преданности родине, достаточно отметить, что во время революции 1794 года он служил в армии волонтером и что во время осады Варшавы он был простым офицером на батарее, отказываясь от более высокой должности, соответствующей его знаниям и талантам.
(обратно)45
Автор «Истории польской революции» на странице 160 о восстании в Великой Польше пишет следующее: «Именно Мневский, каштелян Куявского воеводства, стоял у истоков этого заговора и обеспечил его успех. Это был действительно бесстрашный поступок, особенно если учесть, на какую опасность обрекал себя Мневский, и то, что среди его соратников было всего 89 человек».
Далее историк добавляет: «Мневский с болью в сердце понимал, что столица будет обречена, как только конвой с боеприпасами доедет к пруссакам. Он собирает заговорщиков и предлагает захватить конвой. Время операции определено, назначено место встречи, где Мневский находит лишь 30 поляков, готовых следовать за ним, и т. д. и т. п.»
Никакого преувеличения здесь нет. Сам Мневский и многие его боевые товарищи рассказывали мне, что в первой группе повстанцев в Великой Польше было только 19 человек. Все о восстании я записал со слов Мневского, Выбицкого, Немоевского, Прусимского и многих других активных участников событий.
(обратно)46
Это была необходимая мера безопасности. Король пользовался исключительным уважением среди приближенных, тем не менее предосторожности ради, всякий, кто получал доступ к монарху, подвергался тщательной проверке.
(обратно)47
Ségur.
(обратно)48
Самим фактом (лат.).
(обратно)49
Вышеуказанные материалы, подписанные всеми поляками, находящимися в Париже, были посланы в Венецию министру Французской республики гражданину Лаллеману, который передал их мне. Оригинал хранится в дипломатической миссии. Заверенная копия с подписями вручена мне и находится в архиве миссии в Константинополе под номером 17.
(обратно)50
Автор уточняет, что речь идет о заболевании «la fièvre double-quarte» – малярийная лихорадка с приступами два дня подряд и третьим днем без приступов. (Примеч. пер.)
(обратно)51
Подозрения, под которые попал граф Крута, не имели под собой никаких оснований. В письме от 4 термидора IV года Вернинак писал мне: «Вы изволили поинтересоваться моим мнением о переводчике Круте. Информация, полученная от нашего представителя в Венеции, давала не очень убедительный повод заподозрить этого человека. Однако после того, как стало известно, что граф Потоцкий неверно понял и истолковал содержание письма Круты, я не вижу препятствий для того, чтобы вы могли воспользоваться его услугами».
(обратно)52
Директория упразднила название «акт восстания» и заменила его на «акт конфедерации» с тем, чтобы не раздражать турок, которые питали отвращение к повстанцам, но всегда оставались друзьями польских конфедератов.
(обратно)53
Турский, по прозвищу Сармат, пользовался безупречной репутацией подлинного патриота. В своем письме он желал лишь пробудить у Феликса Потоцкого чувства благородства и любви к родине, которые он так ярко проявлял до того, как скомпрометировал себя в качестве главы Тарговицкой конфедерации. Турский призывал Феликса Потоцкого искупить свою вину, присоединиться к общему делу польских патриотов и пожертвовать часть своего богатства для возрождения Польши. Копию этого письма Турский сам отправил в Комитет общественного спасения без всякого намерения кого-либо компрометировать.
Письмо Петру Потоцкому – польскому беженцу в Венеции – никак нельзя поставить в вину Турскому. Там речь идет о патриотических чувствах эмигранта, от которых он никогда не отступался.
(обратно)54
Польский офицер Турский был отправлен из Парижа для реорганизации турецкой кавалерии. Ему дали годовой пансион в семь тысяч пиастров, это примерно тысяча дукатов. Однако никакой работы у него не было, как и не было в турецкой армии ни одного кавалериста с европейской подготовкой.
(обратно)55
Понятно, что здесь речь идет о султане Селиме III. (Примеч. авт.)
(обратно)56
Имеется в виду Сулковский, который впоследствии стал адъютантом генерала Бонапарта. (Примеч. авт.)
(обратно)57
Генералиссимус Костюшко.
(обратно)58
Весь текст постскриптума зашифрован. (Примеч. авт.)
(обратно)59
Все отрывки, выделенные курсивом, зашифрованы.
(обратно)60
Командующий флотом. (Примеч. пер.)
(обратно)61
Вернинак мог ничего не знать о ходатайствах вождей революции 1794 года перед французским правительством, которые не дали ожидаемых результатов. Имеется, однако, бесспорный факт, что один из польских представителей был уполномочен передать в Париж информацию о восстании в Польше.
(обратно)62
Это тот самый человек, которого упоминал Декорш в своих письмах к Игнацию Потоцкому. Сулковский был адъютантом генерала Бонапарта, сопровождал его в боевых походах и погиб в Египте. Этот молодой человек сочетал в себе обширные познания, высокую образованность, личное мужество, безграничную преданность делу свободы и все лучшие качества настоящего поляка.
(обратно)63
Я уже писал, что прибыл в Константинополь в первые дни апреля, т. е. два месяца спустя после отправления данного письма.
(обратно)64
Грек Дмитрий, мой единственный подчиненный, был очень привязан ко мне и сам признался, что имеет приказ каждый день утром и вечером являться в здание дипломатической миссии России и докладывать обо всех моих действиях.
Много лет спустя, вернувшись на родину в 1802 году, я узнал от графа Кочубея, который был послом России во время моего пребывания в Константинополе, что в его распоряжении имелись копии всех моих писем и докладных записок о событиях в Польше, отправленных Вернинаку и Оберу дю Байе.
(обратно)65
Не могу не упомянуть также гражданина Ортолана, богатого французского торговца из Адрианополя, который являлся предшественником Годена на посту представителя Французской республики в Яссах. Этот человек, не жалея своих сил и денег, оказывал ощутимую помощь польским беженцам, которые запомнили его доброту и бескорыстие. Своей благородной деятельностью гражданин Ортолан снискал себе уважение и признательность каждого добропорядочного поляка.
(обратно)66
Этот бесстрашный офицер достойно и честно служил своему отечеству в период восстания 1794 года. Образование получил во Франции. Вместе с Бонапартом учился в военной школе в Бриене. Однажды во время проверки внутреннего режима Яблоновский был вынужден наказать Бонапарта на сутки содержания в карцере. Случившееся отнюдь не навредило ему, а, наоборот, сослужило добрую службу: первый консул узнал Яблоновского, когда он явился для зачисления в армию. Нес службу в польских легионах и был послан на остров Санта-Доминго, где стал жертвой нездорового климата, разделив печальную участь остальных участников этой злополучной экспедиции.
(обратно)67
Греческое название реки Днепр. (Примеч. пер.)
(обратно)68
Выспренный республиканский стиль этих строк, коренным образом отличающийся от манеры письма, установившейся после революции, не удивит никого, кто мысленно перенесется в ту эпоху, когда писалось это послание, и вспомнит тогдашнее безнадежное положение поляков, которые свое освобождение связывали исключительно с Францией. Признаюсь, и я в 1796 году восторгался Бонапартом, боевыми заслугами и военным дарованием этого командующего Итальянской армией. Все это высоко ценили даже его враги. Мой восторг и в особенности мои надежды на то, что Бонапарт станет защитником Польши, заметно поубавились, после того, как он провозгласил себя пожизненным консулом, и совсем исчезли, когда он стал императором. Я поддерживал генерала Бонапарта, когда он командовал французами и поляками в Италии, когда он сражался за свободу и независимость народов. Но я уже не верил обещаниям императора Наполеона, которые он давал в 1812 году, о чем подробнее я расскажу, когда речь пойдет об этой памятной кампании. Здесь я ограничусь лишь констатацией того, что потерял расположение к Наполеону и перестал быть его сторонником, потому что никогда не верил в то, что он намерен восстановить Польшу. И я прекрасно видел, что, вооружая почти всю Европу для предстоящей войны с Россией, удачливый завоеватель задумал крупномасштабный план, чтобы получить новые лавры и удовлетворить свое честолюбие. Факты подтвердили мое мнение. Ослепленный первыми успехами, Наполеон устремился к Москве, не подумав даже о восстановлении пятнадцатимиллионной страны, чье существование было так необходимо для спокойствия в Европе. Там, у ворот древней столицы России, и наступил роковой конец славы императора Франции. А ведь он мог опечатать эти ворота, остановившись перед Двиной, вернув полякам их родину, а залитой кровью Европе – мир и покой. (Примечание добавлено в 1813 году).
(обратно)69
По-турецки: посмотрим. (Примеч. авт.)
(обратно)70
Это предчувствие сбылось. О смерти Обера дю Байе мне рассказали знакомые французские офицеры. Случилось это, как мне кажется, чуть больше чем через год после той памятной прогулки по Кампо дей Морти. Офицеры утверждали, что похоронили дипломата во дворе резиденции посольства Франции у древа свободы.
(обратно)71
Фрагмент из трагедии Вольтера «Триумвират». (Примеч. пер.)
(обратно)72
Я рассказываю о пути, который проделал сам. Там имеются места, где хоть и с трудом, но можно проехать на повозке.
(обратно)73
После вступления на престол императора Павла этот Дамбровский предал дело поляков. Он раскрыл все планы своих соотечественников в изгнании, передав русским находящиеся у него на руках документы. Затем командовал полком российской армии. В 1802 году, в самом начале царствования императора Александра, я вновь увиделся с ним в Петербурге. За совершение каких-то серьезных проступков Дамбровский был привлечен к суду и вскоре, как мне стало известно, был изгнан из армии и сослан в Сибирь.
(обратно)74
Несколько лет спустя мне сообщили, что буквально сразу же после моего отъезда из Кракова в гостиницу «Париссо» явилась полиция, чтобы арестовать меня.
(обратно)75
Он совсем недавно женился на дочери бывшего министра иностранных дел Шарля Делакруа.
(обратно)76
В пригласительных билетах гостей просили не пользоваться предметами украшения, изготовленными английскими предприятиями.
(обратно)77
В тот момент, когда Бонапарт входил в зал, один швейцарский депутат (кажется, это был Охс) взял за руку даму, стоящую рядом, и, указывая на Наполеона, восторженно воскликнул: «Посмотрите, мадам, это генерал Бонапарт»!.. «Я его хорошо знаю, – ответила она, – ведь это мой муж». Этой дамой оказалась вдова Богарне, которая вышла замуж за Бонапарта и стала затем императрицей Жозефиной.
(обратно)78
Сегодня он является королем Голландии.
(обратно)79
Я пишу об этом во Флоренции в январе 1826 года.
(обратно)80
Речь идет о тридцать седьмом выпуске бюллетеня, подготовленного штабом главнокомандующего в Познани 1 декабря 1806 года и напечатанного в газете «Монитор» 12 декабря того же года.
(обратно)81
Меня убеждали, что венецианские евреи только что внесли миллион ливров в местной валюте на покрытие расходов, связанных с организацией встречи Наполеона.
(обратно)82
В ту пору я видел в Париже королей Саксонии, Вюртемберга, Баварии, Испании, Неаполя и Вестфалии, а также королев Баварии, Испании, Неаполя, Вестфалии и Голландии.
(обратно)
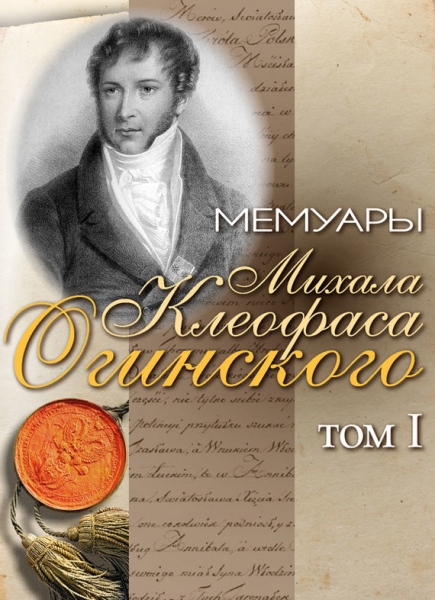



Комментарии к книге «Мемуары Михала Клеофаса Огинского. Том 1», Михал Клеофас Огинский
Всего 0 комментариев