Владимир Соловьев Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых
Acknowledgements
Выжить — это избегнуть своей судьбы. Потому и выживаю, что живу заемной жизнью, чужой судьбой, чужими судьбами. А жил в мире, где все меня старше: младший современник Окуджавы, Эфроса и Слуцкого, Высоцкого и Шукшина, Искандера и Тарковского, Ахмадулиной, Мориц, Евтушенко и Вознесенского — любого из шестидесятников, с которыми мне повезло знаться, а с иными — близко и тесно. Даже в своем поколении я был моложе моих друзей Бродского и Довлатова. Да, младший современник всех, о ком пишу свои мемуарные метафизические романы, включая этот.
Потому и назван был изначально: «Младший современник». Однако поразмыслив — вместе с моим издательством «РИПОЛ классик», — решили переименовать по сольному принципу остальных книг этого авторского сериала и в тон предыдущей «Не только Евтушенко». Хотя, в отличие от книг про Довлатова, Бродского и Евтушенко, в этой нет центровика, и знаковое имя на обложку приходилось выбирать, исходя из иных соображений. Вот ход наших рассуждений.
Из героев новой книги самые популярные — Высоцкий, Окуджава, Тарковский, Шукшин и Анатолий Эфрос. На первом месте по общероссийскому рейтингу — сразу вслед за Юрием Гагариным — Высоцкий. Ему единственному посвящен целый разворот в тетрадке иллюстраций — помимо разножанрового и разноавторского текстового раздела «Быть Владимиром Высоцким»: эссе и сказ Владимира Соловьева, мемуар Михаила Шемякина о Володе Высоцком и Марине Влади, английское стихотворение Юджина Соловьева. Короче, если кого и выносить в название на обложку и титул, так именно его. Так возникло название с интегрирующим подзаголовком, что это групповой портрет, поименованный по самой знаковой фигуре времени:
ВЫСОЦКИЙ И ДРУГИЕ
Памяти живых и мертвых
Теперь я старше тех, кто умер раньше меня. Я пережил их не только хронологически, но и по возрасту. Воспоминания жгут и сжигают мою душу своей таинственностью и неразгаданностью. «Памяти живых и мертвых» — мнимый оксюморон, потому что для моей мучительницыпамяти живые и мертвые без разницы: памяти прошлого. Живых людей превращу в литературных мертвецов, зато мертвецов окроплю живой водой и пущу гулять по свету. Пока пишу, живые помрут, зато оживут мертвые. Вот и меняю их местами. Увековечу тех и других. Смерть всегда на страже — недреманное око, условие существования. Дорогие мои покойники. Книга, пропитанная смертью. С миром, с прошлым, со смертью, с Богом — на «ты».
По замыслу автора, обе эти книги «Не только Евтушенко» и «Высоцкий и другие» — мемуарно-аналитический портрет не только одного поколения, но всего шестидесятничества как культурного, политического и исторического явления. Хотя шестидесятником себя не считаю и принадлежу к следующей генерации сороковиков — вместе с Бродским, Шемякиным, Довлатовым…
Я благодарен за помощь и поддержку в создании этой мемуарной линейки Аркадию Богатыреву, Сергею Виннику, Саше Гранту, Лене Довлатовой, Евгению Евтушенко, Георгию Елину, Владимиру Карцеву, Лене Клепиковой, Геннадию Кацову, Саре де Кей, Илье Левкову, Зое Межировой, Юрию Середе, Юджину (Евгению) Соловьеву, Лане Форд, Михаилу Фрейдлину, Соне Хабинской (Софии Непомнящей), Науму Целесину, Изе Шапиро, Наташе Шапиро, Наташе Шарымовой, Михаилу Шемякину, а также моим безымянным помощникам по сбору информации X, Y & Z.
Особая признательность издательству «РИПОЛ классик», которое автор считает родным домом, хотя ни разу там не был и вряд ли когда будет. Именно это издательство выпустило уже с полдюжины моих и Елены Клепиковой книг, сольных и в соавторстве, а теперь издает авторский сериал под рабочим названием «Фрагменты великой судьбы». Первые четыре книги, предыдущие о Довлатове и Бродском и эти, тесно связанные между собой, типа складня — «Не только Евтушенко» и «Высоцкий и другие», которые выходят с промежутком в месяц, а вскоре последует еще одна, последняя в моем пятикнижии, — анонсирую заранее:
БЫТЬ ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ
Мое поколение — от Барышникова и Бродского до Довлатова и Шемякина
Еще одно, последнее сказанье — И летопись окончена моя.
Розовое гетто: касикофути. Групповой портрет в жанре «Ночного дозора»
Что же такое наш «Аэропорт», каким он был, когда я туда перебрался из зачумленного и загэбэзированного Питера? Станция метро, давшая название нескольким писательским коопам, а заодно книжному складу, писательскому ателье и литфондовской поликлинике — писательский микрорайон. А Розовое гетто — кликуха по розовому кирпичу, из которого дома сложены, и доброй половине евреев, здесь проживающих. Что делать? Та же история во Франции, Англии, Италии, США — там прямь в глазах рябит от писателей-евреев. Может быть, Россия опередила другие страны, коли Розанов уже в 1913 году писал, как всегда, преувеличивая: «Вся литература (теперь) „захвачена“ евреями. Им мало кошелька: они пришли „по душу русскую“…»
Я бы добавил — в чем-то они ее и выразили: Мандельштам, Пастернак, Бабель, Тынянов, Бродский. Меньшинство, конечно, но когда талант был в большинстве?
Река времени относит меня назад, Нью-Йорк маячит где-то вдали, как фантазийная небыль будущего. «Мог ли я себе представить…» — фраза излишняя. Déjà vu.
В каждом подъезде у нас лифтерша, которая — в этом никто не сомневается — следит не столько за лифтами, сколько за жильцами и гостями, и вдобавок к зарплате получает мзду от КГБ. Здесь скопление не одних евреев, но и диссидентов, хотя в глазах КГБ каждый писатель — потенциальный диссентер. Что не так. Завоевать место под советским солнцем: членский билет, литфондовская клиника, дома творчества по всей стране, от Комарова и Переделкина до Ялты и Коктебеля, — нет, от этого отказаться по доброй воле невозможно. В диссент отсюда уходят поневоле — если тебя не печатают или так нещадно цензурируют и редактируют, что ты не узнаёшь свой текст. Как в том анекдоте про фотоателье: «Пиджак вроде бы мой…» — глядя на собственный снимок. Или как сказал мне не так давно мой московский редактор: «Текст для автора — это святое». В те времена авторский текст был чем угодно, но только не святым:
Здесь над статьями совершают Вдвойне убийственный обряд: Как христиан, их здесь крестят, И как евреев — обрезают.Ссылка здесь ad absurdum: ну, Дмитрий Минаев, а кто таков? понятно, «обрезают», а почему «крестят»? А потому что перечеркивали красным карандашом крест-накрест!
Писателей в Розовом гетто становится все меньше по естественным причинам: перезжают, вовсе уезжают, умирают — одних уж нет, а те далече, как Саади некогда сказал, здесь и ссылка не нужна, — а когда-то — счастливчики! — въезжали из коммуналок в отдельные, взлелеянные, на собственные деньги купленные квартиры — и была суббота, отдых, услада, пауза перед смертью. Теперь здесь больше окололитературной швали, писательских вдов, разведенок, сыновей, внуков — в большинстве забалованные, расфранченные, недалекие и претенциозные: если на детях природа отдыхает, то на внуках и вовсе летаргирует. Кто это сказал? Да я и сказал в каком-то своем рассказе. То, что в Москве тогда звали «аэропортовщиной», часто заслуженно. Но «аэропортовщина» — это и идеология: по преимуществу либеральная, вынужденно соглашательская или вынужденно диссидентская.
«Аэропорт» — это клан, но одновременно и остров, потому что стоит ступить чуть поодаль, перейдя Красноармейскую улицу, как попадаешь в зеленовато-болотистую хлябь отечественного плебства, пьяни, дебильной удали, тотального обалдения и затухания всего человеческого — мир зоологический и экзотичный, интересный разве что для этнографа или антрополога. Если начнутся погромы, то здесь нашим черносотенцам есть где разгуляться. Наши дома высятся как мишени.
Хотя здесь не больше квадратного гектара, поэтому насыщенность еврейства, благополучия, интеллигентности и диссента выше нормы по советским стандартам.
И еще — страха.
Уровень страха здесь непостоянный, колеблемый, зависимый от зарубежного радио, которое слушают повсеместно и ежедневно — присосавшись к приемникам, как через улицу — к бутылке. Пьют новости прямо из горлá. Единственный незамутненный родник информации — прежде всего отечественной. Московские новости здесь узнают из Лондона, Кёльна и Вашингтона. Друг о дружке — и то из радиосообщений. Даже о самих себе. Кто мы, что мы, зачем, откуда, куда и что с нами происходит — «Голос Америки», «Немецкая волна», Би-би-си знают про нас лучше, чем мы сами. От них мы узнаём, что у соседа по лестничной площадке был обыск, а этажом ниже — выпустил там книжку, одному отказали в визе в Израиль, другому КГБ отключил телефон, не найдя иной наказательной меры (пока что). Нет худа без добра… или — здесь уж ссылка на Мильтона обязательна: «У каждого облака есть серебряный ободок» — экс-абонент Володя Войнович сочинил об этом развеселый рассказ под видом кляузы министру связи.
Вообще, граждане Розового гетто делятся на две категории: решившиеся на что-то (печатание за бугром, открытый диссент, подписание протестной или защитной коллективки, да хоть подача заявления на отвал) и не решающиеся ни на что, застывшие в вопросительной гамлетовой позе. Первые обычно смелы, размашисты, артикуляционны, легкомысленны, не без позерства; вторые — зажаты, подавлены, молчаливы. Их дрожание есть материализация страха. Помню одного такого квакера: такая вибрация, такой страх, что я переставал его узнавать и даже различать.
Человек-невидимка.
Не в осуждение: нельзя требовать от человека то, что превышает его возможности. К примеру, сам еврей, я не уверен, что набрался бы мужества прятать у себя евреев в Дании или Польше, когда там хозяйничали нацисты и когда это было смертельно опасно. Если бы только для меня — другое дело, но жена, сын — как быть? Мое право — рисковать собой, но не моей семьей.
Само собой, я описываю сейчас тогдашнюю вегетарианскую эпоху, но чреватую. И от гибели всерьез никто не застрахован. Что для одних минимум, для других — максимум.
У наших домов постоянно дежурят топтуны, а то и машины с затемненными окнами, причем неизвестно, за кем именно они следят. Каждый думает, что за ним.
Да еще этот межэтажный чердачный коленчатый коридорчик, узкий, с низким потолком, с нависшими трубами и связками проводов, с могильной сыростью, — им часто приходится пользоваться, когда не работает лифт, а тот выходит из строя регулярно. Говорят, его нарочно отключают, чтобы тренировать нас в страхе — касикофути, пучина ужаса, помните «Записки у изголовья»! — и объявление внизу отсылает в соседний подъезд, где лифт довозит тебя до этого сквозного, через все этажи, лаза, и ты идешь по нему, склонив голову и затаив дыхание, особенно перед заворотом, пока не добираешься до своего подъезда и бегом по лестнице к своей квартире: мой дом — моя крепость. Что в нашем случае не так. Ночью там особенно не по себе, как воспоминание о будущем, где тебя больше нет, и мы с Леной часто, особенно когда вступили в прямую конфронтацию с властями, предпочитали вместо этого кругаля по коленчатому ходу переть пешком на наш седьмой этаж: из страха.
Уровень страха резко подскочил, когда было найдено тело Кости Богатырева рядом с его квартирой. Стукнули его, когда он вышел из лифта, а добили уже в Склифософского, где он выздоравливал. Профессионалы оказались недостаточно профессиональны и допрофессионализировались в больнице.
Контрольный выстрел.
Я свой касикофути избыл еще в Питере, сочинив о нем «Трех евреев», но у меня он выражался импульсивно и опосредованно — в фобиях: я боялся сифилиса, безденежья, прослушки, обысков. Собственно, потому я и сбежал из Питера, как только появилась возможность: не от гэбухи, а от собственного страха, который, говорят мне здесь, в Нью-Йорке, бывшие москвичи, был у меня гипертрофирован. Здесь все, как я посмотрю, герои и машут кулаками после драки. Один тут сказал мне, что, когда его вызвали туда и велели прекратить рассказывать анекдоты, он с ходу ответил: «Я не рассказываю чужие анекдоты — я сочиняю свои». Так, возможно, и было, но я вот не родился героем и не стал им. Да и анекдоты травить никогда не умел.
Обыскомания — как и телефономания — явление в Розовом гетто обычное. То и дело в папках, портфелях, хозяйственных сумках, а то и целыми чемоданами тащат ближе к вечеру или рано утром из квартиры в квартиру самиздат и тамиздат, а заодно пишущие машинки и магнитофоны, которые КГБ тоже арестовывает как соучастников преступления — совершённого или только задуманного. Хранитель боится обыска даже больше, чем творец.
Чем у человека меньше грехов перед Советской властью, тем больше он ее боится и дрожит.
Страх перед КГБ обратно пропорционален вине — больше всего боятся невинные: как бы не заподозрили в несовершённом преступлении. Возможно, это рецидив либо следствие 37-го, когда брали именно невинных — представляю, какое зато раздолье настоящим врагам народа или шпионам, как легко им было затеряться среди без вины виноватых. Но это особый сюжет — куда более реалистичный, чем может показаться спригляду.
Дрожь наших вполне лояльных интеллигентов и даже — до известной степени — коллабос неосновательна либо патологична.
Зато до чего щедры в мужестве и отваге писатели-диссиденты, словно добирают за квакеров для общего равновеса. Вплоть до позерства и актерства.
Как-то, возмущенный тем, что КГБ отключил телефон у Копелева, я, преодолев стыд перед театральностью жеста, отправился в соседний дом к шапочно знакомому человеку, чтобы предложить к его услугам мой телефон — в любое время дня и ночи. Уже подымаясь на лифте, подумал: как, должно быть, страшно ему открывать дверь — а вдруг с обыском? или с ордером на арест? Это еще более усилило мою робость, когда я воткнул палец в кнопку звонка. Но вместо ожидаемого бдительного спроса «кто там?» дверь наотмашь распахнулась — чуть было не отлетел к противоположной стене. На пороге стоял седобородый гигант и метал в меня искры из глаз, и я было подумал, что он так от страха, но оказалось — пьян собственной смелостью. Или тот же страх, но шиворот-навыворот? Или опыт посадки и шараги в сталинское время? И в мозгу недостаточно извилин, чтобы бояться в бескровное вроде бы время? Да и в те — сталинские — времена для страха необходимо воображение. Это вовсе не значит, что воображение лжет, а правда — только то, что видишь невооруженным глазом.
Спросил как-то Войновича, что тот будет делать, если за ним придут — пойдет по доброй воле? «Ни за что! — сказал Войнович. — Пусть сами несут!» В самом деле, чтобы по их указке да еще своими ногами — значит принять их правила игры. Что-то мне это напомнило. Троцкий, когда его высылали, тоже отказался сам идти, силой волокли или даже несли, а он дрыгал ногами, как говорят его до сих пор ненавистники, готовые противопоставить ему даже Сталина. В художественной обработке — у Набокова в «Приглашении на казнь» — Цинциннат Ц. разрушает планы своих судей и палачей и сходит с плахи. А современные детективисты пишут о тайном сговоре между убийцей и жертвой как необходимом условии преступления.
Однажды, правда, Войнович пошел своими ногами, когда его вызвали в КГБ. Наша героическая интеллигенция не замедлила попрекнуть его этим, узнав о происшествии из его же очерка, опубликованного в «Континенте». Кстати, свидание кагэбэшники назначили ему у памятника Марксу, хотя сподручнее вроде бы двумястами метрами выше, у памятника Дзержинского.
Небольшого роста, но сбит, сколочен крепко, физически окончателен, устойчив, скрытен и решителен — корешок. Не знаю, какие критерии в моих суждениях преобладают — физиогномические, литературоведческие либо поступковедческие, — но странный сплав формируется в моем воображении из невзрачной и замкнутой в пространстве фигурки. Истерик, скандалист, расчетчик, превентивник, но и бескомпромиссник — свою страну он изучил и обмыслил до тонкостей: его не словить ни на добром слове, ни на прямой угрозе. Крепкий орешек, себе на уме — оттого и отсутствие во время присутствия, зато врасплох такого не застанешь. А внешняя его бесцветность оттого, наверное, что цвет приобретает, реагируя на внешние обстоятельства, — ему нужны препятствия, чтобы он проявился в полную мощь. Он застолбил свой решительный образ, предварительно запретив себе бояться — сначала в собственном сознании, а потом в сознании читателей. В том числе тех, кто работает в органах: самая многочисленная и пристальная армия читателей диссидентской литературы.
Интересно, наши диссиденты догадываются, на кого они главным образом вкалывают? Из кого состоит их местная аудитория? Кому в основном доступны их книги? Для кого их чтение — не преступление, а прямая обязанность?
КГБ как школа будущих историков современной русской литературы?
К тому же «Чонкину» они относятся серьезнее, чем я, а у меня главная претензия, что нельзя все-таки так вот запросто прикарманить гашековского Швейка, переименовав и переиначив на русский лад. Тем более у этой литературной предтечи уже были этнические перевоплощения: к примеру, эренбурговский Лазик Ройтшванец, возникший, правда, на более сложном скрещении — с хасидскими легендами Мартина Бубера.
Но это все литературоведение, потому и не пишу отдельную главу про Войновича: как писатель он мне все-таки чужд. В дальнейшем, снова паразитируя, сочинил две антисолженицынские диатрибы. Одной было бы довольно.
Как гражданин он мне ближе, особенно когда мы с ним соседствовали в Розовом гетто. Да и лично мне он сильно помог — дал телефоны западных кóров, когда мы с Леной образовали «Соловьев — Клепикова-пресс», а когда нам предложили убираться подобру-поздорову, да еще в кратчайшие сроки, свел с женой Антонова-Овсеенко (само собой, младшего), которая сделала микрофильмы с наших рукописей. Это именно он переснял чудом сохранившуюся у Семена Липкина в нашем же Розовом гетто рукопись арестованного гэбухой романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и передал на Запад. А чтó — подвиг! Представляю шок гэбистов, которые были уверены, что ни одного экземпляра на воле больше не осталось, а тут выходит за бугром, правда, через двадцать лет после ареста рукописи и через шестнадцать — после смерти автора. Мог бы и быстрее, если бы не Максимов с его идеологическим самодурством — он опубликовал у себя в «Континенте» только пару далеко не самых удачных глав. Пахан был еще тот — отечественный тюряжный опыт перенес в Париж, когда стал главредом проплаченного журнала. Войнович — человек принципиально иной породы, по тем российским временам — редкостный. Бедные блюстители отечественных нравов с приросшими к плечам тайными погонами под импортным бельем — куда вам до него! Крепче и дольше держись, Войнович, если на кого и надежда в этой безнадежной стране, так исключительно на таких, как ты! — прости, что тыкаю, стилистически сподручнее.
Так я думал и писал тогда, от тех своих мыслей не отказываюсь и теперь.
Войнович выжег в себе страх — даже если бы захотел испугаться, уже нельзя, нарушение образа, выход из роли, потеря статус-кво, таким трудом приобретенного. И потом такой дремучий лес округ, глухая тропинка, не дай бог испугаться — вот тогда тебе и капут. Бояться нельзя из инстинкта самосохранения — испуг это уже страх, а страх есть сдача без боя и без сопротивления. Тем того только и нужно, ибо, кроме нашего касикофути, иного оружия у КГБ, может, и нет. А может, и есть, но страх — пока что — самое сильное. Что может быть страшнее страха?
Страх — это роскошь, которую может себе позволить человек, находясь в сравнительной безопасности. Когда же человек выходит на прямую, он утрачивает эту взлелеянную им отечественную и особо ценимую реликвию.
В Розовом гетто я изучил вариации страха, как Мандельштам в Петербурге — науку расставания. Есть патологический страх, не подконтрольный совести, ибо таковой — как противовеса страху — у человека нет, и он оправдает любой свой поступок, совершенный из страха, хоть на дворе и не 37-й. Есть малодушие, уход в кусты, виляние (эвфемизм — маневрирование) с последующим самобичеванием. Наподобие триады «церковь — религия — вера» существует, полагаю, аналогичная в этике: порядочность — нравственность — совесть. Я бы мог привести парочку известных имен, но лучше возьму самого себя.
У меня совесть-недомерок, как я сам. Недоразвившаяся совесть, совесть-эмбрион — поэтому я так часто разглагольствовал в Москве о нравственности. Здесь, в Нью-Йорке, я познакомился с одной религиозной американкой, дочкой рабби, которая утверждает, что евреи вообще лишены инстинктивной морали, а потому им нужен Закон — предписания и запреты, нравственность взамен совести. Что-то подобное мелькает у меня в памяти из читанного в далеком детстве Шопенгауэра: честь — внешняя совесть, совесть — внутренняя честь. Тот, кто не властен над собой, не уверен в себе, боится, что в решительную минуту окажется не на высоте, обязан окружить себя частоколом моральных табу и обязательств. Это дело запретное, и я не сделаю его даже во сне — само собой, из «Тысячи и одной ночи». На Бога надейся, а сам не плошай, а здесь наоборот: боясь, что оплошаю, тем более во сне или подсознанке, взываю к Богу. Но вся беда, что как раз в человеке Бог снял с себя ответственность и возложил ее на плечи homo sapiens.
Есть еще одно различие между розовогеттцами. Одним терять больше нечего, кроме цепей, они идут напролом, другие — вроде меня сразу же после переезда сюда — цеплялись за то немногое, что еще оставила власть. По присловью: мы ее не замечаем, она нас не трогает. Я уже был на грани разрыва с официальной литературой, но в это время в «Литературке» появилась моя статья и наделала много шума в болотце отечественной словесности. Статья свободная, эпатажная, нагловатая, хулиганская — я сам был удивлен, что она прошла без цензурно-редакторской правки. Переезд из Питера в Москву был первой пробой эмиграции, как у Сережи Довлатова из Питера в Таллин, но мы оба держали в голове запасной вариант — окончательный отвал за бугор, если не выйдет в столицах: у него — в эстонской, у меня — в широка страна моя родная. Так невозможен, так немыслим и противопоказан литературе был Питер, что всё казалась лучше, пусть и в пределах «отечества белых головок». Питер был в пору скушнеру, а когда оттуда подались кто куда, то и вовсе стал идеален: по Сеньке шапка. К тому ж Саша — «Семеныч», в оригинале и по паспорту — «Соломонович», чего стыдился и комплексовал.
Я понимаю удивление моих знакомых и читателей, когда они из прослушки «Голоса Америки», Би-би-си и проч. узнали о моем разрыве с официальной литературой. За неделю до этого, встретив меня в аэропортовском дворе, детский писатель Макс Бременер, весь такой стерильный, что любой микроб мог, казалось, убить его наповал, — мы подружились, когда ленинградский ТЮЗ, где я был завлитом, поставил его пьесу, — сказал мне:
— Вам здесь позволено, что не позволено никому.
— Я не Зевс, а бык, — пошутил я.
— Вы — возмутитель спокойствия.
То есть бузотер? Какого же тогда рожна, да?
А мне давно уже было как-то не по себе, что участвую в некой мистификации и с моей помощью и при моем непосредственном участии создается видимость свободы там, где она начисто отсутствует. Но я уже чувствовал за собой след погони, и что собак на меня навешают: либералы — за Битова и скушнера, березофилы — за Передреева и Лихоносова. Мне, правда, не привыкать. Я — злоречивый Мом. Тот самый, который попрекал олимпийцев, что их создания не совершенны: почему у человека сердце не снаружи, а у быка глаза не на рогах? И чего добился этот злослов, скандалист и первый диссидент? Зевс не выдержал и сбросил его с Олимпа на землю.
Есть, правда, и другая версия: Мом, он же Момус, сын Ночи, лопнул от злости, не сумев найти недостатков у Афродиты. Речь, понятно, о физических. Но моральные тогда и в той мифологии в счет не шли. Боги сами подавали человеку дурной поведенческий пример.
Теперь я не Мом, а скорпион. Покусываю себя, как и других. Еще неизвестно, на чью сторону встанет читатель этих записок. Необязательно — автора.
Незадолго до образования информационного агентства «Соловьев— Клепикова-пресс» я опубликовал несколько критических статей о своих литколлегах — Белле Ахмадулиной, Андрее Вознесенском, еще об одном Андрее — Битове, с которым мы схлестнулись на свадьбе Юза Алешковского, где я был свидетелем со стороны невесты, хотя приятельствовал с Юзом. Как читатель, может, помнит по «Не только Евтушенко», предыдущей моей книге, это я познакомил Юза с его будущей (второй) женой в Коктебеле, они быстро сошлись, и Ира подарила Юзу импортные джинсы, а мне шепнула с укором: «Мог бы иметь такие же». Понятно, я опешил. Но Ира вообще была девушка решительная, без тормозов, и что у нее на уме, думаю, было неизвестно ей самой, пока ее мысль не доходила до языка.
Почему-то любая моя критика воспринималась объектом и его фанатами как вызванная субъективными причинами, хоть часто я даже не был знаком с человеком, о котором писал. Тем более, с кем был знаком. Когда появилась моя статья в «Литературке» с очень ослабленной критикой новой книжки стихов скушнера, тот тут же позвонил из Ленинграда Гене Красухину, завотделом поэзии, и что-то ему наплел о наших с ним человеческих неладах — вот я и мщу через прессу. Оба — и Битов и скушнер — причину путали со следствием, переводили литературные счеты в личные. Древний принцип полемики: с мнениями, а не с лицами. С книгами — не с авторами. Не говоря о том, что все это в рамках дискуссии: я критикую Х, а меня в следующем номере или рядом, на той же полосе, критикуют за критику Х. О том, как Вознесенский бегал в ЦК, чтобы снять мою статью в «Литературке» из номера, я уже как-то писал, хотя на той же странице стоял ответный мне панегирик Вознесенскому критика Владимира Огнева. Критика у нас в стране была строго-настрого запрещена: нельзя было трогать ни власти предержащие, ни официозных писателей, ни играющих в диссент поэтов — упаси боже! Даже академик Сахаров был вне досягаемости, как жена Цезаря, ни тем более жена академика Сахарова — в этом мы с Леной убедились лично. См. главу «Спасибо академику Сахарову!».
Собственно, споры мои были не с двумя Андреями — Битовым и Вознесенским, — но с одураченным ими читателем. Хотя какой смысл, если читатель хочет быть одураченным? Его обманывать не надо, он сам обманываться рад. Вся беда, что элитарное по самой природе искусство в России стало достоянием миллионов, и они рядили и судили как заблагорассудится — без руля и без ветрил, без законов и без правил. Это и есть то «восстание масс», о котором написал безнадежную книгу Ортега-и-Гассет, но в нашем случае — на эстетическом пятачке. Внести в эти массы критерии истины и искусства невозможно, все равно что ссать против ветра, да и где уверенность, что истина у тебя в кармане? Печально, что художник, ориентируясь на массового читателя, утрачивает высокие критерии и снижает требования к себе. Они друг дружки стоят — зачем тогда вмешиваться, путаться под ногами, прерывать любовный акт?
Вот почему сольные главы в этой книге посвящены только тем, кто мне шибко нравился, кто был сам по себе, стоял особняком — даже те, кто потом приобрел бешеную славу, как Окуджава или Высоцкий. По пушкинской формуле: ты царь — живи один. Хотя, конечно, вечность влюблена в произведения времени, как сказал не наш поэт, но не всегда и необязательно и не в такой прямой зависимости, как у Евтушенко или Вознесенского, как ни велика их аудитория. Причиной их разрыва была именно борьба за аудиторию и за первенство, а не стих «Бьют женщину», который Андрей сочинил по свежим впечатлениям, будучи свидетелем рукопашной в такси между Женей и Галей, исход был предопределен:
Подонок, как он бил подробно, Стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг! Вонзался в дышащие ребра Ботинок, узкий, как утюг.Коли дал слово Вознесенскому, то и Евтушенко — как тот объясняет, почему прежние прежние друганы и соратники стали заклятыми, смертельными врагами:
…Не потому ль, что стремленье быть первым ело тебя, пожирало меня?Вопрос риторический: вот именно — потому!
В предыдущей книге «Не только Евтушенко» я объяснял, что заглавное имя на обложке и титуле — Евгений Евтушенко — псевдоним времени, а потому применимо не только к «кумиру нации», но ко всем фигурантам этого коллективного портрета, наподобие школьных фоток под конец учебного года. И дело тут не только в том, что все они были тесно связаны между собой и каждый — так или иначе, иногда конфликтно — с Евтушенко: Белла Ахмадулина была его женой, Андрей Вознесенским — близким другом, пока не разбежались, с Межировым были соперниками в любви и проч. Как имя великого футболиста стало обозначением любого футболиста либо футбольного фаната вообще: пеле — с маленькой буквы. Либо имя великого физика — единицей измерения силы тока: ампер. Вот я и превратил имя собственное в имя нарицательное — евтушенко, и расширил это эмблематичное понятие применительно к знаковым именам эпохи, его однокорытникам не только по литературному, но и по культурно-политическому цеху: евтушенки Владимир Высоцкий и Василий Шукшин, евтушенки Юрий Любимов и Анатолий Эфрос, евтушенки Белла, Новелла и Юнна, евтушенки два Олега — Каравайчук и Целков и три Андрея — Битов, Тарковский и Вознесенский, евтушенки поэты-кирзятники — Давид Самойлов, Булат Окуджава, Борис Слуцкий, Александр Межиров, евтушенко маринист Виктор Конецкий, евтушенко академик Андрей Сахаров наконец. И даже евтушенко Александр Солженицын, хоть он в гробу перевернется, если до него это дойдет! В свое оправдание: коли как есть Сверх-Я, то есть Супер-Эго, то такими суперевтушенками были академик Сахаров и Солженицын. Кто спорит, условность, но ничуть не более, чем понятие «шестидесятник». Без вопросов! Порядок.
На этой евтушенковской шкале есть, понятно, лучшие и худшие евтушенки, и есть евтушенки не только хуже, но лучше Евгения Евтушенко. Ничего уничижительного, да и не те это категории «лучше-хуже», в которых я рассматриваю представителей шестидесятничества. Оговорю сразу и жанровые особенности — не байопик, не биография и не монография, а именно портрет, еще точнее — штрихи к портрету. В нашем случае: штрихи к портретам. В двух книгах, которые зависимы друг от друга — и независимы. Как все книги одного автора — Владимира Соловьева.
Аналогичный прием будет использован и в следующей книге о моем собственном поколении — от Барышникова и Бродского до Довлатова и Шемякина. А чтобы никому из них не было обидно, назову ее по имени автора — «Быть Владимиром Соловьевым». Само собой, имя владимирсоловьев будет нарицательным, эмблематичным, именной маской, товарным знаком, подписью художника под портретами современников и ровесников. И не только. Пусть владимирсоловьев будет псевдонимом всех их скопом (знаменатель) и каждого в отдельности (числитель): владимирсоловьев — это Михаил Барышников, это Иосиф Бродский, это Сергей Довлатов, это Лена Клепикова, это Михаил Шемякин и это я сам — Владимир Соловьев. Нет, не автопортрет в траурной рамке — хотя кто знает? — а групповой портрет близких мне людей: рожденные в «сороковые, роковые» — бывшие ленинградцы, а потом ньюйоркцы.
Ладно, до той книги еще надо дожить, зато в этой пусть читатель не ждет отдельных портретов тех, кто оставил меня равнодушным, хоть я знал их в личку: Алешковского, Битова, Самойлова, а только мимоходом, по касательной, по ходу сюжета. Правда, я сочинил три главы, где Аз и Буки высказывают противоположные точки зрения на Вознесенского, Евтушенко и Ахмадулину, но они опять-таки в предыдущей книге «Не только Евтушенко», а до этого в моем романе с памятью «Записки скорпиона». Как образчики диалогической, а не сугубо панегирической или сугубо диатрибной характеристики. Читателю решать, кто прав: Аз или Буки? Но и моя кочующая из книги в книгу глава «Два Бродских» — той же природы: оксюморон взамен олеографии. Бродского я знал слишком хорошо, написал о нем несколько книг и немало статей, а та была постскриптумом к написанному, независимо от хронологии.
Уж коли о нем зашла речь, вот записанный мной по свежим следам разговор в тогдашней Москве.
— Он не выше нас, но впереди — разведчик и модернист русской поэзии, — сказала Юнна. — Как Мандельштам и Пастернак — сейчас их новизна стерлась, а современников потрясала. Через пятнадцать лет, когда Рыжий станет нобельцем и классиком и его стих разойдется по рукам, его новизна сотрется и мы все окажемся в одном корыте. Лучшие из нас, — добавила она на всякий случай.
Юнна гнула свою линию — присоединяясь к Бродскому, одновременно занижала его под себя, не будучи способна сама до предложенного им уровня дотянуться. Он уже и сам не мог дотянуться до своего прежнего уровня: нью-йоркский — до питерского. И еще: живя в России, Юнна вынужденно аполитизировала Бродского, потому что сама была в стихах верх аполитичности и отрешенности от мирской суеты. Потом они поменялись местами — уже в Америке Бродский стал отстаивать искусство для искусства, а Юнна — даже не политизировала, а огосударствила свой стих.
— У Бродского в руках инструментарий, которого нет сейчас ни у одного русского поэта, — защищал я его редут.
Другие помалкивали, следя за нашей перепалкой и не признавая в Бродском классика ни теперь, ни в будущем. Фазиль честно признался, что не понимает его стихов, и привел пример про пчелку, но мой сын-тинейджер, знавший Бродского наизусть и схватывавший на лету, мгновенно объяснил, что у пчелки жало в заднице.
— Судя по всему, у него была здесь нелегкая жизнь, тяжкая и продувная, — сказал Фазиль. — Такое у меня ощущение, что поэтом он не родился — до поэзии его довела Советская власть.
Я решил промолчать про Марину Басманову, которая участвовала в этом «сотворении» поэта наравне с Советской властью.
Тут раздраженно вмешалась Юнна:
— Я вас умоляю! Наоборот, Советская власть мешала выявить генетическую — то есть сущностную, а не благоприобретенную! — причину аллергического состояния его души по направлению к миру вовне — казалось, что виновата Советская власть, а выяснилось, что поэт не в ладах со всем миром. Вот что он пишет в последней поэме: «Птица, утратившая гнездо, яйцо на пустой баскетбольной площадке кладет в кольцо» — чем не образ мировой цивилизации? А потом они мечут в нас отравленные стрелы, но те приживаются в нашем организме и становятся часовыми указателями.
— Векторами страха, — поправил я. — Я понимаю, кошка выбирает ту единственную траву, которая ей позарез, но как можно деполитизировать Бродского, когда у него есть «Конец прекрасной эпохи» с прямым и четким противостоянием: жертвы — палачу.
— Это и так, и не так, — сказал Фазиль. — Так в том смысле, что Бродский — не Евтушенко, который антисоветский сегодня, а завтра — ультрасоветский.
— В зависимости от модус вивенди Софьи Власьевны, — сказала Юнна, примиряя поэта с царем.
— И в зависимости от своей стратегии, — добавил я.
— Не совсем, — возразил Фазиль. — Человек в стихах вашего Бродского — не только политическое животное, но в том числе политическое животное. Его лирический герой многообразнее, богаче, полихромнее.
— Тонкачество, — огрызнулась Юнна, хотя объект нашего разговорного разговора давно уже, по Пармениду, превратился в акт исследования, но ей лишь бы спорить! — Он сменил одну империю на другую и убедился, что всё едино — «…ибо у вас в руках то же перо, что и прежде», и тот же «конец перспективы»:
Я пишу из империи, чьи края Опускаются в воду. Снявши пробу с Двух океанов и континентов, я Чувствую то же, почти, что глобус. То есть дальше некуда. Дальше — ряд Звезд. И они горят.Знал бы Ося, как горячо о нем здесь говорят, будто не уезжал!
Участвуй он в нашем трепе, он бы, конечно, вклинился со своим вечным, по любому поводу: «Нет!»
— Вы так о нем спорите, как в учебнике по истории Древней Греции приводятся стихи Гесиода и Гомера — в качестве иллюстрации к экономическим основам рабовладельческого строя. — Это вмешалась Лена Клепикова, которая кончала классическое отделение филфака, но когда уже здесь, в Нью-Йорке, я прихвастнул, что Лена знает латынь и древнегреческий, наш приятель Саша Грант сказал, что латынь знает каждый дантист, на что я ответил: «Но не древнегреческий!»
— Ну и что с того? — возразил я своей жене. — От Гесиода, Гомера и Бродского не убудет, а мы — с их помощью — снимем дополнительные пробы с их времен, включая наше, и поймем что-то еще — не только их стихи. Мы живем в полуфабрикатной стране, здесь все недоделано и никогда доделано не будет — покупаешь ли квартиру или шляпу, все не закончено. Здесь нет перспективы, взамен неодолимая бесконечность, а там, на другом полушарии, где временно обосновался Рыжий, — по обратной причине: перспектива замкнута, прервана, «вещь не продлишь», противоположности сходятся, рай и ад, два места тотального бессилия. Это поверх всех различий, и это мудро, как откровение, но болевой уровень поэмы — как раз там, где время играет роль панацеи, ибо
…не терпит спешки, ставши формой бессонницы: пробираясь пешком и вплавь, в полушарье орла сны содержат дурную явь полушария решки.— Совпадения здесь не внешние, а внутренние, — сказала Лена, — потому что, переехав в другое полушарие, не избавиться от вымороченной отечественной нашей жизни — это уж на всю жизнь, где бы ты потом ни обитал. Как у Горация: сoelum, non animum mutant, qui trans mare currant.
— Даже пересекая океан, душа остается та же, — переиначил я на современный лад. — Как и страх. Страх отечественного нашего производства: made in the USSR. Почему Бродский и сменил империю. Черным по белому:
…Этот шаг продиктован был тем, что несло горелым с четырех сторон — хоть живот крести: с точки зренья ворон, с пяти. Дуя в полую дудку, что твой факир, я прошел сквозь строй янычар в зеленом, чуя яйцами холод их злых секир, как при входе в воду. И вот, с соленым вкусом этой воды во рту, я пересек черту…— Объясняю, — любимое слово Юнны, — это образ, а не реальность. Какие там янычары! Он же не через Чоп ехал, а летел на самолете. Но я не отрицаю, он имел право на этот образ.
— А ты — нет! — рассмеялся я.
— Кто о чем, а шелудивый о бане, — сказала Юнна, не очень поддерживающая мои генитальные загибоны. — Но к реальности этот образ не сводим. Так же, как и его сонеты Марии Стюарт и остальные любовные стихи — это мозговая конструкция, поэтический вымысел, и мне смешно, когда на основании этих стихов говорят о его однолюбстве. Наоборот, он — мономужчина. Но из поэтических соображений ему выгодно быть однолюбом — вот он и однолюб. Коли муза одна, то и баба одна — это и ежу понятно. Я тут как-то написала строчку про младшую сестру, а у меня только старшая и есть, но по смыслу и звуку старшая в текст не шла. А леди Макбет — классический пример! — то она кормила грудью своих детей, то у нее никогда детей не было. Как когда эффектней. Поэзия — тот же театр. Париж стóит обедни, а искусство — реальности. Однолюбство Бродского, как и его янычары и «несло горелым», — тропы, метафоры, гиперболы.
— Что касается янычар и горелого, могу подтвердить их реальность, — сказал бывший лениградец, без пяти минут москвич, только что закончивший «Трех евреев».
— Да нет же! Как ты понимаешь, поэт сам выбирает свою судьбу, сам все заранее планирует — и неудачи, и срывы, и безденежье…
— …и суд, и ссылку, и слежку, и психушку, и измену любимой, и инфаркт, — закончил я.
— Представь себе! Что угодно. В том числе — гэбуху. Это стратегия, которую избирает поэт, творя свой образ и судьбу — из ничего.
— Подневольный опыт Бродского ты объявляешь актом свободного волеизъявления, расчетом, стратегией? Ты с ума сошла!
Я, конечно, понимал, что Юнна примеривает судьбу Бродского на себя, но — не по чину и не по ноздре. Немного она перебарщивает, хваля его и тем самым примазываясь к нему, но одновременно этим сравнением, которое пусть не выдерживает, зато приподымает собственную планку и отчуждает себя от здешней конъюнктуры, признавая ее приблизительность, мнимость, фиктивность. Однако самого Бродского, в целях той же отчужденности от конъюнктуры, она уменьшает, одомашнивает, уподобляет самой себе — потому что не справиться с ним целиком… и еще — потому что бескомпромиссной своей жизнью-судьбой Бродский предъявил русской литературе и русским литераторам такой уровень, такой счет, такую меру, чтобы выдержать которые надо немедленно, разом отринуть от себя советскую литературную карьеру: все, что накоплено, к чертям собачьим!
— Ты хочешь идеального, а гениального тебе мало, — нашел я наконец формулу и в качестве иллюстрации привел Осины стихи: «Человек размышляет о собственной жизни, как ночь о лампе», хотя каждый сказал бы наоборот — как лампа о ночи. И «человек есть конец самого себя и вдается во Время» — того же автора. Гений не может быть совершенен — в отличие от эпигона. Гений торчит из самого себя, а эпигон укладывается в самом себе — разница.
— А мне все-таки одного Бродского было бы мало, — сказала Лена Клепикова. — Пусть гений, а потому особенно однобок, ущербен, ущемлен. Гений — это патология, диссонанс и одиночество.
— А кто тебе запрещает читать других поэтов? — сказал Фазиль.
— А одного Шекспира или одного Гёте — разве не мало? — сказал я. — Бродский не претендует на монополию. — И тут же поправился, вспомнив Осин императив: — Пусть даже претендует — претензия для читателя не обязательна. Ты говоришь, ему везде плохо, да? Но по-разному: там — изнуряющая жара, здесь — стужа. Здесь — Цельсий, там — Фаренгейт. Бродский — термометр: он политику, любовь, измену, смерть ощущает метеорологически — ему холодно, жарко, горячо, студено невыносимо. Метод не всегда чисто поэтический, часто физиологический, зато как действует! Он сменил не империи, а полюса, хотя нет — климатические зоны, объял земной шар и удивился его тесноте и человеческое неустройство и одиночество показал на примере любовном, когда глобус трещит по меридианам, и на двоих его не хватает. Не хватило.
Духота. Так спросонья озябшим коленом пиная мрак, понимаешь внезапно в постели, что это — брак: что за тридевять с лишним земель повернулось на бок тело, с которым давным-давно только и общего есть, что дно океана и навык наготы. Но при этом — не встать вдвоем. Потому что пока там — светло, в твоем полушарьи темно. Так сказать, одного светила не хватает для двух заурядных тел. То есть глобус склеен, как Бог хотел. И его не хватило.От некоторых его откровенностей даже как-то неловко становится. Паузу прервала, и как-то не очень уместно, Юнна:
— А там гнусностей меньше, чем у нас? Одни ЦРУ с ФБР чего стоят — почище нашего КГБ!
Вскоре мы нечто подобное услышим из письма Лимонова оттуда, которое по своей то ли чужой воле зачтет нам доброхот, сам из нашего Розового гетто.
Не то чтобы я уже навострил лыжи, но такой запасной вариант проигрывался — как и многими в Розовом гетто — ввиду закручивания гаек, а потому я на Юнну озлился:
— Ты здесь остаешься — на здоровье! Но не вытягивай из своей личной судьбы универсальную теорию, не постулируй свой образ жизни остальным.
— Как ты можешь сравнивать? — сказал Фазиль, который обычно стоит на примирительных позициях, а склоняется к охранительным, но правдолюб, и тут его прорвало. — То же, что с Бродским. Там ФБР и ЦРУ стоят на страже демократических институтов от внутренних и внешних посягательств, а именно: посягательств русской истории — помимо нашей официальной идеологии — на Запад, тогда как здесь охраняются тирания, жестокость и жлобство. Сексуальная революция, тестирование, демократия, свободная конкуренция — необходимость во лжи там отпадает, ложь не выгодна.
— Ты там не продержишься и дня! — сказал я Юнне.
— Не волочешь, что я тебе вмажу! — Это был словарь ее прежних дружков-наркоманов, а она завязала чуть ли не единственная в Москве.
Мимо ушей.
— А теперь наш сюрприз, — обратилась Юнна к своему спутнику, двенадцатью годами ее младше, и тот послушно вытащил из продуктовой сумки магнитофон, включил его, и мы услышали собственные голоса — весь наш давешний разговор с Юнниного прихода.
Мы растерялись. В самом деле, мы оказались в неравном положении: Юнна знала о записи, мы — нет. По сравнению с ее хорошо поставленным, отрепетированным голосом, наши звучали слишком партикулярно, домашне, неубедительно. К тому же она сидела к микрофону ближе других. Для кого она говорила: для потомства? А для кого еще? Уж во всяком случае не для вечности, в которую не верила. В любом случае — компромат, да и не принято меж друзьями.
— Сотри немедленно! — рассердился Фазиль.
— Конечно, конечно, — засуетилась вдруг Юнна, и ее Альфонсо начал какие-то манипуляции с магнитофоном, но стер или не стер, я так и не понял.
И никто не понял. Возник какой-то напряг, всем стало как-то не по себе от неуместного розыгрыша. Шутка, как в том анекдоте, — дурацкая. А тут еще Юнна, почувствовав свою оплошность и те, пусть маниакальные и, должно быть, необоснованные подозрения, которые она в нас заронила, сказала вдруг, что некто предупреждал ее быть осторожнее с одним диссидентствующим литератором, который под колпаком у КГБ. Забегая вперед: они пасли его еще пару месяцев и в конце концов арестовали: «Слава богу, — говорил общие знакомые, — теперь он вне подозрений». Такая вот была атмосферочка.
— Отсюда надо мотать — и немедленно, — сказал один из нас, все равно кто, тогда собралось с полдюжины у нас дома. — Мы все искажены, изуродованы, и скоро у нас крыша поедет от маний, от фобий, от взаимных подозрений. А наша ревность? Разновидность всеобщей советской подозрительности. Раз мы подозреваем друга в доносительстве, то жену сам бог велел подозревать в измене. В каком еще языке «измена» относится к родине и к женщине! Здесь не тюрьма страшна, а психушка — не за политическую оппозицию, но за настоящее безумие, которое неизбежно.
— И еще страх, — вмешался я. — Всеобщий и всеобъемлющий страх. Все время вроде бы беспричинно тянет свалить невесть куда, но свалить немедленно — промедление смерти подобно. Единственно, что останавливает, — стыд и этикет. Человек не может жить в непрерывном страхе — особенно мужик. Это унизительное и противоестественное состояние, его можно обуздать нравственным императивом либо выйти из него самообманом и актерством.
— Либо утерять его вовсе, но вместе с инстинктом самосохранения, — сказала Юнна. — И оказаться безоружным перед туземной реальностью, а это смертельно опасно.
— А вдруг именно страх делает каждого из нас человеком? — додумался вдруг Фазиль.
— Или черепахой, — сказал не помню кто. — Черепаший панцирь — материализация страха.
— Я боюсь, следовательно, я существую, — настаивал Фазиль. Именно тогда я понял, что эта тема взята им не напрокат, а личная, болезненная.
— Ты написал книгу о страхе, — сказал он мне. — Владимир Исаакович Страх.
Запомнил! Я невольно оглянулся — не все из присутствующих знали о «Трех евреях», а я не хотел засвечиваться раньше времени.
— Это роман о ленинградском страхе, жидовская исповедь, роман с эпиграфами, утешение в слезах, — запутывал я следы. — Литературное самоутверждение уравновесило жидовский страх, честолюбие оттянуло от пропасти, автор остался недоуестествленным. Настоящий страх — это когда выхода нет, туннель, тупик, лабиринт страха. Я пишу сейчас метафизический роман, но он как-то не вытанцовывается, не хватает чего-то экстраординарного, а так все есть, как у нас, — кухонные разговоры, мелкие предательства, сплетни. А чего-то не хватает. Либо не удастся роман, зато мы все выйдем из него целы-невредимы, а если удастся, то кому-то придется расплачиваться. Лучше бы автору. А если герою? Одному из вас? Стыдно признаться: чур-чур, не меня! Стыд и страх, страх и стыд.
— Ты хочешь кончить тем, с чего начал, — сказал Фазиль, словно осуждая меня. — Хочешь окольцевать свою литературную судьбу. Сам же говорил, что тот твой роман про питерский страх — последний, во что я не очень верил, тебе уже не остановиться. Жизни ты хочешь навязать сугубо эстетический закон зеркальных отражений.
— Я хочу, чтобы мы остались живы!
— Это второе твое желание, а первое — закончить роман, в который ты нас втягиваешь помимо нашей воли. Разве не так? Тебе нужна трагедия — позарез. А ты не боишься, что один из твоих героев погибнет не по стечению жизненных обстоятельств, но единственно из-за твоих честолюбивых помыслов и точного знания художественных законов и читательских потребностей? Ты — литературный гангстер, я не шучу, тебя надо бояться — всем нам. Ты должен сам себя бояться, потому что тебе самого себя не жаль ради своего романа. Зеркало — ключ к твоему роману, который ты не допишешь, если погибнешь, — кому тогда писать? а если не погибнешь, тоже не допишешь — о чем тогда писать? У тебя нет выбора. Единственное, что тебе остается, — нанять каскадера, взять псевдоним, сговориться с двойником, послать вперед подставное лицо. Весь вопрос — в качестве кого: героя или автора? Ты надеешься, что погибнет кто-нибудь из нас, а допишешь роман ты, а вдруг погибнешь ты сам, а кто-нибудь из нас допишет твой роман вместо тебя и выдаст за свой — об этом ты подумал? Вдруг кто-нибудь допишет тебя самого?
Было похоже на сон или мистификацию, и, честно, я обрадовался, когда разговор авгуров кончился и мы вышли на морозную улицу. С тех пор половины из нас нет — одно убийство, одно самоубийство, похожее на убийство (я о младошестидесятнице Тане Бек, но о ней отдельной главой), и одна натуральная смерть, если можно смерть — любую — считать натуральной. Я — выжил, чтобы написать этот мемуарный роман, который у меня не получился сорок лет назад в Москве.
А тогда, на свадьбе Юза Алешковского, Битов бросил под ноги Лены Клепиковой колоду карт и пошел выяснять со мной отношения, он успел ей сказать — привожу, понятно, не дословно, — что она противопоставляет ему тех, кто решился, живя здесь, печатататься там. Понятно, я был немного выпивши, Лена — тоже, но клянусь — и Лена подтверждает, — об этом не было и речи. Претензии были художественного порядка, вне политики. Это был, по-видимому, внутренний конфликт самого Битова, как у того же Искандера, и тот, и другой, глядя на открыто диссидентствующих или фрондирующих писателей, типа Войновича, Владимова, Копелева, Корнилова, Максимова, сильно комплексовали, тем более у каждого из комплексующих было в письменном столе по непечатному роману. У Битова — «Пушкинский дом», редкая занудь. Шестидесятник Битов заслуживает, безусловно, собственной главы, типа «Анти-Битов», как у Энгельса «Анти-Дюринг», но в критическом жанре я о нем достаточно писал, когда жил с ним в одной стране, да и прозой — см. мою повесть «Путешественник и его двойник», которую в конце 90-х серийно печатал шикарный «Королевский журнал», а потом она возглавила том моей путевóй беллетристики «Как я умер». Андрей там легко узнаваем, хоть и без имени, и может, даже главнее главного, то бишь авторского героя. Не один в один, конечно, но кому нужен его двойник, когда в моих силах сделать Битова интереснее, чем он есть на самом деле? Следуя принятому в этой линейке книг принципу, посвящу-ка я лучше Андрею в тему и в пародийное подражание другой мой опус «Угрюмая Немезида», хоть там и изменен его матримониальный статус. А принцип этот таков — цитирую предыдущую книгу «Не только Евтушенко»:
Не всех шестидесятников автор знал близко, а иных и вовсе шапочно, вприглядку — как сейчас говорят, друганы, дружбаны, дружихи и френды. А потому, кого не охватил жадным взором мемуариста-василиска или кого охватил недостаточно, с моей авторской точки зрения, прошли у меня по жанровому ведомству прозы либо визуального искусства — см. среди соответствующих «посвящений» и «подражаний», пусть «не подражай: своеобразен гений», но гениев среди шестидесятников не было, гений явился позже и всячески от них открещивался, а также среди иллюстраций. Неизвестно еще, кому больше подфартило из моих моделей — лот художества берет глубже, а дагерротип точнее, чем мемуар или даже документ… Все это определяет характер предлагаемого сериала, эту книгу включая — многожанровый, многоаспектный, многогранный, голографический, фасеточный, как стрекозиное зрение.
Я думаю, последующая история с «Метрополем», которая наделала много шума из ничего и по сути была стопроцентно безопасна для участников, включая Битова, Алешковского, Аксенова, Ерофеева (Виктора) и прочих, хотя кого-то там даже не то что турнули, а недоутвердили временно в Союз писателей, и была попыткой добрать упущенное, включиться в диссент, когда никакого риска в нем не было, вскочить на подножку уходящего поезда. Вот уж кто вступил на разминированное поле, так это метропольцы! Чтó им удалось, бог им судья, но я понимаю и насмешливо-презрительное отношение к этой пиаровой акции со стороны тех, кто включился в диссент прежде и рисковал по-настоящему. Того же Войновича, например:
— И рыбку съесть, и на х*й сесть.
Честно говоря, мне уже немного жаль, что я выбрал для этого вспоминательного романа докужанр. Художка в самом деле берет глубже, перевоплощение, остранение и прочие лоты для измерения дна морского. Как в том анекдоте про двух негров, которые ссут на озере с лодки:
— Вода холодная.
— Дно песчаное. Вот сейчас, к примеру, мне придется зашифровать героя, нанести
густой грим, сделать его непрозрачным и неузнаваемым, даже гендерно, пусть будет хоть транссексуал, хотя где ретушь и камуфляж — здесь или далее, — пусть читатель пораскинет мозгами, если не лень. Где-то в этом романе он мелькает у меня под собственным именем, но вряд ли все-таки читатель догадается и соотнесет одного с другим. В «Трех евреях» я тоже в одном случае снял реальное имя с реального человека, и теперь меня спрашивают, в том числе Лена Довлатова, кто он на самом деле — Соснора, Вацуро или Гордин. Так и этот человек из Розового гетто — все равно, где он прописан на самом деле, — есть скорее знаменатель, чем числитель. Этот человек не то что безнравственный, а донравственный, и уже сам не разбирает, где правда, где вранье. Он оправдает любой свой поступок, хотя не любой совершит, что и составляет оксюморон этой типической, пусть и яркой, личности. Он всегда в глухой обороне — с тех пор, как ему выбили зубы в милиции в одном провинциальном городе, а когда он перебрался в Москву и поступил в Литинститут и присоединился к какому-то студенческому протесту вместе с Евтушенко, Вознесенским и Ахмадулиной, тех пожурили, и сошло, а его, поизмывавшись в гэбухе целые сутки, турнули из института, друзья предали, вот этот человек и решил, что выжить можно только ожесточившись: совесть — ахиллесова пята, аморализм — единственная защита.
Пусть немного смещаю curriculum vitae этого, безусловно, талантливого человека, но в том и дело, что вся его тогдашняя совковость, а ныне и вовсе безтормозной, отморозочный ультрапатриотизм — нет, не кожная болезнь, и тут нужен не дерматолог и даже не дерьмотолог, а онколог, если не поздно. Не наросты, а метастазы, которые болезнь пустила в самый главный орган: писательство. Конечно, не в одной этой совковости дело — у каждого писателя есть период цветения, пик его литературной жизни, сфокусированность и воплощенность самого в нем тайного и заветного. Так и у моего анонима — когда я раскрыл его книгу — назовем условно «Искаженный автопортрет», — только что не ахнул. Пусть даже это было второе издание «Серебряного века», где-то там в дали времени угадывался оригинал, но это было не эхо, а перекличка во времени. То была его вершина, начало 70-х, а дальше — борьба за существование, чтобы остаться на плаву, переводы, инсценировки, то да се — вегетативный период, растительная жизнь. Как большая птица: летит над болотом, а подняться не может, и крыльями — хлюп-хлюп.
То, что этот человек был — ну зачем я употребляю глагол в прошедшем времени, когда он, слава богу, жив? — талантлив — несомненно, а талант надо уважать. И то, что после взлета — спад и падение, так на то он и живой человек: сегодня молод, завтра стар, послезавтра мертв. Та же бессмертная Плисецкая, которой в девяносто уже было не станцевать умирающего, а токмо мертвого лебедя — еще до ее физической смерти! Где благодарность? — спрашиваю я сам себя. Какой у нее был танец — какая у него была проза! Или стихи? И на том спасибо. А не злее ли я к нему, чем он к нам, включая меня?
— Будто у него был выход! — возразят мне те, кто помнит или знает то переломное время, и кто узнáет моего анонима.
Да, выхода не было, но был выбор: искусство и жизнь. Ему казалось, что это безболезненно для литературы — его жизненные хлопоты, пройдошливость, притворство, ложь, предательство искажает вконец, но только человека. Это именно он зачитал нам американское письмо Лимонова о тоске по КГБ, по сравнению с которым американская госбезопасность еще хуже — на совести Лимонова, — но зачем было зачитывать это письмо нам? По собственной инициативе? Даже если по собственной, мы неловко молчали — нам было стыдно не за Лимонова, тем более мы не исключали, что фальшивка (оказалось — правда), а за чтеца. Но чтец-то полагал, что все это страсти по Литфонду, а в литературу он этой суете путь заказал — заодно и притоку свежего воздуха. Герметически закупоренная, задохнувшаяся, мертвая литература. Можно поменять местожительство, национальность, даже пол описываемого человека, пусть будет средний — хоть и пишу с натуры, но скорее некий типовой характер, чем литературный индивидуум. Хотя именно литературно этот человек узнаваем даже орально. Не переписывать же мне его!
Увы, это не как у мусульман или буддистов — снимаешь обувь перед тем, как войти храм. Как войти в литературу очищенным от жизненной скверны? Нет таких индульгенций. Есть, правда, иной способ — внести скверну за собой в литературу, но тут нужен гений, как Достоевский или Бодлер. Однажды этот человек заглянул ко мне в полном отчаянии: пошел выбивать телефон для новой квартиры, соответствующими бумагами запасся, но оплошал, что-то — не в них, а в нем — не сработало. Как он казнил себя — не за поражение, а за бездарность! А я пытался его успокоить: надо хоть иногда быть бездарным в советском нашем общежитии, чтобы не расстратить, сэкономить талант — ну да, тот, что от Бога.
Давно уже нет у него больше таких кромешных поражений в жизни. Увы — и таких взлетов в литературе.
Его (или ее) беда — именно беда, а не вина, — что он/она/оно начисто безрелигиозно. Как, впрочем, и все мы в Розовом гетто. А цепкость к жизни — от тысячелетнего еврейского страха, а страх — от психического слома: помимо общей всем нам советчины — его малая родина, откуда он всеми правдами и неправдами перебрался в столицу, а там свой политический климат, более черносотенный, чем по всей России в те глухие времена, плюс пара лет злейшей зависимости, когда этот божьей милостью талант присосался к бутылке/наркоте — одно из двух, читателю на выбор. А когда вылечился, то стал другим: лечение его и доломало до нынешнего состояния.
То есть тогдашнего.
И до теперешнего.
Как-то мы вот так этого человека обсуждали в одной квартире в Розовом гетто, и вдруг звонок в дверь — он собственной персоной. И пошел шпарить афоризмами и метафорами — такая у него была манера, от которой, говоря честно, я иногда уставал, ибо в разговоре он с их помощью самоутверждался, а не размышлял:
— Я больше не люблю недописанные вещи: гвозди надо вбивать по шляпку. Получил наконец сегодня ордер. Мне говорят, что я счастливчик. Счастливчик? Я — выносливый. Я научился ориентироваться в советских условиях — знаю, это не идет моему образу, но иначе мне хана.
Будто он подслушал наш о нем разговор!
— Как твоя книга?
— Вы будете угарать или ругаться? Две заботы: квартира и книга. Квартире нужен телефон — все было встарь, все повторится снова: теперь уж не оплошаю! Для сборника — сфотографироваться. А в телефоне — заметили? — щелкунчики завелись: все что-то щелкает, булькает, вдали какие-то голоса угадываешь, пленку перематывают, хоть бы обменялись опытом с ФБР и ЦРУ и закупили импортную аппаратуру, а то говорить невозможно — собственный голос резонирует: слышишь эхо самого себя, а не собеседника. Конечно, с самим собой тоже интересно, вот Марк Аврелий, к примеру — «Наедине с собой», но не до такой же степени, да и куда мне до Марика!
— У нас здесь есть спец из бывших диссидентов — проверяет телефоны и вывинчивает подслушку. Хочешь — устроим?
— Никогда! Тогда как раз они и заподозрят, что я говорю что-то крамольное.
У нас в Розовом гетто считают, что, если поутру раздается одинокий телефонный звонок, а других за ним не следует, значит, уже подключен.
— По пути сюда видел, как Пушку расширяют, — продолжает аноним, хотя что кодировать, и ежу понятно. — Целый квартал подчистую: чугунным шаром, в раскачку, как маятник — на халву полуразрушенных домов! А ночью чугунный этот перпетуум-мобиле — будто мутация Луны. Так рак долбит тело. Вот и не будет нашей аптеки напротив Пушкина, где из-под полы можно было получить вату, марлю, вазелин — тогдашний наш студенческий дефицит, а потом и фенолин, перветин, маскалин, морфин и прочие галлюциногены — это уже мне, когда я под мрачком на игле торчал. А шашлычная — сначала «Роза», а потом «Эльбрус»? Тараканы, говорят, по всей Москве разбежались, а стены не смогли: нечисть всегда бежит, а чистое рушится. — И без никакого перехода: — А вы знаете, кто мне в конце концов достал эмалированный чайничек? — И выстраивает цепочку, на одном конце которой его подружка, а на другом — лютый зоологический антисемит. — Бедный, казнит себя, рвет и мечет, простить себе не может, что жиду услужил. А я теперь пишу в музыку. Для театра. Там сейчас, правда, на месте таланта торичеллиева пустота и с каждым днем торичеллит все больше. Зато платят сносно.
Всему, что делал, включая откровенную халтуру, он придавал сакральное значение.
— Я легко впадаю в любой образ. Чем я хуже скушнера? Его скоро березофилы в разведку посылать будут — в стан евреев. «Мы тебе доверяем», — скажут, и он пойдет, а они пока что водку в глухом тылу глушить будут. Он думает, что его обойдут, когда всероссийский погром будет, а с него начнут, как с труса, потому что нас они пока боятся…
То есть либеральной еврейской спайки: русистам такая и не снилась. В том-то и дело: хороший еврей лучше хорошего русского, плохой еврей хуже плохого русского. Применительно к подлости: нам приходится больше стараться, чем русским, чтобы соответствовать всероссийским стандартам приспособленчества. Странная все-таки нация, думаю я, глядя со стороны, как будто сам не плоть от плоти. Если представитель титульного народа узнает, что некто Петров открыл новую планету, а Иванов порешил свою жену, русский не испытывает ни гордости за первого, ни стыда за второго. Они сами по себе, а он сам по себе, несовокупляющийся человек — привет Розанову. А евреи гордятся Эйнштейном, Фрейдом, Пастернаком с Мандельштамом и сгорают от стыда за какого-нибудь недостойного соплеменника.
Хотя, впрочем, это черта скорее диаспоры, чем этноса — ведь не только евреи так целокупно себя воспринимают, но и — их: даже, положим, если бы Бейлис был изувером-убийцей, а Дрейфус немецким шпионом, то при чем здесь остальные евреи? Опять же кровавый навет на евреев связан с целостным восприятием еврейства — и не только русскими. «О вкусах не спорят», — сказал Гейне, когда евреи в Дамаске были обвинены в вампиризме: будто пили кровь старого монаха. Аналогично в «Романе с кокаином»: «Мы, евреи, не любим проливать человеческую кровь. Мы предпочитаем ее высасывать». Между прочим, ритуальное убийство дало толчки переносно-символическому обозначению евреев как кровососов. Не только в экономическом отношении, но и в культурном, духовном, мистическом.
А тишайший и справедливейший Алеша Карамазов на вопрос Лизы о совершаемых евреями ритуальных убийствах отвечает: «Не знаю». Это автор за него не знает, хотя прекрасно знает. Как и граф Лев Николаевич бросает бедняжку Анну Каренину под поезд, а не она сама с ее полнотелым жизнелюбием. Прав Светлов:
Я сам лучше брошусь под паровоз, Чем брошу под поезд героя.Увы, юмор — редкость, когда заходит речь о евреях, все равно — среди евреев или жидоморов: весь ушел в анекдоты. Зато там можно все: сколько евреев поместится в одной пепельнице?
Кстати, о Бейлисе. Не поразительно ли, что все дружно говорили о его невиновности и мученичестве, но как-то начисто забыли, что во всей этой гнусной истории главная жертва — мальчик Андрюша Ющинский, принявший мученическую смерть. Я понимаю, что сама по себе смерть Андрея Ющинского — в отличие от обвинения Менделю Бейлису — не повлекла за собой опальных обобщений относительно народа, к которому он принадлежал (поляк?), и все равно меня пугает замкнутость еврейского гуманизма в себе, к себе и на себя — ни толики сочувствия убиенному мальчику. Думаю, аэропортовская психология — прямая наследница этого еврейского самоограничения, все равно какой процент евреев в Розовом гетто. Однако это наследство — повторяю, не обязательно генетическое — надо помножить на совковость. Получим несколько иной результат, чем в других микрорайонах столицы.
Как прежде в Питере и теперь Нью-Йорке, в Москве я тоже общался в основном с евреями или с полукровками либо с породненными или просто с объевреившимися гоями. Случайность? Не думаю. Одному нашему общему приятелю, этнически русскому, мать говорила, что он даже несколько жидовизировался на лицо от такой тесноты общения в Розовом гетто. Я, наоборот, ни фамилией, ни лицом на еврея вроде не похож: не типичный. И вообще, со временем, особенно здесь в НЙ, густо населенном евреями всех мастей, стал относиться к еврейским делам спокойнее, хотя признаю, что еврейство выступает в истории и современности как единая этническая сила, в качестве развертывающейся и меняющейся во времени и пространстве идеи. В чем меня только здесь не обвиняли — само собой, в русофобии, но и в антисемитизме тоже — печатно! За то, что я где-то написал: доносы с советских пор ненавижу так, что даже на Эйхмана, наверное, не донес. Если Стивен Спилберг, еврей из евреев, не избегнул подобных обвинений — в связи с его «Мюнхеном», — то на что жаловаться мне? А одна прибывшая из Москвы тургеневская барышня — вполне собой, но впитавшая антисемитизм с молоком матери, — прочтя, что я антисемит, и не сразу распознав во мне жида, сказала, что мне воздастся на небесах, а здесь, на земле, предложила бы право первой ночи, но, к сожалению, оно досталось другому, о чем я потом жалел — мог бы воспользоваться правом тысячи первой ночи.
Нет, я не из породы self-hated Jews, но почему позволено говорить, к примеру, все что угодно о русских, а на евреях — табу? Status in statu? Или холокост выдал нам индульгенцию на будущее? Иван Менджерицкий сказал мне, что никогда не рассказывает еврейские анекдоты — ему, как русскому, не по чину, пусть сами евреи. Оставляю за собой право говорить всё, что думаю, и уж лучше сразу выскажу, чтобы не таить и не накапливать. В конце концов, имеет человек право на самокритику? Пусть это относится не лично к нему, а к его этносу, от которого не открещиваюсь.
Антисемитизм как аллергия титульной нации на инородцев — одно из проявлений ксенофобии. Когда появились люди кавказской национальности — я уже тогда жил в главном метрополисе мира Нью-Йорке, — русская ксенофобия тут же включила имперских субъектов в число своих объектов. А если бы бок о бок с русскими жили негры, не приведи господь?
Снова и снова вспоминаю Розанова — не того, который на смертном одре вынужденно простил евреев, а заодно и у них просил прощения, но Розанова — антисемита и черносотенца. Ведь как раз тогда юдофобство превратилось в антисемитизм — именно в России. Хотя немцы, кажется, опередили русских, и ославленный Энгельсом Дюринг на старости лет заявил о неспособности евреев к ассимиляции, а посему единственный ответ на еврейский вопрос — это истребление всей этой сомнительной человеческой породы.
Что ж, в первом он был прав.
Василий Васильевич не был столь решителен — он не прогнозировал будущее, а констатировал прошлое. Россия попала у него под странную дефиницию — как ряд пустот, в которые и забираются инородцы и даже иностранцы.
Я тоже так думал, живя в Розовом гетто: еврейский вопрос надо начинать с России и кончать Россией. В Америке я в этом убедился с первого взгляда: какая разница в еврейской судьбе, в еврейской функции в двух странах! А евреи — те же самые. Тем более те из них, кто недавно уехал из России. Цитирую Розанова — опять о России, а не о евреях: «Мертвая страна, мертвая страна, мертвая страна. Все недвижимо, и никакая мысль не прививается».
Это касаемо русской революции и ответственности за нее евреев. В Америке же они не совершают революций — ни февральских, ни октябрьских и никаких других!
Это верно, что они (мы), как клопы, повылезли из черты оседлости — самой России вряд ли сдвинуть с места махину революции. Как, впрочем, и одним евреям. Неуемная и неумолчная страсть к политике, к умствованию, к переустройству, к вождизму — вот причина еврейского грехопадения. Подчеркиваю: тогдашнего, потому что в мое время розовогеттцы держались (да и их держали) подальше от политики. Вот именно, от греха подальше.
Однако прежний грех — совместный: разве можно согрешить в одиночку? разве онанизм — это грех? Мог ли политический онанизм привести к революции? Другое дело, кто соблазнитель и совратитель, хотя представить евреев в качестве коллективного Дон Жуана довольно трудно. Тем более насильником или насильниками. Грешили вместе и всласть: евреи с Россией. Мой запоздалый ответ Солженицыну, хотя в начале 80-х мы с Клепиковой напечатали о его политических взглядах (не только касаемо евреев) полемическую статью «Prisoner of Chillon» в престижном интеллектуальном журнале «Dissent», который редактировал весьма достойный писатель и публицист Эрвинг Хау. Не уверен, что я бы (Лена — тем более) подписался под этой статьей позднее, когда с Солженицыным не спорил только ленивый. Тем более — возвращаясь к нашим баранам — что России понадобился другой любовник: Иосиф Джугашвили легко переиграл евреев в честном соперничестве, возвратив Россию к источным водам, к трясинному болотцу прежней традиции.
Евреям так и не удалось поднять Россию на дыбы революции, а точнее (прошу прощения), поставить ее раком — как и Петру. Неудача, фиско, провал.
Русская революция — результат мезальянса. Отсюда ее патология — внутреннее уродство и внешнее страхолюдство. В замысле-то брак был по расчету, но расчет, увы, одной стороны, хотя и не России из себя целку строить, но так или иначе — свадьба оказалась кровавой, а жених с невестой заколоты на брачном ложе.
Может, друг другом, а может, соперниками.
Для Розанова еврей — паук, а русские суть попавшие в его паутину мухи, и погром есть предсмертная конвульсия мухи, все остальное не более чем риторическая фигура еврейского красноречия. Пусть грех, соглашается Розанов, но как убийство при самозащите, которое — вопрос на засыпку: убийство или не убийство?
Пересказываю своими словами, дополняя и корректируя эти дореволюционные замечания весьма пристрастного наблюдателя.
Антисемитизм сталинских времен можно уподобить реакции фригидной бабы, которая винит во всем мужика, а похотливый мужик — бабу. Физиологическое несовпадение. Акт не состоялся, зачатие не произошло. Некрофильство. Труположество. Пусть преувеличиваю, но темпераменты разные. Отсюда несовпадение начала с концом, причины со следствием, замысла с его осуществлением. То есть недоосуществление. Выкидыш.
Русская привычка — искать козла отпущения: помещики, дворяне, капиталисты, кулаки, евреи, коммунисты, дерьмократы, люди кавказской национальности. Кто следующий?
А сами русские?
И еще: разве не восстановила Октябрьская революция те институты старой России — худшие из них, — которые были уничтожены Февральской, и не усилила многократно, собрав старые лучи новой лупой? По сокровенной сути большевики — не разрушители, а традиционалисты, консерваторы, реставраторы и охранители. Куда дальше, когда спустя пару месяцев после революции Ленин возвратил столицу из Петербурга в Москву, прервав европейский, петровский, пусть с зигзагами, путь развития и повернув русскую историю вспять, Сталин завершил этот правеж, отодвинув время еще на несколько столетий, крутанув колесо этой машины времени в татаро-монгольско-азиатскую неподвижность, сотрясаемую дьяволиадой массового террора.
А нынешний сдвиг постсоветской истории обратно в советскую и в досоветскую? Стрелка политического компаса движется по циферблату как полоумная и указует то в одном, то в противоположном направлении.
Куда ж нам плыть?.. Ходить бывает склизко По камушкам иным, Итак, о том, что близко Мы лучше помолчим…История или генетика? Что имел в виду Ключевский, когда говорил о злокачественном развитии русской истории? Почему Розанов выводил идею из секса: в сексе — сила. С одной стороны, фаллическая сила иудаизма, а евреи сексуально более активны по сравнению с титульными народами в любой стране диаспоры. С другой — разделенность христиан с полом. Вот почему евреи одолевают христиан: тут борьба в зерне, а не на поверхности — на такой глубине, что голова кружится.
А я — тогда, в Розовом гетто, — думал, что на поверхности: если не ставить евреям палки в колеса, поместить их в нормальные, недискриминационные и равноправные условия — как тогда они проявятся? Черчилль довольно удачно выразился, что англичане не антисемиты, потому что не считают себя хуже евреев.
И еще я думал, что при повышенном умственном коэффициенте — у евреев одновременно занижен нравственный. Занижен — не по сравнению с христианами, а по сравнению с собственным завышенным интеллектуальным. Не очень добры, не всегда чувствительны, редко сентиментальны, сухоглазы, равнодушны, бестактны, жестковаты, жестоковыйны — ко всему, что не касается непосредственно их самих, вовне — по ту сторону добра и зла. Слишком целеустремленны, а то и фанатичны, чтобы обращать внимание на средства и быть хотя бы минимально брезгливыми в них. Я мог бы сослаться на русско-еврейскую революцию, либо на розовогеттцев, но лучше напомню о двух еврейских титанах нового времени — Кырле Мырле и дедушке Зигги, которые поставили во главу угла своих революционных систем соответственно желудок и х*й, минуя мораль, поверх и помимо нее.
Бесы из бесов!
А как евреи раздражительны на своих ренегатов, как нетерпимы! Как-то заглянули мы к одному из аэпортовских выкрестов и не застали дома. Его новая молодая жена усадила нас с приятелями в кабинете, а сама вышла. Что тут началось! Обнаружив на столе прозелита портативную Библию, молитвенник, книгу отца Александра Меня и «Путешествие пилигрима», мои товарищи-христофобы стали хихикать, подбрасывать книги в воздух и только что не надругались над ними. Я был новичок в Розовом гетто, и у меня было ощущение, что комиссары в пыльных шлемах устраивают шмон в квартире у отца Флоренского. Как будто наш отсутствующий хозяин изменил заложенному в нем генетическому коду, а моих приятелей-безбожников раздражают те из их братии, кто обрел мирное пристанище в православии и навсегда потерян для еврейства. А как же Пастернак, написавший единственный православный роман в русской литературе? А другие выкресты — искренние и лицемерные? А если первый выкрест Христос — это упущенный шанс еврейского народа?
Еще не знаю, что от меня дальше — еврейское амбициозное высокомерие или еврейско-православное приспособленчество по принципу: «Куда вы, меньшинство?» — «К большинству». Я остаюсь с самим собой — и самим собой. По Ницше, мне не нужен никто. Разве что мой четвероногий Бонжур. О если б без слова сказаться было можно — вот он понимает меня без слов. Как и его предшественники. Но жить-то приходится с двуногими, а не с четвероногими и хвостатыми. Как жаль, что у людей нет хвостов! Особенно у женщин.
Уж коли перебил сам себя, то и дальше пойду в уклон, на боковую тропу — авось таким кружным путем возвратимся обратно в Розовое гетто.
Отождествляю ли аэропортовцев с евреями? Ну, не один к одному, конечно, но с небольшими поправками — да. Аэропортовцы, евреи, либералы, интеллигентщина-образованщина, полубогема-полуэлита и прочие квазисинонимы. Короче, еврятник.
Тут как-то, в программе «Перекресток» на международном, urbi et orbi, ТВ для русских, меня свели с ньюйоркским полицейским детективом Питером Гриненко, а секундантом был Виктор Топпалер. Речь шла, понятно, о прослушке госбезопасностью Америки телефонных разговоров. Я не против прослушки, но с соблюдением американской конституции, тем более разрешение суда на прослушку правительство может получить в считаные минуты, да хоть задним числом — не проблема. Сомневаюсь, однако, что эта прослушка что-нибудь даст — невозможно представить одного террориста договаривающимся с другим террористом по телефону о готовящемся теракте. Оглуплять противника могут только заведомые идиоты. Тем более, мы проигрываем войну с исламским супертерроризмом на всех фронтах, и 11 сентября — это не историческое прошлое, потому что после были теракты в Мадриде, Бали, Лондоне, Ираке, Израиле, Египте и т. д. Я уж не говорю о том, что не хочу, чтобы мой телефонный треп — скажем, с бабой — слушал Big Brother, но токмо баба, которой он и адресован. С распадом СССР футурологический, пародийный на социализм роман Джорджа Оруэлла «1984» казался безнадежно устарелым, а тут на тебе — форпост мировой демократии делает его снова актуальным и злободневным. А так как передача шла в канун Нового года, то я и поздравил телезрителей с наступающим, 1984 годом. Что тут было! Само собой, по очкам я проиграл полицейскому детективу, и несколько дней вся русскозычная глобал виллидж стояла на ушах, обсуждая, какой же Соловьев записной либерал. Во-первых — не стопроцентный, во-вторых — с каких это пор «либерал» стало ругательным словом? Не поразительно ли совпадение: в те времена, о которых пишу, и в те времена, когда пишу, слово «либерал» — с легкой руки еще Ленина — такое же ругательное. Как тогда «сионизм» или «абстрактный гуманизм».
Зато здесь, в Америке, нет такого контраста между евреями и неевреями — разве что с негритосами: будто бы те до сих пор не могут простить евреям, что они продолжали наводнять Америку рабами, когда работорговля была запрещена. Скажите спасибо! Что бы вы теперь делали на своей исторической родине — вымирали бы на уровне этносов от голода и СПИДа?!
Кстати, у евреев тоже есть аллергия на гоев — не только у гоев на евреев. В разгар «дела врачей», когда мне было 10 лет, мы шли с моим старшим двоюродным братом по Невскому и натолкнулись на лежащего прямо на тротуаре алкаша.
— Это наш старший брат! — пояснил мне мой родственник.
Почему евреи остаются государством в государстве с римских времен? Мой любимый Теодор Моммзен в «Истории Рима» исписал на этот вечно актуальный сюжет десятки страниц, из которых я приведу пару фраз, не становясь, как и он, ни на чью сторону:
«Совместная жизнь иудеев и неиудеев становилась все более неизбежной, но при создавшихся обстоятельствах совершенно невыносимой. Различия в верованиях, в праве и обычаях все обострялись, а обоюдная заносчивость и взаимная ненависть действовали на обе стороны разлагающе в нравственном отношении. В течение этих столетий возможность примирения отодвигалась все дальше, по мере того как примирение становилось все более необходимым. Это ожесточение, эта заносчивость, это презрение, укоренившиеся с обеих сторон, были, конечно, неизбежным всходом, быть может, неизбежного посева; но наследство, оставленное той эпохой, тяготеет над человечеством доныне».
Я могу перечислить наши этнические недостатки — страницы не хватит. Например, патологическое чадолюбие, переходящее в эгоизм — личный, семейный, клановый, национальный. Изощренно-универсальная пробиваемость, взаимовыручка, круговая порука, мафия-кагал, Alliance Israelitite — по контрасту с русской милостыней и сумбурной жалостью, жизненная стратегия — на фоне русской расхристанности.
Анекдот про экскурсию в ад помните? На одном котле — крышка, а на ней замки, камни: «Здесь евреи: один вылезет — всех других за собой потянет». А в другом котле — русские, без замков и даже без крышки: «Что за них бояться — если даже один вылезет, остальные его обратно утянут».
С другой стороны, жертвенная нация, козел отпущения, агнец на заклание и все такое — не отнимешь. Самоизгнание евреев из России — это не просто тяга к кочевой жизни, но инстинкт самосохранения, вовремя сработавший. Чем меньше евреев там, чем больше здесь — тем лучше. Для всех лучше.
Лично я остаюсь евреем-агностиком, и если склоняюсь к вере, то без церкви и без синагоги. Русско-еврейская тоска Пастернака — «О если б я прямей возник!» — мне чужда, хоть и понятна. Разведясь с еврейкой, он женился на русской: в Зинаиде Николаевне любил сразу два народа — русский и советский. Он стеснялся своей родни и хотел быть похожим на голубоглазого Садко. Я тоже стеснялся в детстве своих идишных родственников. Для меня это пройденный этап:
Я в этой жизни рано стал ребенком…
В шестнадцать лет, заполняя паспортную анкету, на вопрос о национальности я, будучи стопроцентным жидом, вписал — была не была! — русский, но получил в районном отделении милиции от майора Зубова (потому и запомнился!) паспорт, который решился открыть только дома: черным по белому, каллиграфическим почерком — еврей. Главное, этот поц ничего мне не сказал, не сделал втык, молча протянул паспорт и пожал руку. Стыд и срам. Как побитая собака — само собой, визуально. Пытался продать душу, предав свое еврейство, а мне ее вернули: кому нужна твоя жидовская душа? Таких охотников, думаю, был не один я. Урок на всю жизнь. Больше подобных попыток не предпринимал, а здесь, в Америке, у меня отпала единственная формальная связка с моим этносом — отчество: Исаакович.
Хотя, как бы я себя вел в том самолете, который летел в Энтеббе, где террористы отделяли овец от козлищ: за кого попытался бы себя выдать? В экстремальных ситуациях, когда встает вопрос жизни и смерти, человек сам не свой.
В подобных передрягах мне побывать, слава богу, не пришлось. Пока что. А потому возвращаюсь к рутинному нашему житью-бытью.
Быть булатом. Поэзия ходячих истин
Не припомню, кто первым посетил нашу московскую квартиру — Окуджава или Битов. Было это к концу лета, Лена торчала в Питере, продолжая работать в «Авроре» и скрывая наш переезд от гэбухи и мишпухи, которые переплетались друг с другом, а потому мы были вдвойне осторожными. Распустили слух, что разводимся, кое-кто клюнул, один мой уже помянутый друг-враг высказался в том смысле, что вот Соловьев каков, даже жена бросила. Жека с моей мамой был на даче в Бернатах под Лиепаей, я строчил в пустой квартире «Роман с эпиграфами», даже не подозревая, что он когда-нибудь станет «Тремя евреями» (и до сих пор так его не воспринимаю, хотя признаю гениальность издательского названия). Битова я повстречал случайно — на выходе из писательской клиники, и он увязался за мной; на новой квартире я ему продемонстрировал «Расстрел коммунаров на Пер-Лашез» в исполнении рыжего кота Вилли: приставлял его на задних лапах к стенке, а тот истошно вопил, благо голос был знатный. Спустя полтора десятилетия мы повстречались с Битовым в российском консулате в НЙ на презентации «Королевского журнала», к участию в котором нас с Леной привлек Миша Шемякин, и первое, что меня спросил Андрей:
— Как там «Расстрел коммунаров»?
А я не сразу понял — вывезенный из России Вилли уже умер, и его образ постепенно вытеснялся другими нашими котами — гигантским эмоционалом Чарли и сиамцем непротивленцем Князем Мышкиным. Что ж, глаз у Битова приметливый и память классная. Довлатов, правда, говорил мне, что там нас лучше помнят, чем мы их — здесь. Не знаю. Потом Битов покатал меня на своей машине, сделав почетный круг у Розового гетто, но я не смог оценить его демонстрации, не разбираясь в марках: втуне, бисер перед свиньей. Булат тоже катал меня, но по Москве, а не по микрорайону, с него и начну, тем более все-таки он был первым — теперь я это вспомнил точно.
Смерть отбрасывает на судьбу человека какой-то особый отсвет. Не в том смысле, что о мертвых ничего, кроме хорошего — это как раз туфта. Сталин и Гитлер тоже мертвы, так что же о них — только хорошее? Дело в другом: смерть создает особое, двойное освещение, как на портретах Рембрандта. Случайное становится вдруг значимым, мелочи обретают тайный смысл, мимолетное обнаруживает связь с вечностью. Вот и с Булатом, когда его вдруг не стало среди нас, вечность творит странные вещи. Даже встречи с ним — одно время довольно плотные, по делу и без — я вспоминаю теперь как бывшие в какой-то иной жизни, за пределами реальной, хотя на самом деле они происходили в самых что ни на есть конкретных местах — в Москве, Переделкине, Ленинграде, где мы с ним познакомились. Я приехал к временному (из-за женитьбы) ленинградцу за тридевять земель, на питерскую окраину Ольгино на Ольгину улицу, чтобы в присутствии его новой жены Ольги уломать сочинить пьесу о декабристах для ТЮЗа, где служил завлитом. Было это, если мне не изменяет память, в конце 63-го или в начале 64-го. Точно помню — зимой, пробирался по окраине сквозь сугробы. Мне, 21-летнему, Окуджава казался стариком, хотя ему еще не было сорока. Зато Оля была красивой молодой женщиной, которая по какой-то особой спартанской системе выкармливала крошечного сына Булю. Я его хорошо запомнил с громадной кружкой лимонного сока, а заодно и неодобрение Булата: «Игоря мы растили по-другому». Еще помню, Булат жаловался в тот день, что ему в Лениграде плохо пишется, а Буля вскоре тяжело заболел и попал в больницу. Я его увидел через пару лет в Коктебеле — здоровым, высоким, красивым, весь в кудрях, мальчиком.
А тогда, от Димы Молдавского, главреда 2-го, кажется, объединения «Ленфильма», я узнал, что они отвергли сценарий Окуджавы на декабристскую тему, и Молдавский, идеологический реакционер, но человек добрый, и явно не он был инициатором запрета, посоветовал мне связаться с Окуджавой: переделать сценарий в пьесу — раз плюнуть, Булат закамуфлирует острые места, и, кто знает, пьеса может проскочить, хотя церберы — те же. По моей просьбе Булат и перекроил сценарий в пьесу — скорее элегическую, чем героическую, она проходила со скрипом обкомовско-горлитовскую цензуру, но — прошла.
К большому моему удивлению, Булат шел на уступки, поставив тем самым городские власти в трудное положение — им ничего не оставалось, как разрешить спектакль. Я гадал тогда, почему он так уступчив, и решил, что это такая тактика, в конце концов она сработала, победителей не судят. Теперь я понимаю, что была еще одна причина, более важная. Убирая из пьесы намеки и резкости, он не просто шел на компромисс с предержащими, но продолжал работать над пьесой, делая в том числе и такие исправления, о которых его никто не просил. Открываю однажды полученный от него из Москвы пакет с переделанной пьесой и читаю «сопроводилку»:
«Посылаю Вам экземпляр с правкой. Может быть, это интересней. Смотрите. Кюхельбекера я выбросил, т. к. эта фигура крупная, а то, что есть у меня — смешно. Так уж пусть его не будет. Его реплики поделил меж Бестужевым, Пановым и Борисовым».
Мне даже кажется, что Булат с удовольствием шел на «уступки» — пьеса становилась тоньше, глубже и, как ни странно, политически острее. Зато наотрез отказался заменить титул, как его ни упрашивали, и накануне спектакля на ленинградских улицах появились афиши с этим крамольным по тем временам названием: «Глоток свободы». Было это в середине 60-х, когда на всех фронтах отечественной жизни шел откат от демократических завоеваний хрущевской эпохи, и именно тогда битый, но недобитый Николай Павлович Акимов, главреж ленинградского Театра комедии, дал совет растерявшейся интеллигенции:
— Не спорь по мелочам, не уступай в главном.
Легко сказать.
Если кто и взял на вооружение этот лозунг, то Булат Окуджава, бывший тогда в частичной опале. Он воздерживался от публичных акций, но сама его поэзия была публичной акцией — не было необходимости в дополнительных. Кое-кто попрекал его даже личным равнодушием, в политической индифферентности, Нагибин дал ему довольно точную характеристику в своем «Дневнике»: холодный и проницательный (и еще парочка дневниковых нелицеприятностей). Окуджава входил в возраст, и то, что Толстой назвал «коростой старческого равнодушия», наступило у него задолго до старости. Можно сказать и по-другому, по-акимовски: он не опускался до мелочей, чтобы защитить главное. Иное дело: то, что он считал мелочами, для других мелочами не являлось.
Помню наш разговор на перроне Московского вокзала у «Красной стрелы». Я провожал его в Москву в немного возбужденном состоянии — как раз в тот день я подписал коллективку в защиту Бродского и теперь сетовал Булату на судьбу, но не на свою, а на ту, что ожидает Осю в ссылке. К моему удивлению, Булат счел мои прогнозы излишне мрачными, сказав, что сейчас не сталинские времена, ссылка — не тюрьма, и неожиданно вспомнил, как после окончания университета его распределили в Калужскую область, в деревню Шамордино, школьным учителем. Тогда меня это сравнение покоробило, а сейчас нахожу его, пусть субъективно, но обоснованным. Хотя, конечно, есть разница между деревней Шамордино и деревней Норенская, куда подзалетел Бродский, да и распределение Министерства просвещения — это не административная высылка по решению нарсуда.
Лично для меня постановка «Глотка свободы» в ТЮЗе была своего рода реваншем или индульгенцией — не знаю, какое слово кстати. Работать в театр я пришел из газеты «Смена», где осенью 61-го была напечатана первая погромная статья против Булата — в ответ на его триумфальное выступление в ленинградском Дворце искусств, в переполненном зале, с конной милицией на улице. Это было таким экстраординарным событием в жизни — не только культурной — Ленинграда (да и в жизни самого Булата — по контрасту с его, полутора годами раньше, провалом в московском Доме кино, где он был освистан; Булат сбежал с собственного вечера, плакал), что власти просто не могли не отреагировать — вот Игорь Лисочкин и опубликовал заказную или, как сейчас говорят, проплаченную статью «О цене шумного успеха», которую тут же перепечатала столичная «Комсомолка». Так что заказ шел все-таки не из нашего провинциального горкома-обкома, а из ЦК — КПСС или ВЛКСМ, не знаю. Внутри редакции, понятно, все переживали эту публикацию как позор, но что мы могли сделать? Знакомство с Булатом и началось с моего признания, что я работал в нашей молодежке, когда там была опубликована та чернопиарная статья. Булат улыбнулся:
— Ложка дегтя.
А бочкой меда, само собой, был его триумф в нашем Дворце искусств, с него и пошло победное шествие Булата по городам и весям России, а потом и за пределы. Остановить его уже было не под силу ни КГБ, ни ЦК — любому.
По театральной традиции, сразу после премьеры автор устраивал банкет, но к тому времени у меня уже начались контроверзы с Зямой Корогодским, главрежем ТЮЗа, — эмоциональный напряг и все такое. Короче, на банкете я упился, слегка подебоширил, приятели-актеры отвели — точнее, отнесли — меня домой. Было ужасно стыдно, но я все-таки заставил себя позвонить наутро Булату и спросил, как, по его мнению, прошел банкет.
— Очень хорошо, — сказал Булат. И добавил: — Всего один человек напился.
Мне стало не по себе, но, по счастию, этот эпизод никак не повлиял на наши отношения. Парадоксально, но им способствовал возрастной разрыв — как и с остальными моими московско-питерскими приятелями: все они были старше меня, им, думаю, было приятно разбавить круг своих знакомцев-однолеток человеком другого поколения. Теперь этим пользуюсь я, живя впритык с кладбищем и тревожа сон мертвецов либо мнимое бодрствование живых трупов, сочиняя эту книгу. Это вовсе не значит, что я обязательно переживу оставшихся, тем более с возрастом разница в годах стирается, да и накат болезней выше — цунами! Но тогда эти возрастные ножницы воспринимались довольно остро: Окуджавы я был младше на 18 лет, Эфроса — на 17, Искандера — на 13, Алешковского — на 12, Евтушенко — на 11, скушнера — на 6, Мориц и прочих шестидесятников 37-года рождения — на 5, Слуцкого — на все 23 года. Даже Бродский, всячески открещивавшийся от шестидесятников, был старше на два года, что не преминул отметить в посвященном нам с Леной Клепиковой классном стишке: «Они, конечно, нас моложе и даже, может быть, глупей…» Одна Лена была младше меня — на 5 дней, что и обыграл Ося в упомянутом стихотворении:
На свет явившись с интервалом в пять дней, Венеру веселя, тот интервал под покрывалом вы сократили до нуля. Покуда дети о глаголе, вы думали о браке в школе.В другом — устном — варианте вместо эвфемистского «брака» Ося произносил почти непристойное по тем временам слово «секс».
Довлатов, тот даже обиделся, когда узнал, что я его младше, хотя там совсем ничего: Сережа родился в 41-м, я — в 42-м. А теперь я радуюсь «младому, незнакомому», если обнаруживаю рядом кого-то из этих новых племен. Недавно вот обиделся, что не был зван на пати пятидесятилетних, хотя по шестидесятническим вкусам они — архаисты, а новатор — я. Или архаист по возрасту и есть новатор — по вкусу? Привет Тынянову.
Ни по вкусу, ни по нужде я — не алкаш, но меня угораздило напиваться в довольно ответственные моменты моей жизни. Где-то я уже рассказывал, как, надравшись на юбилее журнала «Аврора», потребовал от Лены Клепиковой и Саши скушнера вести меня к Бродскому, паче тот жил на Пестеля, в одной трамвайной остановке от редакции «Авроры». Это была замечательная ночь стихов и разговоров о стихах, о чем я знаю со слов ее участников, так как сам находился в отключке в предбанничке Осиной берлоги, вцепившись в алюминиевый тазик, предусмотрительно врученный мне хозяином. У Лены случилась аналогичная история с тем же Бродским — тот ее, пьяненькую, приводил в чувство на февральском снегу в нашем дворе на 2-й Красноармейской, а потом — это с его-то сердцем! — тащил на руках на крутой четвертый этаж, о чем Лене известно с моих и других гостей слов — вот мы с ней и квиты. Время от времени я ей советую сочинить меморий про Бродского и назвать его «Он носил меня на руках». Неслабо.
Другой эпизод с Булатом, но в его отсутствие, без главного героя, как булгаковская пьеса о Пушкине, как тыняновский рассказ о подпоручике Киже. Да простит мне Оля, его вдова, мою цепкую, подлую, злое*учую память, над которой я не властен, но токмо она надо мной. Дело было ранней весной все в том же Коктебеле, где я пас моего сына Жеку, а Оля — маленького Булата, названного так понятно в честь кого, но — подчеркивал Булат — когда он был за границей (где-то в Восточной Европе), а Оля, до того как стать его любовницей, была его поклонницей: Булат Булатович, с точки зрения Булата, безвкусица. Как Кинжал Кинжалович, пошутил я. Не говоря уже о само собой разумеющемся авторском эгоцентризме, который Оля не учла: Булат Окуджава — единственный. Потом, когда отец и сын выступали на совместных концертах, Булата-младшего объявляли Антоном Окуджавой. А тогда как раз широко обсуждались два схожих брака — с уводом мужей из прежних семей двумя разлучницами: Еленой Боннер и Ольгой Арцимович. Официально Булат развелся с предыдущей женой, своей сокурсницей, от которой у него тоже был сын — Игорь, уже после рождения Були (через полтора месяца): развод вынужденный, эмоционально тяжелый для обеих сторон и, как оказалось, трагический. Из этого — скорее душевного, чем эмоционального, — штопора Булат так и не выбрался, о чем можно судить и по его стихам. Опускаю гипотетическую сторону этой разводно-матримониальной драмы, хотя она-то как раз и любопытна.
Буля и Жека были ровесниками — пара месяцев разницы. Лена Клепикова напоминает, что Оля, по шведской системе, растила Булю на чистом лимонном соке, мы сами тому были свидетелями, когда зашли к ним как-то еще в Ольгино. В Коктебеле Буля был примерным мальчиком, но достигалось его послушание довольно своеобразно: как что, Оля большим и указательным пальцами сжимала его руку чуть выше локтя. Однажды Оля испытала свой педагогический метод на толстом Камиле Икрамове — тот взвыл от боли. Мы стояли в очереди на почте, ожидая междугородных разговоров: Камил — с Москвой, Оля — с Ялтой, я — с Питером. Оля — красотка-блондинка, волевая, властная, идеологически, как неофитка, истовая: крестила агностика Булата на смертном одре и без сознания — и наречен был Иоанном. Но это забегая далеко вперед. Добрейший Камил Икрамов, который безропотно уступил жену другу и ученику Володе Войновичу, называл Олю Арцимович Эльзой Кох — не заглазно, а напрямик, но опять-таки с ангельской улыбой на толстом узбекском лице. Понять, шутит или всерьез, было невозможно. Оля молча сносила прозвище, но испепеляла его взглядом. «Нет, правда, — не унимался Камил, — у вас есть общие родственники?»
Еще одно действующее лицо этой истории — очередная жена Анатолия Наумовича Рыбакова, которого мы звали за повелительный характер Наполеоном Наумовичем. Мужья — Окуджава и Рыбаков — отдыхали километрах в ста от нас, в Ялте, и ожидались со дня на день. Вот Оля и бегала по многу раз на почту, откуда бомбардировала Булата телефонограммами и телеграммами и в конце концов наэлектризовала весь Коктебель ожиданием, которое, увы, не сбылось. Булат так и не прибыл в Коктебель, а рванул из Ялты прямиком в Москву. Хотя у меня и осталось ощущение его невидимого среди нас присутствия благодаря Оле.
Такое у меня было чувство, что он тяготится семейными узами, хотя и старается выполнять положенные обязанности. Дело, может быть, в меа сulpa перед предыдущей женой? Булат говорил, что ей стало плохо в театре, она умерла от разрыва сердца, да еще в праздник, 7 ноября, 39-ти лет от роду, ровно через год после развода, навсегда оставив его с горьким и неизбывным чувством вины перед ней и их сыном Игорем. О чувстве вины перед женой знаю со слов Булата, перед сыном — с чужих. Булат тяжело переживал гибель Игоря, стал сдавать и умер через несколько месяцев. Еще были непростые отношения с младшим братом, которого Булат в молодости всюду таскал за собой, но воспрепятствовал его подростковому роману и, как тот считал, сломал ему жизнь: брат так и остался холостяком и так и не простил Булата, навсегда прекратив с ним отношения. За пару дней до смерти Булат сочинил покаянный стих:
В тридцать четвертом родился мой брат, и жизнь его вслед за моей полетела. Во всех его бедах я не виноват. Но он меня проклял… И, может, за дело…На совести усталой много зла? Душевная усталость от жизни? Либо тот комплекс стихотворца, о котором довольно точно написал Дэзик Самойлов применительно к Заболоцкому:
…И то, что он мучает близких, А нежность дарует стихам.Для внешней жизни у Булата в самом деле оставалось немного — он весь расходовался на литературу. Отсюда его крутое одиночество: несмотря на несколько верных друзей и тьму поклонников/поклонниц, всенародный бард был типичным интровертом. Так случается сплошь и рядом: известные юмористы (Зощенко, например, или Довлатов) — по жизни беспросветные пессимисты, а тончайшие лирики — замкнутые, сухие люди, как тот же Тютчев, возведший свою обособленность в жизненный принцип: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои». Не говоря о Фете, авторе любовных шедевров, который довел возлюбленную бесприданницу до самоубийства и женился на деньгах. По тому же закону противоположностей, утешительные и слезоточивые лирики, типа Окуджавы, должны быть хладными, как лед. Или он душевно поизрасходовался в молодости? В чем убежден, так это в его однолюбии: старая любовь могла умереть, могла и выжить, но вряд ли оставила место для новой. Душевная атрофия предшествует обычно физической.
Дама, которой Булат никогда не изменял ни с кем, несмотря на ее капризы: муза.
Одиночество в многолюдье преследовало Булата всю жизнь, многие годы он безвылазно жил в Переделкине, погруженный в историческую атмосферу своих псевдоисторических романов, а Оля Окуджава считает даже, что именно одиночество послужило причиной его смерти, хотя были, конечно, и физические: астма, инфаркт, подхваченный в Париже грипп обернулся пневмонией. Однако именно Оля настаивала на продолжении концертной деятельности — полагаю, не из одних только меркантильных либо честолюбивых соображений, но чтобы вернуть Булата к жизни, в общество, к друзьям, в семью. Окуджава продолжал сочинять песни, но это уже была тень тени, пародия на самого себя прежнего. Как сказала Ахмадулина, «привычка ставить слово после слова». Завод кончился, лирическая струна ослабла, Окуджава пережил самого себя.
Настали новые времена, а новые времена — новые песни. Но и старые песни пелись по-новому или не пелись вовсе: «Голубой человек», «Голубой шарик», «Комиссары в пыльных шлемах» (см. ниже). Это — применительно к Окуджаве-человеку, а не только к его песенному творчеству и концертной деятельности. Именно в середине 70-х Булат сказал мне, как в прощальную встречу Владимир Максимов доверительно сообщил ему, что уезжает с заданием, что сознательно пошел на связь с КГБ. Это было так странно слышать про редактора «Континента», ярого антисоветчика. Не знал, что и думать, и сейчас воздержусь от комментария. Другой вопрос, кого этот рассказ больше характеризует: героя рассказа или самого рассказчика? Окуджава был растерян, именно растерянность делала его жестким, несгибаемым. Да и возраст, когда костенеет позвоночник.
Связь с ним у меня прервалась в конце 70-х по причине нашего с Леной Клепиковой спринтерского, но громко озвученного вражьими голосами диссидентства и последующего, под нажимом властей, отвала за кордон. Я не хотел никого подводить и продолжал знакомство только с теми, кто был сам не прочь: Лена Аксельрод, Таня Бек, Юнна Мориц, Володя Войнович, Яша Длуголенский, Фазиль Искандер и др. Булата среди них не оказалось, и мне не в чем его попрекнуть. Даже когда потеплело, я продолжал оставаться персоной нон грата — уже в связи с регулярными политическими комментариями в американской периодике и кремлевскими книгами. Это — одна из причин, почему я манкировал его концерты в Америке, тем более наслышан, как он не узнаёт знакомых в зале, а прилюдное объятие с Виктором Некрасовым в Париже подается как подвиг. Вполне возможно, что, прожив дюжину лет на свободе, я недооценивал хватки гэбья и инерции страха у интеллигенции в перестроечные времена, но ставить в неловкое положение московских гастролеров, да и самого себя, мне что-то не хотелось.
Чуть позже, однако, я организовал и вел вечера Фазиля Искандера и Юнны Мориц в Нью-Йорке — копии их вечеров в Москве, в ЦДЛ и Литмузее, где я тоже делал вступительное слово. Фазилю я подарил только что вышедших в Нью-Йорке «Трех евреев» под изначальным именем «Роман с эпиграфами» с автографной благодарностью за поддержку, так как Фазиль прочел роман еще в Москве, в рукописи, и горячо одобрил (до сих пор храню его записку). Из Нью-Йорка Фазиль отправился в Норвич — в Русскую школу тамошнего университета, где они с Булатом преподавали. Фазиль дал «Трех евреев» Булату, а на обратном пути смешно пересказал его впечатления. Теперь пересказываю я — с поправкой, понятно, на испорченный телефон, хотя по части информации Фазиль педант, а я тут же занес в дневник. Прочтя за ночь половину книги, Булат на утро расхваливал роман на все лады:
— Как он пишет! Это настоящая литература.
Еще одна ночь, «Роман с эпиграфами» дочитан до конца, мнение Булата изменилось коренным образом:
— Господи, что он пишет! Как рука поднялась!
К началу 90-х Булат уже выпал из времени — не только поэтический дар иссяк, но и присущая ему надсхваточная устраненность.
По призыву друзей, Окуджава ринулся в политику, но как-то невпопад, грубо, перебарщивая. Когда в начале октября 1993-го Россия оказалась по разные стороны баррикад и Ельцин расстрелял из танков оппозиционный парламент, на чем, собственно, и закончился русский эксперимент с демократией, дальше все пошло наперекосяк, выборы превратились в проформу, а демократические институты в потемкинский фасад, тихий, сдержанный, тонкий и мудрый Булат проявился как политический экстремал, правее Папы, в нем самом проснулся воспетый им когда-то комиссар в пыльном шлеме: «Я наслаждался этим. Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении никакой жалости у меня к ним совершенно не было. И может быть, когда первый выстрел прозвучал, я увидел, что это — заключительный акт».
Резко выступал за закрытие оппозиционных «Дня» и «Советской России»: «Я не за насилие — я за силу. Я не за жестокость — за жесткость. Это разные вещи. В наших обстоятельствах, в наших условиях это необходимо».
Это был уже другой Окуджава, не узнающий ни времени, ни страны, ни народа:
Что ж, век иной. Развеяны все мифы. Повержены умы. Куда ни посмотри — всё скифы, скифы. Их тьмы, и тьмы, и тьмы.После операции на сердце на собранные его американскими поклонниками средства Окуджаву тянуло обратно в Россию: «Грязца своя…»
Я хочу вернуться к тому Окуджаве, которого знал, любил и люблю.
Что было для него главным в жизни?
Ответить могут только его книги.
По отдельности, Лена Клепикова и я рецензировали их во времена, когда Окуджава еще не был избалован ни критикой, ни читателями. В стихотворном томе Окуджавы в «Новой библиотеке поэта» я нашел цитации и ссылки на наши с Леной сольные статьи о нем в журнале «Звезда»: «Поэзия добрых чувств» (Клепикова) и «По чертежам своей души…» (Соловьев). В общей сложности я опубликовал с полдюжины о нем статей в Москве, Питере, Нью-Йорке. Вплоть до эпитафии «Прощай, Булат» в «Королевском журнале», патроном которого был Миша Шемякин, редактором — Лена Клепикова, наборщицей — Лена Довлатова. Роскошное было такое нью-йоркское издание, несколько московских скоробогачей отмывали на нем свои деньги, но — недолго музыка играла. Обе Лены и я расстались с «Королевским журналом» еще прежде, чем он накрылся. Последний вариант моего портрета Окуджавы я опубликовал в московском сборнике, ему посвященном, и с небольшими изменниями в моих «Записках скорпиона».
Больше всего Булат обрадовался рецензии Лены в «Литобозе» («Литературном обозрении») на его водевильную повесть «Похождения Шипова». Лена писала о его эстетическом гурманстве в обращении с историческимии реалиями. Героев для своей прозы он отбирал на обочине, самых что ни на есть невзрачных, никудышных, никчемных — писца на процессе декабристов либо шпика, приставленного к графу Льву Николаевичу Толстому. Прием не новый и частый (поздний пример — роман Трейси Шевалье «Девушка с жемчужиной», написанный от имени фиктивной служанки Вермеера Дельфтского). Однако для Окуджавы это была принципиальная установка на маленького, ничтожного и скорее даже отрицательного в привычном понимании героя — в противовес крупномасштабным положительным героям советской литературы.
Тонкий стилизатор и остроумный пародист в прозе, Окуджава даже в эпистолярный жанр вставлял изящные ретроспекции. В ответ на мои жалобы на сложности с установкой телефона в нашей новой питерской квартире он писал:
«Что же касается телефона — этой самой штуковины, которая мешает жить, а годна разве лишь на то, чтобы покликать доктора, то бог с ней совсем, не расстраивайтесь, а дóктора (будь он неладен) можно вызвать, велев дворнику за ним сбегать».
А кончил послание, совсем уж впав в исторический обморок:
«Надеюсь, будучи в Петербурге, заглянуть к вам, ежели, конечно, у вас, как у людей, и конюшня найдется, куда лошадок поставить, и добрая порция овса».
Он и явился в довольно скором времени словно из каких-то других времен — с багряной гвоздикой для Лены Клепиковой.
А я писал о его стихах, что Булата интересовало меньше, так как поэзия уходила с возрастом в прошлое, а настоящим и будущим была историческая проза, в которую Булат срочно катапультировал, почувствовав, что стихотворное вдохновение на исходе, и муза к нему захаживает далеко не с прежней регулярностью: «Допеты все песни. И точка. И хватит, и хватит о том!» К себе как к барду он относился теперь иронически, и надо было видеть, как отчужденно поглядывал он сквозь очки на крутящийся диск только что выпущенной студией „Le Chant Du Mond» пластинки с его записями, которую только получил в единственном экземпляре и специально для нас поставил, а подарил и надписал болгарскую, попроще:
«Дорогие Володя и Лена, спасибо вам, будьте счастливы, если это возможно».
Отсюда смешливая интонация в письме по поводу моей рецензии на его сборник:
«Что касается меня, то я себе крайне понравился в этом Вашем опусе. По-моему, вы несколько преувеличили мои заслуги, хотя несомненно что-то заслуженное во мне есть».
В то же время Булат серьезно относился к моим эссе о других и, в частности, поддержал меня, когда я покритиковал Городницкого за вторичность его песенных опусов:
«Что касается Городницкого, то это очень правильно, хотя его поклонники Вам спасибо не скажут. Я всегда утверждал, что он вообще не поэт. В наш грамотный век существуют умельцы и почище. Но утверждал я это плохо, ибо в этом смысле у меня положение особое».
Грубо говоря, позиция Булата сводилась к тому, что песни, которые он предпочитал называть «стихами под гитару», должны быть в первую очередь стихами, не прятать за мелодией свое стиховое ничтожество, быть готовыми к Гутенберговой проверке. Его стихи, несомненно, такую проверку выдержали. У него была своя поэтика, которая легко поддается формальному анализу. Об этом я и писал в той давней, 1968 года, статье, ссылку на которую обнаружил в академическом томе Окуджавы:
«Может быть, именно потому, что песни Булата Окуджавы воспринимаются нами не только как литературное произведение, а еще и как скрытое движение нашей душевной жизни, так хочется отвыкнуть, отстраниться от этих стихов, прочесть их впервые и разобрать по школьным правилам грамматического разбора: подлежащее, сказуемое, обстоятельства — места, времени, образа действия…»
Эта моя первая о нем статья очень укрепила наши с ним отношения, и теперь я понимаю почему. Отнюдь не из-за ее комплиментарного настроя. Я писал о его эмоциональной лирике не эмоционально, не лирически, но как о культурном и стиховом феномене, в контексте русской поэзии. Как бы я писал о Тютчеве, Фете, Мандельштаме. Будто Окуджава давно уже умер, вышел из моды и стал классиком, и его стихи звучат для исследователя в жанре, чисто, независимо, остраненно, без аккомпанемента знакомых мелодий. Не без некоторого самодовольства вспоминаю те, тридцатипятилетней давности, наблюдения, которые положили начало формальному подходу к его стихам. Вот несколько примеров — в качестве занимательного, что ли, литературоведения.
У каждого поэта — независимо от того, сознает он или нет — есть опорные, повторные, любимые слова, которые выражают нечто для него важное, заветное, сокровенное. Самый частый эпитет в стихах Окуджавы — последний: «последний троллейбус», «последний парад», «последний альпийский цветок», «звезды последние», «бабочка последняя», «последний пират», «последняя примерка», «на последнем шагу» — вплоть до «последнего стиха», после которого Окуджава сочинил немало новых. Часто он заменял любимый эпитет на развернутый синоним, в котором элегическая, щемящая нота звучала еще надрывней: «…поздний час — прощаться и прощать», «Умирает мартовский снег…», «Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой…», «В миг расставанья, в час платежа, в день увяданья недели…»
Теперь, после смерти Булата, меня не покидает чувство, что вся его поэзия была затянувшимся прощанием с миром, репетицией вечной разлуки: «Я жалоб не слыхал от них, никто не пожелал вернуться. Они молчат, они в пути. А плачут те, что остаются». Отсюда интонация — слезливая, прощальная, предсмертная, если не вовсе потусторонняя. Об этом мире Окуджава говорил, как бы глядя на него из другого. Сошлюсь на его коллег. Пастернак: «Каждая малость жила и, не ставя меня ни во что, в прощальном значеньи своем подымалась». А Бродский перефразировал Сократа: быть поэтом — упражняться в умирании.
Не отсюда ли постоянные ретроспективные оглядки и общий сентиментально-пассеистский настрой поэзии Окуджавы? Его любовь к миру окрашена прощально и ностальгически, он был патриотом страны, которой не существовало ни на одной географической карте — пространство он сменил на время. Тосковал по родине, как эмигрант, пусть внутренний — позаимствуем это слово из советского новояза. А теперь мысленно заменим Старую Басманную на Арбат и отнесем к Окуджаве слова, сказанные когда-то Иннокентием Анненским о «трех сестрах»:
«Москва для них, может быть, только слово. Но что же из того? Тем безумнее они ее любят… Москва? Даже не Москва… Это слишком неопределенно, а Старая Басманная, дом на Старой Басманной. В сущности, три сестры любят нечто весьма положительное… Они любят то, чего уже нельзя утратить. Они любят прошлое».
В подобном констексте Окуджава — родной брат трех сестер, данный им в придачу, как д’Артаньян трем мушкетерам. Прошлое не кончается, но произрастает в настоящее и вклинивается в будущее. С другой стороны, как быстротечна жизнь, нет разницы между мигом и вечностью, человек входит в будущее, отягощенный прошлым, и даже на настоящее глядит как на минувшее. Оксюмороны типа «Вперед к прошлому!» либо «Назад в будущее!» приобретают логическую убедительность в силовом поле эмоциональной лирики Окуджавы. Его отношения с временем — наоборотные, зазеркальные: «Сквозь время, что мною не пройдено…», «Не тридцать лет, а триста лет…», «Целый век играет музыка…», «Час проходит, как мгновенье, два мгновенья — век…». Привожу по одной строчке — стихи эти, надеюсь, в памяти моих читателей: песенная лирика Окуджавы вошла в сознание нескольких поколений, как когда-то «Горе от ума».
Акустика у него была необыкновенная, постоянное эхо — читательский рефрен. Потому и не боялся Окуджава стертых слов и общих мест — в его стихах они приобретали добавочные связи и ассоциации и, не выдвигаясь сами по себе, оказывались в новом контексте и настраивали читателя-слушателя на определенный лирический лад. Скорее, однако, чем фольклорный, блатной, следует помянуть романсовый, а то и романсерный, трубадурный источник его песен-стихов. Как писал Александр Блок:
Тащитесь, траурные клячи, Актеры, правьте ремесло, Чтобы от истины ходячей Всем стало больно и светло!В этом, «блоковском», смысле поэзия Окуджавы есть поэзия ходячих истин. Но истина остается истиной, несмотря на злоупотребления ею. Общеизвестно: истина начинает свою жизнь с парадокса и кончает трюизмом. И то, что истина становится в конце концов притчей во языцех, является парадоксальным доказательством ее истинности. К тому же банальные истины излагались Окуджавой отнюдь не банально. При такой установке особое значение в поэтике Окуджавы приобретает определение, прилагательное, эпитет. Скользящая семантика одних эпитетов резко контрастирует с неожиданно предельными, острыми, единственными значениями других. Тихие, грустные, жалобные, щемящие, слёзные интонации пробуждают безотчетную тревогу, минуя четкий смысл — и слов, и фраз, а порой и всего стиха. Рядом — внезапные, взрывные, пронзительные слова:
Неистов и упрям, гори, огонь, гори…* * *
Каких присяг я ни давал, какие ни твердил слова, но есть одна присяга — кружится голова…* * *
Ель моя, ель — уходящий олень, зря ты, наверно, старалась: женщины той осторожная тень в хвое твоей затерялась! Ель, моя ель, словно Спас-на-Крови, твой силуэт отдаленный, будто бы след удивленной любви, вспыхнувшей, неутоленной.Последнее стихотворение — вариация на пушкинскую тему «Явись, возлюбленная тень…» — написано спустя пару месяцев после смерти первой жены Булата.
Параллельно интонационно-лексическому контрасту возникает еще один — масштабная антитеза. С одной стороны, маленький, грустный, плаксивый человечек — с коротким веком, отпущенным судьбой, целой системой зависимостей от времени, быта и общежития. С другой — напряженность его душевной жизни, сполохи эмоций, духовное сияние. Наглядная модель этой антитезы — стихотворение о муравье, который «создал себе богиню по образу и духу своему»:
И в день седьмой, в какое-то мгновенье, она возникла из ночных огней без всякого небесного знаменья… Пальтишко было легкое на ней.Вслед за очередным контрастом — душевно-идеального с приметно-будничным (пальтишко, обветренные руки, старенькие туфельки) — Окуджава неожиданно переводит все стихотворение в высокий регистр, в идеальный план, но только затем, чтобы последней строчкой закрепить за повседневным течением жизни черты поэтической одухотворенности и сердечного напряжения:
И тени их качались на пороге. Безмолвный разговор они вели, красивые и мудрые, как боги, и грешные, как жители Земли.Окуджава сконструировал — применительно к его поэтике точнее будет сказать «возвел» — в своих стихах сказочный город. Печатая шаг, по этому фантастическому городу вышагивает главный его герой — трубач, барабанщик, флейтист, горнист. Пусть не гитарист, что было бы нестерпимым прямоговорением и тавтологией, но человек сходной профессии. А главное — схожей судьбы: осознавший в себе свое время и свое призвание. О ком и о чем бы Окуджава ни писал — о веселом барабанщике или о дежурном по апрелю, о московском муравье или о полночном троллейбусе, о петухе, на крик которого уже никто не выходит во двор, или о грядущем трубаче, — он всегда пишет об одном и том же персонаже. Который сказочен в той же мере, как время и место его стихов.
Кстати, с временем этот сказочный персонаж на короткой ноге. Он легко меняет исторические маски, чтобы свободно пересекать его: Франсуа Вийон и Тиль Уленшпигель, оба Александра Сергеича — Пушкин и Грибоедов, Пиросмани, Киплинг, Ярославна, император Павел — с ними поэт в тесных сношениях, будто он их современник или они — его. Само собой, это не исторические лица, а такие же жители его стихов, как Ленька Королев и Надежда Чернова, бумажный и оловянный солдатики, барабанщик и трубач, муравей и кузнечик. Стихи Окуджавы в еще большей степени, чем его исторические романы, к истории имеют косвенное отношение: история для него — прежде всего легенда.
В легенде быт превращается не в бытие, а в бутафорию, в театральный реквизит с мимолетной и памятной символикой. Капюшон Данте, чайльгарольдный облик хромого Байрона, разбойничье досье Франсуа Вийона вспоминаются прежде их стихов и часто взамен их. Если опять обратиться к грамматике, исторические персонажи поэзии Окуджавы окажутся скорее в роли дополнения, чем подлежащего: не герои его стихов, а спутники поэта в его путешествии сквозь время. Как Вергилий у Данте. Исторический реквизит стихов Окуджавы создан в наше время.
Средневековая Франция или Грузия прошлого — нет, теперь уже позапрошлого — века для Окуджавы историчны и легендарны в той же мере, что довоенные арбатские дворы. Время становится легендой на наших глазах. Как те же, к примеру, московские трамваи, загнанные на столичные окраины:
И, пряча что-то дилижансовое, сворачивают у моста, как с папиросы искры сбрасывая, туда, где старая Москва, откуда им уже не вылезти, не выползти на божий свет, где старые грохочут вывески, как полоумные, им вслед.(К сожалению, в академическом издании так и остался цензурный «белый свет» вместо «божьего», а я помню, Булат, жалуясь на цензуру, приводил пару примеров, включая этот.)
И даже для самой что ни на есть современности находит Окуджава привычные и в то же время неожиданные приметы и черточки, которые обретают в его стихах историческую символику. Он выравнивает в значении, выстраивает в один временнóй ряд настоящее, прошлое и будущее — мгновение, час, день, год, столетие, не видя различия меж ними, ибо время — это условный показатель вневременных, вечных переживаний человека: «И нет поединкам конца, а только — начала, начала…», «И в смене праздников и буден, в нестройном шествии веков смеются люди, плачут люди…», «Не тридцать лет, а триста лет иду, представьте вы, по этим древним площадям, по голубым торцам…».
Помимо песенно-романсово-романсерных корней, в поэзии Окуджавы легко различимы связи с живописью. Цветовые эпитеты у него — яркие, чистые, благородные, нарядно сказочные:
Два кузнечика зеленых в траве, насупившись, сидят. Над ними синие туманы во все стороны летят. Под ними красные цветочки и золотые лопухи… Два кузнечика зеленых пишут белые стихи.Поэт нечастых программных деклараций и теоретических постулатов, Окуджава в стихотворении «Как научиться рисовать» резюмирует поэтический опыт, им нажитый:
Перемешай эти краски, как страсти, в сердце своем, а потом перемешай эти краски и сердце с небом, с землей, а потом… Главное — это сгорать и, сгорая, не сокрушаться о том. Может быть, кто и осудит сначала, но не забудет потом!У каждого человека свой любимый цвет, у поэта — тем более. К примеру, наиболее частый цветовой эпитет у Ахмадулиной — оранжевый, у Давида Самойлова, с его приглушенной палитрой — серый. Излюбленный колер в поэтике Окуджавы — голубой, самый тревожный, зыбкий, романтический, отвечающий душевной смуте его лирики. Но именно зыбкость и невнятность — при романтических либо ностальгических мотивах — для Окуджавы наиболее и важны; оттого, кстати, столько в его стихах контрастных сопоставлений:
Он по-дьявольски щедр и по-ангельски как-то рассеян…
* * *
Петухи в Цинандали кричат до зари: то ли празднуют, то ли грустят…* * *
То ли утренние зори… То ль вечерняя заря…Так и «голубой» эпитет применен Окуджавой вовсе не к тем понятиям, с которыми его связывает просторечие: скажем, «голубое небо». Колебатель смысла, Окуджава голубым называет неголубое, то есть открывает голубизну там, где ее до него даже не подозревали. Голуби до него были сизыми, а у него становятся голубыми — потому и голуби! «Петух голубой», «две вечерних звезды — голубых моих судьбы», «по голубым торцам», «за голубями голубыми», «голубые чаи», «голубые капельки пота» — семантика смещена, поколеблена, зато соответственно усилена скользящая неопределенность стиха.
(Опускаю «голубого человека» и «шарик вернулся, а он голубой» — Булат перестал их петь ввиду сексуальной переориентации невинных образов, по причине их двусмысленности в новом лексическом контексте, — как искажены современным сленгом фетовское «Я пришел к тебе с приветом…» или пастернаковское «…ты прекрасна без извилин» да и пушкинское «всё волновало нежный ум». Однако «Союз друзей» он петь продолжал даже после того, как песня стала гимном правых, несмотря на противоположное и ни на чем не основанное утверждение критика С. Рассадина. Зато его ностальгические «Комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной» и вовсе зазвучали после идеологического обвала начала 90-х анекдотично — пока, десятилетием позже, в них не послышались грозные и зловещие нотки.)
Лев Толстой считал, что гармония Пушкина происходит от особой иерархии предметов в его поэзии. Но то же самое можно сказать про любого подлинного поэта, хотя предметная иерархия у каждого разная. А какова новая иерархия у Окуджавы?
Он произвел эмоциональный, душевный, лирический сдвиг в поэзии путем замены определенных, четких, готовых и неотменных понятий на неясные, смутные, колеблемые и тем именно, наверное, драгоценные его читателю-слушателю. Даже тропам — традиционным, банальным, затертым и стертым словам-шаблонам — таким, как «надежда», «вера», «родина», «любовь» — Окуджава возвратил былой, до их инфляции, смысл, эмоционально обновил, дал их семантическим курсивом, советскому неоклассицизму противопоставил опять-таки классический слезоточивый сентиментализм: «Мы откроем нашу родину снова, но уже для самих себя». Родину он открывает в арбатских дворах, в кривых арбатских переулках, в арбатских сверстниках: «И уже не найти человека, кто не понял бы вдруг на заре, что погода двадцатого века началась на арбатском дворе». Арбат — призыв и призвание, радость, беда, судьба.
От любови твоей вовсе не излечишься, сорок тысяч других мостовых любя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое отечество, никогда до конца не пройти тебя.И ту же самую черту длительности, бесконечности переносит на время:
Сквозь время, что мною не пройдено, сквозь смех наш короткий и плач я слышу: выводит мелодию какой-то грядущий трубач…Да, patriotisme du clocher, но колокольня — Арбат и окрестности — не география и не топография, а скорее топонимика, знаковая совокупность ностальгических, как во сне, названий: Усачевка возле остановки, от Воздвиженки до Филей, от Потылихи до Самотечной, Сивцев Вражек, Большой театр и тому подобное. Патриотизм Окуджавы суженный, локальный, местнический, ему нет дела ни до «широка страна моя родная», ни до «Союза нерушимого». Та самая «малая родина», что у патриотов-деревенщиков, и странно даже, что они друг друга не узнали и не признали поверх идеологических отличий. Стаc Куняев, сам поэт, бывший оруженосец Слуцкого, а вскоре главред «Нашего современника», рупора березофилов, осенью 68-го обрушился на Булата с разгромной статьей под броским названием «Инерция аккомпанемента», с формальной скрупулезностью перечислил в ней основные свойства поэтики Окуджавы, но ухитрился не заметить, что именно они и составляют привлекательное лицо поэта. Наоборот, выстроил на их основании свое наивное обвинение Окуджаве: в мелодекламации, в банальностях, в амикошонстве, в банальностях, в кукольности, вплоть до переизбытка служебных элементов речи. Только что с того! С каких пор это грехи, тем более в литературе? Если заменить минусы на плюсы или хотя бы дать наблюдения Куняева на безоценочной шкале, то, может быть, это одна из лучших статей про Булата — придирчивый, пристрастный, тенденциозный взгляд лучше, цепче схватывает имманентные черты, чем комплиментарный. Зоилы умнее, наблюдательнее апологетов и тифози. Поставим это в заслугу тогдашнему Куняеву — способность понять мотивы и образы, противоположные его собственным.
Объективности ради сошлюсь на высказывание критика, отношение к которой моих земляков-питерцев как к гуру считаю завышенным, панегирическим и нелепым, — на Лидию Яковлевну Гинзбург: «Элегическая поэтика — поэтика узнавания. И традиционность, принципиальная повторяемость является одним из сильнейших ее поэтических средств. Но дальше повторений не идут лишь бездарности и эпигоны. Гармоническая точность позволяла поэту творить новое варьирование „тонкими смысловыми сдвигами“».
Не одну родину, но и весь мир воспринимает Окуджава в ближнем пригляде — как родной, обжитой дом, уютно обставленный знакомыми чувствами. Поэзия дает возможность установить короткие отношения не только с временем, но и с пространством: «шар земной на повороте утомительно скрипит», «наш исхоженный шар» либо — предлагает повесить звезду «над моим потолком». Можно и так в шутку сказать: «глобал виллидж» была открыта Окуджавой прежде Маклюэна.
Который раз поэзия опережает науку!
Поразительно бесстрашие Окуджавы перед патетикой и тавтологией. В сказочном, театральном, условном, табакерочном мире, возведенном им по «чертежам своей души» и только отдаленно напоминающем довоенную Москву, слова-трюизмы, субъективно, интимно обновленные, становятся координатами его лирического героя.
В старом-престаром фильме Карне «Дети райка» мелодраматическая пантомима, к которой мы привыкли относиться скорее эстетически, чем эмоционально, неожиданно полностью, один к одному, подтверждается страстью мима Дебюро — и сказочный мир пантомимы внезапно обрушивается действительной трагедией. Вот и от актеров, занятых, казалось бы, в игрушечной поэзии Булата Окуджавы, жизнь требует не читок, а «полной гибели всерьез».
Смерть кажется такой внезапной, чужой и чуждой, но именно она подтверждает реальность этого сказочного мира, границы которого охраняют два солдата — бумажный и оловянный. Бумажный солдат, красивый и отважный, хочет переделать мир, чтобы все были счастливы. Оловянный солдат осужден на вечный подвиг, он ждет своих врагов и боится выпустить из рук окаянный автомат:
Его, наверно, грустный мастер, пустил по свету невзлюбя. Спроси солдатика: «Ты счастлив?» И он прицелится в тебя.Два разных стихотворения о двух разных солдатиках, но обоих пустил по свету один мастер. Два солдатика, двойники-антиподы, ведут между собой вечный спор. Мелодийная, гитарная гармония Булата Окуджавы на поверку оказывается мнимой, навсегда утраченной — равно в окрестном мире и в человеческой душе.
Теперь уж точно помню, что из всех знакомых он первым пришел в гости, когда я в очередной раз переехал — на этот раз в Москву, всего за пару лет до отвала из России. Все бумаги уже были подписаны, но вещи не прибыли, я жил один. Лена была еще в Ленинграде, Жека с моей мамой в Латвии, Оля с Булей — в Коктебеле. Мы оказались почти соседями: он жил у «Речного вокзала», я — в четырех от него остановках, у станции метро «Аэропорт». Спросил его, кем себя чувствует — армянином или грузином. Булат всерьез занялся своей генеалогией и поведал мне о еврейской четвертинке то ли осьмушке, не помню: кто-то среди его предков был из кантонистов.
Я пошутил:
— Если считать от Адама, мы все евреи.
— Адам — не еврей, — поправил меня Булат. — Первый еврей — Авраам.
Мы долго в тот вечер сидели на кухне, а потом он катал меня на машине по ночной столице и жаловался, что Москва изменилась неузнаваемо, Арбат из места действия, пусть и романтического, стал театральной декорацией, туристическим китчем. Было это летом 1975 года. Булат еще поживет 22 года, оставаясь неизменным, то есть самим собой, коснея в катастрофически изменчивом, обвальном, катаклитическом, перевернутом мире.
Но уже тогда — а тем более позже, когда наши пути разошлись, но легко представить на расстоянии, даже из-за океана — Окуджава остро чувствовал свое одиночество в/на миру, а признался в нем еще раньше, в самом начале пути — в песенке о Леньке Королеве:
Потому что (виноват), но я Москвы не представляю без такого, как он, короля.Вот и мне теперь не представить Москвы без Окуджавы.
Да и нет уже больше той, окуджавской Москвы.
И была ли она в реале?
Я ее не застал и знаю только со слов поэтов. Окуджава был ее последним — нет, не певцом, а вспоминателем и плакальщиком.
Сказочник умер, сказка стала легендой, легенда окаменевает в миф.
Посвящение-1. Булату: Кудос женщине Барьер времени Сослагательная история
Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.
Девушка плачет: жениха все нет.
Ее утешают, а шарик летит.
Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.
Плачет старушка: мало пожила…
А шарик вернулся, а он голубой.
Булат Окуджава…Спустя неделю мы гуляли в «Эмералде» на юбилее Гордона. Тусовка совпала с Восьмым марта, не все это сознавали, но я все время держал в голове, прикипев к женщинам всех возрастов, от мала до велика, от одной совсем еще юницы до глубокой старухи за девяносто — так уж устроен. Я мало кого здесь знал, зато все знали меня. Точнее, так: многих я уже встречал на этой тусе по разным поводам — на поминках, сороковинах, годовщинах и юбилеях, а то и просто так, но знакóм близко не был, имен не помнил. Мучительно припоминал, как звать двух миловидных сестричек — при совместном прочтении получалось одно имя. Аннабелла, как назвал мой друг-славист свою дочь в честь Ахматовой и Ахмадулиной, не подозревая, что это имя изначальной девочки у Набокова — предтечи Лолиты? Нет, не то — память дает сбои. Вот, вспомнил — Натанелла: Ната и Нелли. Племянницы-погодки Гордона с противоположного берега, из Сиэтла. Кто из них кто? Кто Ната, а кто Нелли? Ну, это уже задачка мне не по мозгам, хоть я и сделал пару лет назад магнитно-резонансную томографию — в просторечии MRT. Пусть останутся сиамскими сестричками с одним нераздельным именем на двоих.
С женским днем обеих!
Самого Гордона я долго держал за юношу, а он во куда вымахал: шестьдесят! Облысел окончательно. Да и все постарели, кроме матери Гордона — пару лет назад отмечали ее девяностолетие, но она с тех пор не изменилась, а как бы законсервировалась навсегда в одном обличье еще задолго до того ее юбилея. Умная, памятливая старуха, на своем юбилее она с час, наверное, рассказывала о своей юности и молодости, а когда дошла до конца блокады Ленинграда, сказала, что город так обезлюдел, что с Невского был виден Литейный мост.
В Ленинграде она была начальником производства на каком-то крупном заводе.
— Мудрость! — живо откликнулась она на чей-то за нее тост. — Если бы вы знали, сколько я совершила в жизни ошибок. Долголетие — это наказание их помнить. Я потому и оставлена, чтобы вспоминать и рассказывать.
Через год встретил ее на улице, и она осуждающе ткнула меня костлявым пальцем в живот:
— Отрастает! — Сколько ни живешь, а всё мало кажется, — сказала она сегодня, а потом бросилась на меня в атаку за какую-то мою политоложную статью.
Отбивался как мог. Пытался отделаться шуткой, что у меня мозги скособочены — не тут-то было. Тогда приставил указательный палец правой руки к соответствующему виску: «Ну, что мне застрелиться?» — «Нет, почему же — живите», — смилостивилась старуха. Еще ее интересовало — сам ли я, по собственной инициативе, пишу свои эссе-парадоксы или мне их заказывают?
С международным женским днем, достопочтенная!
— Мы ближе к смерти, чем к рождению, — открыла мне Америку Лена Клепикова, а я подумал, что в своем возрасте, который уже поздно скрывать, а то дадут больше, я приближаюсь постепенно к возрасту моих старух, которых у меня целая коллекция. Да только вряд ли доживу.
Старух было много. Стариков было мало. То, что гнуло старух, стариков ломало.Что меня волнует — кто кого переживет: я — моего десятилетнего кота или он — меня? Десять кошачьих лет — это под пятьдесят по человечьим стандартам.
Постарели даже молодые девицы, на одну из которых — из Сан-Франциско — я два года назад положил глаз, а теперь у нее лицо как-то обострилось, и мне она нравится больше по памяти, чем сейчас. Еще пара рюмок — память, реал, воображение сливаются в один образ, любезный моему глазу (и не только ему), стирая разницу и действуя возбуждающе. Поднимаю тост за путешествия, книги и женщин, хотя порядок не тот, но я слегка пьян. Пьем на брудершафт, поцелуй молодит меня, «ты» делает возрастную разницу несущественной.
Ее имя вспоминаю по ассоциации, оно читается в обе стороны, но получаются разные имена: Аня — только наоборот. Она только что вернулась из Таиланда и удивляется, как мне удалось проникнуть в Бирму, где военный режим вперемешку с демократией. Бирму она называет «Burma», хотя у нее теперь официальное самоназвание — Мьянма. Union of Myanmar. Объясняю: пришлось сменить анкетную профессию — вместо «журналиста», а тех там за версту не переносят, поставил «историк искусства», кем я тоже являюсь, будучи в литературе многостаночником. Визу выдали в последний день, зато какую! Не формальный штамп, а красочная такая наклейка во всю паспортную страницу!
Вот что меня все-таки интересует: почему время безжалостно даже к молодым? Одна только здесь вошла в цвет и выглядит лучше, чем в прошлый раз. Но о ней и речь — зачем забегать вперед?
Это не моя компания. Моя собирается по топографическому принципу, и хотя наезжают иногда из Манхэттена, Бруклина и Нью-Джерси, но в основном свои, куинсовцы: 10–15 минут езды друг от друга. Да и компании у нас небольшие, зато регулярные, по кругу — больше дюжины только на юбилеях. А здесь с полсотни — помимо ньюйоркцев, понаехало родни, свояков и друзей со всей Америки, из Европы, из бывшей Совдепии. Субтильная шансонье была на этот раз при галстуке, что ей очень шло, хотя она тоже спала с лица и была бледнее, чем обычно. Или это свет здесь такой искусственный, потусторонний?
Представил себе, как через столько-то лет никого из присутствующих не останется на белом свете. Разве что девяностолетняя старуха переживет всех и выживет. Выживаго. Какая разница — девяносто, сто, сто десять?
Не старею только я — так мне кажется. Виртуальный заскок — я не вижу себя со стороны. А cнутри своего возраста не чувствую. Только что сдал все анализы, сделал abdominal sonograma — всё, вроде, в порядке. Осталась еще колоноскопия. Конечно, подустал маленько, но не сдал — ни физически, ни творчески. Что касается секса: когда душа не лежит, то и ху* не стоит. Апофегма собственного производства, только что пришла в голову. Вот только от романов перешел к рассказам, которые Лена презрительно зовет «зарисовками», скоро и вовсе сойду на записные книжки не выходя из дома, а те, что ни говори, от писательской немощи: литературный шлак. Можно специализироваться на максимах и афоризмах, до которых я охоч, но кому они нужны в наш ненравоучительный век, я до него и дожить не надеялся, а тем более до следующего тысячелетия. Вот именно:
Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе?Неужели третье? От Рождества Христова? Какое, к черту, рождество? Эвфемизм! От обрезания Христова. Был даже когда-то такой праздник в христианском календаре.
Мне бы скинуть пару десятков лет, произведя соответствующие реставрации в моем не только мозгу, но и во всем организме. Что раздражает, так это вектор времени: почему он однонаправлен? Почему человек одноразового пользования, как гондон? Почему я могу с Аней-Яной только лясы точить? При встрече, правда, а потом, прощаясь, расцеловались, я воспользовался и прижал ее к себе крепче, чем положено, почувствовав небольшие девичьи груди, сердце мое затрепетало дважды — и дважды оттрепетало. Мы сидела визави, а не рядом, что жаль. Когда пили на брудершафт, еле дотянулись друг до друга. Брудершафт — теперь единственная для меня возможность поцеловать молодую женщину в легкий засос.
С женским тебя днем, Аня-Яна!
Внимание рассеивается — вовсе не ради Яны-Ани предпринял я этот рассказ (а не зарисовку!). Но уж очень она меня зацепила в прошлый раз, а в этот — по инерции того.
Кстати, для шестидесятилетнего юбилея довольно много молодняка при отсутствии середняка — без промежутка: ни сорокалетних, ни даже полтинников. Сколько миловидной дочери Гордона? К тридцати? В самом деле, она выглядит сегодня лучше, чем на прошлом, старушечьем юбилее. А ее как зовут? Путем наводящих вопросов узнаю´: Маша. Хороша Маша, да не наша. А чья? Оглянулся в поисках ее кавалера — не обнаружил. Молодняк в основном женского пола. Зато пожилые и старики — парами. Тонная шансонье поет, пританцовывая в ритм, старики вовсю пляшут, а девицы просиживают свои прелестные задницы.
Танцует тот, кто не танцует, Ножом по рюмочке стучит…Стучу по рюмочке и придумываю сюжеты, один похлеще другого. Со мною опасно водиться. Какие там зарисовки — сколько я наизмышлял в своих подловатых рассказах, зато вспоминательная проза чиста, как глазной хрусталик. Пусть оправданием послужит мне строчка нашего основоположника: «Над вымыслом слезами обольюсь…» Или Шекспира: «Самая правдивая поэзия — самый большой вымысел…»
Вымысел или домысел? Или умысел? Вымышленный реал. Умышленный реализм. Вымысел и есть замысел. Я — не сюрреалист, а супернатуралист. Пишу не с натуры, а натуру преображаю черт знает во что. Чем меньше знаю людей, тем больше фантазирую. Не то, что вижу, а то, что мыслю — вот мой девиз, стыренный у Пикассо. Пусть мысли никудышные, пустяковые, а то и нехорошие. Но на женщин я запал сызмала, а сегодня, к тому же, 8 марта — счастливое совпадение! Мне и карты в руки.
Ну, взять хотя бы Аню наоборот? Коли она из Сан-Франциско и ездила с подружкой в Таиланд, зачисляю ее по розовому ведомству, тем более на вопрос, замужем ли, ее девяностолетняя бабка (да, еще одна внучка, от третьего сына) отвечает двусмысленно: «И да и нет». И загадочно добавляет: «Непутевая». Но непутевая — не обязательно в том смысле, да и Сан-Франциско — не Лесбос, и живут там не одни голубые и розовые, содомиты и гоморриты. А Лесбос — там что, не было тради-ционалов? Впрочем, не против попасть в компанию лесбиянок, была бы там моя душечка, что меня зацепила в прошлый раз и разочаровала в этот. Экзотка или нормалка — мне тут ничего при любом раскладе не светит. А где светит? Разве что она геронтофилка. Когда мама жаловалась на возраст, Лена ее утешала: «Но вы ужé были молодой».
Не утешает.
Есть один только способ вырваться из этой возрастной клетки — с оперной подсказки: «Любви все возрасты покорны». Справа от меня сидит полузнакомый архитектор с женой, которой очень идет, когда она краснеет, а краснеет она все время. Скажем, когда я говорю, что был неделю назад через квартал на панихиде, и мимоходом замечаю, что покойник был еще тот кот. При слове «кот» она мгновенно краснеет — оказывается, двадцать лет назад работала с ним в одной конторе. Мое скорое на подъем воображение тут же сочиняет соответствующий сюжет, тем более у покойника романов было — не счесть. Зато танцует раскрасневшаяся жена архитектора только с одним партнером, с которым тоже где-то когда-то служила — моя разнузданная фантазия опять к моим услугам. А когда я разыгрываю своего соседа, сказав, что шансонье моя дочь (если бы!), и он верит, его краснеющая жена говорит, что он вообще очень доверчивый. Помалкивала бы, думаю, меж тем как мое воображение, не зная узды, совсем разгулялось на пустом, считай, месте. Хотя как знать. Что ближе к истине — бескрылый реал или художественный вымысел? Отелло ревнует впрок: рано или поздно Дездемоне поднадоест ниггер, и она, как пить дать, изменит ему с другом детства Кассио. Уж мне ли не знать, что такое ревность! Два моих романа и пара-тройка рассказов — не о ревности, а из ревности. По крайней мере, частично. Признаюсь, как на духу.
О, женщины! С международным праздником вас всех 8 марта!
Виновник сегодняшнего торжества стоит, обнявшись со своей Машей — точь-в-точь скульптурная группа из Виллы Боргезе, Уффици или Ватикана — я знаю? Если быть точным, не он обнимает ее, а она — его, нежно поглаживая своими тонкими пальцами лысину, лицо, шею. А он как изваяние — вот почему у меня и возникла музейная аналогия. Я пытаюсь понять ее жесты: счастливые? ласковые? бесстыжие? «Солнышко», — долетает до меня или это мне только кажется? Чтобы солнышком называть отца? Если не знать, что они отец и дочь, то можно принять за парочку, несмотря на возрастную разницу. Гордон классно выглядит для своих шести десятков (или трех двадцаток или двух тридцаток — как угодно читателю). Если бы еще не лысина… Что больше выдает возраст — седина или лысина? У меня то и другое, но в самой начальной стадии. Увы, лысеет не только голова. Взять хотя бы лобок. Почему прежде всего седеют виски? А сколько седых волос и залысин внутри! Имею в виду не только душу. Та как раз хоть и ухайдакалась от жизненных передряг, но лет на сорок потянет, никак не больше. Куда дальше, если даже сын ведет себя со мной как отец и время от времени читает мне нотации. Недавно вот прогуливались с ним по Ботаническому саду, и я не удержался и нарвал Лене нарциссов — так получил от него втык, знакомый мне сызмала всю мою жизнь: «А если бы все так делали…» — «Но так больше никто, кроме меня, не делает то, что делаю я?»
Гордона я знаю давно, хоть видимся мы редко, — он мало изменился, разве что заматерел, омужичился. Кто изменился, так это Маша — из разбитной девицы превратилась в преданную, заботливую, нежную дочку. Не представляю, как бы он выдержал без нее, когда на него всё обрушилось: помню его на поминках-прощалках по жене. Вот когда кончились Машины девичьи заморочки и закидоны (марихуана и экстези) и все тараканы из головы повылезли, а взамен пришла ответственность за отца, который, овдовев, ударился в отчаянный запой. На жене держался дом. Свой бизнес он забросил, с утра отправлялся на кладбище, возвращался пьяный в хлам. Я видел его на сороковинах: вконец измученный, опустившийся человек. Около Маши тогда вертелся приставучий вьюноша — ее бойфренд, уговаривая уйти с ним. Она скидывала его руку со своего плеча и в конце концов отшила — он обиделся и ушел один. Маша осталась с отцом.
О тех сороковинах я уже сочинил гипотетический сюжет со слов сиделки (рассказ «Сороковины»), которая приняла последний вздох умирающей и сдружилась с семьей вдовца: бабкой, сыном, дочкой. «Все в курсе дела», — заверила меня эта болтливая баба.
Тогда я усомнился, а теперь представляю, как всё произошло и с тех пор длится уже несколько лет. Хоть и стараюсь не давать волю своему испорченному воображению, а со свечой не стоял — чего не было, того не было. Одна Маша могла утешить его, и недостаточно назвать это утешение инцестом. Любовь может принимать различные формы, и кровосмешение — не худшая из них.
Любовь обратно пропорциональна возможности без нее обойтись. А здесь без нее ну никак — позарез! Он был безутешен и одинок, старуха мать — друг, но одновременно ее долгожительство служит как бы укором: тридцативосьмилетняя жена умерла от рака, а девяностодвухлетняя мать до сих пор отсвечивает и два раза в неделю плавает в бассейне. Эта подмена бросается в глаза. Бог вопиюще несправедлив. По какому принципу производит он распределение жизненных сроков там у себя наверху? Чем руководствуется, заставляя молодых долго страдать перед смертью, зато другие у него умирают во сне в глубокой старости? Вот такие чепуховые мысли лезли мне в голову на сороковинах, я перенес их на бумагу, так и назвал рассказ «Сороковины», а теперь глядел на виновника торжества, заласканного, а по сути спасенного дочкой. Говорят, его героическая, жертвенная жена, умирая в муках, но в полном сознании, была больше всего озабочена судьбой мужа, который оставался без нее один, как перст, на белом свете, беспомощный и беззащитный. А если она наказала дочери заботиться об отце, как заботилась всю жизнь она сама? Святое дело — наказ умирающей. После ее смерти они были одиноки оба — отец и дочь. У него кончилась супружеская жизнь, у нее — девичьи метания. Бойфренд окончательно ушел в мир наркоты и фэнтези. Зато они нашли друг друга — отец и дочь.
Дочь, которой у меня самого никогда не было.
Куда меня заносит? Что, мне умиляться отцовско-дочерним отношениям?
По деревне дождь идет, Занавески дуются. Отец дочь свою еб*т, Мать на них любуется.За покойницу не скажу, у них там в Элизиуме другие правила, и нам на земле есть, наверное, чему у мертвецов поучиться. Увы, не дано просечь, что у них там на самом деле происходит. В любом случае, наши земные предрассудки там вряд ли в чести. Так чего нам, на земле, быть такими морально упертыми?
Сын, застав нас как-то в Париже за этим делом, пожелал родить ему сестренку, а сам потом мечтал о дочери, но у них с женой, как назло, каждый раз получался мальчик, как будто они заботились об американской армии, хотя та теперь на сколько-то процентов состоит из женщин. У меня, помню, тоже мелькало: вот бы дочку, похожую на мою жену, в которую до сих пор влюблен. Не дай бог, в меня. Родился мальчик, похожий на меня, а у него — два сына. В отличие от китайцев, я желаю, чтобы дальше дело пошло гендерно разнообразней. Увы, мне не дожить, когда мои внуки разбавят этот мужской поток хоть одной девочкой. Но я заранее в нее влюблен и приветствую с того света. Не обязательно красивая — пусть будет желанная. У меня была знакомая, родители так долго ждали ее, что назвали Желанной. Она ненавидела это провокационное, как невыполненное обещание, имя, сократив до Жанны. Пусть моя правнучка будет желанной не только для своих родителей. Вот во мне и заговорил педофил, коим я, по-видимому, всю жизнь и был, влюбившись в мою жену с первого взгляда, когда она была угловатым безгрудым подростком, и любуясь в ней до сих пор подростковой грацией и душевным наивом. Вот почему мне никогда не грозило стать педофилом — педофил я сызмала. А на инцест проверки не прошел — у меня нет дочери, похожей на мою жену.
На Маше я застрял, любуясь тем, на что и смотреть — грех. Но — не оторваться. И что есть грех с точки зрения вечности? На то и искусство, чтобы преобразовывать греховность в праведность. Отец и дочь — праведники. Перед Богом — чисты. В отличие от меня с моими греховными мыслями.
Уже в «Эмералде» меня пробирала внутренняя дрожь, а когда вышли на улицу, я дрожал, как осиновый лист.
— Что с тобой? — удивилась жена. — Сейчас не холодно.
— От мыслей, — сказал я, не пускаясь в подробности. — С женским днем, моя несравненная!
— Ты меня уже поздравлял с Днем святого Валентина!
Я подсмотрел чужую тайну, и теперь мне не с кем поделиться моей собственной тайной: тоской по еще одной женщине — по дочери.
Спустя несколько дней, уже в нашей теплой компании, я рассказал о своих общих впечатлениях от юбилея в «Эмералде», которые здесь опускаю — танец живота, например.
— Он нашел себе кого-нибудь? — спросил меня сосед о вдовце.
— Дочь, — сказал я. И с ходу: — Тебя дочь называет солнышком? Ласкает? Гладит по щеке? — теребил я дружбана.
— Она погладит — жди. Разве что против шерсти…
Незнакомые между собой дочери моих знакомых были одних приблизительно лет. И то правда — мой сосед не был вдов. Да и в отношениях с женой они скорее деловые партнеры, чем страстные любовники. Случись что — не дай бог! — убиваться так не будет. Тем более, не станет искать утешения у дочери. Или моих друзей я знаю как облупленных — ничего не измыслишь? Иное дело — юбиляр в «Эмералде», которого я вижу, дай бог, раз в два года. Его старуху-мать встречаю чаще. Надо ей позвонить — не обиделась ли, что серьезный разговор я превратил в шутку?
Ничего не откладывать: ни звонки, ни встречи, ни замыслы. Если что с нами и происходит, то по чистой случайности — чудом мы преодолели барьер времени. А как-нибудь останемся позади него. Вот я уже прилагаю усилия, чтобы вызвать из завалов памяти недавно умершего приятеля. А кто помянет меня? Не обязательно добрым словом. У злопамятных память крепче — по определению.
Жаль все-таки, что я бездочерен. Почему у меня нет дочки вдобавок к сыну? Безотносительно к тому, что я здесь насочинял. Поздравил бы ее сегодня с днем Восьмое марта.
Быть Фазилем Лучший из евтушенок
Нетитулованный нобелянт
Иногда у меня как у вспоминателя закрадывается сомнение: какое право имеют живые сочинять мемуары про мертвецов, когда те не в силах ни подтвердить, ни опровергнуть то, что о них пишут? Само собой, про мертвецов писать сподручнее. Даже если нет злого умысла, неизбежны капризы памяти, аберрация зрения, домыслы ложного воображения. А вот опыт мемория про живых у меня случился, как обморок, в 75-м, когда, переехав из Ленинграда в Москву, я сочинил свой прощальный роман «Три еврея» о питерских друзьях и врагах. Точнее, друзьях-врагах. В Нью-Йорке сочинил московский роман с памятью «Записки скорпиона», куда включил неюбилейный портрет юбиляра Фазиля Искандера: шутка ли — 75 лет шестидесятнику! А потом и вовсе оксюморон: шестидесятник-октогенарий. А теперь и совсем уж зашкаливает — пишу про живого, слава Богу, восьмидесятишестилетнего Фазиля. Совесть моя чиста. Главное — соединить в один портрет Фазиля, которого знаю лично, с Искандером, прозу которого люблю.
А тогда, с превеликими трудами обменяв ленинградскую квартиру на московскую, я оказался его соседом, окно в окно, как-то даже неловко — выходило, что подглядываю: вуайор поневоле. Особенно по утрам, когда Тоня уходила на работу, а Марина — в школу: Фазиль метался по своей трехкомнатке, что зверь в клетке, а тому природой положено пройти энное число километров, и он их, несомненно, проходил: говорю про обоих. Розовое гетто — наш писательский кооператив на Красноармейской улице — располагалось буквой П: я жил в одной ее «ножке» на седьмом этаже (д. 27, кв. 63), Фазиль — в противоположной на шестом (д. 23, кв. 104). В тех же домах жили Аксёнов, Копелев, Корнилов, Межиров, Войнович (чуть поодаль, на Черняховского, в доме, где писательская поликлиника), но рассказывать мне хочется только об одном соседе — Фазиле, которого знал лучше других. В конце концов я высчитал — чтобы пройти всю квартиру насквозь и вернуться в исходную точку, к окну в спальне, Фазилю требовалось 47 секунд. Я ему сочувствовал — не пишется. Потом ходьба прекращалась, и я гадал, что отвлекло Фазиля: телефон или машинка? Иногда я встречал его в соседнем Тимирязевском парке — хороший такой парк, с мелкими, по сравнению с нью-йоркскими, рыжими белками. И снова было неловко, что вторгаюсь в его одиночные прогулки. Иное дело «официальные» встречи — мы часто виделись по поводу (дни рождения, Новый год, вплоть до наших проводов, когда мы вынуждены были подробру-поздорову убраться из России) и без оного: звали друг друга «на гостя», который являлся к кому-нибудь из нас, и приготовления все равно неизбежны. У нас заурядный московско-питерский стол, зато у Фазиля мы испробовали весь кавказский разблюдник: лобио, хачапури, цыплята табака и прочие экзотические деликатесы, включая коронное блюдо — сациви, которое Лена Клепикова полюбила, а я возненавидел — из-за сопутствующей изжоги. Не говоря уже об аджике, будь она проклята! Не было тогда в Москве волшебных желудочных капсул, и я безуспешно пытался погасить содой пожирающий меня снутри огонь. А теперь вот тоскую даже по этим куриным кусочкам, утопленным в орехово-чесночно-кинзовом соусе — и мгновенно, по-прустовски, вспоминаю Фазиля.
Сациви — мои мадленки.
Подружились мы, судя по его письмам мне в Питер, которые я раскопал в моем архиве, за три года до моего переезда из столицы русской провинции в столицу советской империи. Каждый мой наезд в Москву — а они становились все более частыми, пока я не перебрался окончательно — заходил к нему в гости. Разговор обычно кончался застольем, хотя общие знакомые говорили, что настоящего Фазиля, выпивоху и гуляку, я уже не застал. Женя Ряшенцев рассказывал мне захватывающую историю, как они с Фазилем, вдрызг пьяные, ползут по краю обрыва где-то на Кавказе и один спасает другого от падения в пропасть. Я пытался пересказать эту историю Фазилю, но он сказал, что ничего не помнит — был в отключке. Таким я Фазиля действительно не знал. Но все равно у меня, как читателя и критика, прочное ощущение, что знаю Фазиля давным-давно — с тех самых пор, как прочел его первые вещи.
«Спасибо за статью в „Дружбе народов“ — она меня обрадовала и доставила истинное удовольствие. Хотя люди, хвалящие нас, всегда кажутся тонкими и проницательными, на этот раз уверен, что статья хороша вне похвалы и вне меня», —
писал он мне летом 73-го. Я опубликовал о нем с полдюжины статей — в «Новом мире», «Звезде», «Неве», «Дружбе народов», «Юности», нью-йоркских «Новом русском слове» и «Русском базаре», но именно рецензия на «Ночь и день Чика» понравилась ему больше других: «…та твоя статья — образец критической работы, тонкости понимания самой сути художественной ткани», — писал Фазиль в другом письме и добавлял, что в статье о «Сандро из Чегема» нет «…той стройности и законченности, которой отличается твоя рецензия на Чика… Видимо, чудовищная обрывочность того, что напечатал „Н.м.“, сбивала тебя и не могла не сбить с толку».
На деле, под видом рецензии на новомировского кастрата я пытался протащить статью о рукописном оригинале, но что не позволено даже Зевсу, сиречь Юпитеру (Фазилю), тем более нельзя было быку (мне).
О предстоящей публикации своего opus magnum Фазиль сообщил мне заранее:
Самая, на мой взгляд, зрелая вещь «Житие Садро Чегемского», которую собираются в чудовищно обрезанном виде давать в «Н.м.». Здорово мне все это портит кровь, потому что много вложил в нее, а пока идти на скандал (довольно крупный, учитывая полученные деньги, рекламу и т. д.) не решаюсь. Авось цензура дотопчет, может, и решусь… Посмотрим.
Цензура дотоптала, «Садро» вышел в урезанном, искалеченном виде — без великолепной главы «Пиры Валтасара» (лучший, на мой взгляд, образ Сталина в мировой литературе), а Фазиль все не решался. Он болезненно переживал и то, что сделали с его любимым детищем, а еще больше — что сам позволил редакторам и цензуре себя оскопить. Пошел на компромисс, в то время как его товарищи по перу, среди них друзья, шли на разрыв с официальной литературой. Литературная драма сублимировалась в семейную, и то, что Фазиль с ней худо-бедно справился и обуздал себя, говорит не только о его мужестве, но и о высоком моральном духе. В художественно преображенном — и искаженном — виде я рассказал о тогдашнем расколе среди московских писателей в повести «Сердца четырех»: ее персонажи — не совсем сколки с реальных людей, много художественной отсебятины и камуфляжа.
Точнее сказать: я маскировал друзей и знакомых как мог, меняя имена, внешность, этнос, curriculum vitae, но не суть и не судьбы. Фазиля, к примеру, из полуабхаза-полуперса превратил в караима Саула — с его собственной, правда, подсказки: у него есть где-то про дядю-караима, вот я и доразвил. По размеру вышла повесть, а жанр указан в подзаголовке: эскиз романа. Потому что на сам роман у меня не хватало ни материала, ни времени, ни желания, ни духа. Характеры — по личным наблюдениям, а сюжет — из признаний, слухов и домыслов. Другими словами, из сплетен, апологетом которых, как читатель уже знает, я являюсь. То есть сплетни — это, конечно, полемическое преувеличение. Я знал эту историю со слов ее участников, особенно подробен был Камил Икрамов (в повести Тимур), но и Фазиль с Володей Войновичем (в повести Кирилл) кое-что существенное добавили, я уж не говорю о женах и разведенках, а потом, когда повесть была напечатана — массовым тиражом у Артема Боровика в ежеквартальнике «Детектив и политика», в нью-йоркском «Русском базаре» и в моих московских книгах «Призрак, кусающий себе локти» и «Мой двойник Владимир Соловьев», наверняка жалели о своей откровенности.
Кто вряд ли жалел, так это модный психиатр Володя Леви, пользовавший свихнувшихся писателей, тогда как другой пастырь, отец Александр Мень, обращал их на путь истинный. Но батюшка блюл правила и не разглашал тайну исповеди — в отличие от психиатра, который болтал о своих пациентах налево и направо. Именно от него я узнал, что у М. эррекция только по утрам, то есть не все еще потеряно; Н. — латентный гомик, отсюда все его проблемы; у Фазиля — маниакально-депрессивный комплекс, который поддается лечению. Не уподобляюсь ли я теперь моему тезке д-ру Леви? В отличие от него клятву Гиппократа я не давал, нарушать нечего.
Суть того, что относится к Фазилю, сводилась к бессознательному переносу (в прямом и в психоаналитическом смысле) литературно-политической травмы в сексуальную сферу, на семейную почву — я об этом уже сказал пару слов в этой книге. Войнович увел жену у Камила Икрамова (пусть так — сама ушла), которого оба — Володя и Фазиль — почитали своим литературным гуру, и решился напечатать за бугром своего «Чонкина», на которого у него тоже был договор с «Новым миром».
То есть проявился, в отличие от Саула, как настоящий мужчина, — это я уже цитирую мой эскизный роман, который, настаиваю, не один к одному с прототипной реальностью. — Здесь, думаю, и взыграл в нем собственнический инстинкт, и всё сосредоточилось на ревности к жене. В его темном восточном мозгу — как бы он ни был индивидуально талантлив, а гены есть гены — произошло короткое замыкание: коли Кирилл украл у друга женщину, а у него литературный успех, то теперь под угрозой семейное счастье, которого у Саула на самом деле не было. Наверно, его жена давала основания для ревности, а уж Кирилл просто под руку пришелся, олицетворяя собой все мировое зло, которое вдруг ни с того ни с сего обрушилось на Саула. Он скиксовал, отступил, проиграл и теперь все свои комплексы обрушил на жену, которая чудом спаслась от сувенирного кавказского кинжала, подаренного почитателями и неопасно висевшего на стене в кабинете Саула. В психушке он пролежал недолго, вернулся образумившийся, но побочный эффект его вспышки был тот, что жена вынуждена была сделать аборт, опасаясь, что ребенок родится дефективный.
Что греха таить — так приблизительно и было: Фазиль ревновал жену к человеку, который решился на мужской поступок в иной, гражданской сфере, а Фазиль не решился. История достаточно драматичная, но могла кончиться и вовсе трагически. Фазиль действительно гонялся за Тоней с кинжалом. Ей чудом удалось увернуться, она выбежала на лестницу и пару дней пряталась этажом ниже у Сарновых. Фазиль продолжал ревновать, но за нож больше не хватался. Однажды Тоня шепнула мне:
— Вы даже не представляете, до какой степени я невинна!
Не мое, понятно, дело, но склонен ей верить — она кокетка, а не кокотка. Домостроевец по натуре, он разницы между кокеткой и кокоткой не чувствовал и в женщине — любой — осуждал саму их природу. Лена Клепикова как-то набрала Фазиля, когда мы с Жекой были в Коктебеле, чтобы выяснить значение какого-то иностранного слова — нашла у кого! Фазиль решил, что это просто повод, в семантические подробности вдаваться не стал, разговор свернул — нечего, мол, звонить, когда мужа нет дома. Это что! Историю звонка Лены Фазилю я знаю от Лены, а вот мой питерский приятель Женя Колмановский узнал о звонке своей жены от Володина, которому она имела неосторожность позвонить: Александр Моисеевич почел за долг дружбы и мужской солидарности предупредить Женю о поползновениях его жены. За доносом Володина последовал скандал, а потом и развод. Вот уж, воистину:
Не верь, не верь поэту, дева!
Заплаканную Тоню я встретил в писательской клинике на Черняховского.
— Они считают, что я псих и от меня может родиться дебил, — сказал мне Фазиль.
Несколько лет спустя у них родился, слава богу, здоровый мальчик, названный по имени главного героя искандерова эпоса Сандро — куда оригинальней, чем называть сына именем живого отца. Тем более в стране, где есть отчество: Булат Булатович Окуджава.
Что же до Фазилевой ревности, то я и сам дикий ревнивец, хоть и не гоняюсь с ножом за Леной Клепиковой, и ревность Фазиля как раз возвышает его в моих глазах. Его ревности я знаю реальную, но безотносительно к Тоне, причину — в отличие от своей.
В то время даже я, по cоветским стандартам вполне преуспевающий критик, историк литературы и член Союза писателей, почувствовал, как мне тесно в цензурных рамках отечественной литературы, и сочинил на питерском материале исповедальный и покаянный «Роман с эпиграфами» — «Три еврея»: о КГБ, о Бродском, о питерской атмосфере страха и удушья. Фазиль вернул мне рукопись с запиской, которая начиналась со слов «Замечательная книга», а дальше шли восемь мелких замечаний, из которых семь я учел, а восьмым — убрать матерщину — пренебрег. Так же, как его императивной просьбой по поводу самой записки: «Уничтожь!».
Это был мой первый роман, и получить такой отклик от писателя, которого я считал не только другом, но и классиком, было большой для меня поддержкой. (Есть, конечно, некий парадокс-анахронизм в том, что другой классик — Герцен — взял фамилию Фазиля себе в псевдоним.)
Я уже упоминал о странном личном интересе Фазиля к постскриптуму про звонок Геннадия Геннадьевича Зареева из КГБ.
— Ты кончаешь на самом интересном месте, — сказал Фазиль. — А что было дальше?
— Дальнейшее — молчание. Не о чем рассказывать. Дальше не было ничего. Литературный прием — оборвать на полуслове, заинтриговать читателя. Тебя например.
— Прием? Геннадий Геннадьевич Зареев — не прием, а живой человек. Что ты ему ответил? Он тебе больше не звонил? Ты с ним встречался?
— Я — нет. А ты?
— Я — да. Но тебе говорю единственному. Он взял расписку о неразглашении. Ты вот написал целый роман о встречах с КГБ, а я даже не решился кому сказать. Думал, голова лопнет. Тогда у меня крыша и поехала. А не от алкоголизма и ревности. Но как ты ему отказал? Послал его, да?
— Нет, конечно. Страшно занят, сказал, пишу «Роман с эпиграфами». Как и было. Да и о чем нам разговаривать? В Москве без году неделя, никого не знаю, даже настучать не на кого. Зареев хихикнул и повесил трубку.
— Ты отшутился, а мне не удалось, — взгрустнул Фазиль.
— От питерских мне тоже не удалось, — успокоил я его.
— Но ты написал про встречи с ними, а я — нет, — продолжал долдонить Фазиль.
— Даю слово, в следующем романе ни слова про гэбье. Пусть будет КГБ-невидимка.
— Ты пишешь еще один роман? — удивился Фазиль.
— Да. Про нас с тобой и про всех остальных. Держись меня подальше. Тогда я и в самом деле затеял московский вариант «Трех евреев», но из-за отвала не успел, и потом нет-нет да заглядывал в него как в черновик для своих «Записок скорпиона».
Меж нами с Фазилем чуть было не пробежала кошка, когда в Москву нагрянули Карл и Эллендея Профферы, мичиганские издатели русской неподцензурной, но и не антисоветской литературы. Меня познакомил с ними Войнович, он передал им рукопись «Трех евреев», а Искандера я попросил замолвить за меня словечко, коли мои «Евреи» привели его в такое возбуждение. Американов ждали давно, гэбуха была, конечно, в курсе и в боевой готовности, встречали их в Розовом гетто с распростертыми объятиями, они фланировали из квартиры в квартиру, передвижной этот пир стоял горой. Услуга за услугу — я был у Войновича на побегушках. Не помню, у кого в квартире я повстречал двух моих питерских дружков, само собой, бывших; один из них фигурирует в «Трех евреях». На следующий день Липкин с Лисянской устраивали в честь дорогих гостей нечто вроде банкета, на котором Фазиль обещал порекомендовать Профферам моих «Евреев». Для меня это было чрезвычайно важно, помимо авторского честолюбия: с неизданным антикагэбэшным романом я был открыт, уязвим, беззащитен перед КГБ. Фазиль все это отлично понимал. На следующее утро он явился с повинной:
— Я ничего не сказал им про тебя. Не было возможности. Там о тебе такое говорили! Кстати, как тебе удалось перебраться в Москву?
— А тебе? Из Ленинграда в Москву ближе, чем из Сухуми.
Я обо всем уже догадался. Заговор против меня последовал из Питера в столицу (а потом и в Америку, но это особый сюжет, всему свое время), КГБ мстил мне за отказ сотрудничать, а теперь еще за «Трех евреев», которых кто-то пустил в самиздат. Дошли ли они уже до гэбухи и моих бывших питерских дружков или слухами земля полнится? Скушнер явился к Длуголенскому, с которым я продолжал (и продолжаю) дружбу, и затребовал экземпляр, но Яша держался как партизан. Другой Яша, Гордин, с которым я раздружился еще в Питере, приехал в Москву и прочел «Трех евреев» у Володи Левина — из личного любопытства? по заданию КГБ? В любом случае интересы питерской литмафии и гэбухи на мне совпали, приблатненная писательская кодла была небрезглива в средствах, многие были коллаборантами. Вопрос, кто кого использовал: гэбуха писателей или писатели гэбуху? Брак по расчету — с обеих сторон, к взаимной выгоде. В инсинуациях против меня переезд в Москву фигурировал в качестве доказательства моих связей с КГБ.
От Фазиля я никак такого не ожидал и обиделся со страшной силой. И то, что не замолвил, как обещал, словечко за «Трех евреев», и что не защищал меня от инсинуаций, а теперь еще спрашивает про питерско-московский обмен, хотя тот весь проходил на его глазах, он был в курсе всех моих хождений по инстанциям, а наш общий друг Камил Икрамов (вкупе с Юнной Мориц) всячески мне помогал и буквально вытащил из Питера, подключив к борьбе высших чиновников, в том числе писательского начальника Сергея Михалкова и столичного мэра Промыслова. Я так и сказал Фазилю, что его трусливое молчание рассматриваю как предательство.
— Тебя очень трудно защищать, — вздохнул Фазиль. — Там такое о тебе говорили.
— Кто?
— Не скажу.
Говорить могли двое моих земляков, которые там присутствовали — Игорь Ефимов по личной инициативе, как честный Яго, и Женя Рейн, который уже обшмонал нашу московскую квартиру, — почему заодно не облажать меня, коли его об этом попросили? Вот кто был циничен и небрезглив! Могли и оба, общими усилиями, закладывать меня Карлу Профферу. Тогда я гадал, а теперь мне до лампочки.
Когда я пожаловался общему приятелю — Бену Сарнову, тот мудро посоветовал принимать людей, коли их любишь, какие они есть. Тем более Фазиля — психически травмированного, надломленного человека. Он уже совершил миграционный скачок из Сухуми в Москву, но в Москве чувствует себя неуверенно, пугливая лань, потому и сочинил автобиографическую притчу «Кролики и удавы»: их гипноз — это наш страх. Умом все понимает, но сердце уходит в пятки. И еще я уяснил себе раз и навсегда: у дружбы, как и у любви, есть пределы, а потому больше ни в ком никогда не разочаровывался.
С тех пор Фазиль вел себя по отношению ко мне безукоризненно, будто пытался замолить тот свой грешок. Когда мы с Леной вступили на диссидентскую стезю, образовав первое в советской истории независимое информационное агентство «Соловьев — Клепикова-пресс», нас перестали печатать и мы лишились писательских гонораров, Фазиль одолжил нам крупную по тем временам сумму, которую мы вернули, как только получили обратно взнос за кооперативную квартиру. Правда, все это было сделано тайно, и Фазиль взял с меня слово до поры до времени никому об этом не говорить, а то подумают, что он финансово поддерживает диссент. Однако именно этот наш кратковременный диссент реабилитировал нас в глазах Фазиля, укрепил и участил отношения.
В промежутке между этими денежными операциями информационные бюллетени «Соловьев — Клепикова-пресс» стали публиковаться в мировой прессе, и Фазиль, зная, что наш телефон теперь прослушивается, стал заходить без звонка. Зато — каждый день, а то и по нескольку раз. По своей природе я спринтер, а потому наша политическая активность продлилась недолго. К счастью — в противном случае мы загремели бы не на Запад, а на Восток. Кой-кому, однако, показалось, что мы затягиваем с отвалом, и Фазиль нас однажды попрекнул, что мы подводим друзей, ставя тех, кто выбрал иной путь, в сложное положение. Тогда я обиделся — мы засветились, были на виду, о нас трезвонили вражьи голоса, около нашего подъезда круглосуточно дежурила черная «Волга» с затемненными окнами, поступали анонимные звонки с угрозами, на Лену было покушение, мы и так были париями, а тут еще выслушивать подобные упреки от близкого человека. Теперь же, спустя годы, я лучше понимаю Фазиля: в тех, кто шел на конфронтацию с властями — будь то диссидентская деятельность либо просто подача заявления на эмиграцию, — была и в самом деле некоторая безоглядность, бесшабашность, в то время как остающиеся вынуждены были примеривать свой жизненный modus vivendi к обстоятельствам.
Полный вариант «Сандро из Чегема» вышел у Профферов в мичиганском издательстве «Ардис» спустя шесть лет после новомировской публикации, когда мы уже жили в Америке. Спустя еще десять лет прибыл на пару дней в Нью-Йорк и сам автор. Я боялся этой встречи — оказалось, зря: мы провели вместе несколько дней, как будто расстались только вчера.
Что меня поразило — в тот его приезд и в последующие — невосприимчивость Фазиля к новому, а в итоге — неприятие. Показываю ему Манхэттен — он торопит меня к нам домой к обещанной метаксе. В нью-йоркском сабвее по-московски домашним жестом кладет руку на плечо стоящему перед ним ниггеру и даже не обращает внимания, как тот окрысился. На Джонс-Бич, куда я повез его вместе с Тоней и Сандро, ввинтился в спор, доказывая мне, что нет принципиальной разницы между морем и океаном, который видит впервые, но исключительно количественная, и только когда океанская волна с головой накрыла его и разок-другой мощно крутанула, с трудом, пошатываясь, выбрался на берег и согласился, что Атлантический океан — не Черное море. Уже у нас дома, за столом, предлагаю ему виноград без косточек, и он тут же опять ввинчивается в штопор спора — что виноград без косточек быть не может по определению, как бы он тогда размножался?
— Да ты сначала попробуй, — говорю я этому виноградному знатоку виноградной Абхазии, родины «изабеллы», но там, как и по всей ныне распавшейся стране, счастливо миновали учение Менделя — Моргана, раскритиковав в пух и прах, а так как нешуточная, но анекдотичная борьба с генетикой велась в рамках борьбы с космополитами, все считали австрийского монаха Менделя евреем.
Впрочем, виноград без косточек я встречал еще у Мериме.
А за Фазилем я замечал это еще в Москве — его черепок переполнен впечатлениям детства и не сразу откликается на новые. Перебравшись в столицу, он так и остался вне тусы, чужаком, аутсайдером, изгоем. Короче, лицом кавказской национальности.
Вот причина его прокрастинации с изданием за рубежом «Сандро»: Фазиль уже совершил гигантский бросок, не только географический — с Кавказа в имперскую столицу, но и в русскую культуру; на еще один у него не хватало ни сил, ни мужества, ни душевного ресурса. Само собой, имею в виду не отвал из страны, а разрыв с официальной литературой. Тот скандал, о котором он мне писал в письме и на который так и не решился, и был тем самым выбором-риском, гениальную формулу которого вывел Паскаль: там, где в игру замешана бесконечность, а возможность проигрыша конечна, нет места колебаниям, надо все поставить на кон. Трагедия Искандера-писателя в том, что, если бы не его гамлетова нерешительность, большой талант соединился бы с исторической судьбой, и русских нобелевцев по литературе было бы одним больше. Да, убежден: Фазиль Искандер — несостоявшийся нобелевский лауреат, пусть это и внешний показатель. Они там, в Стокгольме, любят нацменов, которые жизнь своего народа превращают в миф, пусть и не на своем, а на великом, могучем, правдивом и свободном. Увы, Фазиль так и не стал тем, кого у нас тут, в Америке, называют the right man at the right time. Он опоздал, время вышло, поезд его судьбы скрылся за поворотом.
Как когда-то в Москве, в ЦДЛ, у меня даже афиша сохранилась, я делал теперь вступительное слово к его нью-йоркскому вечеру, который я же и организовал. Вдруг Фазиля понесло, и этот нетитулованный нобелянт стал отрицать забугорную русскую литературу. Кого он убеждал — слушателей или самого себя? Отторжение забугорных русскоязычников — отсиделись, мол, по америкам, франциям, германиям и израилям, пока мы там говно хавали, а теперь потянулись шаромыги на шару, на халяву, на готовенькое, в родные пенаты? Может, и сложнее: мигрантская трещина русского литературного мира прошла через Фазилево сердце, рана не заживала.
Как теперь — не знаю.
Последовавшие затем до глубокой ночи посиделки у нас казались еще одним знаком непрерывности наших отношений, несмотря на такой провал времени и пространства. Немало тому способствовала и семизвездная метакса. Он выпытал у меня то, что не удалось даже Довлатову, — точную сумму аванса, который мы получили за книгу об Андропове (американские газеты обтекаемо называли его «шестизначным», а «Известия» обобщали до миллиона — если бы!). «Милым и дорогим Леночке и Володе в память о нашей дружбе, которой, я думаю, не будет конца», — надписал он нам книгу своих стихов.
Пальцем в небо! Мы встретились еще пару раз — в Нью-Йорке, в Москве, во Внукове, где на стене висели вынужденно подаренные мной перед отвалом (Минкультуры не пропускало) литографиии Анатолия Каплана, но отношения не заладились. Причиной были все те же, будь они прокляты, «Три еврея», которые Фазиль принял с таким энтузиазмом в рукописи, а тут, уже под влиянием общественной реакции на две его нью-йоркские публикации — серийную в «Новом русском слове» и отдельной книгой, — стал всячески отговаривать от издания в России.
Честно, я опешил.
— Ты же сам был в восторге от романа! Тем более роман уже издан в Нью-Йорке.
— Там — другое дело. Тамиздат как самиздат.
— Ты что, забыл, какую записку мне тогда написал?
— Ты ее уничтожил? — спросил Фазиль, и я вдруг понял, что теперь его озабоченность не перед гэбухой, а перед вечностью.
— Я ее предъявлю на Страшном суде. Может, мне еще и сам роман уничтожить, коли я не могу его печатать?
— Зачем уничтожать? Подожди.
— Я ждал пятнадцать лет.
— Рукописи не горят.
— Не факт. Не дошло большинство пьес Эсхила, Софокла, Еврипида, очень выборочно — куски из «Истории» и «Анналов» Тацита. Да мало ли!
— Подожди еще.
— Что изменится? Что изменилось?
— Не кричи на меня, — сказал Фазиль. И вдруг: — Зачем старуху обидел?
— Какую старуху? — не понял я.
— Ну эту, как ее, с еврейской фамилией? — поставил меня совсем в тупик.
— Да мало ли еврейских фамилий! Рабинович, Лифшиц…
— Вот-вот! Гинзбург. Лидия Гинзбург.
Мне она и в самом деле не нравилась — ни как литератор, ни как человек, ни сама атмосфера почитания, о чем я и написал с открытым забралом в «Трех евреях». Спустя многие годы прочел ее посмертно изданные «Записные книжки», куски из которых она нам торжественно зачитывала: рационализм, вторичность, примитив и самодовольство. «Я несомненно была права», — пишет она. Если убрать из ее записок автора, то как книга литературных сплетен, пусть в большинстве известных от других мемуаристов, сойдет.
— Что, я не имею права сказать о ее вульгарных концепциях? Руссо родил Толстого, Толстой родил Пруста — и поехало!
— Какие, к черту, концепции! Ты написал, что она лесбиянка.
— Ах вот в чем дело! Единственное, чем она интересна. Представляешь, самодовольная рационалистка, кое для кого даже литературный гуру, а тут вдруг такие страсти, ссоры с домработницей на любовной почве и прочее. Ты что, с луны свалился? Совсем с ума ё*нулся? О Прусте можно, что нетрадиционной ориентации, а о старухе с еврейской фамилией — нельзя? И что зазорного в лесбиянстве? Кавказский ты человек, Фазиль…
Диаспора Фазиля
Возвратимся в семидесятые.
Это было время эмиграции самих писателей либо их книг: к примеру, «Верный Руслан», «Чонкин» и «Ожог» были опубликованы на Западе задолго до того, как туда перебрались их авторы. Эмиграции писательских тел предшествовала эмиграция их текстов. Для Фазиля проблема выбора была более сложной, чем для других. Однажды он уже эмигрировал — из Абхазии в Россию. Москва была для него чужбиной, а исторической, географической и какой угодно родиной навсегда остался Чегем.
То есть Абхазия.
Точнее — Искандерия.
Пользуюсь названием городка на юг от Багдада, чтобы обозначить страну, которой нет ни на одной карте — она вымышлена автором из детских импульсов, снов, слез и грез. С действительностью связана не больше, чем Фивы царя Эдипа и Антигоны с реальными Фивами, как Иерусалим Давида и Соломона или Афины Перикла и Фидия — с нынешними Иерусалимом и Афинами. Как жизнь с мифом. Единственному из совковых писателей, Фазилю Искандеру удалось мифологизировать сплетни, анекдоты, сказания и реалии своего племени, хотя аналогичные поползновения были у писателей-деревенщиков (особенно у лучшего из них — Василия Белова), у Гранта Матевосяна, Юрия Рытхэу, Анатолия Кима, Петра Киле и других «нацменов». Но они так и повисли между небом и землей, оставшись классными прозаиками. Что тоже немало.
Прожив большую часть жизни в Москве и будучи в ней лучшим русским прозаиком (даже если пик литературной деятельности этого восьмидесятишестилетнего шестидесятника уже позади), Фазиль всегда чувствовал себя в русской столице одиноко, на безлюдье, на сквозняке: «Отсутствие гор создавало порой ощущение беззащитности. От обилия плоского пространства почему-то уставала спина. Иногда хотелось прислониться к какой-нибудь горе или даже спрятаться за нее». Москва — диаспора Искандера, отсюда это чувство незащищенности, неуюта, сиротства и страха. Тогда как Чегем — некая опора либо (пусть так) ее видимость. «Лене и Володе — братски — новым американцам от старого чегемца», «Леночке и Володе — для меня вы из редчайших, кого зачисляю в чегемцы» — из десятка автографов на подаренных нам книгах чуть ли не каждый второй со ссылкой на его историческую родину, а в одном, когда мы уезжали из России, Фазиль помянул своего племенного Бога: «Леночке и Володе — дружески обнимаю с пожеланием счастливой судьбы в новой неведомой жизни. И да благословит вас Аллах!»
Не то чтобы Фазиль считал народ, из которого вышел — обитающих в Абхазии мифологических «чегемцев», — избранным, хоть и сложил о нем свое пятикнижие: рассказы, повести, три тома «Сандро из Чегема» и «Ночь и день Чика». Менее всего хотел бы он возвратиться на эту свою, скорее, метафизическую, или, как ныне принято говорить, виртуальную родину. И вовсе не потому, что нет пророков в своем отечестве, а Фазиля его соплеменники поначалу и не очень-то жаловали — во-первых, пишет не на родном языке, во-вторых, описывает Чегем-Абхазию не исключительно апологетически и проч. Как-то я даже сравнил отношение абхазцев к Фазилю с отношением амстердамских евреев к Спинозе. Постепенно, однако — у Баруха Спинозы после его смерти, у Фазиля Искандера в пределах его жизни, — соплеменники сменили гнев на милость и стали гордиться блудными сынами. Когда я был его соседом, заставал у него земляков, а когда, спустя сто лет одиночества, прибыл из Нью-Йорка в Москву, половина нашего пятичасового трепа с Фазилем у него на даче во Внукове и окрестностях была посвящена конфликту между грузинами и абхазцами, который носил пока что словесный характер: мы с Леной слушали, а Фазиль горячо объяснял нам историческую необоснованность грузинских притязаний на абхазскую территорию. (В ту же нашу побывку на родине мы повстречались с одним известным русифицированным грузином, который столь же горячо и не менее убедительно обосновывал противоположную точку зрения.)
Как ни силен племенной инстинкт, писательский инстинкт удерживает Фазиля вдали от родины. Ср. с Джойсом — тот и вовсе заказал себе путь назад в Дублин и даже на похороны матери не прибыл. Не только из отвращения к ирландской местечковости — скорее, из инстинкта писательского самосохранения: память сохраняет образ, а зрение его колеблет, искажает, сглатывает. Думаю, живи Фазиль в Абхазии, не стать бы ему таким значительным писателем, как стал он в России. Лучшая его проза — это следствие, а еще точнее — след, оставленный его ностальгией — по родине? по детству? по утраченному времени? по виртуальной реальности? «И я хотел бы пройти по жизни назад, как это удалось в свое время Марселю Прусту», — не без зависти писал автор «Зависти». Ибо Олеше это как раз не удалось — по крайней мере, в том объеме, как хотелось. Из русских прозаиков прошлого века разве что Бунин и Набоков вполне реализовали в литературе эту прустовскую мечту, причем последний не только в полумемуарном «Даре» и жанрово чистых мемуарах «Другие берега» (в нашем контексте больше подошло бы английское название «Speak, Memory»), но и чуть ли не в каждой книге, щедро раздавая свои юные годы вымышленным героям, кроша и кромсая тогдашние впечатления, о чем потом жалел. Не сделай он этого, «Другие берега» вышли бы втрое-вчетверо толще. Вспомним семитомный пробег обратного времени у родоначальника этой прозы Пруста.
«Усладить его страданья Мнемозина притекла» — Пушкин не разъясняет, справилась ли богиня памяти с поставленной задачей. Но не будь страданий, не было бы ни Мнемозины, ни литературы.
Олеше так и не удалось пройти назад по жизни, зато Бунину с Набоковым — удалось. А Фазилю Искандеру?
На каком-то кризисном этапе его литературной жизни Фазилю понадобилось решительно отойти от прямого автобиографизма таких его классных рассказов, как «Колчерукий», «Начало», «Дедушка», «Вечерняя дорога». Так появилось некое подставное лицо, заместитель и alter ego автора под псевдонимом Чик. «День Чика» был опубликован в Москве, а непроходимая ввиду психоаналической изнанки «Ночь Чика» чудом проскочила в ленинградской «Авроре» благодаря героическим усилиям редактора отдела прозы Елены Клепиковой. По причине отчуждения автобиографического героя, возникла не просто дистанция между творцом и его созданием, между ними еще протекло время, и как результат этого протекания — осознание детства как исторического, а не только биологического. А так как Фазиль Искандер родился в 1929-м, то с историческим временем детства ему как человеку не очень повезло, зато повезло как писателю. «Но как всегда, не зная для кого, твори себя и жизнь свою твори всей силою несчастья твоего» — этот стих Бродского можно счесть эстетическим постулатом, пусть обязательным не для всех. Безусловно — для Искандера. А посему, перед тем как перейти к счастливо-несчастному детству Чика, два слова о детстве его создателя. Часто суть не важно, кто писатель по происхождению, — как говорил Бабель, «хучь еврей, хучь всякий». Однако в судьбе Фазиля Искандера, который по матери абхазец, особую роль сыграла национальность его отца. Тот был персом, и однажды большой спец по национальному вопросу решил выселить наличествующих в его стране персов обратно в Иран. Там они, включая отца Фазиля, были встречены отнюдь не с распростертыми объятиями: шах решил, что Сталин подсылает к нему своих шпионов. Кстати, единственное рациональное обоснование этой иррациональной акции, но шах явно не был знаком с образчиками сталинского сюра. Мнимые сталинские шпионы были закованы в цепи и отправлены на рудники, мать Фазиля стала соломенной вдовой, он сам — соломенным сиротой. Вот откуда этот печальный, трагический привкус счастливого детства Чика, хотя об отце Искандер рассказал в другой своей книге — «Школьный вальс, или Энергия стыда». После смерти «отца народов» Фазиль предпринял поиски отца, и формально они увенчались успехом — он разыскал его через несколько месяцев после того, как тот умер…
Лакомство умных на пире во время чумы
Почему я ставлю телегу перед лошадью — повести и рассказы о Чике, а не куда более знаменитые «Созвездие Козлотура» либо «Сандро из Чегема»?
На упомянутом уже вечере в Нью-Йорке Фазиль сказал, что его работа идет по двум руслам — он хочет написать еще несколько глав о дядюшке Сандро и Чике. Так и оказалось. С Сандро, мне кажется, он немного переусердствовал, надо уметь вовремя останавливаться, нельзя эксплуатировать даже удачно найденный образ — не выдержит. Эпос вообще склонен к повтору и монотону, даже такой пародийный, плутовской эпос, как «Сандро из Чегема». Зато Чик был явно недосказан, перспектива не замкнута, детские впечатления не исчерпаны. Что еще важно: Искандер сам, сломав жанровую иерархию, уравнял в правах эпический жанр с лирическим, потому что верно понимал масштабы в искусстве, где иное стихотворение Баратынского или Тютчева не менее значительно и масштабно, чем «Война и мир» или «Братья Карамазовы». Назовем это чувством пропорции, которое не зависит ни от объема, ни от охвата.
Чик — лакомка, хотя вовсе не в гастрономическом смысле: «Чем слабее умственно человек, тем меньше он чувствует оттенки. Оттенки — это лакомство умных, вот что заметил Чик».
Оттенки — лакомство Чика, сиречь Искандера. Он приписывает юному герою не только свою наблюдательность и свои наблюдения, но и свою любовь к наблюдениям. Юрий Олеша огорчался, что Лев Толстой не сделал Левина писателем. Нечто подобное можно сказать и в данном случае, с одной, правда, оговоркой: передоверив Чику свою изощренную любовь к наблюдению, к слову, к оттенкам, Искандер по сути сделал из него писателя, хотя и не заявил об этом напрямую.
Искандер доверяет Чику потаенные свои мысли и наблюдения, но в нужную минуту, когда читатель уже готов усомниться в способности столь юного существа к ответственным, часто философским умозаключениям, автор самолично вмешивается в сюжет — в теории литературы это называется «пиранделлизмом», по имени создателя «Шестерых персонажей в поисках автора». Или вспомним Борхеса с его гениальным стихотворением о пражском рабби, создателе Голема:
В неверном свете храмины пустынной Глядел на сына он в тоске глубокой… О, если б нам проникнуть в чувства Бога, Смотревшего на своего раввина!Возникает двойная перспектива: Чик жадно вглядывается в окрестный мир, а Искандер, в свою очередь, любовно и слегка иронично наблюдает за своим наблюдательным героем. Добавим к этим двум наблюдателям третьего: читателя, который следит за писателем, который следит за героем, который следит за всеми остальными. Получается, как в шпионском детективе. Вот цитата — никакой анализ не заменит живого, пульсирующего потока искандеровской прозы:
«Своих товарищей Чик разделил на тех, кто чувствует, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое, и тех, которые этого не чувствуют. Обычно те, которые не чувствовали этого, были более губошлепистыми и счастливыми детьми. Чик чувствовал, что незнание делает их более беззаботными и веселыми точно так же, как знание делает людей более уязвимыми. Чик это знал. Вернее, он это знал, но не знал, что знает».
Подчеркиваю ключевые эти слова, чтобы наглядно продемонстрировать присутствие авторского «я» внутри художественной структуры.
Чуткость к слову — постоянное свойство Чика. Когда его приятель Оник, увидев в море корабль, радостно кричит: «Корабель! Корабель!!!» — Чику кажется, что «красивый, стройный корабль как-то скособочился оттого, что Оник его неправильно назвал».
Стилевой принцип иносказания позволяет Искандеру сочетать точность с изяществом, изысканность с непринужденностью: «Садовые розы — красные, белые и желтые, до того похожи на масло, что хотелось их намазать на хлеб». Про приятеля, который хромает и заикается, Чик думает, что он как бы прихрамывает на язык и заикается на ногу. (Ср.: заика Сомерсет Моэм сделал героя автобиографического романа хромоногим с рождения — с деформированной ступней.) О девочке Нике: «Она ходила, узко переставляя свои длинные ноги, словно стремилась как можно меньше соприкасаться с пачкающим ее пространством».
О, эта вечная тревога — «Слова, слова, слова!», этот писательский инстинкт самосохранения, боязнь уже однажды найденных слов, страх перед тавтологией, мучительное желание весь мир обозначить заново! Что, скажем, делает бабочка? Летает? Но ведь летают и птица, и самолет, и Икар с Дедалом, и дубовый листок, оторвавшийся от ветки родимой, подхваченный ветром и отправленный в вечный полет Лермонтовым. Современный писатель — дедуктивист: он идет от общего к частному, восстанавливая живую конкретность, и если бабочка у него только летает, плохи его дела. Рифы банальности, общие места, Сцилла и Харибда словесного попугайства подстерегают литературу на каждом шагу. Так что же делает бабочка?
«Щенок жалобно смотрел на Чика, но тут у самой его морды заструилась большая усатая бабочка с красными, в черных пятнах крыльями.
“Ну и не надо!“ — мотнул щенок головой и, одновременно щелкнув зубами, хотел поймать бабочку, но та мягко отпрянула в воздухе, и страшная пасть захлопнулась возле нее. Щенок от удивления вытаращил глаза и даже облизнулся, чтобы убедиться, что это летает не другая бабочка, а та же самая: до того он был уверен, что защелкнул ее пастью. Раздраженный сплошными неудачами (то Чик не захотел с ним поиграть, то эта бабочка не захотела падать ему в пасть), он бросился за ней. Бабочка не спеша струилась в воздухе, и щенок, догоняя ее, несколько раз громко щелкал зубами, но та каждый раз сдувалась в сторону и лениво мерцала над лужайкой двора.
Наконец щенок ей надоел, и она залетела за косогор».
Глагольное это возобновление реальности действует безошибочно, ибо новые слова (заструилась, отпрянула, сдувалась, мерцала, залетела) найдены со снайперской точностью. Писательство и есть стрельба по движущейся мишени, приблизительность тут немыслима: либо ты попал, либо нет. Стоит сравнить хрестоматийное описание бабочек у Аксакова с искандеровским, чтобы понять сдвиг традиции, производимый современным автором: смысловой акцент перенесен с эпитета на глагол, с описания на действие. У Аксакова бабочка — статичная, коллекционная, наколотая на булавку и рассматриваемая сквозь стекло. У Искандера — живая: ее неровный, словно однокрылый полет увиден заново, достоверность восстановлена.
Конечно, такое описание было бы невозможно без литературной подсказки профессионального энтомолога Набокова — говорю не только о сюжете, но о поэтике. У Искандера они связаны более тесно, чем у большинства современных русских писателей. Это и позволило ему печатно — в пределах подцензурной советской литературы — выразить свое отношение к сталинизму в самый разгар застойной эпохи, когда всем другим было заказано и уже готовые сочинения Аксёнова, Алешковского, Владимова, Войновича, Гроссмана, Солженицына и Шаламова тайком переправились за кордон.
Чуждый прямоговорения, этого антипода литературы, Искандер в самый разгар застойной эпохи с помощью художественного иносказания ухитрился выразить в цикле о Чике свое отношение к времени, на которое пришлось детство его героя — и детство самого автора. Говоря о художественном иносказании, я имею в виду вовсе не Эзопову феню. Тем более сам Искандер цитирует Гегеля, а тот считал басню рабским жанром — Фазиль постарался запомнить это определение, чтобы в буду щем по ошибке не написать басни. Ошибку такую он, тем не менее, совершил, сочинив «Кроликов и удавов», растянутую на полтораста страниц басню. Ну ладно, притчу. Однако в «Ночи и дне Чика» и примыкающей прозе характеристика исторического времени дана не публицистически, а художественно. И дело тут не только в отдельных сюжетных деталях — скажем, отец Ники «довольно часто танцевал при большом начальнике, который оказался вредителем», и теперь Ника ждет, когда же отец возвратится наконец из своей бессрочной командировки, догадываясь, что — никогда. Художественное иносказание — это и общая тональность повести, и ее ключевая метафора: колымага собаколова — что-то вроде телеги с мертвыми телами у Пушкина: как напоминание пирующим о чуме. Счастливое детство Чика и есть такой пир во время чумы, ибо время, на которое оно пришлось, — зачумленное. Потому Искандер и выбрал для сюжета всего только один день из этого детства, чтобы подчеркнуть, что хоть он и тянется медленно, как арба, а все равно ему положен зримый предел — не только неизбежно наступающей ночью, но и обступающим юного героя со всех сторон политическим мраком. Хотя, конечно, описание одного дня из жизни Леопольда Блума также, наверное, сыграло кое-какую роль в «однодневном» замысле Искандера.
Два времени совместились в одной повести — стремительное, клочковатое, напряженно-подозрительное время взрослых и растянутое, бесконечное, словно снятое замедленной съемкой время Чика. В точке их соприкосновения возникает разряд, который зовется художественным эффектом.
Теперь до меня наконец дошло, почему из всех моих статей о нем Фазилю больше всего приглянулась рецензия на «Чика». Эта моя любимая у него вещь, а потому и статья удалась больше других.
Ряд волшебных изменений милого лица…
«Чтобы дослышать все оттенки лиры Баратынского, надобно иметь и тонкий слух, и больше внимания, чем для других поэтов», — писал Иван Киреевский. Случаются, однако, и более курьезные истории, когда нужен более тонкий слух, чтобы дослышать новые оттенки у прежде любимых авторов, а оттенки, как мы помним, лакомство умных. Ницше, к примеру, считал, что у немцев нет пальцев для нюансов. Из истории литературы нам известно, как к концу 20-х — началу 30-х годов XIX века читатели потеряли Пушкина, решив, что он исписался. Любители «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника» и «Гаврилиады» отрицали и «Домик в Коломне», и «Повести Белкина», и «Маленькие трагедии». Говорить о «Борисе Годунове» в литературных салонах того времени считалось дурным тоном, последним главам «Евгения Онегина» читатели противопоставляли заученные наизусть первые. Вспоминаю об этом не для того, чтобы сравнить Искандера с Пушкиным, но — современного читателя с прошлым: похожи.
Что удивительного, если привычка — вторая натура. В том числе у читателя. Инерция читательского представления о писателе может сослужить последнему дурную службу, если он станет этому представлению потворствовать — выдавать лишь то, что от него ожидают. С Фазилем этого, слава богу, не произошло, хотя заплатил он за свою независимость от читателя известным охлаждением к нему аудитории где-то в середине 70-х. В период гласности этот разрыв был преодолен — читатель нагнал писателя, и если их пути опять разошлись к концу 90-х, то по иным причинам, касаться которых не стану ввиду их общеизвестности: читатель отхлынул от литературы вообще, а не лично от Искандера. Заслуживает внимания предыдущая история.
Когда профессиональный журналист Фазиль Искандер начал писать стихи, это задело самолюбие главного редактора газеты, который тоже писал стихи: для одной газеты двух поэтов оказалось слишком много, Фазилю пришлось покинуть редакцию, он сосредоточился на стихах, выпустил несколько поэтических сборников. Потом профессиональный поэт опубликовал в «Новом мире» гротескную повесть «Созвездие Козлотура», и для большинства читателей она заслонила прежние и последующие стихотворные опыты Искандера. Это как раз справедливо — у него есть хорошие стихи, но им далеко до его прозы. С этой повести, собственно, и началась всесоюзная слава Фазиля Искандера.
Главный герой в этой сатирической повести — рогатый гибрид козлотур, гипербола мнимости, директивно возведенная в разряд реальности. Главный герой этой лирической повести — сам автор. Вот он делает необязательное отступление в собственное детство — не играя никакой роли в фабуле «Созвездия Козлотура», мемуарный этот экскурс служит своего рода противовесом: это внешнее и мнимое, имя ему — козлотур, а это нутряное и истинное — жизнь автора-героя, независимая от козлотурной интриги. Между двумя этими сюжетами, основным и вставным, протянут соединительный мостик — «тонкий, как волос, и острый, как меч», если воспользоваться гениальной метафорой из священной для предков Фазиля книги, Корана.
«Созвездие Козлотура» — это лирическая повесть, открещивающаяся от сатирического объекта. Это медитативная реакция на сатирическую ситуацию. В жанровом плане — парадоксальное сосуществование иронии и лирики, смеха и медитации.
И вот, выдвинувшись благодаря «Козлотуру» в первые ряды русских прозаиков, Искандер и тут вильнул в сторону от им же проторенной дороги и от шестидесятничества в целом: стал писать рассказы, где сатира исчезла вовсе, а юмору пришлось еще больше потесниться, ибо жанровый и семантический упор перенесен на лирическое и философское восприятие реальности. Одновременно эти рассказы были смешными, и читатель с облегчением признал в них любимого автора — встреча со знакомым незнакомцем. Зато в «Детстве Чика» (название, данное им для объединенного цикла про Чика) Искандер предстал перед своим читателем вовсе неузнаваемым, и хотя это одна из лучших его вещей, она прошла незамеченной: читатель ее встретил равнодушно, критика — молчанием. Моя статья в «Дружбе народов» была чуть ли не единственным откликом. Писатель в своем движении обогнал читателя, который был захвачен врасплох, не понял что к чему.
Тем временем с Искандером происходили дальнейшие метаморфозы. Даже затянутая и прямолинейная притча «Кролики и удавы» была в контексте продолжающихся измен Фазиля Искандера Фазилю Искандеру — прежнему.
Не только сам писатель, но и, как бы независимо от него, его проза повела себя несколько странно. Уже опубликованные рассказы обнаружили вдруг тягу друг к другу. Выяснилось, что их самостоятельность относительна, условна, что помимо темы, места действия, героев и стиля их объединяет нечто большее. Оказалось, что при объединенном чтении выигрывает не только цикл — количественно, но и каждый рассказ в отдельности — качественно, освещенный (и освященный) общей идеей, общим замыслом.
Предположим даже, что первоначально этого общего замысла у Фазиля Искандера не было, он появился в процессе работы. Удивляться здесь нечему, ибо долог путь даже от поднятого кубка до губ, как считали древние греки. Тем более — от замысла до исполнения. Литературный замысел может меняться катастрофически по мере продвижения к цели, которая, в свою очередь, претерпевает изменения. Редко какой замысел остается неизменным по мере его воплощения. Фазиль, к примеру, даже Пушкина упрекал в том, что в «Маленьких трагедиях» он, «не дождавшись, пока каждый замысел созреет, чтобы стать художественной едой, ограничился гениально законсервированными замыслами…Можно отдегустировать, но пить как бы нечего, все как-то самоулетучивается».
Это из его письма по поводу моих, наструганных из диссертации статей про Пушкина. Понятно, я с ним не согласен в оценке, но по сути, безотносительно к Пушкину, он прав: художественный результат не равен первоначальной задаче, нам не дано предугадать не только, как наше слово отзовется, но даже каким будет следующее слово. Литературная судьба писателя имеет свой драйв, часто не менее занимательный, чем сюжеты его произведений.
Один из ключевых своих рассказов «Колчерукий» Искандер начинает фразой, полной глубокого сожаления: «Я уже писал, что однажды в детстве…» Может быть, он даже жалеет, что не взялся за свой чегемский эпос сразу, разбазарив материал по рассказам, а посему обречен ссылаться на самого себя и себя цитировать. Сюжеты обрастают у него вроде бы посторонним, а на самом деле формирующим его прозу материалом, ибо, как известно, есть разница между формой сформированной и формой формирующей. Forma formata — forma formans.
Я люблю приводить гениальные слова Мандельштама: «Сила дантовского сравнения прямо пропорциональна возможности без него обойтись». Той же природы отступления и метафоры Искандера — без них можно обойтись, но еще неизвестно, что важнее в его прозе: сюжет или отступления от него. «Но вернемся к нашему изрядно поднадоевшему сюжету», — вовремя одергивает себя Искандер, «не допуская руку до блаженства», но совершив предварительно далекий и произвольный экскурс в сторону. Сам Искандер определяет свой метод, как «замедленный полет стрелы». Есть соблазн назвать его витиеватый, с метафорическими завитушками стиль литературным барокко, но ведь любой смысл зиждется на эффективности уподобления, само понимание есть, в сущности, не что иное, как уподобление. См. об этом у Валери: «То, что ни на что не похоже, тем самым непостижимо… Утратить образ — значит утратить смысл». Он же предупреждал и о противоположной опасности: «Ограничиться образом — значит утонуть в множественности». Что Искандеру не грозит: его образ — подвижный, изменчивый, крутые метаморфозы — главный его писательский инструмент. Сама цель в литературе не статична, а изменчива: меняет свои координаты, как движущаяся мишень. Литературный процесс сам по себе есть меняющаяся цель и неведомый результат.
Страна Искандерия
Итак, начав с замкнутых произведений, Фазиль Искандер пришел к их цикловому объединению. От цикла он перешел к роману, который — в его случае — метаморфоза цикла рассказов. «Сандро из Чегема» — роман, образованный центростремительной силой рассказов, тяготеющих к единству.
При фабульной законченности каждого из вошедших в «житие» Сандро рассказов они в то же время сцеплены между собой общей идеей о непрерывной протяженности человеческой и исторической жизни. Рассказа либо даже цикла рассказов было бы недостаточно — взятый в отдельности, в одиночестве, рассказ выглядел бы как анекдот, а цикл рассказов как коллекция анекдотов.
Но и традиционный роман утяжелил бы фольклорного героя и вынудил бы писателя выискивать психологические мотивировки там, где они излишни. Компромисс между двумя жанрами привел к появлению нового, соответствующего избранному герою — ему по росту, по его историческому и литературному росту.
Искандер сочинял свой роман в споре с романной традицией, хотя, скажем, образ девочки Тали напоминает Наташу Ростову, да и вообще влияние Льва Толстого на Искандера не менее очевидно, чем Набокова, Олеши, Бабеля. Помимо литературных, он брал у Толстого еще и уроки морали, что позже приведет Искандера к ригоризму, сделает его поздние сочинения похожими на средневековые моралите.
Помню наши с Фазилем на эту тему споры. Я ссылался на два авторитета: на Пушкина и на моего рыжего кота Вилли. «Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона, — писал Пушкин на полях статьи Вяземского. — Поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело». Что касается Вилли, то он, пока мы с Фазилем спорили, гонялся, за неимением ничего более достойного, за собственным хвостом — занятие, которому мог предаваться бесконечно. Устав от Фазилевой риторики о нравственной сверхзадаче литературы, я привел моего кота в качестве адепта чистого искусства: творчество — игра, цель — поймать себя за хвост. К тому времени мы были уже слегка поддатые, Фазиль был шокирован моим сравнением, но потом рассмеялся и стал сочувственно следить за тщетными попытками Вилли цапнуть себя за хвост.
Да простит мне читатель эту реплику в сторону. Что меня интересует — оправдана ли жанровая метаморфоза, которую произвел с романом Искандер, скрестив его с фольклором, с мифом и с житием? Один из редких случаев создания мифа в современной литературе. (Два других — Габриэль Гарсиа Маркес и Уильям Фолкнер.) Само появление мифологического героя было не очень своевременно. Это чувствовал, по-видимому, и автор, иронизируя над ним, подчеркивая старомодность и некоторую даже оперность его фольклорной фигуры. Получается так, что, с одной стороны, Сандро корректирует течение современной прозы, а с другой, современная проза, в свою очередь, меняет очертания былинного персонажа и самой агиографии как все-таки старомодного жанра литературы.
Эпос помножен на быт, пафос соединен с усмешкой. Иконописность размыта, хотя и не уничтожена вовсе — не богатырь, а балагур, не Тимур, а тамада. Впрочем, немного и богатырь, немного и Тимур. Образ выстраивается ассоциативно — как сцепление различных черт и далеко не однозначных поступков. Вспомним: Ходжа Насреддин удален от нас во времени — его четкий образ проецируется на размытом историческом фоне. Иное дело Сандро — человек ХХ века, наш современник, свидетель событий, которые не успели еще стать историческими сгустками. Искандер дает сослагательную предпосылку его жизни: «Его могли убить во время гражданской войны с меньшевиками, если бы он в ней участвовал. Более того, его могли убить, даже если бы он в ней не принимал участия».
Фазиль не раз возвращался к моему «кошачьему» аргументу и продолжал отстаивать нравственные функции литературы. «Но не учительские!» — не сдавался я. С этим он соглашался. Учительство ему в то время претило и в Гоголе, и в Толстом, и в Солженицыне. Его спасение — в чувстве юмора, а демократизм и терпимость он сохранил, несмотря на славу.
Вполне возможно, что когда-нибудь в будущем жанровая тяга малых форм к интеграции сменится тягой к разрыву, к распаду, роман снова станет циклом, и от циклов останутся лучшие рассказы, которых у Фазиля Искандера наберется десятка два как минимум. И они несомненно войдут в состав классической русской литературы.
Фазиль Искандер — один из писателей эпохи застоя. Мне вообще кажется, что в брежневское время в Советском Союзе были написаны прекрасные книги. Это время оказалось для литературы более плодотворным, чем предшествующее хрущевское и последующие — горбачевское, ельцинское, путинское. Зерно было брошено в землю в «оттепель», при Хрущеве, а взошло при Брежневе, в самое, казалось, неподходящее для литературы время. Нет, нет, я далек от желания снова увидеть на русской литературе цензурный намордник.
Меньше других — на Фазиле Искандере.
При том, как читателю известно, я не отношусь апологетически ко всем шестидесятникам скопом и полагаю, что большинство из них задержалось на исторической сцене: покойники, которые ни за что не хотят улечься в заждавшиеся могилы. Фазиль Искандер — явление индивидуальное и уникальное, для которого приписка в паспорте не значит ничего. Либо ему удалось вырваться из плена 60-х, порождением которых он, несомненно, является. Один московский критик назвал Эрнста Неизвестного худшим из евтушенок. На этой шкале Фазиль Искандер — лучший из евтушенок. А может, он и вовсе не евтушенко?
Посвящение-2. Искандеру, Войновичу, Чухонцеву, Икрамову: сердца четырех
Эскиз романа
Закрыв глаза, я выпил первым яд…Я вовсе не уверен, что мне удастся этот сказ, но и другого выхода, как сесть за него, у меня нет, так как лучший из нас рассказчик умер этой весной в Париже, а два других члена нашей ложи слишком пристрастны, чтобы рассказать о том, что нас разбросало в разные стороны, а ведь как неразлучны были! По идее, я должен был дать слово каждому, включая покойника, но для этого надо обладать талантом прозаика, я же всего лишь поэт, а сюжет явно нестихотворный.
Иногда я думаю, что виной всему жилищные условия в нашей столице, куда мы попали почти одновременно, но на разных, что ли, основаниях. Больше всех повезло тому из нас, кому больше всех не везло прежде и не повезло после: сразу по освобождении Тимур вместе с денежной компенсацией получил комнату в коммуналке на Беговой — место наших регулярных, по четвергам, сборищ даже после того, как Тимур привел туда свою вторую жену (первую, лагерную, он оставил в Алма-Ате). А спустя еще полгода приютил в ней Кирилла, которому совершенно некуда было деться в Москве. С этого, собственно, все и началось, но не сразу, а обнаружилось еще позднее.
Теснота нашего советского общежития — питательная среда для такого рода конфликтов, а здесь тем более не любовный треугольник, а по крайней мере пятиугольник: на более просторных квадратных метрах этот сюжет заглох бы в зародыше, если бы и возник. Мы с Саулом жили тогда в общежитии Литинститута на Добролюбова, пока ему не повезло жениться на москвичке. Ко мне тогда подселили моего земляка, ленинградского критика Владимира Соловьева с его скандальным паблисити, неуживчивым характером и праздным умением по любой книге безошибочно отгадывать, кто ее автор — еврей или нееврей. Никакого отношения к этому сюжету он не имеет, у нас с ним был свой сюжет, как-нибудь — будет время — расскажу.
Наш квартет был маленьким интернационалом, я один был представителем большинства, а потому в меньшинстве: русский как нацмен. Тимур был узбек, Саул караим, Кирилл, которого мы звали Мефодием, болгарин, но с припи*дью — надо ли объяснять какой? А главное, мы были провинциалы и в лучших бальзаковских традициях приехали завоевывать столицу, хотя иного оружия, кроме литературы, у нас не было, да оно нам и не нужно было: литература в то время заменяла все остальные функции общества — так, по крайней мере, казалось. А вот чего у нас не было, так это богов, хотя живы еще были Ахматова с Пастернаком, вокруг которых роились ленинградцы и москвичи. Мы над этой кумирней только посмеивались, потому что сами ходили в богах и признавали первым среди равных нашего удачливого неудачника: Тимур был нашим учите лем, вожатым и гуру, и вовсе не потому, что несколькими годами старше. Два прозаика, один поэт и один никто — этот никто и стал нашим учителем, потому что был самым свободным из нас. В литературе он был неудачник — потому и никто. О жизни я сейчас не говорю, хоть он и опередил всех и ушел из нее первым, но здесь начинается какой-то иной счет, да и неизвестно, что нам еще предстоит, и где здесь удача, а где неудача — кто знает?
Нельзя сказать, что Тимур был бездельник, хоть и гедонист, что так понятно после его двенадцатилетних мытарств и в предвидении его мучительной смерти! Скорее уж, он был недостаточно честолюбив либо излишне бескорыстен — признаться, не очень уверен, какая именно характеристика ему подходит больше. Выйдя на волю сравнительно молодым — в двадцать восемь, а посадили в шестнадцать! — он услаждал себя тем, что было у нас с ранней юности, а у него появилось только сейчас: свободой, независимостью, женщинами, друзьями, отдельной комнатой — и славой. Да, да, славой, но — догутенберговой, изустной, фольклорной: он был великий сказитель, мы знали его байки наизусть, и каждый раз, когда появлялся новый слушатель, не уставали дивиться его устным новеллам заново, а заодно и реакцией на них новичка. Я и своего нового соседа по общаге привел как-то к Тимуру, заранее предвкушая его реакцию, — и не ошибся! Соловьев и в его генетической амальгаме отыскал искомую хромосому — бухарско-еврейскую. Мы могли слушать байки Тимура до бесконечности, до умопомрачения, как любимую пластин ку, и, когда рассказчик что-нибудь забывал или менял какую-нибудь деталь, мы подсказывали либо поправляли. А может быть, он ничего не забывал, а только делал вид, что забыл, и ждал нашей подсказки, и это было частью его тщательно подготовленного номера? Дошло до того, что мы уже просто заказывали ему рассказы, когда появлялись новые слушатели:
— Давай про лагерных бл*дей!
— Нет, лучше как ты читал зэкам Маяковского о советском паспорте!
Тимур садился прямо на пол, скрестив по-восточному ноги, в неизменной своей тюбетейке, похожий скорее на какого-нибудь бая, чем на писателя, а мы располагались вокруг и как завороженные слушали его жуткие и невероятно смешные истории. Репертуар его был не так чтобы очень велик, и постепенно он расширял тематику, от лагерной жизни его потянуло на среднеазиатское детство — помню историю про то, как гордый отец приучал его скакать на коне. Тимуру всего семь лет было, а конь без седла, вот он и стер мошонку до крови, но — праздник, гости, отцовская гордость, и Тимур терпел до конца. Он даже Сталина помнил — как тот держал его на коленях в каком-то правительственном санатории, а отец с Кагановичем о чем-то спорили.
— Сталин меня тоже запомнил, — говорил Тимур. — Отца с матерью расстрелял, а потом три года ждал, пока мне шестнадцать исполнится. И тогда только арестовал. Закон есть закон, несовершеннолетних сажать нельзя. Законник был, буквоед…
Такой юмор был уже за пределами моего понимания, я глядел на жирное, с заплывшими глазами, доброе восточное лицо Тимура и удивлялся, что у него нет горечи, нет обиды за вычеркнутые из жизни двенадцать лет. Он догадывался о моих мыслях, подмигивал мне и повторял:
— Не горюй — будущее всегда впереди…
Забыл сказать, я был не только единственный представитель титульной нации, но и самый младший, а потому боготворил Тимура. Наше будущее и в самом деле было впереди, но не его — жизни ему тогда оставалось всего семь с половиной лет.
Вы спросите, почему я не пытаюсь пересказать здесь одну из Тимуровых лагерных баек, а ограничиваюсь впечатлениями слушателей? И пробовать бесполезно, коли самому Тимуру так и не удалось перенести свои истории на бумагу, а ведь он пытался! Тогда-то, думаю, и перегорело его честолюбие — если только оно у него имелось, — когда дошло до него, что граница между устным и письменным жанром, по крайней мере для него, непроходима. Он стал часто ссылаться в это время на Сократа и Иисуса, но не было с ним рядом ни Платона, ни Иоанна Богослова, ни на худой конец Эккермана или Босуэлла, и эта моя попытка тщетна. Так и не останется ничего на бумаге от рассказов Тимура, и вместе с нами, его слушателями, он умрет повторно и бесповоротно. Я же хочу рассказать, что с нами стряслось, а уж читателю придется принять на веру, каким гениальным и бескорыстным был лучший из нас, наш друг и учитель. Все, что от него осталось, кроме нашей памяти о нем — эстрадные песенки, детские книжки, публицистика, исторический роман, — даже отдаленного не дают о нем представления, как будто и не он писал.
Единственное исключение — «Комментарий сына к делу отца», который он сочинил сразу же по возвращении в Москву, а когда посмертно книга была напечатана, то прошла незамеченной, потому что к тому времени вся эта антисталинская литература читателю обрыдла. А появись вовремя — произвела бы фурор. В этой книге двойной сюжет — дело отца и расследование сына, которое Тимур начал с попытки обелить отца от гнусных наветов (тот проходил одним из обвиняемых на знаменитом процессе Бухарина — Рыкова), а кончил, покопавшись в архивах и разобравшись что к чему, личным обвинением отцу: до того, как стать жертвой, у себя в Средней Азии сам был палачом и верным сталинским сатрапом. Мы поражались мужеству Тимура, но либералы, которым довелось прочесть рукопись, крепко осудили его одинокую и безжалостную позицию. Тогда я впервые понял, что нет ничего отвратительнее русского либерализма — разве что русский национализм.
Я и сейчас так думаю.
Мы были литературными побратимами, наш союз носил откровенно цеховой характер, не было для нас более увлекательной темы, чем рассуждать о книгах и об авторах. Сплетни, что мы гомики, не имели под собой никаких оснований — разве что один из нас, но он увлекался этим на стороне, за пределами нашей профессиональной корпорации: как говорится, его дело. Сплетни эти прекратились, как только женился Тимур, а за ним вскоре и Саул. Я даже думаю, что, не поторопись Тимур со своей женитьбой, я бы еще долго жил в одной комнате с Саулом на улице Добролюбова. Да и кто, кроме учителя, решился бы нарушить негласный устав нашего собратства.
Когда он познакомил нас с этой быстроглазой девицей, мы поначалу растерялись и встревожились, однако очень скоро стало ясно, что она не нарушит, а скорее скрасит наш мужеский союз. По сути, она стала нашей общей женой — говорю, естественно, не о постельных отношениях: обшивала нас, готовила, мы все стали ухоженнее и приличнее, а так не очень обращали внимания на эту сторону жизни, одевались кто во что горазд и уж ели все, что придется. Она была наша сестра, заботливая, нежная и ненавязчивая, смягчая не только наш быт, но и наши манеры своим женским присутствием. Звали ее Наташа: учительница русской литературы, она могла на равных принимать участие в разговорах и что-то такое вякала — с уклоном в теорию, но достаточно поверхностно, чтобы никого не утомлять. Она переехала к Тимуру, потому что привести в квартиру родителей сразу четырех мужиков не решалась. А комната у Тимура была огромная, метров пятьдесят, и совершенно круглая — потому и досталась ему, что никто другой не брал: как так, без углов? Косное все-таки сознание у москвичей!
Конечно, мы о Наташе сплетничали понемногу. Как-то, возвращаясь в общежитие, я спросил у Саула, как ему Наташа? Саул удивился:
— Что ты имеешь в виду?
— Ну, как женщина она тебе нравится?
— Я на нее как на женщину не смотрю, — сказал Саул, устыдив меня, потому что я как раз нет-нет да ловил себя на том, что смотрю на нее как на женщину, а не как на жену друга.
Да и с Саулом не все так просто, как я потом понял. Это была не мораль, а табу: он запретил себе так смотреть на жену друга. И чтобы это табу соблюсти, поторопился жениться сразу же вслед за Тимуром. И жену выбрал по имени — ее тоже звали Наташей.
А разве не есть высшее доказательство дружбы — одобрить безупречный вкус друга, влюбившись в его жену? Если нам близок друг, то почему не его жена? И надо ли подавлять такое естественное желание либо дать ему волю, презрев собственнические представления мужа о жене? Почему она должна принадлежать ему одному — разве это по-дружески? И уж если ее делить, то лучше всего, конечно, среди друзей, то есть среди своих. И с кем еще, как не с женами друзей! Почему мы можем разговаривать с ней, а спать не должны? Мы завязли в предрассудках, в этом вся беда.
Тогда я, конечно, еще так не думал, а поймав себя на запретном желании, ужаснулся его аморализму. Ладно бы жена друга, но Наташа была женой друга-учителя, и моя страсть к ней была перебросом моей любви к учителю, которой я тоже побоялся дать развиться, подозревая у себя латентную форму модного извращения. Шагу было не ступить, жил среди сплошных запретов, о чем сейчас жалею. Вот почему я так поразился прыти нашего побратима, который говорил впоследствии, что подсказку получил от самого учителя, когда тот недолго ходил в холостяках, приехав в Москву из Казахстана. Помню его рассказ — правда, там шла речь не о жене, а о малолетней дочке, которая входила в возраст, и Тимур в запретных своих мечтах боялся, что пропустил уже время. Дочь — не жена, объяснял нам временный холостяк Тимур, который даже предполагал тогда, что его местный друг — а было это все в том же Казахстане, где Тимур отбывал ссылку, — ничего бы не имел против, и оказался прав:
— Но сколько мучительных ночей, сколько недель и месяцев понадобилось мне, чтобы снять этот запрет! — возводил руки наш учитель. — Скажу вам больше — отец обижался за дочь, видя мое равнодушие. А вы думаете, влюбленный муж не обижается, если вы не замечаете прелестей его жены? В том и секрет, что он хочет того, в чем себе не признается: поделиться своей женой, похвастать ею, одолжить гостю или другу на ночь, чтобы тот убедился, каким сокровищем он обладает.
Вот почему я говорю, что какой-нибудь там чукча, предлагая гостю жену, нравственно и человечески стоит выше нас, потому что соответствует себе, а мы — нет.
Я не хочу, чтобы у читателя создалось неверное представление о Тимуре: менее всего наш учитель был дидактичен, а потому всегда уводил свой рассказ от морали в иронию. Этот у него кончался так:
— А нам каково? Что жена, что дочь — все едино, чистая мука смотреть, как они проходят мимо и кружат вокруг нас и кружат, и продолжать как ни в чем не бывало болтать с их мужьями-отцами о политике, о литературе, да о тех же, черт подери, бабах, когда они совсем рядом, доступны и то же самое прокручивают в своем беспутном мозгу, вот бля*ищи!
И помню, как потрясенный его цинизмом Саул сказал ему:
— Вот погоди, женишься — по-другому запоешь.
В этот же день Тимур познакомил нас со своей Наташей. Ну, могли ли мы после такого напутствия относиться к ней спокойно? Все, включая Саула!
Саул, несомненно, был самый талантливый из нас и самый трудолюбивый — формула Эдисона подошла бы к нему, если в ней изменить цифры: гений Саула был гармоничным и состоял на пятьдесят процентов из вдохновения и на пятьдесят — из потения. Мы долго жили в одной комнате, при мне он задумал и начал писать пародийный эпос своего переметчивого племени, который никогда, конечно, не кончит, — главный недостаток его книги, но зато она прекрасна каждым отдельным своим куском, каждым абзацем.
Одному Богу известно, кто они на самом деле, эти его загадочные караимы: отуреченные евреи или иудаизированные турки? Немцы после долгих богословских споров с их муфтиями-раввинами, а на самом деле газзанами, как объяснил мне Саул, в конце концов поверили, что караимы — потомки древних хазар, и оставили их в покое. Но спустя всего несколько лет, когда Сталин прогнал крымских татар из Крыма, караимам удалось доказать нечто совершенно противоположное, а именно: полную свою непричастность к тюркам-мусульманам ввиду неоспоримого своего иудаизма.
Вслед за Гитлером отступил и Сталин, хотя свой иудаизм они отстаивали как раз накануне его борьбы с космополитами, которая их не затронула только потому, что среди них не было писателей.
Саул — первый. Конечно, проживи Сталин лишние полгода и осуществи свой план депортации евреев на Дальний Восток, караимам, возможно, и не удалось бы избежать судьбы нации, к которой они то примыкали, а то решительно отмежевывались. Саул, правда, считает, что отвертелись бы и на этот раз. Здесь нет нужды подробно останавливаться, так как Саул сам очень смешно написал об этих двойных претензиях своих соплеменников: то быть евреями, то не быть евреями.
— Пора тебе, наконец, определиться: кто ты — еврей или нееврей? — говорил ему Тимур.
— Мы — чтецы, — отвечал Саул, мотая своей бычьей головой.
— Что значит — чтецы? Мы все чтецы, за исключением писцов. Мир делится на чтецов и писцов, читателей и писателей, независимо от национальной принадлежности.
— Караимы — это наш этноним, а в переводе значит «чтецы».
— В переводе с какого?
— В переводе с древнееврейского.
— Выходит, вы все-таки евреи!
— Нет, мы не евреи, потому что мы не признаем устных толкований. Ничего, кроме письменного предания, то есть Торы. Талмуд для нас такая же книга, как «Анна Каренина» либо «Критика чистого разума», не больше. Мы к евреям всегда относились отрицательно.
— А они к вам?
— Тоже. Они считают нас сектантами.
— Милые ссорятся — только любятся, — вставлял я.
— Ладно, — уступал Тимур, понимая, что теологический спор зашел в тупик. — Возьмем другую сторону — обряды, обычаи. На каком кладбище вы хороните своих мертвецов — на мусульманском, еврейском или православном?
— На еврейском.
Здесь уже не выдерживал Кирилл — он терпеть не мог такие абстрактные споры:
— Всё! Вы — евреи, и дело с концом! Мало ли что вы в жизни не поделили, зато в смерти вы объединяетесь со своими.
Саул возражал:
— Это не совсем так. Хоть мы и хороним на еврейском кладбище, но на отдельном участке. А главное, мы кладем покойников не с запада на восток, как евреи, а с севера на юг.
— Это, конечно, весьма существенный нюанс — куда головой лежит покойник, — соглашался Тимур и от богословия и этнографии переходил к языкознанию. — А на каком языке вы говорите?
— Язык наш тюркского происхождения, но буквы еврейские.
— Ну, знаешь, — говорил Тимур и разводил беспомощно руками.
На каком-то этапе я решил прибегнуть к графологическому анализу и, когда ко мне подселили Соловьева, дал ему только что написанный рассказ Саула на экспертизу, но Соловьев по стилю легко узнал, что это Саул, и сказал, что тот слишком оригинален как творческая личность: индивидуальное заслоняет в нем родовое.
В конце концов Саул стал утверждать, что тюркский вариант иудаизма у караимов наиболее близок к христианству григорианского толка у армян. Он же, правда, недавно поведал мне с грустью, но немного и с лукавством, что тот самый религиозный лидер, который в ученом диспуте неопровержимо доказал немцам, что караимы не евреи, ведет сейчас тайные переговоры с главным раввином Иерусалима на предмет вывода своего племени из долголетнего рабства на историческую прародину, утверждая, что караимы и есть потерянное, а теперь найденное колено Израилево.
— И ты уедешь? — спросил я.
— Ну, вот еще! Чем мне здесь плохо? Да у меня к тому же приглашение от баварской Академии на всю семью.
Если Саул уедет, я останусь здесь совсем один.
Был ли и он влюблен в Наташу? Может быть, отчасти потому я и сел за этот рассказ, чтобы в процессе его писания выяснить то, что не дается мне умственной суходрочкой. Когда Наташа ушла от Тимура, я написал по этому поводу целый стихотворный цикл, но убедился, что не продвинулся ни на йоту в понимании того, что с нами произошло. Тем более я со своей рифмой не поспевал за событиями: месяца полтора спустя новая беда стряслась — Саул разругался с Кириллом, пытался зарезать свою жену инкрустированным кавказским ножом и угодил в психушку. И сразу же вслед за этим началась травля Кирилла за то, что он опубликовал «Московские приключения Дон Кихота» за границей. Я забегаю вперед, а теперь по порядку.
Не хочу упрощать, но тогда, в конце пятидесятых — начале шестидесятых, возвращающиеся к жизни бывшие политзаключенные были в моде у женщин, а чуть позднее их сменили опальные писатели и вообще диссиденты. Во всяком случае, фразы типа «Ты знаешь, у меня роман с Окуджавой» либо «А я выхожу замуж за Сахарова» были в ходу у женщин нашего круга, и здесь, конечно, не одно только женское честолюбие, но и «она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним». Инициатива всех этих романов либо романов-браков принадлежала, понятно, женщинам. Наташа была именно из таких инициативных — прошу прощения за грубость, — это она подцепила Тимура, а потом подменила его другим, более, что ли, перспективным. Говорю это, имея на то личные причины? Пусть так, но как раз к Наташе я относился хорошо. В какой-то момент мы перестали обращать внимание на ее недостатки, сочтя их неизбежными женскими дефектами. Обаяние молодости, сексуальные флюиды, общая возбужденность и скрытое соперничество застилали нам глаза на истину.
Вот почему остерегаюсь описывать — это будет уже не та Наташа, которая притворялась нашей сестрой, а мы ее братьями. На самом деле какой-то братской, бескорыстной, несобственнической любо вью ее любил только один человек: Тимур, ее муж.
Между прочим, первым стал ее критиковать Кирилл — естествен но, заглазно.
— Ты заметил, какие у нее верхние клыки? — сказал он мне как-то, еще до того, как поселился у Тимура. — Слегка внутрь загнуты, как у хищного зверя. Не дай бог такой на зуб попасться.
Как только мы оставались одни, он обязательно говорил какую-то гадость про Наташу — у него это стало чем-то вроде навязчивой идеи. Даже странно, какие иногда извращенные формы принимает любовь.
Тогда я, конечно, ничего не понимал, а только не переставал удивляться Кирилловым наскокам на Наташу, которые нельзя сказать, что были несправедливы по сути, но не было, как мне казалось тогда, оснований возобновлять их через каждое слово. Я заподозрил было, что Кирилл ревнует, и прямо сказал об этом. Кирилл рассердился, но ответил странно:
— Кого — к кому?
Мне это казалось само собой разумеющимся — ревновать можно было только Тимура. Единственное объяснение, которое тогда пришло мне в голову, — общая взвинченность Кирилла в это время: в связи с его бездомностью.
Уже больше года прошло, как он вернулся из армии, успел опубликовать в журнале свою солдатскую повесть «Промеж неба на земле», которая оказалась в центре газетных споров, а жить ему было негде. Прописан был у своей мамаши в Суздале и там большей частью ночевал, но каждый день наезжал в Москву и в поезде писал свою следующую книгу, которая принесет ему всемирную славу: «Московские приключения Дон Кихота». Тимур принимал в нем живейшее участие, обучал литературным навыкам и приемам, ночи напролет просиживал над его рукописями, был его редактором, а по сути — соавтором. На время малорослый, кряжистый и хитроватый этот паренек стал его любимым учеником. Почему? Как и многие интеллигенты, Тимур по натуре был народником, интеллигентством своим тяготился и тяготел к настоящему народу, типичным представителем которого считал Кирилла. Саул было взбунтовался, напомнив, что он тоже из народа.
— Весь вопрос, из какого, — наставительно сказал Тимур. — Если бы ты был из того же народа, что и Кирилл, цены бы тебе не было! Вот тогда бы ты и мог, наравне с ним, претендовать на статус наибольшего благоприятствования. Но ведь ты, даже если не еврей, все равно караим!
Мы смеялись, Саул вместе с нами.
Наши отношения омрачала только растущая вражда между Наташей и Кириллом. Наташе как раз не нравилось то, что выпячивал Тимур: что Кирилл из народа. Еще ей было не по нраву, что Кирилл любил поддать, за ним это и в самом деле водилось. Но больше всего ей не нравилось — что она не нравилась Кириллу. Вот Тимур и решил убить сразу двух зайцев: искоренить вражду между близкими ему людьми и облегчить жилищную проблему будущему нобелианту (до сих пор не знаю, шутил он или искренне верил). Так в огромной комнате Тимура и Наташи, которую мы называли ротондой, появилась ширма в несуществующем углу, а за ширмой — раскладушка, этажерка, школьная парта и Кирилл. Парту притащили Наташины ученики, и за ней Кирилл дописал своего «Дон Кихота». Не без помощи Тимура, хотя Наташа впоследствии и претендовала на соавторство. Но это свойство всех литературных жен — им мало быть любовницами своих мужей, они еще хотят быть их музами. Тимур — до своей женитьбы — еще лучше говорил про писательских жен: что они всю литературу — вместе с авторами — норовят сквозь чрево пропустить (это, конечно, эвфемизм, оригинал звучал непристойно).
Ума не приложу, когда они успели сойтись! Да и никто не подозревал — ведь на людях, то есть при нас, они продолжали друг друга ненавидеть. Теперь я думаю, что это не было притворством: они и в самом деле ненавидели друг друга, даже после того, как стали любовниками.
Дело в том, что любовниками они стали не по доброй воле, а по злобе — один комплексуя, а другая — беря реванш.
Конечно же Кирилл был в нашем братстве немного чужаком. И не только потому, что пристал к нему последним. Саул прозвал его «философом из ремеслухи», но вообще-то никто его у нас не третировал, а у Тимура он быстро сделался любимчиком: учитель сделал на него ставку, хотя, как я уже говорил, настоящим самородком был Саул — увы, не из того народа. А у Кирилла талант был переимчивый: он легко схватывал уроки литературного ремесла, которые давал ему Тимур, и мгновенно прилагал его к тому жизненному материалу, который получил из первых рук, рано осиротев, пройдя сквозь ремеслуху, проработав на заводе и отслужив в армии. Ни у кого из нас такого опыта не было, а лагерный опыт Тимура был в то время не ко двору — может быть, отчасти потому и не ложились на бумагу его гениальные устные байки? Однако именно из-за этого своего плебейского прошлого Кирилл и комплексовал, оказавшись в нашей несколько снобистской среде. Наташу возненавидел с первого взгляда — как утверждал, за интеллектуальную спесь.
По образовательному цензу она превосходила всех нас, так как, помимо преподавания в школе, училась еще в заочной аспирантуре и через год-другой должна была защитить диссертацию о переводах Хемингуэя на русский язык. Хуже всего с образованием обстояло у Кирилла — он не только не учил диалектику по Гегелю, но и не подозревал до недавнего времени о ее существовании, хотя, пытаясь соответствовать своим новым друзьям, пристрастился к иноязычным словам, которыми козырял часто не к месту, путая, к примеру, метафору с метаморфозой и даже с метафизикой. Его образование действительно ограничилось ремеслухой, даже Тимур преуспел в этом отношении больше, ухитрившись заочно окончить в Алма-Ате педагогический институт. Мы с Саулом учились в Литинституте, а до этого окончили: он — филфак в Симферополе, я — Горный институт в Ленинграде. Короче, Кирилл, который, по словам Тимура, был необработанный алмаз, стал злоупотреблять иностранными словами вскоре после того, как Тимур женился. Наташа за это едко его высмеивала. «Самоутверждается за мой счет», — пояснял Кирилл.
Какие-то основания для этого были: как и Кирилл, Наташа немного комплексовала — единственная среди нас ничего не писала. Тимур попытался было пристроить ее к литературной критике, и она даже опубликовала несколько рецензий, но конкуренции не выдерживала даже среди критикесс, не говоря уже о критиках мужеского пола. Как-то ей недостаточно было быть просто женщиной, явно или тайно обожаемой всеми нами. Как женщина, она была у нас вне конкуренции — по той простой причине, что рядом других не было и не предвиделось. Жена Саула не в счет: умная, красивая, но совершенно чужая нам, врач-гинеколог по профессии, он ее редко приводил, потому что мы при ней как-то конфузились, а ее шутки и вовсе ошарашивали нас своим трезвым цинизмом. Про какую-то излишне кокетливую особу она, к примеру, сказала: «Можно подумать, что у нее между ног нечто иное, чем у остальных», и хоть это было остро умно, но как-то уж слишком грубо, а тем более в устах женщины. Да и ей наша болтовня была, по хоже, по фигу — так что нашей Наташе повезло: она не успела ту воз ненавидеть. А Саула я отчасти понять могу — я бы, наверно, тоже не выдержал. Хотя у Саула были дополнительные, а может быть, даже главные причины. Все опять-таки упиралось в Кирилла.
Пора вывести на сцену еще одного героя — незримого, коллективного, вездесущего. Без него бы весь этот сюжет не состоялся — Наташа не ушла бы от Тимура, Саул не попал бы в психушку, Кирилл не стал бы вероятным кандидатом на Нобелевку. Да и моя карьера сложилась бы совсем иначе.
Итак, Наташа уже верховодила среди нас, пользуясь своими женскими чарами, но прикрывая их идеологическим флером, Тимур продолжал пестовать Кирилла, который кончал за партой своего «Дон Кихота», а на жизненной поверхности ушел в глухую оборону, защищаясь от участившихся нападений на него Наташи. У Саула взяли в «Новом мире» первый том его караимского эпоса с жутко смешной главой про Сталина, который пытается понять, что же это за племя и как ему с ним поступить? А у меня в «Совписе» поставили в план будущего года первый сборник стихов. Все были при деле, никаких туч на горизонте. В это время и исчез Кирилл. Вышел утром из квартиры на Беговой, а обратно не явился. В Суздале его тоже не оказалось — обеспокоенная мамаша обратилась в милицию. Из нас больше всех нервничала Наташа, тогда мы думали — из-за чувства вины перед Кириллом. В последний вечер, накануне исчезновения, она над ним как-то особенно глумилась.
Появился он так же неожиданно, как исчез, — спустя полтора месяца. Обросший, молчаливый, без объяснений — и забился в свой угол за ширмой, который на самом деле был сегмент, а не угол. А через два дня во всем признался Тимуру. Учитель нас немедленно собрал. Наташа тоже присутствовала.
Тимур напомнил о нашей изначальной клятве — ничего друг от друга не скрывать, интересы нашего братства превыше личных (для него это так и было, для него одного). Он спросил, есть ли у нас в душе или на памяти хоть что-то, что мы скрываем. Мы молчали. Тогда он стал спрашивать каждого по отдельности, и каждый ответил, что есть.
— Меня не интересуют ваши сердечные тайны. Вы знаете, что я имею в виду. С кого начнем? — спросил он и, выждав секунду-другую: — С меня. — И рассказал нам о вызове в КГБ.
Дело в том, что трое из нас — Тимур, Саул и Кирилл — подписали так называемое «шахматное письмо» в защиту политзаключенных, и вот теперь всех подписантов (64 человека) стали разными способами и в разных организациях шантажировать. Я оказался не у дел, чему поначалу огорчился, так как меня просто не сочли достаточно известным, чтобы предложить подписать это злосчастное письмо: подписи под ним были своего рода Доской почета нашей отечественной литературы. Но в КГБ этого не знали и решили, что я смалодушничал, плюс, конечно, что я русский, в то время как среди подписантов было, как всегда, много евреев. Короче, меня единственного вызвали в гэбуху, чтобы морально поддержать, и предложили более тесное сотрудничество, а когда я отказался, пригрозили остановить книгу стихов. Но я понимал, что со мной они блефуют, — слишком заняты теми, кто подписал письмо, а не теми, кто его не подписывал.
Между прочим, то, что мне не дали его подписать, — чистая случайность, так как к тому времени уже был опубликован в «Новом мире» мой цикл «По хвала тирану», который вызвал полемику в нашей обычно бес полемичной печати. Вообще, они грубо работают и мало что знают: меня удивило не их предложение, а их предположение, что я могу стать стукачом в нашем литературном квартете. Тимуру же этого не предложили!
На душе в эти дни у меня было прескверно.
Почему не поделился с учителем? Да потому, что с меня взяли расписку о неразглашении! Как выяснилось, с остальных тоже — вот мы и молчали.
От Тимура потребовали, чтобы он снял свою подпись с письма шестидесяти четырех, — Тимур обещал подумать.
Саулу сказали, что его караимский эпос будет напечатан в журнале, — пусть немедленно откажется от издания в «Посеве».
Хуже всего — с Кириллом, у которого не было московской прописки: угрожали насильно выслать и навсегда запретить въезд в столицу.
Как и мне, ему напомнили, что его занесло в чужую компанию, — хоть и не русский, а все же славянин (про его осьмушку они не знали — еще одно доказательство их невежества и непрофессионализма).
— Так и сказали: «Ты же среди них белая ворона». И про то, что все меня презирают, как недоучку…
Когда он это выпалил, я взглянул на Наташу.
— А ты им что? — спросил Учитель.
— Послал подальше.
— Так прямо и послал?
— А как еще? Видано ли, чтобы человек сначала подписал письмо, а потом снимал свою подпись! Да что мне, выскрести ее, что ли? Что написано пером, не вырубишь топором. Я им все это спокойненько выложил, а они продолжали давить. Ну, я их и послал.
— А они? — спросил Саул.
— Почем я знаю? Послал и ушел. А так как они угрожали, решил скрыться — за полтора месяца всю Русь исколесил. По пути роман придумал.
Мы смотрели на Кирилла с восхищением и завистью. Я — уж точно. Да и Саул, думаю. Тимур несколько раз от удовольствия облизнулся. Была у него такая привычка — облизываться от удовольствия: вот, мол, не зря я этого увальня пестовал. И несколько раз он многозначительно поглядывал на Наташу — значит, помимо прилюдной травли Кирилла, Наташа еще, возможно, наговаривала на него отдельно Тимуру.
В этот вечер она молчала как рыба.
А на следующий день позвонили из Склифосовского и сообщили, что к ним в отделение доставлен Кирилл, сбитый на Ленинградском проспекте. Машина умчалась, шито-крыто, ничего не докажешь, но мы понимали, что это, скорее всего, месть Кириллу, а нам всем — предупреждение. В эти же дни был смертельно ранен Костя Богатырев, когда вышел из лифта с ключом от своей квартиры.
Первым капитулировал Саул, ссылаясь на беременность жены: оказался на редкость хорошим семьянином. В «Литературке» опубликовали его письмо в «По сев» с просьбой не издавать его книгу. Потом Тимур снял свою подпись, и никто его за это осудить не посмел: он свою норму выполнил, двенадцать лет отбарабанил. Не стану гадать, как бы поступил я на их месте, но в моей ситуации отступать было некуда, да меня больше и не беспокоили. Даже предложили как неподписанту пойти в «Дружбу народов» редактором в отдел поэзии — и я согласился, за что сразу же был осужден либералами, а кое-кем и заподозрен: подозреваемые всегда подозрительны.
Денно и нощно дежурили мы у постели Кирилла, поправлялся он медленно: были сломаны два ре бра и левая нога, но самое опасное — поврежденное ребро насквозь прошило легкое. Как раз тогда мы узнали, что на Западе вышел его «Дон Кихот» — по-русски, а готовилось еще и немецкое издание. Западное радио трубило о нем как о главном диссиденте среди писателей, к тому же жестоко пострадавшем за правду.
В его книге тоже была глава о Сталине: Дон Кихота арестовывают в Москве и приводят в Кремль на очную ставку со Сталиным. Впоследствии именно эта глава окажется в центре внимания на Западе, хотя сталинский кусок у Саула куда интереснее, но цензура в последний момент вымарала его из новомировской публикации, да и вообще здорово потрудилась над книгой. По слабости, Саул на все это пошел — так ему хотелось напечатать свой эпос в стране. Тимур его всячески в этом поддерживал.
— Надо уметь жертвовать частью, чтобы сохранить все остальное.
Вот и получилось, что Кириллов «Дон Кихот» вызвал скандал и принес ему всемирную славу, а иронический сказ Саула про караимов, искромсанный и кастрированный, прошел, считай, незамеченным. Выйдя из больницы, Кирилл пошел на дальнейшую конфронтацию с советской властью, делал заявления в защиту Сахарова, Солженицына, даже крымских татар. Последнее он предложил подписать Саулу, но Саул отказался, сославшись на то, что были случаи, когда татары выдавали караимов немцам под видом евреев. А потом Саул попал в психушку и на некоторое время отключился от нашей реальности. Я бы даже сказал, что сделал он это если не с удовольствием, то с несомненным облегчением. Он явно запутался в жизни, что-то в нем надломилось. И вся эта история с Саулом случилась сразу же после того, как Кирилл увел Наташу.
Из Наташи вышла бы замечательная сиделка, идеальная сестра милосердия. Кирилла выходила она. Вся преобразилась — ничего от прежней назидательной, насмешливой, честолюбивой дамы, полная самоотдача, все свободное время проводила у постели Кирилла. Но как только дело пошло на поправку, к Наташе стал возвращаться ее прежний апломб, а когда Кирилла привезли домой, она возобновила свои атаки с удвоенной силой, невзирая на его хромоту и общую слабость; была беспощадна, ехидна, насмешлива — что с ней творилось, одному Богу известно. И так продолжалось до самого их ухода от Тимура, которому все мы очень сочувствовали.
Учитель, однако, повел себя странно. Я перестал вообще что-либо понимать.
— Если бы ты знал, как они страдают из-за всего этого, — сказал он мне спустя месяц после их ухода.
И еще через некоторое время:
— Ведь им совсем негде жить — ютятся по углам у своих новых знакомых, диссидентов.
Ни дать ни взять, Иисусик какой-то. Я рассердился — за него тут переживаешь, стихи вот сочинил по случаю, Саул тот вообще на этой почве свихнулся, а Тимур, вместо того чтобы самому страдать, им сочувствует!
— Ты бы ему еще свою комнату предложил! — сказал я ему.
— Уже предлагал, — сказал Тимур. — Отказались.
— Да, граф Монте-Кристо из тебя никакой.
— Самый примитивный — это комплекс Монте-Кристо. Я уж не говорю о собственнических инстинктах, на которых строится убогая советская семья. Любить надо не ради себя, а ради того, кого любишь.
Я пропустил мимо ушей эту плоскую сентенцию.
— А ты ее все еще любишь? — спросил я.
— А почему я должен перестать ее любить? И она меня любит. О чем мы говорим — о любви или о принадлежности? Я ее люблю, но я и Кирилла люблю, и тебя с Саулом, и не могу сказать, что ее люблю больше вас. Это было бы несправедливо. А что такое ревность, вообще не понимаю, потому что отрицаю право собственности мужа на жену. Измена — это мужской миф. Чего я боялся бы, так это предательства. Такового не произошло — ни со стороны Наташи, ни со стороны Кирилла.
Другие члены нашего братства были не столь бескорыстны. Как-то я зашел в очередное пристанище Кирилла и Наташи. Кирилл стал еще угрюмее. Я не сразу понял, в чем дело. Но потом Наташа проговорилась — может быть, сознательно, чтобы вовлечь меня в семейную дискуссию. Оказалось, она дважды в неделю навещает покинутого мужа:
— Обед готовлю, стираю, глажу — он же без меня совсем неухоженный. Болтаем…
— О чем? — довольно резко вмешался Кирилл.
— Тебе-то что?
— Ты его нарочно дразнишь? — спросил я Наташу.
Наташа рассмеялась:
— Кого из них?
— Ну, Тимура не раздразнишь, как ни старайся, — сказал я, припомнив наш с ним разговор о комплексе Монте-Кристо, о семейной собственности и всепрощающей любви.
— Зато этот всегда начеку — ревнив за двоих.
— А есть основания?
— Конечно! Ведь Кирилл у нас собственник.
И тут я понял, что ревновать можно только жену — к любовнику. Не наоборот! Где это видано, чтобы любовник ревновал к мужу? Вот Кирилл и ревновал теперь ее к Тимуру, превратившись из любовника в мужа. А может быть, и Тимур избавился от ревности, став бобылем?
Потом я узнал дополнительную причину для Кирилловой тревоги: Наташа была беременна, а от кого — сама не знала. Ее это и не очень заботило: какая разница, главное — отдать долг природе, не все ли равно, чей ребенок? Так или приблизительно так она рассуждала. А Кирилл со страхом ждал родов. Родился мальчик, как две капли воды похожий на Наташу, ни на кого больше — из таких, говорят, вырастают самые счастливые мужчины.
Кирилл успокаивал себя тем, что восточная кровь обычно перетягивает, а ничего восточного в ребенке действительно не было.
Самым ревнивым оказался, однако, не Кирилл, а Саул, хоть это и была замещенная ревность.
Я до сих пор не очень понимаю, что произошло в его мозгу, почему он, когда Наташа ушла к Кириллу, приревновал заодно к нему и собственную жену, с Кириллом насмерть разругался, а жену чуть не зарезал?
Уход Наташи от Тимура взволновал Саула чрезвычайно. В таком состоянии я его еще никогда не видел.
Я попытался рационализировать его гнев:
— Кого из них ты больше осуждаешь?
— Обоих! Поэтому мне и не нравятся эти твои стихи.
В моем цикле я писал об измене другу, а не мужу.
— Променяла ангела на ловкача! У него же ничего своего! Чужая жена, чужая квартира, чужой сюжет. Кому нужен еще один Дон Кихот? Все с чужой подсказки!
— А мы не с чужой подсказки?
— О чем ты?
— Он же наш учитель. Научил нас технике сюжета, выбрал за нас женщину… Ты разве не был влюблен в Наташу?
— Был, не был — какое это имеет значение! Хочешь знать, она ко мне тоже пристраивалась, как-то позвонила и молчит, сказать нечего, я ее и отшил. Уже тогда заподозрил, что Тимура она любит меньше, чем мы, надоел он ей, новенького захотелось…
— Как ты все, однако, огрубляешь!
— А ты все тонкостей хочешь! Поэт…
— Слушай, а ты, случаем, не ревнуешь к Кириллу?
— Наташу?
— В том числе и Наташу. Тимура, Наташу, русскую литературу…
Почему-то именно последнее особенно разозлило Саула. А на следующий день Тимур мне сообщил, что Саула забрали в психушку,
Не думаю, что между его женой и Кириллом что-нибудь было, хотя она баба не промах, да только слишком — в отличие от нашей Наташи — трезвая, чтобы увлечься мужчиной по принципу его политического поведения. Иной у нее подход к этому делу, недаром врач-гинеколог. Да и не она меня во всей этой истории занимает.
А вот чего я не исключаю, то это авансы, которые Наташа делала Саулу. Все-таки он самый из нас талантливый, а Наташа знала толк в литературе, этого у нее не отнимешь. Есть люди, прямо-таки излучающие талант, чистая эманация дара Господня, тот же Бродский, например — женщины на нем так и висли. Талант — это ярко выраженное самцовое начало, даже когда речь идет о женщине: Комиссаржевская, Ахматова, Цветаева. Не надо мне только говорить о латентном гомосексуализме, это примитивное объяснение. Да я и не вижу ничего предосудительного в предпочтении однополых партнеров. А если единственная женщина, которую ты любишь, уже занята либо не отвечает взаимностью?
Не могу с уверенностью сказать, почему Наташа ушла к Кириллу. Может быть, будучи по скрытой своей натуре сестрой милосердия, она его, как и Тимура, полюбила за муки, когда увидела, что Кирилловы муки превышают Тимуровы, в том смысле, что синхронны, в то время как у Тимура все уже в прошлом? Это мое предположение подтверждает и ее дальнейшее поведение — не только визиты к брошенному мужу, но и позже, когда у Тимура обнаружили злокачественную опухоль в мозгу. С другой стороны, однако, Кирилл был единственным из нас, кто в трудных условиях повел себя по-мужски, хотя с ним в гэбухе менее всего церемонились: и их послал подальше, и книгу за границей напечатал, а после того как его машина сбила, пошел на них в лобовую и уже не отступал, пока его не вытурили из страны. Когда Тимур ей наскучил своей ангелической бесполостью и отсутствием писательского честолюбия, она потянулась было к самому из нас талантливому, то есть по этим параметрам — к сáмому мужчине, а нарвавшись на Саулов отказ, выбрала мужчину по иным критериям. Одна гипотеза не противоречит другой. Скорее всего, и то и другое — жалость и уважение. И еще — удивление. Да и никто из нас не ожидал от Кирилла такой стойкости, что бы там Саул о нем ни говорил — будто Кирилл добирает на периферии, потому что ему таланта не хватает.
У Саула тоже одно наложилось на другое. Кирилл сделал то, на что Саул не решился: и Наташу из-под носа увел, и роман за границей напечатал. То есть проявился, в отличие от Саула, как настоящий мужчина. Здесь, думаю, и взыграло в нем собственническое чувство, и все сосредоточилось на ревности к жене. В его темном восточном мозгу — как бы он ни был индивидуально талантлив, а гены есть гены — произошло короткое замыкание: коли Кирилл украл у него любимую женщину и литературный успех, то теперь под угрозой семейное счастье, которого у Саула на самом деле не было. Наверное, его жена давала основания для ревности, а уж Кирилл просто под руку пришелся, олицетворяя собой все мировое зло, которое вдруг ни с того ни с сего обрушилось на Саула. Он скиксовал, отступил, проиграл и теперь все свои комплексы обрушил на жену, которая чудом спаслась от сувенирного кавказского клинка, подаренного почитателями и неопасно висевшего на стене в кабинете Саула. В психушке он пролежал недолго, вернулся образумившийся, но побочный эффект его вспышки был тот, что жена вынуждена была сделать аборт, опасаясь, что ребенок от него родится дефективный.
Мне осталось досказать немногое, и я прошу прощения за повторы, потому что нарушил хронологию и забегал вперед. Но я ведь не профессиональный прозаик и притворяться в начале, что не знаю, что будет в конце, было бы не к лицу. Я не только не прозаик, но и не рассказчик, ибо принадлежу к породе слушателей. Этот рассказ и есть результат моего подслушивания к биению чужих сердец. Хотя настоящим сердцеведом был среди нас Тимур — в том смысле, что знал сердечные секреты, но был слишком бескорыстен, чтобы воспользоваться этим своим сокровенным знанием в литературе. Вполне возможно, его бескорыстие было вынужденное — по натуре он писателем не был. Но если мы вышли в писатели, то исключительно благодаря ему.
Несмотря на размеры — он был даже не толстый, а жирный, несмотря на по-восточному изысканный флирт с жизнью: любил вкусно поесть, выпить, ухаживать за женщинами и беседовать с друзьями, и всегда плотоядно облизывался от удовольствия либо предвкушая его, — Тимур все-таки был человеком воздуха, не от мира сего, святым, хотя до конца мы это осознали, только когда он умер.
Умирал он тяжело. Наташа устроила его в лучшую онкологическую лечебницу в Париже, где они жили с Кириллом после отъезда из Москвы. Наташа была при нем неотлучно, но ни ее присутствие, ни тамошние медицинские светила помочь ему уже ничем не могли. Вот я и говорю: кто знает, может быть, назначение Наташи на земле быть сестрой милосердия?
С Кириллом они расстались. Он переженился на шведке русского происхождения и переехал в Стокгольм, где ждет Нобелевской премии, будучи одним из ста двадцати восьми официальных претендентов на нее. Другим претендентом является Саул, который ждет ее в Москве, и, как мне кажется, шансы у него даже повыше — он символ гласности, ее живой результат, ибо весь его, теперь уже семитомный, эпос о караимском народе вышел полным изданием, включая запрещенную прежде главу о Сталине, где этот великий языковед на основании структурного анализа караимского наречия решает судьбу, возможно, потерянного, но, благодаря Саулу, вновь найденного колена Израилева. Еще одна причина моей ставки на Саула — у них там, в Стокгольме, очень любят писателей, которые родом из малых наций и про эти нации в своих книгах рассказывают.
Вообще, я думаю, нет больше в мире ни одной страны, в которой столько писателей надеялись бы получить эту злосчастную премию. Помню, в каком нервном шоке были Евтушенко, Вознесенский и Кушнер в день, когда было объявлено о присуждении ее Бродскому. Один из них даже выразился тогда в том смысле, что Бродский перекрыл им на Западе кислородные пути питания. А мой приятель прозаик X. — не называю имени, и так каждому ясно, о ком речь! — четыре раза в жизни был близок к самоубийству, а кончалось тем, что в стельку напивался: в дни, когда Нобелевку присуждали тому же Бродскому, либо Солженицыну и Шолохову, даже Пастернаку, — хотя тогда ему, Х. имею в виду, был всего двадцать один год и он успел написать только несколько рассказов, а опубликовал два.
Что касается меня, то я средней руки русский поэт, без особых претензий. К тому же после той истории с КГБ, на которой Саул сломался, а Кирилл окреп, в силу чистой случайности — моего имени не оказалось среди подписантов — началась моя административная карьера, и сейчас я больше известен как редактор прогрессивного журнала, чем как поэт. Да у меня на стихи теперь и времени нет, все идет на журнал.
Я не так честолюбив, как Кирилл, не так талантлив, как Саул, и в отличие от Тимура не слишком добр. Если кому и завидую, то мертвецу, а это самая безнадежная зависть. Он унес с собой в могилу не только гениальные изустные рассказы, но и тайное свое сердцеведение: он один знал нас всех, а мы его так и не узнали и бьемся сейчас над загадкой. Он открыл нам законы литературы и законы любви, он выбрал за нас женщину, которая к нему вернулась, когда он уже был на смертном одре.
Пора признаться: я был безумно влюблен в Наташу, и моя любовь не ослабла с годами. И свой тогдашний цикл я сочинил вовсе не из чувства попранной справедливости, а из чистой ревности. К учителю я не решался ревновать — как можно ревновать к святому? — но, когда она ушла с Кириллом, мир встал на дыбы, все сместилось к чертовой матери, я потерял почву под ногами. Тогда я и стал искать утехи в мужских братиях, ибо нет больше на свете женщины, подобной Наташе. Я ее не описываю здесь, потому что совершенно бесполезно. Кто догадывается, о ком пишу, поймет с полуслова. Я и затеял этот рассказ ради нее одной.
В этой истории я третий лишний. Точнее — пятый лишний. Это история четырех сердец, мое билось отдельно от остальных, я оказался сторонним — то ли по нерешительности, то ли по молодости, то ли по эмоциональной скаредности. Все четверо расходовались до конца, даже Саул чуть жену не прирезал — я один был экономен и остался ни с чем. Потому мне и выпало рассказать эту историю, что я в ней не участвовал. Моя роль слушателя, наблюдателя, теперь рассказчика, а не участника. А сколько всего проносилось в моем воображении! Им и ограничилось…
Последний раз видел Наташу на кладбище, когда хоронили Тимура. Она привезла его прах из Парижа, осунулась, постарела, но была красивой, родной и желанной, как прежде. С ней рядом стоял маленький парижанин, не похожий ни на одного из предполагаемых отцов, но только на Наташу, — и слава богу! Все, кто был на кладбище, принимали ее за вдову, а я так и не разобрался, каков ее теперь статус по отношению к покойному, с которым она давно была в разводе. Кирилл на похороны не приехал — отмечаю это как хроникер, а не в осуждение. Она уезжала в Париж на следующий день, я подошел к ней поздороваться и попрощаться. Глаза у нее были сухие. Никто на этих похоронах не плакал, за исключением Саула, — он рыдал в голос, безутешно, как дитя.
Быть Андреем или быть Арсением? Тарковские: двойной автопортрет
Только зеркало зеркалу снится…
АхматоваЗеркало
Снова сошлюсь на Олешу, как тот сослался на Пруста: «И я хотел бы пройтись по жизни назад, как это удалось в свое время Марселю Прусту». Само собой, Пруст — мой любимый прозаик, но его литературный подвиг я бы повторить не только не смог, но и не хотел. Мой идеал, когда я сочиняю этот групповой портрет на фоне России, не из литературы, хотя и соприкасается с ней теснее, чем любой другой кинематограф. Это фильм, который я знаю наизусть: «Зеркало». Я был несколько раз на его съемках, разговоривал с Андреем Тарковским, но, честно, никак не ожидал такого ошеломительного результата. Зато теперь каждый раз смотрю его заново и открываю то, что прежде пропустил, не приметил, не вник, не осилил. Будто фильм меняется во времени, хотя это я меняюсь: лирические сплетения и перипетии мне теперь интереснее активного исторического фона. Несколько раз писал о «Зеркале» и даже сделал фильм о фильме на здешней студии WMRB: телекомментарий зрителя к кадрам Андрея и закадровым стихам Арсения Тарковских.
Уж коли сослался на Пруста через Олешу, то сошлюсь на него снова — через Евгения Шварца, который в дневнике с завистью писал, что «Пруст всю свою литературность, все знания направил на то, чтобы рассказывать о себе правду. И получился результат. Не то что я, сделавший принципиальную ошибку. Я отказался для „естественности“ от всякой литературности, и у меня не хватило средств для того, чтобы быть правдивым».
Вот этой шварцевской ошибки я и пытаюсь избежать, рассказывая про мой любимый фильм, который послужил, если хотите, суфлерской подсказкой к этой книге.
Случай в самом деле необычный, если не беспрецедентный: сын дал отцу слово в автобиографическом фильме, и вот, дополняя друг друга и конфликтуя, в сложном — скорее, чем синтезе — противоборстве, синхронно зазвучали кино/кадр и слово/стих. В этом, собственно, секрет фильма, упущенный даже самыми толковыми (что говорить о бестолковых!) толкователями: в «Зеркале» отражен идейный поединок отца и сына, а не их полюбовное рандеву. Слово «отражен» возникло по прямой аналогии с зеркалом как таковым, а не с «зеркалом» в фильме Тарковского, которое по сути зазеркально и, отражая, искажает. А потому спешу уточнить: конфликт сына с отцом (а не традиционный «отцов и детей») воскрешен и продолжен средствами поэзии и синема.
Что бросается в глаза, но оказывается на поверку иллюзорным: не только сюжетные ходы «Зеркала», но и многие стилистические приемы заимствованы режиссером Андреем Тарковским из поэтического арсенала Арсения Тарковского, которого так умно защищала от меня Юнна (см. главу «Поэтка»). В свою очередь, стихам дана vita nuova: на экранной плоскости — точнее, за экранной плоскостью, в зазеркалье — они звучат иначе, чем на поверхности книжного листа.
Поэтические образы в кинематографе возобновлены и материализованы, но хочется почему-то сказать — реанимированы. Слово не просто визуально подтверждено средствами кино — оно выужено из Леты, как тот язь в руках у рыболова, с которым сравнил себя Арсений Тарковский:
Взглянули бы, как я под током бьюсь И гнусь, как язь в руках у рыболова, Когда я перевоплощаюсь в слово.Если в плане художественном и можно говорить о диффузии, о взаимопроникновении и взаимообогащении двух видов искусства — кинетизм, одним словом, — но не в плане философском. Что ускользнуло от почитателей этого лучшего фильма Тарковского-младшего — равно как от поклонников поэзии Тарковского-старшего, — так это резкое, до неприличия, размежевание сына с отцом — идеологический оксюморон. «Отцы и дети», но не в тургеневском, а в тарковском преломлении: личного опыта с трагическим экспериментом ХХ века.
И еще один парадокс фильма: непредусмотренный его режиссером. Когда сорок лет назад он впервые, чуть ли не контрабандой промелькнул на советском экране, стихи звучали трагическим камертоном — как будто стоящий на пороге смерти отец (а тому уже было под семьдесят, и ни о чем, кроме смерти, этот человек на костылях говорить не мог — исхожу из личного опыта общения с ним) напоминает младому сыну, что никого не минует чаша сия, и близкая вроде бы смерть отца кивает на далекую вроде бы смерть сына.
Бог распорядился иначе, противу естества: отец пережил сына, и задуманный когда-то режиссером символический эффект его преждевременной смертью уничтожен.
Сменяется одно поколение другим, а судьба подстерегает одна и та же каждого — нет, я не о биологическом пределе жизни, но о компромиссном, придавленном, ползучем существовании души. Какая там Психея! мы не властны над собой,
Когда судьба по следу шла за нами, Как сумасшедший с бритвою в руке.Стиховому слову с его опасной все-таки метафизической автономией от предметов и явлений вещного мира возвращена та первозданная и конкретная сила, которая изначально стимулировала работу поэта:
Как зрение — сетчатке, голос — горлу, Число — рассудку, ранний трепет — сердцу, Я клятву дал вернуть мое искусство Его животворящему началу.Клятву отца сдержал сын. С помощью отца же. Не стихи укрупнены кинематографом, но талант Тарковского-отца — талантом Тарковского-сына. Андрей Тарковский — лучший кинорежиссер в своем поколении, с большим отрывом от остальных. С таким же отрывом отстает Арсений Тарковский от лучших поэтов своего поколения: Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой.
Другое существенное неравенство: сын дал слово отцу в своем фильме, а не отец сыну — в своей поэзии. Даже если Андрей и мелькнет ненароком в стихах отца, то как маргинальный персонаж, тогда как в «Зеркале» Арсений — один из главных героев.
Однако если поставить вопрос шире — о влиянии литературы вообще на кинематограф, он приобретет вовсе иное освещение. Потому что именно литература, не полоненная зрительными образами, продолжает ориентировать другие виды искусства — даже те, что от нее открещиваются. Литература указует на возможности, не только еще не исчерпанные кино, театром, живописью, но даже и не востребованные, а то и вовсе целинные. «Зеркало» опирается на литературу не во имя ближайшей выгоды — эффектный сюжет или психологические нюансы, — но осваивая то, чем литература владеет в совершенстве, а синема — еще нет. От романного жанра Андрей Тарковский заимствует углубленный взгляд на человеческую жизнь как на историческую судьбу, от поэзии — пьянящую свободу и снайперскую точность ассоциативных рядов и метафор, от Мнемозины-вспоминальщицы — откровенный, очевидный, настойчивый, мощный прустовский автобиографизм.
Граница между кино и литературой оказалась легко проходимой, но обязательно с проводником — своим Вергилием Тарковский-младший избрал Тарковского-старшего. Объект воспоминаний у отца и сына — один, но неверный свет памяти окрашивает одно и то же воспоминание в разный колер: строки поэта и кадры режиссера не удваивают событие, но создают его новый объемный образ, ибо сочленены в художественную совокупность, в том числе и по контрасту. Важны не свидетельства, а свидетели: стихи Арсения и эпизоды Андрея — это две разные точки зрения на один жизненный объект, совместно они дают панорамное и эффектное изображение. Одна и та же реальность под скрещением двух пристальных взглядов, особо и ярко высвеченная — прошлое под перекрестным допросом двух свидетелей…
Тщетная в плане жизненном погоня за утраченным временем может завершиться удачей — в плане художественном. Воображение диктует свои законы реальности: «И все навсегда остается таким… А где стрекоза? Улетела. А где кораблик? Уплыл. Где река? Утекла». Это, понятно, вольный перефраз Гераклита, но в том-то и дело, что Тарковскому-младшему удалось войти в одну и ту же реку дважды — с помощью Тарковского-старшего, которому этот путь заказан.
Сквозь весь фильм Андрея Тарковского — как и сквозь поэзию его отца — проходит мотив дождя, причем некоторые кадры почти прямо возобновляют дождевые образы стихов. Уже один из начальных кадров фиксирует тревожное предгрозовое состояние природы, когда неизвестно откуда налетевший ветер гнет и треплет траву, кусты, дерева:
Пройдет прохлада низом Траву в коленах гнуть. И дождь по гроздьям сизым Покатится, как ртуть.Привожу стихи Арсения, хотя у меня по ассоциации мгновенно возник омытый дождем пейзаж Вермеера. Самопроизвольно? Или с подсказки Андрея, чья зацикленность на старых мастерах — само собой, его тезке Рублеве, Дюрере, Брейгеле, Леонардо, Пьеро делла Франчески — общеизвестна. Как и на старых музыкантах: Бах, Перголези, Перселл.
Дождь — образ всеобщего и личного ненастья. От него нет защиты, как от судьбы, он идет не только снаружи, он проникает внутрь, в помещение, в интерьер, и вот уже — это в фильме — целые куски штукатурки, подмоченные дождем, отлетают от потолка и медленно, как во сне, падают вниз.
Образ лихолетья, а не только пейзажа — образ, тесно связанный с поэтикой Арсения и одновременно философски от нее удаленный.
И стихи, и фильм — о парадоксе времени, ибо и часовой циферблат, и отрывной календарь времени не адекватны, а есть лишь условно принятый знак, символ времени, не более. Время для обоих ностальгистов-вспоминателей, отца и сына Тарковских — не последовательно развертывающаяся, однонаправленно векторная лента, но, скорее, как замечено было еще в двадцатые годы (не физиком, а писателем), многофигурная призма, вращающаяся вокруг своей оси, повернутая к человечеству (и к человеку) то одной, то другой стороной.
Мир — не только процесс, но еще и одновременное единство сущего, историческая взаимосвязь разных времен. Отсюда — свободное движение «из времени во время» лирических героев фильма «Зеркало» и поэзии Арсения Тарковского:
А стол один и прадеду, и внуку: Грядущее свершается сейчас…Стиховое слово обозначает расположение человеческой души в окрестном мире, ее неопределенные, смутные параметры и ускользающие координаты, подтверждает реальность ее существования, ставя его под сомнение. Альтернатива слову для поэта — не молчание, а небытие. Поэт и словарь — драма, достойная пера шекспирова. О эта давняя, как мир, мечта поэтов «без слова сказаться душой», ибо «мысль изреченная есть ложь», и не собственную ли тревогу вложил Шекспир в уста Гамлета: «Слова, слова, слова»?
Стихи попадают в печать, И в точках, расставленных с толком, Себя невозможно признать Бессонниц моих кривотолкам. И это не книга моя, А в дальней дороге без весел Идет по стремнине ладья, Что сам я у пристани бросил.Это — Арсений Тарковский, а вот другой молчальник русской поэзии — Мария Петровых:
Мы начинали без заглавий, Чтобы окончить без имен. Нам даже разговор о славе Казался жалок и смешон.Обет молчания, наложенный, увы, не по доброй воле.
Зазеркалье
Из области поэтики перенесемся в область политики: отступление вынужденное, пусть читатель меня за него простит. Хотя кто знает, не окажется ли оно более важным, а то и ключевым, в контексте разговора о семейной хронике отца и сына Тарковских.
Когда в шестидесятые годы появились первые стихи Арсения, их автору было шестьдесят — он всего на семь лет младше своего века. Он был также младшим современником Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама и Пастернака. Какая разная судьба! Тех — клеймили, преследовали, мучили, Мандельштама убили, Цветаева повесилась, но они все-таки успели проскочить в русскую литературу, а перед носом Арсения Тарковского дверь захлопнулась. И молодой поэт уполз в глубокий окоп, который назывался «переводы». Аналогичная судьба постигла — или настигла? — Марию Петровых, Елену Благинину, Семена Липкина, которые укрылись от прожорливого времени под защиту переводов — благо, многонациональная структура Советского Союза без работы их не оставила. Один из них даже перевел стихи Иосифа Джугашвили, но Сталин отверг этот двусмысленный подарок к своему последнему юбилею.
Спустя несколько десятилетий, а по сути целую жизнь, обрадовавшись их старческим дебютам, их склеротическому стиху, мы придумали чуть ли не целую теорию, согласно которой — «чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь». А речь была удивительна единственно тем, что дошла до нашего слуха — как замерзшие, а потом оттаявшие жалобы в романе Рабле.
В излюбленном мною покаянном жанре — вот что я сам писал в год выхода «Зеркала» в статье в «Воплях» («Вопросы литературы», 1974, № 2):
«Рядом с главными поэтическими магистралями всегда проходят боковые тропинки — идет подземная работа, крот роет свой ход, и никому не известно, что у него получится — убогая хижина или хрустальный дворец. Поэтические магистрали неожиданно кончаются тупиками, и тогда все обращают внимание на скромного крота и проделанную им работу. Завершился явный период поэзии — увы, печально и безрезультатно, но не прекращалась ее скрытая история, которая сегодня — частично! — становится известной читателю: так подземные реки внезапно выходят на поверхность земли».
Это и в самом деле выглядело так, стерилизованное от политики: выхолощенная концепция, приспособленная молодым критиком к цензурным требованиям, смазливая олеография.
Поэтический modus vivendi Арсения Тарковского сложился в полном уединении, до встречи с читателем — без читателя, даже без надежды на него. Да и на что надеяться, дрейфуя на оторванном от мира глетчере?
Горный воздух государства Пью на Цейском леднике.Как же, как же — только пригоден ли этот воздух для дыхания? Осип Мандельштам обращался к мертвому Андрею Белому: «Меж тобой и страной ледяная рождается связь…»
Арсения Тарковского спасла поразительная его способность — жить чужими несчастьями, чужую судьбу переживать как свою, зато свою — благодаря этому — избегнуть. Он вдыхал в легкие горный — и горний — воздух государства как острый запах срезанной травы, хотя только что в этом воздухе задохнулись Цветаева и Мандельштам. То, что для них было газовой камерой, для него — весенний луг с пьянящими ароматами трав. Это его и спасло — опосредованное чувство беды: чужой как своей, зато своей — как чужой.
Ценой поэтического молчания Арсений Тарковский получил право на жизнь, точнее — вид на жительство.
Согласно Сенеке, свобода молчать есть меньшая свобода из возможных, меньше не бывает, но и она была дефицитом, отпускалась по карточной системе и досталась далеко не всем.
В плане житейском Арсению Тарковскому крупно повезло — ему было дозволено молчать. В тогдашней лотерее, где проиграть значило быть ликвидированным, ему достался счастливый билет. Спасла его не только молодость, но еще и гипертрофированный эстетизм — горный воздух для него не страшен, ибо эстетически целителен. Это потом, задним числом, он припишет себя к поколению, чья судьба была пущена временем под откос.
Он оглянулся окрест и с удивлением обнаружил, что окружен не современниками, а тесно прижатыми друг к другу могилами. А на кого не то что могилы — гроба не хватило: Мандельштам. Тарковский был не просто долгожителем, который оказался одинок по биологическим причинам — как, к примеру, позабытый смертью Вяземский, последний сколок пушкинской плеяды, доживший до «Войны и мира» и отвергший ее. Арсений Тарковский — скорее человек, которому посчастливилось — и кто упрекнет его в этом! — избежать исторической судьбы своего поколения.
Ему повезло как человеку и куда меньше — как поэту.
Он дебютировал одновременно с сыном, и это его литературная трагедия. Оба — шестидесятники, евтушненки.
Тридцатилетнее поэтическое девство — слишком долго, слишком много.
Арсений Тарковский — старая дева русской поэзии: он опоздал родиться, опоздал отдаться читателю.
Отсюда его испепеляющая гордость, брюзгливое высокомерие с читателем — поступь даже не мастера, а мэтра, несостоявшегося законодателя, полководца без войска. Даже о поздней своей зрелости он говорит, как о драматическом, но все же преимуществе перед коллегами:
Не для того ли мне поздняя зрелость, Чтобы, за сердце схватившись, оплакать Каждого слова сентябрьскую спелость, Яблока тяжесть, шиповника мякоть.Гордая уверенность актера, которому чужой текст кажется личным открытием.
Арсений Тарковский не ограничивается тем, что подверстывает к чужим судьбам свою. Он и чужие судьбы подверстывает к своей, переиначивает на свой лад. Вот его лучшее стихотворение — про Осипа Мандельштама — с высоким пушкинским эпиграфом «Жил на свете рыцарь бедный…», с контрастным ему обыденным началом:
Эту книгу мне когда-то В коридоре Госиздата Подарил один поэт; Книга порвана, измята, и в живых поэта нет —и с очень сильным концом про мандельштамовские стихи, настоянные на судьбе:
Там в стихах пейзажей мало, Только бестолочь вокзала И театра кутерьма, Только люди как попало, Рынок, очередь, тюрьма. Жизнь, должно быть, наболтала, Наплела судьба сама.Сквозь портрет Мандельштама проглядывает, однако, автопортрет Арсения Тарковского: «Нищее величье и задерганная честь».
Пальцем в небо — это не про автора воронежских тетрадей.
Реальный герой, для которого поэтическая правота была во сто крат важнее и величья и чести — разве в этом драма жизни и трагедия судьбы Мандельштама? — опровергает героя сочиненного, а заодно и сочинителя.
Поэтическое высокомерие Арсения Тарковского от его кромешного литературного одиночества, от затаенной личной обиды: несколько десятилетий переводческой работы и полной безвестности как поэта. Слава наконец пришла к нему, но поза осталась прежней, позвоночник затвердел, переучиваться поздно: «Пера я не переучу и горла не переиначу…»
Он окружен стигийскими тенями современников-классиков — они кажутся ему живыми, а он — сам себе — мертвым:
Мне странно, что я еще жив Средь стольких могил и видений…Схожее чувство испытываю сейчас я, сочиняя эту свою книгу про вымерших героев, про вымирающее время.
Какая странная подмена: жизни — смертью! Смерть обошла Арсения Тарковского стороной — случайность он переживает как предательство. Тогда не было выбора, а теперь есть, и он предпочитает жить среди мертвецов, а не среди живых. Он догнал свое поколение с опозданием — когда оно было мертвым.
Был, конечно, в этом и расчет: в могилах лежат классики, и быть их пусть младшим, но современником, да еще в фамильных, фамильярных отношениях — почетно. Арсений вообще поэт рациональный, и рассудочный крен его творчества генетически передался Андрею, но именно в «Зеркале» тот преодолевает собственное рацио, выпустив память из-под контроля, дав волю снам и видениям, углубившись в зазеркалье подсознанки.
Будем справедливы: поверх расчета у Арсения нужда — догнать свое поколение хотя бы на пороге собственной смерти.
Приобщиться к трагедии, которой был свидетелем, а не участником. Что-то вроде запоздалого желания Исмены встать рядом с Антигоной и быть вместе с ней замурованной, но та отвергает жертвенные притязания сестры как необоснованные.
Впрочем, некрофильство, смертолюбие — неотъемлемая черта лирики всех «кротов» этого поколения. Мария Петровых пишет об этом с тихим отчаянием, которое действует на читателя куда сильнее головной риторики с дидактическим уклоном Арсения Тарковского:
Судьба за мной присматривала в оба, Чтоб вдруг не обошла меня утрата. Я потеряла друга, мужа, брата, Я получала письма из-за гроба.Однако ни у кого из поэтических сверстников нет такого обилия некрологических стихов, как у Тарковского. Он — плакальщик этого трагического поколения, которое жило «на самой слезной из земель» — таково ощущение Арсением Тарковским России.
Как и все плакальщики, сам он из породы сухоглазых.
Лжезеркало: мнимость сходства
Я пишу сейчас сдвоенную, совмещенную главу о фильме Андрея и стихах Арсения Тарковских — напоминаю это не только читателю, но и самому себе.
Андрею Тарковскому в «Зеркале» — с суфлерской подсказки отца — удалось, однако, больше, чем тому: круто разомкнуть личную судьбу в направлении исторического времени, драматизм одинокой индивидуальной жизни вывести в историческую ситуацию, когда Вторая мировая война и сжимающие в клещи с обоих флангов сталинские годы свидетельствуют о невозможности благополучия, а тем более счастья на этой зачумленной земле, бесконечную удаленность покоя от человеческой судьбы, блокированной кольцом трагедии. Будто цель этого жуткого времени, если таковая у него была и если улавливаема словами, — испытать человека на прочность, открыть пределы человеческой двужильности, границы физической и социальной выносливости. Ибо «человек есть испытатель боли. И то ли свой ему неведом, то ли ее предел» — стихи, понятно, не Тарковского.
Фильму «Зеркало» предпослан эпиграф — врач-гипнотизер излечивает мальчика от заикания:
— Ты сейчас будешь говорить громко и четко, свободно и легко, не боясь своей речи и своего голоса. Повторяй за мной: «Я могу говорить».
Как это похоже на уроки гласности десятью годами позже «Зеркала», когда бывшие лжецы, эзопы и молчальники учились говорить правду, только правду и ничего кроме правды.
А в фильме Андрея Тарковского происходит чудо — не только с мальчиком-заикой, который впервые слышит строй и гармонию собственной речи, но и с самим режиссером: пьянея от свободы и упиваясь ею (задолго до остальных компатриотов), Андрей полностью доверился внутреннему голосу — впервые в своей творческой практике.
С самого начала — и уже на весь фильм — у сына разлад с отцом. Тот, наоборот, учился всю жизнь молчать и постулировал своей музе немотство не из одного пиетета перед тютчевско-мандельштамовой моделью, но прежде всего из страха перед словом, которое ведет не только к истине, но одновременно — к тюрьме. Точнее — к истине, но через тюрьму, а то и смерть: не душа прикладывает девичий пальчик к губам, а кромешный советский страх. Недаром за кадром звучат сразу два голоса — голос поэта Арсения Тарковского, читающего свои стихи, и голос артиста Иннокентия Смоктуновского, который озвучивает невидимого автобиографического героя фильма — может быть, лучшая его роль, по этой именно причине: сыграть человека-невидимку одними модуляциями своего голоса! И два этих незримых, закадровых, зазеркальных героя, отец и сын — сопоставлены, сопоставимы, не тождественны.
Это фильм о сходстве, которое оказывается мнимым и поверхностным, о случайных совпадениях, о фиктивных дублях. В фильме «Зеркало» зеркало не простое, а кривое или волшебное. Молодая женщина смотрит в старое, потрескавшееся зеркало, но видит не себя, а старую женщину, какой она станет через несколько десятилетий. «Ты похожа на мою мать» / «Ничего общего» — это говорит один и тот же герой одной и той же женщине.
Таким же несходством схож Андрей Тарковский с Арсением Тарковским. Комплекс брошенного сына: идеализированный и одновременно отчужденный образ отца. И в конце концов реванш за одиночество и отринутость: художественный реванш.
Фильм движется смещенно к хронологии своей фабулы, а та выстроена пунктиром, с пропусками, недоговоренностями — в противоположность договоренности и обговоренности рациональных стихов Арсения Тарковского. Фильм Андрея обращен к зрителю иными эстетическими компонентами — внесюжетными, внерассудочными. Потому и календарь Андрей Тарковский выстраивает в фильме свой собственный, особый, метафорический, не стесняясь вступить в противоречие с календарем официальным или биографическим. Вот уже взрослым, вспоминая, Алексей спрашивает у матери, когда их бросил отец — в тридцать шестом или тридцать седьмом? Оказывается — в тридцать пятом. Так что напрасно неверная память Алексея соединила уход отца с трагическим ходом советской истории. Напрасно? А может быть, в этой аберрации памяти, в этом хронологическом уклоне от факта свой смысл, и благодаря ошибке мнемозиниста — по-русски прошлокопателя — удается драматизм женской судьбы вывести в историческую ситуацию, когда тридцать седьмой обрушился на человека как смерч и словно подтвердил в глобальном масштабе личную трагедию героини фильма.
Точка схода мемуара и летописи, драмы личной и драмы всеобщей, документа и искусства — эпизод в типографии, когда воображаемая корректорская ошибка приводит героиню к самому краю пропасти. Этот жуткий эпизод снят в ассоциативно-эзоповой манере — как иначе понять женщину, для которой корректорская ошибка значит больше, чем уход любимого мужа?
Этот безумный бег по ливневому городу, а потом по бесконечным типографским цехам — и отчаяние, и ужас, и страх: какая ошибка могла привести героиню в такое состояние? Андрей Тарковский так и не указывает конкретную причину этой центральной сцены своего фильма, и ни один советский зритель не поставит ему это в упрек, легко заполняя кроссвордную клетку соответствующим примером на собственное усмотрение. Я так мгновенно вспомнил рассказ про корректорскую ошибку в армейской газете времен войны, когда в слове главнокомандующий выпала буква «л» и редактор пошел под военно-полевой суд…
Героине фильма есть чего бояться, и портреты Сталина, развешанные в цехах, — живое напоминание о нависшей над нею угрозе за роковую ошибку в суперответственном издании: «Краткий курс»? сочинения Сталина? био вождя?
В том и секрет, что никакой ошибки не было, и когда героиня фильма в этом убеждается, она упрямо твердит:
— Но я же сама видела, собственными глазами…
И вот среди этого обложного ливня, что обрушился на шестую часть света, стоит голая, беззащитная героиня под душем, в котором нет воды.
Очень сильный режиссерский ход Тарковского-младшего.
Страх создает вполне реальную ситуацию — более реальную, чем сама реальность. И потому что у страха глаза велики, и потому что из всех наших чувств страх — самое действенное. У страхов есть страшное свойство — они сбываются. Здесь у отца с сыном спора нет. Поколение Арсения Тарковского убедилось в том сполна, да и поколению Андрея Тарковского это небезызвестно. Как и следующему поколению, к которому принадлежу я, а я младше младшего Тарковского на десять лет. Да, младший современник всех, о ком пишу свои метафизические романы, включая этот. В моих «Трех евреях» назван их настоящий автор и главный герой:
Владимир Исаакович Страх.
Что поразительно: Арсений в своих стихах это чувство скрывает, в то время как Андрей в своем фильме обнаруживает.
Нелепо было бы даже вообразить, что сыновья заражены этим отвратительным чувством в той же мере, что и отцы. Потому и обречена была хрущевская оттепель, а горбачевская все-таки выжила, хоть и выродилась черт знает во что.
Уровень страха у старшего поколения так велик, что они полонены и гипнотизированы им, связаны по рукам и ногам, страх запечатал им уста на всю жизнь, и страх не дает им говорить о страхе.
Андрей Тарковский смел настолько, чтобы мотив страха сделать композиционным зеркалом своего фильма.
В этом фильме зеркально либо зазеркально всё — от названия до сюжета, от эстетики до судеб. Само зеркало как таковое несет многочисленные функции, но сверхфункция, сверхзадача этого полисемичного образа — не столько даже отразить, сколько призматически преломить время, физическое, метафизическое, историческое. Здесь сталкиваются две противоположные идеи: идея времени — идея движения и изменения, и идея зеркала — идея неподвижности, дубля, повтора. Отсюда образы старых, потрескавшихся зеркал. Время изменяет даже зеркала, время меняет изображение в зеркале, время изнашивает и ничтожит человека — в том числе лицевой его образ в зеркале. Человек глядит в зеркало и не видит ничего, кроме самого зеркала. Сквозь зеркало он входит в зазеркалье собственных снов и похожих на сны воспоминаний, где необходимость и невозможность не противоположны, а адекватны друг другу. Колебания Гамлета, теория относительности, обретенное время Пруста, даже боги не могут изменить прошлого…
Время — это прогнивший сруб колодца, на котором тридцать лет назад сидела молодая женщина.
Время — это куски штукатурки, отлетающие от потолка и медленно, как во сне, падающие вниз.
Время — это стриженный под нулевку пацан, высокими «невесомыми» шагами поднимающийся на крыльцо деревенского дома: ломится в дверь — она не поддается, а уходит — дверь распахивается сама.
Время — это сон, это память, это воспоминание, которое невозможно вызвать насильно и от которого негде укрыться.
Старая женщина не узнает внука, и внук не узнает ее. Она живет воспоминаниями — живет в том своем времени, которого сейчас уже нигде нет, но для нее есть, и в конце фильма старая женщина идет с мальчиком, с тем самым Алешей, которого тоже нигде больше нет. Есть взрослый человек, и между ним и матерью — стена отчуждения.
Как и между ним и женой, которая похожа и не похожа на его мать, пусть обеих и играет одна актриса: Маргарита Терехова.
Разрозненные звенья памяти, соединить которые может только искусство.
Время — это воспоминание, память — это метафора.
— Почему ты приходишь ко мне, только когда мне плохо? — спрашивает беременная женщина бросившего ее мужа, и ее сон о его возвращении — это обморок памяти, обморок времени, возврат прошлого, такой желанный и такой невозможный наяву…
И вот уже современный мальчик, Игнат, попадает в дом отца, за столом сидит женщина и пьет чай, и вся она — словно цитация со старинного полотна. Она просит мальчика раскрыть переплетенную тетрадь и прочесть то, что отчеркнуто красным карандашом. И Игнат проборматывает этот трудный, взрослый, философический текст, спотыкаясь на незнакомых словах и не вникая в смысл:
«Нет сомнения, что Схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольские нашествия. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех… Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».
До какой же степени отчаяния надо было дойти Андрею Тарковскому, чтобы наперекор процитированным им в фильме словам Пушкина «переменить отечество»!
Понятно, почему столь ответственный, ключевой, концептуальный текст поручен мальчику — чтобы зритель услышал это письмо как бы впервые, чтобы удивился такой длительной актуальности пушкинского размышления о злокачественной русской истории и русской судьбе. Ведь и в «Ивановом детстве», и в «Андрее Рублеве» детям также даны весьма ответственные идейные поручения.
Устами младенцев глаголет истина.
И поразительно — мальчик кончает читать, медленно поднимает глаза, словно требуя разъяснений, которые не излишни и нам, зрителям, ибо здесь есть о чем подумать, о чем поспорить с автором письма, который адресовал его не только Чаадаеву, но и властным перлюстраторам, и было бы куда как печально прервать эти размышлизмы на полуслове. Но женщины уже нету, будто ее и не было, мальчик подходит к столу — нет даже чашки, из которой она только что пила чай, есть только на блестящей поверхности стола потное пятно от горячей чашки, но и оно на глазах мальчика исчезает, и брошенные, покинутые автором фильма, мы остаемся наедине с собственными раздумьями.
Время — это в том числе и влажный след от чашки чая, исчезающий на наших глазах.
Время — это вопросы, которые ставит перед человеком его мир, окрестный и внутренний:
Не я пять чувств, как пятерню Фома, Вложил в зияющую рану мира. А рана мира облегла меня; И жизнь жива помимо нашей воли.Андрей Тарковский продолжил своего отца, поведав то, что Арсений Тарковский не решился, не посмел, не сумел.
Субъективная кинокамера Андрея Тарковского показывает объективную, историческую судьбу советского человека, на плечи которого было возложено слишком много — не по человеческим силам.
Как в зеркале, мы узнаем в этом фильме растянутое на несколько поколений наше время.
Такова природа и суть невидимого автопортрета в фильме «Зеркало».
Посвящение-3. А. & А. Тарковским: Сон бабочки
Как бабочки с незрячими глазами…
Арсений ТарковскийНикто не тянул ее за язык. Шли годы, быльем поросло, как будто ничего и не было. Да и что было? Перепихнулись — big deal! Так для большинства, но не для нее. Не ее стиль. Если бы не его настойчивость, не ее легкое подпитие и крутое в те дни одиночество, ничего бы не стряслось. Хотя бывают моменты, когда все позволено. Пусть ошибка, минута слабости, прокол. Ничего больше. Просто похоть или что-то еще, кроме похоти? А что есть похоть? И чем отличается от страсти? Сношение — от соития? Языковые игры? Или смысловые? To make love without love? Это уже выражение в новой среде обитания, где они с мужем оказались, а любовник остался на родине, за океаном. Или это они теперь за океаном?
Нет, все эти легкие интрижки не в ее жанре. Не то что белая и пушистая, а другой стиль. Ни до, ни после мужу не изменяла. Точнее, так: она изменила ему дважды, но с одним и тем же человеком. С его близким приятелем. Нравственно это, конечно, осложняло ситуацию, но и облегчало ее — все-таки давний знакомый, с которым она много раз встречалась, разговаривала, танцевала, пару раз украдкой целовалась, но неглубоко и недолго. Велика разница — танцевать, обнявшись, можно, целоваться можно, а это — нельзя?
С чужим у нее вряд ли бы и вышло. А своих, отдельных от мужа, знакомых у нее не было, и его друзья были единственными, с кем она тусовалась на днях рождения, по праздникам либо просто на совместных пати, состав которых был всегда один и тот же: плюс-минус. Он ее никогда и не ревновал — принципиально, как он говорил. Да и поводов не было. У них сложились такие тесные, близкие, доверительные отношения, да и сношались они плотно, регулярно, полноценно, сверх меры, по несколько раз в день, секс не хилый, хоть и привычный, что у нее не было ни желания, ни возможности, ни времени подумать в этом плане о ком-то другом. Нет, он не держал ее на голодном пайке, она никогда не простаивала.
Но вот муж уехал, ее охватила тоска, родная сестра похоти или даже, может, ее эквивалент, а встретилась она с этим скорее его, чем ее, другом по его же, мужа, деловой просьбе, тот ее напоил и уболтал, хоть она особенно не противилась, смутно проигрывая этот вариант, когда ехала к нему, чтобы забрать эту клятую рукопись и отослать мужу в Ялту. Разве мы вольны в нашем воображении? Как и в снах, над которыми не властны. Было ей хорошо, утишило ее одиночество, хоть какое-то разнообразие, пусть и не обалдемон, но вспоминала этот тет-а-тет не без удовольствия, даже когда муж вернулся и, как в том анекдоте, — «пере*б по-своему», по-родственному, по-супружески, — не испытывая особого чувства вины, и постепенно эта мимолетная, случайная, не очень и нужная ей случка стерлась из памяти и сошла бы на нет, если бы не еще один аналогичный случай в схожих обстоятельствах с тем же партнером, по инерции, уже и Рубикон переходить не надо, он на это и напирал, уговаривая: семь бед — один ответ.
Они сделались по-быстрому, по привычке, а не по страсти, тоже в отсутствие мужа, но муж с ним к тому времени раздружился и был во враждебном лагере, и на этот раз она ощутила со стороны бывшего приятеля мстительный оттенок, как будто, трахаясь с ней, он брал реванш за разрыв с ним ее мужа. Вот почему, наверное, вторую измену она переживала всерьез, до сих пор, чувствуя в ней привкус предательства, не очень понимая, почему ее снова потянуло, и теперь уже точно решив ни в чем мужу ни в какую не признаваться. В его голове ничего подобного не укладывалось. Она представляла, как бы сильно он огорчился, ибо безоговорочно ей доверял. Тем более с бывшим другом, а теперь врагом: с обоими. Как бы с двумя. Что хуже? Первый раз или теперь? Но муж ничего не знает — значит, ничего и не было. Для него. Достаточно, что она сама до сих пор страдает и терпеть не может этого своего двухразового полюбовника и резко о нем высказывается всякий раз, когда кто-нибудь, а тем более муж, заводит о нем речь, не признавая никаких его достижений, хотя отечественные почести к нему как из рога изобилия. Но у него свои тараканы: Нобельки не хватает. Нобельку дали рыжему изгнаннику, а этот так, для местного потребления. Из-за того муж с ним и разошелся, обвиняя в сервилизме: правильный еврей. Нет, Нобелька ему не светит, хотя кто знает: еще не вечер, русским она давно не доставалась, а он так давно отсвечивает, что стал прижизненным классиком. Может, он и не чувствует себя лузером? Как там у Соломона? Псу живому лучше, нежели мертвому льву.
Мужу она его всегда поругивала, даже когда муж с ним дружил, а потом раздружился по идейным соображениям. Она понимала, что слегка выдает себя таким пристрастно-критическим отношением, но ничего не могла с собой поделать — не хвалить же ей человека, с которым у нее случился этот глупый, случайный, банальный адюльтер, и теперь она должна терзаться из-за пустяка: чем дальше, тем больше. В конце концов, у нее даже появились претензии к лоху мужу, который знать ничего не знает, даже не подозревает и понуждает ее нести эту ношу в одиночестве. Соблазн намекнуть ему и ввергнуть хотя бы в сомнения был довольно сильным, да хоть выложить всё, как есть, но она понимала все риски и непредвиденности с этим связанные, а потому помалкивала, хотя молчать становилось все труднее. Тем более словесные перепалки между мужем и любовником продолжались уже в печати, и любовник как-то в интервью объяснил эти атаки на него личными причинами и грозился подробнее рассказать о них в воспоминаниях.
Вот здесь она и вструхнула и, зная его мстительный и мелочный характер, предполагала, что он может рассказать и об их отношениях. Мандраж — да еще какой! «Скорее бы он умер!» — ловила себя на совсем уж дикой мысли. Здесь и встал перед ней вопрос: не упредить ли эти воспоминания и не рассказать ли мужу всё как есть? А если она зря суетится, и тот не решится написать об их интиме? Человек он скверный, конечно, но не до такой же степени. С другой стороны, в тот первый раз, когда у них это произошло, он поведал ей о своих любовных победах, в том числе о связях с женой своего литературного наставника и с женами парочки приятелей. А где еще искать подружек — во-первых, а во-вторых, условные эти табу его возбуждают, вспомнилась его сволочная аргументация.
Если ей он мог рассказывать о других своих связях, то с таким же успехом мог прихвастнуть кому-нибудь своей связью с ней. Не только бабам, но и мужикам. Общим знакомым, ужаснулась она. А муж всегда узнаёт последним. Если узнаёт. Вот он и узнает из воспоминаний, которые тот сейчас строчит. И тут она припомнила, какой был скандал, когда Войнович увел жену у Камила Икрамова, своего друга и учителя. Но там хоть по любви, а питерский литературный треугольник Бродский — Басманова — Бобышев? Проиграв поэтический поединок Бродскому, Бобышев перенес его в область секса и сошелся с Мариной не по страсти, а из мести. А почему трахалась с ним Марина? Результат бобышевской мести был сложный, амбивалентный: еще пара дюжин классных любовных стихов Бродского и его преждевременная смерть.
Хоть она и дала себе слово молчать, но молчание ей обходилось все труднее и труднее. У них не было тайн друг от друга, она во всем привыкла полагаться на него и не представляла ни одного своего более-менее серьезного в жизни решения без совета с ним. Но есть решения, которые человек принимает сам, импульсивно — не советоваться же ей, раздвигать ноги или нет в тех обоих случаях, когда она сделала это с его другом, а потом врагом. Что говорить, ситуация паршивая. Но теперь, хоть она и дала себе слово никогда мужу ни о чем не говорить, ее все больше тянуло всё ему рассказать. Ну, хотя бы намеком. Не всю правду, так полуправду. Есть такая правда, которую нельзя вываливать на близкого человека сразу, но постепенно, малыми дозами, приучая к ней. Не выдает ли ее, что она сама о своем двухразовом е*аре никогда не заговаривает, а если его имя и всплывает в разговоре и ей не отвертеться, то отзывается холодно, а то и с презрением, отрицая за ним какие-либо заслуги перед отечественной словесностью? Что не совсем так — перебор с ее стороны. Втайне она догадывалась, как того гложет зависть к Нобелевскому покойнику — и радовалась этому. Косвенным образом она была отомщена, но это никак не решало ее проблему отношений с мужем: сказать или не сказать? Выложить всё как на духу — или ничего не рассказывать?
Всё это приключилось с ней на девятом году замужества, муж был ее первым мужчиной и, честно, никакой надобы в других у нее не возникало. Само собой, какие-то воображаемые варианты у нее иногда мелькали, когда она смотрела кино или читала книгу, или просто задумывалась — не совсем же она не от мира сего! И это отдельное, автономное, бесконтрольное существование ее плаксивой, плачущей вагины, раздельность верха и низа нимало ее не смущало — она потому и вышла замуж целой, что, мечтая о принце и платонически влюбляясь, с ранних лет неистово занималась мастурбацией, и постельные отношения с мужем были естественным, непосредственным переходом от самообслуги к сексуальному партнерству. Как раз влюблена она в него поначалу не была, хоть и влюбчива, инициатива исходила от него, но она быстро свыклась с ним физически: единственный, с кем она раскована и не стеснялась своего желания. Нет, не нимфоманка, хотя иногда себя ею чувствовала: выдыхалась прежде, чем была удовлетворена. А хотелось ей еще и еще, несмотря на оргазмы. Всё было мало.
Муж вполне вроде физически ее устраивал, но она предпочла бы, чтобы он это делал более, что ли, по-мужски, грубо, а не с обычной своей чувственной нежностью. Ей хотелось, чтобы он входил в нее резче и глубже, а его сексуальную пальцескопию и даже оральный секс она терпела только как преамбулу, возбуждаясь всё более и дрожа от нетерпения, чтобы он скорее перешел непосредственно к коитусу. Он доводил ее до исступления своими пальцами и языком, когда орудовал ими у нее между ног, и она иногда не выдерживала и буквально силой заставляла перейти к прямому действию, втягивая его в себя и шепча, что для этого природой создан совсем другой орган.
Чего она, к примеру, никак не понимала, так это отношений лесбиянок — в отличие от педиков: как? чем? Хотя в каком-то далеком и полузабытом детстве были у них с подружкой игры во врачей, но потом она перешла на самообслуживание, а когда вышла замуж, очень редко прибегала к мастурбации. Разве что когда они с мужем на время расставались. Она бы и в тот раз ею ограничилась, кабы не поручение мужа по электронке. Помешан на компе! Его лечить надо от компьютерной зависимости — гугл, вика, емельки, эсэмэски, чаты. Нет, но почему с ней это стряслось опять и с тем же? В том-то и дело, что ее замкнутый и неприступный вид отпугивал потенциальных ухажеров, никто к ней, кроме него, с этой целью не подваливал, ограничиваясь комплиментами — «обман зрения», парировала она — но обе эти ее измены с одним и тем же человеком она все-таки никак не могла объяснить рационально: подсознательная причина, почему ее тянуло расколоться и обсудить всё с мужем. Хорошо устроился — почему она одна должна мучиться? — совсем уж невпопад думала она.
В свои тридцать шесть она не только выглядела на все пять баллов, но и чувствовала себя моложе — ну, скажем, как тридцатилетняя, и если на вопрос о возрасте сбавляла пару-тройку лет, то из нежелания искренне удивленных возгласов: хотела соответствовать своему внешнему виду и внутреннему самочувствию. В любом случае, до менопаузы еще далеко. Муж шутя объяснял это ее возрастное несоответствие качеством своей спермы, она сама — что нерожалая: ему дети были не позарез, потому что было достаточно ее, а ей — без разницы. Ей не нужны были ни дети, ни любовники, вот почему ее все больше смущал тот ее срыв, а тем более ненужный второй да еще с тем же человеком, который за это время превратился из друга ее мужа в его врага. В конце концов, мысль, что коли муж не знает, то этого как бы и не было — по крайней мере, для него, перестала ее утешать: сама-то она всё знает! Хуже того, эта гнусная тайна объединяла двух людей, ее включая, — против ее мужа, который о ней не ведал. Даже если бы ее случайный временщик не был болтлив, но она знала, какой это для него соблазн объяснять вражду к нему ее мужа тем, что он сводит личные счеты, зная про ее измену, о которой, она была уверена, муж даже не подозревал, веря ей абсолютно.
В таком вот удрученном состоянии она и отправилась с мужем в их обычный, на семейном сленге именуемый «бросок на север» — от вашингтонской удушливой, невыносимой августовской духоты. Она всегда кайфовала от этих путешествий с многомильными горными и лесными тропами, собиранием по пути, если повезет, грибов (в отличие от России, ни одного конкурента!), с французскими пирогами и патэ в Квебеке, и омарами и крабами на обратном пути в Мэне, не говоря уж о сексе на свежем воздухе где придется — супер! Вот тогда это случилось — так долго держалась, а тут дала течь.
Было это уже в Акадии, которая никогда их не разочаровывала: океан, заливы, озера, понды, даже свой фьорд, единственный на всем Восточном побережье. Как Пушкин называл Летний сад «мой огород», так они звали Акадию своей дачей, хотя «дача» состояла из вместительной палатки, надувных матрацев, спальников, фонарей, электрических чайничков, термосов и газовой плитки с баллончиками — на случай, если пойдут грибы.
У них были заветные места. Дикий океанский пляж, где они всегда одни, плавали голышом, ели сырьем мидии, раскалывая их камнями и запивая соленой водой из раковины, а потом отправлялись к ближайшему понду и бросались в пресную воду, чтобы смыть океанскую соль. Короче, кайфовали.
А любимый их кемпинг — Sea Wall, на берегу океана, с выносной каменной платформой, откуда они наблюдали огромные волны во время прилива и закат солнца. В том году гигантская возвратная волна, выше горизонта, смыла двадцать таких, как они, зевак — спасательным вертолетам и лодкам удалось спасти семнадцать, трое погибли. Он вовремя оттащил ее, когда она в ответ на его предостережения ответила, что здесь — не Филиппины, хотя достаточно малой тектонической подвижки во время такой вот штормяги.
— «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет…» Вот за это мы вас и любим, — сказал он.
Она была русская, муж — кавказских кровей. Взрывная смесь!
Возбужденные, на взводе, вернулись они в кемпинг, и днем, в палатке, у них был потрясный секс, такого давно не было, как в юности, как в первый раз, у нее оргазм за оргазмом — отпад, улет, чума! Надувной матрац не выдержал напряга их страсти и с громким шипением испустил дух — в инструкции были сплошные эвфемизмы: не играть, не прыгать на нем, а главное, чем на любых матрацах занимаются люди — е*ля — была прямым текстом не указана.
Вот тут с ней и случилась истерика, хоть и была сухоглазой, — и она раскололась.
— Я знаю, — сказал он и назвал имя ее мимолетного любовника.
— Откуда?
— От Вики узнал, — усмехнулся он, имея в виду Википедию.
— Он тебе сам сказал? — спросила она, ожидая от того любой подлянки.
— Да нет, не он, я бы ему и не поверил. Ты сама мне сказала, — удивил он ее еще больше. — Только во сне. В моем сне, — успокоил он ее. Своим снам верил беспрекословно, а она все наутро забывала, как будто ничего не снилось. — Это было давным-давно. Знаешь, в снах есть что-то вещее, божественное. Грибоедову приснилось «Горе от ума», Менделееву — Периодическая таблица. Я тебе сразу же поверил.
— Это было до того, как вы с ним разбежались?
— Да не волнуйся ты так. Не больно и важно. С кем не бывает? Не бери в голову. Это всего лишь секс. Постзамужнее расширение опыта за счет воздержания до замужества. До того, — ответил он на ее вопрос. — Когда я был в Ялте и просил тебя к нему зайти за рукописью, помнишь?
Еще бы ей не помнить! Принципиально он, может, и не ревнив, но подсознательно — еще как, коли ему снилось как раз тогда, когда это случилось.
— Разошлись мы, как ты сама понимаешь, не из-за этого сна.
— И ты все это время молчал?
— Но раз ты молчишь, то мне и подавно… Не рассказывать же тебе мои сны. Чужие сны не очень убедительны для других.
— Это и было как во сне.
— В смысле?
— Ну, обе эти случки. Что будем теперь делать? — спросила она.
— Жить дальше. Оставим всё это во сне. Помнишь притчу о китайском философе, который увидел себя во сне бабочкой, а проснувшись, не мог понять, человек ли он, которому приснилось, что он бабочка, или бабочка, которой снится, что она человек? Будем жить наяву.
На том и порешили и больше к этому не возвращались.
Его любовь к ней была сильной, страстной, благородной, но эгоистичной — он опять оставил ее одну с ее думами. В его же думы ей пробиться было никак. Он и был бабочкой, которой снится, что она человек.
Быть Анатолием Эфросом История одной скверности
Семнадцатое февраля. Было четвертое представление пьесы «Мнимый больной», сочиненной г-ном де Мольером. В десять часов вечера г-н де Мольер, исполняя роль Аргана, упал на сцену и тут же был похищен без покаяния неумолимой Смертью. В знак этого рисую самый большой черный крест. Что же явилось причиной этого? Что? Как записать?.. Причиной этого явилась немилость короля и черная Кабала!.. Так и запишу!
Булгаков. Кабала святош (Мольер)По-настоящему я познакомился с ним на генеральной репетиции «Мольера» в Ленкоме, хотя знал прежде, а сошелся позднее. Кроме нас двоих в зале больше никого не было, Эфрос прервал спектакль только однажды, казалось, он не смотрит на сцену, погруженный в свои думы. Я знал, конечно, о склоках внутри театра и наездах на его главрежа снутри, извне и свыше. Его присутствие в зале меня немного смущало, но постепенно я оказался вовлечен в трагический драйв. Это был беспощадный по искренности и автобиографизму спектакль, хотя конечно же Оля Яковлева, годившаяся Эфросу по возрасту в дочери, в кровном родстве с ним не состояла — в отличие от Арманды Бежар де Мольер, которую она играла: по версии Булгакова, та была не только женой, но и дочерью Мольера.
Про отношения Эфроса с Яковлевой говорили черт знает что — можно подумать, что он и в самом деле совершает какой-то чудовищный грех, а не делает то же самое, что делают мужчины с любимыми женщинами. На общем собрании в Ленкоме некто с трибуны заявил, будто Яковлева сказала: «Все равно он меня любит!» — «Раз она так сказала, значит, так и есть», — отшутился Эфрос.
Схожая история случилась в театре на Малой Бронной, куда Эфроса изгнали из Ленкома «очередным» с десятком его любимых актеров, — б. Еврейский театр, театр в подворотне, оф-оф-оф-оф-Бродвей, не помню, сколько именно «оф» он произносил:
— Можете не отвечать, — сказал ведущий.
— Нет, почему же? Здесь вообще все очень просто: любил, люблю и буду любить.
Сплетни об отношениях Анатолия Васильевича и Яковлевой были только малой частью «кабалы святош» против Эфроса. Прокалывали шины, разрезали дубленку, а когда приходил запоздно домой, находил дверь обколотой иголками в замысловатом колдовском узоре — враги призывали смерть на его голову. Посылали анонимки в ЦК и прочие вышестоящие организации, шельмовали, что развел в театре семейственность, а под «семейственностью» имели в виду работающих с Эфросом евреев (в том смысле, что евреи — одна семья), на собраниях спрашивали, когда он наконец уберется в Израиль. А когда Яковлева назвала его преследователей волками, стал ее успокаивать:
— Какая-то вы очень ругачая.
Сам предпочитал художественный ответ — прямоговорению.
Этот заговор, плетясь и разветвляясь, преследовал Эфроса всю жизнь, пока не перехлестнул через границы любезного отечества и не свел его в конце концов в могилу. «Банда!» — в сердцах воскликнул Эфрос на репетиции «Чайки» и поставил Чехова страстно, тенденциозно и односторонне: с точки зрения Треплева, который гибнет в смертельной схватке с мафией Тригорина — Аркадиной. Ошельмованный в сотнях постановок как декадент, Треплев для Эфроса не только трагический, затравленный герой, но и — «быть может, какой-нибудь Блок. Кто знает?».
«Мольер», «Чайка», «Три сестры», «Отелло», «Мизантроп» — это был нескончаемый опыт Эфроса по изучению механики интриги, кошмара интриги, цель которой уничтожение человека. Не беру эту мейерхольдовскую характеристику сюжета «Отелло» в кавычки, потому что слегка переиначил ее. Яго ненавидит Отелло за то, что тот мавр — другой. Потому и мавр, чтобы наглядно продемонстрировать его альбинизм, одиночество и изгойство. Будучи сам мавром и парией, Эфрос рассказал о бессилии человека перед интригой — перед тем как уничтожить его физически, она разъедает его душу.
Эфрос исключением не был. И дело не только в таких его вынужденных, конъюнктурных спектаклях, как «Человек со стороны» или «Платон Кречет», хотя посредственные пьесы Дворецкого и Корнейчука в его талантливой режиссуре, будучи более смотрибельными, звучали еще фальшивее, чем у бездарных режиссеров, ибо те ставили равнодушно и формально, а Эфрос вкладывал живу душу.
Помню один наш с Эфросом разговор, который оставил у меня тяжелый осадок: он стал защищать то, что прежде ненавидел. Я понимал, это спор не со мной, а скорее с собой прежним, тем более я никак не мог причислить Эфроса к широко распространенному в московско-питерской интеллигентной тусовке типу die harmonisch Platte, гармонических пошляков из Розового гетто и окрестностей. Но вот, после стольких передряг с властями и чернью (в данном случае театральной — от русофильских критиков до обделенных при распределении ролей актеров), после потери театра, после запрещения его спектаклей, после обширного инфаркта, судьба Эфроса наконец выровнялась, и он, совсем еще недавно человек резких экстримов, стал искать примирения с реальностью — чтобы его индивидуальное совпало с общим, государственным. Даже «Чайку» он хотел теперь поставить заново, иначе: не так раздражительно, менее эгоцентрично, более объективно, а Треплеву дать повседневный, не такой чрезвычайный характер.
Это было где-то в середине 70-х, как раз после инфаркта, из которого он чудом выкарабкался. Его смущали крайности и жесты — и чужие, и свои собственные, прежние. Он сказал мне, что готов теперь согласиться со своими критиками.
— И гонителями? — спросил я.
— Вы упрощаете, Володя.
— А разве ваша теперешняя нетерпимость к крайностям не есть сама по себе крайность?
Он рассмеялся, снимая напряжение:
— Это не крайность, а страсть.
— А прежде была не страсть?
В ответ последовала цитата:
Чтоб жить, должны мы клятвы забывать, Которые торопимся давать!Это было время, когда мир советской интеллигенции раскололся — на отъезжающих и остающихся. «Кто будет уезжать последним, не забудьте погасить свет!» — самодовольный, петушиный, отчаянный совет из тогдашнего анекдота, злободневная вариация на вечную тему «после нас хоть потоп». Более альтруистична формула Юрия Олеши: «Да здравствует мир без меня!», но необходимы мужество и талант, чтобы на нее решиться. Сейчас, отсюда, через океан, я уже не знаю, кому было тяжелее — остающимся или уезжающим, которые по крайней мере могли себе позволить громкие слова и широкие жесты. А тогда — не понимал. Когда мы с Леной образовали независимое информационное агентство «Соловьев — Клепикова-пресс» и «Голос Америки» стал в обратном переводе пересказывать напечатанные в «Нью-Йорк Таймс» и других американских газетах наши бюллетени, мы резко сократили число знакомств, чтоб никого не подводить, и общались только с теми, кто сам звонил. Или заходил без звонка, как наш сосед Фазиль Искандер. Звонка Эфроса я так и не дождался. А вдруг он тоже ждал моего звонка? В то время я об этом не подумал и уехал не попрощавшись ни с ним, ни с Наташей Крымовой, его женой, с которой дружил отдельно.
А тогдашний наш спор, часть которого я уже пересказал, начался со статьи Евгения Богата, отца Ирины Богат, моего будущего редактора в издательстве «Захаров», которая вместе с Игорем Захаровым придумали для третьего тиснения «Романа с эпиграфами» броское коммерческое название «Три еврея», уравняв всех нас (евреев, имею в виду). Статья эта была напечатана в двух номерах «Литературки» — про то, как школьницы избили до полусмерти свою подружку, а десятка два парней были зрителями и помогали советами: куда бить. Многовариантный, многопричинный, подробный, социологический, психоаналитический очерк, но — минуя первопричину: за что били? О причине вскользь, мимоходом, стыдливо.
Знак умолчания.
Несомненно: самосуд отвратен в любом случае, а жестокость, насилие и садизм — башмаками в лицо! — тем более. Но — за что били? Из намеков и недомолвок можно было догадаться: били за злоречие — жертва говорила в глаза и заглазно своим подружкам то, что о них думала. Это и меня взволновало, и я даже пожалел ненароком девочек, которых за их карательную акцию ждала нелегкая судьба в исправительных колониях. (Я был в одной в Суздальском монастыре — там не перевоспитывают, а калечат: на всю жизнь.) Но откуда было знать девочкам, что то, что позволено Юпитеру, нельзя быку? Почему можно бросить в тюрьму Амальрика, Марченко, Синявского с Даниэлем — все равно, за правду или злословие, — а избить подружку нельзя, хоть она тоже вела антипропаганду, мутила воду, выносила сор из избы? Почему властям можно, а их девичьему коллективу нельзя? Почему государство присваивает себе карательную прерогативу? И наконец, в стране, где критика официально наказуема, стоит ли удивляться школьному самосуду за критику?
Эфрос притворился, что статьи не читал, и вынудил меня ее пересказать. Он часто применял этот прием на репетициях, но я не актер и в его труппе не состоял. Я пересказал — тенденциозно, со своими комментариями. Эфрос, оговорив субъективность своих возражений и вынеся за скобки самосуд, который ему был так же отвратен, как и мне, сказал, однако, что жертва могла быть уродлива, нечистоплотна, злословила, шпионила, ябедничала и вообще не вписывалась, была неадекватна. Я напомнил о плетении сплетни вокруг «неадекватных» Чацкого и мольеровского Альцеста — тоже ведь злословили, почище девочки, иногда без большой на то нужды.
— А кто вам сказал, что оба, со своей невыносимой желчью, были правы? — возразил Эфрос.
Это был давний спор — не мой и не эфросовский: а что, если в самом деле фамусовская Москва состоит из вполне приличных людей и является надежной опорой миропорядка, а Чацкий — возмутитель спокойствия, бузотер, резонер и разрушитель?
Мой собеседник так не думал, но до меня вдруг дошло, что его раздражает, да он и не скрывал, и мы в конце концов позабыли и про избитую девочку, и про «мильон терзаний» Чацкого, все было названо своими именами. Насколько Эфросу было тяжело, можно было судить по оброненной им фразе:
— Остаться здесь труднее, чем уехать. И чтобы здесь жить и работать, необходимо большое мужество.
Как именно он сказал — большое или большее?
Признаюсь, я не любитель сравнений — кто больше страдает (или страдал). Типа: «Что ты говоришь об Х, ему дали всего три года, в то время как Y сидит уже седьмой год!» Страдание — не чин, разве может быть иерархия среди страждущих! Тем более я против апологетики страданий — мол, крест надо нести до конца, негоже выпадать из истории и покидать Голгофу. Еще как гоже! О, если б Мандельштам мог поступить подобно набоковскому Цинциннату Ц. и уйти с Голгофы! Кстати, задолго до первого ареста у него была возможность слинять (вызов Балтрушайтиса из независимой Литвы), но он предпочел остаться, о чем наверняка жалел, не мог не жалеть, когда настали тяжкие времена. Бабель мог остаться в Париже, Мейерхольд с Зинаидой Райх — в Риме и т. д. Самые сильные стихи против эмиграции написала не Ахматова («Когда в тоске самоубийства…»), а мой современник, националист и реакционер Стасик Куняев:
Вам есть, где жить. А нам — где умирать.* * *
Вот чем кончился поиск судьбы, вот какого он жаждал финала! Ни оркестра, ни гласа судьбы, ни амнистии, ни трибунала.Такой дилеммы, такого выбора — между жизнью и смертью, между эмиграцией и судьбой — ни перед кем из нас не стояло: ни перед знаменитым Любимовым, ни перед безвестным Лифшицем. Эфрос выбрал остаться, я это говорю не как о заслуге, хотя из пятерки ведущих советских режиссеров ему было тяжелее других. К прочим обстоятельствам добавлялось, что в отличие от Любимова или Ефремова ему повезло родиться евреем: чистокровным, типичным, ярко выраженным, местечковым — короче, жидом. Факт биографии, который при определенных обстоятельствах становится отметиной судьбы. Когда мы сошлись ближе, я наслышался множество рассказов на этот сюжет от всех членов его семьи, за исключением собаки, имя которой у меня запало. Наташа Крымова рассказывала о переживаниях ее мамы, среднего калибра партийной дамы, когда та познакомилась со своим будущим зятем:
— Ну, ладно, Эфрос, но чтоб так был похож!..
Безусловно, Эфрос любил Наташу, и ее личная семейная драма в том, что она не была актрисой. Драма (если это драма, а не счастье) Эфроса — что он любил двух женщин.
Точка.
Их сын Дима вошел в театральную жизнь столицы (как художник) под фамилией Крымов, хотя он боготворил отца и был против; и Наташа была против — настоял Эфрос. А в самом деле, так ли уж существенно, что Гарри Вайнштейн стал шахматным чемпионом под именем Каспаров?
Не знаю уж, от кого и что скрывая, Эфрос со студенческой скамьи был для всех Анатолий Васильевич, хотя в паспорте у него стояло Исаакович, и однажды из-за этого разночтения ему не удалось получить гонорар за статью. А в его некрологе, подписанном кремлевскими лидерами во главе с Горбачевым, был найден паллиативный путь — в нем сообщалось о смерти Анатолия Исаевича Эфроса.
Как-то, ссылаясь на актерский опыт Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, Ефремова, Любимова, я спросил Эфроса, не хочется ли ему иногда самолично появиться на сцене.
— С моей-то внешностью!
Я не понял.
— Ну, для меня нужны специальные пьесы. Из местечковой жизни. А мне это не интересно.
Или он сказал «не очень интересно»?
Эфрос не отрицал в себе еврейство, скорее загонял его в самый дальний угол душевного подполья — как Пастернак («О если б я прямей возник…»), но Эфросу напоминали о том, что он жид, чаще, чем Пастернаку.
Есть такой жестокий закон — кто прячется, того как раз и ищут, а любимое блюдо испанцев — осьминог в собственных чернилах, которые он выпускает, чтоб спастись. Во всяком случае, кроме как в статьях об Эфросе, я больше не встречал таких явных рецидивов «борьбы с космополитами» — в том смысле, что, мол, негоже эфросам калечить нашу русскую классику.
На последнем собрании в Ленкоме, где он проработал-то всего три года — ср. с «семнадцатью мгновениями весны» на М. Бронной! — Эфрос пошел ва-банк и зачитал анонимные письма, где его обзывали пархатым. Даже те в труппе, кто был против него, возмутились и стали на его защиту. Однако это была пиррова победа — этим своим отчаянным поступком он как бы отказывался от «Васильевича», отречение от отречения, именно так поняли чтение Эфросом анонимок те, кто его снял. «Мольер», его последний спектакль в Ленкоме, был запрещен. В иные, чем сталинские, времена это напоминало именно сталинские: так были лишены театров Мейерхольд и Таиров. Из больших советских режиссеров послесталинского периода только Эфроса постигла такая злая судьба, потому что одно — когда тебе время от времени запрещают спектакли (у Эфроса больше других), другое — когда тебя гонят в шею из твоего театра. Андрей Амальрик в связи с этим писал: «Боюсь, что при смещении и назначении режиссеров с 1967 года этот критерий стал основным». И далее о Юрии Любимове, самом политизированном режиссере: «Думаю, что, если бы при всех прочих качествах он носил бы фамилию Цирлин или Цицельзон, от его театра остались бы рожки и ножки».
Насколько я знаю, Эфрос только однажды, да и то мимоходом, коснулся этой темы в своем творчестве, но поднял на такую трагическую, шекспирово-шейлоковскую высоту, что многим из нас, знавшим его лично, впервые стало понятно, как болезненно он ее воспринимал. Яичница, этот побочный, почти стаффажный персонаж гоголевской «Женитьбы», в постановке Эфроса выдвинулся на передний план, вровень с главными персонажами. Говорю о спектакле на Малой Бронной, где Эфрос проработал очередным режиссером 17 лет и жалел, что ушел на Таганку; его раннюю версию «Женитьбы» в Центральном Детском я не помню, а позднюю, в Миннеаполисе, не видел, хотя жил в то время в Америке, но от Нью-Йорка до Миннеаполиса — о-го-го!
Это вообще в эстетических да и в нравственных принципах Эфроса — для него не существовало второстепенных, побочных, маргинальных ролей, переживания всеми забытого Фирса не менее важны, чем переживания Раневской, массовку, кордебалет, древнегреческий хор он не признавал. Вот почему так сильно промахнулся тот знаменитый актер, который оскорбленно отказался от предложенной ему роли Яичницы — ввиду полной ее ничтожности.
А во что превратил ее с подсказки Эфроса другой знаменитый актер — Леонид Броневой, согласившись на нее? В трагедию, которая началась с самого рождения и продолжится до самой смерти, потому что, как Каинова печать, поверх личных качеств, лежит на этом человеке проклятие — его фамилия: Яичница.
Было бы упрощением видеть в «Женитьбе» только идеологический намек, но и не обратить на него внимание — невозможно. Начать с того, что Эфрос конечно же ошинелил «Женитьбу» — метаморфоза, сродни той, которая произошла с «Шинелью» Ролана Быкова: так бы, наверное, поставил фильм по гоголевскому сюжету сам Достоевский. А возможно ли ставить теперь «Шинель», делая вид, что не было в России писателя, который признался, что «все мы вышли из „Шинели“»? Что, если как раз наоборот — все предыдущие постановщики «Женитьбы» излишне оводевили-ли ее, ни разу всерьез не прислушавшись к горестным жалобам героев?
Изначально Эфрос хотел поставить ее именно как комедию — приходил в себя в больнице после инфаркта и задумал веселый спектакль о совершенно невероятном событии, как Подколесин решил жениться, а в самый последний момент передумал и выпрыгнул в окно. В фойе театра решил развесить фотографии актеров — холостых и женатиков, чтобы зрители по их лицам сами решали, что есть счастье, а что несчастье. Принесли ему в больницу пьесу — открыл он ее и стал читать:
«Вот как начнешь один на досуге подумывать, так видишь, что, наконец, точно надо жениться. Что в самом деле? Живешь, живешь, да такая, наконец, скверность становится».
Над словом «скверность» Эфрос надолго задумался.
Уже поставив спектакль, он, словно оправдываясь, ссылался на самого Гоголя: мол, стоит чуть подольше приглядеться к комедии, как она легко обернется трагедией. Да и умели ли русские писатели сочинять чистые комедии? Это уже мой вопрос — не эфросовский. Разве «Горе от ума» — комедия? Или «Смерть Тарелкина»? Или «Вишневый сад»? Все — с подковыркой. Комедии-оборотни, с трагической изнанкой комедийных персонажей — у каждого смех сквозь слезы, у каждого на душе своя скверность.
«Участь моя решена. Я женюсь».
Нет, это, конечно, не Подколесин. Так писал Пушкин в автобиографическом наброске в мае 1830 года, незадолго до трагической женитьбы.
У Подколесина нечто схожее: он решает жениться — будто в пропасть бросается. А ведь невеста хороша, и возникают между ним и купеческой дочкой Агафьей Тихоновной некие флюиды, таинственные биотоки любви, chemistry, как говорят в стране, гражданином которой я теперь являюсь, — до чего ж точно, высоко и проникновенно сделан был Эфросом и его актерами Олей Яковлевой и Николаем Волковым этот чудный дуэт, этот разговор-мечта, что он до сих пор стоит у меня перед глазами, как будто я его видел только вчера. И вот отступает от обоих вся «скверность», будто и не было ее в помине, и слышно, как летают над ними ангелы и что-то такое на своем ангельском языке им то ли нашептывают, то ли напевают.
Сцена разделена надвое, и каждая часть обрамлена рамой.
В одной — разноцветные диванчики, пуховички, клетки с попугаями, и Агафья Тихоновна в центре, сдобная, экзотичная, мечтательная и беззащитная девушка, которой так хочется убежать от своей скверности — купеческого быдла и крутого одиночества — и выйти замуж за человека, за дворянина, за Подколесина. «Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю», — говорит ей сваха Кочкарев, и с какой готовностью, с какой мукой и страстью отвечает она:
— Как же, давно готово!
Оля Яковлева так играла свою героиню, словно набирая с каждым эпизодом трагическую силу. Она была эфросовской Галатеей — не в том смысле, что он влюбился в собственное творение, не только в том, а в том, что он создал ее, она была послушным, податливым материалом. Мою спутницу на этом спектакле — и спутницу в жизни — больше всего поразило, что режиссер-мужчина знает то, что, по ее мнению, известно только женщинам.
Впрочем, и о мужчинах Эфросу тоже кое-что было известно.
В соседней раме стояла наготове черная карета — и ничего больше.
Весь выбор.
Дом или табор?
Домоседство или скитальничество?
Рабство семьи, рода, отечества — или одиночество свободы?
«Женитьба» была поставлена в разгар отъездов, и это был ответ Эфроса на мучительный вопрос — уезжать или оставаться? И ответ был так же сложен, как вопрос: Эфрос выбрал остаться, а его героя в самый последний момент умчит черная карета.
Была в этом своя предопределенность: Эфрос не мог уехать, а Подколесин не мог остаться. И в самый идиллический момент спектакля, когда мы забывали о неслучайной фамилии героя, ждущая своего ездока черная карета напоминала нам о соблазне, который Подколесину не дано преодолеть.
Не гоголевская тройка, не «какой русский не любит быстрой езды», а именно карета, русская карета, которая увозила героев куда глаза глядят — с кого это повелось? с Онегина? с Чацкого? с Чаадаева, который так никуда и не уехал, но послужил тем не менее прообразом для героя «Горя от ума»?
От одной скверности к другой…
Ведь даже у добровольной свахи Кочкарева — его бешеную и бессмысленную, лихорадочную и пустую энергию замечательно передавал Михаил Козаков, — чуть не сыгравшего (невольно) для Агафьи Тихоновны роль ангела-хранителя, судьбы-сводни, и у него на душе скверность.
И у Жевакина своя скверность — его играл Лев Дуров, — вот уж никак семнадцатый раз невеста в последний момент отказывает. И с трагической силой звучат его настойчивые вопросы, обращенные сначала к ушедшей невесте, а потом — находка режиссера и актера! — к Богу:
— Сударыня, позвольте, скажите причину: зачем? почему? Или во мне какой-либо существенный есть изъян, что ли?..
Дуров оглядывал себя с ног до головы и изъяна не находил.
— …Непонятно.
Опускаю несколько фраз, чтобы перейти к главной, которую Дуров произносил с потрясающим зал отчаянием — судорожно стуча кулаком по лысой голове, он кричал:
— Ей-богу… уму непонятно.
И, наконец, Яичница, со своей «фамильной» скверностью.
C чего и как внутри гоголевской комедии образуется эта всеобщая трагедия? Что за двойничество — то смешно, то страшно? Что за скверность, что за оборотничество — свадебная процессия превращается в похоронную…
Посредине сцены театра на Таганке Эфрос вместе с художником Валерием Левенталем устроил кладбище с крестами и могильными памятниками — в качестве зрительной метафоры «Вишневого сада». Герои спотыкались о памятники, они жили среди могил, утрат и воспоминаний и пугливо, и как-то даже агрессивно отмахивались от предупреждений Ермолая Алексеевича Лопахина — время не ждет, время не ждет, время не ждет. Думаю, это была лучшая роль, когда-либо сыгранная Владимиром Высоцким.
В отличие от своих предыдущих, нацеленных на современность постановок Чехова — заклейменных критикой и запрещенных властями «Трех сестер» и «Чайки», — Эфрос поставил «Вишневый сад» как спектакль исторический и даже заключил его в тесные хронологические рамки, подсказанные ему двумя идейными антагонистами, «старорежимным» Фирсом и картавым à la Ленин буревестником Петей Трофимовым: между 1861-м и 1917-м, с «воли» до революции. Да и разве не странно было бы играть эту историческую и пророческую пьесу как сугубо психологическую?
С удивительной точностью обозначил Эфрос исторические координаты действия — в героях его «Вишневого сада» мы узнавали не себя, что присуще чуть ли не любой чеховской постановке, но отдаленных от нас исторических персонажей, которые словно сговорились не замечать Времени. Они не замечают — мы замечаем, ибо знаем, чем кончилось то, что именно тогда началось. На этой антитезе и строился весь спектакль, который ставил зрителя в положение активного соучастника театрального действа.
Время для них остановилось — для Фирса пятидесятилетний Гаев все еще «молодо-зелено», и он его пестует, как неразумное дитя; Шарлотта не знает ни сколько ей лет, ни кто она; Петя Трофимов — вечный студент, таким и умрет. Символ вневременного постоянства — столетний шкаф, и монолог Гаева — это обращение к двойнику.
Все они не в ладах с настоящим, отсюда пустопорожняя болтовня Гаева и восторженные монологи Трофимова. Все они — прожектеры, мечтатели; их жаль и не жаль, уж слишком они легковесны, легкомысленны: Время взвесило их на весах и нашло слишком легкими. Вот что Эфрос в первую очередь подчеркивал — вмешательство Времени в частные судьбы людей. Трагический смысл он подал гротескно.
Даже Раневская, острее всех ощущающая стремительное, клочковатое, разрушительное, неумолимое Время и острым глазом подмечающая, как все стареют — Фирс, Гаев, даже Петя, — даже она бежит от собственного знания, будто надеется, что для нее будет сделано исключение и Время пощадит ее лично. Отсюда чудовищная косность героев, их постоянство и неизменяемость, власть над ними привычек — своего рода запой: Гаев возвращается к бильярду, Трофимов к проповедям, Фирс, стоя одной ногой в могиле, продолжает нянькой ходить за своими хозяевами, Раневская умиляется вишневому саду, как домашнему очагу.
Вишневый сад — единственная у нее реликвия, и она тем не менее палец о палец не ударит, чтоб его спасти.
При такой трезвой, жесткой, пародийной и одновременно трагической трактовке все герои в спектакле освещены особо ярким, безтеневым светом — на просторной сцене им некуда спрятаться: они на виду, вся их жизнь на виду, очевидна их обреченность. И то, что они так тщательно от самих себя скрывают, от зрителей вовсе не скрыто — вот почему их суетливые потуги затаиться выглядят жалко. Ветер раздувает белые занавесы, вот-вот сорвет их и заодно с ними снесет весь этот зыбкий, призрачный, фиктивный мир, в котором живут — нет, доживают — герои «Вишневого сада». Погост посредине сцены ждет этих временных стояльцев, чье время кончается, в свои вечные хоромы. На этом спектакле как-то особенно ясно становилось, почему «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три…»
Пришел врач, предлагает лечение — тяжелое, но единственное, последний шанс, без него не выкарабкаться, но никто врача не слушает, и кажется, что и он уже вовлечен в эту всеобщую болезнь времени, заразился ею и обречен — и вот уже деловой Лопахин говорит что-то о цветочках, бьется в истерике, ну совсем на манер Раневской. Несомненно, Эфросу в этом спектакле повезло на Высоцкого — как Высоцкому, в свою очередь, на Эфроса.
У всех «двадцать два несчастья», у всех своя скверность, все спотыкаются о собственное прошлое, как Епиходов о надгробия, не в силах забыть, что было, и подумать, что будет. Один Лопахин, с его цепким, прагматичным умом, печется о настоящем — не только, кстати, своем: он — врач, диагноз которого никто не хочет слушать, а лекарство принимать. Ведь даже звук упавшей бадьи — как метроном, как огненные письмена на Валтасаровом пиру, и этот звук хоть и заставит вздрогнуть всех этих историей обреченных людей, да только на мгновение, и тут же будет всеми дружно забыт.
Высоцкий играл выдержанного, изящного, умного человека, но самая его сильная сцена, когда Лопахин не выдерживает, лишается вдруг трезвого разума и никак не может понять, что же ему привалило с покупкой вишневого сада — счастье или несчастье. Истеричный, пьяный танец Лопахина неожиданно роднит его и с оголтелыми рыданиями брошенной Даши, и с тремя плачами Раневской (ее играла Алла Демидова, быть может, слишком монографично, в ущерб общей концепции Эфроса), и со слезами Вари, и с общим безутешным плачем всех героев этой странной и не очень смешной комедии Чехова, которая, начавшись с приезда Раневской, кончается смертью Фирса, всеми забытого, заброшенного, никому не нужного, как сколок давно ушедшего, канувшего в Лету времени.
Не знаю, жалел ли Любимов, что пригласил Эфроса в свой театр на разовую постановку, но именно «Вишневый сад» расколол театр на Таганке и поссорил двух лучших режиссеров, а вовсе не отъезд Любимова и назначение на его место Эфроса. В отличие от режиссера-постановщика Эфроса Любимов — постановщик по преимуществу, общее для него важнее частного, индивидуальность актера он обычно игнорирует, требуя от него только подчинения своим блестящим схемам. Эфрос в разговорах ссылался то на Мейерхольда, то на Станиславского, он извлек уроки из обеих систем, свои концепции обычно «заземлял» через актера, с которым очень любил работать, и одну из своих книг назвал «Репетиция — любовь моя». Если бы Эфрос не стал режиссером, то нашего полку — имею в виду литературных критиков — прибыло бы, его литературные разборы превосходны. Из театральных режиссеров обеих столиц России он был самым пристальным, непредвзятым и удивленным читателем классики. Не будь я знаком с ним лично, заподозрил бы, что «Дон Жуана», «Женитьбу», «Бориса Годунова», «Вишневый сад» и «Героя нашего времени» он прочел впервые — перед тем как ставить.
Алла Демидова так объясняла разницу между двумя любимыми режиссерами:
«Представьте себе — вот актер, а вот стул, с которым он должен работать, как с лошадью. По системе Станиславского, актер говорит: „Я вижу лошадь и соответственно себя с ней веду“. По-Любимову: „Я не могу не видеть, что это стул, но я должен обращаться с ним, как с лошадью“». По-Эфросу: „Это, конечно, стул, и я его воспринимаю и трактую, как стул, но если я загляну глубже, то почувствую, что сейчас поскачу на нем верхом“».
Иными словами, теза — антитеза — синтез.
Речь сейчас не о том, чья система лучше, хотя в творческом споре Любимова и Эфроса я был на стороне последнего. Это не значит, что я принадлежал к числу его слепых поклонников и был «прикован к его театру, как жук к пробке».
К примеру, его «шекспириада» оставила меня равнодушным, и как-то на улице Черняховского, в Розовом гетто, где мы случайно повстречались, он на меня страшно раскричался из-за того, что мне не понравился его «Отелло». Признаюсь здесь, что и любимовский «Гамлет» мне не очень нравился — за исключением разве что придуманного Давидом Боровским «занавеса», по сути главного героя спектакля, но этого на три часа сценического действия явно недостаточно. В их политическом споре — после отъезда Любимова и назначения Эфроса на его место — я не взял ничьей стороны, а потому не принимал и не понимал упреков Любимова Эфросу, как и странного его пожелания смерти собственному театру, у которого, видит Бог, не было возможности последовать примеру своего художественного руководителя и стать коллективным невозвращенцем. Я бы говорил не о безнравственности поступка Эфроса, взявшего предложенный ему театр на Таганке после долгих раздумий и оттяжек, — скорее, о трагическом легкомыслии его решения. Ведь даже работа над «Вишневым садом» у Любимова была для него тяжкой, он чувствовал себя Станиславским в театре Крэга, а вернувшись к себе на Малую Бронную, с облегчением вздохнул: «Когда постранствуешь, воротишься домой…» Дело здесь не в этике — Эфрос явно не рассчитал своих сил, хотя самому театру на Таганке, несомненно, повезло: на место одного талантливого режиссера пришел другой талантливый.
Мне тяжело было читать выпады иммигрантской прессы против Эфроса — это было продолжение его травли, продолжение заговора с целью уничтожения человека. Естественно, я бы отверг любые выпады Эфроса против Любимова, если б они последовали, но их не было — Эфрос отзывался о своем предшественнике с неизменным уважением, настоял на восстановлении его спектаклей, воспрепятствовал уничтожению его мемориального кабинета с испещренными автографами стенами и, когда Горбачевы пришли на «Мизантропа», ходатайствовал о возвращении Любимова. А когда ученики Любимова принесли ему на подпись ходатайство о возвращении из-за границы учителя, Эфрос, не будучи его учеником, несколько раз вычеркивал написанные собственноручно фразы, пока его мнение не выкристаллизовалось в следующую:
«Присоединяюсь к просьбе учеников Ю. Любимова помочь ему вернуться, если он сам того желает».
Это очередное провидение Эфроса, потому что Любимов — тогда — вовсе не собирался возвращаться в любезное отечество, но и слухи о своем возвращении не дезавуировал. 11 января 1987-го в Бостоне, после премьеры «Преступления и наказания» в Вашингтоне, он на встрече с иммигрантами ответил на вопрос о возвращениии:
— Не знаю… А вы?
Само собой, смех в зале.
На вопрос Володи Козловского в интервью для «Нового русского слова» ответил прямо:
— Я хочу работать на старой сцене, но я не желаю видеться с господином Эфросом и вступать с ним в какие-либо контакты.
Никаких сомнений: возвращаться в Россию Любимов в то время не собирался, но в интриге участвовал с удовольствием. В конце концов, интрига — тот же театр.
В связи со слухами о возвращении Любимова «ругачая» Яковлева пишет:
«Абсолютно убеждена — все интриги плетутся на очень низменном уровне и обговариваются на бандитском жаргоне. Ничто меня с этой точки не сдвинет. Страна бывших зэков и следователей ГПУ. Одни сидели, другие сажали, третьи охраняли. А четвертые ждали посадки. Лагерная генетика — и жаргон оттуда же. А сейчас еще пуще… В общем, интрига крутилась. Чтобы жизнь в Москве не казалась медом…» — и описывает смерть Эфроса как убийство.
Кто знает.
Он жил между молотом и наковальней, между Сциллой и Харибдой, или, как здесь говорят, between the rock and the hard place. Между семьей и Яковлевой, между властями и актерами, между театром и тенью Любимова, которую тот выслал в Москву, чтобы плести интригу и шантажировать соперника, а сам колесил по миру и ставил спектакли в Европе, Израиле, Америке.
Кто знает.
Когда из Москвы пришло печальное сообщение, Сережа Довлатов пошутил в том смысле, что Любимов, наверное, послал Горбачеву телеграмму, поставив условием своего возвращения смерть Эфроса, а Эфрос, как человек интеллигентный и уступчивый, взял да и помер. Пора уже сказать, что в давней той театральной распре победителей не было, одни только побежденные, одни жертвы — и мертвый Эфрос, и переживший его Любимов.
Вспоминаю сейчас, как после спектакля «Брат Алеша» заявил Эфросу своеобразный протест за то, что он лишил меня, зрителя, свободы восприятия — все первое действие я проплакал, а все второе переживал свои слезы как унижение и злился на режиссера. В ответ Эфрос рассмеялся и сказал, что он здесь вроде бы ни при чем, во всяком случае злого умысла не было:
— Вы уж извините, Володя: я и сам плачу, когда гляжу.
Сам того не желая, я ему однажды «отомстил». Они с сыном ехали в Переделкино — Эфрос рулил, а Дима читал ему мое о нем эссе, только что опубликованное в питерском журнале «Нева». Вдруг Эфрос съехал на обочину и остановил машину:
— Не могу дальше, ничего не вижу.
Эфрос плакал.
Не знаю, что именно так задело его тогда.
Главная антитеза «Брата Алеши»: подвижность — неподвижность. И не только самого спектакля, но и нашего восприятия.
Ко времени смерти мальчика Илюши мы уже перестрадали за него, потому что нам известны и диагноз врача, и предчувствие Лизы, и предсказание Алеши — мы вымотаны, измочалены, эмоции вконец исчерпаны, нервы на пределе. Блестящими, сухими и злыми глазами следим мы за безумной и в безумии своем эгоистичной и бесчувственной Ариной Петровной и ее борьбой за игрушечную пушечку, последнюю реликвию, которая связывает ее отчужденное сознание с реальным миром. Она — козел отпущения: и для несчастного Снегирева, и для измученных зрителей. К тому же она еще и цветочек просит, а ей не дают, и пушечку отбирают — наше мстительное чувство удовлетворено, мы торжествуем, и тут только замечаем беспомощное, жалкое, детское, заплаканное и нелепое на фоне трагедии, ей невнятной, ее лицо — и становится нам тогда не по себе: от чудовищной нашей несправедливости.
Ах, как избирательна наша жалость: жалея одних, мы обижаем других. Ради мертвых, во имя их, унижаем и заставляем страдать живых. Вспомним о мертвых, когда они еще были живыми, — Илюша ведь отдал помешанной матери ее бессмысленную игрушку, злополучную эту пушечку!
И когда унесут гроб с ее мальчиком, неподвижная — весь спектакль! — Арина Петровна вырвется из своего кресла и закричит — так велико горе, что оно пробьет коросту ее безумия, достанет ее спящее сознание.
А «под занавес» Алешина проповедь, его надгробное слово, его прощальная речь к зрителям — поначалу она кажется чудовищной, чуть ли не святотатством, особенно его призыв запомнить день похорон как что-то очень светлое и прекрасное. И не только его речь, но и сам он, с его беспомощной добротой, иезуитской интуицией, всепониманием, всепрощением, релятивизмом и спекуляциями — даже смертью, ибо с ее помощью этот фантастический проповедник продолжает искушать нас добром. Однако даже эта речь, потрясающая нас эмоционально и вызывающая сопротивление и негодование, оправдана в философском итоге спектакля нашими последующими о нем размышлениями. Призыв к человечности, который поначалу кажется нам бесчеловечным, возвращает нас в конце концов снова к человечности.
Ибо со смертью Илюши эмоциональный сюжет спектакля завершен, но продолжается его философское и нравственное движение. Фабула исчерпана, но не зря же, черт побери, мы все это пережили вместе со штабс-капитаном Снегиревым, Алешей Карамазовым, Лизой и даже Ариной Петровной! Неужели смерть Илюши пройдет бесследно для нашего сознания, не перевернет его и не изменит нас?
Последнее слово Алеши — это призыв не забывать и Илюшу, и друг друга, и все происшедшее, в том числе — спектакль.
У нас на дне рождения один оппонент «Брата Алеши» весьма толково подсчитывал недостатки и противоречия спектакля, и я уже готов был признать его, по крайней мере, логическую правоту. Но тут кто-то вовремя перебил его филиппику:
— А Достоевского вы любите?
— Терпеть не могу! — решительно заявил эфросовский зоил, и я понял наконец, что и мои претензии к этому спектаклю — это претензии не к Эфросу, но прежде всего к Достоевскому — за то, что тот так безжалостно заставляет нас страдать, а может, кто знает, и к самой жизни, которая так нас мучит и казнит.
Когда мы переехали в Москву, Эфрос стал зазывать меня на телепросмотры, хотя к чему, к чему, а именно к ящику я был отменно равнодушен…
(Здесь экономии пространства ради опущено десяток страниц про Эфроса-телевизионщика. Кому интересно, см. «Записки скорпиона».)
Среди эфросовских прочтений классики лучшим стал мольеровский «Дон Жуан». Поначалу Эфрос думал в одном спектакле объединить две пьесы о севильском соблазнителе — Мольера и Пушкина (так он мне говорил). Остался один Мольер, но внутренне, концептуально откорректированный пушкинским «Каменным гостем». Эфрос ставил не Мольера, а сделал то же самое, что Мольер, Пушкин, Тирсо де Молина, Байрон, Моцарт, Гофман, Мериме, Бальзак, А. К. Толстой, Шоу, — по-своему трактовал гениальный испанский миф. Вот его автокомментарий к спектаклю:
«Это притча о человеке, который плохо живет и поэтому плохо кончит, ибо есть же, в конце концов, на земле справедливость, черт возьми!.. Отрицая, оскорбляя и высмеивая мировой порядок, он сам живет по самым его ужасным законам. Говоря о необходимости свободы, он все время всех ставит в беспрерывную зависимость от себя, да и сам становится рабом своих страстей и идей. Высмеивая фальшь и ложь, сам он врет и лукавит. И что с того, что делает он это со страстью, что в нем и ум, и талант, и знания? Ниспровергая общепринятые нормы, он оказывается лишь губкой, впитывающей пороки своего времени…»
Пользуясь выражением Сганареля, спектакль Эфроса можно назвать диспутом.
Недаром оба они, Дон Жуан и Сганарель, его слуга, друг и враг, его alter ego, так часто спускались со сцены в зал — не только для того, чтобы обозначить пространство, но и еще чтобы вовлечь в диспут зрителей. Впрочем, зрители были вовлечены в него и помимо этих «пробежек».
Поразительное оформление придумал к спектаклю Давид Боровский, этот общий у Любимова и Эфроса художник. Поначалу оно казалось невзрачным, невыразительным — сарай-развалюха какой-то, меж досками щели и прозоры, и сквозь них чернота. И только по ходу действия раскрывается замысел художника: дать Дон Жуану непрочное, временное обиталище на земле, состарившееся и изношенное, как его усталая жизнь, с подступившей и со всех сторон блокировавшей его смертью — покров над бездной, только не тютчевский златотканый, а из мешковины, рваный, дырявый, с заплатами. А разбитая мозаичная розетка — как намек на когда-то бывшее здесь, на месте теперешнего запустения, разноцветное, плодоносное и радостное время: утерянная навсегда Атлантида. Даже надпись «Memento mori» поистерлась, и о ней скорее догадываешься, чем читаешь.
И все — отец, Эльвира, Сганарель — говорят с Дон Жуаном от имени Бога. Небеса для них не реальность, но цитация, ссылка на авторитет. Жуана коробит от этого всеобщего рефрена — у него личные отношения с Богом, и никому не дано в них вмешаться.
Это заповедная зона — вход в нее посторонним воспрещен:
— Полно, полно, это дело касается меня и небес.
Дон Жуан даже закрывает Сганарелю глаза платком, чтобы тот не заметил кивка статуи.
Сганарель, которого играл Лев Дуров, давал этому жесту своего хозяина точное истолкование: от него, Сганареля, скрывают главный аргумент в пользу существования Бога. В конце концов Жуан выталкивает его со сцены — ему предстоит свидание со статуей, диалог этот не для земных ушей. Свидетели здесь, как в любви, ни к чему, третий — лишний.
Николай Волков с самого начала играл Дон Жуана усталым от бремени содеянного зла, не способным уже к любовному вдохновению и красноречию. Он соблазняет по привычке, по обязанности — это дань легенде о себе. По сути, ему давно уже не до женщин. На женщин у него чисто механически срабатывает условный рефлекс — как на еду: сперма, как слюнки, при всей натянутости этого сравнения. Он не способен к выбору — это его трагедия: между двумя смазливыми крестьянками он мечется, как буриданов осел между двумя охапками сена. Не соблазнитель, а совратитель, совратитель невинности, потому хотя бы, что девушку (как и застоявшуюся вдовушку или даже не изменявшую прежде жену) можно получить, увы, только один раз. Вот именно: застенчивые гурии из мусульманского рая, даже если замужество лишило их гимена. Нищего он, кстати, совращает так же, как Шарлотту, не будучи уранистом — чтобы окрестный мир окрасить в один и тот же, адекватный его циничной и безверной душе колер.
Спор Жуана не с обветшалой догматикой Средневековья и даже не с человеческой совестью, а с самим Богом — ни меньше, ни больше. Где пределы человеческого духа, что человеку можно и что нельзя, и существуют ли вообще эти пределы? Где границы, положенные человеческой воле и человеческой свободе, или они — безграничны?
Волков с какой-то странной, чуть ли не обломовской ленцой, словно по инерции, произносит слова пьесы, а сам в этот момент думает совсем о другом — слабый, усталый, жалкий, Дон Жуан тщетно пытается понять опорные, святые условия существования человека на земле.
И когда появляется Командор — впервые такой ординарно-будничный, партикулярный, маленький человек с возложенной на него великой задачей, — Дон Жуан уже мертв. И нет в нем удивления перед смертью, но только покорность человека, давно ее поджидающего. И единственную возможность спасения — веру — он отвергает, ибо неверующий человек не может принять веру «на веру»: ему нужны доказательства, которые вера предоставить не может.
Credo, quia absurdum. Верую, потому что абсурдно.
Спор Дон Жуана — это еще спор с самим собой, и потому Анатолий Эфрос превратил традиционного буффона Сганареля в равного оппонента, персонифицировал в совестливом слуге совесть его не вовсе бессовестного хозяина.
Сганарель предупреждает нашу реакцию на Дон Жуана. Когда мы готовы уже осудить его, Сганарель неожиданно вступает с ним в спор и вызывает к Дон Жуану новый, пусть даже полемический, но и страдательный и еще сострадательный интерес. Дон Жуан поставлен на наше, зрительское, обсуждение вместе с бесконечным, запутанным клубком проблем, который он притащил с собой — на обсуждение, а не на осуждение.
Ведь даже когда Дон Жуан умирает и обезумевший в горе Сганарель повторяет бессмысленные слова о невыплаченном жалованье, а над хладным трупом его хозяина собираются оппоненты и кредиторы, то перед зрителями не группа судей, но скорее — людей скорбящих, плачущих, любящих. А сам Сганарель с телом Дон Жуана смутно напоминал микеланджелову Пьету, и весь спектакль приобретал неожиданно религиозную окраску — на моей памяти, единственный случай на советской сцене.
Ведь несмотря на безверие, у Дон Жуана тяжба не с легкомысленными кокетками, которые поневоле превращаются в кокоток, и не с их ревнивыми мужьями, женихами и отцами, но с небесами. Его диспут со Сганарелем — эхо иного его диалога: Сганарелю приходится представлять куда более высокую инстанцию, что не всегда ему под силу. У Сганареля в споре с хозяином плебейские агрументы, но он свято верит в идеологию, смысл и содержание которой давно уже выхолощены: что для того свято, для Дон Жуана — пустой звук, невнятный символ, устаревший предруссудок.
Предрассудок — он обломок Древней правды. Храм упал, Но руин его потомок Языка не разгадал.(Снова пропуск по означенной выше причине.)
Редко кто, как Эфрос, умел показать на сцене смерть — шекспировские герои, чеховские Тузенбах, Фирс и Треплев, Илюшенька, Дон Жуан, булгаковский Мольер… Даже в «Женитьбе», где никто не умирает, он пустил по сцене похоронную процессию, а в «Вишневом саде» разместил на сцене кладбище. Его «некрофильство» было синдромом сердечника, но художественно оно выплеснулось по-пушкински: «День каждый, каждую годину привык я думой провожать, грядущей смерти годовщину меж их стараясь угадать».
Эфрос отрепетировал свою смерть во многих спектаклях, а умер неожиданно, неподготовленно, как говорится, на посту — почти как его Мольер: через пару дней после проработочного собрания в театре на Таганке. Был ему 61 год, его родители умерли всего годом раньше — это к тому, что в нем был заложен генетический код долгожителя. Что-то в его смерти было зловещее и гнусное, какая-то скверность, словно заговор догнал его в конце концов и прикончил.
Посвящение-4. Анатолию Эфросу: Сороковины
Гипотетическая история
Похоронив жену, Геннадий запил. А что ему оставалось? Он глушил тоску в водке, хотя раньше был как стеклышко, и если прикладывался к бутылке, то исключительно за компанию. Теперь он каждый день с утра отправлялся на кладбище, всегда один, а к вечеру был в размазе, и младшая дочь, двадцатитрехлетка Маша, которая взяла на себя всё по дому, раздевала его и укладывала спать. У нее были свои проблемы — ее бойфренд траванулся, и они в конце концов расстались. Любовник-наркоман и отец-алкоголик — не слишком ли? Отец забросил все дела, они постепенно разваливались — мы боялись, что повредится рассудком, черепушка поедет. У старшей дочки незнамо от кого был смугловатый высерок, и пока Тата была жива, семью этот приблудный мулатик как-то даже сплотил, но теперь всё распалось к чертовой матери. Там Тата была пианисткой в Мариинке, здесь давала уроки музыки, половину гостиной занимал рояль, были проблемы с соседями сверху, снизу и стенка в стенку, Тата старалась приспособить прием учеников ко времени, когда соседей нет дома. Это она приютила приятеля младшей дочери, хотя было видно, что ему не съехать с колес, и признала негритенка, не спрашивая старшую, кто ее обрюхатил, а теперь вот старшая, сбросив черного мальчика на бабулю, хотя та приходилась ребенку прабабушкой, укатила с новым хахалем в Коннектикут и наведывалась крайне редко: сын рос без матери, в этнически и расово чужой обстановке. На ответчике покойница расписалась по-русски: «Оставьте сообщение, обязательно доброе». У них все время кто-то гостил: его родственники с того берега, ее родственники из Греции, наезжали из России — особенно задержался бывший однокашник Таты, который приехал на пару недель, но все не уезжал и не уезжал, дождавшись сначала диагноза Тате, а потом ее смерти. Странный такой угрюмый субъект, этнически русский, рыхляк, давно небритый, с блуждающим взглядом и черными кругами под глазами. Пьян или трезв, Геннадий понимал, что семья держалась на одной Тате, которую любил безмерно, а после смерти — ее скрутил за пару месяцев поздно обнаруженный рак молочной железы, проще рак груди — еще сильнее. Представить ее мертвой он просто не мог, хотя весь ее физический упадок с сопутствующими муками происходил у него на глазах. Ей не было и сорока — на пару лет его младше, но в семье всем была как мать, ему в том числе, хотя его мать была жива, крепкая, памятливая, деятельная старуха, к девяноста, жила в паре от них кварталов и взяла на себя заботу о негритосе: «Где это он так загорел?» — спрашивали поначалу соседи, включая меня, но потом всё разузнали и попривыкли. Прабабуля смиренно жаловалась:
— Совсем наша кровь размыта. Я вышла замуж за русского, сын женился на гречанке, внучка родилась от черного. Вот и считайте, сколько ее осталось, нашей еврейской крови.
На сороковинах я мало кого знал, а за крайним столом с парой пустых мест оказался и вовсе с незнакомым молодняком, положил глаз на одну хипповатую акселератку с гвоздиком в носу, да что толку, я вдвое старше, ростом ей по плечо и давно уже разучился завязывать отношения с полоборота. До сих пор не возьму в толк, почему меня пригласили, я и покойницу знал шапочно, скорее как соседку, больше видел из окна, когда она калякала со свекровью, а та жила в одном со мной подъезде, чем общался с Татой лично. Помимо евреев, русских, грузин и армян, понаехало отовсюду греков, и они притащили с собой в брайтонский ресторан семизвездную метаксу и анисовку узо, а также греческие деликатесы, типа долмы, включая то, что полагалось по такому случаю: кутья — поминальная смесь из риса и изюма в меду.
Несмотря на разношерстный характер большой компании (не только этнически, но и социально — от бугаев до интеллигентов, вплоть до рабби, который был в Питере режиссером, а в Нью-Йорке начинал массажистом), все быстро спелись — и спились. Такой был сочувственный, жалостливый настрой, так благодарно и слезно вспоминали все о Тате, ангеле во плоти, от нее и в самом деле исходила какая-то неземная благодать, даже на расстоянии, что я тоже взял в руки микрофон и провякал нечто общее и абстрактное — не стоит село без праведника, как редко в этом равнодушном мире попадаются добрые самаритяне, все равно, принадлежит ли человек к какой конфессии (покойница была верующей православной, но греческого разлива). Что-то в этом роде. Не могу сказать, что речист, но вышло, как ни странно, прочувствованно, несмотря на — что он Гекубе? что ему Гекуба? Вдовец в который раз пустил слезу, расцеловались, плеснул мне, хотя сам был уже сильно на взводе.
— Одну ее любил — больше матери, больше дочерей. Она и была мне — то мать, то дочь. Зависимо от ситуации. А теперь вот не могу вспомнить ее лицо — помню ее фотографии, а не ее саму. Почему?
Его я как раз знал лучше. В отличие от Ленинграда и Москвы, тут дружбанили по месту жительства. У меня с Геннадием была двойная причина сойтись: мы были земляками по Питеру и жили рядышком на Брайтоне. Была еще причина, двойная: мне нравились его мать, умная и памятливая старуха, и его младшая дочь — скорее своей юностью и какой-то девичьей отзывчивостью, хотя красотой как раз не блистала из-за греческого, ото лба, носа: на любителя. Но в моем возрасте красота и даже сексапильность отходят на задний план — отсюда большее многообразие привлекательных объектов, чем в молодости, когда право выбора оставалось за упертым либидо, а то иной раз бывало слишком разборчиво и капризно, давало сбои. Теперь — иное дело, тем более я жил временно один, бобылем, не считая двух котов и жильца-приятеля Брока, моя жена за тридевять земель у нашего сына, либидо не дремлет. На этой тусовке я узнал то, что узнал, но это, забегая немного вперед, а теперь, спустя годы, пытаюсь втиснуть сюжет чужой жизни в драйв моего рассказа.
Ладно, проехали. Не во мне дело. Не я — главный фигурант этой истории, а кто главный? В любом случае, я как всегда — сбоку припека. Помимо ровесничества, приятельства и двойного землячества, нас с Геной связывали кое-какие дела, о которых, может, и не стоит подробно, чтобы не растекаться по древу. По делам в основном я ему и названивал время от времени. Как и в тот раз — чтобы попенять за неаккуратность с доставкой моих книг из России, которые, как я потом узнал, не были еще растаможены. Но это потом, а тогда — сначала молчание в трубке, как будто Гена не понимал, о чем речь, а потом: «Дайте мне очухаться, у меня сегодня жена умерла». Я растерялся, не знал, что сказать, но Гена облегчил мне задачу, дал отбой. До сих пор стыдно за тот мой звонок, хотя откуда мне было знать? А через месяц его мать пригласила меня в ресторан «Золотой теленок» на сороковины невестки, память о которой сплотила таких разных во всех отношениях людей.
Припозднившись, явилась миловидная, лет 35-ти, сиделка, на руках у которой Тата умерла, ее усадили рядом со мной на пустовавшее место. Эта, пожалуй, мне больше подходит по возрасту, а то связался черт с младенцем, и я бросил прощальный взгляд на ту, с пирсингом, с которой не успел перекинуться словом, а не то что охмурять! Когда мы разговорились с сиделкой — с ней и базарить легче, чем с молодняком, — она сказала вдруг, что покойница могла бы еще пожить.
— Как так? — изумился я.
— Представьте себе. Ни в какую не хотела идти на операцию — лучше умру, чем жить без груди. А когда решилась и рак был запущен, настояла, чтобы сделали двойную операцию. А одновременные эти операции не рекомендуются. И даже последовательные. Это ее и сгубило, бедняжку. Мы с ней подружились. Никого к себе не подпускала — только меня и Машу.
— А Гену?
— Ни Гену, ни их жильца — никого не хотела видеть. Иначе скажу: не хотела, чтобы ее видели. Стеснялась.
— Что значит «двойная операция»? — спросил я.
— Ну, пошла на пластику после удаления груди. Одну «чашку» удаляют, а на ее место наращивают другую, силиконовую. Имплантация, — пояснила она. — Но рак уже проник повсюду. Метастазы.
Эта женская забота Таты о груди как-то не вязалась с ее же смиренной благостностью не от мира сего, о которой все здесь только и говорили. Хотя не мне судить.
— Она была мне как мать родная, — говорил юный наркоман с трясучкой в руках, отчего подпрыгивал микрофон, и его речь получалась дробной, пунктиром, как пулеметная очередь. Его родная мать, моложавая грузинка, которая не знаю чем занималась у себя на родине, а здесь подрабатывала мытьем окон, $20 окно, сидела рядом и могла обидеться, да вот не обиделась. Да и что обижаться на покойницу, тем более чуть ли не святую, она уже вне нашей земной моральной юрисдикции.
Окончив свою смурную, как он сам, речь, весь обкуренный (или обколотый — я не силен в классификации наркоты и наркотичесой зависимости), бывший бойфренд подсел за наш стол к Маше и, положив дрожащую руку на спинку ее стула, уламывал возобновить прежние отношения, но Маша отрицательно качала головой и кивала на отца. До меня долетали только обрывки фраз, но всё было понятно без слов, мое творческое воображение подремывало.
— Если она была такая хорошая, зачем она умерла? — спросила девочка за соседним столом.
— Такие люди и Богу нужны, — нашелся один из взрослых гостей. Кажется, грек.
Я не был знакóм с Геной по Ленинграду, город большой, ни разу не пересекались, он был горным инженером, я — литератором, а здесь мы сошлись, когда он открыл свой транспортный бизнес «Москва-Нью-Йорк», а у меня как раз стали выходить книги в ельцинской России, и за определенную мзду он доставлял сюда положенные мне авторские экземпляры. Гена пристроил в свой непрочный бизнес младшую дочку — вместо того чтобы пустить ее в американский мир. Опять-таки забегая вперед, когда его бизнес рухнул, причина чему не только его состояние после смерти жены, но и зверская конкуренция, младшей дочке ничего не оставалось, как начать всё сначала, но не в подростковом возрасте, когда они приехали в Америку, а под тридцать — чтобы поддержать отца, который не просыхал. Теперь уже его грызла не только тоска по умершей жене, но и то новое о ней знание, которое обнаружилось на этих сороковинах.
А пока ничто не предвещало скандала, который вот-вот должен был разразиться.
Здесь вынужденно отвлекусь на себя — в каком временно я сам оказался положении: «автобиографический зуд», как выразился Натаниель Готорн, прицепивший к «Алой букве» огромное предисловие, не имеющее никакого отношения к сюжету. Мое отступление в разы короче, чем его пролог.
Хоть я и жил временно без жены, с которой так надолго никогда прежде не расставался — шесть недель! — но жил не один, а с нашими котами и Броком, который честно оплачивал треть квартплаты и коммунальных услуг: квартира была нам с женой велика, а рента не под силу. Хороший парень, но его присутствие усугубляло мое одиночество. Жара стояла адова, кожа прилипала к телу, даже не три «Н», а все четыре: hot + haze + humid + horrible! Нашему вечно больному сиамцу сделали очередную и опять неудачную операцию, на нем был надет елизаветинский ошейник и острижены когти, но он все равно ухитрялся расцарапывать себе шею, повсюду на стенах были следы этой его отчаянной деятельности: кровь и гной. Кандинский от зависти бы помер! У Брока был гепатит С, его бросила жена, но тосковал он больше не по ней, а по двум входящим в возраст падчерицам, и я подозревал, что там не всё чисто. Он лез ко мне со своими откровениями каждый вечер как только являлся с работы, но больше всего его печалило, что он не стал великим барабанщиком — «как Горовиц»: вольность сравнения или он в самом деле не знал, что Горовиц был пианист? Я сочинял свой четырехголос-ник в романе о человеке, похожем на Бродского, плюс регулярно строчил «Парадоксы Владимира Соловьева». Как раз, уходя на сороковины, отослал в редакцию «Без вины виноватую свастику», а завтра изложу изустно по телику. Даже в Америке свастика была символом удачи, ее так и называли — крест счастья, который состоял из четырех латинских „L“: Light, Love, Life, Luck. Вот именно: свет, любовь, жизнь, удача.
Скоро мы снова расстанемся с женой недели на три — я отправлюсь с сыном в Юго-Восточную Азию, но там скучать будет некогда. На мотобайках мы с ним объездим Камбоджу, Бирму и Таиланд, увидим в джунглях гигантские кукурузные початки Ангкора-Вата, которые потеснят в моем воображении Парфенон, Эгесту, Пестум и прочие мною любимые шедевры греческой архитектуры, раздвинут само представление о мире.
Но это еще когда, а тогда я жил в крутом одиночестве, несмотря на котов и Брока, ни с кем не контачил и дико тосковал по жене, а член качал права независимо от объекта желания, однако я так давно не изменял ей, что начисто забыл, какие ходы этому предшествуют, а потому собрался уже уходить один не солоно хлебавши, хотя в моем состоянии и для моих целей мне равно подходили вдвое младше меня визави и моя скорее всего ровесница, плюс-минус — соседка. В это время, в разгар гульбы, всё и случилось.
Сначала я ничего не понял. Прежде чем увидел — услышал. Я думал, что это очередное заупокойное славословие, но чуть более истеричное, чем остальные, хотя в слове «любил», которое микрофоном усиливалось на весь ресторанный зал, различались какие-то иные оттенки. Я прислушался.
Микрофон держал в руке тот самый небритый славянин с угрюмой внешностью, который был одноклассником Таты и слово «любил» успел произнести уже неоднократно:
— Я ее любил сильнее вас всех. С шестого класса. А она меня тогда в упор не видела. Как будто меня и не было. Улица с односторонним движением. Потом поступила в музыкальное училище, и я ее потерял. Когда встретил снова, уже была замужем, с пузом. А я ее любил, как прежде. И вот, представьте, сделал предложение. Беременной женщине — сам был не свой. Для нее — как гром среди ясного неба: «Но я же замужем!» — и подняла на меня свои ангельские глаза. «Ну и что! Какое нам дело? Сбежим. Ребенку буду как отец родной. Все, что от тебя, — моё». Не помню, что еще говорил. Встал перед ней на колени, она погладила меня по голове, я расплакался. «Если бы я знала раньше… Почему ты молчал?..» Так и не понял, что имела в виду. Решил, что не по сильной любви вышла замуж, но она сказала определенно, четко: «Поздно» и прогнала меня: «Ты еще женишься и будешь счастлив». Как бы не так! Не женился и все эти годы жил слухами о ней через океан. Когда ее дочки подросли, я ринулся в Нью-Йорк, решив, что теперь она свободна, чтобы попытаться ее снова уломать.
Толковище смолкло. В зале стояла гробовая тишина. Как прежде шумно ботали, теперь слушали, затаив дыхание. Я глянул на Гену: он сидел, опустив голову и сжав кулаки. Был он здоровенный, с бычьей шеей, с заплывшими глазами — из породы биндюжников. Тата тоже была не из хрупких женщин: склонная к полноте, широколицая, большегрудая. Тут только до меня стало доходить, почему она не шла на операцию, а когда, с опозданием, пошла — на двойную.
А что за странная потребность у ее школьного товарища в прилюдной, скандальной исповеди? Нашел время! Или ему теперь, после смерти Таты, больше не с кем поделиться? Он говорил в микроофон как будто сам с собой.
— Что ты мелешь? Не пи*ди, — сказал Гена, вставая.
— Сначала жил в гостинице, а потом к ним переехал, — продолжал одноклассник. — Она ничуть не изменилась. Та же, как в школе. Разве что чуть располнела. Мне и Гена понравился, и дочки, и даже внучок чумазый. А с ее свекровью мы сдружились — душевная женщина. Но когда мы оставались с ней вдвоем, я продолжал уговаривать бросить его. Она отказывалась наотрез: без нее, мол, он пропадет. Ни о чем другом я не просил, никаких поползновений. Она сама меня пожалела. Так мы и стали жить втроем, но Геннадий ни о чем не подозревал. Или подозревал, но виду не показывал.
— Представить не мог! — закричал Гена. — Она же ангел была. Когда успели снюхаться?
И пошел на любовника своей жены.
— Ангел, — тут же согласился ее школьный товарищ.
У меня тоже в уме не укладывалось, как они жили друг с другом наперекрест. В одной квартире! И это Тата, глубоко замужем, ангел! «Непорочная, как зачатие», вспомнил я чью-то недавнюю шутку. Мое ревнивое сознание, перераспределив роли, поставило меня на место Гены, который шел через весь зал на своего соперника.
— Мы любили друг друга. С шестого класса. Только она не знала. Потому и замуж за тебя пошла.
Гена выхватил у него микрофон и зашептал, но получилось что прямо в микрофон:
— Молчи, сволочь! Урод! Тварь неблагодарная! Приютил на свою голову! Вот лох. Сам себе праздник устроил. Из-за тебя и умерла. Мне было по *ую, с грудью или нет.
И ткнул его что есть всей силы микрофоном в лицо, у того потекла кровь, он не рыпался. Да и в разных весовых категориях. А Гена тузил и колошматил его, уделал по полной программе, мало не покажется, отправил в аут, а потом как-то беспомощно осел на пол, раскис и горько заплакал, застонал, не выпуская микрофона.
— Я подозревал, подозревал, но не верил. Ангел…
Впал в ступор, сломался, вырубился по пьянке, вдрабадан.
Тут к Гене подбежала Маша и стала поднимать с пола. Он успел схватить со стола бутылку «Метаксы», чтобы вмазать школьному товарищу жены напоследок, но промахнулся. Пронесло — черепуха соперника уцелела.
Маша увела тяжело пьяного отца домой, все расходились молча, подавленные, хотя и не скрывали любопытства: тема для разговоров, как для меня, спустя годы, сюжет для рассказа.
Схвачено.
О том, чтобы клеить одну из соседок, не могло быть и речи.
Я долго не решался рассказать эту историю в письменной форме, но теперь, когда «иных уж нет, а те далече», решаюсь, изменив имена, профессии, место действия и проч. Писатели — шулеры: тасуют карты и передергивают, чтобы другим непонятно было: что из жизни, а что от выдумки. Я — не исключение.
И вообще поводом для этого моего рассказа послужила совсем другая, недавняя история в другом бруклинском ресторане «Чинар», о которой судачило всё наше русское землячество. Сам я там не был, но слышал ее в нескольких вариантах, вот один из. Как гуляли там врачи, и взрослой имениннице подарили большую куклу, и девочка-малолетка стала ее канючить у мамы: «Хочу куклу. Хочу куклу», а когда ей отказали, схватила микрофон и прокричала: «Если мне не дадут куклу, расскажу, как ты дяде Грише пипку целовала». Вот тут всё и началось, а потом как в ковбойском фильме. Ресторан разнесли в щепки: как булыжник — орудие пролетариата, так орудие нашей мишпухи — столы и стулья. 12 полицейских машин, «скорые помощи», 18 человек в больницах, гинекологу Грише, которому пипку целовали, свернули скулу, а заодно и врачебную практику, сильнее всех досталось минетчице. «А не целуй чужую пипку», — сказал я вчера на русскоязычнике, посвященном как назло дню равноденствия и гармонии в мире. «Тем более при детях», — добавил здешний журналист Володя Козловский. Но тут выяснилось, что муж продолжал бить жену, когда та уже была в коме, и она умерла, присоединившись к трагическому ряду от Дездемоны до Анны Карениной. Не до смеха.
Это свежая и общеизвестная история, а положенная в основу этого рассказа — частная, невостребованная, давно позабытая. На фоне бруклинского раздрая она тускнеет в масштабах и во времени: далекое прошлое. Хотя как сказать.
Соперничество Гены с бывшим одноклассником Таты продолжалось до самого отъезда того из Америки. Местом действия стало еврейское кладбище в Куинсе, на котором похоронен Довлатов: там есть небольшой отсек для неевреев. Тата лежит на участке 9, секция Н (эйтч), недалеко от Сережи, с которым была едва знакома. Гена продолжал по утрам приходить на могилу жены, а днем туда прибывал ее школьный товарищ. И так всякий божий день. И каждый приносил цветы, выбрасывая цветы соперника. Мелодрама эта иногда переходила в водевиль: одноклассник как-то посадил на могиле куст рододендрона, а Гена на следующий день его с корнем вырвал и выбросил в помойный бак у входа на кладбище. Потом школьный товарищ отбыл на родину, и Гена остался один на один с Татой.
Мы с ним теперь почти не пересекались, хотя в одном микрорайоне живем. Он так и не восстановился, выпал из жизни, стал хроником. Он и мне как-то предложил «пропустить рюмашку», но какой из меня выпивоха? Его бизнес окончательно накрылся, Маша устроилась временно home attendant (как сказать по-русски? в России и профессии такой — прислуги от государства за стариками — нет, зато на Брайтоне уже давно в ходу англицизм: «хоматенда»). Параллельно училась на каких-то медицинских курсах и продолжала жить с отцом.
— Хорошо хоть не один. Маша с ним, — сказал я, повстречав Татину сиделку.
— Да что ж хорошего! — сказала она. — Живут как муж с женой.
Сначала я не понял, а когда дошло, возмутился:
— Не факт!
— Винить тут некого — как говорят, форс-мажорные обстоятельства, — усмехнулась сиделка. — Да и Маша со странцой, жалостливая, вся в мать. Вот и пожалела отца однажды. С тех пор и пошло. А Гена, может быть, мстит таким образом покойнице. Если бы Тата знала!
Ощущение у меня было такое, что я всё больше запутывался в лабиринте чужих жизней.
— А вы откуда знаете? — спросил я, заметив еще с сороковин нездоровое любопытство сиделки к семейным тайнам. — Со свечой не стояли.
— От Маши. Мы с ней сдружились тогда у смертного одра. Как покойница пожалела школьного товарища, так теперь дочь «жалеет» отца. Без комплексов.
Я почему-то вспомнил нашего жильца Брока с его тоской по падчерицам-подросткам.
— Больше никто не знает? Вы одна? — спросил я.
— Все знают. Мать Гены первая догадалась, умная старуха, а что она может? Кто не знает, догадывается. Белыми нитками…
Сиделка мне нравилась все меньше и меньше: сплетница. Как сорóка на хвосте: если все знают, то с ее слов. Язык что помело: раззвонила. Недержание информации, а может и диффамации. Приставучая, клеится. Как я мог положить на нее глаз на той вечеринке? А теперь только и думал, как отвязаться. Она, наоборот, не отпускала меня. Но сейчас, когда жена на месте, я вообще на сторону не глядел.
Свернул разговор, сказал, что опаздываю, и был таков. «Сплетни. Сплетни. Сплетни», — убеждал я себя, подходя к дому.
— Кто знает. Неисповедимы пути Господни, — пошутила жена, когда я ей выложил эту историю.
И тут же потеряла к ней интерес.
Ответ жены раздосадовал меня еще больше, ибо допускал у нее опыт, какого у меня не было и быть не могло.
«Сплетни», — успокоил я себя еще раз.
Быть Юнной Мориц Поэтка: сумбур или стереотип?
Глава с эпистолами
Как хорошо, когда за тебя находит название твой герой! Я уже вычленил у Юнны стиховую строку, но из утвердительного жанра и даже повелительного, императивного, присущего ей в жизни еще больше, чем в стихах — «Сломать стереотип и предпочесть сумбур», — вывел альтернативу: «Сумбур или стереотип?» Потому что и в самом деле так: интуиция, ворожба, колдовство — и одновременно умственность, притворство, стратагема, рациональное задание себе самой; короче, брюсовщина.
Как совместны — и до каких пор совместны? — утонченные стихи и грубая психея? Или Время опять вмешивается в мое писательство, и поздняя Юнна заслоняет раннюю? Нет, помню до сих пор ее ранние стихи и тогда же ее грубый, мужичий смех, ее погруженность в бытовой меркантилизм, в бабий вещизм — буржуазка, короче. А здесь и того хуже: когда Лена водила ее по Метрополитен-музею, а я возил на Лонг-Айленд, она искренне недоумевала и глядела не на картины и не на живые виды, а на нас. («Я дико застенчива», — сказала она, когда я, пожалев ее мочевой пузырь, буквально втолкнул ее в женскую уборную на пляже, а Жеку в аналогичной «застенчивой» ситуации убедил, сказав, что он повсюду тащит с собой стакан мочи.) Не в осуждение — кому я судья? — но в дневнике обнаружил эту замету о ее недоумении, которое, может, ничего и не значит — не мне решать. Пруст поначалу назвал свой великий антимемуарный роман «Против Сент-Бёва» — потому что Сент-Бёв шел к писателю через его био, а его био отгадывал по его книгам. Менее всего Прусту хотелось, чтобы в нем угадали монстра, коим он, несомненно, был («жесток с бесконечной чувствительностью» — его собственные слова), что не помешало ему написать лучший после Сервантеса и Достоевского роман. Я — не Сент-Бёв, хотя подглядел монструозность во многих живых тогда авторах, включая самого себя, но моя монструозность оттого, что я — скорпион. Не по рождению — во все эти знаки зодиака у меня никакой веры, но по художественному заданию самому себе. Да, литературы ради готов на что угодно, ставя ее превыше всего, включая такую эфемерность, как дружба и даже любовь. А коли скорпион, то и спрос с меня невелик.
Человек — не только поэт или художник — сделан не из одного материала, как скульптуры Микеланджело. В каждом — доктор Джекилл и мистер Хайд, монстр и ангел, монструозное и ангеличное. В поэте — тем более: «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» и т. д. Не «быть может», а точно: «всех ничтожней он». Чем больше возвышен Аполлоном, тем ниже падает, когда сам по себе. Понятно, герои этой книги — те, кто живые, а тем более, мертвые — предпочли бы, чтобы их изваяли из мрамора, а их супостатов — наоборот — в карикатурном, шаржированном виде вырезали из картона. Я в этом убедился, когда стал печатать первые портретные наброски из «Записок скорпиона» — Евтушенко перестал со мной общаться (потом, правда, сам позвонил и признал мою правоту), Юнна сбросила мне электронку с лапидарным завершением «Конец связи», даже покойники обиделись — через вдов. А теперь вот и вдовы почти все вымерли. Одна редакторша, отказывая мне в «Post mortem», так и написала: «Как я после этого в глаза знакомым посмотрю».
А как — я?
Короче, я печатал кус о Юнне под эффектным и приблизительным заголовком «Сумбур или стереотип?» — в сокращенном и приглаженном виде, с многочисленными эвфемизмами и пропусками — в американской периодике, хотя точнее было бы — «Сумбур или стратегия?» А тут как раз огромная подборка ее стихов в «Литературке» под общей шапкой «Поэтка».
Поэтка так поэтка.
— Ты это сказала.
Ну как тут критику, а тем более мемуаристу не воспользоваться. Тем более поэтка никак не принижает, не требует извинений либо изъяснений: поэтка и есть поэтка. А поэт тогда будет поэтик?
Сколько произвольных производных: Мандельштам — поэтик, пусть и гениальный, Маяковский — поэтище, все равно какой, Кузмин — поэтуля, зато Пастернак — просто поэт, божьей милостью.
Юнна — поэтка по самоопределению. Не думаю, что в самоощущении. Слóва в простоте не скажет — пишу это не в укор, а как характеристику: человеческую и поэтическую.
Мы так давно знакомы с Юнной — при таком чудном имени и фамилию называть не надо, — что я уже не помню, когда и каким образом с ней познакомился. Не в Коктебеле, где я, тогда еще питерец, пас своего мальца и знакомился с москвичами. Не в московских редакциях и тусовках, как с Шаламовым, Можаевым, Домбровским, Арсением Тарковским. Не в ЦДЛ, где я впервые увидел вдрызг пьяного тогдашнего классика Юрия Казакова, который полз на четвереньках в известном только одному ему направлении. Не на фестивальных празднествах русско-чьей-нибудь еще литературы, как с Дэзиком Самойловым в Вильнюсе, где мы жили в одном номере, он донимал меня ночными чтениями своих стихов, а у меня от выпитого коньяка слипались глаза, но он будил, а потом — в три часа ночи — звонил в Москву жене Алика Городницкого и жаловался, что его сосед по номеру, критик Владимир Соловьев, собирается выкинуть его с тринадцатого этажа: «Так вы убийца, — задумчиво сказал он, повесив трубку. — Убили Городницкого, прихлопнув его статьей, как муху. А теперь — моя очередь».
Так где же все-таки я познакомился с Юнной? Не через театр, где я работал завлитом — как с Булатом (тоже без фамилии, ибо единственный в русской литературе с таким именем): отвергнутый на «Ленфильме» сценарий он переделал по моей просьбе в пьесу. Не путем взаимной переписки, с которой началась у нас дружба с Фазилем (и снова фамилия излишня), а потом я переехал в Москву и жил с ним окно в окно в Розовом гетто на Красноармейской. Кто же меня свел с Юнной? Женя Рейн, который как-то позабыл в ресторане ЦДЛ фотографии Юнны с ее — ему — автографами, а в другой раз — я об этом тоже рассказывал — в том же ЦДЛ, в фойе, подавал ей шубу, но вдруг уронил на пол и бросился — по чину? — подавать шубу Вознесенскому? Или Наташа Иванова, тогдашняя неразлучная, интимная подружка Юнны, но ко времени моего знакомства с обеими просто знакомая или даже врагиня? От Наташи я знаю про Юнну забавные истории, но не вправе их разглашать, увы. Да и что забавного в том, что Юнна отбила у Наташи ее любовника и родила от него ребенка, а потом не давала ему даже глянуть на Митю, считая себя отцом и матерью? А письма Юнны ко мне — прекрасные письма, причем в таком изобилии, как ни от кого другого: каллиграфическим почерком школьницы-отличницы? С годами менялись идеи, настроения, стиль, но не почерк. Почерк, как и голос, дан нам навсегда, нет? Может, и воспроизвести их не курсивом, а факсимиле?
И не только ее письма.
С эпистолярным жанром мне повезло благодаря тому, что жил в Питере: вот я и получал письма из Москвы от Тани Бек, Евтушенко, Искандера, Окуджавы, Рейна, Слуцкого, Сухарева, Шаламова; больше всех и длиннее — от Юнны. Переписка прекратилась, когда я перебрался в Москву — с помощью Юнны, возобновилась, когда нас вытурили из России за «Соловьев — Клепикова-пресс» (ее московские письма приходили к нам в НЙ с оказиями, а потом, с началом гласности, прямой почтой) и оборвалась несколько лет назад. Нам обоим много лет, хоть она меня на пять лет старше — это уже навсегда. Так ссориться можно только с женой, чтобы потом мириться: ночная кукушка перекричит дневную. Увы, не тот случай, да и времени не осталось, чтобы выкурить с Юнной трубку мира, хотя она предпочитает сигареты, а я давно бросил.
А что бы сказали, прочитав про себя, другие мои герои — Довлатов, Бродский, Слуцкий, Эфрос, Булат, Шукшин? Булату, Слуцкому, Эфросу, Довлатову, Шукшину, — наверное, понравилось бы, Бродскому — не знаю, Юнне — скорее всего, нет. Мне все равно, я пишу о них, а не для них, живых и мертвых. А для кого?
Для себя.
Для своего alter ego.
Для гипотетического читателя.
Немногие мне нужны,
мне нужен один,
мне никто не нужен.
Нет, это не Лермонтов и не Гейне, а Ницше. Хотя, возможно, он был больше поэтом, чем философом. По крайней мере, в этой апологии одиночества и самодостаточности.
А я?
Вот даже Лена Клепикова не хочет прочесть большую главу о самой себе из будущей книги, мою песнь песней, хоть и с жалобными интонациями Отелло. А меня считает экстравертом — откуда еще эта жгучая потребность рассказать обо всем, что со мной по жизни случилось и чего не случалось?
Бабье лето и лебединые песни — одна за другой.
— Сема, за что тебе дали пятнадцать суток?
— Кидал лебедям хлеб.
— И что здесь страшного?
— В принципе ничего, если не считать, что это было в Большом театре на «Лебедином озере».
Смех смехом, но какая, однако, сила воображения! Или сила искусства? Вот где кроется причина моих лебединых песен в мое бабье лето. Марафон, да? Из молодых, да ранний, я стал из старых, да поздний. Мое эрегированное воображение не дает мне покоя, вот я и е*у читателей. Не знаю, как у них, у меня — оргазм за оргазмом. Какое мне до читателей дело!
Когда я наезжал из Питера в Москву, Юнна носилась по магазинам в поисках каких-то шмоток как раз для Лены Клепиковой (мы расплатились, когда ходили с ней по нью-йоркским шопам). На пару месяцев нас с Леной взяли на высшие курсы в Литинститут, и мы жили в общежитии на Добролюбова, но потом Лена укатила в Питер, а я остался по делам в столице. В мою холостяцкую комнату захаживали поэты — чаще других Мориц, Евтушенко и Окуджава. В самом общежитии их тоже было навалом — включая, двумя этажами выше, костромского поэта, моего соименника и однофамильца, о котором я и не подозревал, как и он обо мне. Я ждал телеграммы от Лены, но, так и не дождавшись, помчался на Ленинградский вокзал ее встречать и чисто интуитивно угадал ее поезд и вагон. Это, конечно, любовь — я узнаю Лену на расстоянии с милю — визуально это невозможно, да еще с моей близорукостью: в Венеции, в Турции, на Лонг-Айленде, где угодно. До сих пор догадываюсь, куда ушла и где искать. А здесь, прямо на платформе, где Лене пришлось меня пять минут прождать, получил от нее реприманд:
— Но я же послала тебе телеграмму!
— Я ее не получил!
Уже в общежитии выяснил, что адресованную мне телеграмму отдали поэту, который похитил мое айдентити. Или я его? Поднялся к нему — рожа алкашеская, тип испитой, на полу полые бутылки, — спрашиваю про телеграмму. Выяснилось, что тот сам был в недоумении, когда неизвестная ему Лена предлагала встретить ее на вокзале, поезд такой-то, вагон такой-то. Полночи пил в раздумье, а потом разорвал телеграмму и выбросил в окно. Так и есть — у него под окном на свежем снегу нашел пару обрывков. Потом как-то мне, шутки ради, принесли статью из березофильской «Советской России» под заголовком «Поэтический мир Владимира Соловьева». Моего двойного соименника хвалили за патриотические стихи.
Между прочим, Лена время от времени причитает, как она могла (официально) взять мою фамилию, оставаясь в литературе, в журналистике и для всех Клепиковой:
— Даже Иванов оригинальнее!
У меня есть рассказ-пустячок «Мой двойник Владимир Соловьев», к которому и отсылаю читателя, но там главным образом про Владимира Сергеевича и Владимира Исааковича, а тут вот появился еще телевизионщик Владимир Рудольфович, затмив нас обоих (временно, надеюсь).
Само собой, когда Лена уехала, ко мне приходили не только поэты, а стенки в общежитии тончайшие, чего я не учел: мои соседки пожаловались комендантше: в моей комнате происходят оргии, но это не было точным определением того, что происходило на самом деле — оргии подразумевают групповой секс, в который я никогда вовлечен не был: просто кровать стояла впритык к стене, а партнерша орала за троих. Комендантша меня вызвала и сказала, что, помимо жалоб моих соседок, есть сообщение от вахтерши, будто Юнна ушла от меня в три часа ночи. Тут я искренне возмутился: мы с Юнной в самом деле провели вместе полночи, но в беседе. Есть апокриф про девственника Андерсена, который ходил в бордель и ночь напролет беседовал с голой бля*ью.
Слуцкий, который прекратил отношения с Юнной после того, как ее муж и его друг Леон Тоом выпал из окна квартиры на Калининском (он доставал Юнне наркоту, но это был период, когда я с Юнной знаком не был), удивлялся моей с ней связи: «Неужели вы с ней спите?» Понятно, я никому не обязан был отчитываться — ни комендантше, ни Слуцкому, в котором внешне много было от комиссара, хотя добрее человека среди литературной братии не встречал. «Дружбы с ней тоже не одобряю», — резанул Слуцкий. Или «не понимаю»?
Cама Юнна в той нашей полуночной беседе говорила, что не видит большой разницы между дружбой и сексом. К тому времени — далеко за полночь — я тоже уже не видел разницы: ни в чем и ни между чем. Был в полной отключке, глаза слипались, мало что соображал. А Юнна — свеженькая как огурчик. Ночница — ложится под утро, а ночь напролет курит, работает, пьет кофе. Это и понятно: она — сова, я — жаворонок. Как себя помню, всегда встаю в 6–7 утра, тогда как для Юнны день начинался дай бог в полдень. Это и есть физиологическое несовпадение — не постельное, а жизненное, бытовое. Чтобы Юнна пришла вовремя в гости — да никогда! На новогоднюю тусовку в одну московско-грузинскую семью, куда нас привели Искандеры (понятно, до абхазско-грузинского конфликта), явилась после боя курантов. Даже на наши «похороны», как тогда называли проводы, пришла, когда последний гость стоял в дверях: может, из предосторожности? Я шутил, что гэбухе бесполезно ее вербовать — они ее не дождутся.
Кстати, о Новом годе. Он не относится к моим любимым праздникам — томлюсь-тоскую до двенадцати, а еще больше — после. Самый скучный Новый год был у скушнера (прошу прощения за невольный каламбур), где Битов весь вечер долбил Лидию Яковлевну Гинзбург разговорами о смерти, страх перед которой был единственным живым проблеском этой весьма рациональной старухи. Один только забавный момент был, когда пьяненькая Лена Шварц села на рюмку и я приподнял субтильную поэтессу, чтобы собрать осколки: рюмка была цела-невредима. Такие вот чудеса. Или такая меткость — так точно приземлилась! Еще трезвый Битов тут же откомментировал: соитие с рюмкой. Еще Лена Шварц пускала дым из двух сигарет одновременно и говорила, что она крейсер «Аврора». Господи, как давно это было. Теперь и здесь, в Америке, я праздную День благодарения и Рождество, в Новый же год, то есть в день обрезания Христа, предпочитаю сидеть дома. А лучший в моей жизни Новый год в России я провел с Юнной в том же ЦДЛ. Я предусмотрительно выспался днем и, мне кажется, на этот раз соответствовал предложенному Юнной расписанию.
Еще с нами была супружеская парочка левых эфэргэшников Хельга и Уве Энгельбрехт из «Дагенс Нюхетер» с очень неплохим русским, но едва ли они схватывали смысл нашего новогоднего трепа. Тем более немка затеяла подстольное путешествие к моей ширинке, и я зря боялся, что кто-нибудь заметит. Лена вообще не ревнива, наивна и рассеянна, Юнна увлечена собой, немец сломал руку в Сибири, ему там ее три раза неправильно сшивали, а потом распиливали и сшивали заново, теперь она у него висела как плеть и ему было ни до чего. К слову: когда мы образовали «Соловьев — Клепикова-пресс», леваки немцы даже не соизволили к нам прийти, зато американские и британские коры сделали из нашего независимого агентства новость № 1, а нас — «факирами на час», как однажды написал я уже в Америке, и педант Довлатов будил общих знакомых ночью, чтобы сообщить, что я спутал халифа с факиром. Ну, спутал — велика беда. Я тут недавно процитировал Блока: «…чтобы от истины ходячей всем стало больно и смешно» — московский редактор поправил на «светло», а Лена осудила меня за ошибку, как за преступление. Ошибки, описки, опечатки, оговорки — в природе человека. Загляните в примечания к Тургеневу или Достоевскому — как они перевирали цитаты. Тем более я — простой смертный среди бессмертных писателей. В этой книге они неизбежны ввиду дополнительной причины — не скажу какой.
Из всех моих разговоров самые умные — с Юнной. То же самое с письмами: самые умные — от нее. Потому, собственно, она и не мой тип как женщина, что у нее типично мужской ум, который редко когда встретишь и у мужчины. Одно письмо мне она подписала: «С титанической платонической любовью — твой Мориц». И это «твой» неоднократно потом повторяла. Она и глаголы применительно к себе ставила в мужеском роде: я понял, я сказал, я подумал. Сначала решил, что оговорка, потом — что игра или принцип. Ни то, ни другое, ни третье — она себя чувствовала мужчиной, на слово «поэтесса» обижалась, пока не открыла «поэтку», а мужиков отпихивала одного за другим (включая отца своего сына), пока не нашелся Юра Васильев, много ее моложе, с очевидным женским началом.
Когда я как-то где-то написал об употребляемом иногда Юнной мужском роде, получил неожиданный отклик от Нади Кожевниковой из Колорадо, которая писала мне по-русски латиницей, так как кириллицу мой электронный почтальон — то бишь провайдер — упорно тогда игнорировал: «Kak vsegda sdelano masterski. No chto eto Vy, Volodya, tak neostorozhno-dvusmyslenno upomyanuli Moritc? Chto ona, govorya o sebe, upotreblyaet glagoly v muzhskom rode. Vy zhe ne mozhete ne znat’ pro ee lesbiiskuyu orientatciyu. Vy ved’ obychno vse znaete, i menya udivili».
Это, так сказать, á propos: я этого не знал, не знаю и знать не хочу. Чайковского мы любим не за это.
Так как быть с ее письмами? Одно лучше другого, не все сохранились, увы. Как материальная собственность, они принадлежат мне, как интеллектуальная — Юнне. На что у меня в рамках действующего авторского права есть легитимное право — на отдельные строчки или абзацы. Вот им и воспользуюсь, да и не думаю, чтобы Юнна протестовала. Когда я привел их в «Записках скорпиона», не пикнула. Почти все ее письма до электронной почты — от руки (иногда красными чернилами), а за одно, отпечатанное на машинке, она извиняется — что на правой руке завелся тромбофлебит, «но письмо это, меж тем, в одном только экземпляре и потому не отличается от рукописного по существу».
А как быть с нашими разговорами? Они были вровень, но у Юнны по отношению ко мне проскальзывали необидные дидактические нотки — причина, может, в том, что она старше (все того же, 37-го года, разлива)? «Объясняю» — рефрен ее трепа со мной. Только со мной? Или все упирается в мою инфантильность? Вот и у Лены Клепиковой незнамо откуда взялся вдруг поучительный тон со мной, а ведь она, наоборот, младше меня — на целых пять дней!
Когда я сочинял в Москве свой питерский «Роман с эпиграфами» — будущие «Три еврея», — спросил у Юнны разрешение на несколько цитат. «Например?» — сказала она. Я привел. «Дурачок! Это же ты мне сказал!» Я опешил. Сколько угодно, когда авторы с пеной у рта доказывают свой копирайт, но чтобы приписывали друг другу? Лжеатрибуция, по Борхесу. Так я и не знаю, кому принадлежат те несколько анонимных наблюдений, которые я привел в «Трех евреях» — ей или мне? Но несколько ссылок на Юнну там все-таки осталось. Да Юнна и не отнекивалась.
Когда я пожаловался ей, что меня таскали в КГБ, Юнна меня успокоила:
— Всех таскают — не тебя одного: всех без исключения. Ты что — хочешь быть исключением?
Я хотел быть исключением, и мне это не удалось.
Вот еще несколько связанных с Юнной фраз из этого подпольно-исповедального романа, который уже выдержал несколько «тиснений» — в Нью-Йорке, Питере и Москве.
Однажды я приехал в Москву с Сашей Кушнером и познакомил их с Юнной, которая успела мне шепнуть, имея в виду Сашин рост:
«Ты что — привез его в спичечном коробе?»
Спустя много месяцев я уже буду жить в Москве, и Юнна приедет раздосадованная и возбужденная из Ленинграда и резко заявит, что этот город склоняет ее к мании преследования.
— Это не мания, — скажу я, без пяти минут москвич, бывший ленинградец, никто и ничто, половинчатый житель загадочной станции Бологое — одна нога здесь, другая там. — Это не мания, при чем здесь мания? Это реальность.
А вот теоретический абзац со ссылкой на Юнну, которой понадобился всего один образ, тогда как я потратил слов двести.
Это было время, когда советская поэзия, восстанавливая прерванные связи со своей русской коллегой, реабилитировала и ввела в свой постоянный обиход слово «душа», и пииты с самозабвением пророков стали на все лады повторять эти пройденные еще в прошлом веке и затверженные эпигонами, но полузабытые в наше столетие поэтические азы; когда, казалось, поэзия предала забвению божественное свое происхождение и божественное назначение, но срочно, экстерном, сдает школьный курс по собственной истории; когда открытием было сказать, что душа бессмертна, хотя об этом, по-видимому, подозревали уже Адам и Ева. Так вот, именно в это инфантильное для поэзии время И. Б. совершенно для всех неожиданно, не стыдясь ни классических теней, ни анемичных современников, со всей ответственностью и легкомыслием, ему тогда свойственными, заявил, что душа за время жизни приобретает смертные черты. Литературным эпигонам казалось, что духовную эссенцию можно пить в чистом виде, припадая непосредственно к святым источникам русской классики, или, как однажды зло, но точно выразилась Юнна Мориц об одном поэте: «Я бы судила его за ежедневное изнасилование русской Музы», — в то время как эту эссенцию необходимо было добывать собственноручно из дерьма современной отечественной жизни.
Что я заметил, то это как «слова являются о третьем годе», так и проза — у меня — в самые резкие сломы жизненной инерции, когда старая колея прервана, а до новой — или в новую — не вспрыгнуть на полном ходу. Ах, Юнна, разве в нашей воле сломать стереотип и предпочесть сумбур? Это делается помимо нас, стереотип сломан, мы выбиты из своей орбиты, и проза заменяет тогда жизнь — иначе дышать нам нечем, и мы умрем.
Замечательно, что строчка эта — «сломать стереотип и предпочесть сумбур» принадлежит не поэту-чувственнику, а поэту-рационалисту, чьи лучшие, или, как говорил Бродский, изумительные, стихи скорее иррациональны. Инстинкт поэтического самосохранения подсказывал Юнне отвергнуть умственные стереотипы ради невнятицы. И это в русских традициях: «Я понять тебя хочу, темный твой язык учу…» Прошу прощения за трюизм: поэзия — это езда в незнаемое.
Чтобы быть более точным, эпитет «изумительный» Бродский прилагал не к стихам Юнны, а к ней самой: «Юнна — изумительная», но имел в виду конечно же ее стихи. Когда он это говорил, они еще и знакомы не были. «Мне больно каждый раз слышать их победоносные рассказы о том, как плохо и одиноко Иосифу», — писала мне Юнна весной 74-го. А познакомились Юнна и Ося только в Америке, в 87-м, на конференции под эгидой журнала «Нью Репаблик», и подробности сообщала уже из Москвы: «Иосиф необычайно красив, хоть и взял одежду напрокат у героев Чаплина: это его старит, всасывает в старческий обмен веществ; ритм скелетный и мышечный, а также сосудистый — лет на шестьдесят».
Далее идет злоречивая характеристика скушнера, который хоть и навяз уже в зубах читателя, но неизбежно появится в приводимых ниже Юнниных письмах. Именно ее злые, желчные, язвительные характеристики — без разницы, насколько справедливы — на редкость точны и остроумны. Вот уж кто припечатывает словом, так это она. Один известный поэт, которого Юнна тоже припечатала, и я еще приведу эту характеристику, сравнил ее язык с бритвой, но и сам в долгу не остался, назвав ее надувной куклой для матросов, а подумав, добавил: не для наших, а для марсельских, нашим не подошла бы.
Как раз в лучших своих стихах — подчеркиваю, того времени, когда мы с ней тесно общались — Юнна избегает быть остроумной и не злоречива вовсе. В поэзию она входит, как в храм, оставив за порогом те качества, за которые одни ее любят, другие — наоборот. «Состав земли не знает грязи» или «О если б знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда» — противоположные ей принципы при несомненной ее любви к авторам этих строк. Юнна Мориц, наоборот, фильтрует базар реальности, впуская в стихи не всю себя. Мориц в стихах и Юнна для друзей и врагов — два разных человека. Можно сказать и так: не равна самой себе. Такой вот пример: Мориц пишет в стихотворении о младшей сестре, а когда Юнна познакомила меня с ней, сестра оказалась старшей. А помните автобиографическую эпопею Пруста, где Марсель конечно же единственный сын, тогда как на самом деле у него был младший брат Робер? Вот уж действительно, поэзия и правда. Или, как пишет Юнна Мориц, вымысел с правдой сличая…
Что касается лично меня, то, перелетев Атлантику, я несколько поостыл к поэзии вообще и к стихам Юнны Мориц в частности, хотя были, конечно, исключения: отдельные стишки Бродского, Тимур Кибиров (опять-таки ранний) да совсем недавно анонимный интернетный — по старинке, самиздатный — поэт с активным использованием слова «е*ло», от него производных и им подобных. Ну да, Орлуша — очень в адекват времени, в самое яблочко. Время в России настало мало сказать непоэтическое — лжепоэтическое. Но вот благодаря FaceBook у меня появились поэты-френды: Геннадий Кацов, Виктор Куллэ, Евгений Лесин, Татьяна Щербина. Да, чуть не забыл Дмитрия Быкова и Игоря Иртеньева. Вот их всех и читаю регулярно — спасибо Марку Цукербергу.
Юнна тоже даром время не теряла и овладела жанром политизированной лжепоэзии по преимуществу с антиамериканской тенденцией, но лжепоэзия меня по любому не колышет. Даже в тех случаях, когда я относился к описанным ею в рифму событиям столь же негативно — бомбежки Белграда, война в Ираке. Но ее точка зрения выражена столь прямолинейно, примитивно, злобно и ругательно, что хочется выслушать и противоположную точку зрения, а иногда самому возразить, хотя по сути разногласий у меня с ней тогда не было. Так у меня случается и с Леной, когда она кого-то вполне справедливо, но с пеной у рта поносит: готов взять под защиту хоть Гитлера. У нас здесь так не пишут даже те, кто с Юнной в унисон. Это даже не лжепоэзия, а в чистом виде PR, пусть и в рифму. Лучше бы уж без рифмы. А потом уже пошел и вовсе стихопонос — говорить не о чем.
Зато письма Юнны каждый раз раскрывал с нетерпением, приходили ли они с оказией, по почте или — позднее — E-mail. Даже когда ее заносило в характеристиках своих коллег, Евтушенко и евтушенок, все равно интересно. Во времени все сгладится, не все останется в основном корпусе, что-то уйдет в сноски, а то окажется и вовсе за пределами книги истории, но по таким вот страстным, тенденциозным, иногда несправдливым письмам можно восстановить угловатую, колючую, противоречивую реальность, пусть и субъективно смещенную. В письмах Юнна равна своим стихам, адекватна своему таланту, было бы преступлением перед литературой скрыть их от читателя. Время следует восстановить в его сплетнях, злословии, стиле. Со ссылкой на Черчилля:
«По миру распространяется огромное число лживых историй, и хуже всего, что добрая половина из них — правда».
Как пишет Юнна про эпистолярный стиль, да еще на таком расстоянии, как у нас с ней теперь, «проистекает из этого некий мутный ручей разобщенности, недоверия и обид». Несколько размолвок у нас и в самом деле возникло именно по этой причине: отсутствие живого голоса, поправок, касания друг друга. Зато от электронной почты она пришла в полный восторг: «Я теперь так вот чудесно переписываюсь со всем глобусом».
Последняя емелька, понятно, меня огорчила, но не так, полагаю, сильно, как разгневанная Юнна надеялась. Короста старческого равнодушия, да?
А теперь вот не всегда понимаю, о чем в этих письмах речь — то ли они выпали из контекста, то ли я, и мне изменяет память. Вдобавок, помимо естественных для поэтки метафор, еще и эзопова феня, чтобы избежать вуайеристов и перлюстраторов. Письма весьма субъективные, эготичные, эгоцентричные — о себе ли, о других, все равно. Плюс субъективность составителя, то есть моя, хотя привожу куски независимо от моего согласия или несогласия: субъективность, помноженная на субъективность. Но в любом случае это была та живая литературная жизнь, полная склок, интриг и борьбы, по которой я немного тосковал сначала в Питере, а потом в Нью-Йорке. Другая цель этих отрывочных, фрагментами, публикаций — вернуть Юнну в ее пиковое время, дать слово какой ее мало кто знал, а тем более — знает. Может быть, один я, так как письма написаны лично, интимно, касаются нас двоих, хотя кое-что я как раз уберу — по принципу «интим не предлагать». Зато оставлю всё касаемо литературы, а иногда и политики, которая меняется, конечно, но и возвращается на круги своя — потому и придаю эти отрывки гласности. Не первый, впрочем, раз. После их публикации в «Записках скорпиона» возражений со стороны автора не последовало. Мне казалось и кажется до сих пор, что Юнна заинтересована в их публикации. Не привожу писем Жеке, моему сыну, и моей маме, с которыми Юнна была дружна, тонка, заботлива. Опускаю деловые мемо и открытки, а таковых было множество. Отсутствуют мои письма — далеко не всегда под копирку, да и сохранившиеся копии (без чисел) трудно точно подогнать к письмам Юнны, а главное — мой скорпионий голос и без того присутствует в этих записках перволично.
В хронологическом порядке эти эпистолы выглят так — отточиями обозначаю пропуски (сугубо информационного, интимного или семейного характера), а также унифицирую даты, все арабскими цифрами и перед письмом (в скобках, нормальнным шрифтом, — мои пояснения):
В Ленинград
10.3.74 (в ответ на мою большую статью «Необходимые противоречия поэзии», с которой «Вопросы литературы» начали бесконечную дискуссию и к которой, с погромной статьей против меня, подключилась «Молодая гвардия». Мы тогда еще были на «вы»).
Статья в «Воплях» — талантливая, свободная, умная. Поразительно свободная — как если бы другой, номенклатурной, холодной, критики не было вовсе. И главное — никакого маскарада, никаких косметических ухищрений ради общедоступности, никакого флирта ради любого приятия.
Это первое, что особенно важно для меня как поэта, все надежды которого и все энергетические мощности нацелены на извлечение чистых элементов свободы из атмосферы, загрязненной чудовищными испарениями литературных невольников и центурионов. Глава «Четвертое измерение» поразительна в этом смысле, и сам факт ее опубликования — это, Володя, награда, премия, так сказать, за оборону позиций, на первый взгляд безнадежных. Однако же! Все выше сказанное самым прямым образом относится к проблеме влияния критика на поэта.
О Слуцком Вы написали замечательно, убедительно, мудро и с блеском. Придется перечитать его последние вещи, потому что было у меня предубеждение, что все эти усилия питаются энергией коммунальной и платить за нее надо по счетчику в определенные числа месяца.
О Вознесенском — удивительно точно, он рухнул, шурша, как тюфяк. Он будет, несомненно, еще барахтаться и напрягаться, но уже очевидно, что он — полосатый, и стружки внутри. И какой бы живой водой он ни смачивал теперь свое тело, все равно видно, что это не живая рыба, а тюфяк. Смешно! А ведь млели, и благоговейные критики самозабвенно сыпали корм в воображаемый океанариум, где он якобы мог разговаривать на всех человеческих языках. И какая многочисленная критическая обслуга была вовлечена в это мероприятие! Вам еще за него достанется. Он непременно организует отповедь, он начеку, и хватка у него административная. (В чем я имел случай убедиться, когда он побежал в ЦК и добился снятия моей дискуссионной статьи о нем в «Литературке» на одной полосе с восторженной.) Я много знаю о том, как он выколачивает предисловия, мнения, транжиря на это сколько угодно времени и не испытывая никакого стыда за эксплуатацию инфантильного образа.
Быть может, Вы и правы, по-своему, в суждении о Тарковском. Но мне больно было читать. Искусственность и высокомерная уверенность, о которой Вы говорите — это, на мой взгляд, потрясающее свидетельство того, что творят с поэтическим организмом комплексы социальной неполноценности, десятилетия опалы, творческого одиночества и мученичества колоссальной последовательности. Ведь поймите, с одной стороны — признанные, публикуемые, существующие в сознании читателя, хотя и опальные Пастернак, Ахматова, Заболоцкий, а с другой стороны — железная дверь, которая захлопнулась на этих именах как раз перед носом Тарковского. И сколько лет он ждал, ждал без всякой надежды, пока перед ним не открылась эта безжалостная дверь. Да ведь и открылась — чудом, случайно. Будьте милосердны, Володя, к его высокомерию, это высокомерие мученика и отшельника, не склонившего головы. И теперь, когда нет нужды в этом постоянном несклонении головы, он уже не может жить и выглядеть по-другому. Ведь какой парадокс — к отцу и к сыну признание пришло почти одновременно и не потому, что разница в талантах, а просто время так распорядилось. И мы с Вами, при определенных обстоятельствах, попали бы в такой переплет. К таким поэтам, как Арсений, надо относиться ритуально, чтобы задобрить и свою собственную судьбу. И нет в этом никакой меркантильности, а есть многовековой духовный долг перед всеми мучениками…
(Эту человеческую поправку Юнны я учел, когда продолжал писать о Тарковском — и о Тарковских; в том числе в этой книге.)
Что касается написанного обо мне, так ведь это первые по-настоящему серьезные мысли о моих стихах, напечатанные в критике за последние восемь лет. Больше всего меня поразило, что Вам открылось очень важное в моем способе выжить творчески и личностно — «настоящее удалено в прошлое». Да — чаще всего, хотя не всегда: пишу тогда, когда невыносимо больше страдать и необходимо свершить операцию по удалению настоящего и помещению его в физиологический раствор прошлого. Вы рассекретили меня на данном этапе. Мне это чрезвычайно радостно — значит, мой мир не так уж недоступен и безземелен. И «реальность ослаблена за счет духовного» — тоже верно, и это еще продлится какое-то время.
…Я не придаю значения физическому зрению, потому что оно, на мой взгляд, эффективно в ранние периоды творчества, и не переведенное в область зрения духовного, оно делает вульгарной и лживой даже талантливые интерпретации мира и жизни. Умный Бродский это понимал! Вообще, колористы в поэзии — это подобие извращенцев с гомосексуальными чертами. Жизнь нужна до зарезу, Володя, и только Жизнь. Потому что Смерть будет непременно и настоящая. И вся наша жизнь — это примерка к Смерти.
При этом я надеюсь, Володя, на Ваше долгожительство — это очевидно по Вашей творческой и физической энергетике.
(Технический пропуск — не могу найти страницу.)
…У Битова, кстати, вышла очередная книжка, русисты пытаются сейчас водрузить ее на свое знамя, но то ли знамя прохудилось, то ли книжка тяжеловата — в смысле веса, — но она неизменно с него падает. Книжка — смесь прозы и стихов, что хуже? — сказать затрудняюсь. Он вые*енивается, елико возможно, хотя зря — это третичная литература, даже не вторичная, из него неожиданно запахло Набоковым, густо и подгорело, как третьёводнишними щами в коммуналовке и шестикопеечными котлетами. Он — Андрей Битов — таракан. Таракан попал в стакан, полный людоедства и называемый советской литературой. У Битова только фамилия хорошая. А еще лучше — Убитов. У него и усы, как у таракана. Много Битова из ничего. На лице Битова хорошо сплясать чечетку, но споткнешься об усы и упадешь…
(И под конец…)
Напишите, мне, как Лена и деть? Что Вы сочиняете? Когда будете в Москве? Вас нельзя оставлять без глаза, а то Рыжий (к Бродскому Юнна меня ревновала) завладеет Вами тут же в силу любовной инерции и с помощью испытанных спиритических приемов…
14. 4. 74
…Вот что меня поразило чрезвычайно: Евг. Евт. и Андр. Возн. были громко удивлены тем, что мне дали массовый тираж и наконец набрали 70 строк в «Лит. газете». И вдруг потек из них непристойный текст: «Всё ей плохо, а издается массовыми тиражами!» Понимаешь, они так привыкли к тому, что обязательно кого-то не печатают и жмут, а теперь вдруг эта схема покачнулась и — нá тебе! Мне больно каждый раз слышать их победоносные рассказы о том, как плохо и одиноко Иосифу. Можно подумать, они победили его в честном бою и лечат теперь в привилегированном госпитале. Они искренно уверены, что литература — это лото и что у каждого из них в руке именно та картинка, без которой ничего не сложится и игры не будет. Но уж если меня издают раз в пять-восемь лет, так пусть назначают тираж, который обеспечит мне хотя бы год сносной жизни — их благополучие от этого не дрогнет. Обстановочка здесь бандитская и злосчатная. Андрей тщательно выспрашивал у одного моего товарища, как мне понравилась твоя статья. А товарищ ему и говорит: «А ты сам спроси у Юнны, она ответит тебе прямо». Но Андрей Андреевич сник: «Я ее боюсь, у нее язык — как бритва, и она моих стихов никогда не любила». Куняев и Шкляревский гонялись за желающими с тобой поспорить в «Воплях» и восславить их могучее содружество. Думаю, что вскоре кандидатура такая найдется и с тобой поспорят…
Феликс Кузнецов, который сейчас по-скоростному летит в секретари Союза, хвалил твою статью очень и сказал, что она умная и справедливая. Очень обрадовался твоей статье Булат, он сиял. В Польше собираются эту статью перевести и опубликовать в журнале — я получила случайную записку из Варшавы от своего переводчика.
6. 6. 74
…Был вечер в ЦДРИ для Верховного Совета. Пела Новелла Матвеева. Она трогательно шизоидная. Принимали тепло, но без энтузиазма. Андрей Вознесенский явился с опозданием на час, в расчете на аплодисменты, которых не было. Он огорчился и хотел выступить после меня, но я была по-бандитски непреклонна. И он завыл свои стихи, как роженица в момент прохождения головки. Временами, когда отпускало, переходил на интимный шепот. Последними он читал стихи о том, как шансонье всея Руси Владимир Высоцкий умер на пять минут и потом воскрес с помощью советских врачей, и еще о бедном Пабло Неруде. Его (Вознесенского) жена Зоя Богуславская, не совсем довольная эстрадной сбруей супруга, выкрикивала из зала мощным басом названия стихов, которые якобы мечтал услышать народ. И Андрей продолжал читать, угождая влюбленным якобы зрителям. По сравнению с голосом этого стиходела пьяный купец в момент оргазма в цыганском стане на Хорошевке — всего лишь партия флейты, нежной венецианской флейты.
Потом я тихо и очень спокойно сообщила, что прочту стихи о Тициане Табидзе, который погиб в 37-м году и не воскрес. И сразу после этого стихотворения прочла «Между Сциллой и Харибдой» и еще пять вещей. Аплодисмент был шальной, хотя сама поэзия мало кого волновала. Мне было очень весело и смешно от того, что мой эстрадный раунд прошел с блеском, развеяв миф о том, что победная схватка со зрителем не под силу интеллектуалам. Андрей переживал и злился, потому что его выступление как бы померкло. Затем явилась вдрызг пьяная Белла, вся в бархатном облачении, и прошлась восьмерками по сцене, в расчете на аплодисменты, которых не было. На какое-то мгновение ее лоб, воспетый ею же неоднократно, озарила мысль о том, что барство и хамство есть вещи непристойные, являющие яркий букет из глупости, дурновкусия и личностной бездарности. Она стала лихорадочно извиняться передо мной за свое опоздание и говорить, что слушала все от первой до последней строки за кулисами. Читала она старое, очень жеманилась, читала охотно и много и производила впечатление кокетливой старушки, которая не желает ничего знать о беге времени, о сестре — моей жизни, о бальном порошке, хотя весь набор почетных могил все время сновал в воздухе над сценой, как диски в руках циркача.
Меня тошнило от одного только физического присутствия и моего участия в этом комплекте тщеславных невежд и барских объедков-обносков некогда великой поэзии. Главный стыд — а кто лучше нас?! И спортивный итог — а, значит, мы лучше всех!
Володя, пусть я — злая, жестокая, невыносимая! Но мне противно все это барство, вранье, нахрап…
В Москве холодина. Отцвела черемуха, киснет дуб, отцветет липа, и сразу выпадет снег. Кто-то выключил отопительную систему, и время понеслось с чудовищной быстротой. Показывают фильм о Муссолини, и зреют большие фиги в кармане. Переезжай скорее, я стану старушкой, и твой сын будет переводить меня через дорогу, а мы с Леной будем покупать себе кофты из чистой шерсти, толстые и теплые, которые вяжут в московском объединении по использованию труда инвалидов и продают в магазине «Русский сувенир» рядом с «Березкой». Еще мы будем покупать также и тапки на лосиной подошве с мехом от зайца, и жаркие гарусные платки с розами в центре и розочками по краям. В таком виде мы будем собираться в кружок и пить сухумский чай с рижским бальзамом, с бакинским курабье, с тбилисским кизилом, с таллинской булочкой, с каунасским сыром, с армянским инжиром — и это далеко не все продукты, которыми нас одарят благодарные авторы, переведенные мной на великий русский язык. Переезжай скорее — осталось жить не больше, чем тридцать лет, — ну тридцать пять!
13. 8. 74
(Очень много деловых писем про мои обменные — Ленинград на Москву — дела, в которых Юнна, Камил Икрамов и какой-то загадочный Змойра в самом деле принимали самое деятельное участие. Так и в этом, после отчета о делах.)
…Прочла новую книжку Самойлова «Волна и камень». Простенькое, незатейливое какашка (в среднем роде). Но Евг. Евт. прислал ему письмо — что раньше он считал себя первым поэтом, а после новой книги Дэзика понял, что это не так. В честь этого он (Евг. Евт.) сочинил 35 стихотворений за 2 дня! Вот клоун! Любите его на здоровье! Я прощаю только тебе, друг мой, эту кондитерскую слабость, и то лишь потому, что есть в тебе благородная пластика человекообразной обезьяны, которая очень любит тайком слопать гнилой банан, чтобы убедиться в своей нерушимой причастности к живой природе. Когда переедешь в Москву, я буду гулять с тобой в зоопарк, чтобы ты не тосковал по своему древнему прошлому. Я дам тебе понюхать вольеру, чтобы тебя не тянуло к велюру, аллюру и Галлимару.
Я получила письмо от Кушнера, пустое и церемонное. Написала ему кое-какой ответ, но, по-моему, зря.
Обнимаю тебя, Лену и Женю-баболова крепко и нежно.
Твой Мориц.
(Без числа, но, судя по обменной информации, тех же времен.) …Читай своего любимца (само собой, Евтушенко) в сегодняшней «Лит. газете», а именно — «В продуманности строки — тончайшая тяжеловесность». Во-ло-деч-ка! Это ведь уже самая примитивная, самая антикультурная демагогия! Но ужаснее всего в ней то, что она страшно вместительна по объему — от Пастернака до И.Б… Будь свеж и обаятельно ироничен! Твой Мориц.
23. 3. 75
Сегодня пришел третий номер «Воплей» с дурацкой статьей Аллы Марченко и с не менее дурацкой статьей Рассадина. (Эти статьи шли в продолжение начатой мной дискуссии о современной поэзии.) Бедный Володя, бедный! С кем ты служишь? Кому объясняешь? Это же абсолютные неучи. А статья Кушнера в этом же номере! У-у-у-у-жас! Эту ху*ню невозможно читать без слез умиления. Только из-за тебя, Володя, я стала перелистывать опусы современных поэтологов. Они же врут и Бога не боятся!.. (Опускаю полторы страницы про статью Марченко, с которой у Юнны давние счеты за сравнение ее стихов с есенинскими.) А какие жуткие, непрофессионально переведенные стихи Кулиева хвалит Рассадин, абсолютно глухой к поэзии остряк из Бердичева!
Ты, Володя, бедный, а оппоненты твои — бесстыжие дурачки. И, конечно же, надо обладать мужеством неиссякаемым и титаническим, чтобы спорить с ними всерьез. (Поправка: не я с ними, а они — мной.) И поэтому ты — молодчина! И вдруг я понял, что тебе очень трудно.
Что касается статьи Кушнера, то она скучная и написана скучным человеком. Здесь я остановлюсь, чтобы не назвать его скучным поэтом. Твоя статья о нем в «Лит. обозрении» не ослепила меня, потому что в ней чувствуется заданность и решенность всего заранее. Вдохновения нет, нет твоего резкого блеска.
Что любопытно, это был опыт диалогической характеристики, где Аз спорил с Буки, апологет с критиком, но Саша, который на любую критику реагировал панически, на эту статью страшно обиделся, а на следующую, в «Литературке», еще больше и стал объяснять мою критику личными причинами, которых не было и быть не могло — с чего бы это? Вот тогда я и получил эту испуганную и загадочную записку Юнны:
26. 9. 75
Володя! Уезжаю в тревоге и опасениях. Всё — скверно. Юра расскажет тебе о звонке Кушнера ко мне из Ленинграда. И еще он расскажет о моем вызове в прокуратуру. До моего возвращения в Москву ты ни тем, ни другим рассказом никак и ни в коем случае не можешь пользоваться — я боюсь неожиданностей в мое отсутствие, и у меня есть основания бояться Кушнера больше, чем кого-либо, — после этого звонка! Ты ведь знаешь, что когда я вернусь и увижу всех своих в целости, — я уже не буду бояться ничего! Потерпи, я вернусь скоро. И мы придумаем, что со всем этим сделать.
Страшно устала, мечтаю выспаться и — чтоб сердце так не болело.
Обнимаю всех нежно. Твоя Юнна.
P. S. Не бросай Юру без присмотра — он зверски устал, затормозился и плохо соображает.
Хоть и минуло сорок лет, оставляю это письмо без комментария и подробности звонка скушнера и вызова Юнны в прокуратуру не пересказываю. Как Юнна и просила.
В Коктебель
29. 5. 76 (По-видимому, в ответ на мое письмо оттуда, которое не сохранилось у меня ни материально, ни в памяти.)
Никак не смею отвечать напрямик, а также выражать свое восхищение по поводу блестящего и остроумного письма — посколько пришлось бы прибегнуть к цитациям и тем самым дать пищу перлюстраторам. Весь персонал, все Персеи и Персефоны, а также петунии, пикадоры, пилоты, пипетки и плимутроки (Plymouth Rock — мясная и яйценосная порода кур), увиденные тобой на понтийском пленэре, почему-то самым внятным образом сосредоточились в звуке «п». В сущности, PR² или 2PR² (забыла!) — это эвфемизм петли и плутократии, достигшей абсолюта. Знаешь, когда мы — дети и наши матери еще в соку, они делают печенье вот так: раскатывают тесто и маленьким стаканчиком или стопкой вонзаются в него, вытряхивая на противень такие одинаковые кружочки из теста, такие мягкие, такие сладкие, такие жирные… И каждый — PR²! Тает во рту и почему-то огульно считается вкусным. Но, по мере прилива чувственной зрелости, вызывает спазм, отвращение и жестокие мысли всё, что хоть отдаленно похоже на это.
В Москве сыро, свежо, был град, который почему-то расколотил окна только в присутственных местах (кино, кафе, химчистка). На Калининском (где жила тогда Юнна) стоял такой звон и стеклянный грохот, как в испорченном лотерейном барабане. Но давали лук, и очередь не дрогнула, оказав сопротивление и вступив в единоборство со стихией…
Рейн клокочет, вопит свои стихи, хвастался Ивановой (Наташе), что у него в каждом кармане лежит справка о шизофрении. Чтобы растопить сердце девушки, сказал ей, по секрету, что я — очень плохой поэт. Она утверждала, что защищалась до последнего вздоха. (Наивная Юнна! Но об этом как-нибудь в другой раз.) Зато официант Адик был счастлив, что, обслуживая Евтушенко и К°, услыхал, как составляется список пятнадцати или десяти «лучших», куда меня включили все единогласно. По-моему, пора их грузить в психовоз вместе с Рейном. И там он проявит себя лучшим образом — потому что коллектив подходящий и фирменный, а один в поле не воин…
Напиши, что поймал Женя в этом раю? (Коктебель.) Сочиняй и не распыляйся — все равно там оплодотворять некого. И веди себя прилично, потому что вокруг поют и играют подзорные трубы…
(После рассказа о своем первом муже, который в то время тоже пас семью в Коктебеле.) Все-таки труднее всего жить в 20–24 года. Это какое-то черно-красное время, неразумное и тем самым тягостное, зато подходящее для стихов, очаровательных и ужасных по-своему.
В Нью-Йорк
26. 3. 79
…Был мне сон. Ты, в замшевой очень новой куртке и в очень отглаженных летних брюках сел вечером в автобус и сказал, что приехал в гости к Межирову. Я ничуть не удивилась и пригласила тебя ночевать в какую-то существующую только во сне квартиру своих родителей. Автобус остановился, и ты сказал: «Произошла здесь катастрофа». — «Где здесь? Ничего же не видно», — говорю я. А ты мне показываешь на землю, облитую дождем. И на этой земле — отпечаток, как от бабочки или от древесного листа. Но это — отпечаток девочки в летнем платье, коротко и ровно подстриженной. Отпечаток лежит на боку и подогнул коленки.
Только отпечаток, а самой девочки нет. Сон был с субботы на воскресенье — значит, он недействителен. Было в нем изящество, нежность и грусть, а также какой-то прямой контакт.
…Могли бы вы разгуляться и прислать хотя бы фотоснимок, свой с Жекой, а не города Нью-Йорка, который видом своим вызывает у меня первобытный ужас — хочется перекреститься! Эта архитектура попахивает концом света. Ты, Володя, защищен от этого чувства своими наполеоновскими комплексами…
Фазилю стукнуло 50 лет. Он напечатал в «Дружбе» (…народов») № 2 или даже № 1 дивный рассказ «Умыкание». Там же рассказ Булата, веселый, как он в молодости по бабам пошел в новом пальто. Но у Булата рассказ слаб, особенно рядом с Фазилем.
Лена, боль останется, но будет тебе живая судьба и будешь ты долго красивой.
18. 1. 85
…получаю твои стрáннические (из путешествий) открытки, но думала, что адрес твой изменился и не знала, куда слать «отзывы и пожелания»… Жизнь моя — обычайна и по-прежнему аскетична и противоестественна. Только теперь голова моя вся в серебре, как елка. Соблюдаю отдельность, достается и справа, и слева, так что сердце приходится носить посередине — там оно и болит постоянно… Межиров написал, что мой «модернизм» повлиял на многих поэтов младшего и старшего поколения, помог им скрыть истинное лицо… У Рейна вышла наконец книжка. Очень серая и антокольско-передреевская, а сам он воспрял и стал мерзавчиком. Таня Бек — окололитературная бабенка, пишущая мемуары. Усредненность — путь к здоровью и процветанию.
20. 11. 87
…только что получила открытку из Греции. Предположения ваши наивны. Писать по-прежнему трудно. Пользуюсь оказией, чтобы сообщить следующее: если не будет никаких непредвиденностей, 6 декабря прилечу в делегации — Гранин, Кушнер, Искандер, Д. Урнов, В. Голышев. Маршрут: Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон, встречи с издателями, редакторами, литературные вечера. Как-то готовиться к этому нет никаких сил, полагаюсь на волю случая и судьбы, ибо жить мне по-прежнему очень трудно, проблемы всё те же, даже намного острей и вульгарней. Я печатаюсь крайне редко и с невероятным трудом; только что у меня вышла книга, которую я пробивала шесть лет. Черносотенная «критика» поносит меня всячески за антирусскость, антипатриотизм и прочие «анти».
Это, конечно, сильно прибавляет мне «популярности», но убавляет жизненные клетки, радости и не приносит особого удовольствия. В прошлом году на Митю в метро напали два бандита 17–18 лет, и он лежал в больнице с сотрясением мозга. Люди, цели и средства у нас всё те же, особенно в литературе. С возрастом их намерения и сорт мыслей не улучшаются, а глухо ожесточаются от желания «добрать своё» и «дооцениться». Теперь лизоблюдство называют «терпимостью», а черносотенство общества «Память» — издержками якобы гласности и демократии. Хорошо — мертвым, и то не всем. Но их, некоторых! сейчас печатают, чтобы нарастить тиражи не раскупаемых в последние годы журналов. Печатают, но с длинными предисловиями, объясняющими их скромное место в великой литературе, где всё поделили и расхватали, и радуются, что публикации мертвых якобы не с ног сшибают и не потрясают до потери сознания. Так что все чувствуют себя вполне прочно в своих нишах.
Я подозреваю, что у вас отношения сложные, нетерпимые и подспудно желчные. В день присуждения N.P. я по просьбе Би-би-си дала очень хорошее интервью, хотя все друзья и нынешние поклонники лауреата чудесным образом именно в этот день и час не оказались дома. На следующий день после интервью со мной никто не здоровался и все опасливо косились. А еще через сутки, уже после «официальных» заявлений и признаний, кое-кто стал поздравлять меня (с чем?!) и благодарить (за что?!).
Поездка эта, если она состоится, очень для меня трудна — лететь трудно, чемодан собирать и «влечь» за собою, в гостинице вживаться, — нет у меня английской (а тем более американской) языковой практики (читаю, но речь безобразно скудная), и мысли об этом мне не в радость…
Все открытки ваши я получаю, но писать трудно. Обнимаю, целую.
23. 12. 87–11. 1. 88 (Огромное письмо, непосредственно после встречи у нас в Нью-Йорке c ней и Фазилем, написанное от руки в два приема, сначала черными, потом синими чернилами, — когда подвернулась оказия. Чем интересно, что Юнна сообщает мне из Москвы о своих американских впечатлениях. Опускаю почти все, связанное с взаимными просьбами.)
Это был кратчайший из снов, со всеми предписанными этому жанру кошмарами и вожделеньями. Но у вас я была абсолютно счастлива, и мне хотелось, чтобы Ленин салат был нескончаем и вечен…
Иосиф необычайно красив, хоть и взял одежду напрокат у героев Чаплина: это его старит, всасывает в старческий обмен веществ; ритм скелетный и мышечный, а также сосудистый — лет на шестьдесят. Но жизненная сила — в полном здравии, ореол светоизлучения плотен и высок. Если он перестанет вынюхивать свою гибель, то проживет еще до 60-ти, а то и дольше, влюбится и натворит чудес, а также сочинит гениальную прозу, стихи и кучу всего. Но он, к сожалению, охотно дает питерской братии примерять тайком свою королевскую мантию, свою премию и крошить свой триумф, как рыбий корм в аквариуме.
Смотреть на это страшно — они погасят его своими слюнями, соплями и трудовым пóтом холодненьких червячков. Помните, в «Машеньке»? «…а червячок-то, в обчем, холодненький». Общения с ним не было у меня, можно сказать, никакого. Но что-то все-таки было, не имевшее ни места, ни времени. Думаю, что наобщался со Скушнером и Голышевым — до рвоты, а я к этим «герольдам могильной слизи» не приближаюсь и веду себя с ними грубо. Желчно, без механической улыбки. Бываю даже зубастой, как восточная маска, — отгоняю рычаньем эти скушнерманские полипы с присосками, ибо любовью своей они высосали бы из меня силу и пламя. Им-то всё мерещится, что струится из них пастерначий «свет без пламени», — хрен вот! писи сиротки Хаси из них струятся, а Иосифа спешат они сделать своим «крестным отцом», загнать в могилу (чтобы не взял свои слова назад!) и усыпать ее цветуечками.
И не могла я ему ничего такого сказать, ибо ползали они по его телу, и меня от этого так тошнило, что я занавесилась вéками Вия. Но слегка мы позабавились все же на пресс-конф. в «Нью Репаблик», где Иосиф говорил очень мало, очень механически и без особого блеска, но явно держал в рабстве всех кочегаров этого паровоза. Он сказал, что поэзия выше политики, и лично мне это в его исполнении драгоценно. Но тут Саша громко зашептал «я согласен, согласен», озираясь победно-трусливым личиком. И тогда я спросила у Иосифа, не он ли написал: «Я впустил в мои сны воронёный зрачок конвоя»??? Сославшись на активность подсознания в ночное время, он подал знак — и пресс-конф. прекратили!!!
Кстати, почему-то не попал в печать дивный ответ Фазиля о Ельцине: «Это — трагическа фигура, он хотел из десяти брежневских лилипутов сотворить одного гулливера». 16-го я читала статью в «Вашингтон пост», и там этой фразы не было, а Фазиль был представлен, на мой взгляд, неравноценно. Я все же Фазиля очень люблю, он питерцам — не чета, живой божий дар…
Письма присылайте мне запросто, но лучше без фамилии на обратном адресе, поскольку за время моего отсутствия несколько похолодало… А звонить вы мне можете всегда и в любое время нашей ночи, но без фамилий, ибо контора пишет, а имя — вещь множественная, в отличие от сочетания с фамилией… Письма пишите мне самые нейтральные, вегетарианские, никакие…
(Откуда этот страх в разгар гласности и перестройки? Мы с Леной в англоязычных книгах и статьях не всегда лестно отзывались о Горбачеве, а в его конфликте с Ельциным взяли сторону последнего, и таможенники, пропуская иммигрантскую периодику, вырывали из нее мои (и наши) статьи: «Соловьев нас (?) не любит». Однако до нашего — совместного и сольного — возвращения в русскую словесность, включая политическую, осталось всего-ничего. Юнна струхнула, перестраховывалась, но заметано — и я стал подписывать письма инициалами или затейливыми псевдонимами.)
2. 5. 88
Получила два письма — все мы ужасно рады, что хоть на время заглохла пыточная эра безответных открыток. Теперь, после нашего свиданья («как ждет любовник молодой…»), яснее проступают сквозь бумагу картинки эпистолярной реальности: мамин приезд, Осин вечер (в Куинс-колледже), котячьи неги. Мне только жаль безмерно, что не видела Жеку, все еще маленького мальчика, сочиняющего прелестные рассказы… Если вы приедете, счастью нашему не будет конца, устроим елку в любое время года!
Фазиль очень хорош, я его обожаю, но всегда помню, что он существо совокупное, повязанное сложными путами с разными соседями и могучими кучками. Он — великий артист и очень большой писатель, и знает, что за это ему всё спишется. Мы не можем быть душевно близкими в силу моей категорической несовокупности, которая пугает его, хоть он прекрасно ко мне относится. Вот свежий пример: Межиров наехал вечером на подвыпившего актера (вариант Межирова, рассказанный мне уже Нью-Йорке, куда он бежал от правосудия, но всем объявил, что от «Памяти», которая вот-вот захватит власть, что актер был из алкашей-прыгунов и проч.), огляделся по сторонам, сунул актера в сугроб, умчался и разобрал машину — до винтика. Но в окно глядела старушка, и все всплыло… Следователь припер, поэт сознался. Актер поздно угодил в больницу и умер. Евтушенко написал «ввысь», что Межиров всегда страдал непонятными странностями. Все в восторге! Я в ужасе! На этом уровне примирения быть не может.
21. 6. 88
…Сереже Довлатову — привет от меня, книги его могли бы сейчас у нас без труда выйти в свет, если бы кто-то влиятельный, вроде Рязанова и Евт., о том пёкся. Но думаю, что уже через год (если все будет бурлить, как сейчас) можно будет пробить в журнале (легче в Ленинграде!) его публикацию. Во всяком случае, при всех возможностях я обещаю упоминать его имя на солидных сборищах, а свои обещания, как известно, я всегда исполняю качественно и вовремя.
(Юнна способствовала публикации Сережиных рассказов и «Иностранки» в «Октябре», а также посмертного тома в «ПИКе». Трудно поверить, но Довлатова нужно было тогда пробивать, пусть Юнна, с ее эгоцентризмом и чем-то еще, чему не хочу искать определения, и преувеличивает в разы свою роль. Юнна же написала трогательное стихотворение памяти Довлатова. Она была в Нью-Йорке, видела его незадолго до смерти, загоняла бытовухой (как прежде меня), и, редкий случай, Сережа еще до отъезда визитера из СССР ударился в запой, который кончился его смертью. Юнна здесь ни при чем — множество других обстоятельств. По ее словам — Лене Довлатовой, — она уничтожила все Сережины письма; некоторые она давала мне читать либо читала вслух по телефону — когда мы оба жили в Москве. Об их отношениях в Нью-Йорке я рассказал в нашей с Леной Клепиковой книге про Сережу, восстановив заодно уничтоженные письма — того стоили.)
(Без числа)
…Я ничего из твоих дел не «мариную», но трудности с твоим именем после А.С. и статей про М.С. очень большие, и мне странно, что ты сам этого не чувствуешь, не знаешь, относишься к этому легковесно. Сейчас самый пик сражения и обнажения репутаций, припоминается каждая фраза, каждый поступок и прогноз… Пока живы современники Арсения, статья об отце и сыне никогда здесь не пройдет… Ты пишешь вещи, невыносимые для страдающих здесь людей. И дело не в том, что ты не прав, а в том, что правота твоя с точки зрения горя здешнего бесчеловечна по отношению к лучшим. Каково будет глубокому старцу Арсению читать твою правду на краю могилы? Он и сам эту правду знает, он ею изглодан. Но, кроме правды, есть истина и путы ее целомудрия… У меня даже к Фазилю и к Булату нет никаких просьб — и не зря, мой друг, не зря!.. Вот Фазиль, сославшись на занятость, не стал к Сереже (Довлатову) писать предисловие. Они сейчас идут на премию, им это сейчас не в жилу.
11. 6. 89
Получила открытку, ужасно обрадовалась, все упреки и нарекания (?) мне в радость, ибо справедливы и непорочны. Несколько извиняет меня лишь то обстоятельство, что невезенье и чертовщина этих сумасшедших гонок из одной вашей столицы в другую вашу же столицу порождены каверзами, порчей да сглазом, от меня не зависящими… Вообще, признаться должна, что сей континент небрежителен по отношению ко мне и явно намекает на неистощимость зловредных проделок… Всегда и очень хочу вас видеть, что единственно и тянет меня в Шереметьево. Что-то еще недомолвлено, недоявлено, и какое-то из терпений уже иссякает до полного угасания, хладотеплости, отмечается также рост обаяния ужастей всеобъятных, прелестей страхолюдных, травмопунктных и взрывчато-погребальных — такова поэзия ХХ века и мира, нового и дважды нового! Так через кровь и пламя дошли до нас месхетинцы-турки, о которых ни слуху, ни духу не было прежде. Вспыхнуло знание, догорая… Целую Жеку, он — очень!
29. 7. 89 (Так помечено письмо, но, отправленное с оказией, получено мной тремя днями раньше — 26 июля.)
Дорогой Володя, получила твою дурацкую открытку. Я бы на любого другого за такую мерзость психопатскую страшно обиделась, поскольку очень ранима и самолюбива, и ты это знаешь лучше других, лучше всех других. Но я, представь себе, и такой открытке от тебя обрадовалась — сердцу больно, а дух прощает. Прожив так много и так трудно, как я, и ты ощутишь седьмым, восьмым и так далее чувствилищем, что в письмах, а еще более в телефонных разговорах случается порой чудовищное искажение «истины момента», приводящее к самым отчаянным выводам, поступкам и окончательным разрывам.
Конечно, ты прав, что я «безнадежно отстала и устарела» — я вообще никогда не могла догнать и всегда отставала от «своего времени», даже в молодости, а уж теперь и вовсе мне за ним не угнаться. Отставанье — это моя такая суть, явно выраженная во всех моих подлых деяньях и грядущих замыслах, а также во всем моем отвратительном облике… Я не знаю, что значит «ни меда, ни жала», но думаю, что ничего хорошего, поэтому целиком принимаю на свой счет.
«Помочь ты мне не можешь» (речь о публикациях в России) — судя по сегодняшним, не очень успешным стараниям, ты прав. Но когда явишься внутренним лицом к истине — ужаснешься великости этих стараний и твоей беспощадности, точно вонзенной в цель, в боль — а жаль!
Но что касается уверенности твоей в том, что я могу тебе только «повредить со своими домыслам, что, когда и о ком…» — тут ты промахнулся, единственный раз — мимо цели…
Тут уж без комментария не обойтись. Меня вконец раздражили в письмах Юнны все эти инициалы тех, с кем я спорил или писал негативно. Честно, я просто сдурел: А. С. — это кто: Александр Солженицын? академик Сахаров? Оказалось, всего лишь Александр Семенович Кушнер (он же — в других письмах — А. С. К. или Семенович, или, чаще всего, скушнер). А академик Сахаров, которому мы с Леной посвятили вполне сочувственную статью в «Нью-Йорк Таймс», зато какой кагал поднялся среди русскоязычников — это А. Д. или А. Д. С.? Л. Я. — Лидия Яковлевна Гинзбург, о которой в «Трех евреях», М. С. — Михаил Сергеевич Горбачев, о котором мы писали неоднократно в американской прессе, не всегда положительно, и за полгода предсказали его падение вместе с распадом СССР. И все эти высказывания — препятствие для возобновления моей литературной жизни в России? Лене Клепиковой Юнна прямо заявила, что нас там — в России — все ненавидят, что оказалось вовсе не так. Либо все ненавидят всех — Евтушенко, Солженицына и проч.; Юнну Мориц — в том числе. Пусть даже не христианскими узами связан наш грешный мир, но даже в этом мире ненависти я стал различать знаки внимания оттуда. В Нью-Йорке нам пришлось ограничить круг встреч с бывшими соотечественниками, а в разгар гласности телефон раскалывался от их звонков — от коллег до бардов, журналистов и министров. К счастью, был уже изобретен автоответчик! Бог меня покарает за недостаточное гостеприимство, но его избыток свел в могилу моего соседа Сережу Довлатова (по крайней мере, частично).
Здесь, конечно, надо сделать поправку: я не всегда учитывал тот культурный шок, который испытывали в Америке советские визитеры, становясь «мишугэнэ» под прессом заданий, которыми сами себя обременяли (а также их друзья и родня) и с которыми не справился бы и Геракл. Mea culpa. Другой Лене — Довлатовой — Юнна пожаловалась, что отношения с Соловьевыми у нее как-то не очень складываются. Как раз по отношению к ней все формы хлебосольства были проявлены нами в НЙ избыточно, но мою (и нашу с Леной) ситуацию в СССР она несколько перемудряла и, как всегда, предпочитала обходные маневры там, где уже были возможны и позарез необходимы прямые и срочные ходы. Несомненно, случаются в жизни сложнейшие, драматические альтернативы — когда пишешь роман или решаешь, оставить ребенка или нет, но передача нескольких рукописей в несколько редакций — из наилегчайших и простейших. В конце концов, я так и сделал, доверившись почте или оказии, — без промахов.
Из Америки мне казалось, что в России наступили новые времена и свобода слова — завоеванная навсегда привилегия. То есть как на Западе, где я живу. Потому я и отвалил из России — вынужден был отвалить, — чтобы быть совершенно свободным. В итоге мы с Юнной оказались правы оба.
Она подстраховывалась и перестраховывалась, как та пуганая ворона, что куста боится, на которую и внешне похожа: волосы цвета воронова крыла да и клюв — дай бог, хотя скорее — на вóрона, разные породы, которых внутри и внешне объединяла. Заостренный хищный птичий профиль. Всегда очень напряженная. И очень — еврейка. Точнее, жидовка. Ведьминское не отрицала, но культивировала в себе, хотя чего-то ей не хватало, чтобы стать настоящей ведьмой — вроде тех, что описаны в «T e witches of Eastwick», романе Апдайка. Юнна не из поступочных людей, пусть и неуступчива. В Средние века или несколькими столетиями позже в Массачусетсе ее бы, наверное, сожгли на костре как ведьму (а меня как еретика), но это было бы не совсем справедливо. А суды у пуритан были справедливы: не только судьи, но и подсудимые верили, что они ведьмы. Так вот, в глубине души Юнна, полагаю, сама не верит, что ведьма, но играет в нее, перевоплощается — актриса? шарлатантка? Всего понемножку. Игра в ведьму, когда не хватает таланта или инстинкта (если это не одно и то же в поэзии) быть ею. Да и в возможность существования совковых ведьм я как-то не очень верю.
Еще меня поразило, что скушнер идет теперь в одном ряду таких недотрог, как Горбачев и Сахаров, — добился, о чем мечтал: стать неприкасаемым. Даже если сделать поправку на Юннину гиперболу и ее собственный страх. Каким образом? Единственное объяснение: давние связи с властями предержащими — любыми. Доходило до нелепостей: питерская «Нева» хотела напечатать мою статью о Слуцком, но просила изъять сравнительную фразу про скушнера, у которого всего одно непечатное стихотворение — по контрасту с непечатной продукцией Слуцкого, которая, конечно, опоздала быть «преданной тиснению»: у каждого времени — свои песни. В конце концов я напечатал статью с этим абзацем в «Октябре», «Новом русском слове», «Русском базаре» и в собственных книгах, включая эту. В каком-то еще письме Юнна мне сообщала:
«Москва и Питер каким-то крюком подцепили «Роман с эпиграфами» в «Н.Р.С.» (газетный сериал в «Новом русском слове», который предшествовал нью-йоркскому же книжному изданию) и пришли в ярость — в буйную! — оскорбясь за скушнера и Гинзбург. Лично я их обоих вкупе с их меченосцами боюсь больше землетрясения, и гораздо больше, чем Бондарева со Куняевым. Подозреваю, что не мне одной это свойственно». И в том же письме о «Трех евреях»: «Нигде, кроме как у Кунява или Алексеева, писание против скушнера не возьмут. А эти не возьмут писание «за Бродского». Так что эти вещи пока пристроить невозможно».
Так вот, если Юнна куста боялась и были на то основания, то, живя через океан и не учитывая усилий враждебных кланов заткнуть мне рот кляпом, я шел напролом. Ряд публикаций были задержаны на пару лет — в том числе из-за Юнны, на которую я понадеялся, а она сложила мои рукописи в сундук, на котором спала гостившая у нее Лена Довлатова, а мне Юнна объясняла, что с моей острой прозой труднее, чем с облегченной довлатовской. А «Три еврея» и вовсе вышли с опозданием в дюжину лет, что, конечно, снизило актуальность этой горячечной исповеди. Я не жалуюсь — таково мое био. Вот и мой «Post mortem» вышел на пару лет позже, после чудовищных интриг питерской банды лжеписателей. Я — Жорж Данден, я сам этого хотел, хочу и буду хотеть, пока дышу. Знаю, на что иду. А Юнна сама предложила протекцию, но когда я согласился, поставил ее, видимо, в довольно пикантное положение.
…Я, Володя, пишу тебе не для «литнаследства», не для университетского архива, я всегда пишу тебе лично. И написанное мною тебе — глубоко интимно в том смысле, что оно только мое и твое личное дело, никому более, даже семье моей, не доступное. Поэтому мой тебе предположительный «вред» — это твой бред. Но если этот психический припадок или приступ бешенства облегчил твою душу, то я согласна и впредь получать от тебя такие открытки, поскольку со мной тоже случаются приступы такого бешенства и направлены они тоже лишь на самых близких мне людей, которые тем еще и близки, что прощают из жалостности любовной и спасительного для меня понимания.
31. 8. 89
…И тут не последнюю роль сыграла смерть самого Арсения (о публикации моей статьи про отца и сына Тарковских в «Искусстве кино» — Юнна была уверена, что она никогда не пройдет). Володенька, прежние ориентиры несколько переместились, порой трудно с ходу определить, в какую из пяти сторон. Внешнее стало еще меньше походить на внутреннее, последствия непредсказуемы, и я считаю, что ты должен при первой возможности прибыть хоть на неделю самолично. Мы всей семьей гарантируем тебе удовлетворение всех твоих растущих потребностей на любой срок длительности, если захватишь с собой мыло, которое у нас нынче по талонам, т. е. по карточкам. Мыло — единственное, что я не смогу тебе сварить… От Сережи (Довлатова) я получила почтой книгу рассказов, так что и ты присылай все, что сочтешь нужным, а я тут в полной готовности, чтобы сделать для тебя все, что в моих силах. И закопай ради бога в свою где-нибудь там ямку свои какие-то мысли, будто я тебе не помощник. Это сивый бред и психопатство. И за мысли греховные ответишь ты перед Творцом и Создателем в полной мере в свой срок, а я вся в белой квантовой мантии восстану в защиту твою: «Прости, Господи, грешного, он погряз в заблуждении от порчи вселюдной во дни многолживые».
Я очень скучаю по Лене, которая есть главный твой изумруд и сапфир.
23. 10. 89
…Дошла до меня газета с первым куском из романа с эпиграфами (так у Юнны — сериал в нью-йоркском «Новом русском слове»). Твое счастье, что пребываешь в местах столь отдаленных, — клан Л.Я. и А.С. никогда тебе этого не простит, но поймут тебя очень многие неклановые индивиды. Завидую свободе твоей и защищенности — откуда это у вас в царстве жестокого капитала, коррупции, концернов и мафий? У нас тут в литделах все стало еще более клановым и нет места «уклонистам». Опять же договорились, кого куда и за сколько; на каждом — ценник, а на некоторых даже грядущая скидка к уценке… У нас все то же, но правые еще больше правы великой своей правотой праворукой, а левые, как всякий левша, подковывают блоху, блохонькую такую, литмузейную, альтернативную блошечку.
4. 2. 90
…(опять по поводу предлагаемых в московскую прессу кусков наших с Леной прозы, критики и политологии, но не всегда выходило и не всегда в том была вина Юнны.) Ты крайне нетерпелив и о ситуации здешней судишь, как капитан, обладающий географической картой, а не как лоцман, знающий все подводные камни и мели. Вот приезжай и загляни в глубь этого бурленья, тогда и поговорим. А то у тебя прорываются очень несправедливые интонации человека, делами которого я не занимаюсь в должной мере… Тебя, с твоими нападками на Семеновича (Скушнера), боятся, ибо Семенович охраняется государством и райсоветами, и публикации в «НРС» вызвали клановую злость. Мне многие в связи с этими твоими сериалами жаловались. Интересно, откуда они эту прессу берут?.. Мне она как-то не попадается, пока ты не пришлешь…
Кстати, насчет Сережи (Довлатова) ты очень ошибаешься. С трудом идут его вещи, с большим трудом и по капле. Он ведь не из «головки», которую обслуживают райсоветы переделкинских узников, аристократы тухлого духа вечных оттепелей. Что касается публикаций Зарубежья, то всё те же списки действуют, всё те же списочки, хоть и преподносится это как сумма личных вкусов, убеждений, доблестей. Но рычаги все те же. Машина как бы сломана, а рычаги работают. Жить стало намного страшней, все думают об отъезде, все «народы», все племена и кучки. У нас теперь самый разгул фашизма под мудрым руководством энергичных вождей. В руководстве вся их «стихийная» сила, и они вооружены стволами огнестрельными и списками жертв с адресами. Я была на всех ЦДЛьских погромных спектаклях, это — лишь репетиция, все впереди…
Думаю, что в этом году появятся твои публикации в 4–5 журналах. Думаю, что в этом году беженцы из Арме, Прибалтики, Азии составят в России целую армию бездомных и безработных. Думаю, что в этом году все умные получат здесь премии и уедут к вам на работу — лет на десять. Я — глупая, я даже не успею уйти босиком, и мои «породненные с евреями лица» тоже под топором ходят, ежедневные звонки с угрозами слушают. Все изменилось, Володя, качественно и количественно. Большая кровь льется, и стоит гул злого веселья. Самый настоящий фашизм идет к власти. Ярость праздника и дрожь перед кровавым Неведомым. Приезжай и взгляни… Жить мерзко.
19. 3. 90
Я очень тебя, Володя, прошу понять, что здесь идет большая свалка и потасовка, модель «лебедь, рак и щука». Пробить книгу очень и очень трудно, если это не классика эмиграции, не сидельцы, не ссыльные, не самиздат. Вы с Леной здесь по этой статье не проходите, не говоря уже о таких отягчающих обстоятельствах, как А.Д.С. и А.С.К (опять двадцать пять!), — «никто не забыт и ничто не забыто»… «Роман с эпиграфами» не пройдет из-за Саши и Л. Я… Собирайте (наши с Леной) книги своих статей и эссе, но — ради Бога! — без скушнера, я не хочу на этой гульке угробить доброе дело «ПИКа» (новообразованное Рекемчуком, Юнной и другими издательство, которое заключило с Леной и мной пару договоров на «Андропова» и «Дряхлоратию», но пока они тянули и откладывали, их опередили какие-то прыткие ельцинские ребята, у которых водилась бумага, а терять им было нечего; единственное жалею, что не собрал для «ПИКа» сборник моих литстатей, как Юнна предлагала — скорее бы проскочил).
Непременно приезжай на набоковскую конференцию. И не молоти свою чушь про анастасьевскую отплату за гостеприимство. Не хуже меня знаешь, что в любой день и час суток мы с Юрой готовы встретить вас с Леной на аэродроме, поселить у нас, нанять Лене рикшу, а тебе гейшу, прихватить вам харчи в ресторане ЦДЛ (если он не сгорит, как ВТО), и вообще!.. Мы все будем вам страшно рады, хотя ты, Володя, — псих несносный, а Лена — сущий бриллиант и солнце. Все твои хвастунские брызги меня поражают: при стольких талантах и вдруг такая плоская пошлятина. (Об чем речь? А поселились мы все-таки у Коли Анастасьева — и в этот приезд, и в следующий, когда приехали собирать материал для книги о Ельцине.)
4. 2. 93
…Спасибо за книгу, которую прислали из издательства. Я очень рада, что дела у вас тут пошли хорошо. Как Жека?.. Мы поживаем с трудом, но жутко интересно. Я еще и стихи пишу и даже печатаю. Сейчас расстоянье между нами гораздо больше, чем прежде, и нет никаких возможностей это преодолеть в обозримом времени, но бегучесть кривляющейся истории возмещает с лихвой все тягостные убытки от вселенской скуки воплотительной сбытности.
(Далее следовал рисунок головы с цветочками внутри и вне — начало той литографики, которую Юнна станет издавать дюжину лет спустя.)
11. 12. 03 (электронкой)
…Две посланные от вас книги я получила и письмо, очень рада, что все написанное вами здесь издается и на престижные премии выдвигается, это хорошая раскрутка и пиар, как теперь говорят. Но в реку литературы целенаправленно и злорадно свозятся горы мусора, ничуть не прекраснее прежних. Река-то течет себе все равно, однако же всех тошнит, и читатели страшно устали от «обманок». А все премии, кроме «Триумфа», куплены и распределены списочно заранее… Жить в наших степях жутко, но интересно, если не лезть в банку с писпауками. А зачем лезть? Надеюсь, вы черкнете мне посланьице, в том числе и про вашу жизнь. Замечательная фраза, приписываемая Расулу Гамзатову, гуляет в связи с его 80-летием: «Дагестан никогда не входил добровольно в Россию и никогда не выйдет из нее добровольно».
Мы с Юрой обнимаем вас парусно.
(От руки, почтой, без числа, а конверт я выбросил, но судя по присланным книгам — начало 2003-го.)
Практика такова, что письма людей талантливых, чьи имена не пустой звук, теперь продаются с лотка, как трусы и пиво, и присобачиваются к писанине чужой, опять же, чтоб она продавалась с того же лотка. (Если это относится впрок к «Запискам скорпиона» либо к этому моему сериалу, с их обильными цитатами, то пусть автор будет в роли драгомана-толмача! Спасибо, Юнна.) Поэтому жанр абсолютно живого письма закрыт — заколочен досками почета с портретами самых наваристых толкачей-лотошников, дорвавшихся до грудей родины.
Оля Кучкина сбросила мне на компьютер Володино сочинение про железную дорогу Бродский — Тодд — Евтушенко — далее везде (это мое мини-исследование неоднократно печаталось в периодике по обе стороны океана, а также в «Post mortem» и книгах этого сериала, включая эту). Лично для меня в информационном свете не было там ничего нового, особенно в шелесте денег и лязге связей на перегонах, где светофорили зеленым очком одним молодцам, а красным очком — другим молодцам. Это была не моя дорога. И я никогда ею не пользовалась, чтоб не сближаться «по интересам» (светофорным!) ни с теми, ни с этими, ни с их проводниками и проводницами…
Две книги вам шлю в дар… (Опускаю авторскую характеристику.) Надеюсь, что всё у вас в полном ажуре, что все — при любимом деле, которое процветает. Жеке — нежный привет, чудесный был мальчик, на машинке играл свои рассказики…
Далее уже приведенная фраза про обмен и таинственного Змойру. Книги я тут же прочел — это была другая Юнна, чем та, которую знал и любил.
30. 10. 03
Володя, ты во всем не прав, а лев! Пусть весь дом стоит на ушах и соседи спят вприсядку, сковородками накрывшись, зато детям пусть будет весело в том зверятнике, где они бесятся и балбесятся, как ты, друг мины культа (Миша Швыдкой — до того как стал министром культуры — издал в «Культуре» книгу моей прозы и эссеистики «Призрак, кусающий себе локти») и мины печати (Володя Григорьев, издатель нашего с Леной «Ельцина», с которого начался «Вагриус»; взят потом в министерство печати), не мог никогда и не сможешь вовек, потому что при всех своих пакостях и бесчинствах ты никогда не был детским человеком в чистом виде. Злопыхай, завидуй, разноси меня в пух и прах, разоблачай, пасквиляя, — но «вся правда» в этом! И пусть внуки стоят у тебя на лысой макушке, свистят в дудки, делают из тебя корабли с парусами и летающие табуретки, ловят тобой акул и лупят пиратов, беря их на абордаж, пусть они обживают тебя, как необитаемый остров с единственной пальмой по имени Лена, — это лучшее из всего, что ты приобрел в среде обитания!..…… Жеке — наши обнимайцы с целовайцами.
А что у тебя за такая тревога о наших степях? И что там такое у нас началось? Те бравые ребятки, которых назначили Ебельцын с Бомбельцыным быть генералами капитализма? «Сбыча мечт» и сладость их — дело тонкое. И все далеко не так однозначно, как рисуется и озвучивается компрадорским агитпропом, который у 90 % населения вызывает ярость и отвращение из-за наглого вранья на тему: все, кроме этих ребяток, «всё проспали» по лени и глупости. Обнимаем животворно весь ваш с Леной теремок.
Это было последнее письмо перед разрывным, в ответ на публикацию отрывков из «Записок скорпиона» про Юнну в нью-йоркских «Новом русском слове» и «Русском базаре» — приведу в постскриптуме ее хулиганское письмо вместе с моим доброжелательно-скорпионьим: по природе — скорпион, зато характер — уживчивый.
Что же все-таки я ей писал в рутинный ответ на ее рутинные письма? Свои питерские и коктебельские я, видимо, уничтожил перед отвалом, стрáннические открытки отовсюду существовали, понятно, в одном экземпляре, а в тех немногих нью-йоркских цидулях, копии которых под рукой, сообщал о нашем житье-бытье в Америке, выяснял отношения и иносказанничал с учетом перлюстратов и Юнниного страха. Хоть и обещал заткнуть кляпом рот своим эпистолам, вот суммарно несколько кусочков, чтобы дать представление о разных мирах, в которых мы с Юнной оказались. Время, вертай свои годовые стрелки назад!
4. 4. 79
…Что касается быта, который тебя интересует, то здесь он куда менее занимателен и менее увлекателен, чем там. Когда все есть, ничего не хочется, желания исчезают (либо умирают, не знаю). Я в замшевой куртке и в отглаженных брюках могу присниться только во сне и только в ночь с субботы на воскресенье. Я уже стал забывать, как я был одет там, — здесь я одет никак не лучше, хожу в затрапезе, подчиняясь здешней моде, мне близкой, необращения внимания на одежду. Это такой стиль, точнее — бесстилье, которое тоже есть стиль. К примеру, женщина не должна выглядеть женщиной, но приближается к мужчине, в том числе в одежде, феминизм пустил в быт очень глубокие корни: ты как глава семьи («и два моих мужичка», писала Юнна мне как-то о сыне и муже) сошла бы здесь за американку. Надо сделать две сноски. Во-первых, это иногда переходит в нарочитость (дыры, заплаты), во-вторых, речь идет исключительно об интеллигенции, студенчестве и так далее. Резко выделяются барочной пышностью одежд пуэрториканцы и советские евреи, но на фоне американской простоты это выглядит старомодно и безвкусно…
Наверное, ты права о некоторых моих упущениях, о некоторых прозаических провалах в моем организме. Лично мне сейчас вообще кажется, что я много не понимал и во многом ошибался. Я написал две книги («Три еврея» и «Не плачь обо мне…», напечатана в израильском журнале «22»), одна из которых совсем хороша, а другая просто хороша, и попытался, живя в Москве, написать третью, но единственно успел протокольно записать — как стенограмму — то, что было со мной и вокруг, присочиняя небылицы и давая фальшивую тенденцию тому, что видел, потому что последние месяцы в Москве — чересчур экзальтированные. Я многое пропустил в тебе не потому, что мы поздно познакомились, а потому, теперь я это знаю положительно, что был тогда во мне перевес действия над рефлексией, страсти над равнодушием, а страсть разрушительна и несправедлива (редко справедлива).
Ты зоопарк любишь? Не здешний, где звери на свободе, а посетитель в клетке. Но обычные, прежние, традиционные — зверь в клетке, посетитель на свободе. Так вот, представь себе два описания зоопарка — одно зрителем, другое обезьяной из клетки. Описания эти будут разные, и трудно сказать, кто из этих свидетелей более прав. И упреки их взаимные тоже понятны. Пока мы имеем статичный образ, но мы его доразовьем до басенного, хотя и не любитель сего жанра, уберем вялого посетителя, а обезьяну удвоим и обеих усадим за письменный стол: пусть будут писатели.
И вот обезьяна А. пишет гневные воспоминания о своей жизни в неволе и свой жизненный опыт превращает в профессию. Обезьяна Б., то ли страдая беспамятностью, то ли стремясь к объективности, рассматривает свой опыт как одну из сторон действительности, дополняя ее тем, что видно ей в новом опыте. Да, надо добавить, что большинство обезьян поступает как обезьяна А., что, кстати, тоже толкает обезьяну Б. на оригинальность, а обезьяну А. — на остракизм. Я не знаю, какую мораль к этому сюжету прибавил бы Крылов, а какую — Эзоп. Кстати, мой переводчик, который орудует сразу в трех языках (третий — французский), рассказывал мне о феномене перевода Крылова на французский: получился чистый Лафонтен.
Короче, удручающий уровень здешней русской прессы понуждает не иметь с ней ничего общего — хотя бы из инстинкта самосохранения. Это для наших мам — им в самый раз. О стихах я уж не говорю — за пределами моей бывшей профессии (критики). Я, правда, раз в три месяца встречаюсь с рыжим странником, но, как «прекрасен дальний замок, приближаться нету смысла» — это во-первых, во-вторых, описание стран, в которых побывал, я поэзией не считаю, в-третьих, он напрочь занят американской аудиторией и то, что недобрал в России, пытается по-волчьи выгрызть здесь. Дай бог ему удачи, хотя литература — не ипподром, а честолюбие выедает человека, как метастазы. Американцы (те из них) в выгодном положении по сравнению с русскими: они читают переводы действительно замечательных стихов, которые были написаны 10 или 7 лет назад.
Кстати, наше преимущественное с американцами общение дало некоторые сдвиги в языке. Мой отнюдь не так хорош, как хотелось бы (отвлекают занятия в русском), и не так хорош, как у Лены: вот кто вундеркинд, хотя английский она ненавидит почти так же, как НЙ. С ней мы вскоре закончим нон-фикшн — по мере писания главы переводятся и появятся в виде самостоятельных статей, хотя перевод — такая проблема, что становится страшно. Человек рождается все-таки с одним языком: здесь Бог надел на человека узду и предупредил его легкомыслие. Язык и смерть — два препятствия на пути человеческого зазнайства. А исключения только доказывают правило, увы. (Естественно, я говорю только о писателе — инженеру, врачу или домохозяйке все равно, с какой сотней-другой слов орудовать.) Я не стану писать о человеческих превращениях, как и ты не пишешь, а что касается одиночества, то здесь оно такое же звонкое, как и везде. Еще раз: слава богу, в мире существуют не одни иммигранты, иначе можно было завыть с тоски (либо со скуки).
Если удастся сбросить с себя через год-другой ряд иных обязанностей (нон-фикшн, инглиш, заботы о хлебе насущном), то буду писать дальше, что писал в Москве, хотя и иначе. Вся беда в том, что, с одной стороны, хочется довести до конца начатое, а с другой, плюнув, взяться за новое, одолевающее. К тому же и перерыв получился приличный. Делать такие рискованно. Плюс возраст — уже не тот, что прежде, и подъемы не так стремительны. Еще один плюс — здешняя ситуация, где язык знают враги, а друзья не знают…
А как кто? Фазиль? Тоня (Искандер)? Володя, Ира (Войновичи)? Таня (Бек) — замужем? Слуцкий?
У нас в Куинс-колледже (где у нас с Леной был сдвоенный сколаршип на год) чуть не через месяц выступают советские поэты. (Это по части профессора Тодда, который организовывал их вечера и о котором подробно в упомянутом рассказе «Мой друг Джеймс Бонд».) Через неделю Окуджава. Были с разным успехом — Евтушенко, Вознесенский, Высоцкий, Ахмадулина. Нашествие русских поэтов: как мусульмане — в Мекку. Две формы успеха (или неуспеха). 1. Зал (а значит, деньги, аудитория русская). 2. Пресса (американская, прежде всего «Нью-Йорк Таймс», естественно).
Здесь случаются неожиданные парадоксы: к примеру, Рыжий завидует (с переживаниями) Вознесенскому, потому что последнему платят вчетверо-впятеро больше: не по себестоимости, но потому что добавляется вес представляемой страны. Я ни на одном вечере не был, хотя все они происходят в пяти минутах от нашего с Леной кабинета и в семи минутах от нашей аудитории. Но на таком же расстоянии — бассейн: роскошный, с зеленой водой, с прекрасными пловчихами, похожими на русалок, в которых иногда с удивлением узнаешь своих студенток, с лоснящимися неграми, которые выныривают около тебя как доисторические животные… Короче, бассейн — моя слабость, я предпочитаю его поэтическим вечерам, Бог меня простит.
5. 11. 79
…В Русском институте Колумбийского университета, где я работаю, нет русской машинки (или есть, но я не нашел) — пришлось притащить из дома. Это, конечно, мелочь, но позволяет заглянуть в ту область американской мифологии, которая называется славистикой. Впрочем, не будем уподобляться свинье под дубом… Сейчас я сижу в кабинете человека, который временно, на четыре года, ушел работать в Белый дом, но, похоже, через год вернется, все зависит от выборов, зовут его Збиг (Збигнев Бжезинский, помощник президента по национальной безопасности). Лена говорит, что у него лицо, как бритва. Я недавно назвал его… (в статье, но как именно — не помню, а ручной инглиш в копии отсутствует) польским мальчиком — наверное, это не очень приятно, когда ты второй человек после президента. Здесь то хорошо, что не надо читать лекций и отвечать на заковыристые вопросы студентов. В прошлом году мы вели семинар по-английски в Куинс-колледже, а я еще читал лекции по-русски — тяжело. Сейчас многое изменилось. Мама от нас уехала, у нее отдельная квартира, по вашим стандартам — двухкомнатная, по-здешнему — однобедрумная. Юджин ушел от нас в частную школу и приезжает только на уик-энды — школа в нескольких часах езды от Нью-Йорка. Мы пишем свои научные работы — и совместные, и отдельные, которые, несмотря на свою академичность, вызывают яростные споры, но больше среди здешних русских, потому что наших теперешних соотечественников (американцев) ход наших мыслей вполне устраивает. Как и прежде, у нас несколько жанровых сфер, в которых с попеременным успехом и работаем. Мы часто вспоминаем твою страну и время, в ней проведенное, а также друзей и врагов, в ней оставленных. Мы не унываем и не теряем надежды увидеть первых и не увидеть вторых. Немного путешествуем. Недавно были в Нью-Хейвене, в Йельском университете, на конференции славистов, где читали свои доклады, а чужих не слушали: может быть, ты об этом слышала, у Лены был доклад, который привлек наибольшее внимание, и дискуссия вокруг него до сих пор не утихает, а скоро, наверное, разгорится с новой силой — после публикации полного его текста. Доклад о бесах, но с маленькой буквы. (Фактически наша совместная работа о советских диссидентах, но зачитанная одной Леной. Она частично воспроизведена в «Записках скорпиона», зато здесь — вослед этой главе — идет «Спасибо академику Сахарову», всячески рекомендую!)
Если ты помнишь героиню одной пьесы Олеши, она составила два списка, будучи педанткой: благодеяний и преступлений революции. Если говорить о Нью-Йорке в подобном жанре, то в последнем надо поместить грязь, тараканов, тайфуны, забастовки, Гарлем, отсутствие пододеяльников (в отличие от Лены привык — и нравится) и русского ржаного хлеба (сейчас сколько угодно), а также безработицу, инфляцию и безумную квартирную плату, но в другой список также есть что занести, и это делает жизнь веселой, хотя и не беззаботной. Также плохие в основном передачи по телевизору плюс рост преступности. Это, кажется, всё. Я сделал так, что в моей жизни оказалось две, и я доволен обеими.
1. 8. 89
…Твоими словами — тебе: вымысел сличай с правдой. Моими: иногда прямой путь короче обходного, слова обозначают то, что они обозначают, а не то, чего они не обозначают. Или я отвык здесь от иносказаний?
Вообще, в письмах лучше объясняться в любви, а не выяснять отношения…
Мне кажется, близость людей — это когда не стыдно признаться в своей неправоте. Вероятно, я был не очень точен в выборе слов — это моя неправота пред тобой. Другая моя неправота, что когда Сережа (Довлатов) сказал мне по телефону, что от тебя мне письмо (то самое), я был нетерпелив и попросил письмо открыть и прочесть. Я, правда, никак не ожидал такого письма. Но в любом случае Сережа оказался вовлечен, это моя ошибка, больше я ему не скажу ни слова, хотя он, за недостатком внешних событий, по-бабьи любопытен, не говоря уже о том, что выдумщик. Да не послужим для него сюжетом и не станем верить тому, что он говорит тебе обо мне, а мне о тебе. Ты права — это наши отношения, третий лишний, я это письмо не покажу даже Лене.
Но, Юнна, а где твоя неправота? Если ты ее не признáешь, то я вынужден действительно превратиться в психопата и воскликнуть вослед безумному Лиру: «Я не так перед другими грешен, как другие — передо мной».
Ты хоть помнишь то свое письмо с инициалами, от которых я просто обалдел. А.С. — это кто: Сахаров? Солженицын? Александр Семенович Кушнер? Я обо всех писал, включая А.С. Пушкина. Юнна, есть такое слово maveric, теленок без клейма, а по-русски — говно приблудное, или (приличнее) колобок. Так как же, будучи сама таким вот независимым, отдельным человеком, ты не признала это качество за мной, только в иных жанрах — в критике, в прозе, в журналистике? Мне казалось, мы неплохо друг друга понимаем. Выходит, я ошибался…
Я пишу это письмо потому, что все остается по-прежнему и мое отношение к тебе не изменилось, что что-то ты должна понять, иначе трудно общаться.
Я тебе признателен за передачу Косте (Щербакову, главреду «Искусства кино», знал его еще по «Комсомолке», где он меня печатал) — он тут же прислал телеграмму, что статья идет в десятом номере и чтобы я послал фото и био. Я послал с оказией — ту самую англ. аннотацию: какой я есть, такой есть, я не хочу, чтобы обо мне узнавали помимо меня. Потом я получил от него прекрасное письмо с лирическими воспоминаниями о прежних отношениях, с немыслимыми комплиментами: талантливая, блестящая, причем не только от себя, но и от редакции. Это о той самой статье, которая, согласно твоему прогнозу, никогда не будет напечатана, разве что в «Мол. гв.» (об отце и сыне Тарковских). Так удивительно ли, что был возмущен тем, что ты написала и о статье, и о романе, и об инициальных товарищах!
Со статьей ты оказалась не права, а я в накладе — если бы она была передана раньше, ее бы давно уже напечатали. Костя, естественно, просил прислать еще тексты, и с той же оказией я ему выслал первый попавшийся. («Искусство кино» напечатало еще по главе из нашей с Леной кремлевской книжки (о Польше) и из «Трех евреев» — о КГБ и стукачах.)
Может быть, я погорячился, мне не надо было реагировать на твое горячечное письмо. Тем более, похоже, события тебя изменили и ты в конце концов передала статью, которую обругала и сочла непроходимой. Об устарелости я написал зря, но, м.б., критика — тот жанр, который ты не очень чувствуешь? О. Манд. назвал Ахматову столпницей на паркете (-ине?) А что он писал о Блоке? Но с каким блеском! А Блок об акмеистах — «без божества, без вдохновенья»? Юнна, нет иерархии жанров — кусок манд. критики так же хорош, как его стих. И не потому, что он поэт. Альтман художник не меньший, чем Арс. Тарковский поэт, но вспомни преждевременный некролог Альтману, написанный Абрамом Эфросом. А гениальный «Промежуток» Тынянова, а статья Гоголя о поэзии — что тот писал о Державине? Это тоже жаль — что ты ни меня не понимаешь, ни жанр, в котором я работаю (все реже и реже — только что опубликовал главу из «Романа с эпиграфами» — «Апология критики, или Прощание с любимым ремеслом», с цитатой из тебя).
Ладно, инцидент исчерпан…
28. 1. 2003
Юнна, получил вчера от тебя посылку — спасибо за стихи и письмо. Книги я, конечно, читал и рассматривал ту из них, что с картинками (мой приятель — нью-йоркский книгарь, который привозит книги из Москвы до того, как они поступают в московские магазины), но письмо живо напомнило нашу московско-питерскую переписку — всё на месте, и энергия, и талант, и темперамент. И еще рад был снова почувствовать в тебе созвучного и родного человека. Узнав о «Триумфе» пару лет назад, на радостях тиснул статью о тебе в «Новом русском слове».
Что у нас? Книжки с год назад вышли одним залпом, надеюсь, ты видала не только тверские издания. Самый ответственный — большой, в килограмм весом, том в «Алетейе», куда вошел «Роман с эпиграфами» + 17 рассказов (некоторые превосходные) и восемь мемуаров. Тираж — всего полторы тысячи, хотя мне говорили, что были допечатки. В АСТ тиражом 10 тысяч вышли оба моих лжедетективных романа «Похищение Данаи» и «Матрешка», а Захаров выпустил «Три еврея» (5 тысяч плюс допечатки) — тот же «Роман с эпиграфами» + «Два Бродских» и «Бикфордов шнур» (там есть о слабоумии и посредственности скушне-ра, но про квартиру и прочее он так не думает — ты ошибаешься, — а просто врет, прекрасно зная, что врет: я его так и назвал «поэт-воришка, мемуарист-врунишка» и настоял, чтобы его инсинуации были напечатаны на задней обложке моей книжки). Еще «Совершенно секретно» выпустило нашего с Леной «Довлатова вверх ногами» — 7 тысяч. Вот тебе отчет, если ты получила только тверские книжки…
В отличие от тебя мы никаких премий не получаем, хотя номинируемся регулярно. Дардыкина из «МК» напечатала восторженную статью о «Семейных тайнах» и номинировала на Нацбестселлер и Букера, но я даже в финал не прошел. На церемонии последнего Дардыкина спросила, почему не попал мой роман в финал, на что кто-то из членов жюри стал говорить против «Трех евреев». Лично мне такая аргументация кажется фантастической, потому что рассматривается один роман, который есть вещь в себе, а другие книги автора не имеют отношения к обсуждению. Зато тех же «Трех евреев» очень поддержал в нескольких статьях Павел Басинский, да и Дардыкина написала о романе, что «беспощадный». Я бы добавил: к самому себе.
Я живу поверх идеологий и барьеров, на необитаемом острове, сам по себе, как и мои коты, которых за это люблю и с которых делаю жизнь. Как и Лена. Ее номинировали на «Белкина», но она не прошла в финал, а Надя Кожевникова только что номинировала на Национальный бестселлер. Проза у нее блистательная — говорю не как муж, а как критик. Прецеденты есть, аналогий не вижу.
Месяц назад закончил роман о человеке, похожем на Бродского (чтобы сделать Бродского похожим на человека, а не на памятник, который он сотворил себе при жизни, а теперь на нем паразитируют его лжедрузья). Книга абсолютно оригинальна, сложна и не походит ни на что, есть очень сильные и страшные куски, многие герои под собственными именами. Там, где кончается документ, я и начинаю, и там, где документ недостаточен, вступает в силу художественный вымысел — тот самый, над которым слезами обольюсь. К сожалению, давно не писал из-за романа рассказы, а это мой любимый жанр, как для тебя стихи. Можно и так сказать: живу в свое удовольствие — пока жив. Плюс «Парадоксы Владимира Соловьева» — сначала на здешнем ТВ, потом на радио и теперь в газете «Русский базар» (-bazaar.com). Там же и Лена. Так как у меня авторская рубрика, то тащу туда все жанры — от литкритики и политики до прозы и очерков. Собрать бы все это в книгу, но кому это нужно?
Из домашнего. Жека в Ситке, Аляска, двое очень разных сыновей (моих внуков), две галереи, Лена провела у него вторую половину лета, помогая в работе как консультант по искусству, я прожил дней десять. Очень с ним дружны, отзывчив, добр, заботлив и нежен. Каждый год вместе, двумя семьями, путешествуем по Америке: Калифорния, Новый Орлеан, четыре юго-западных штата. Об этом есть в моих «алетейных» рассказах («Аляска», «Окарина») и в повести «Как я умер», которую напечатал сокращенно только в Нью-Йорке (позже вышла в одноименной книге в издательстве «РИПОЛ классик»). «Алетейный» фолиант я пытался вручить вчера Штемлеру для тебя, но он сослался на болезнь и не взял. Или там какие-то пен-клубовы конфликты, но я прервал, ибо какое мне до этого здесь дело. Хотелось бы, чтобы ты этот том раздобыла и прочла. Там я есть я.
Еще мы покупаем сейчас небольшую, но очень милую квартирку в десяти минутах езды от нашей, в которой пока живем и, может, будем сдавать, а жить в новой, не знаю еще. Время для покупки не очень удачное, цены подскочили, но нам надо освободиться от денег в банке, которые мы не до конца проели и пропутешествовали, а в банке они теряют свое значение, и это вроде бы наиболее адекватный способ. Хотя, как и все остальное, мы делаем это с опозданием. Плюс проблемы с котами, их у нас двое, все приблудные, одного мы даже вывезли тайком из Квебека (опять ссылка на рассказ — «Бонжур» называется) — им будет тесновато в новой квартире, там на комнату меньше, а они любят носиться и играть. Если одолеем переезд (мы его немного упростили, купив квартиру с мебелью), попытаюсь осуществить еще один свой давний литпроект…
30. 10. 03
Во-первых, макушка еще не лысая, во-вторых, хоть и через океан, но тревожно — не за компрадоров и не в связи с последними новостями, а значительно раньше, но в остальном ты права, очень смеялся твоему письму, а вот Жека не успел — посадил его сегодня утром на самолет со всем семейством, до того, как ты прислала три расшифровки своего письма. Но через две недели они опять прилетят — невестка с младшим внуком на ночь, а Жека с Лео (старшим) опять на неделю. Само собой, внуки ангелоподобны и куда лучше, чем я был в их возрасте, не говоря о теперешнем. С Лео я подружился, он нашей (внешне) породы, похож на Лену, хоть она и считает, что нет, что весь в меня, включая рост, зато Джулиан весь в Кендаллов (невестка и ее англо-ирландско-немецко-мадьярско-и прочие предки) плюс комплексы младшего брата. Не Каин и Авель, конечно, но ссоры у них регулярные. Зато невестка-кельтка как-то отдалилась, и воспринимаю ее исключительно как ракету-носитель, хотя пусть не сгорает, а цветет и процветает. Странно мне только, что невестка никогда не вызывала у меня запретных желаний — в отличие от всех остальных женщин глобуса. Любопытно также, что хоть она главным образом англичанка процентов на 70, а кельтской крови у нее меньше капли, но чувствует себя ирландкой по преимуществу. Это как с четвертькровками-евреями, да? Пишу урывками какой-то длиннющий романный антимемуар («Записки скорпиона»), личный мой поединок с временем, который известно чем кончается, но пока еще мозг работает в прежнем ритме, а вот чувств стало чуть поменьше. Зарастаю коростой — пропускаю толстовский эпитет, а эвфемизм не приходит в голову — равнодушия...
А теперь назад к Юнне, которую знал в нашей с ней молодости, хоть она меня и старше на пять лет. К ее стихам, которые любил и люблю. Не к поэтке, а к поэзии, которую узнал, еще не будучи знаком с автором. Для сравнения: стихов Евтушенко и Вознесенского не любил никогда; мой роман со стихами скушнера был кратким, пока я не раскусил, что это курс по русской поэзии, и поэт он, может, и хороший, но не настоящий (бывают не всегда хорошие, но настоящие — скажем, Глеб Горбовский). Поэтом нужно родиться, а стать им нельзя, как выразился римлянин Публий Анний Флорус.
Честно говоря, верен я остался трем поэтам: Бродскому, Слуцкому и Мориц. Это не значит, что я ставлю их в один ряд. Бродский, кстати, любил их обоих, и на фоне дежурных похвал питерским ходокам и попрошаям замечательно звучали его слова: «Юнна — изумительная». Ей тоже многое спишется, как Фазилю или Бродскому. А мне? Слуцкий был исключением — он и поэт значительный и человек добрейший.
Выписываю у А-ра Блока: «Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует стихотворение». Я бы добавил: слова-острия присутствуют не только в отдельном стихотворении, но и в творчестве поэта в целом — повторные, излюбленные, переходящие из стиха в стих, они цементируют связи между ними. Так образуются циклы — не тематические, а образные. А книга поэта, если собрана талантливо и творчески — не сборник, а именно цикл. И обратно, применительно к новым временам, когда связь поэта с читателем истончилась, сошла на нет: цикл — это книга. Не имея возможности издавать, как прежде, регулярные книги стихов, Юнна Мориц в 90-е выпускала раз в год книгу-цикл в журнале «Октябрь», где входит в редсовет. Потом, в ранние 2000-е, получив премию «Триумф», она снова обрела возможность выпускать книги, да еще с собственными иллюстрациями — литографику.
Как-то в бытность еще столичным литкритиком я взял несколько книг Юнны Мориц и выписал наиболее употребительные ею слова-образы: детство, верхний свет, окно, тетрадь, бессмертие, душа, крылья, муза. Образы эти словно помножены друг на друга, и, бывает, в одном стихотворении встречается сразу же несколько ключевых в ее поэтике слов — словно все стихотворение набрано курсивом и читателю предложено внимательность свою удвоить: «Это вынут посмертно, когда разлучатся душа и тетрадь…»
Тетрадь со стихами — это не университетская кафедра, не зал Политехнического с гигантской ушной раковиной, даже не машинопись: возникает особая, домашняя, интимная, эпистолярно-доверительная, школьно-детская интонация. Тетрадь — как записная книжка, как дневник, как письмо: стихам придано иное значение. Образ лирического героя смещен, распадается, двоится — что перед нами: стихи современной поэтессы или дневник Марии Башкирцевой? Книга стихов или «этой девочки тетрадка»?
И пока не поставят на место, Будем детство свое продолжать.И неизбежный все-таки разрыв с детством есть та реальность, которая перекрывает стих Юнны Мориц и опрокидывает в конце концов строгую, выверенную гармонию ее поэзии — по крайней мере, колеблет ее, как тростник, определяя степень хрупкости и предрекая резкие сломы:
Никогда бы не бросала Маму с младшею сестрою, Если б этою дорогой Шли по двое и по трое.Верность детству — это верность тому, что утерять вроде бы невозможно: постоянное место его пребывания — не пространство, а время. «Хорошо иметь в душе потайной ларчик, чтобы хранить в нем реликвии», — считал Альфред Мюссе. Такой ларчик у Юнны Мориц имелся, и единственная в нем реликвия — детство. Почему я заговорил вдруг в прошедшем времени? Давно минуло время, когда я следил за текущей поэзией взором василиска, а теперь — разве что время от времени. Если был ящик Пандоры, то почему не быть ларчику Пандоры? Чего не знаю, того не знаю. Завод этот не вечен, поэзия, как и балет, — дело молодых, хотя и бывали исключения: Тютчев, Плисецкая. Сама Юнна пару-тройку лет тому назад написала: «Как мало евреев осталось в России. Как мало еврея осталось во мне», имея в виду, понятно, не только этнос, но — в том числе — в цветаевском смысле: «…поэты — жиды». Будем судить о поэте по высшим достижениям — у Юнны Мориц это книги «Лоза» и «Суровой нитью». Никогда не понимал канонический образ Толстого — глубокий старец с седой бородищей, тогда как у автора «Детства», «Казаков», «Войны и мира», «Хозяина и работника» облик был совсем иным.
«Чудный свет на всю судьбу проливает детство», — упоенно признавалась Юнна Мориц и даже бессмертью противопоставляла детство, а верхний, чудный свет — тучной поминальной свече. Это — в стихотворении «На смерть Джульетты»:
Не променяй же детства на бессмертье И верхний свет на тучную свечу. Всё милосердье и жестокосердье Не там, а здесь. Я долго жить хочу!Возникало даже странное такое ощущение, что Юнне Мориц дано некое сверхзнание, что она знает нечто более существенное и надежное, чем бессмертие:
Мы существуем однократно, Сюда никто не вхож обратно, Бессмертье — это анекдот, Воображаемые сети, Ловящие на этом свете Тех, кто отправится на тот. И я, и все мое семейство, Два очага эпикурейства, Не полагают жить в веках И мыслей, что в душе гуляют, До лучших дней не оставляют, Чтоб не остаться в дураках!Здесь весело и остроумно выражено то же, что страстно, непреклонно в эпитафии Джульетте. А вот уже процитированная приписка к письму в Питер, когда я с ее помощью крутил свои обменные дела: «Переезжай скорее — осталось жить не больше, чем тридцать лет — ну, тридцать пять!» С тех пор прошло чуток больше. Сколько еще осталось?
Один из любимых мною ее циклов — «Пять стихотворений о болезни моей матери». В этих стихах — разгадка устойчивого, всеобъемлющего, императивного жизнелюбия Юнны Мориц. Слово «эпикурейство» не совсем адекватно. Какое там! Скорее, цепкое и суеверное ощущение жизни, единственной, хрупкой и яростной жизни человека на земле, ощущение одновременно физиологическое и духовное («верхний свет»). И домашний очаг в этой системе ценностей, в этой центрической композиции — начало начал, источник всеобщей человечности и страстного жизнелюбия.
Стихи о больной матери написаны как заклинание — в традициях народных причитаний и плачей, а еще точнее, скрещивая забвенные эти традиции с классическим русским стихом:
Белизна, белизна поднебесная, Ты для тела, как видимо, тесная, А душе — как раз, в пору самую. Это я, Господь, перед мамою Заслоняю вход, не пускаю в рай, Будь он проклят, сей голубой сарай! Хоть воткни меня гадом в трещину, — Не отдам тебе эту женщину! Буду камни грызть, буду волком выть, Не отдам — и все! Так тому и быть!И таки отмолила этой антимолитвой маму — больная, беспомощная старуха дожила до глубокой старости, а старость — это, увы, единственный способ жить долго.
Здесь, однако, и возникает в поэзии Юнны Мориц конфликт, обнаружить который входит в прямую обязанность критика, ибо критик выступает пусть в роли оппонента, но на правах союзника, а в данном конкретном случае еще и давнего друга поэта, хоть я и не вполне уверен, что дружба выдерживает такого рода пространственно-временные встряски и перемещения. Я уже говорил, что вел два ее вечера: в день моего рождения, за полтора года до отвала, в Литературном музее в Москве и спустя четверть века здесь, в Нью-Йорке. Произошла аберрация времени, мне казалось, что это один и тот же вечер, пока до меня вдруг не дошло, что это две разные Юнны Мориц и два разных Владимира Соловьева.
Ее поэзия — это поэзия внезапных просветлений, близких истин, сознательных отжатий, душевных эссенций и духовной сосредоточенности. Выжатая в стихи реальность противостоит окрестному хаосу, независимому от поэзии, но пограничному с ней. Даже Моцарта Юнна Мориц призывает: «Порази этот мрак безобразный, мальчик с бархатным воротничком». Что говорить, реальность необходима для поэзии, поэзия — ее «избранное». Действительность обнаруживается в своих отношениях со стихом — как его арсенал, кладовая, кормовая база, подпитка. Как неиссякаемый запас впечатлений, ждущих и жаждущих поэтической обработки. Заметим сразу — отношение поэта к реальности не только меркантильное, но и автократное, диктаторское, императивное, а то и ревнивое: просвещенный абсолютизм. Поэт не только фильтрует действительность, но еще и устанавливает иерархию ее ценностей, которые домогается возглавить. Точнее, даже не фильтр, а шторки фотокамеры, рамка видоискателя — отсюда сосредоточенность и одновременно ограниченость стихов Юнны Мориц: она многое не впускает не только в поэзию, но и в душу. Поэзия сама по себе реальность, пусть метафизическая или, как сейчас принято говорить, виртуальная. Другой вопрос: обоснованы ли эти претензии?
На отдельных участках происходит разрыв поэзии с действительностью, и на действительность переносятся законы стиха. Диалектика действительности подменяется эстетической, то есть умозрительной гармонией. Иногда даже кажется, что Юнна Мориц и вовсе не собирается покидать тесные и прекрасные пределы поэзии, ибо выход наружу грозит и непредвиденным душевным расходом, и разрушением сотворенной с таким трудом, с таким талантом и с таким блеском иллюзорной, буколической, виртуальной реальности. Хотя именно во время таких прорывов возникают редкой гражданской силы стихи — как, например, опубликованное в 60-е годы в «Юности» и вызвавшее политический скандал стихотворение «На Мцхету падает звезда…» — об убийстве Тициана Табидзе.
А что, если обращенная на самое себя эстетика Юнны Мориц — результат столкновения поэта с реальностью и капитуляция перед ней? Ведь ее поэзия — своего рода убежище; скорее чем подвал — чердак, на котором дети прячутся от взрослых. Поэзия как анестезия, причем не Юнна Мориц первая открыла обезболивающее действие стиха. У нее тьма предшественников: от Тютчева «…и на бунтующее море льет примирительный елей» — до Баратынского:
И поэтического мира Огромный очерк я узрел, И жизни даровать, о лира! Твое согласье захотел.Перефразируя знаменитый философский постулат: все действительное есть поэзия, вся поэзия есть действительность.
Если бы…
На самом ли деле разлит в природе мировой порядок, заданный заранее и предопределенный извне, или поэт переносит на реальность эстетические категории своего рационально-импульсивного восприятия? Не преувеличивает ли Юнна Мориц наркотическое — или гипнотическое — свойство стиха вообще и своего в частности? Таинственная власть гармонии обладает все же ограниченным радиусом воздействия, и отчужденная, отфильтрованная, процеженная реальность для самой же Юнны недостаточна: «О счастье, о мужество — не приукрасить модель, уйти из-под власти корыстных инстинктов таланта».
Это предупреждение самой себе когда срабатывает, когда — нет.
Сквозь крепко сколоченную поэтическую модель просвечивает сложная и противоречивая реальность. Образуются щели, просветы, зазоры, и тогда поэт вынужден поневоле «сломать стереотип и предпочесть сумбур». И недостаточность собственной поэзии Юнна Мориц обнаруживает с подлинным драматизмом, который и придает ее лучшим стихам незащищенность, поэтом едва ли предусмотренную:
Об этом, я только об этом, И только душа — о другом.И об отсутствии этого другого печалилась в те, теперь уже далекие, времена не одна только Юнна Мориц. Знаменитое стихотворение Беллы Ахмадулиной так и называлось — «Другое»:
Порядок этот ведает рука. Я не о том. Как это прежде было? Когда происходило — не строка — другое что-то. Только что? — забыла.Вообще, поэт часто ощущает пределы и опасности своего ремесла не меньше, чем его критик, и пока это чувство неудачи в нем живо, он остается настоящим поэтом. В качестве примера — давнее стихотворение Юнны Мориц «Соловей»: «О, соловей, нельзя — не обезличь, не обескровь искусством сладкогласным…»
И наоборот: склеротическому стиху обычно соответствует поступь мэтра.
Одна из любимых мною книг Юнны открывается стихотворением, краткое резюме которого вынесено поэтом в качестве названия: «Суровой нитью». Развитие, разматывание, сюжетная реализация изначальной метафоры и составляют содержание всей этой книги. При таком единстве — не только стилевом, но и сюжетном, концептуальном, стержневом — первое стихотворение может быть прочтено как эпиграф ко всей книге. Я попридержал его под занавес и сейчас приведу три из него строфы, чтобы возвратить читателя к содержанию поэзии прежней Юнны Мориц, а заодно подытожить, резюмировать содержание оканчиваемой главы:
Суровой нитью держится мой дух, Он как бы недоступен для разрух. В разлуке с кем должна я сохраниться, Чтоб столь суровой нитью взор и слух Прижаты к миру, чтоб рубцом родниться… Суровой нитью к жизни привяжу Свое дитя, которое держу Сегодня утром на ладони крупной Над океаном, льнущим к рубежу, Откуда вечность кажется доступной. Суровой нитью привяжу к ветвям, Как звезды — к небу, розы — к соловьям, Искусства и науки — к сыновьям! Так привяжу, как наши бездны к высям, Так привяжу, что будешь независим. Таков парадокс этой связи — независимость. Человек независим, пока он связан с ветвями, людьми и звездами. То же — с поэзией.Постскриптум. Эпистоляриум — 2005
22. 6. 05.
Спасибо, что ты потратился на воспоминания о моей поэзии тридцатилетней давности, — сильно чувствуется спецзаказ именно на этот сюжет, а также азарт удавки, на которой подвесил тебя этот спецзаказ.
В свое время некий Бахыт Кенжеев получил оттуда же спецзаказ на рецензию о моем «Избранном», где должен был сообщить, что Юнна Мориц все списала у скушнера. Спецзаказ он исполнил, за это стали его сильно печатать и хвалить в Отечестве. Однажды на моем вечере в США он подкатился ко мне с этой грязной рецензией и слезно покаялся, припадая по пьяни к паркету башкой. Теперь иногда он приходит на презентацию моих книг за автографом, но никак не может его получить — сущий пустяк по сравнению с вознаграждением от спецзаказчиков.
Указываю тебе на вопиющие неточности:
1) В моем стих-нии «Зимний пейзаж» из книги «Таким образом» на стр. 37 есть строки:
Как мало еврея в России осталось,
Как много жида развелось.
…как мало в России осталось еврея,
Как мало осталось меня…
А тех строк, что приводишь ты, называя моими, у меня нет — их сочинил ты сам, не имея моей книги, не имея желания читать поэзию вообще чью-либо, кроме окружающей тебя писсреды. Имеешь право. Я потому и не присылаю тебе свои новые книги.
Но к цветаевскому «поэты — жиды» мои строки в данном стих-нии никакого отношения не имеют. Ты зарезался возрастом, как герой Щедрина зарезался огурцом.
2) После цикла «Пять стих-ний о болезни моей матери» моя мать не была ни слепой, ни беспомощной, ни лежачей, ни дряхлой — она прожила еще 34(!) года, будучи настолько активным, подвижным, деятельным и остроумным человеком, насколько это мыслимо для нынешних 40-летних, да!.. Я «отмолила» совсем не ту развалину, что ты себе вообразил, размышляя в тисках спецзаказа. Опять же зарезался возрастом.
3) Мыс Желания — это местность на Новой Земле, в Арктике, где в 56-м году, когда я там была, испытывали нечто, и я попала в зону повышенной радиации, живя на зимовье этого мыса. Сущая реальность, а не символическое название. Все трагичней и чище.
4) Если бы ты потрудился прочесть мое знаменитое эссе «Быть поэтессой в России», первая строка которого «Труднее, чем быть поэтом», ты бы не навалял столько вранья, подгоняя мою филологическую игру под свой физиологический ответ. Опять зарезался возрастом, испустил газы грязных сплетен и завистливой клеветы.
5) Я не только пишу о старшей сестре как о младшей, но и в стих-нии «Пуща-Водица» из книги «Таким образом» сообщаю, что в 10 лет я была старше матери моей — и намного!.. Ты путаешь метрику из ЗАГС’а с метрикой поэтического космоса. Но хуже того, ты заподозрил меня, человека чистой силы, в мелком плутовстве и даже, поработав сыщиком, разоблачил. Маразм.
6) Твой спецзаказ желает, чтобы я умерла молодой, а они бы все эту смерть полюбили. Хрен вот! Перебьетесь! Издаю новую книгу, прекрасную, как не знаю что, — слов нет!..
7) А уж если бы я «фильтровала», как ты пишешь, — тогда за что бы я сидела в «черных списках» при всех властях и чем бы я так разъяряла и ужасала других поэтиков, подыхающих от зависти к моей абсолютной свободе и честности при всех режимах? Отличный вопрос, но тебе слабо на такое ответить.
8) Стихние «Суровой нитью» было написано, когда вся эта книга уже родилась, — оно после книги, и до него эта книга была совсем не об этом, поскольку вся поэзия вообще — ни о чем таком, о чем ты привык думать.
9) В твоем обо мне сочинении есть подлое вранье, от которого тебе всячески следовало воздержаться, поскольку я — человек чистый и сильный, а в дружбах своих — крайне чистоплотный и самоотверженный. Такими отношениями, Володя, не разбрасываются на читательской помойке.
10) Н. Иванова никогда не была моей подружкой — масштаб не тот, и ты недооценил мою исключительную способность — жестко держать дистанцию. Зря недооценил!..
В моем случае ты подорвался на спецзаказе, как шахид на бомбе, и полетело из твоей головы такое «забавное» дерьмо, которое приличные люди в туалете сливают водой из бачка. Что я и делаю в данном случае.
Конец связи.
Относительности замеченной ею неточности в цитате — такие ошибки неизбежны у Тургенева, Толстого, Достоевского, Блока (см. примечания к их собр. соч.), а Честертон, когда редактор уличал его в неточном цитировании, вплоть до ложной атрибуции стиха Роберту Браунингу, тем не менее исправлять отказывался: «Я цитирую на память — и по склонности натуры, и из принципа. Для того и существует литература, она должна быть куском меня самого». Как раз я сверяю цитаты, но цитату Юнны о евреях привел по памяти, переврал — убежден, что у меня вышло лучше и глубже, хоть и по-другому.
В тот же день
Дорогая Юнна! «Улыбнись, ягненок гневный с Рафаэлева холста…» И чего ты на меня открысилась? Неужели тебе мало реальных врагов окрест? Или вы там совсем уже оху*ли в напряге «по добыче славы и деньжат», что реал от вас ускользает, а взамен монстры и чудища? Или вы сами стали монстрами?
Во-первых, я послал тебе веб-сайтовы адреса с полдюжиной моих эссе, рассказов и глав из «Записок скорпиона» — как посылал и прежде, но ты обратила внимание только на рассказ о себе, что не по-товарищески по отношению к товарищу. Там были еще достойные персоналии.
Во-вторых, период, о котором писать, — свободное право выбора автора, и если бы писал о Пастернаке, то о раннем. А это сокращенная глава из «Записок скорпиона», где я пытаюсь из Нью-Йорка писать о Москве, чтобы вышел роман на пределе честный и вровень с «Тремя евреями» («Роман с эпиграфами»). Потому и пишу о той Юнне Мориц, которую близко знал из Питера и в Москве с редкими временны´ми перехлестами (типа отзыва Бродского об «изумительной Юнне»). Чего от тебя никак не ожидал — такой толстокожести к жанру. Даже в биографиях — от Андропова до Бродского — отбираю исключительно то, что лично мне интересно. А тебе я не биограф и не рецензент, но мемуарист, хоть и с уклоном в литкритику.
Кстати, еще до того, как послал веб-сайтовый адрес этого отрывка нескольким знакомым, стал получать на него восторженные отзывы по другим публикациям (в бумажных — твой портрет с прижавшимся к твоему бедру Митей). Отовсюду — от Москвы и Израиля до американских штатов. И само собой — о тебе как прекрасном поэте. И что мне удалось это показать как никому. Бывает: читатели умнее авторов. В данном случае — прости — тебя. Не думаю, что кто-нибудь способен так о тебе написать, как я.
О твоей маме написал с твоих тогдашних слов, но вставлю твое сегодняшнее добавление. Стихотворную ошибку в «евреях» исправлю. (Подумал — и оставил как было.) Хотя мой вариант — согласись! — тоже хорош. И вообще слово «жид» предпочитаю «еврею» — в том числе по отношению к себе. И Эфроса, Слуцкого, Бродского воспримал именно как жидов. Но это разговор не терминологический, а метафизический. За исправление — спасибо. Все остальное, извини, понос. Включая, что не посылаешь мне новых книг — в прошлом году прислала две. А что за ху*ня о спецзаказе? Как метафора — пошлость, как реальность — бред.
«Записки скорпиона» получаются замечательной книгой. И глава о тебе — не из худших. Жаль только, что ты не хочешь (или не можешь) остаться прежней Юнной Мориц — «Останься пеной, Афродита…», но из воспоминаний, пусть даже романного жанра, тебя уже не вычеркнешь такой, какой ты была. И за то спасибо.
«Конец связи» — остроумно, но, мне кажется, поэт твоего уровня не обязательно должен быть остроумен. Иногда остроумие даже противопоказано.
Людей, Юнна, осталось мало. Живых — совсем никого.
Обнимаю, Владимир Соловьев
Спасибо академику Сахарову! Приключение в письмах и комментах
— Как я говорил вчера, — начал свою лекцию богослов-гебраист фрай Луис де Леон, вернувшись в саламанкский университет после пятилетней отсидки за ересь (перевод «Песни песней», которая тогда еще не входила в официальный свод Вульгаты, католической Библии), но те годы — не в счет, вычеркнутое время, между вчерашней и сегодняшней лекцией прошла одна бессонная ночь.
Первый проблеск теории относительности в испанском средневековье.
Я же пытался в «Записках скорпиона» ввернуть нью-йоркское время в московское. Или наоборот? Какое время главное для человека, который живет одновременно в нескольких временах?
На самом деле, в играх со временем прописка в пространстве большой роли не играет. В чем убеждаюсь, принимаясь за нью-йоркскую летопись моей жизни. Здесь я уже прожил дольше, чем в каждой из русских столиц по отдельности и даже вместе взятых. (Правда, некоторое время — в младенчестве и дошкольном детстве — я жил в столицах двух будущих среднеазиатских государств.)
Что произошло между вчера и сегодня, между последней главой предыдущей книги и первой главой этой, между двумя томинами моих антимемуар, поверх моего письма, во внешней реальности? Интермедия или действие? Промежуток важнее того, что он разделяет? Возьмем промежность в качестве примера — начало начал, исток жизни, а та уже на исходе. Но исход неописуем и неописываем, смерть не входит в наш опыт, но токмо выбор между истоком и течением. А воспоминания в любом случае старят человека, зря я за них взялся из опаски, что смерть опередит меня. Но фишка в том, что это и не воспоминания вовсе, а воспоминания о воспоминаниях, то есть биография-роман, а не словесный байопик. Ну да, метафизический роман под названием «Евтушенко», хотя не только о нем, но о евтушенках как таковых. Посему поговорим, наконец, о квинтэссенции евтушенкизма по имени «Академик Андрей Сахаров».
Есть наука о мерах времени — horology. Пишу латиницей, потому что заглянул в русский словарь иностранных слов, а там хорология, она же ареология — наука об областях распространения (ареалах) отдельных видов, семейств и других систематических групп и растений. Это — другое. У трагического Бруно Шульца есть книга «Санатория под Клепсидрой». Я сам впервые увидел эти древние часы, кажется, в Греции: уровень воды показывает истекшее время. В отличие от солнечных, по ним можно судить о времени ночью. Почти по Гераклиту: в одну и ту же реку нельзя ступить дважды, а тем более 24 и 48 раз. Теперь-то с временем запросто: наручные часы входят в дюжину самых важных изобретений прошлого столетия. Да и гераклитовы воды сомнительны: буддисты считают, что это одни и те же воды, одна и та же река, одна и та же вечность. Это не значит, что правы они, а не Гераклит.
Сколько времени прошло с тех пор, сколько воды утекло? За давностью лет можно было списать этот эпизод нашей начальной жизни в Америке, тем более как долго, после первой эмоциональной вспышки, я держал язык за зубами. Но что же получается? Я трушу самого себя? Когда всё это случилось, шел напролом, с открытым забралом, шпага наголо, а потом решил не то чтобы подзабыть, вычеркнуть из памяти, предать забвению, а затаиться и не злопамятничать. С другой стороны, об этом, по определению корреспондента «Нью-Йорк Таймс», «безобразном инциденте» (an ugly incident) в свое время трубила зарубежная пресса и вся едино на нашей стороне, да и как могло быть иначе? Мы с Леной Клепиковой были пострадавшей стороной, но это сейчас мы живем в глобал виллидж, а тогда эта мировая деревня была поделена надвое: мир информационной свободы и мир информационного блэк-аута. Только этим и можно объяснить, что даже тогдашние мои друзья, типа Юнны Мориц и Володи Войновича, упрекали меня: зачем лягнул академика? А мстительные, типа Саши Кушнера (за «Трех евреев», где я ему как придворному еврею на все времена и при всех властях противопоставлял городского тогда сумасшедшего Осю Бродского), до сих пор утверждают, что я оклеветал А. Д. Сахарова по заданию конторы глубокого бурения. Думаю, для КГБ это было еще бóльшим сюрпризом, чем для Войновича или Мориц.
А вот и оказия! Роясь в папке с перепиской с американскими СМИ, наткнулся сегодня на пропущенное в «Записках скорпиона» письмо Юнны, где я привел уйму отрывков из уймы ее писем, а это как раз касается разразившегося скандала, пусть одним всего абзацем — все равно, чем не повод? Ума не приложу, как письмо там оказалось, но всё к лучшему в этом лучшем из миров (хотя не всё, Паглос-Вольтер) — вот возможность сцепить эту новую книгу с моими «Записками скорпиона»! Еще один привет фраю Луису де Леону. Это письмо-мостик помечено 27 января 1979 года, через полтора года после нашего отвала, через год после скандала, Юнна была уже выездной, привожу выборочно:
Дорогие, получили вашу рождественскую открытку и, конечно, обрадовались. Ведь прошла целая вечность, даже не знаю, с чего начать. Поэтому буду как бы продолжать. Это — наиболее естественная форма для времени, пространства и мыслей о, ради, во имя, по поводу, насчет и т. д. Летом мы съездили на Пицунду, было не жарко, но Митя очень болел, хотя полюбил море и трехкомнатный комфорт с ванной, и столовую на несколько сотен людей. Он болел гриппом, ангиной, бронхитом, аллергией — болел беспрерывно, изо дня в день, даже когда ходил своими ногами. А я что-то сочиняла, переводила, написала новую книгу и, как всегда, жила незримым, сокрытым для двух глаз, но явным для третьего глаза. Потом мы вернулись, Митя пошел в школу, куда его взяли с трудом — не было 7 лет и слаб, прозрачен, печален, худ. Но его спасло обаяние и образованность (не лучшее начало для жизненного пути!). Потом наступила паршивая, промозглая осень, и мы все заболели очередным гриппом, от которого у меня началась пневмония. Я болела этой пневмонией уже больше месяца, когда выяснилось, что я могу ехать в Англию по туристской путевке. И так как упадок жуткий и сил никаких для работы, я решила, и мы все решили, что я должна ехать. И я поехала с Рассадиным и еще с другими. В Лондоне была ясная, теплая осень, а в Глазго — совсем летние дни, а в Эдинбурге моросило, но было тепло. А в Оксфорде, Стратфорде и Эйре пришлось таскать куртку в руке. Я не смогла встретиться со своей английской переводчицей Эллен Файнстайн, а то бы уже тогда знала, что в Москве в инокомиссии меня ждет приглашение в Кембридж на поэтический фестиваль 79-го года. Но когда я вернулась, мне тут же это приглашение и пришло, и прилетело, как голубь…Англия — черства, бесконечно красива, равнодушна, чванлива, неблагоустроенна, завлекательна, замусорена, завалена роскошью, свободой, надеждами, нищими, пьяными, неудачниками, удачниками, — мне было тоскливо, я не могу жить без родных, без Мити, без Юры. Я в одиночестве чувствую себя несчастной, да еще и язык знаю так скверно, что думать на нем совсем не могу. Сейчас буду учить по-настоящему, а то стыдно. Но думать на другом языке я не смогу уже никогда.
Володя и Ира, и многие-многие, вас осуждают за публикацию писем по поводу отказа печатать Володин роман в Европе. Честно говоря, все возмущены выпадом против мужа. Мне тоже трудно это понять. Когда-нибудь при случае прояснится и это.
Вот прямо сейчас и прояснится! На глазах у читателя — ему и судить спустя прорву времени. Пора. Давно пора предать гласности тот давний эпизод, но для начала расшифрую эзопову феню: Володя и Ира — это Войновичи, муж — муж Елены Боннер академик Сахаров. Юнна права в своей шифровке в субординации: не Елена Боннер — жена Андрея Сахарова, а Андрей Сахаров — муж Елены Боннер.
Нет, клеветать на мужа, конечно, не клеветал, но было дело: в статье в «Нью-Йорк Таймс» мы с Леной Клепиковой сравнили его с Дон Кихотом. Но какая же это клевета, когда наоборот — комплимент: сравнить человека с рыцарем печального образа, высшим литературным символом добра, человечности и справедливости? Правда, самая влиятельная (тогда и сейчас) газета в мире опубликовала на одной полосе сразу же две статьи — его и нашу, обыграв это соседство: «By Him» — название его статьи, «And, About Him» — название нашей. Остроумно. И демократично. В американских кругах — общественных, политических, литературных — эта наша публикация в «Нью-Йорк Таймс» открыла нам двери — нас всюду приглашали, с нами советовались в госдепе и кое-где еще, газеты заказывали статьи, университеты зазывали читать лекции. Совсем иначе в русском политическом землячестве. Что тут началось! Вот я и говорю: мы жили тогда в разных частях глобал виллидж, по обе стороны железного занавеса, даже если наши зоилы были ньюйоркцами, как и мы.
Собственно, это только начало той давней истории, которую я хочу поведать новому поколению читателей, чтобы внести некоторые коррективы в мифологию современности. Почему сейчас? Да потому что сохраняет значение в нынешних спорах о будущем России, а на чью мельницу — мне по барабану. Делá все-таки не так уж давно минувших дней — если мы и им позволим окаменеть в преданья старины глубокой, то окончательно заблудимся в дремучем лесу отечественной истории. «Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий», — выписываю из «Тетради с афоризмами» Ключевского.
Даже сейчас, спустя почти сорок лет, мне становится как-то не по себе, когда я просматриваю эту папку со статьями, письмами, телеграммами и телексами. В России меня часто цензурировали и банили, часть моей литературной работы шла вхолостую, и когда эта часть дошла до критической массы, я и стал подумывать об отвале ввиду цензурного зажима и усиления юдоедства (у меня полетела на треть написанная книга о Петрове-Водкине в ЖЗЛ, когда редактором туда пришел кадрово дотошный Сергей Семанов и выяснил, что хоть я и Владимир Соловьев, но по отчеству «Исаакович»). Время было переломное: от сравнительно толерантной — как тогда говорили, вегетарианской — эпохи Брежнева к чекистской Андропова. Понятно, «шум времени» я чувствовал максимум на пару лет вперед — как говорил Поль Валери, Пифия может предсказать только строку, — но чувствовал безошибочно, нюхом, инстинктом. А потому, когда нам предложили убираться подобру-поздорову после образования нами независимого агентства «Соловьев-Клепикова-пресс», о котором трезвонили вражьи голоса, я не очень рыпался. Мне самому хотелось вырваться на волю, быть самим собой и писать, как бог на душу положит. Капкан, в который я угодил, оказавшись в свободной Америке, оказался похуже того, в котором я находился в Советском Союзе потому хотя бы, что оттуда бежать было куда, а отсюда — больше некуда. Не на Марс же, в самом деле! Конечно, что-то можно списать на мой неуживчивый характер, что ненавидел компромиссы, что до болезненности, до патологии стал, сочинив «Трех евреев», привержен правде, только правде и ничему, кроме правды. Да, Альцест, да, Чацкий, да, ультраправдист, да возмутитель спокойствия и м-р Скандал, да, скорпион, да хоть носорог. Какой есть.
Сама эта публикация 4 октября 1977 года, всего через полмесяца после нашего приезда в Америку, коренным образом повлияла на нашу дальнейшую судьбу. В лучшую или худшую сторону — другой разговор. Сам не знаю. До сих пор. Не то чтобы исторический детерминист и прошедшее принимаю за должное и неизбежное — отнюдь, но так случилось, чего гадать в сослагательном наклонении, если бы да кабы?
Само собой, ни академик Сахаров, ни мы с Леной не подозревали, что станем соседями на нью-йорктаймсовской Оp-ed, то есть Opposite editorial, единственной свободной газетной полосе, где печатались сторонние авторы, а не штатные корреспонденты. Нам с Леной это соседство было без разницы, тогда как для Сахарова — удар по его престижу и по тому значению, которое он со товарищи придавал этой публикации: она появилась аккурат в канун открытия Белградского совещания по проверке выполнения взятых на себя странами хельсинкских обязательств — в том числе в отношении прав человека (так называемая «третья корзина»). Мало того что статью Сахарова поместили рядом с нашей, его статью, как он потом жаловался, подвергли сокращению, чтобы втиснуть в полосу вместе с нашей, а нашу почти не тронули, хоть и изменив название: «And, About Him» вместо изначального «Полководец без войска». Что же до сокращений, тут дело было в правилах газеты, которые мы знали, а Сахаров не знал или не хотел знать: статьи на этой полосе не должны были превышать 650, максимум 700 слов. У академика уже были нелады с «Нью-Йорк Таймс», когда Крис Рен взял у него интервью для своей статьи, и Сахаров хотел, чтобы опубликовали одно интервью, слово в слово, без каких-либо комментариев. Крис сказал, что это невозможно — «Нью-Йорк Таймс» в чистом виде интервью не печатает. Сахаров потребовал, чтобы Крис связался с начальством и объяснил им, с кем они имеют дело. Далее цитирую по книге другого журналиста из «Нью-Йорк Таймс» Дэвида Шиплера «Russia: Broken Idols, Solemn Dreams»:
— Я — необычный человек, — сказал Сахаров о себе в свойственной ему скромной манере. — Не чета какой-нибудь там американской кинозвезде.
— А я — не советский журналист, — парировал Крис Рен.
Когда мы жили в Москве до нас, конечно, доходили весьма правдоподобные, больше того, как поется у Белы Бартока в «Замке Синей Бороды», правдивые слухи — «Jar, igaz, suttogo hir» — о спеси Сахаровых, но скорее, чем его самого, Елены Боннер. Даже ее близкая подруга и родня Галя Сокол-Евтушенко говорила, что та «та еще штучка — жуткая стерва». Когда мы организовали свое независимое информационное агентство, я взял у Володи Войновича, хоть он и пытался отсоветовать, телефон Сахарова и позвонил ему из телефона-автомата подальше от нашего дома и поближе к его, чтобы попросить помочь связаться с инкорами и объявить о нашей затее urbi et orbi. Я назвал свою фамилию и сказал о цели звонка.
— Люсенька, ты знаешь такого Соловьева? — услышал я, как академик спрашивает свою жену.
«Люсенькой» академик звал Елену Боннер.
— Как зовут этого Соловьева? — услышал я издали голос «Люсеньки». Я тут же повесил трубку, не желая засвечиваться раньше времени и вспомнив недавнюю историю двух провинциалов, которые были найдены убитыми сразу же после встречи с Сахаровым, о чем с гордостью потом говорила Людмила Алексеева, представитель советского диссидентства в Америке. И до сих пор никак не могу уразуметь, почему насильственная смерть двух невинных, излишне доверчивых людей должна была увеличить славу и авторитет советского диссента. Жизнь этих двух жалобщиков — неоправданно высокая стоимость за визит к Сахарову, потому что человеческая жизнь всегда дороже любой, самой соблазнительной, даже нравственно соблазнительной идеи. Вот почему меня еще в Москве смущала подача зарубежной диссидентской прессой Сахарова как ангела во плоти. «И давно уже русский человек ни на что не надеется в этом мире, кроме как на чудесного заступника и Богом посланного избавителя», — в совершенно истовом стиле писал о нем парижский журнал «Континент», членом редколлегии которого академик являлся.
Политические оппоненты диссидентов — советские официалы были куда как более скромны в своем самосознании: ср. вполне умеренное по тону и примитивно сработанное прижизненное био Брежнева.
И вообще, ангелы живут на небесах, а не на земле.
На земле — люди.
Еще вопрос: если бы крылатые и бесполые существа имели возможность спуститься на землю, то кто бы изменился — люди под воздействием ангелов либо ангелы под влиянием людей?
Пора признать свою ошибку: Сахаров был не лучше и не хуже, а точно такой же, плоть от плоти России, сколок ее общественно-политического устройства — убедились на собственном опыте. Западу пришлось избавиться от одной своей иллюзии в связи с другим русским нобелевцем — Солженицыным, когда, бывший для многих символом свободы, он стал последовательным и принципиальным ее противником. А Сахаров так и остался для многих праведником, святым, ниспосланным на землю ангелом.
Когда я рассказывал тем же вечером о несостоявшейся встрече с Сахаровым, Войнович хихикал, потому что «Люсенька» стала притчей во языцех в диссидентских кругах — особенно то, какую власть она взяла над безвольным академиком. Многие диссиденты упрекали академика, что он в последнее время свел свою диссидентскую деятельность к борьбе за отвал родственников «Люсеньки» за бугор. Включая голодовку за выезд подружки ее сына, который захандрил в Америке.
Мы разминулись на пару дней с Еленой Боннер во Флоренции, где жили, путешествуя по Италии во время нашего трехмесячного, между Россией и Америкой, «промежутка» (мы именовали его «римскими каникулами»), в приходе православной церкви, и сразу же после нашего отъезда там разместили жену Сахарова с родственниками.
А тогда в Москве все телефоны инкоров дал нам Войнович, но просил на него не ссылаться — он поверил в нашу затею с пресс-агентством и, по собственному признанию, надеялся, что, выйдя на передовую, мы прикроем его самого. Этого не случилось, потому что КГБ, разгромив диссент, менее всего нуждался в притоке новых сил и, давя на нас и угрожая, вытеснил из страны. Не будучи революционерами-профессионалами, мы не верили в возможность скорых демократических перемен в России, о чем и написали в той статье в «Нью-Йорк Таймс», которая вызвала такую буйную реакцию в диссидентских кругах. Прежде всего — от академика и его боевой и боевитой супруги.
Даже знай мы, что наша статья пойдет в параллель с сахаровской в день открытия Белградской конференции, не возражали бы: дело редакции, когда публиковать статью, и уж совсем не наше дело, кто будет нашим соседом на этой гостевой странице. Ничего против соседства академика Сахарова мы, понятно, не имели.
Забегая вперед скажу, что наша статья о Сахарове никак отрицательно на его судьбе не сказалась и сказаться не могла, что нельзя было сказать о судьбе ее авторов. Выразилось это, в частности, в наложениии вето на все наши публикации в «Континенте» членом редколлегии Сахаровым. Володя Максимов уже взял несколько наших совместных и одиночных работ, одну поставил в ближайший номер, но вынужден был отказаться от дальнейшего с нами сотрудничества.
«Континент» был проплаченный журнал, и теперь уже все равно, кем именно — западногерманским могулом Акселем Густавом Шпрингером или Комитетом госбезопасности. Не исключено, что на пару — скинувшись. Считать предотъездный разговор Максимова с Окуджавой (Булат мне рассказал, что Максимов сообщил ему, что уезжает с заданием) как небывший я все-таки не могу. Кто платит деньги, тот заказывает музыку: при относительной самостоятельности, журнал был прямолинейно идеологизированный, примитивно антикоммунистический, из-за чего его редколлегию покинули несколько либерально настроенных западных интеллектуалов, а потом порвали и русские — например, Абрам Терц (Андрей Синявский) и Виктор Некрасов, став непримиримыми врагами Максимова. Это не просто личные склоки, типа максимовской статьи «Осторожно, Евтушенко!», которая у нас вызвала досаду, но принципиальная, по сути, развилочка, почему русская оппозиция и расколота в хлам по сю пору.
Всё это нам с Леной тогда было невдомек, да и не так важно — в конце концов, сотрудничал же Ходасевич в монархическом журнале, не разделяя его идеологию. Тем более, в нынешние времена мы рассчитывали на толерантность и демократизм русских зарубежных изданий, а «Континент» был единственный среди них, который платил весомые гонорары. Мы с Леной были в активном журналистском возрасте, начинены энергией и рассчитывали на «Континент» как на трибуну, а работая в четыре руки — как на кормушку, чтобы держаться на плаву. Плюс полагали продолжить работу нашего агентства «Соловьев-Клепикова-пресс» и снабжать по свежей памяти американские газеты нашими по-литкомментариями. Последнее удалось, начиная с упомянутой статьи в «Нью-Йорк Таймс»: случай уникальный в русской иммигрантской среде. Но, узнав о вето на нас Сахарова — через Елену Боннер, — мы были выбиты из седла. Тем более их вето распространялось не только на «Континет», но и на все русскоязычные издания — никто не хотел с этой парочкой связываться, зная скандалезность супруги академика и его подкаблучность.
Она проявила бешеную энергию, запрещая нас — только от западных журналистов, которые специально занимались этим делом, мы знаем о звонках и телеграммах по крайней мере в полдюжину редакций — от «Голоса Америки» до «Граней». Снять с питания, как говорил Слуцкий, распоряжавшийся одно время переводами с подстрочников, главной кормушки русских поэтов. Главный редактор «Нового русского слова» Андрей Седых, который опубликовал расширенный вариант нашей нью-йорктаймсовской статьи, а потом месяца полтора печатал статьи против нас и дал нам две полосы под заключительное слово, сказал нам напрямик: «Я-то вас печатать буду, но больше — никто». Однако в «Новое русское слово» мы больше не совались, не желая ставить Седыха перед трудным выбором. Ситуация хреновая, стыдно перед Леной, что втравил ее в такое предприятие, без никакой надежды прорвать блокаду. Как мы выбрались тогда из этой ямы?.. Хоть просись обратно в Москву, но Москва слезам не верит, а таких бедолаг использует в пропагандистских целях и, выжав, как лимон, выбрасывает за ненадобностью. Нет, этот вариант даже не проигрывался.
По порядку. Вот та злополучная статья — в том виде, как она появилась в «Нью-Йорк Таймс» (перевод с английского):
Неумение и нежелание советских диссидентов смотреть в глаза правде и npизнать ее таковой, какая она есть на самом деле, подчеркивает их парадоксальное сходство с кремлевскими правителями, к которыми по сути они находятся в оппозиции — но не по форме.
Диссидентство в России доживает свой короткий век — теперь это уже очевидно и, как ни грустно, следует признать со всей определенностью. И без того слабые как в количественном, так и в качественном отношении, полузапретные, без определенного правового статуса, советские диссиденты сейчас еще более ослаблены, если даже и вовсе не сведены на нет в смысле практической деятельности: с одной стороны, эмиграцией, а с другой — принудительным пресечением (усиление цензуры, озверение полицейского аппарата, антисемитизм, обыски, аресты, шантаж и так далее). Их роль скорее нравственная, чем политическая либо практическая, да и та с каждым днем уменьшается.
Но это всего лишь внешние причины того очевидного фиаско, которое терпят сегодня советские диссиденты и с опаской сочувствующие им либералы и инакомыслящие. Причина внутренняя — бескорние демократического движения в России, которая имеет сейчас правительство, которое заслуживает, а может быть, и лучше, потому что могло быть и хуже.
И еще будет — вот чего мы опасаемся! — хуже. Уже становится хуже — с каждым днем.
Анализируя демократическое движение в России, мы должны оговориться, что сами причисляем себя к нему, а потому всё сказанное — выше и ниже — просим рассматривать в качестве горьких, трезвых и вынужденных признаний — как своеобразную самокритику. Увы, признать поражение куда труднее, чем победить.
Правда, в отличие от других русских диссидентов, мы не обладаем властным императивом — требовать от Запада, чтобы он сделал для России то, что она сама сделать не может, а главное не хочет: дать ей свободу.
Русские диссиденты так же далеки от своего народа, как и партийно-бюрократическая верхушка, и это трагическое обстоятельство: спор о России идет между сторонами, находящимися словно бы в вакууме — извне, а не внутри страны.
Так, впрочем, было всегда — русская политическая история развивалась вполне независимо от истории народной.
А пока что мы можем наблюдать поразительное геологическое явление: превращение полуострова в остров. Речь идет об академике Андрее Сахарове.
Арестованы его ближайшие сотрудники: Сергей Ковалев, Александр Гинзбург, Юрий Орлов, Андрей Твердохлебов, украинские и грузинские диссиденты. Многие — Челидзе, Литвинов, Алексеева и другие — покинули Советский Союз.
С какой готовностью и быстротой советские власти выдали выездные визы Ефиму Якилевичу и его семье, словно бы просьба ближайших родственников Сахарова об эмиграции давно ими ожидалась и даже входила в их расчеты.
Крохотные остатки — диссиденты поневоле: те же еврейские «отказники», а по-русски — сидельцы. По сути — заложники.
Как ни парадоксально, КГБ — это главный рассадник инакомыслия и питомник диссидентства. Словно бы эта организация боится остаться без работы.
Но пока она с главной своей задачей справилась, обособив и блокировав академика Сахарова и превратив его в полководца без войска. И без того трагическое одиночество Андрея Сахарова как политического деятеля усилено и усугублено одиночеством реальным, жизненным, бытовым — КГБ проделал здесь боль шую и целенаправленную работу, сделав прославленного академика в полном смысле слова беспомощным.
Эпистолярное торжество в связи с ответной телеграммой президента Картера академику Сахарову сменилось вскоре тяжким похмельем.
Андрей Сахаров слишком хорош для России, если не вовсе преждевременен. Один человек не в состоянии изменить политический климат такой традиционно-косной страны, как Россия. Все ее великие реформаторы — от Петра Великого до Владимира Ленина — кончали неизбежным фиаско. Как экзотическое и теплолюбивое растение, академик Сахаров нуждается в сопутствующих условиях, во встречных усилиях, в особом уходе, в искусственном микроклимате — пусть даже с небольшим радиусом. А здесь всё наоборот — от национальных традиций до противодействия мощного государственного аппарата, и прекрасное это чудо-растение может, увы, бесследно увянуть.
Цель КГБ — доказать наивным слушателям «Голоса Америки» и Би-би-си опасность (а не только бесполезность!) приближения к академику Сахарову — в качестве жалобщиков или сотрудников, всё равно.
Маркиз де Кюстин, чья книга о России до сих пор не утеряла своей актуальности — настолько, что в советской прессе немыслимо даже ее упоминание, — писал применительно к России 1839 года: «Милосердие называется слабостью у народа, ожесточенного террором…» К России, пережившей революцию, гражданскую бойню, тридцать седьмой год, Вторую мировую войну и агонию последних сталинских лет, это относится тем более.
Мефистофель характеризовал себя как силу, которая хочет зла, а творит добро. Русская история, разрушая идеалистические иллюзии, дает обратный пример: добра, которое, не желая того и даже не ведая о том, является причиной зла, порою ещё большего, чем то, которое оно пыталось искоренить.
Ситуация, зафиксированная уже однажды в мировой литературе, — ситуация Дон Кихота.
С той только разницей, что противники русского Дон Кихота — отнюдь не ветряные мельницы.
И бессмыслица его единоборства с Молохом государства тем более очевидна, хотя отступать уже поздно, да и некуда…
И совестно ощущать себя в этой борьбе беспомощным зрителем, в безопасности, за пределами России — не на арене, а на трибунах, откуда и руки не протянуть поверженному воину — полководцу без войска, Дон Кихоту, академику Андрею Сахарову…
Как видите, по отношению к академику Сахарову статья благожелательная, сочувственная, завышенная, идеализирующая — мы таки поддались стадному инстинкту его восхваления. Даже когда разгорелась полемика вокруг русского расширенного варианта нашей нью-йорктаймсовской статьи в «Новом русском слове» (фактически это была еще в Москве написанная аналитическая записка «Россия: политическая дислокация и прогнозы на завтра»), по наивности я никак не ожидал принятия по отношению к нам административных мер. Поэтому письмо из «Континента» от Максимова было для меня как удар по яйцам, или, пользуясь эвфемизмом, обухом по голове. Дело не в главреде «Континента», а в академике Сахарове, которого мы с Леной имели глупость сравнить с рыцарем печального образа. Ничего себе Дон Кихот! Это был удар не по яйцам и не по голове, а по нашим собственным иллюзиям. Воистину: не сотвори себе кумира.
Не хочу голословить — далее письма и телеграммы.
Многоуважаемый господин Соловьев!
Разумеется, в демократическом обществе любая точка зрения имеет право на существование, но согласитесь, что каждая из них может быть использована кем-то в соответствующих целях. Газета «Нью-Йорк Таймс», за которой стоят определенные политические силы в США, в данном случае использовала Вашу точку зрения для весьма неблаговидных целей, то есть компрометации Андрея Сахарова как выразителя правового движения в Советском Союзе и демократического процесса в целом. Комфортно сговорившись с тоталитаризмом за счет чужой свободы, они — эти силы — делают все возможное, чтобы представить наше Сопротивление как горстку политических романтиков или полусумасшедших моралистов, которые якобы безответственно ставят на карту судьбы войны и мира, по своим, сугубо эгоцентрическим мотивам…
По существующим в «Континенте» правилам, любой член редколлегии имеет право вето на публикацию любого материла. Елена Боннер, полномочно представляющая на Западе интересы своего мужа, наложила такое вето на все Ваши материалы. В связи с этим мы, к сожалению, вынуждены отказаться вообще от Вашего сотрудничества до лучших времен.
14 ноября 1977 г. С уважением,
В. Максимов
Терять мне было нечего, и, промучившись пару дней, я сочинил «Открытое письмо академику Андрею Сахарову» и разослал знакомым по Москве инкорам. Воспроизвожу в сокращении, опуская те факты и цитаты, которые приведены выше, но оставляя несколько высокопарный тон — как показатель, в каком я был тогда состоянии:
Уважаемый господин Сахаров!
Мне трудно писать Вам это письмо, и я долго, мучительно думал, прежде чем сделать личное к Вам послание открытым. Иначе говоря, предать огласке беспрецедентный факт наложения вето на мои и моей жены Елены Клепиковой публикации в зарубежной прессе.
Впрочем, у меня нет выбора. Если бы я даже написал Вам это письмо частным образом, где уверенность, что мне удалось бы переправить его через заградительные почтовые кордоны Комитета госбезопасности? А если бы и удалось? Разве имею я право, живя в стране, которая не постеснялась беспристрастно расследовать деятельность своего 37-го президента, сокрыть истину? Разве то, что произошло, имеет отношение только к Вам и ко мне? Да осветит наш тяжкий путь свет памяти, совести, критики и гласности — пусть послужит нам Вифлеемской звездой в ночи!
Признаться, поначалу я решил не придавать значения слухам, согласно которым Ваша жена Елена Боннер, действуя от Вашего имени и по Вашей указке, обзванивала из Рима русские журналы, издательства и даже переводчиков, требуя, чтобы они прекратили сотрудничество с Еленой Клепиковой и Владимиром Соловьевым — в отместку за то, что мы посмели опубликовать в «Нью-Йорк Таймс» статью о Вас и о диссидентском движении. Слишком уж эти слухи противоречили тому образу безупречного демократа, свободолюбца и рыцаря совести, который был связан с Вашим именем.
Я был потрясен, когда эти слухи подтвердились — вполне официальным письмом из Парижа от Владимира Максимова, с сообщением о вето, наложенном Вашей супругой от Вашего имени на все наши материалы, из-за чего журнал вынужден вообще отказаться от сотрудничества с нами.
И всё равно мне кажется это до сих пор невероятным, хотя уникальное и беспрецедентное письмо сейчас передо мной и неопровержимо свидетельствует против Вас, господин Сахаров, уже тем, что находится в вопиющем противоречии с Вашей наглядной, демонстративной и всему миру известной деятельностью.
Я не знаю, какие силы стоят за «Нью-Йорк Таймс» — нам с женой эта газета помогла избежать тюрьмы и выбраться из Советского Союза. Одно несомненно, господин Сахаров, сочувственная наша статья никак Вас не скомпрометировала, зато вызванный этой статьей Ваш поступок компрометирует Вас — несомненно.
Елена Боннер не является ни отцом советской водородной бомбы, ни лауреатом Нобелевской премии мира, ни членом редколлегии журнала «Континет» — с нее и спрос невелик… А Вы хоть знаете, что запретили печатать?
Романы, статьи, очерки, публицистику — всё, над чем трудились мы несколько лет кряду и что тайком, с невероятными трудностями и с жизнеопасным риском отправляли из СССР, на всё наложено неразборчивое и властное вето.
Вы не читали того, что запретили, и Вы запретили не конкретные произведения Елены Клепиковой и Владимира Соловьева, но их самих, всю их деятельность, всё, что они написали или напишут в будущем. Вы наложили вето на само существование двух писателей, объявив им творческую и экономическую блокаду, перекрыв кислородные пути питания людям, для которых литература — единственное содержание и смысл жизни. Ради нее мы покинули Россию, с которой нас связывали рождение, память и язык — послушное, гибкое орудие нашего производства.
Уехать от лютой советской цензуры и тотчас попасть под нож свирепого и ненасытного цензора лауреата Нобелевской премии мира академика Сахарова — кто бы мог знать? Такое и в самом страшном сне не приснится.
Что же нам теперь делать? Сколько ждать? Год? Пять? Пока мы умрем? Или пока Вы умрете и Ваш запрет — вместе с Вами? А вдруг мы вывезли контрабандой из России неведомые миру шедевры — «Войну и мир»? «Божественную комедию»? «Гамлета»? Ведь свой запрет Вы наложили на нас, не будучи даже поверхностно знакомы с произведениями, которые запрещаете, а значит, исключительно из чувства личной мести.
Мести — за что?
За аналитическую статью в «Нью-Йорк Таймс» — сочувственную, хотя и пессимистичную к судьбам демократии в России?
Задача врача установить точный диагноз, как бы прискорбен он ни был и кем бы ни был его пациент. Для критики нет ни святых, ни святынь, потому что священен сам институт критики. Всегда найдутся доводы против правды — она вредна и оскорбительна либо преждевременна, а то и вовсе несвоевременна, неуместна. Сейчас я живу, слава богу, в свободной стране, и претензии на отмену в ней свободы слова — даже в локальной области правового движения в СССР — кажутся мне кощунственными и неблагодарными. Вот уж чисто совковая черта — нетерпимость к критике.
Наша статья была продиктована состраданием к Вам как к поверженному воину, хотя, говоря честно, Лена Клепикова и я сомневались в полезности для России Вашей деятельности.
Но в Вашем личном благородстве и честности — впервые!
Господи, знамя свободы в России находится в руках человека, которому невдомек, что такое свобода слова.
Бедная Россия! Разве может на этом экспериментальном поле, засеянном сплошь несвободой, взрасти семя свободы? Откуда ему здесь взяться? А если и взрастет, то какую искаженную форму примет этот экзотический росток! Как в северной тундре, где знакомые деревья — дуб, береза, сосна — уродливы, искривлены до неузнаваемости…
Любое идеологическое движение в России, начавшись с благих надежд и заверений, неизбежно кончается бесовством, томлением и корыстью. А главное — утратой и подменой первоначальной цели.
Да и может ли быть иначе при такой, как у Вас, небрезгливости в средствах?
До чего же схожи в России жертвы и палачи, как спокойно меняются они при случае ролями! Тот же самый панический страх перед правдой, то же неуемное желание покарать — в меру своих возможностей — критика. А ведь будь Вы не в оппозиции, но у власти — боюсь, приняли бы куда более жестокие меры к своим противникам, чем те, что применяются сейчас лично к Вам.
Человек, который так суеверно боится правды о себе и затыкает рот говорящему, движим не благими порывами, но исключительно алчущим честолюбием: не только когда налагает вето на неугодного автора, но и когда выходит на пятиминутную демонстрацию по случаю Дня советской конституции. Человек един: он не может быть низок сегодня, а благороден завтра. Завтра уже не будет, и любой наш поступок с нами на всю нашу жизнь: ни забыть, ни уничтожить, ни замолчать… Ваше имя, господин Сахаров, стало за последнее время чуть ли не легендой. Это в самом деле так — никакого отношения к реальному носителю этого по-кафкиански отчужденного имени.
Россия усердно снабжает мир мифами: загадочная русская душа, революция, Ленин, Сталин. Вы, господин Сахаров, последний русский миф, а я уже устал жить среди богов и не хочу менять одни мифы на другие, но жить в правде — иначе нет резона.
Менее всего мне подходит роль андерсеновского мальчика, но король гол, и лучше это сказать раньше, чем позже. Позже — будет поздно.
Буду до конца откровенен — я не стал бы писать это письмо лично Вам, приватно, конфиденциально, потому что после того, что случилось, я не верю в возможность нравственного отклика с Вашей стороны. Все мы на виду, на свету, высвеченные рентгеном гласности, ответственности перед Истиной и Богом — человек неделим на общественного и интимного. Да и не частный это поступок, когда лауреат Нобелевской премии мира, правдолюбец и правозащитник Андрей Сахаров по мстительной и мелочной злобе накладывает вето на существование двух русских писателей.
Мне стыдно за Вас, господин Сахаров. Стыдно и горько. Я отказываю Вам в праве называться демократом. Это звание обязывает. Мстительный цензор не может быть одновременно еще и свободоборцем. Больше я Вам не верю — за Вашими словами я не вижу ни истины, ни добра.
Весь парадокс, господин Сахаров, однако, в том, что, защищая свой престиж, Вы сами его пошатнули избранной формой защиты.
Защищаясь, Вы нанесли себе жестокое поражение… Печальная битва, исход которой нравственное самоубийство.
Не спорю — письмо наивное, импульсивное, идеалистское, зашкаливает в патетику. Не то чтобы я такое не мог написать теперь, а мне очень жаль, что теперь и письмо Сахарову и статья о нем вышли бы более сдержанными и взвешенными: с одной стороны, с другой стороны — ни с какой стороны. Я люблю ссылаться на Платона: всё созданное человеком здравомыслящим затмится творениями исступленных. В любом случае, мое страстное, адреналиновое, исступленное послание Сахарову подзавело инкоров, и они бросились с ним в Москве — к Сахарову, в Париже — в «Континент» к Максимову, в Вашингтоне — в «Голос Америки», куда также звонили и писали Сахаровы, чтобы отлучить нас с Леной от эфира.
Слово — не воробей: вылетит не поймаешь, а тем более не проследишь траекторию его полета. Короче, я не мог проследить судьбу моего письма Сахарову. Целиком или в отрывках оно попало в европейские газеты, в англоязычные СМИ, о чем ни тогда не жалел, ни сегодня. До меня дошел московский телекс от 9 декабря 1977 года от Колемана, корреспондента «Ньюзвика», который предпринял независимое разбирательство нашей с Сахаровыми тяжбы (далее идут английские материалы в моем переводе на русский, дабы не дать волю эмоциям).
Я разговаривал с Сахаровым и его женой Еленой и, к сожалению, не продвинулся слишком далеко. Сахаров сказал, что нью-йорк-таймсовская статья Соловьева — Клепиковой «очень плохая. Мы рассматриваем эту статью как вредную и удивляемся, что она была опубликована. Мы находим ее злонамеренной». Это было наиболее ясное заявление, которое мне удалось получить от него, и можно быть уверенным, что он говорит то же самое другим. Он написал письмо о Соловьевых в «Голос Америки», но не сказал, о чем оно. Вы можете проверить это в офисе «Голоса Америки» в Вашингтоне, если они покажут вам это письмо.
…Однако ни Сахаров, ни его жена не подтверждают и не отрицают, что они связывались с «Континентом» или каким-либо еще эмигрантским изданием о Соловьевых. У меня такое чувство, что Сахаровы не могут сказать что-нибудь на эту весьма чувствительную тему — связь с эмигрантскими изданиями может коснуться их финансирования, а потому не говорят ничего…
13 января 1978 года пришла английская телеграмма из Парижа от Максимова, которую Western Union принес мне почему-то трижды в один день, в несущественных разночтениях:
К сожалению, я совершенно неверно понял то, что мне сказала госпожа Елена Боннер-Сахаров. Тем не менее большинство русских членов нашей редакции (staf) против публикации материалов, посланных вами ввиду их формы. Возвращаем вам их обратно.
Само собой, эта отписочная, «формальная» телеграмма противоречила тем письмам, которые я получал всего месяц-полтора назад из «Континента» — именно от его русского «стаффа»: Виолетты Иверни, Василия Бетаки и самого Максимова, — что посланные материалы приняты к печати и первый — про отца и сына Тарковских — идет в текущий номер. А верно или неверно понял Максимов Елену Боннер, пусть останется на совести покойного. Нисколько не сомневаюсь, что верно. Хотя вполне возможно, что вето — это эвфемизм, да и вообще не из ее словаря, а Елена Боннер, в свойственной ей ругачей манере, употребляла слова ненормативной лексики.
(Опускаю последующие печатные наскоки на меня Максимова — в одном ряду с Синявским, Яновым и др. — как к делу отношения не имеющие.)
28 января 1978 года я получил письмо от корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Дэвида Шиплера, которое, среди прочего, объясняло и причины скоропалительной телеграммы Максимова:
Боб Эванс («Рейтерс»), Кевин Руэн (Би-би-си), Ход (Харолд) Пайпер («Балтимор Сан») и я, взяв Ваше письмо и письмо Максимова, отправились к Сахаровым. Елена Боннер была поражена письмом Максимова и сказала, что в нем нет ни грана истины. Она сказала, что Максимов позвонил ей в Италию, чтобы рассказать о Вашей статье, так она впервые о ней услышала, и она выразила свое возмущение, но настаивает, что она даже не знала, что Вы предложили свои работы в «Континент» и в любом случае она никогда не пыталась наложить на них вето. Она никогда в жизни не использовала такого слова, добавила она.
Сахаров сказал, что он не писал и не говорил ни с какими русскими эмигрантами о Вашей статье… Он написал о ней письмо в «Голос Америки», в котором также жаловался, что его собственная статья была сокращена «Нью-Йорк Таймс», и аналогичное письмо с жалобами на редактуру он послал в «Таймс» и «Гералд Трибюн», которые напечатали его статью.
Наше парижское бюро связалось с Максимовым, который был вынужден нашим расследованием послать Вам телеграмму. Он сказал нам, что осознает сейчас, что неверно понял Елену Боннер. Это более чем очевидно, что его теперешнее дезавуирование лицемерное, и, несмотря на все эти отрицания, так же ясно, что многие из этих людей, которые прокламируют свою поддержку свободе речи, на самом деле вовсе не верят в нее. Они слишком советские, так я полагаю.
Я обязательно напишу обо всем этом — не только о вашем случае и вашем споре, и не немедленно. Но когда у меня появится шанс, возможно в длинной журнальной статье, я попытаюсь сказать об этом и обсудить слабость уважения русскими настоящей свободы, указав даже на тех, кто, казалось нам, больше других разделяют наши ценности об открытых спорах. Елена Боннер использовала главным образом «ad hominem» аргументы против Вас, но, конечно, действуя таким образом, она просто повернула журналистов против себя. Мы все в Советском Союзе достаточно долго, чтобы узнать настоящего коммуниста, когда мы его видим, и я думаю, Елена была бы фантастическим членом партии.
Вот именно: своя своих не познаша.
Статья Дэвида Шиплера появилась в «Нью-Йорк Таймс Магазин» — о том, что «советские диссиденты так же догматичны и нетерпимы, как партийные аппаратчики, одной и той же с ними школы». А вот сокращенный отрывок из упомянутой его итоговой книги, где он рассказывает о нашем эпизоде с академиком Сахаровым и его супругой, о завесе спасительной лжи и нетерпимости к чужому мнению. Это взгляд со стороны, объективный, бесстрастный, немного поверхностный, с несколькими неточностями, но суть конфликта схвачена верно. Рассказав о скандале Елены Боннер с художниками-нонконформистами, которым она буквально заткнула рот на пресс-конференции с западными журналистами, а борьба за инкоров в Москве шла аховая, и Сахаровы, по-видимому, полагали их своей собственностью, Шиплер переходит к нашей истории (опускаю цитаты из уже известных читателю статьи об академике, моего ему письма и письма и телеграммы мне от Максимова):
Елена (Боннер) оказалась вовлеченной в безобразный инцидент с Владимиром Соловьевым и Еленой Клепиковой, которые опубликовали мрачную статью на Op-ed «Нью-Йорк Таймс»… Это была веская точка зрения о том вакууме, в котором оперируют активисты правового движения — то, что многие диссиденты не хотели бы слышать. Жена Сахарова, находясь в это время в Риме для лечения глазной болезни, реагировала резко, настолько резко, что Владимир Максимов, главный редактор публикуемого в Париже журнала «Континент», воспринял ее реакцию в том смысле, что журнал не должен никогда печатать ни слова Соловьева. Соловьеву было отказано в публикации его рукописи с резким письмом от Максимова, что Елена Боннер наложила вето на любую его работу. Соловьев, восприняв это как попытку главного защитника свободы слова удушить свободное слово, поместив его в черный список, написал открытое письмо протеста Сахарову… Елена отрицала какую-либо попытку запретить Соловьева, а Максимов, перед лицом неминуемого вот-вот предания гласности этого эпизода, послал Соловьеву телеграмму: «К сожалению, я совершенно неверно понял то, что мне сказала госпожа Елена Бонннер-Сахаров…» Возможно, это буря в стакане воды… Но это также демонстрирует долговечность советских инстинктов и глубоко враждебную природу западной концепции свободных дебатов.
Наверное, Дэвид Шиплер со своей колокольной точки зрения прав: буря в стакане воды. Но не для нас, запрещенных академиком Сахаровым авторов.
Ситуация была отчаянная. Почти все двери в русскую иммигрантскую прессу захлопнулись. Нам ничего не оставалось, как вломиться в американскую: со следующего года наши статьи стали регулярно появляться в ведущих американских газетах. В первой же из них мы цитировали Библию: «И прéдал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростию всё, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Это и стало нашим творческим кредо на много лет вперед. Да еще слова Тацита: sine ira et studio.
А в ответ на потерянно-найденное письмо Юнны, которое я отрывочно привел в начале главы, привожу в ее конце отрывок из моего ответа от 13 марта 1979 года:
При тех расстояниях, которые между нами пролегли — суши, океанов, иных укладов, другой информации, испорченных телефонов и прочее-прочее — несколько затрудняюсь писать письма. Хочется начать с теории — каким должно быть письмо: сугубо информативным («А что у вас? А у нас…»), эмоциональным, описательным? То, что с нами произошло, — это, конечно, не терапия, а хирургия: длительная, безнаркозная операция с неизвестным концом и нечеткой целью. Эмиграция — это вообще коренная переделка человека, перевод его не только в иной язык, но в другую структуру, где всё иначе: и мысли текут по-другому, и снег идет по-другому, и весна другая, и еда и квартиры — всё. Это можно, правда, не замечать — и в этом тоже есть свой резон, то есть инстинкт самосохранения себя таким, каким ты был прежде. Так поступает большинство, но у нас такого выхода не было, и, может быть, к лучшему. А возможно ли сохраниться и измениться, я пока что не знаю. Даже не операция, а операции: среди прочих, снятие катаракты, уничтожение иллюзий, разрушение романтизма. (Здесь следует длительное, в тридцать страниц, описание всего процесса с теоретической точки зрения — опускаю. Было бы, однако, легкомысленно делать какие-либо оценочные выводы, что тебе иногда свойственно — лучше, хуже: можно сравнивать разные страны, но не чужие друг другу миры. Представь себе мир, где не действуют вызубренные в школе законы физики.)
Так вот, в этом процессе, который можно сравнить разве что с метаморфозами Овидия или с превращением гусеницы в бабочку — минуя кукольную стадию, — мы существуем сейчас в качестве сколарин-резиденс: ступень, на которой побывали самые знаменитые и, как считают американцы путем тайного голосования, лучшие. Что это значит? Чтение лекций о литературе на Славик департменте и ведение семинара на Политикал сайенс. На первых не очень интересно, потому что слушатели — в основном соотечественники, которым важно набрать большее количество ненужных предметов, а этот кажется им легким. Есть и такие наглецы, которые, только приехав из России, записываются на начальные курсы русского языка. Небольшое количество американцев проявляют интерес к русской литературе на уровне, описанном классиком: «Анна Карамазова» Ивана Тургенева. Зато политсеминар по-английски — это замечательно: полсотни, помноженная на два, любопытных, умных и вдохновенных глаз, и лица замечательные, и молодость, и честность, которую я уже не предполагал в мире. Здесь я себя обрываю, чтобы не превратить письмо в путевой очерк.
…В Америке сейчас нашествие русских поэтов. Побывали Вознесенский, Ахмадулина, Высоцкий с Влади, сейчас Окуджава и Евтушенко.
Главное им — собрать зал, а здесь вся надежда на вновь прибывших, потому что американцы и на своих-то не больно ходят и почему-то считают, что поэзия — это интимное дело, а не публичное, и ссылаются на Элиота, Одена и прочих. Позавчера наш общий друг, товарищ и брат (Евтушенко) выступал в нашем Куинс колледже — в зале на 2000 человек сидело 300. Плакал горькими слезами, как говорят — я даже посочувствовал, хотя остальные злорадствовали.
Что касается мужа жены, то я не знаю, какой источник ты цитируешь: их было несколько. К обоим отношусь отрицательно и считаю очень вредными обманщиками. Это тот же случай с катарактой…
Тем временем, мы стали регулярно печататься в престижных американских газетах, крупнейший газетный синдикат стал распространять наши статьи среди своих изданий, в 81-м мы оказались в числе трех финалис тов Пулицеровской премии (по категории «комментарий»), в 83-м — вышла наша первая американская книга «Юрий Андропов: тайный ход в Кремль», тут же переведенная на другие языки. Мы получили за нее сказочный шестизначный аванс. «Это навсегда», — сказал наивный Фазиль Искандер, который, как и Сережа Довлатов, допытывался, сколько именно означает этот шестизначный аванс. «Известия» писали, что за каждую кремлевскую книгу мы получали по миллиону — если бы! В чужих руках и т. д. Однако по нашим совковым понятиям, денег было немерено, но — забегая вперед — мы поступили с ними в высшей степени неразумно: проели и пропутешествовали, а остатки держали в банках, вместо того чтобы купить, скажем, дом. Или даже два. Мы жили в Америке разно: бедно, средне, даже богато, теперь — более-менее сносно. Свезло-повезло? Не знаю. На этом американском пути мы потеряли связь с русской литературой, а нашли ее только десятилетие спустя благодаря гласности на нашей географической родине. Исключение — публикации наших литературных и политических статей и моего романа — эпизода «Не плачь обо мне…» в более толерантных, чем европейские, израильских журналах «Время и мы» и «22». Да еще в довлатовском «Новом американце», а потом и в «Новом русском слове». Плюс культурные передачи, которые мы вели на радио «Свобода». Чего мы добились — финансовой независимости и всеамериканской, а потом и мировой известности. Была и обратная связь — большинство наших американских статей в переводе на русский передавались «Голосом Америки» и другими вражескими голосами: absentes absunt — отсутствующие присутствуют.
Не то чтобы мы были непотопляемыми — отнюдь, но не было счастья, да несчастье помогло.
Спасибо академику Сахарову.
Посвящение-5. Андрею Битову: Угрюмая Немезида
Обозрел я миры духом моим, и нашел я, что женщина горше смерти, ибо она сама сеть охотничья, сердце ее — невод, а руки ее оковы.
ЕкклеcиастТы спрашиваешь, Соловьев, почему я не женюсь? Я бы не стал отвечать всерьез, отделался шуткой, если бы сам постоянно не задавал себе этот вопрос. В самом деле, мне уже тридцать три — время обзавестись семьей. Еще год-другой, и я так привыкну к своему холостяцкому состоянию, что не променяю его на все блага мира, — так и останется мой род Черникиных без продолжения, потому что я последний и единственный его представитель. Мама рассказывала, что отец тоже прожил бы всю жизнь бобылем, не прояви она вовремя инициативу. Но и женившись, он жил от нас обособленно, в семейной жизни участия не принимал, спал от матери отдельно — так что для психоаналитиков я потерянный кадр, эдипов комплекс не мог у меня развиться ну никак, даже если бы я этого очень хотел. Уже после его смерти мама вспоминала, что завести его на семейный скандал и то не удавалось — всегда и во всем ей уступал, а если что, просто уходил в другую комнату. Я как-то спросил, довольна ли она супружеской жизнью, а она в ответ, что у нее таковой никогда и не было.
— Но я же у тебя родился!
— Сама удивляюсь, как это случилось. Вроде не с чего.
Не пугайся — я не собираюсь раздвигать сюжетные и временные рамки моей исповеди и посвящать тебя в семейную жизнь родителей, тем более ее как бы и не было. А вспомнил к тому, что — кто знает, — может быть, мое бобыльство имеет генетические причины, но я их, естественно, сам не сознаю и объясняю свое нежелание жениться тем, что не попадается мне что-то достойная кандидатка в спутницы жизни. Только не подумай, пожалуйста, что я себя так высоко ставлю и предъявляю будущей жене завышенные требования. Но и повторять ошибку моих родителей и вступать в формальный брак не желаю.
Вот тебе краткий отчет о женщинах, которые повстречались на моем пути, а заодно объяснение, почему ни одна из них не стала моей женой.
Не так уж много их и было. Начал я поздно — в двадцать один год, а темперамент у меня усредненный: без большого для себя ущерба могу прожить без этого неделю, месяц, даже год, хоть так долго поститься мне пока что не приходилось. На всех останавливаться не буду, потому что в основном были совершенно случайные связи. Называю их командировочными, хотя это вовсе не значит, что они происходили сплошь во время командировок. Сам знаешь, приударишь спьяну на какой-нибудь тусовке (она же, считай, блядки) и по обоюдной физической потребности, без божества, без вдохновенья, о любви и речи нет, совершаешь эту несложную гимнастику — говоря цинично, нужен резервуар, куда излить застоявшуюся сперму, чтобы не ударила в голову. Помнишь совет Персия? Когда в тебе воспылает бурное и неудержимое желание, излей накопившуюся жидкость в любое тело. Что я и делал. Эрос — да, но без Венеры. В принципе — все равно с кем. Люблю заниматься любовью, а до любовницы нет дела! Несмотря на сравнительно скромный послужной список, некоторых не могу даже припомнить. Как и они меня, думаю.
Не могу сказать, что мне на них очень везло. Стоило отношениям затянуться, сразу же возникали какие-нибудь проблемы, все оказывалось непросто, к физическим удовольствиям примешивались эмоции, которые в конце концов перетягивали и приводили к разрыву. Инициатором всегда был я, памятуя, что коготок увяз — всей птичке пропасть.
В молодости, помню, дал себе слово жениться только в том случае, если так увлекусь, что не выдержу и в самый разгар воскликну:
— Люблю!
Ни я никому этого не сказал, ни мне — никто.
Я против продолжительных связей с одной и той же женщиной, но, согласно природе, — за полигамию и промискуитет, так как цель мужчины как можно шире разбросать свое семя, дабы выполнить свое главное назначение на земле по обеспечению потомства. Я бы и ухаживательный период свел к минимуму и даже заготовил фразу, которую так пока и не решился сказать женщине при первом знакомстве:
— У меня серьезные намерения — хочу вас поеть.
А в самом деле, что может быть серьезнее желания трахнуть бабу?
Я бы даже поцелуй упростил — зачем топтаться на пороге, когда можно войти в комнату и устроиться там поудобнее. Согласись, поцелуй — это человеческая выдумка: Богом не предусмотрен, никакой природной функции не несет.
Человек вообще много нагородил в этой области — ему бы поучиться у тех же животных. Там тебе ни стихов, ни поцелуев.
Увы, даже после сексуальной революции мы все еще живем в ханжеском мире, наводим словесного тумана там, где все ясно как день. Была у меня одна подружка: в постели — зверь, но любые слова на эту тему считала грязным развратом. Из-за этих ее возвышенно-мещанских представлений о любви мы и расстались. То есть не из-за них самих, а из-за несоответствия. Посуди: в деле потаскушка, а в самопредставлении — бегущая по волнам.
Да, со словарем на эту тему ну просто беда. Как в той детской игре, где черного и белого не называть. Русский язык не очень приспособлен к любовным отношениям, наше лицемерие здесь сказывается как нигде. Вот и получается — высокие словеса либо мат-перемат. Верх и низ — и полное отсутствие золотой середины. Дамочку одну помню — очень даже была мила, но такую в постели чернуху раскидывала, награждая меня слюнявыми эпитетами, что недели не выдержал — сбежал, считай, по сугубо лингвистической причине.
С еще одной расстались из-за косметики, которая вызывала у меня аллергический чих не вовремя. В комнате у нее прямо завис запах духов — вот-вот, казалось, задохнусь. Если хочешь, косметика еще хуже, чем словеса, — предпочитаю натуралок. Но где их сыщешь в наш век? Днем с огнем! Таня, конечно, была другая — ни словес, ни косметики, но от ее натуральности хотелось бежать куда подальше. Она и есть главный сюжет моей исповеди, моя Немезида, а потому негоже забегать вперед.
Была еще у меня одна такая бывалая, общедоступная чувиха — шалава, одним словом, которая всю инициативу брала на себя, что имеет свои положительные стороны, так как никаких усилий от тебя не требуется, но с другой стороны — такое ощущение, что ты безработный и даже уже не мужчина. С самого начала поразился — только познакомились, дотронуться до нее не успел, как она уже успела и меня раздеть, и сама раздеться: и не заметил, как уже у дел. Это бы все ничего, пусть курва, но такая широковещательная! В промежутках обо всех своих возлюбленных рассказывает, а исчерпав воспоминания, идет по второму кругу. Я ей говорю: «Молчи, скрывайся и таи…» Куда там! Мужик ей нужен не как постельный партнер, а как подружка. Рассказывала с бóльшим воодушевлением, чем е*лась. Да и гигиеническое ощущение, скажу тебе, не из самых приятных — будто в чужую сперму затягивает. Пусть это мое воображение, но куда от него денешься? В конце концов у меня в голове все перемешалось, и я себя ощущал попеременно то гомиком, а то участником группового акта. Не вдохновляет.
А однажды по пьяной лавочке приударил за женой приятеля, не сомневаясь, что нарвусь на отказ — такой она казалась недотрогой, что я ее вообще не мог представить за этим занятием, даже с мужем, как ни напрягал воображение. И не приударил даже, а так просто хлопнул по попке — из озорства. Добродушное такое домогательство без задней мысли. Потом мне от нее проходу не было, подстерегала на каждом углу — в конце концов вынужден был отдаться, хоть и неловко перед приятелем. Но с другой стороны, именно это, по-видимому, меня изначально и привлекало, потому что по сокровенной своей сути я не бабник, а пакостник. А запретный плод всегда сладок, будь то жена друга, свояченица или даже теща — прошу прощения за общеизвестные вещи. Сложность заключалась, однако, совсем в другом. Она оказалась эмоционалкой и, отдавшись, тут же ударилась в слезы. Решил, что переживает первую измену мужу. Выяснилось, что измена не первая, и вообще любит другого, но у того семья, и у нее семья — сам черт ногу сломает, но при чем здесь, спрашивается, я? Любит одного, замужем за другим, е*ется с третьим, то есть с кем придется, в данном случае со мной, — было бы кому поплакаться! Ну не морок ли! Чувствую — затягивает. Хотел даже пожаловаться ее мужу. Еле отмазался.
Скажешь, на меня не угодишь! Не торопись делать выводы. У тебя другой опыт, тебе, считай, повезло — с малолетства женат. Ну, не буквально, конечно, я имею в виду на однокласснице. Проблема выбора перед тобой никогда не стояла. Как это вы еще не обрыдли друг другу? Столько лет жопа об жопу тереться! Ну, ладно, ты в нее со школы влюблен, но она вроде бы вообще никого любить не способна, даже себя. Как она тебя выносит? Наверное, и в самом деле помогает, что с детства друзья, а потому для вас, наверно, и не существует ни прошлого, ни настоящего. Как у примитивных племен, сегодня — это вчера. Вот вы и застряли навсегда в прошедшем времени.
А у меня в молодости все постарше попадались, а потом, то есть теперь, наоборот — пошли помладше. Но однажды, как у тебя, был роман с однолеткой. Не считая моей угрюмой Немезиды, эту мою сокурсницу чаще других вспоминаю. Вполне возможно, это был мой шанс, но я его упустил, испугавшись. Понимаешь, все получилось так неожиданно, а я тогда совсем не готов был жениться. Да и мама что-то прихворнула — притворство с ее стороны исключаю, но, возможно, разволновалась, почувствовав, что на этот раз у меня посерьезнее, чем обычно.
В двух словах, вот что произошло.
Я был знаком с ней давно, учились на одном курсе, внешне ничего особенного, полноватая такая девица, вся в веснушках, глаза, правда, выразительные — томные, как у коровы. Поговаривали, у нее роман с преподавателем по эстетике — утонченный и нервный такой тип, весь на шарнирах. Живчик, скорее все-таки суетливый, чем нервный. Ты его не знал, его взяли уже после твоего отвала, сам он из Саратова. Кратко характеризую, чтобы было ясно, кто есть ху, как у нас повелось говорить с легкой руки Михалсергеича.
Было это уже на пятом курсе, я только что опубликовал стихотворение «В защиту Голиафа» — оно и принесло мне неожиданную славу, исключительно, правда, скандальную. Надо же так случиться, что именно в это время Шафаревич начал развивать свою концепцию «малого народа», который проходу не дает «большому». Решили, что и я туда же со своим библейским стихом — куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
Что тут началось!
Если бы даже у меня и был этот заскок, то самолично вытравил бы — ввиду нестерпимой банальности. К той же категории трюизмов отношу и обвинения в нем — крайности сходятся. Тем более Голиаф был таким же семитом, как и Давид. Все, что я хотел, — это поиграть известным трюизмом, переиначив его, вывернув наизнанку. Как ты когда-то с Иродом, сочинив ему апологию. Кураж-эпатаж, что угодно, но только не антисемитизм! Получилось черт знает что: хотел подразнить одних гусей, а раздразнил совсем других, о которых и не думал.
Мне и в самом деле немного жаль Голиафа, который мало того что убит камнем из пращи, считай, пацаном, — для такого богатыря это все-таки унизительно, но и еще вошел в историю как сугубо отрицательный тип. Вот мне и захотелось его посмертно реабилитировать, защитить большого от малого, тем более большой пал от рук этого малого. Заодно я подсобрал довольно убедительный компромат на Давида — от чересчур все-таки риторических и несколько однообразных псалмов до некрасивой истории с Урией и Вирсавией. К либерально-еврейским проклятиям в свой адрес я отнесся спокойно, полагая, что отрицательное паблисити приносит не меньшую славу, чем положительное.
Предполагаемый возлюбленный моей сокурсницы тоже внес свою лепту и упрекнул меня в литературном выпендреже, что было ближе к истине и куда неприятнее, чем обвинения в антисемитизме. Таким образом, у меня появился дополнительный стимул для ухаживания за коровистой однокурсницей, когда нас с ней отправили в Новгородскую область на фольклорную практику. Я решил отбить ее у преподавателя эстетики, что мне в конце концов удалось, хотя и с некоторыми для меня неожиданностями.
Любовница моего врага оказалась девственницей, что в наше время, согласись, большая редкость. Признаться, я этого никак не ожидал, тем более она сама подтвердила, что у нее с этим дергунчиком роман. Сказано это было, правда, в ответ на мои настырные расспросы, возможно, просто чтобы от меня отвязаться. А может, в возрасте дело: в двадцать четыре как-то стыдно оставаться девственницей — получалось, никем не востребованной, нежеланной, не нужной мужикам. Забавно, что у нее была подружка, с нашего же курса, всеобщая давалка, без проблем, и этот пример должен был действовать на нее, с одной стороны, возбуждающе, а с другой — удручающе.
Еще в поезде расправившись словесно со своим соперником, чему она, надо сказать, сопротивлялась довольно вяло, я перешел от слов к делу, дабы закрепить свою победу еще больше. Моему наступлению способствовали командировочные условия нашего существования: мы были с ней совершенно одни, разъезжая по Новгородщине в поисках сказителей и сказительниц, в деревнях останавливались в одной и той же избе, в одной и той же комнате, а то и просто на сеновале. Я стал к ней подъезжать в первую же ночь, а на третью она отдалась, попросив быть поосторожнее, так как ей от этого «немного больно». Было в ее просьбе что-то жалкое и трогательное, а когда все уже было позади и до меня наконец дошло, до какой степени она стыдилась своего девства, я решил сделать вид, что ничего не заметил. Вот эта тайна, которую мы оба теперь знали, хоть и не признавались друг другу, и сблизила нас, тем более фольклорная практика длилась два летних месяца, за которые она очень похорошела. Прав доктор Джонсон — хоть любовь и приносит страдания, но целибат лишает наслаждений. Говорят же: умерщвление плоти. Вот моя сокурсница и расцвела, как только покончила со своим затянувшимся девичеством.
Даже не подозревал прежде, что можно так вот, с утра до вечера, а потом с вечера до утра, вместе пастись. У нас с ней на редкость совпадали вкусы. Как бы это тебе объяснить? Ну, понимаешь, когда оба любят Пастернака и Пикассо, это еще ничего не значит, потому что их любят все (имею в виду интеллигенцию). А у нас были с ней совпадения на иной, что ли, глубине. Оба предпочитали Пушкину Баратынского, а из всего ХХ века любимым поэтом у нас был Михаил Кузмин. Или возьмем сюрреалистов — оба не любили Сальвадора Дали и обожали Магритта и Кирико. И так чуть ли не во всем — на общепризнанном лежит налет банальности и тавтологии, хоть это и не было единственной причиной, почему мы тому же Андрею Рублеву, к примеру, противопоставляли Дионисия. Каждый раз, обнаруживая очередное совпадение, мы радовались, как дети, а потом привыкли. Эстет-живчик был полностью вытеснен из ее воображения, хоть она и была, несомненно, в него влюблена до нашей фольклорной поездки в Новгородщину.
В любовных делах, когда прошла первая робость и скованность, она оказалась тоже хороша — сначала слушалась меня, как слушаются в танце более опытного партнера, но постепенно вошла во вкус и перехватила инициативу, хоть и не было в этом ни давления, ни назойливости. До сих пор не пойму, каким образом она набралась у меня бóльшего опыта, чем я сам имел. В постели она была ребячлива, игрива, изобретательна и нежна, отдаваясь любви не одним только телом, но всем своим существом. Что говорить, мы идеально подходили друг другу, как могут подходить только ровесники.
Я, конечно, догадывался, что послужило причиной постепенной коррозии наших отношений — то же, что в самом начале было источником нашей близости: тайна, которую мы разделяли с ней, но не делились друг с другом. Я знал о ее тайне, а она не знала, что я знаю, и при том доверительном уровне отношений, который у нас установился, непременно хотела во всем мне признаться, что я всячески пресекал. К счастью, она была по натуре человеком застенчивым, а потому пользовалась системой различных намеков, которые я наотрез отказывался понимать. А про себя гадал, почему ей так хочется сделать признание, которого я так старательно избегаю?
Чтобы отмежеваться от шарнирного того человечка, на которого она, можно сказать, возвела напраслину, объявив своим любовником, а я, выходит, зря старался, низвергая ее кумира? Или поздняя дефлорация была таким рубежным событием в ее жизни, что ей хотелось вписать ее в наш совместный актив — наравне со стихами Кузмина и Баратынского, картинами Магритта, фресками Дионисия, фольклорными находками и любовными утехами? А я и так уже боялся, что наши отношения зашли слишком далеко, и нависшее надо мной признание воспринимал как Рубикон, который ни за что не хотел перейти. Ты бы, Соловьев, сказал точка невозврата. Она и есть.
И потом, так ли уж существенно, что по чистой случайности я оказался первым в ее жизни мужчиной? Стоит ли преувеличивать и делать из мухи слона? Ведь ее виргинальное состояние было просто досадной помехой к нормальной жизни, временным неудобством, от которого я ее избавил, а мог любой другой либо даже она сама, используя тампон или палец. Известно же, что по обеим этим причинам редко кто сохраняет свое девство до первого соития, а тем более когда оно происходит в двадцать четыре года! Да и по физическим признакам судя, хоть я и был ее первым мужчиной, но избавил скорее от страха, чем от гимена, от которого она избавилась сама, того даже не заметив.
Короче, она бросала мне мячики, а я их не ловил, за что и получал упреки в недостаточной тонкости, хотя на самом деле недостаточно тонкой была она, так и не догадавшись, что я давно уже знаю ее девичью тайну, которую она мне теперь навязывала, а я как мог отбрыкивался, понимая, что чужое доверие — это твоя ответственность, которую я не хотел на себя брать. Я боялся ее тайны как огня, считая ее бременем и узами, и притворялся нетонким и нечутким. Не знаю, до какой ожесточенности мы бы дошли в этой нашей уже нешуточной борьбе, если бы она не была прервана вместе с концом летней практики. В Москве мы с ней еще некоторое время продолжали встречаться, но уже без прежнего энтузиазма, тем более я целые дни проводил в больнице, где мама лежала на обследовании, — слава богу, не инфаркт! Лишившись провинциально-деревенского антуража, наши отношения начали увядать, чего, боюсь, не случилось бы, если бы ей удалось навязать мне свою тайну. Я был даже рад такому концу нашей любви, хотя иногда подозреваю, что сморозил тогда глупость. Нет, я вовсе не о том, что упустил птицу счастья и тому подобные благоглупости. Но вполне возможно, она хотела со мной поделиться совсем не тем, что я уже знал.
Наконец мы защитили дипломы. Я остался в Москве, а ее распределили в Свердловск, и я потерял ее из виду. Спустя несколько лет, с большим опозданием и совершенно случайно, узнал, что у нее есть ребенок. Рассказал мне об этом ее мнимый любовник, который, перестав им быть, оказался вовсе не тем мелким бесом, каким я, ревнуя, представлял его, и я даже с ним ближе сошелся, а он, как выяснилось, состоял в переписке со своей любимой студенткой. Он сказал, что умнее и тоньше ученицы у него не было.
Знал бы ты, Соловьев, как мне надоели все их тонкости! Потому что при известном допущении получалось, что я в самом деле вел себя тогда на практике, как чурбан, не желая знать ее тайну, которую уже знал, в то время как она пыталась со мной поделиться совсем другой! Мне показалось, что и наш бывший профессор рассказывает мне о ребенке с умыслом и со значением и даже ждет от меня каких-то если не поступков, то, по крайней мере, расспросов, которых с моей стороны не последовало, что его несколько озадачило. Не знаю, действовал он по ее наущению или по собственной инициативе, да и не важно. Мне также было без разницы, насколько он осведомлен о наших с ней отношениях, а заниматься подсчетами и сопоставлениями в связи с этим ребеночком счел для себя унизительным, а потому даже не спросил о его возрасте. Мой, не мой — меня не колышет. Из своего семени фетиш делать не собираюсь, процесс для меня всегда важнее результата. Несомненно, я был у нее первым мужчиной, но это вовсе не значит, что вслед за мной не последовал кто-нибудь другой. Это ведь дело случая и нескольких минут. Считай меня циником — все равно! Сам себя считаю пакостником, а называю мерзавчиком.
Какой есть!
Чего ради мне притворяться? Зачем быть не собой?
К тому же этот ребеночек оказался женского пола, что мне с моими шовинистическими взглядами по этому вопросу — не в жилу.
После этой истории, чуть было не угодив в «сеть охотничью», прервал связи с внешним миром и ушел в глубокое подполье, а женщин держался за версту. Так длилось с полгода, наверное. Воспоминания о фольклорной практике мучили меня, мама, угадывая мое состояние, глядела на меня с сочувствием и торжеством.
Ее позицию в отношении моей бобыльной жизни я бы определил как сдержанную. Мы давно живем отдельно, на порядочном расстоянии: она в Кунцеве, я — в писательском комплексе на Красноармейской, который, как ты помнишь, называют Розовое гетто, хотя кирпич со времени твоего отъезда потемнел и из розового стал серым. Мы регулярно навещаем друг друга и связаны накрепко, словно пуповину так и не перерезали.
А то, что мы разъехались — по ее, кстати, инициативе, — как ни странно, еще больше укрепило наши отношения. Время от времени она затевает сугубо формальные разговоры о моей женитьбе, но явно не горит желанием увидеть меня женатым. Как человек умный и умеющий собой владеть, она бы, конечно, ни слова не сказала против, но для нее это был бы удар, который я вряд ли решусь ей когда нанести. С моей стороны было бы предательство. Ведь для мамы я всё, учитывая фиктивный ее брак: что-то вроде реванша за неудачную во всех других отношениях жизнь. Сам теперь посуди — могу я ее бросить?
Ты скажешь, что в рассказанной выше истории я тоже вел себя не совсем порядочно, особенно если ребеночек от меня. Что делать! Приходится выбирать — по-моему, лучше предать пусть даже любимую женщину, чем родную мать. И потом предательством это все-таки не назовешь, хоть я и переживал, когда мы расстались. Только не торопись с выводами — это еще не худшая моя история.
А что касается мамы, то убежден: такой женщины мне уже никогда больше не встретить. Недосягаемый образец, эталон красоты, ума и воли, вот на ком я бы женился не задумываясь, несмотря на разницу в возрасте, — двадцать один год, всего ничего! Не будь она моей мамой, конечно.
За время добровольного отшельничества — точнее сказать, затворничества — я сочинил большую автобиографическую поэму «Исповедь мизогиниста», которую до сих пор так никто и не напечатал, а потом вдруг ни с того ни с сего ударился в разврат самой низкой пробы, на который мама смотрела снисходительно и даже поощрительно. Пройдя сквозь женский строй, могу смело сказать, что знания жизни такой опыт не добавляет. Это как калейдоскоп: одно мелькание, ничего запомнить не успеваешь — ни имен, ни лиц, ни повадок. Поутих я только после того, как подцепил триппер, который, впрочем, быстро вылечил, но впредь решил действовать осторожней. Литературным результатом моих похождений была еще одна, на этот раз короткая, поэма «Тоска по грязи», которую сразу же взяли в «Юность», она пришлась впору и имела успех — наступила эпоха гласности, на секс в литературе был повышенный спрос. А эпиграфом к поэме я взял те же самые слова, которые предпослал письму к тебе: «женщина горше смерти…»
Не знаю, дошел ли до тебя тот номер. Не мне судить о художественных достоинствах собственной поэмы, но я там по свежим следам описал с дюжину подвигов, которые совершил, пока не подцепил стыдную болезнь. Знаю, ты сноб и не любитель такого рода сюжетных стихов, тебе подавай Бродского и Кибирова, а потому цитировать себя не стану. Вот парочка примеров прозой, где они и находились, покуда я их не извлек для своей поэмы.
У одной, представляешь, был комплекс моей неполноценности, которого у меня самого не было. Не то чтобы я ее не удовлетворял, но ей все время казалось, что другой удовлетворял бы ее больше. Вот некоторые наши разговоры во время постельных экзерсисов:
— Почему ты кончил, не предупредив меня?
— Это ты сама должна была почувствовать.
— Мог быть немного потолще…
— Могла быть немного поуже…
— Ты меня не удовлетворяешь!
Не выдержал и слегка психанул:
— А почему, собственно, я должен тебя удовлетворять? Задания такого от природы не получал. Мне главное — самому удовлетвориться, а остальное — до фени.
На том и расстались.
В любовных битвах, как известно, побеждает тот, кто первым бежит с поля боя.
Она пыталась восстановить отношения, оправдываясь, что никакая не нимфоманка, а говорила просто так, сдуру, по стервозности характера. У нее, оказывается, такая педагогическая манера, чтобы подзавести партнера на дальнейшие подвиги. Меня это, наоборот, отвращает, и не представляю мужика, с которым бы такая метода сработала. Кому охота быть подопытным кроликом?
В другом случае оба жили под постоянной угрозой беременности, хотя береглись изо всех сил. Из предосторожности совокуплялись, как только начиналась менструация, о чем мне тут же призывно сообщалось по телефону: «Красная армия пришла», либо сразу же после, а точнее — когда она еще не кончилась. Все это, признаться, действовало на меня как-то не очень вдохновительно, хоть она и уверяла, будто это самая чистая кровь, и ссылалась на древних греков: те будто бы заставляли своих девушек бегать во время менструации голышом по полям, чтобы оплодотворить землю. В ответ я говорил, что кровь по всему телу одна и та же, а также ссылался на древних иудеев, которые этим делом занимались где-то посредине между месячными.
— Потому что так вернее забеременеть, — возразила она. — У нас другая задача.
— Какая? — не удержался я.
— Вам легко! — взвилась она. — Как же, знаем: «Нам не рожать: всунул, вынул и бежать». Разве не подлость так говорить? Ты хоть раз делал аборт?
Вопрос был, как сам понимаешь, чисто риторический. Почему я должен нести ответственность за распределение обязанностей между полами? Все вопросы — к Господу!
— У вас аборты, а у нас инфаркты, — парировал я. — На десять лет дольше нас живете, а все равно жалуетесь!
Из-за двух-трех дней задержки с месячными устраивала несусветные скандалы и стала совсем невыносима, когда действительно забеременела. Я тогда немного струхнул и угрожал уйти, если не сделает аборт, а когда сделала — взял да ушел. Сам представь, какая бы у нас семейная жизнь вышла, женись я тогда.
А теперь, наконец, история с моей Немезидой, когда мне было уже никак не отвертеться, и я попрощался со своим одиночеством, и даже маме намекнул, перед тем как сделать Тане формальное предложение.
Отдам должное маме — она встретила эту весть мужественно.
Нет, речь шла не о моей чрезвычайной влюбленности и не о ее беременности — ни к кому, кроме мамы, особой любви я не испытывал, а беременность, как известно, дело поправимое (см. предыдущий случай).
Ты как-то определил свое литературное кредо: писать о том, что с тобой не случилось, но могло бы случиться или даже чуть не случилось. Так, кажется? Потенциальные жизненные сюжеты ты, так сказать, материализуешь в прозе. Помню, ты еще говорил, что не спал — Бог миловал! — ни с женами друзей, ни с сестрой жены, ни с девочками-подростками, а тем более с дочкой, которой у тебя к тому же никогда и не было. Но если бы спал с ними, то ничего бы не написал — не решился: смел на бумаге и нерешителен на деле. Вот тебе как раз такой сюжет, до которых ты охоч и ненасытен, хоть ничего подобного с тобой никогда не случалось. Я бы тоже хотел, чтобы со мной не случалось. Из эгоистических соображений — предпочитаю жить беззаботно.
Не вышло.
Произошло это сравнительно недавно: в прошлом году. Это к тому, что рана не зажила, писать нелегко, еще не оклемался.
Сначала небольшая справка — на этот раз о мужеском роде. С юности я дружил главным образом с людьми много старше меня, с одноклассниками и сокурсниками не водился, до сих пор среди моих знакомцев нет ни одного ровесника — не очень как-то интересно. Ты, к примеру, старше меня на четырнадцать лет, упомянутый преподаватель эстетики и мой мнимый соперник — на двенадцать. Не стану вдаваться в подробности и объяснять, в чем здесь дело, — можешь сам подумать на досуге, если охота. Никакими принципами при этом не руководствуюсь, паспорт при знакомстве не спрашиваю, все происходит в результате естественного отбора.
Короче, Ваня был в моем окружении исключением из правил. Он не просто был моложе меня, но моложе на целых одиннадцать лет, я ему покровительствовал — сначала в литературном плане (он писал недурные стихи), а потом и в человеческом, что и послужило причиной трагедии, которая случилась по моей вине.
Ваня был человеком молчаливым, замкнутым, даже угрюмым, что объяснялось дикой его застенчивостью, а та, в свою очередь, следствие безотцовщины и жизни в бабьем царстве: бабушка, мать, сестра. С другой стороны, эта его застенчивость как раз и была причиной его эгоцентричной лирики, в которой он давал себе волю и писал о том, о чем ни писать, ни говорить в приличном обществе не принято. Его стихи были во всех отношениях неприличны — что и привлекало. Среди прочего, он довольно часто возвращался к своему девству и сопутствующим переживаниям. Не могу сказать, что он им тяготился. Как ни странно, он его даже берег, лелеял и боялся потерять, а такие возможности ему конечно же время от времени представлялись: хорош собой, высок, вид такой несколько отрешенный — что еще? Он, однако, предпочитал онанизм (о котором откровенно, но не впадая в физиологию, писал в стихах) и охоту — вот еще одна его отдушина, кроме поэзии. Со своей двустволкой он пропадал иногда по нескольку дней, возвращаясь домой с уткой, с тетеркой, а то и с пустыми руками. Мы познакомились с ним у меня на литературном семинаре, который я вел, — ему тогда было всего семнадцать, а спустя четыре года, когда началась эта история, он все еще упорно продолжал оставаться девственником.
К нам в семинар поступила тогда девчушка из Пскова с рекомендательным письмом от местной писательской организации. Писала она прозу, рассказы получались не очень профессиональные, но подкупал правдивый тон и провинциальный материал. Как ученица была очень восприимчива и податлива и скоро овладела азами литературного мастерства. Я с ней много возился, но был предельно осторожен, боясь, как бы с профессионализмом не исчезла ее оригинальность. То, о чем предупреждал еще Флобер: приобретя часы, можно потерять воображение. Здесь даже более тонкое соотношение — сначала надо научиться кое-каким правилам, а потом их все разом позабыть и писать как Бог на душу положит, не стесняя себя ничем. Мне кажется, я вовремя прекратил обучать Таню, и она продолжала писать свою жесткую прозу, но более грамотно, без бросающихся в глаза ляпсусов. Несколько ее рассказов я пристроил в «Новый мир» — там нашли, что перышко у нее хорошее, но напечатали, по-моему, не лучшие.
Это был как бы цикл под общим названием «Семейные тайны». Страшненькая, скажу тебе, проза — не в пример твоей! Есть там и про инцест, точнее про свальный грех в одной семье: про то, как папы с мамами едят виноград, а у детей одна оскомина во рту, и у детей детей — то же самое, и так в бесконечную даль грядущих поколений. И уже даже непонятно, кому, каким давним прародителям было сладко, потому что у всех на зубах оскомина, все расплачиваются за не свои грехи.
Потрясный рассказ про одного пай-мальчика, маменькина сынка из совсем уж идеальной еврейской семьи, где ни пьяни, ни скандалов, ни инцестов — сплошь мир да благодать. И вот этот во всех отношениях наивняк влюбляется в одноклассницу, которая «дика, печальна, молчалива» — ни дать ни взять Татьяна Ларина по нравственной чистоте и возвышенным устремлениям.
Девица настолько не от мира сего, что проходит несколько лет, покуда парню удается спустить ее с небес на землю и жениться на ней. И вот здесь разверзается перед ним ад огнедышащий, потому что все ее воздушные замки и алые паруса были не чем иным, как защитой от домашнего безобразия: папашиной пьяни, мамашиного блядства, семейной лжи и конечно же от инцеста, то есть почти инцеста, потому что соблазняет ее не отец, которому не до того, он редко просыхает, а любовник ее матери; и ее папаша застает их однажды за этим делом и пытается зарубить насильника топором, но по пьяной лавочке промахивается. А тем временем любовник, защищаясь кочергой, попадает ему прямо по кумполу, и вот, не приходя в себя, папаша умирает в машине «скорой помощи», любовнику дают всего три года, так как самозащита от отпетого алкаша, из тюрьмы он выходит через два и немедленно женится на вдове, имея в виду ее дочь. Естественно, вся их история на суде так и не всплыла, хоть мамаша и догадывалась. Но девочка за два года его отсутствия повзрослела душой и всячески противится возобновлению прежних отношений. Да и бдительная мамаша глядит теперь в оба и ставит палки в колеса. Тогда он с горя от неудачной женитьбы и неудачной любви идет по стопам своего забубенного предшественника и ударяется в запой, не прекращая осады крепости, тем более та ему уже однажды сдалась. Взрослеющая девица вся уходит в литературные миражи — в противовес семейной грязи, а замуж за бывшего одноклассника идет, чтобы избавиться от подстерегающего ее повсюду отчима и взбесившейся от подозрений и невнятицы мамаши. С таким сексуальным опытом в раннем детстве и последующими возвышенными девичьими мечтами ей, конечно, самое место в монастыре, но какие у нас монастыри, сам знаешь! Вот она и выходит замуж и, невзирая на коренные отличия ее мужа от отца, отчима и мамаши, восстанавливает утраченную семейную атмосферу, видя врага и насильника в бывшем своем однокласснике, а потом и в растущем у них сыне. Жизни от этой не от мира сего в семье нет никому — чистая фурия! А она уже ностальгирует по отчему дому и тому хорошему, родному, чистому, что было и в отце до того, как запил (он даже пьяный всегда был с ней добр), и в любовнике мамаши — до того, как тот стал к ней приставать, да и после, потому что было в их связи что-то от детской игры, когда надо прятаться и скрываться, и даже в мамаше, которая не всегда же была такой стервой, это жизнь ее так изуродовала.
«А меня — что?» — неожиданно возникает вопрос, и непонятно, кто его задает: героиня или авторша.
И таких вот десяток рассказов, один другого пострашнее, все происходят в Пскове, на фоне русских древностей и иностранных туристов.
Не могу сказать, что Таня была красива, скорее даже невзрачна и тем не менее привлекательна — провинциализмом, подростковостью, диковатостью. Я научил ее литературными правилам, но не хорошим манерам — это не входило в мои обязанности. Прямая, наивная, чеканная походка, как у солдатика, быстрые реакции, как у зверька, небольшого роста, зеленоватые, болотистого оттенка глаза, из рук вон плохо одета, во все отечественное, — рассказываю только о том, что бросалось в глаза, я не педант. Не то сопливка, не то Золушка — не разберешь. Я бы, возможно, за ней и приударил — добыча легкая, если бы не железное правило: не заводить романы со студентками. Что-то есть в этом непорядочное, потому что у преподавателя очевидная фора, которой грех пользоваться. Дочитав эту историю, ты, наверное, усомнишься — не мне говорить о порядочности!
Спорить не стану — ты прав.
Так вот, хоть я и не был в нее влюблен и никаких таких поползновений не предпринимал, немного все-таки огорчился, когда Ваня объявил, что они с Таней женятся. И когда успели снюхаться? Дело в том, что если мои отношения с Таней ограничивались семинарскими занятиями раз в неделю, то с Ваней мы дружили — он бывал у меня в гостях, вместе ездили за город, а один раз даже совершили вдвоем вылазку в Таллин (тогда он еще не был столицей самостоятельного государства). Я даже не знаю, к чему относилась моя досада? Наверное, скорее из-за Вани, чем Тани. Скажу сразу, чтобы ты чего не подумал: человек я исключительно гетеросексуальный, и мои отношения с ним были идеальной дружбой учителя с учеником.
Узнав эту новость, я как-то машинально предположил, что дело у них зашло далеко, и подумал: а не отразится ли потеря Ваней девства на его стихах?
Как раз за Таню я был спокоен — она уже подзавелась на свои провинциальные анекдоты и, пока их не исчерпает, не успокоится.
На их бракосочетании я был свидетелем со стороны жениха, и они даже пригласили меня на свадьбу, которая праздновалась в узком семейном кругу. Из Пскова прибыла Танина мамаша — с таким, скажу тебе, скобарским лицом, что я опасался смотреть в ее сторону, зато отдыхал, глядя на сплошь благообразную родню Вани. Как и предполагал, наши с ним отношения свелись теперь к еженедельным встречам на литературном семинаре. Зря только я беспокоился за его стихи — он продолжал их писать с еще большим остервенением и безнадегой.
Хоть я и потерял приятеля, но не мог не нарадоваться этой парочке. Вместе приходили на семинар, вместе уходили, держались друг за дружку — верно, и в сортир ходят вместе, думал я, глядя на них. Были они какие-то чистые и невинные, как дети в мире взрослых, как ангелы в мире людей. Они вызывали у меня двойственное, а может быть, даже тройственное чувство — то умиляли, то немного смешили, а иногда возбуждали легкую зависть. Были абсолютно преданы друг другу и литературе, больше ничего и никого у них не было: ни приятелей, ни сторонних увлечений. Разве что я, которому они приносили на суд все, что сработают за неделю.
Писать стали еще больше, чем прежде. Ваня и от своих охотничьих вылазок не отказался, несмотря на женитьбу. Понять его можно: Таня стала четвертой женщиной в их доме, и охота была наглядным проявлением мужского начала при таком женском засилье.
Грешным делом я даже подумал: а остается ли у ребят время на любовь?
Вообще, их очень трудно было представить за любовными делами, они оставались такими же серьезными, как прежде, он был по-прежнему угрюм, а она — угловата и с той же самой солдатской походкой.
Я пенял себя за недостаток воображения, а оказался не так уж далек от истины.
Как-то Ваня неожиданно явился ко мне и спросил совета, потому что как раз в постели у них ничего не получалось: Таня ни в какую ему не давала, да и Ваня был не очень настойчив, хоть они уже третий месяц жили вместе и спали в одной кровати. Ты бы выдержал? Мне бы сказать ему тогда, что он обратился не по адресу и ему надо бы с Таней к сексологу, но я почему-то внимательно его выслушал и даже стал задавать какие-то вопросы касательно их незадавшейся интимной жизни. Наверное, мне тогда казалось, что руководит мною искренняя забота о молодых людях. На самом же деле, как я сейчас понимаю, двигало мною одно паскудное любопытство, а может, и что похуже. Потому что кончился наш разговор совершенно неожиданно, как для него, так и для меня.
— Ну, хочешь с ней потолкую? — спросил я.
Ваня как-то дико на меня глянул, но набрался духу и согласился.
Я позвал обоих в гости и договорился с Ваней, что он под каким-нибудь благовидным предлогом оставит нас с Таней вдвоем на час, а потом вернется. Предлог мы тут же и сочинили: засидимся допоздна, кончится водяра, и Ваня отправится раздобывать ее у киоскеров или таксистов.
Сказано — сделано.
В тот вечер мы с Ваней пили больше и быстрее, чем обычно. Таня едва поспевала за нами, ни о чем не догадываясь.
Вот мы наконец и остались с ней вдвоем, и оба поначалу смущались: я — потому что не знал, c чего начать, как подступиться к пикантной все-таки теме. А она почему? Не знаю. Потом-то я догадался, что наше с ней смущение было совсем иной природы, но было уже ничего не поправить. Как ты любишь говорить к месту и не к месту, у прошлого нет сослагательного наклонения.
К сожалению.
Свое смущение я в конце концов преодолел и прямо выложил, что Ваня мне все рассказал про их супружеские нелады. Таня густо покраснела, а потом спросила:
— Какие нелады? — И не отрываясь, на меня смотрела.
Я начал что-то лепетать о значении секса в человеческой жизни.
— Да уж, насмотрелась, — перебила она меня.
Я вспомнил ее рассказы и понял, что в тесноте коммуналок и общежитий ей пришлось многое перевидать именно в этом плане, что, по-видимому, вызвало у нее сильнейшую идиосинкразию к половой жизни.
— Если ты боишься боли, то, поверь, эти страхи сильно преувеличены, — сказал я и хотел было поделиться теми немногими медицинскими сведениями, какие знал, но она снова перебила:
— Я не боюсь боли. Но не понимаю, почему я должна заниматься тем, чем не хочу заниматься.
— Но ты же вышла за него замуж!
— Это он настоял, я была против.
— Но ты согласилась.
— Надоело мотаться по общагам, — откровенно призналась она. — Я ему так и сказала. И предупредила, что мы останемся просто друзьями, после того как запишемся.
Всего этого я не знал.
— И Ваня согласился?
— А что ему оставалось? Он в меня влюблен, вот и надеялся внушить мне ответное чувство. Считал, что если человек сильно любит другого, то этого вполне хватит на двоих. Чужая любовь заразительна, и коли мы спим с ним в одной кровати, то рано или поздно ему отдамся. Не исключаю, но пока что этого не произошло. Если и отдамся, то только когда сама захочу. Не раньше.
Я посмотрел на часы — уже пятнадцать минут, как Ваня ушел за водярой, а мы с Таней не сдвинулись с места.
А собственно говоря, куда мы с ней должны двигаться? В каком направлении? Я чувствовал, что запутался.
Что-то меня стало смущать в нашем с ней теоретическом трепе, какая-то недосказанность, какой-то пробел, сам не знаю что. Я не понимал в чем дело, пока не услышал собственный голос:
— Прости, пожалуйста, за глупый вопрос: ты ведь девственница?
Таня снова посмотрела на меня пристально и ответила не сразу:
— Нет. Как у нас на деревне говорят, девка порченая.
Вот те на!
— А Ваня знает?
— Он не спрашивал. Спросил бы — сказала.
— Но он думает, что ты девственница?
— Да, он так думает. Точнее, это я думаю, что он так думает.
— А что ему еще остается? Какая еще может быть причина, почему ты ему не отдаешься? Я имею в виду — с его точки зрения.
— А вам тоже неизвестна другая причина?
Я перестал что-либо понимать.
— Ну, любовь, скажем. Люди же все-таки не совсем скоты. Какой интерес этим заниматься без любви?
Ее максимализм меня уже раздражал:
— А раньше ты это делала по любви? — спросил я.
— Я этого не делала. Со мной делали.
Я тут же вспомнил рассказ про девочку и любовника матери. У меня вертелось на языке множество вопросов, но промолчал: захочет — скажет сама.
И она сказала — сама спрашивая и сама отвечая:
— Кто? Нет, не отчим, как в рассказе, а родной отец. Когда? Мне было десять, когда в первый раз. Нет, не насилие. Инициатива, конечно, его, но я сама хотела, чтобы он делал со мной то же, что с мамой. С десяти до двенадцати. Потом они с мамой разошлись.
— Из-за этого?
— Нет, мама так и не узнала. Он ушел к другой женщине.
— Ты Ване рассказывала?
— Он не спрашивал, — снова сказала она.
— Как он мог спрашивать о том, чего не знает?
— Вы же спрашиваете.
Я пытался вспомнить наш разговор — вроде бы прямо ни о чем таком не спрашивал. Скорее, выспрашивал, любопытствовал, но не конкретно — да и как мог я выпытывать про инцест, о котором не знал? Это у нее самой потребность рассказать то, что она таит в себе столько лет и даже в своей откровенной прозе не решилась высказать прямым текстом, спрятавшись за псевдонимы вымышленных персонажей.
— И ты никому об этом не рассказывала?
— Под большим секретом — подружке, когда нам было по тринадцать, и я беспокоилась, что замуж не возьмут, потому что не целая. Она меня успокоила — сказала, что новая вырастет.
Я рассмеялся.
— А знаете, мне иногда кажется, что все это — ну, с отцом — мне приснилось. Или я сама придумала и поверила, что на самом деле. Так ведь бывает? В любом случае, для меня сейчас начать — как бы впервые. Нет, я этого совсем не боюсь, но не хочу с Ваней.
— Почему? — спросил я и снова глянул на часы.
— Вы с ним сговорились? — спросила она, не отвечая на мой вопрос.
Я кивнул.
— И сколько?
— Что — сколько?
— Сколько у нас времени?
— Осталось двадцать две минуты, — сказал я.
— Если судить по книгам, достаточно. Только погасите свет.
Времени нам и в самом деле хватило, хоть Ваня и вернулся минута в минуту, притаранив выпивон и закусон. Мне показалось, он с трудом выдержал этот час и теперь жалеет, что оставил нас с Таней наедине. Или это мое чувство вины перед ним превратилось в его подозрения, которых он, может, и не испытывал?
Сейчас я могу задавать сколько угодно вопросов — ответить на них некому.
Мы долго еще сидели в ту ночь, и у меня сложилось впечатление, что все трое, словно сговорившись, играли в молчанку про главное, а говорили о пустяках, то есть о литературе. Но эта ночь и сблизила всех нас, мы стали как-то особенно предупредительны друг к другу, как будто наше с Таней предательство Вани, вместо того чтобы заложить мину под нашу дружбу, укрепило ее фундамент. То ли я много выпил в ту ночь, но в какие-то моменты с трудом себя сдерживал, чтобы не выложить все Ване. Если бы Таня вышла минут на десять, так бы и сделал — неудержимо тянуло признаться и покаяться.
Извращенец, скажешь?
Все было как во сне.
Что меня до сих пор гложет — догадывался ли Ваня о том, что произошло в его отсутствие?
Конечно, я немного сожалел о том, что случилось, тем более в одном Таня оказалась права: эмоционально для нее все было внове, и я был с ней предельно осторожен, но потом увлекся, насколько позволяло отпущенное нам время. Может быть, ее кровосмесительное воспоминание и в самом деле явление ложной памяти? Или она просто соврала, чтобы облегчить мне сделку с совестью — и снять с меня ответственность хотя бы за дефлорацию?
Не могу сказать, что этот вопрос меня очень уж волновал. Да и совесть меня не больно мучила из-за того, что я присвоил себе средневековое право первой ночи, если только меня не опередил ее отец, — может быть, теперь у них с Ваней пойдет быстрее? Поспешная наша с Таней случка — как ты мог заметить из моего рассказа, по ее инициативе — была для меня не более чем эпизод в моей мужской жизни, хоть и немного досадный, если говорить честно. Но, слава богу, с этим покончено, все позади, пусть Ваня скажет спасибо, что я взял на себя его работу, так как у него самого ничего не получалось.
На следующий день он позвонил, и я, не вдаваясь в подробности, посоветовал ему потерпеть еще недельку, прежде чем возобновить осаду.
— Вы хотите с ней еще раз встретиться? — спросил меня Ваня.
— Нет. Думаю, уже достаточно, — сказал я, понимая всю двусмысленность нашего разговора.
А неделю я упомянул на всякий случай — чтобы Таня не испытывала никаких физических неудобств.
Однако уже через два дня она заявилась ко мне, даже не предупредив.
Нельзя сказать, что та наша спринтерская любовь прошла для меня совсем бесследно. Так уж я устроен, что секс сближает меня с женщиной не только физически, но как раз этого я и боюсь, а потому бегу от этой близости, как от слабости. Вот почему меня так трудно заарканить. Если хочешь знать, в душе я вовсе не циник. Совсем даже наоборот.
А с Таней вообще получилось как-то по-особенному — жена приятеля, одинокая в Москве провинциалочка, кроме Вани и меня, ни одного знакомого, ни кола ни двора, приткнуться некуда, я уж не говорю о ее детстве — не приведи Господь! Впервые я нарушил собственное правило и вступил в связь с ученицей. Естественно, я не мог так запросто выбросить ее из головы, тем более чувствовал, что за напускной бравадой кроется такая щенячья беззащитность, что, если бы не Ваня, я бы, конечно, привязался к этому одинокому и беззащитному существу еще как! А как она была робка, ласкова, благодарна в эти отпущенные нам двадцать минут!
Просто не даю себе воли, когда меня сантименты одолевают.
Я открыл дверь, Таня стояла все в том же стареньком, вытертом до блеска пальтишке, в какой-то несусветной белой вязаной шапочке, я ввел ее в комнату, помог раздеться, и как-то без лишних слов мы стали с ней целоваться. Так возобновилась наша связь. Я понял, что на этот раз попался.
Наш роман длился месяца три, наверное. Догадывался Ваня или нет, но, судя по его стихам, он мучился еще сильнее, чем прежде. Иногда мне казалось, что мы обманываем не его, а самих себя, а он все давно уже знает. Он стал чаще пропадать на охоте, но возвращался теперь без трофеев. Однажды отсутствовал больше недели, мы с Таней беспокоились. Наше с ней счастье не было таким уж безоблачным, обман отбрасывал конечно же густую тень, но одновременно придавал нашей любви какую-то особую остроту и прелесть.
Запретный плод, одним словом.
Я бы даже рискнул сравнить наши отношения с инцестом, которого, возможно, у Тани в детстве и не было, она все напридумала, а материализовалась ее выдумка только сейчас, со мной, в еще более усложненной и извращенной форме. Хочу, чтобы ты верно понял, на то ты и писатель, черт побери! Дело тут не только в возрастной разнице и в субординации «учитель — ученица». Спать с женой юного друга, да еще когда она ему не дает, а тебе дает — все равно что спать с дочкой. Точнее — с невесткой.
Мы оказались с ней в этаком милом тупичке, а когда новизна начала приедаться, я стал уговаривать Таню отдаться Ване. Я уже в том возрасте, что в любви мне нужны эмоциональные допинги — чем двусмысленней и рисковее ситуация, тем лучше.
— Хочешь от меня избавиться? — спросила Таня.
— Что ты! Но сколько можно его мучить!
— Что ты предлагаешь?
Я догадывался, чего она ждет от меня, и это был единственный способ разрубить этот гордиев узел, но как всегда, когда чувствую, что попадаю в матримониальную ловушку, из последних сил пытаюсь вывернуться.
О, если бы не этот проклятый мой инстинкт самосохранения!
— Я бы не стал возражать, если бы ты спала с ним тоже.
— С тобой и с ним? Одновременно?
— Господи, да что тут такого страшного! И зачем одновременно? По очереди. И что за предрассудки! Вспомни Бриков и Маяковского. Или Некрасова с Панаевыми. Да сколько угодно! Нет такого закона, чтобы все время спать с одним и тем же мужчиной. У тебя должен быть выбор. Не исключаю, что в постели Ваня тебе понравится больше. Он моложе меня, да и физически будет покрепче, а я поистаскался. Сколько он за это время поднакопил сексуальной энергии, тогда как я ее значительно уже поизрасходовал! Вы оба юные, вы просто не можете не подойти друг другу физически. А у меня это, может быть, последние всплески чувственности, кто знает… И хочешь знать — я просто заменяю тебе отца, который так рано ушел от вас. Думаешь, не понимаю? Нет, я совсем не о том, что у тебя с ним было или чего не было. Теперь это уже без разницы. В любом случае, я для тебя «отцовская фигура»: выполнил свою функцию и теперь могу устраниться. Помнишь «Дафниса и Хлою»? Как ни любили они друг друга, а кто-то из них должен был потерять невинность на стороне. Двум девственникам — ну ни в какую! У нас с тобой получилось наоборот — не с Ваней, а с Таней. Дафнис и Хлоя поменялись местами. Так что, если тебя не устраивает, что я играю в наших отношениях отцовскую роль, считай тогда меня бл*дью, которая обучила тебя этому несложному, впрочем, искусству, чтобы вам с Ваней было легче им заниматься.
Я и в самом деле чувствовал себя бл*дью, но в другом смысле. В любом случае, приятно было назвать себя этим словом вслух.
Я понимал, что перешел от обороны к нападению, но ведь и в самом деле получалось черт знает что: днем мы с ней занимаемся любовью, а ночью она лежит с Ваней в кровати и мучит его. Не может так продолжаться бесконечно!
— Во-первых, не обольщайся, — сказала Таня, — ты меня ничему не научил. Этому не надо учиться. Это заложено в нас природой, независимо от того, есть у нас опыт или нет. Кто знает, может быть, я тебя больше научила, чем ты меня.
— Не спорю. Тем более, ты продолжаешь меня учить — сейчас вот. У тебя тон даже становится дидактическим, когда ты мне что-нибудь выговариваешь. Взять хотя бы это твое «во-первых»! А что во-вторых?
— Во-вторых, представь, что я стану с ним спать и мне не понравится, что тогда?
— Что значит не понравится? Это в любом случае приятное занятие, в чем ты, надеюсь, уже успела убедиться. И особого разнообразия не жди — что тот, что другой. То же — с женщинами. Секс сам по себе достаточно хорош, а партнер, если хочешь знать, дело вторичное. Какая разница, с кем вместе вкусно пообедать? Нет, я, конечно, не сравниваю, но быть такой уж пуристкой! Извини… Если ты не думаешь о своем муже, то я, извини, думаю о своем друге.
Это я, конечно, хватил. Но что, скажи, мне оставалось в сложившейся ситуации?
Даже если бы я был по натуре циник, что не так, то мне хотелось сейчас предстать еще большим циником, чем я был, хоть я им и не был. До меня, конечно, дошло, что Таня в меня втюрилась, а теперь еще и привязалась, я и в самом деле был для нее еще и отцом, а не только любовником, а потому теперь делал все, чтобы вызвать у нее к себе презрение и гадливость — ей же легче будет тогда со мной расстаться и вернуться к Ване. К сожалению, она была умна и проницательна и угадала мой замысел глубже, чем я сам просек.
— Хочешь все совсем запутать? — спросила она, пытательно глядя мне в глаза, была у нее такая немигающая привычка, которой я немного побаивался. — Тебе нужны специи и пряности — просто любви тебе мало? Играя в старого циника, ты думаешь отвратить меня от себя? То есть ты считаешь, что ты так думаешь, а на самом деле ты, как человек малодушный, испугался, что сам влюбился в меня, и суетишься теперь в поисках выхода. Ты думаешь, за это время я узнала только, каков ты в любви?
Чем больше мы с Таней сближались, тем тревожнее мне становилось. Сыграла здесь свою роль и моя мама, которая не то чтобы снова приревновала, как несколько лет назад к сокурснице, но заметила, не могла не заметить, что на этот раз снова что-то серьезное. А заметила по моей скрытности — обычно она была в курсе моих интрижек, я ей даже про сокурсницу тогда рассказал, а здесь стал от нее таиться. Точно сказать не могу — то ли мама стала меня молча ревновать, то ли у меня самого проснулось чувство вины перед ней. Или меня мучило раскаяние, которое она же мне телепатически внушала из своего Кунцева? Раньше со мной такого не случалось — я сбрасывал на сторону семя, а укромные, интимные отношения у меня были только с мамой, ни с кем больше. Если бы не табу и условности, то лучше жены не сыщешь, да и возрастная разница у нас не такая большая. Не говоря уж о том, что красивее женщины не встречал.
Опять скажу, что с мамой меня связывают особые отношения, не будь которых я бы, наверное, давно уже на ком-нибудь женился. Я из породы тех самых психов, про одного из которых рассказал в своем фильме Хичкок. Хоть женщин в отличие от Нормана и не убиваю.
Еще чего не хватало!
И последнее уточнение: если бы мама, овдовев, вышла замуж, мы бы не были с ней так повязаны. Но мало того, что она замуж не вышла, у нее, насколько я знаю, не было ни одного романа, ни одной интрижки: ей было достаточно меня, как мне ее — до того, как у нас началось с Таней. Вот здесь я и начал маме изменять, точнее — предавать ее, и мама, почувствовав это, как-то неожиданно сдала, постарела, и я впервые подумал: она уже не та, что прежде, и рано или поздно я останусь один. Неожиданное это открытие, что мама стареет и не годится мне в пожизненную спутницу, и освободило меня от обязательств по отношению к ней, но как только я воспользовался полученной свободой и закрутил с Таней всерьез, поводок натянулся, и я стал испытывать легкие покалывания совести.
По сути, оказался меж двух огней — точнее трех: мама, Таня, Ваня. Вот как классический треугольник превратился в четырехугольное сооружение постмодернизма: друг, возлюбленная и мама, а между ними я. Причем мама была для меня всем: другом, возлюбленной, мной самим — моим alter ego. И вот она отодвинулась на задний план из-за того, что я влюбился в Таню. Нам с Таней было очень хорошо, но я ни на минуту не забывал, что мое — и полагаю, наше — счастье оплачиваем не мы сами. Наша любовь оказалась злом для двух близких мне людей, которых я предал. Но откажись я от этой любви, я бы принес зло двум другим людям — Тане и самому себе. Я оказался перед выбором, который невозможно было сделать, но и тянуть дальше тоже было нельзя. Вот я и решился наконец.
Мне трудно сказать, что испытывала при этом Таня — я слишком поглощен собственными переживаниями, чтобы понимать чужие. Угрызений перед моей мамой у Тани быть не могло, хотя с моих слов она уже все знала о наших с мамой отношениях, но для Тани это была блажь, не более, потому что в ее опыте ничего похожего не было. А как с Ваней, с которым они спали в одной кровати и все больше отдалялись друг от друга?
Я не расспрашивал ее об их отношениях, а сама она молчала, будучи в быту — в отличие от прозы — человеком скрытным.
То, что я ей предлагал теперь, не было групповым актом, а скорее небольшим таким развратцем, так как сам я вовсе не хотел порывать с Таней, но согласен был делить ее со своим учеником и другом.
Хоть я и не циник, но человек без предрассудков.
Так и не узнаю никогда, согласился бы Ваня на такой вариант, но Таню, я чувствовал, от него коробило. Это все-таки неправда — я вовсе не искал дополнительной остроты ощущений. Наоборот, с помощью Вани надеялся рассеять, ослабить, рассредоточить нашу с Таней любовную болезнь и таким образом обратно сойтись с мамой, которая без меня утрачивала смысл жизни и стремительно старела. То, на что я решился, не было выбором, а скорее неким компромиссом, но во всем, кроме смерти, жизнь и движется путем взаимных уступок, минуя рифы и омуты, которые и я хотел как-то избежать.
Вот я написал «кроме смерти» и задумался — ее-то как раз я и сбросил со счетов. А ведь как-никак четыре живых существа, то есть четыре смертника: моя бедная мама, несчастный девственник Ваня, Таня на грани отчаяния, да и я не из бессмертных. В своих расчетах я смерть не учитывал, хоть и видел, что мы все ходим по острию, с которого любой из нас может в любую минуту сверзиться.
Что и произошло.
Тот наш разговор с Таней не был, естественно, последним. Время от времени я возвращался к проекту «жизни втроем», но так, чтобы Ваня об этом пока не знал, а там видно будет. Таня пыталась увести меня от этого сюжета, говоря, чтобы я за Ваню не беспокоился: он привык к тому, что она ему не дает, больше ее не домогается и время делит между охотой и поэзией. Допоздна сидит за письменным столом, а потом, когда она уже спит, ложится на самый краешек, чтобы ее не тревожить.
— Но это же ненормально! — вскричал я, хотя на самом деле думал в это время не о Ване, а о маме, которая совсем уж извелась без меня. Она, правда, ни в чем меня не попрекала, но лучше бы уж попрекала — на слово можно ответить словом, а чем ответить на молчание?
С другой стороны, я стал замечать, что Таня, хоть и младше меня на десять лет и, вполне возможно, досталась мне нетронутой, но в наших отношениях стала верховодить, заменяя мне в какой-то мере маму. Выражалось это по-разному.
Исчезли у меня в комнате барханы многолетней пыли, и дышать стало легче. На письменном столе воцарился небывалый порядок, и я теперь не тратил время на поиски исчезнувшей страницы или пузырька с клеем. Не только дышать, но и работать стало легче и веселее. Таня приносила цветы и что-нибудь вкусненькое, а раньше я ел всухомятку, и только когда приходил в гости к маме, обедал как следует: первое — второе — третье. Мама и то заметила, что я как-то посвежел и отъелся, только непохоже, чтобы ее это очень радовало. Да и в любви Таня, конечно, знала больше толку, чем я, — она была права. Даже в постели. Не могу сказать, что она была очень уж изощренна, но «угрюмый, тусклый огнь желанья» — это сказано именно о ней. Ничего подобного ни с кем не испытывал — даже с сокурсницей на фольклорной практике в Новгородщине. Говоря начистоту, Тане следовало немедленно расстаться с Ваней и выйти за меня замуж, а предварительно, чтобы покончить с двусмысленностями и ложью, нам надо было признаться во всем Ване, повиниться и объяснить, что иначе жить не можем. Думаю, даже мама бы меня поняла. Вместо этого я продолжал мучить Таню, маму, Ваню и себя, громоздя новые и новые препятствия и еще больше запутывая наши отношения.
И постоянно нудя Тане про жизнь втроем — это стал как бы рефрен нашего с ней романа.
И вот однажды, когда я уже этого больше не хотел, а болтал просто так, по инерции, она не выдержала и согласилась. Я так привык к тому, что она наотрез отказывается от промискуитетного варианта, что был просто потрясен ее согласием. Дело в том, что сама идея, чтобы Таня обслуживала одновременно меня и Ваню, пришла мне в голову задолго до того, как мы с Таней так душевно и житейски притерлись друг к дружке, и когда я первый раз предложил этот вариант, то заранее понимал, что она его отвергнет. А потом уже повторял свое предложение скорее по инерции — не то что в шутку, а чтобы Таню подразнить. А здесь она возьми да и согласись, поставив меня в совершенно идиотское положение. Что делать? Не отступать же! Чтобы она потом думала обо мне как о трепаче! Она и так ко мне изменилась, стала относиться чуточку снисходительно, как к недоразвитому. И мы стали всерьез обсуждать с ней, с чего начать и как лучше осуществить наш — точнее мой — замысел.
— Я ему сначала все расскажу, — сказала Таня, и мне показалось, что она меня слегка шантажирует, потому что хоть рассказ Ване и входил в мои смутные планы, но это должен был быть мой рассказ.
Зная ее упрямство, не стал ее отговаривать, только предупредил:
— Он не станет с тобой спать, если узнает.
— Ну и не надо, — отмахнулась Таня.
— Можешь сказать ему, что ты не девица, — нашел я компромиссное решение.
Таня довольно грубо расхохоталась. В последнее время она бывала со мной иногда резка.
— Давай прекратим на время встречаться. Я ведь понимаю, что тебе трудно так вот запросто перепрыгнуть от одного любовника к другому. Для этого потребуется время. И потом, ты привыкла уже к более-менее регулярным сношениям, а надо, чтобы ты изголодалась, — через неделю сама ему отдашься. И все придет в норму: ты будешь его женой и моей любовницей.
— Ты так во мне уверен?
Молчу.
— И ты меня нисколечко не ревнуешь? — спрашивает она тогда.
— Любовницу к мужу не ревнуют. Потому что любовник — это уже знак предпочтения. Наоборот, ревнуют жену к любовнику.
Как я тогда ошибался!
Для верняка решил уехать недели на две, договорившись с Таней, что она в мое отсутствие Ване про нас не расскажет. Взял командировку в Грузию. Как оказалось, последняя возможность: Союз скоро распался, а там и кавказские войны начались.
Мне бы купаться в грузинском гостеприимстве, а я места не находил. Первый раз в жизни испытывал дикие муки ревности. Воображал мою Таню за этим занятием с Ваней: как отдается ему, входит во вкус, предпочитая мне, — как-никак, на одиннадцать лет моложе, да и сексуальную энергию поднакопил за время своего девства, будь здоров!
Как не догадался сразу? Ведь это я — старый муж, от которого она ушла к молодому любовнику. Чувствовал себя как обворованный вор. Ненавидел их обоих, представляя, что Тане с ним лучше, чем со мной, — теперь уже никогда ко мне не вернется. Мысль, что потерял, терзала меня. Выстаивал длиннющие очереди к междугороднему телефону, но так и не решался и в последний момент заказывал разговор с мамой. Она ничему не удивлялась, хоть никогда раньше, уезжая, так часто ей не звонил. Я уже говорил: мама — умная, и что не понимает, о том догадывается. Жаль было немного, что она мне не сочувствует, а ведь знает, что страдаю. Я не в претензии, но есть, значит, и у материнской любви пределы.
Мои хозяева водили меня в рестораны, кормили, поили и развлекали, как могли, катали по Кахетии, Сванетии, Абхазии. Почти не спал эти дни.
Однажды душной ночью в Старой Гагре кинулся в море и плыл, плыл, плыл, плыл — покуда хватило сил: сам отдал, своими руками, из рук в руки! Повернул обратно, только когда выдохся, уверенный, что обратно не дотяну. Но море было ласковое, надежное, недвижное, волна чуть плескалась, я полежал минут пять на спине, пришло второе дыхание, и через полчаса был на берегу. И решил немедленно возвращаться в Москву.
Но на следующий день взял себя в руки и пробыл в Грузии от звонка до звонка. Дело тут вовсе не в выдержке, а наоборот — в нерешительности, в страхе.
Вернулся в Москву подавленный, в отчаянии, не зная, что предпринять, как жить дальше — бороться за Таню или нет? Позвонить им не решался, сам к телефону на всякий случай не подходил, хоть тот и разрывался, а потому узнал последним, уже после похорон: Ваня погиб на охоте, перезаряжая ружье. Вот тогда только я и позвонил к нему домой — сестра сказала, что Таня переехала в общежитие, откуда я ее в тот же день чуть не силой перевез к себе домой, а сам, чтоб не мозолить ей глаза, уехал к маме.
Приходил редко, ни о чем ее не расспрашивал и не приставал, надеясь, что Таня оценит мою деликатность. Она рассказала, что в первый же день во всем призналась Ване, а на следующий, рано утром, он уехал на охоту. Труп нашли через неделю — сердце не задето, прострелено левое легкое, по предположению врачей, умирал он долго и мучительно. Если бы помощь подоспела вовремя, его бы, несомненно, спасли. Было ли это самоубийство, сказать трудно.
Меня вдруг как осенило — а не случилось ли это с ним в то самое время, когда я совершал свой ночной заплыв в Старой Гагре? Словно Бог тогда взвешивал в нерешительности наши судьбы: кому из нас жить, а кому умереть?
У меня вертелся на языке вопрос, который я долго не решался ей задать. В общем, это уже было не так важно, я все равно решил на ней жениться, маме сообщил. Со стороны, если не знать подробностей, получалось вполне прилично, даже благородно: женитьба на вдове друга. Оставалось сказать это Тане.
К великому моему удивлению, она наотрез отказалась:
— Чего-то ты все-таки не понимаешь. Недоделанный какой-то. Словно в тебя забыли что вложить…
Вот тогда я и задал ей этот глупый и ненужный вопрос, заранее догадываясь о ее ответе:
— А той ночью, ну, когда ты ему все рассказала, он, конечно, спать с тобой не стал, да?
Мне трудно дался этот вопрос, я понимал всю его бестактность и неуместность. Но мне необходимо было услышать от нее подтверждение: и что она осталась мне верна, и что Ваня погиб девственником.
Зачем?
Не знаю.
Я ждал, а Таня глядела на меня не отрываясь, и я не мог понять и до сих пор не понимаю, что было в ее взгляде, что она в этот момент обо мне думала. Мне казалось, прошла вечность прежде, чем я услышал ее родной и чужой голос.
Лучше бы я его не слышал, лучше бы не задавал свой нелепый вопрос!..
— Ты хочешь знать, спала ли я с ним в ту ночь? — уточнила она. И махнула рукой: — Какое это теперь имеет значение?
— Для меня имеет, — настаивал я, неистово, дико ревнуя к мертвецу.
— А по-твоему, могло быть иначе? Ведь я для того ему все и рассказала… Да он и так все знал. Еще до того, как у нас с тобой началось. Ну, что я в тебя врезалась. Я его сама предупредила, когда замуж шла. А теперь он молча все выслушал, и дальше как-то само собой получилось. Мы оба плакали. Неужели не понимаешь? То, что я ему все рассказала, и было знаком нашей близости. Это было очень трудно: мне — рассказывать, а ему — слушать. Остальное легче…
Таня помолчала, а потом добавила:
— Как ему — не знаю. Мне было в ту ночь хорошо. Надеюсь, что и ему. Иначе бы он не застрелился.
— Ты думаешь, он застрелился?
Таня была в этом уверена, а я до сих пор нет. И почему, если хорошо, надо стреляться?
Мне без разницы, осудишь ты меня, прочтя эту исповедь, или посочувствуешь. А может, и позлорадствуешь — так, мол, ему и надо! Совета от тебя тоже не жду, хоть и остался у разбитого корыта. Не только в том смысле, что, придя как-то вечером, не застал моей угрюмой Немезиды — она уехала к себе в Псков. Хуже всего — я так ничего и не понял в том, что случилось. Пора признаться, я совсем не разбираюсь в других людях — ни в женщинах, ни в мужчинах. Кого знаю, так это себя. И немножко — маму.
Теперь понятно, Соловьев, почему я не женат?
Быть Борисом Слуцким Ржавый гвоздь
Увы, в кампании против Бориса Пастернака участвовали не только заведомые негодяи, но и такие достойные писатели, как Леонид Мартынов, Сергей Антонов, Илья Сельвинский, Виктор Шкловский, Николай Тихонов. Давид Яковлевич Дар рассказывал мне, как валялся в ногах у своей жены, уговаривая ее не выступать против Пастернака, но Вера Федоровна Панова выполнила свой партийный долг. Тем не менее пеняли за антипастернаковское выступление одному только человеку — Борису Слуцкому: настолько неожиданным в этом писательском хоре прозвучал его голос. Причем пеняли вовсе не те, чья мораль выше, а кто не стоял тогда перед подобным выбором либо оказался увертливей.
— Борис, будь осторожен, — успел ему шепнуть Женя Евтушенко, уверенный, что Слуцкий идет защищать Пастернака.
— Не беспокойся, все акценты будут расставлены правильно, — твердо ответил ему Слуцкий.
Насколько точно передает мемуарист обмен репликами? Врет, как очевидец, не помню кто сказал. Вспомним «Расёмон» с тремя версиями события и четвертой — мертвеца. У нас нет возможности вызвать с того света Бориса Слуцкого в качестве свидетеля. А если была бы? В фильме Куросавы даже мертвец лжет.
Ни до, ни после Слуцкий не совершил ни одного нечистоплотного поступка. Он так бы и остался в истории нашей литературы гражданской целкой, если бы не то злополучное выступление. «Вы приговорили себя к гражданской смерти», — высокопарно заявил ему Яша Виньковецкий. Близкий друг Ариадна Эфрон отвергла его запоздалое раскаяние, хотя оно последовало не три десятилетия спустя, когда раскаяния вошли в моду, а спустя несколько дней после собрания в Доме кино. Спустя много лет Женя Рейн написал по этому поводу со свойственной ему высокопарностью:
Под залпы крови и судьбы, под звуки боевой трубы прошел он гордо на трибуну, где все сломал за пять минут…Участие в тогдашней травле Пастернака для одних было нормой поведения, для других отклонением от нормы, но только для Слуцкого это было глубочайшим нравственным падением, и он сам это сознавал. Сын Пастернака, Евгений Борисович, убежден, что отец простил бы Слуцкого, приди тот с повинной. Потому хотя бы, что был христианином и знал, что такое травля, а Слуцкого теперь травили, как травили прежде Пастернака. С той только разницей, что травля Пастернака с его смертью кончилась, а травля Слуцкого длится по сю пору, камни летят в его могилу. С повинной к Пастернаку он не явился, ибо сам казнил себя за грехопадение. Некоторые даже считают, что его помешательство на старости лет было болезнью совести, хотя есть, конечно, иные причины: главная — смерть Тани, его жены, и побочные, связанные с его собственными, еще с военных времен, хворями (контузия, ранение, осколок в спине, последствия простуды на войне лобных пазух и неудачной операции).
Я познакомился с ним ранней весной 1969 года в Коктебеле, когда страсти вокруг Пастернака уже улеглись, а раздружился восемь лет спустя, за несколько месяцев до моего отвала и его болезни: он зашел в гости и, открыв изданный в Нью-Йорке том Бродского, прочел в предисловии дурной о себе отзыв. Обиду на автора — Анатолия Наймана, который, по его словам, еще прежде поссорил его с Ахматовой, — Слуцкий перенес на горевестника, то есть на меня.
К слову сказать, только злобой или глупостью можно объяснить замечание малограмотного эрудита Наймана о неграмотности Асеева, Слуцкого и Сосноры. Что касается Слуцкого, то он, безусловно, был самым образованным из современных русских поэтов: ходячая энциклопедия, Паганель, человек-книга. Не просто книго-, а быстрочей. Он рассказывал, что после войны работал в контрразведке и где-то, кажется в Румынии, ему пришлось разбирать библиотеку с многочисленными иммигрантскими изданиями:
— Набокова и Ходасевича я прочел, когда вы даже их имен не слышали.
Мы прогуливались по набережной в Коктебеле и загадывали друг другу стиховые загадки. Не было случая, чтобы по одной строчке Слуцкий не узнал автора, тогда как его цитаты отгадывал редко кто, хотя среди нас, помимо профессионального критика, было несколько поэтов (Володя Корнилов, Женя Евтушенко, Олег Чухонцев). Плюс, конечно, мировая история, которую Слуцкий, с его склонностью к историзму, знал ничуть не хуже мировой поэзии. Заодно Слуцкий обиделся и на Бродского, хотя я и предположил, что Ося мог не знать о содержании предисловия к «Остановке в пустыне».
— Должен был знать, — отчеканил Слуцкий уже на пороге, прощаясь.
Что касается Ахматовой, то знакомство Слуцкого с ней прекратилось после его реплики: мол, Ахматова весь свой тираж могла увезти на извозчике. Злослов и сплетник Найман, состоявший тогда при Ахматовой в пажах, тут же доложил ей о неуважительной реплике, на что Ахматова остроумно отреагировала:
— Я никогда не возила сама своих тиражей.
А тогда в Коктебеле, со свойственной молодости бестактностью, я без обиняков спросил Слуцкого о его антипастернаковской диатрибе. Он ничего не ответил, мы шли некоторое время молча по набережной. Я решил, что он не расслышал вопроса и, устыдившись, повторять не стал. Но Слуцкий вдруг остановился и прочел мне стихотворение, которое нигде напечатано еще не было, а спустя несколько дней, когда я дал ему на подпись его десятилетней давности сборник «Время», вписал в качестве автографа:
Старух было много, стариков было мало. То, что гнуло старух, — стариков ломало.Пусть это был не прямой ответ на мой вопрос. Скорее, о последствиях его выступления — не для Пастернака, а для самого Слуцкого. Я догадывался об этом и прежде, но, услышав этот стишок, понял с какой-то особой остротой, как дорого обходится малодушие честному, мужественному человеку. Героические поступки совершаются иногда из инстинкта самосохранения: чтобы не платить еще дороже. Слуцкий был единственным из тех, кого выступление против Пастернака сломало.
Frangas, non f ectes — сломишь, но не согнешь. А Сервантес считал, что быть сломленным легче, чем сгибаться.
Не знаю.
Еще я понял, что Слуцкий — человек, которому можно довериться: так дорого он заплатил за свое малодушие, что до конца своих дней будет честен и смел. Каждому человеку положена определенная мера трусости или подлости — Слуцкий свою норму выполнил, использовал свою квоту до конца. Когда Володя Корнилов сказал мне, что я не знал настоящего Слуцкого, каким он был до своей речи о Пастернаке, я ответил, что согрешившему и раскаявшемуся верю больше, чем девственнику. Известно: за одного битого двух небитых дают.
Это не апология предательства и не оправдание зла, но какой смысл предъявлять счет человеку, когда он уже заплатил по нему по доброй воле. Тем более тому, кого собственный поступок сломал, но не сломил. Есть разница между поступком и поведением — первый может быть случаен, во втором проглядывает линия судьбы.
Единичный этот поступок, омрачивший и заслонивший поэтическую судьбу Слуцкого, был вызван не карьерными соображениями и даже не страхом, но тем, что его друзья называли «субординационным мышлением». На том печальной памяти собрании в Доме кино Слуцкий выступал именно как государственник, хотя его выступление против Пастернака оказалось на поверку выступлением против Слуцкого, коли многие при его имени вспоминают прежде всего то выступление, а не его стихи. Довольно точно о «государственности» Слуцкого сказал его друг-враг Дэзик Самойлов: «Поэт государственный по заданию, но не признанный государством, готовый служить, но не ставший прислуживать, он формировался поэтом гражданским в самом лучшем варианте этого понятия».
Наум Коржавин сочинил неостроумную и по сути неверную пародию на комиссарство Слуцкого:
Он комиссаром быть рожден. И, облечая разум властью, Людские толпы гнал бы он К не понятому ими счастью. Но получилось все не так — Иная жизнь, иные нормы. И комиссарит он в стихах Над содержанием и формой.Еще резче высказался об этом Андрей Сергеев в дюжине, под Хармса, злых анекдотов о Слуцком. Вот один из них.
На просьбу Сталина принести ему личное дело Слуцкого Ягода возвращается с подозрительно тонкой папкой, в которой всего один лист:
«Когда умер Блок, Слуцкий сказал свою первую надгробную речь. Когда умер Некрасов, Слуцкий шел в первых рядах траурной процессии. Когда умер Пушкин, Слуцкий был распорядителем церемонии. Когда умер Рылеев, Слуцкий держал веревку».Палачом Слуцкий никогда, конечно, не был, но комиссарские нотки нет-нет да проскальзывали в его речи. Зашла речь об одном литераторе, который подозревался в связях с гэбухой; Слуцкий предложил снять его с довольствия, то есть лишить заказов на переводы, а те были главной кормушкой поэтов. В том же Коктебеле я был приглашен на судилище, которое устроили Слуцкий и Евтушенко над журналисткой, которая что-то не так написала об их товарище-поэте. Скорее всего, была неправа или поверхностна. Но все было устроено на полном серьезе: поэты — в качестве обвинителей, критик — адвокат. До сих пор стыдно, что я недостаточно защищал провинившуюся журналистку, и она в ту же ночь, не дожидаясь окончания срока путевки, покинула вместе с мужем (журналистом Симой Соловейчиком) Коктебель.
Среди множества историй, рассказывать которые Слуцкий был мастак, одна военная была про женщину — та встречалась с двумя офицерами, обоих заразила сифилисом, узнав, что у них общий источник любви и болезни, они вызвали ее на свидание и в упор расстреляли. Никого не осуждая, Борис Абрамович рассказывал эту историю как назидательную. Уверен, среди расстрельщиков Слуцкого не было.
Его комиссарство было, конечно, напускное. Он и сам догадывался о неуместности комиссарских замашек в мирные и относительно либеральные времена, а потому часто сдабривал, заземлял их юмором. Вот, например, открытка, которую я получил летом 1973 года из Коктебеля в ответ на сообщение о моем переезде:
Дорогой Володя!
Спасибо за письмо, ларь (?), а также директивное указание о перемене адреса. Если поставят телефон — сообщите дополнительно. Если поставят телеграф — сообщите срочно. Не далее как вчера (14.6), плавая вокруг буйка (в Черном море), мы с А. Кушнером обсуждали Ваши недостатки и решили временно допустить Ваше функционирование в литературе.
Я пишу стишки — часто и публикую циклики — довольно редко. Таня лечится. Почтительный поклон Клепиковой и развязный — Жеке.
Ваш
Борис Слуцкий
Когда я всячески агитировал его за скушнера, которого тогда мало кто знал за пределами Ленинграда, он сказал мне, коверкая его фамилию на французский лад:
— Зачем нам ваш Кушнéр, когда у нас есть свой Самойлов.
Однако и к Самойлову, который боготворил Слуцкого еще с довоенных времен, относился с усмешкой и посвятил ему злую эпиграмму:
Широко известный в узких кругах,
Маленький, как Великое Герцогство Люксембургское…
Слово «маленький» относилось, понятно, не только к росту Дэзика.
«Побежденному ученику от победившего учителя» — надписал Слуцкий свою фотографию и подарил Самойлову. В конце концов, они разбежались окончательно.
— Мы с тобой были соседями по камере, а теперь дверь открылась. Не путайся больше у меня под ногами, — изрек на прощание Слуцкий.
Так рассказывал мне этот эпизод Межиров, бывший свидетелем.
Самойлов не остался в долгу и бросил немало злых слов в адрес поверженного идола — вплоть до «фельдфебельской верности» Слуцкого. Но он же — отдам ему должное — по инерции прежней любви к учителю и ментору, оставил довольно тонкие заметы о стихах Слуцкого, обнаружив, в частности, что главная их эмоция — жалость: к детям, лошадям, девушкам, вдовам, солдатам, писарям, даже к пленному врагу, которого Слуцкий заставляет себя не жалеть и все равно жалеет. И прозаизацию Слуцким стиха объясняет по противоположности — для сокрытия сентиментального содержания: «Жалостливость почти бабья сочетается с внешней угловатостью и резкостью строки. Сломы. Сломы внутренние и стиховые. Боязнь обнажить ранимое нутро. Волевое усилие формы для прикрытия содержания. Гипс на ране — вот поэтика Слуцкого».
Комиссар Слуцкий был самым добрым человеком, с которым меня свела судьба. Со слов Лены знаю, как он ее «пас», когда она была одна с Жекой в Коктебеле и к ней вязалась всякая шваль — не только с донжуанскими намерениями. Одну свою книгу он назвал «Доброта дня» — наперекор «злобе дня», которая определила окрас его времени. Критик Никита Елисеев даже ахматовскую отрицательную характеристику стихов Слуцкого — «жестяные стихи» — метафорически выводит в «добрый» ряд: «жесть — мягкий металл. Самый человечный, если так можно выразиться, металл. Не жестокая сталь, не тяжелый чугун, но приспособленная для быта жесть, которую можно пробить столовым ножом».
Можно как угодно относиться к прозе Слуцкого — как к свидетельству современника, как к документу эпохи, как к едкой и точной прозе, как к прозе прозы, тогда как его стихи — это поэзия прозы, но что в ней несомненно — это нерастраченная жалость прежде всего к женскому персоналу войны: к солдаткам, связисткам, санитаркам, медсестрам, к изнасилованным советскими солдатами европеянкам; впрочем, и к особям мужеского пола, включая даже пленных немцев, которых он пытается спасти от расстрела югославскими партизанами, но, увы, только оттягивает казнь на пару часов.
Николай Ушаков как-то обмолвился, что поэты спорят друг с другом — часто через столетия. Случаются поэтические споры более близко соотнесенные. Скажем, знаменитый спор об «угле» и «овале» Наума Коржавина с Павлом Коганом. Есть споры менее известные — к ним относится один такой спор, в котором участвовали Михаил Светлов, Борис Слуцкий и Давид Самойлов.
В 1943 году Михаил Светлов написал романтическое стихотворение «Итальянец» — с обращением советского солдата к убитому им итальянскому солдату:
…Я стреляю — и нет справедливости Справедливее пули моей! Никогда ты здесь не жил и не был!.. Но разбросано в снежных полях Итальянское синее небо, Застекленное в мертвых глазах…Полтора десятилетия спустя под тем же названием — «Итальянец» появилось стихотворение Слуцкого. В нем сюжет уже иной: израненного и обмороженного итальянца советские солдаты «из сердобольности душевной кормили кашею трехразовою», но кончается стихотворение публицистическим обращением, пафос которого оправдан своим временем, как пафос Светлова — своим:
Мы требуем немного — памяти. Пускай запомнят итальянцы И чтоб французы не забыли, Как умирали новобранцы, Как ветеранов хоронили, Пока по танковому следу Они пришли в свою победу.У Слуцкого со Светловым совпадение в стиховом выводе, полемика — в посыле: контрастному романтическому трагизму противопоставлен реальный драматизм военной ситуации.
А вот как решает итальянскую тему Давид Самойлов. Биография его «итальянца» начисто опущена, важнее любых био для Самойлова судьба человека — не анкетные данные, а исторические ориентиры положения человека в мире. Впрочем, анкетный вопрос Самойловым предусмотрен, и ответ на него дан полемический — с некоторым даже вызовом — во всяком случае, задором:
— Кто такой? — Да никто. Человек. — Щекотнул папиросный дымок. Итальянец и сам бы не мог Дать ответ на вопрос откровенный, Он — никто: ни военный, ни пленный, Ни гражданский. Нездешний. Никто.К сожалению, у Слуцкого не было обыкновения ставить под своими стихами даты их написания. Поэтому мне неизвестно, чей «итальянец» был написан раньше — Слуцкого или Самойлова, хотя оба, несомненно, писались в полемике с военной романтикой Светлова. В любом, однако, случае перед нами классическая триада, где стихи Светлова и Слуцкого — это теза и антитеза, зато у Самойлова, с его склонностью к гармонии и сглаживанию («снятию») противоречий — синтез:
Человечек сидит у обочины, Настороженный, робкий, всклокоченный. Дремлет. Ежится. Думает. Ждет. Скоро ль кончится эта Вторая Мировая война? Не сгорая, Над Берлином бушует закат. Канонада то громче, то глуше… — Матерь Божья, спаси наши души, Матерь Божья, помилуй солдат.Кажется, это первый случай в советской поэзии о Второй мировой войне — молитва за солдата, не за советского, а за любого, за солдата вообще, врага, друга: за человека. Думаю, публикацию этих строчек в 1958 году можно объяснить только оплошностью цензуры.
Когда я сообщил Слуцкому, что публикую в «Юности» статью о военных поэтах, где есть глава и о нем, он поинтересовался, кто там еще. Я перечислил: Гудзенко, Межиров и Окуджава.
— Повезло им.
— В чем?
— В хорошую компанию попали.
Спустя несколько лет я возвратился к «военной обойме» и сочинил аналогичную статью для «Невы», изменив немного состав участников: Межиров, Слуцкий, Самойлов. Рахиль Исааковна Файнберг, заведующая отделом критики, взмолилась: «Ну хоть одного русского!» Я пытался было спорить, доказывая, что уже есть Межиров, но она сомневалась в его русскости (как здесь сомневаются в его еврейскости) и предложила на выбор одного из «Сергеев»: Наровчатова или Орлова. Я выбрал последнего по земляческому принципу (мы с ним питерцы), но Слуцкий убежден был, что я ошибся.
Субординационист, он любил составлять иерархические списки поэтов: номер первый, номер второй, номер третий, первая пятерка, вторая пятерка и так далее. Вежливо выслушивал поправки и предложения, но списки свои считал истиной в последней инстанции.
Даже шутки у него были субординационные. Когда я собрался в Симферополь, часах в трех от Коктебеля, встречать в аэропорту Лену Клепикову (после одной неудачной встречи ее в Феодосии, когда она сошла на станции Айвазовская), Слуцкий выразил недовольство:
— Что же получается? Если вы едете в Симферополь, то я должен лететь в Москву, чтобы встретить Таню в Шереметьево.
До приезда в Коктебель Лены Клепиковой он сватал мне художницу Клару и очень удивился, что я предпочел для одноразовых сношений другую женщину. В человеческом отношении он был, несомненно, прав, но, как говорится, х*ю не прикажешь. Вариант Саши Черного: для души и для тела.
Мы жили в одном корпусе — он на втором этаже, я на первом. Рано утром он подходил к балкону и заводил разговоры о женщинах:
— А вы могли бы, Володя, познакомиться с женщиной на улице и в тот же день переспать с ней?
Я честно ответил, что в моем опыте такого не было.
Сам он тоже вовсе не был таким, каким хотел казаться — экспертом по случайным знакомствам, что даже мог бы, по его словам, вести семинар на тему уличных случек. На самом деле, скорее застенчивый, чем самоуверенный. В дневниковых рассказах о поведении советских солдат на оккупированных территориях у него вдруг прорывается затаенное:
«Меня всегда потрясала, сбивала с толку дезориентировала легкость, позорная легкость любовных отношений. Порядочные женщины, безусловно бескорыстные, походили на проституток — торопливой доступностью, стремлением избежать промежуточные этапы, неинтересом к мотивам, толкающим мужчину на сближение с ними».
Володя Корнилов рассказывал мне байку, как стучится в номер Лили Брик, а дверь открывает Слуцкий, на ходу застегивая ширинку.
— Ну, ты же понимаешь — он был великий поэт, — говорит он в свое оправдание.
Еще он пытал меня как-то об отношениях с Юнной Мориц, которую не любил, виня ее — как и другие поэты военного поколения — в смерти ее мужа Леона Тоома, а тот выпал из окна их квартиры на Калининском проспекте, когда они там были вдвоем с Феликсом Дектором, отцом Иры, будущей жены Юза Алешковского, и разбился насмерть.
— Неужели вы с ней спите? — И не дождавшись ответа: — Дружбы с ней тоже не понимаю.
Хорошей школы, но средней руки художник Аксельрод устроил у себя в комнате итоговую выставку за два коктебельских весенних срока: пейзажи, натюрморты, портреты — в том числе непохожий п-т Лены Клепиковой. Перед вернисажем Слуцкий отвел меня в сторону и просил не высказываться, если мне не понравится, чтобы не обижать старика. Что я и сделал.
Знакомя меня в Коктебеле с Баклановым:
— Гриша — хороший парень, но безвкусный.
— Почему? — обижается Бакланов.
— Ну, знаешь, выбрать такой псевдоним — безвкусица. Евреи, вообще, не умеют выбирать псевдонимы. У них нет вкуса к псевдонимам. Потому что хотят быть больше русскими, чем русские. Ну, какой ты, Гриша, Бакланов? Для сравнения: Ленин, Сталин, Молотов, Горький…
— Троцкий, — добавил я.
— Это случайный псевдоним. Он взял фамилию тюремного охранника. А знаете, что архитектора Ноя Абрамовича Троцкого попрекали родством, и он всем доказывал, что это его настоящая фамилия, в то время как всякие Бронштейны — несть им числа, включая гроссмейстера, — никак не пострадали, опровергая известное предсказание: что отдуваться за Троцкого придется Бронштейнам.
Несмотря на то что часть автографов на подаренных книгах выдрали на таможне, когда я уезжал из России, многие все-таки сохранились. За исключением Слуцкого, все на редкость серьезны:
Дорогому Володе Соловьеву — тонкому, умному, талантливому — с пожеланием воплотить все эти качества в деле.
Евг. Евтушенко
Володе и Лене — с нежностью, с любовью, с мясом и с кровью.
Юнна Мориц
Лене и Володе, в надежде на Женю — в мыслях о том, где мы? — уже не в Ленинграде и наверняка не в Голландии — по-видимому, в Москве. Итак, дружески — Андрей Битов
Дорогим друзьям Володе и Лене, без которых не представляю своей жизни.
С любовью. А. Кушнер
По контрасту — иронические автографы Слуцкого нам с Леной и Жекой, нашим сыном, к которому бездетный Борис Абрамович прикипел душой, таскал на плечах, помногу разговаривал, относился с какой-то нерастраченной нежностью:
Дорогой Лене,
дорогому Жеке,
дорогому Володе
от дорогого Бори
Владимиру Соловьеву
от объекта его исследований
Борис Слуцкий
Прекрасной Лене
от прекрасного Б. Слуцкого
Лене и Володе
от субъекта, изображенного на обложке от объекта исследований
Борис Слуцкий
Слава к нему пришла еще до того, как вышла его первая книга, — сразу же после статьи Ильи Эренбурга о его неопубликованных стихах. Статья была опубликована летом 56-го в «Литературке» и вызвала литературный скандал. Что тому причиной — необычный, жесткий, антипоэтический стих самого Слуцкого либо репутация его покровителя? Что бы Эренбург в то время ни говорил, все вызывало протест, даже когда речь шла о Франсуа Вийоне или Стендале. Спустя год вышла первая книга Слуцкого «Память» — автору было под сорок, печататься в периодике он начал еще до войны, потом последовало гробовое молчание длиной в полтора десятилетия. Не знаю ни одного стихотворного сборника, который бы имел такое значение в судьбе русской поэзии, как этот, — ни «Треугольная груша» Андрея Вознесенского, ни «Веселый барабанщик» Булата Окуджавы, ни «Струна» Беллы Ахмадулиной. О войне в этой книге было сказано с такой простотой и силой, как ни у кого до Слуцкого. Я охотился за этой книгой в магазинах, а упустив, решился на покражу в библиотеке им. Скворцова-Степанова на Измайловском проспекте в Ленинграде. Недели три ходил, а когда убедился, что она стоит невостребованной на библиотечной полке, с чистой совестью увел ее во внутреннем кармане пиджака.
Случай в моей жизни редчайший, если не единственный.
Сам Слуцкий — много лет спустя, глядя на себя со стороны — сочинил эпиграмматический стишок «О книге „Память“»:
Как грибник, свои я знал места. Собственную жилу промывал. Личный штамп имел. Свое клеймо. Собственного почерка письмо.Даря мне книжку с этим стихотворением, вычеркнул последнюю строку и поверх вписал новую, точнее, восстановил старую: «Ежели дерьмо — мое дерьмо». В самом деле, даже шлак, которого при таком стиховом процессе, как у Слуцкого, оказывалось неизбежно много, легко узнаваем: плохие стихи Слуцкого не спутаешь с плохими стихами других поэтов.
Тем более — хорошие.
Позволю себе хронологический перескок — от запоздалого литературного дебюта Слуцкого к его посмертной судьбе. Мы все, конечно, знали, что из печатающихся поэтов ни у кого нет столько ненапечатанных стихов, как у Слуцкого, — сам он насчитывал восемьдесят процентов («Пишу стишки — часто, и публикую циклики — довольно редко»), причем в печать попадал в основном третий, в лучшем случае — второй сорт: по его собственным словам, поэтическая норма у него — четыре тысячи строк, в печать отдает полторы тысячи, берут семьсот. Гудзенковский «критерий печатного станка» на Слуцком не срабатывал, советский Гутенберг к нему явно не благоволил. Противоположной крайностью, как я уже говорил, был Саша скушнер: к середине 70-х у него был только один неизданный стишок, который он с боязливой опаской читал в узких кругах (дневники, которые он будто бы вел по совету Л. Я. Гинзбург, — и вовсе постсоветская байка закоренелого совка). Поэтому, когда в узком кругу спонтанно возникали чтения недозволенной поэзии, выступления Слуцкого всегда были самыми длинными, а скушнеровские — самыми короткими.
Так вот, хотя мы знали, что Слуцкий пишет «в стол», никто все-таки не подозревал, что у него в закромах скопилось столько не увидевших свет стихов — в период гласности журналы были буквально завалены его посмертными публикациями, пока верный его оруженососец, архивист и душеприказчик Юра Болдырев не выпустил его трехтомник, и стало ясно, поэтом какого масштаба был Борис Слуцкий. Межиров, правда, утверждает, что этот трехтомник не объял и половины литнаследства Слуцкого. Юра же Болдырев, который посещал Слуцкого в психушке, рассказывал, как тот пытался нацарапать карандашом пару стиховых строчек и приходил в отчаяние: ничего не выходило. Его поэтический дар пропал вчистую. Слуцкий был в полном сознании и здравой памяти, но в глубочайшей депрессии. Умер он в Туле у брата Ефима 23 февраля 1986 года. Единственный слуцковед Юра Болдырев ненадолго его пережил и похоронен рядом, в одной ограде.
Кстати, и Болдырева и Клепикову Борис Абрамович хотел протащить в Союз писателей: «А то всё евреи да евреи…» Это напоминает мне наоборотную историю, когда я уламывал в Питере завсекцией критики Костелянца помочь Сане Лурье, тогда автору нескольких статей, попасть в Союз писателей, на что Борис Осипович резонно возразил:
— Только на том основании, что он еврей?
Слуцкий вошел в поэзию в период хрущевской оттепели, а умер, когда наступила горбачевская гласность. И когда советские журналы стали посмертно печатать его старые, прежде запретные стихи, мертвый Слуцкий оказался вдруг более современным и злободневным, чем суетливые стихоплеты, штамповавшие вирши на потребу дня, а то еще, для пущей убедительности, выдававшие их за старые, задним числом ставившие под ними даты времен застоя — фальшак шел потоком. А Слуцкий почти никогда под своими стихами дат не ставил — ни настоящих, ни тем более фиктивных. То ли потому, что год для него — слишком мелкая мера времени, которое он мыслил более монументальными и законченными кусками — лихое сталинское десятилетие от коллективизации до начала войны, четыре года войны, послевоенное средневековье, оттепель, застой… А может, причиной этого пренебрежения хронологией была, напротив, верность Слуцкого Хроносу, убежденность, что куда важнее время, которому стих посвящен, чем когда он написан? Именно так — по исторической канве — расположил Юра Болдырев стихи Слуцкого в экспериментальном сборнике «Я историю излагаю…» — получилась летопись современности. Уверен, что ни с одним другим поэтом этот фокус бы не прошел.
Пастернак в «Высокой болезни» ссылается на Гегеля, хотя на самом деле эта мысль принадлежит Шлегелю (сознательная ложная атрибуция — братья Шлегели были под запретом, а Гегель как-никак предтеча марксизма): «Однажды… ненароком и, вероятно, наугад назвал историка пророком, предсказывающим назад». А уж мы-то тем более знаем: для того, чтобы сказать правду о прошлом, нужен был ничуть не меньший талант, чем для того, чтобы угадать будущее. И уж точно: больше мужества. Как трудно заметить в быстро или, наоборот, медленно текущих водах нашей жизни тавро века, дыхание истории. Слуцкий был наделен именно таким историческим зрением. Поэт, который не ставил под стихами дат, зато выбирал для своих книг названия, напрямую связанные с Временем: «Память», «Время», «Сегодня и вчера», снова «Память», «Сроки», «Годовая стрелка».
Вот ведь, часы Слуцкого показывали не часы, а годы!
После мандельштамовского «Мы живем, под собою не чуя страны…» стихи Слуцкого о Сталине — лучшие в русской поэзии. Большинство из них так и не были опубликованы при жизни поэта, но вот одно, которое чудом проскочило. Привожу тем не менее по памяти самиздатный вариант, а не грамматически выправленный печатный:
Мы все ходили под богом, У бога под самым боком. Он жил не в небесной дали, Его иногда видали Живого. На мавзолее. Он был умнее, злее Того — иного, другого, Которого он низринул, Извел, перевел на уголь, А после из бездны вынул И дал ему хлеб и угол. Мы все ходили под богом, У бога под самым боком. Однажды я шел Арбатом. Бог ехал в пяти машинах. От страха почти горбата, Угрюмо жалась охрана В своих пальтишках мышиных. Было поздно и рано. Серело. Брезжило утро. Бог глянул жестоко. Мудро Своим всевидящим оком, Всепроницающим взглядом. Мы все ходили под богом. И даже стояли рядом.Вот еще одно стихотворение о той эпохе — ему пофартило меньше, при жизни Слуцкого оно напечатано не было:
А нам, евреям, повезло. Не прячась под фальшивым флагом, На нас без маски лезло зло, Оно не притворялось благом. Еще не начинались споры В торжественно глухой стране, А мы, припертые к стене, В ней точку обрели опоры.Хотя в анкетном смысле Слуцкий был чистокровный еврей, ощущал он себя в одинаковой степени и русским, и евреем, в этом не было противоречия или надрыва, ему не требовалось перехода в православие, чтобы перекинуть мостик над бездной. Потому что бездны для него здесь не было. Ему претили любые формы национализма, не было нужды отказываться от еврейства ради русскости, или, наоборот, оба чувства присущи ему естественно, изначально. Он их, однако, различал: русскость была принадлежностью к истории, еврейство — отметиной происхождения, типа родимого пятна. И оба относились не к паспортной графе, а к судьбе, для которой графы еще не придумано. Если бы этому очень русскому и очень народному поэту сообщили вдруг, что на самом деле он еще и русского происхождения, он бы почувствовал себя обедненным — скорее, однако, как поэт, чем как человек. Почти то же самое, как если бы отъявленный, зоологический юдоед узнал, что у него в роду есть евреи. Только в данном случае — повторяю — речь о Слуцком-поэте. Именно как еврей он так остро ощущал свою связь с русским народом:
А я не отвернулся от народа, С которым вместе голодал и стыл, Ругал похлебку, осуждал погоду, Хвалил далекий, словно звезды, тыл. Когда годами делишь котелок И вытираешь, а не моешь ложку, — Не помнишь про обиды. Я бы мог. А вот не вспомню. Разве так, немножко. Не льстить ему. Не ползать перед ним. Я — часть его. Он больше, а не выше.Связь между поэтом и читателем всегда драматична — у Слуцкого больше, чем у других. Нет пророка в своем отечестве — всеобщая популярность сопровождала скорее общедоступный и псевдонародный стих Евтушенко, чем народную по сути поэзию Слуцкого, которая при его жизни имела квалифицированную, но все же весьма ограниченную по советским масштабам аудиторию. То, что он написал про Дэзика Самойлова, применимо, увы, к нему самому: широко известный в узких кругах. Кстати, именно так написал в краткой биосправке Слуцкого один его зоил, а Слуцкий развернул в эпиграмму на Самойлова. А может, и на самого себя?
Понятно поэтому его обращение: «Побудь с моими стихами, постой хоть час со мною. Дай мне твое дыхание почувствовать за спиною». И адресовано это обращение не другу и даже не женщине. (У Слуцкого вообще не было любовной лирики вплоть до смерти Тани, когда он, по его словам, «написал двести стихотворений и сошел с ума»; эти его последние стихи некрофильски окрашены, к ним в качестве эпиграфа подошло бы пушкинское «Явись, возлюбленная тень…».) Любовное обращение Слуцкого — к народу. Слуцкий был кровно заинтересован в читателе, конкретно — в народном читателе, герое своих стихов, который — вот парадокс! — любил совсем иную поэзию: предпочтительно не о себе, а если уж о себе, то в каком-то преображенном, песенно-сказочном ладе. Массовый читатель предпочитал тогда сентиментальную гладкопись, а стих Слуцкого был ершист, неотесан и груб, как сама реальность. Своей поэтикой Слуцкий вызвал на себя огонь критики — понадобилось по крайней мере десятилетие, чтобы его стихи были ею приняты. Но критика — какая ни есть — это все-таки передовой, элитный отряд читательской массы, к которой стих Слуцкого так и не пробился, несмотря на всю его народность. В письме ко мне Митя Сухарев, сам поэт, сравнил стихи Слуцкого с музыкой Мусоргского — то же сочетание народности и новаторства (вплоть до темы «народ и власть» в «Борисе Годунове» и «Хованщине»), — которая не была понята современниками (Направник, к примеру, ставил ему палки в колеса), а только в следующем столетии. То же со Слуцким: именно народность явилась главным препятствием на пути поэзии Слуцкого к народу. Схожий парадокс случился позднее с «деревенской» прозой, которую сельский житель читать конечно же не стал, в лучшем случае отдавая предпочтение чтиву типа Юлиана Семенова или Валентина Пикуля, а в худшем — не беря книг в руки вовсе. Если перевести это в изобразительный ряд, то получим олеографию с парочкой серебристых лебедей над кроватью и шеренгу мал мала меньше слоников на комоде.
О вкусах не спорят, менее всего я хотел бы быть понятым в назидательном плане. К тому же лебеди и слоники покрылись со временем эстетической патиной, на них нашлись любители-зоофилы. Слуцкого, однако, можно понять — он палец о палец не ударил, чтобы понравиться читателю, которого сделал своим героем, не отступил ради его любви от своей программы ни на йоту. Поэтическая независимость далась ему нелегко. Он уже принес вполне сознательную жертву, освободив стих от классических обязательств, а заодно и от лирических признаний — стал военным писарем эпохи, беспристрастным Нестором, суровым фактографом своего века. Пожертвовав главным, Слуцкий не уступал в мелочах. Потрафлять читателю ему было не с руки.
Слуцкий первым вступил в борьбу со сталинским неоклассицизмом в поэзии и с привыкшим к нему читателем. То есть с читателем, который уже отвергал Лебедева-Кумача, но все еще любил Маршака. Отталкиваясь от официальной поэтики, от благостной гладкописи, от бодряческого патриотизма, Слуцкий спорил с философией, за ними стоящей. Эта философия воспринималась им серьезно, так как обладала более убедительными доказательствами, чем стихи, взошедшие на ее почве. Идеалистическому толкованию действительности Борис Слуцкий противопоставил саму действительность: «Если увижу — опишу то, что вижу, так, как вижу. То, что не увижу, опущу. Домалевыванья ненавижу». Это — теоретическое высказывание из цикла, который Слуцкий сочинял до самого конца и который можно было бы обозначить вслед за Гёте: поэзия и правда. В бытовом плане эта антитеза наиболее четко выражена в антиклассической — и одновременно антизощенковской — «Бане», которая давно уже стала советской классикой:
Там ордена сдают вахтерам, Зато приносят в мыльный зал Рубцы и шрамы — те, которым Я лично больше б доверял. …Там по рисунку каждой травмы Читаю каждый вторник я Без лести и обмана драмы Или романы без вранья.В статье «О том, что такое слово» Гоголь писал: «Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними: иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят».
В основе поэтической системы Слуцкого лежат именно эти общие места, к которым он прокладывает путь заново, сверяя их с конкретными фактами, заземляя высокие слова, мотивируя их низкой прозой, разговорной интонацией, бытовой окраской. Сдвиг, произведенный Слуцким в русском стихе, — бытовой. Он первым заговорил о трагическом в будничном — через будничное, в будничной интонации и будничными словами.
Я высоко ценю его едкие, точные и честные мемуарные заметки, но скорее как документ эпохи, чем настоящую прозу. Настоящей прозой его наблюдения становятся только в поэзии, а так — подмалевок к его собственным стихам. Надеюсь, мои слова звучат не чересчур оксюморонно. Сама реальность искусства — больший оксюморон, чем все, что можно о нем сказать.
В поэзии Слуцкий — «передвижник», и хотя «передвижнической школы» не создал, но его влияние на русский стих в целом и конкретно на таких разных поэтов, как Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Владимир Высоцкий, Евгений Рейн, Станислав Куняев, несомненно.
Последний, став русофилом, отмежевался от Слуцкого по пятому пункту. А когда-то его даже называли адъютантом Слуцкого. Как-то он нас с Леной подвозил на машине, я заговорил о Слуцком.
— Это пройденный этап, — сказал Куняев.
— Вы говорите о себе, а я о Слуцком.
Однако, когда тело Слуцкого привезли из Тулы в Москву, по разные стороны его гроба стояли во всем остальном антагонисты Володя Корнилов и Стасик Куняев.
Наконец, Иосиф Бродский.
По многим поэтам у нас были несогласия с Осей, но Слуцкого, которого Бродский называл Борой, Борохом, Барухом, он cчитал самым значительным из живых русских поэтов и многие стихи шпарил наизусть. Когда на какой-то встрече русских поэтов в Коннектикуте Таня Бек стала читать знаменитое стихотворение Слуцкого о поэзии и дошла до:
До той поры не оскудело, Не отзвенело наше дело, Оно, как Польша, не сгинело, Хоть выдержало три раздела, —Бродский отттолкнул советскую гостью и, смакуя любимый стих, продолжил за нее:
Для тех, кто до сравнений лаком, Я точности не знаю большей, Чем русский стих сравнить с поляком, Поэзию родную — с Польшей, —и дочитал стихотворение до конца.
В поэзии мы сходились с ним на Баратынском, Слуцком и… Бродском. Я и теперь не знаю, кого из двух последних люблю больше и кого ставлю выше как поэта. Тем более досадна злопыхательская характеристика Слуцкого в предисловии к «Остановке в пустыне», о которой сам Бродский глубоко сожалел и отзывался о Наймане в связи с этим весьма нелестно.
Проза не вытесняла в стихах Слуцкого поэзию, но сама становилась поэзией. Точнее сказать — когда становилась, а когда нет. В экспериментальной поэзии Слуцкого неудачи, пожалуй, даже более естественны, чем удачи — и более часты. Однако эксперимент этот оправдан именно удачами. Его знаменитые «Физики и лирики», открывшие долгую дискуссию по всей стране, позднее были переведены Слуцким из публицистического регистра в лирический:
Где-то на перекрестке между музыкой и наукой, поэт, ищи поэзию, выкликай, аукай! Если этот поиск тобой серьезно начат, следующее правило следует заучить: стих не только звучит. Обязательно — значит. Стих не только значит. Необходимо — звучит.Совет этот нельзя распространить на всю мировую поэзию. К примеру, «есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно». С другой стороны, есть сугубо смысловая, концептуальная поэзия, игнорирующая «звуковую» сторону, намеренно антиэстетическая.
Как и большинство литературных манифестов и постулатов, императивно навязываемых всей литературе в целом, этот относится прежде всего к его автору. Но что любопытно, смысловик Слуцкий был одновременно будетлянином и обожал корнесловие: «О покой покойников! Смиренье усмиренных!»
Литературный спор Слуцкого вышел за пределы ближайших к нему лет, ибо — вслед за Некрасовым, Маяковским, Хлебниковым — он спорил с каноническим, пиететным отношением к классическим нормам русского стиха, ломая иерархию и ниспровергая авторитеты. Конечно, все это связано между собой — ощущение завершенности классической поэзии, стертость ее восприятия, активное распространение эпигонского неоклассицизма среди советских поэтов, в том числе одаренных. Поэтическая реформа Слуцкого двойная, но если бы она ограничилась только семантикой, то есть обновлением содержания, то существовала бы помимо поэзии, за ее пределами. Про него нельзя сказать словами Ходасевича, что он привил «классическую розу советскому дичку», — потому хотя бы, что он шел в обратном направлении.
Я слышу звон и точно знаю, где он, И пусть меня романтик извинит: Не колокол, не ангел и не демон, Цепная ласточка железами звенит.Это и есть наиточнейшее определение собственной поэзии: цепная ласточка.
Вот ведь, помимо отсутствия у него вплоть до последнего года поэтической деятельности любовной лирики, у него не было также и пейзажной — ну не уникум ли? Стих Слуцкого откровенно, агрессивно антипейзажен. «Пейзажи солдат заслонил», — пишет он и разъясняет:
Солдатская наша порода Здесь как на ладони видна. Солдату нужна не природа. Солдату погода нужна.Вот замечание Сент-Экзюпери в «Ночном полете»: «Требования ремесла преображают и обогащают мир… Даже если полет протекает благополучно, на любом участке линии летчик никогда не бывает зрителем. Окраска неба и земли, следы ветра на море, предсумеречная позолота облаков вызывают в нем не восхищение, а раздумье». Созерцательному, зрительскому отношению к миру Слуцкий противопоставил его практическое, меркантильное, профессиональное освоение. Солдатский профессионализм и литературный рационализм Слуцкого сводят к минимуму необходимые человеку слова, чувства, мысли. Именно эту поэтическую аскезу и постулирует он собственному стиху, что мне, как автору лысой прозы, чрезвычайно близко. «Я не люблю вдаваться в излишние подробности и рассказывать читателю то, что он легко может вообразить…» — пишет не захотевший стать великим писателем Проспер Мериме.
Слово — Слуцкому:
Как к медсестринской гимнастерке брошка, Метафора к моей строке нейдет. Любитель порезвиться понарошку Особого профиту не найдет. Но все-таки высказываю кое-что, Чем отличались наши времена. В моем стихе, как на больничной коечке, К примеру, долго корчилась война.А в другом стихотворении Слуцкий дает мощный образ, который одинаково относится к крутой его поэтике и к его исторической миссии: «Я — ржавый гвоздь, что идет на гроба…»
Приведу здесь сравнение, которое может показаться натянутым, но я уверен в его адекватности: поэтика Слуцкого сродни библейской. Вот и Межиров сказал мне однажды, что Слуцкий — человек ветхозаветного замеса. Именно так — просто и высоко — описаны в Библии нравы, обычаи и история древних скотоводов. Обыденный факт там звучит как исторический, семейный конфликт становится всемирной историей. Напряженный историзм — имманентное свойство поэтики и философии Слуцкого. Кстати, одно из лучших его стихотворений — на библейский сюжет:
Истощенный нуждой, Истомленный трудом, Блудный сын возвращается в отческий дом И стучится в окно осторожно. — Можно? — Сын мой единственный, можно! Можно все, лобызай, если хочешь, отца, Обгрызай духовитые кости тельца. Как приятно, что ты возвратился! Ты б остался, сынок, и смирился. Сын губу утирает густой бородой, Поедает тельца, запивает водой, Аж на лбу блещет капелька пота От такой непосильной работы. Вот он съел, сколько смог. Вот он в спальню прошел, Спит на чистой постели, ему хорошо! И встает. И свой посох находит. И ни с кем не прощаясь, уходит.Так же пишет Слуцкий и о сегодняшнем дне, либо о недавнем прошлом, воспринимая современность с исторической дистанции: о простом солдате как о памятнике, о мытье в бане как об историческом событии. Ведь жизненные будни советского человека и в самом деле «на весы истории грузно упали», а потому время для Слуцкого, как говаривали в старину, «далевой образ». Даже если описываемое им событие случилось вчера, Слуцкий все равно рассматривает его в перевернутый бинокль. Впрочем, никакой бинокль ему не нужен, это свойство зрения — дальнозоркость: она ему помогает и мешает, когда как. Любой отрезок времени Слуцкий рассматривает не сам по себе, а в отблесках прошлого и будущего. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, ждет он, когда современность превратится в историю, ибо воспринимает не движение, а сгустки, не процесс, а результат.
Вот его удивительное стихотворение «Ровно неделя до победы» — дневниковая запись превращена в исторический этюд; в пяти строчках о войне Слуцкий ухитрился дать заодно и абрис всей последующей агонии сталинского лихолетья:
Блистает солнце на альпийских видах, И месяц май. В Берлине Гитлер сдох. Я делаю свободы полный вдох. Еще не скоро делать полный выдох.Но Слуцкий не был бы Слуцким, если бы вслед за этим стихотворением не написал к нему стихотворение-постскриптум:
Но май сорок пятого года Я помню поденно, почасно, Природу его, и погоду, И общее гордое счастье… …Как славно, что кончилась в мае Вторая война мировая! Весною все лучше и краше. А лучше бы кончилась раньше.Без этого исторического зрения Слуцкий не существовал бы как поэт. Ведь он и современность понимал как перекресток истории — иначе он ее просто не воспринимал, будучи дальнозорким и не видя вблизи.
Поэзия Бориса Слуцкого объемлет обе фазы времени — прошлое и настоящее — как некое единство. Время обладает для него цельностью, он не замечает в его течении ни напрасных дней, ни пустых страниц. Основное его занятие как поэта — обнаружить и наблюдать в мелькании будней, «как мчится вдаль всемирная история». Кто еще из «военных» поэтов с таким патетическим фатализмом принял судьбу, выпавшую на долю поколения:
Девятнадцатый год рожденья — Двадцать два в сорок первом году — Принимаю без возраженья. Как планиду и как звезду.А спустя еще пару-тройку десятилетий он напишет:
Мой круг убывает. Как будто луна убывает. Кто сам умирает, кого на войне убивают, и в списке друзей моих те, кто навеки молчат, куда многочисленней тех, кто шумят и кричат. Я думаю, мне интересней и даже полезней меж тех, кто погиб от атак, контратак и болезней и памяти точной и цепкой на долю достался, меж тех, кого нет, а совсем не меж тех, кто остался…Теперь, после смерти Слуцкого, я перечитываю это стихотворение с каким-то особым чувством. Вернувшись в Москву, листал старую телефонную книжку и вычеркивал тех, кого уже нет, в том числе Слуцкого. Это большая недостача — не только для меня лично. Но и не только для поэзии.
Как бы это лучше пояснить?
Легко быть гласным в эпоху гласности, а поэзия Слуцкого была гласной в эпоху всеобщего безгласия, когда безмолствовал не только народ, но и перебздевшая муза.
Я еще без поправок эту книгу издам.
Издал. Посмертно. Только кому она теперь нужна, эта бесцензурная великая книга?
В отличие от других «военных» поэтов Борис Слуцкий был в поэзии представителем не только поколения, но скорее времени. Его исторические стихи — послание в будущее, тому самому «читателю в потомстве», о котором мечтал Баратынский. Напряженно и чутко вглядывался он в людей моложе его, пытаясь угадать по их лицам будущее, ибо прошлого и настоящего ему было уже недостаточно. Отчасти этим я объясняю и нашу с ним восьмилетнюю дружбу: он рвал со многими сверстниками и тянулся к молодым. А я жил в мире, где все меня старше: младший современник. Ну да, из породы младотурков, что не преминул заметить Слуцкий.
Его поэтическая дальнозоркость сработала не только на вчерашний день, но и на завтрашний, который он угадал и предсказал в стихотворении, посвященном моему поколению — сороковикам: моим друзьям Бродскому, Довлатову, Шемякину, да и нам с Леной — Клепиковой и Соловьеву. Поколение, о котором, даст Бог, я еще напишу мой следующий метафизический роман, который так и называется «Быть Владимиром Соловьевым», где «владимирсоловьев» надо писать слитно, потому как имя нарицательное, а не собственное. А стихотворение Слуцкого про нас так и называется — «Последнее поколение».
Войны у них в памяти нету, война у них только в крови, в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых. Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: «Живи!» — В сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок четвертом. Они собираются ныне дополучить сполна все то, что им при рождении недодала война. Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу. Они ничего не знают, но чувствуют недобор. Поэтому все им нужно: знание, правда, удача. Поэтому жесток и краток отрывистый разговор.Теперь, когда советская эпоха канула в Лету, понятно, почему антиклассик Борис Слуцкий ее единственный классик. Он остался кем был: ржавый гвоздь в ее гроб.
Посвящение-6. Борису Слуцкому: Нефертити
Помощь здесь невозможна, а сочувствие — непереносимо.
Джейн Остин. Гордость и предубеждениеА вот еще одна ресторанная история. Грустная. Но актуальная. Потому что чем все это кончится, известно каждому, какие там иллюзии, хоть бы одно исключение из правил, ни одной весточки оттуда!
— Даже слово это противное произносить не хочу, — сказала Алла после того, как у нее взяли биопсию и обнаружили лимфому Ходжкина. — Сколько они мне дадут? Два? Три года?
Они — это врачи, а она поступила в ведомство Бога, но как-то это не укладывалось в ее прелестной атеистической головке. Она была похожа на козочку с древнегреческой вазы, а в молодости, которую я не застал, кой-кому напоминала леонардову «даму с горностаем», другим — Анук Эме из культового фильма «Мужчина и женщина», а иным даже Нефертити. Присмотрелся как-то — в самом деле Нефертити, только не парадного портрета в цвете, а неоконченного, помните? Была в нашей Нефертити прелесть красоты, доброты и отзывчивости. Среди нас она была самой молодой, хотя сама компания была не то чтобы старой, а скорее стареющей, без притока молодой крови: постылое поколение, мы вышли из обоймы и приближались к пенсионному возрасту, пусть само это понятие пенсионного возраста в Америке, благодаря медицине и фармацевтике, растяжимо аж до бесконечности. Но это уже не «возраст» — к черту врачебный эвфемизм! — а старость. Гуттаперчевые старички, доходяги, живые мертвецы — вот кем мы станем в конце концов, пока не обратимся в прах. Однажды даже, месяца за четыре до того, как с ней стряслась беда, зашла речь о возрасте, и Алла, оглядев нас, буркнула что-то относительно своей сравнительно с нами молодости, но тут же прикусила язык: была не суеверной, а тактичной.
Сколько ей дали врачи? Сколько ей оставил Бог? На прошлой неделе была совсем плоха — десны ныли, живот болел, ничего есть не могла, на одной воде жила, я уж было подумал — метастазы, даже звонить боялся, а потом отпустило, полегчало, а не пора ли нам всем собраться, как ни в чем не бывало, говорит? Звала в гости, хотя не выдерживала больше трех часов и пускала в ход свою обычную формулу: «Вам еще не надоели хозяева?» — обращалась она к засидевшимся гостям, имея в виду себя и своих котов, и мы спешно делали ноги.
На редкость была гостеприимна. Почему «была» — вот я и проговариваюсь: о живой, как о мертвой. Еще неизвестно, кто первый. В гости ходили в очередь, но Алла чаще других зазывала, любила готовить — одних горячих блюд пять, а закусок — несчитано! Мы с женой, чтобы дома не возиться, да и места у нас маловато, водили всех в куинсовские рестораны: итальянский, греческий, тайский, русский, бухарский, японский, монгольский, шанхайский, восточный. Пока мы спорили о ресторанах, и как Аллу заранее приглашать, когда у нее день на день не приходится, у нее грянул юбилей — 50, и она сама позвала всех в «Династи», бывший «Милано», чуть ли не единственный ресторан в Рего-Парке, откуда я съехал пару лет назад, работающий по пятницам и субботам, остальные окрест бухарско-кошерные: манты-самсы-шурпа-лагман-кебаб-шашлык-плов-чалахач, вплоть до бараньих яиц, на которые долго не решался из-за способа приготовления не означенного блюда, а живого барана, не вдаваясь в подробности, хоть это, говорят, древняя виагра и повышает мужскую потенцию, а когда как-то взяли, оказались с каким-то привкусом, на что приятель-острослов сказал: «Надо было взять одно на всех».
По разным поводам мы собирались в «Династи» довольно часто, кормили там сытно и вкусно, хоть и до известных пределов: к примеру, лобстеров покупали заранее и готовили из холодильника. Зато закусок было завались — копченности, угри, жюльен, пирожки с разной начинкой, блины с красной икрой, на главные блюда не хватало сил, и лежали нетронутыми жирные куски утятины, цыплята табака, сочащиеся котлеты по-киевски, бараньи, говяжьи и печеночные шашлыки. Тот, кто устраивал это пиршество, забирал doggie bag домой и приглашал на следующий день на эту мнимособачью еду избранных, то есть самых близких или рядом живущих, и мне пару раз фартило, хоть так подряд обжираться — по усам текло и в рот попадало, но желудок справлялся плохо. Годы берут свое: перепив — еще куда ни шло, но не переед. А пере*б? Предпочитаю недо*б, хотя мои женщины противоположного мнения.
Алла сшила себе новое платье, как на первый бал, да и была похожа в этот вечер на Наташу Ростову — не статью, так сутью. Стройная, субтильная, черноглазая — козочка и есть. Ну, никак не представить себе, что она смертельно больна и скоро ее не станет ни среди нас, ни на белом свете. Пыталась даже танцевать, но сделала пару кругов и чуть не упала. В середине вечера подсела ко мне, обняла, пыталась утешить:
— Что грустишь, малыш? У нас еще есть время. Мы еще поживем, кисуля.
До сих пор стыдно, что ей же пришлось меня утешать.
Алла отошла и продолжала щелкать камерой — ее хобби, снимки получались классные.
После смерти мужа Алла жила одна — лет, наверно, пятнадцать ужé, хотя иногда ей перепадало, но романы у нее были скорыми, мужики воспламенялись, но и быстро пресыщались ее добротой и щедростью. Зато она была от них всех в восторге. Оставалась с ними друзьями — несколько было на ее юбилее, один с женой, с которой Алла дружбанила до и после, хотя никто из них в нашу теплую компашку не входил. Много было «посторонних», я не всех знал, некоторые на этот прощальный юбилей пожаловали из других штатов, одна пара даже из Канады. На глаз набралось с полста, я не считал, не до того было.
У Аллы вся ее родня — деды с бабками, родаки, тетки с дядьями и даже брат с сестрой — все померли от рака, генетика хреновая, а потому она регулярно проверялась на рак груди, сдавала мазки, делала гастро— и колоноскопию, но разве предусмотришь, с какой стороны он к тебе подкрадется, откуда гром грянет, а тем более что рак заберется в твои лимфоузлы?
Алла художничала, изредка получала заказы на открытки для UNICEF — ооновского детского фонда, плюс у нее был свой лоток на Пятой авеню рядом с Метрополитен-музеем — ее картины и коллажи продавались с трудом, а бойко шел только рисунок, выполненный ею в нескольких мастях: кот смотрит в зеркало и видит льва. Назывался «Мания величия». К близким друзьям обращалась со словом «Кисуля» и, само собой, была кошатницей, что нас с ней сближало, но у меня остался один кот — Бонжур, а у нее в ее муниципальной квартире было шесть, и теперь, ввиду чрезвычайных обстоятельств, она была занята устройством своих питомцев «в хорошие руки». Ничем не мог ей помочь — Бонжур сам жил у нас на птичьих правах, потому как собаки и коты в нашей на манер концлагеря кооперативке были строжайшим образом запрещены, из-за чего дом одолевали мыши. Окромя, само собой, нашей квартиры — кошачий дух отпугивал мышей, тем более парочку нашему коту повезло словить — кайф на целую ночь, не для бедной мышки, понятно. Я посоветовал дать объявления в русских газетах — посыпались телефонные звонки, начались смотрины, это Аллу немного отвлекало, но расставалась она со своими питомцами тяжело, со слезами. Остался один, большой проказник, его отдавать Алла ни за что не хотела и взяла с меня слово, что я займусь его устройством после ее смерти. Вот ведь: ее смерть вошла в наш обиход, и мы говорили о ней, как о fait accompli. А пока что я подарил ей на пятидесятилетие, помимо стольника в конверте и букета ирисов, зонт с черно-белым изображением котов и вспыхивающими желтыми глазами, а изредка — синими, сиамскими. Была растрогана и заплакала.
Это был во всех отношениях печальный юбилей. У 25-летней дочки одного из моих друзей обострился диабет, подскочила температура, одна нога в два раза толще другой, как валенок, кости вышли из суставов, боятся гангрены, родители в отчаянии, а дочь наотрез отказывается лечиться: лучше умереть, чем так жить, плачет она. «Как ты посмела меня родить с такими генами!» — упрекает она мать, у которой тоже диабет, но та держится благодаря крутому с детства характеру, а теперь вот еще и комплекс вины перед дочкой, которую они с мужем до сих пор называют «ребенком». Ребенок и есть. Водят ее к психиатру, чтобы согласилась лечиться, но она продолжает каждый день ездить в бруклинскую школу, где работает учительницей, боясь потерять работу. «Что, мне привязать ее к кровати? — жалится мой приятель. — Как ей объяснить, что потерять работу и потерять ногу — вещи несоразмерные?» Лица у него и его жены на этом печальном юбилее озабоченные. Им самим нужен психиатр, но им не до себя, не до чего, удивляюсь еще, как держатся. «На последнем издыхании», — говорит мой приятель-каламбурист: юмор висельника. Я смотрю на Аллу: ей — 50, девушка с диабетом — вдвое ее младше. Бедняжки — обе.
Кого жалеть? Алла вроде даже удивляется, когда говорят о чужих болезнях, а о ее — ни слова. Что тут скажешь? Во сне у меня болит сердце: в самом деле болит или снится, что болит? Не знаю. Да и не обо мне эта история, хоть я и сосу наяву нитро. Я — рассказчик, а не герой.
Был бы поэт, сочинил бы стих — и дело с концом. Типа Бориса Слуцкого — самый жалостливый поэт из тех, с кем был знаком в личку. По жанру — стих, по целям — стих, по наполнению — стих. Стихает человек — вот и весь сказ. То есть стих. А я тут тяну бодягу — авось вытянет на рассказ. Хотя рассказ у меня что-то не вытанцовывается. Я учусь умирать, хотя знаю точно, что так умирать не буду. То есть не научусь ничему от Аллы, которая не хочет оставаться один на один со смертью, узнав о своей болезни, и умирает на миру, как будто ничего не случилось, а на миру и смерть красна. Я буду умирать в одиночестве, забьюсь в нору и никого к себе не подпущу, кроме кота, если тот будет еще жив, а что ему сделается — скорее всего, переживет меня, по кошачьим срокам, он значительно моложе. Да и хватит мне хоронить моих котов — пусть хоть один похоронит меня. Похоронит не похоронит, но почувствует мое отсутствие. Он даже, когда я с сыном уезжал в Камбоджу — Бирму — Таиланд, прекратил все отношения с моей женой, прячась три недели под кроватями и диванами или сидя к ней спиной — демонстрировал недовольство и отчаяние, а ее — считая виноватой за то, что меня нет. Даже он понимал, что смерть — это отсутствие, как будто начитался Пруста. Зато какая была встреча! А в следующий раз встретимся только на том свете и еще вопрос, узнаем ли друг друга.
А мы с женой? Два варианта: пройдем мимо, не узнав друг друга, либо я узнаю, а она меня — нет. Проклятие! Если мы и любим еще друг дружку, то не тех, кем мы были раньше, но память услужливо стирает наши прежние образы, погружая в забвение. Тебя я еще помню, но себя я забыл напрочь, и встреть сегодня, не узнал бы. Как и он меня, теперешнего. Даже сыграть не смог бы на театре, будь я актер — ни он меня, ни я его. Грим времени — откуда его раздобыть?
Пропасть между людьми, у которых есть в опыте смерть близких, и теми, у кого этого опыта нет. Мой школьный дружбан до 5-го класса, который обнаружил меня, когда я пропечатал свой адрес в здешней газете, рекламируя свои книги, прислал мне письмо из Атланты, штат Джорджия, закончив фразой, которая меня взволновала: «…и потери начались не вчера». Вот мои потери — в хронологическом порядке, если мне не изменяет память: когда мне было пять, моя пятнадцатилетняя сестра, ее образ наложился на мою будущую жену, которую я встретил на школьной переменке в том же приблизительно возрасте;
мой отец — мне было 24, а ему не было еще 66-ти;
Анатолий Васильевич Эфрос, в которого я был влюблен, как в Бродского и — ненадолго — в Ельцина;
перевезенный сначала из Ленинграда в Москву, потом из Москвы — через Вену и Рим — в Нью-Йорк умный, независимый, крутой кот Вилли;
друг и переводчик Гай Дэниэлс: «Умирают нужные люди», — меркантильно прокомментировал Довлатов;
мама здесь, в Нью-Йорке — когда я был там, в Москве, и я не сумел приехать на ее похороны, за что Довлатов меня осудил;
Сережа Довлатов, сосед и друг;
общий с Сережей знакомец издатель и архивист Гриша Поляк;
кот Чарли, огромный, эмоциональный и обидчивый;
Ося Бродский, с которым мы часто виделись в Питере и редко в Нью-Йорке;
Берт Тодд, которому я был бы сейчас соседом по одной короткой Мелбурн-авеню, доживи он до моего последнего переезда, и о котором
после его смерти, узнав, что он был агентом ЦРУ, я написал мемуар «Мой друг Джеймс Бонд»;
Князь Мышкин, сиамский кот, мой любимчик, непротивленец и шизофреник, который прочно обосновался в новой — теперешней — квартире, но ему оставалось жить в ней только два года и умер он глубоким и дряхлым старцем, лет, наверно, под 90 по человечьим понятиям, а я все еще считал его за ребенка, коим он и был по отношению к нам, а теперь он является мне в сновидениях с крылышками.
Никого не пропустил, но, возможно, чуток нарушил порядок хронологически.
А теперь вот Алла: неоперабельный, неизлечимый рак лимфоузлов.
Разговариваю с ней по телефону, регулярно бываю у нее на ланчах, бранчах и обедах (пару часов разницы) — это как ходить в тюрьму на свидания к приговоренному к смертной казни. Мы все приговорены, но одно быть, как все, а другое — как Алла. Когда я ей позвонил, она сказала, что думала, я уже знаю: «Многие уже знают». Вот тогда она и сказала в сослагательном наклонении про два-три года, которые решила вести себя, как ни в чем не бывало, ходить в гости, звать в гости — дело не в том, когда она умрет, а когда начнет выходить из строя: она уже несколько раз теряла сознание, а один раз упала на улице. Я не выдержал и заплакал в трубку. Ей же пришлось меня и утешать: «А что? Буду жить, как жила». «А по ночам плачет», — шепнула мне на юбилее приехавшая из Сан-Диего ее тридцатилетняя дочь. Я вспомнил, как она говорила про своего кота-любимчика, что решила покончить с собой, когда Фил (так звали кота) умрет, а здесь ситуация вдруг круто изменилась. Я уже представлял ее поминки, а себя тамадой, а тут, откуда ни возьмись, круглая дата.
Я поднял за нее тост, сказав, что она из нас самая лучшая, но ей мой тост не понравился:
— Почему за меня? Почему за меня? — повторяла она обиженно.
Больше всего она боялась жалости.
А что, если все-таки взять ее кота к нам — если он споется с нашим? Прятать одного кота или двух — без разницы.
Не рано ли я стал патологоанатомом и разделываю живых, как трупы? Вспомнил эгоистический совет Паскаля: «Не плачь о других, плачь о самом себе». Я бы сказал еще резче: не торопись отпевать других — тебя отпоют первым. Когда говорю о себе, имею в виду нас с женой. Помню, отец говорил матери: «Муся, только бы я умер первым». Он и умер первым, опередив маму на 24 года. А я и не представляю себе, что переживу жену, не дай бог — так мы с ней притерлись друг к другу. До сих пор преследует мысль, что она вышла замуж за человека, который ее мизинца не стоит. А разве не странно, что я пережил свою старшую сестру, на что не имел никакого права: она была лучше, добрее и талантливее меня, что вспоминать! И о многом другом я думал на этом юбилее, который все больше походил на поминки, и боялся, что Алле не выдержать, боялся на нее смотреть, а когда все-таки встречался с ней взглядом, видел, как она смертельно устала. И вдруг, как молния: вспомнил ее совсем юной, когда ее не знал. Нефертити и есть! Такой она и должна была остаться навсегда, а не угасать от рака лимфоузлов в пятьдесят лет.
Пришло время, и я вычеркиваю ее из своей телефонной книжки. Кота, подпав под его обаяние, взял знакомый, у которого аллергия как раз на котов, но он предусмотрительно запасся «аллегрой», таблетками против аллергии.
А когда меня начнут вычеркивать из телефонных книжек?
Ее дочь из Сан-Диего, разбирая архив, распечатала пленку с того самого ее пятидесятилетнего юбилея и разослала нам фотки. Не знаю, кому что досталось, а нам с женой — странный такой, многозначительный снимок, где мы с ней танцуем, на заднем плане стойка с бутылками и еще полпарочки (тот мой приятель, у которого дочь с диабетом, а у него на плече полная рука его жены), чуть дальше наверху неоновое табло с аршинными красными буквами: EXIT. Интересно, заметила ли Алла, когда щелкала. В самом деле, не пора ли возвращать свой билет? Memento mori. «Мой круг убывает, как будто луна убывает» — кто эта так точно сказал? Ну, конечно, Слуцкий, которого я ставлю вровень с Бродским и так и не решил, кто из них мне ближе. Вот старших не осталось, а раньше только ими и был окружен. Грибник идет в лес и наступает случайно на муравьиную кучу — не преувеличиваем ли мы свое значение? Так и слышу требовательный голос этого всемирного режиссера:
— На выход!
P.S. Отзыв моего однокашника-найденыша из Атланты на фотографию и пересказ сюжета:
Ну, EXIT у нашего поколения уже на виду, ты прав, но ведь, как все прежние, мы приближались к нему, отродясь. Меня эта тема беспокоила с детства; так с тех пор я с этой музыкой и живу; стараюсь (теперь, когда поумнел, — SIC!) не торопиться, а нога за ногу, упираясь. Чем меньше остается в стакане, тем медленнее надо бы пить. (Не получается!) А ты не придумал в своем рассказе, что — под конец — ты прошел через ВЫХОД и встал с другой стороны двери/проема под надписью ВХОД?
Быть Василием Шукшиным Мания правдоискательства
В пару Слуцкому ставлю Шукшина, хоть и знал его шапочно. А надо ли знать художника лично, чтобы писать о нем? Иногда наоборот: недостаточно знать человека, чтобы писать о нем, как о художнике. Да и какие здесь могут быть правила? Не раз видел и слышал Высоцкого: на сцене Таганки и на концертных квартирниках, а познакомил нас Евтушенко в кабинете Любимова после премьеры «Под кожей статуи Свободы» по Жениной поэме. Еще помню его в редакции питерской «Авроры», где Высоцкому обещали подборку стихов, но горком в последнюю минуту зарубил, а в промежутке, в благодарность, Высоцкий пришел с гитарой и два часа наяривал: Клепикова, работавшая там в отделе прозы, позвонила мне, и я прибыл с малолетним Жекой. Сколько ему тогда было? Вот пусть и пишет воспоминания о Высоцком. Он и сочинил под тем детским впечатлением вспоминательный стих, но уже здесь, будучи американским поэтом и аляскинским арт-дилером. А мне — как-то не с руки. Тем более, мне в помощь наш с Высоцким общий друг Миша Шемякин, которого я уболтал дать для этой книги не только чудесные фотки и чудные рисунки к песням Высоцого, но еще и эмоциональный мемуар о нем и о Марине Влади. Спасибо, Сара и Миша! Шукшина я знал чуток больше, а все равно — шапочно и теперь побаиваюсь выйти в его портрете за пределы мемуарного жанра в эссе: видел мельком пару раз и однажды довольно долго говорил по телефону — незадолго до его смерти. Он мне сам позвонил — поблагодарить за статью в журнале «Нева», где я писал о четырех фильмах: «Цвет граната» Параджанова, «Мольба» Абуладзе, «Солярис» Тарковского и «Печки-лавочки» Шукшина. Именно за эту статью я получил премию Союза кинематографистов, а Тенгиз Абуладзе пригласил меня на съемки «Древа желания», и пару дней я пространствовал с его съемочной бригадой по Кахетии, опять же прихватив с собой Жеку (я всюду таскал его с собой), и вот позвонил Василий Макарович, и мы проболтали с ним с час — плюс-минус. Он как раз только что кончил монтаж «Калины красной» и приглашал меня на просмотр. О «Калине красной» я тоже написал статью, но Шукшин уже умер. А тогда мне показалось, что он не очень уверен в своем новом фильме. «Теперь я бы сделал все иначе» — вот его фраза, которую я запомнил. А что говорил я? Не помню. Очевидно — растерялся: никак не ожидал его звонка. Незадолго до его смерти я видел его на встрече в БДТ, где собирались ставить спектакль по его рассказам. Он был под сильным впечатлением от заседания редколлегии русофильского журнала «Наш современник», в составе которой он успел пробыть всего один месяц: березофилы пытались водрузить его на свое знамя — не было гроша, да вдруг алтын.
— Несколько часов кряду — о чем думаете говорили? О деревенской прозе? Нет, только о евреях. Ни о чем больше. Мозги напрочь забиты евреями, — рассказывал Василий Макарович.
Думаю, если бы не смерть, сам бы вышел из редколлегии — не выдержал бы. Любимый ученик Михаила Ромма не был юдоедом.
Короче, повода писать мемуар о Шукшине у меня нет — никакого. Зато портрет Шукшина — да. Даже если бы он не позвонил мне и не пригласил на просмотр «Калины красной», которая мне понравилась меньше «Печек-лавочек». Не знаю, на что я больше запал, как говорят теперь и как тогда не говорили, — на его книги и фильмы или на его трагическую судьбу, но я тиснул о нем еще пару статей. Одну, портретного жанра, в «Искусстве кино», другую, в жанре некролога, в «Правде» — мои последние советские публикации, незадолго до отвала.
Уже здесь, в Нью-Йорке, в «Новом русском слове» и в «Русском базаре», я снова писал о нем, кто-то мне врезал, что я пишу не то, была полемика — я защищал Шукшина от тех его апологетов, которые отождествляли автора с главным героем «Калины красной», а от него открещивался сам Шукшин, незадолго до смерти. Потом вставил портрет Шукшина в «Записки скорпиона» и теперь снова пишу о нем.
Почему?
Ввиду одного его качества как художника, мне необычайно близкого. Как и он, я — ультраправдист. Никакого отношения к «Правде», в которой я напечатался лишь однажды.
Не знаю, как сейчас, но во времена Шукшина, да и позже, в советских психушках сидели люди с фантастическим диагнозом: мания правдоискательства. Естественная, неистребимая тяга человека к правде рассматривалась как болезнь людьми, для которых ложь — основа их существования. Ничего удивительного — в стране слепых зрячий кажется уродом.
Герои Шукшина гуляли на воле, но среди них — эпидемическая вспышка этой советской болезни. По тогдашнему государственному табелю о политических болезнях я ставлю автору посмертный диагноз: мания правдоискательства.
Без этой мании не было бы художника.
Ему был дан хоть и жанрово разнообразный, но не великий талант — не станем преувеличивать, и он так бы и остался середнякомнатура листом, если бы не испепеляющая его мания правдоискательства.
Это как заноза в сердце — все глубже и глубже, пока не умер.
Ему повезло — он умер на пике славы, в разгар похвал, обрушившихся на «Калину красную». Если бы не умер, то стал бы в конце концов «чудиком» — совпал бы с главным типом, выведенным им в литературе.
Точнее — введенным им в литературу: из жизни.
Чудик — значит человек с мозгами набекрень. О таких говорят без слов — жестом: покручивая пальцем у виска.
Шукшина не успели приручить, а он не успел разочаровать. Из мертвого волка норовили сделать домашнего пса. Кто только не пытался приспособить его к собственным идеологическим нуждам: русофилы, либералы, официалы. Посмертно он даже Ленинскую премию отхватил, а я вот тиснул о нем статью в «Правде», сам факт публикации в которой мне ставили в упрек.
Мертвый художник во всех отношениях удобнее живого.
Статью для «Правды» я назвал «Нужда в правде». Статья прошла, а заголовок сняли, показался слишком острым.
— А как же с названием газеты? — удивился я.
Жгучее стремление Шукшина к правде — чисто русское. Больше того: советское. Он так и не прорвался к ней сквозь каменную толщу лжи.
Он много не додумал — не успел.
Торопился, а не успел.
Либо не смог.
Либо его мысли потекли по искаженному, неверному пути.
Он был похож на своих героев. Иногда до полного с ними совпадения.
В отличие от них он был художником.
Внезапная его смерть в семьдесят четвертом году потрясла зрителей по аналогии — за несколько месяцев до того погиб на экране герой его последней ленты Егор Прокудин.
Словно бы вымышленной этой смертью Шукшин предсказал смерть настоящую.
Смертью героя — свою смерть.
Еще ни холодов, ни льдин, Земля тепла, красна калина. А в землю лег еще один На Новодевичьем мужчина. Должно быть, он примет не знал, Народец праздный суесловит, Смерть тех из нас всех прежде ловит, Кто понарошку умирал.Так писал о Василии Шукшине другой преждевременный мертвец — Владимир Высоцкий, который тоже о самом себе сочинял эпитафии заживо: «Мои похоронá», например. Но ведь и Пушкин пытался угадать грядущей смерти годовщину…
Должно быть, это путь все-таки облегченный — ближайших аллюзий и наивных подстановок, но, думаю, он неизбежен, потому что, перегрузив своего последнего киногероя различными функциями, Василий Шукшин поручил заодно Егору Прокудину представлять интересы автора.
Правы были отчасти оппоненты фильма — в том числе я, — когда говорили о тотальной фокусировке всех творческих усилий на личности героя, из-за чего актер Шукшин оказался кинематографическим монополистом, подмял под себя режиссера Шукшина и сценариста Шукшина, и фильм вышел из-под авторского контроля.
Герой и автор в «Калине красной» совпали настолько, что вся сюжетная и концептуальная ситуация фильма оказалась рассмотренной не с точки зрения Василия Шукшина, а с точки зрения Егора Прокудина.
Две точки зрения — героя и автора — в фильме совместились в одну.
Это все равно как если бы «Братья Карамазовы» были написаны не Достоевским, а одним из Карамазовых. Если быть точнее и конкретнее: Димой Карамазовым. То есть без дистанции и остранения: без авторской оценки, без этической реакции, без оппонирования ему других героев, без сюжетной дислокации.
Василий Шукшин полностью сливается с Егором Прокудиным, расстояние между автором и героем исчезает, автор жалеет героя, а получается — самого себя. К тому же смерть Егора Прокудина создает вокруг него ореол мученичества, в то время как по жизни он сам мучитель и только потом уже — мученик.
Главный герой фильма присвоил себе авторские права и распространил властное свое воздействие на весь фильм.
Произошло непредусмотренное автором смещение, непредвиденный сдвиг: кого же все-таки играет Шукшин — закоренелого рецидивиста или самого себя?
Отсюда резкие выпады против Шукшина даже таких тонкачей, как Дэзик Самойлов:
«Не случайно такой талант, как Шукшин — злой, завистливый, хитрый, не обремененный культурой, исполненный лишь неясной самому тоски, — способен стать героем „солоухинской школы“ русской литературы и быть принятым многими читателями — от блатных до прекраснодушных докторов наук… Это типичная литература полугорожан, отрезавших себе путь в деревню, уже опутанных и закупленных благами города и главным раздатчиком благ — державой. Они и городские, и державные, утопленные по горло в комфорте, любующиеся своим положением и все же злящиеся и неистовствующие по поводу утраты духовного, ощущающие, что комфорт не заменяет духовности, и не умеющие по бескультурью присоединиться к высшей духовной среде города».
Привожу эту высокомерную и снобистскую диатрибу именно в виду ее несправедливости, хотя изначальный импульс дан самим Шукшиным — отсутствивием часто у него художественной границы между автором и героем.
Уголовная предыстория осталась за рамками «Калины красной» — в конце концов, ее могло не быть вовсе. Василий Шукшин, решивший показать на экране судьбу «ненужного» человека, на всякий случай подвел эту судьбу под традиционные анкетные подпорки — уголовщина, отсидка, прежние дружки по «малине»… Уголовная фабула в этом фильме насильственна по отношению и к без того трагичной судьбе героя.
Оправданное в «Печках-лавочках», предыдущем фильме Шукшина, триединство сценариста, режиссера и актера в «Калине красной» сомнительно. Роль Егора Прокудина требует полного в него перевоплощения — либо, наоборот, остранения, отчуждения от героя.
Может быть, роковую ошибку режиссер Василий Шукшин совершил при распределении ролей, поручив главную роль в «Калине красной» актеру Василию Шукшину?
Или, напротив, оказался как художник недостаточно смел, чтобы решиться на сугубо автобиографический фильм, как спустя всего год Андрей Тарковский в гениальном «Зеркале»?
Так или иначе, преувеличенный и идеализированный герой нуждается в трезвой беспристрастной оценке, а ее-то и не оказалось — место автора вынужден занять зритель.
Требуется: отделить роль от ее исполнителя. Разъять героя и автора.
Что и сделал сам автор. Увы, не в фильме, а в предсмертных к нему комментариях. В том числе в телефонном со мной разговоре. Плюс — в парочке предсмертных интервью.
В отличие от большинства рецензентов «Калины красной», отнесшихся к Егору Прокудину апологетически и умиленно, сам Шукшин решительно открестился от идеализированных характеристик своему герою, настаивая на том, что эмоциональные симпатии зрителей непутевому парню недостаточны, есть высший суд — суд разума, а разум обязан анализировать, на то он и разум.
Шукшин считал, что Егор Прокудин пошел по пути «компромисса с совестью, предательства — предательства матери, общества, самого себя. Жизнь искривилась, потекла по законам ложным, неестественным… Вся судьба Егора погибла — в этом все дело, и не важно, умирает ли он физически. Другой крах страшнее — нравственный, духовный. Необходимо было довести судьбу до конца. До самого конца…»
И еще одна шукшинская цитата: «Судьба в нем самом, а коль скоро так, ничего хорошего она ему не сулит».
Замечательные по своей точности слова. Словесная характеристика корректирует кинематографический образ.
У Егора Прокудина нет необходимого живому человеку иммунитета к опасности, к смерти. После встречи с матерью Егор отрезает себе путь к спасению, он носит смерть в себе, и его гибель — это отчужденная форма самоубийства. «Скажу еще более странное: полагаю, что он своей смерти искал сам», — комментировал Шукшин. Его герой шел навстречу смерти, потому что воспринимал ее не как месть дружков по «малине», но как наказание, как плату, как искупление.
Шукшин признался в художественном просчете, который, возможно, и сделал образ Егора Прокудина двойственным, а авторское отношение к нему в фильме размытым:
— To же обстоятельство, что убивают его мстительные нелюди, а не что-нибудь другое, может быть, мой авторский просчет, ибо у смерти появляется и другой, поверхностный смысл.
Так будем же помнить про отношение к Егору Прокудину его создателя. Как и про отношение Шукшина к другим своим героям.
Бывают художники, которые окончательно и полно выражают себя в произведении искусства — им нечего добавить к уже сказанному. А бывают другие — к ним принадлежал Василий Шукшин: он не успел выговориться в собственном фильме и пытался наверстать упущенное постфактум, торопился досказать свою киноленту, когда та уже триумфально шла по экранам страны. Жизнь картины потекла независимо от ее создателя.
…И мне уже не возвратиться Назад, в покинутый предел, К моей строке или странице, Что лучше б мог, как говорится, Да не сумел. Иль не посмел.Ощущение было такое, что, сказав многое, Шукшин многого сказать не успел.
А тем, что успел, был недоволен. В том числе своими поклонниками — их реакцией на его произведения, их восприятием и трактовкой «Калины красной». Акустика последнего его фильма была превосходной — в полный голос зазвучало то, что задумано было под сурдинку.
Во избежание кривотолков и искажений Василий Шукшин взялся объяснить созданный им образ: не только зрителям, но и самому себе.
«Поэт не только музыкант, он же и Страдивариус, великий мастер по фабрикации скрипок, озабоченный вычислением пропорций „коробки“ — психики слушателя. В зависимости от этих пропорций — удар смычка или получает царственную полноту, или звучит убого и неуверенно». Думаю, эти слова Мандельштама пришлись бы по вкусу Шукшину, хоть сам он и не успел вычислить пропорции зрительской психики, а потому обречен был на авторские сноски к «Калине красной».
Старик Максим из рассказа Шукшина «Наказ» сообщает племяннику одну поучительную историю, «но оттого, что история его не вышла такой разительной и глубокой, какой жила в его душе, он скис, как-то даже отрезвел и погрустнел». Схожее чувство испытывал и Шукшин.
После «Калины красной» — и несмотря на ее бурный успех — он все больше склонялся к литературе. Какой черт его попутал сниматься в фильме Бондарчука, на котором он умер?
Михаил Ромм предсказывал, что рано или поздно ему придется выбрать: кино или литература. Шукшин вспомнил о словах своего учителя незадолго до смерти, в последнем интервью: «И поэтому решаю: конец кино! Конец всему, что мешает мне писать!.. Нет больше никаких компромиссов! Конец суете! Остаюсь со стопкой чистой бумаги».
Постоянно ощущал он неадекватность им созданного той тревоге, которую крепко держал на сердце.
Литературы ему было мало.
Как и кинематографа.
С поразительной для художника решимостью, неизменно как-то возвращался Шукшин к прежним своим сюжетам и героям.
Шукшин был правдив настолько, что стремление к правде и есть его самый большой талант. Искусство для Шукшина — это прежде всего правда, а потом уже искусство.
В этом его главное достоинство и одновременно главный его недостаток как художника.
Символическая эмблематика его последнего фильма искусственна и путана. Песенный образ калины красной, выдвинутый в титры, затуманивается оттого, что Шукшин поручает символику фильма еще и березе, что звучит — в силу некоторой девальвации этого образа — общим местом. Слишком сентиментальны, мелодраматичны и без основания многозначны кадры с березками — символическими подружками Егора.
Это писатель Василий Шукшин идеологически братается с ними, а не Егор Прокудин.
Художественный просчет Василия Шукшина, о котором он сам догадался перед смертью, заключался в том, что он был монополистом и потому поручил метаидею одному герою, а не всему произведению. Не только в «Калине красной» — в ряде своих прозаических произведений он также позволил главному герою захватить власть и установить над остальными диктатуру, а то и тиранию. В его произведениях есть авторские любимчики и пасынки, отсюда — некоторый эстетический перекос.
А заодно и нравственный.
Вот высказывание как раз по этому поводу иенского романтика Фридриха Шлегеля:
«Это даже не тонкое, а скорее довольно грубое проявление эгоизма, когда все действующие лица романа движутся вокруг одного, как планеты вокруг Солнца, причем обычно этот герой большей частью является баловнем автора и становится льстивым отражением восхищенного читателя. Подобно тому, как просвещенный человек для себя и для других является не только целью, но и средством, так и в просвещенном произведении искусства все герои должны быть целью и средством одновременно. Вся структура произведения должна быть республиканской…»
Лично я на стороне второстепенных, отодвинутых на задний план маргиналов, заслоненных главными. Мне всегда кажется, что именно за их счет счастливы или выдвинуты на авансцену главные герои. В «Вишневом саде» мне больше всего жалко всеми забытого Фирса, и этого я не могу простить Раневской — весь романтический флер ее образа этой ее забывчивостью сведен для меня на нет.
Когда герой «Калины красной» говорит, что он никем больше не может быть на этой грешной земле — только вором, я благодарен Василию Шукшину за то, что своего отверженного и обиженного героя он извлек из литературного небытия и дал ему в искусстве «хлеб и угол». В литературе, как и в жизни, идет борьба за существование: не писателей между собой — я не о том! — а героев, и я на стороне Золушки, Треплева, Иванушки-дурачка, Гамлета, но и Лаэрта — то есть героев, которые обделены прерогативами, вниманием, симпатией, королевством или наследством. Ведь Егора и в самом деле жаль — и его пропащую, даром загубленную жизнь, и трепетную, крученую, наскипидаренную, остервенелую его душу.
Только брошенную им мать жалко больше. На этом я настаиваю.
И понятная вроде бы комплексующая агрессивность Егора к людям все же не оправдана. Хочется взять под защиту и шофера такси, и официанта в ресторане, и директора совхоза, и почтового работника, и девушку-следователя, на которых мимоходом обрушивается мощная волна бессмысленной злобы Егора: нет у них вины перед Егором никакой.
Раскаяние не оправдывает человека, мы живем один раз и набело, черновиков в жизни нет, как и индульгенций. В детстве мы невинны и потому жаждем справедливости, писал Честертон. Став взрослыми, мы уже виновны и надеемся на справедливость.
В фильме Егор с самого начала окружен трагическим кольцом: человек, который от других требует то, чего нет в нем самом. Себя ему жалко, других — нет.
Он безжалостен к другим, потому что всю свою жалость израсходовал на себя.
Про него можно сказать то же, что Лев Шестов про героев Достоевского: по поводу своего несчастья они зовут к ответу все мирозданье.
Это теория «козла отпущения», и автор ее не Егор Прокудин, хотя и не Василий Шукшин.
Скорее, ее адепт.
Это поиски причины во вне, а не внутри: будто всё, что нас окружает (в том числе государство), не нами же создано, а скажем — марсианами.
Апофеоз этой «инопланетной» точки зрения — в историческом романе Василия Шукшина, где Егор Прокудин перенесен на несколько столетий назад и назван Стенькой Разиным.
Что же до современного Прокудина, то для него весь мир чужбина. За мгновение до смерти он с нежностью и тоской вспоминает о тюрьме. Как тут не сравнить его с «шильонским узником», который сдружил свою жизнь с неволей — навсегда.
Несвободный человек свободен только в тюрьме.
Егора все время подмывает куда-то бежать, бежать без оглядки, куда глаза глядят — только чтобы не остаться наедине с собой: как считал В. О. Ключевский, черта сугубо национальная.
Егору кажется, что можно убежать от себя, но нет таких дорог: позади всадника усаживается его мрачная забота (Гораций).
Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Здесь уже и ссылка не нужна.
Душевная жажда Егора — от душевной пустоты.
Когда-то Ницше обронил фразу столь же безумную, сколь и циничную: «Человек есть нечто, что должно преодолеть».
Правду Шукшин ставил превыше всего — даже выше искусства. Превыше правды стояла у него только страсть. Она застилала ему глаза, и тогда он ничего не видел окрест и ничего не понимал. И страсть эта была — ненависть. Вот ее главный аргумент — помните безумного Лира:
…Я не так Перед другими грешен, как другие — Передо мной.Но у короля Лира хватило мужества поймать себя на игре в поддавки, на демагогии, на эгоизме: утвердив мнимую меру своей грешности, он через несколько минут корректирует свою мысль — уже не умом, скорее совестью:
Мой бедный шут, средь собственного горя Мне так же краем сердца жаль тебя.Вот этого «края сердца» и не хватало часто шукшинским героям и их создателю. В плане художественном это определило слабость его концептуальных построений — по сравнению с его мощным натуралистическим фактографом. У Шукшина хватило, однако, честности дать читателю в том числе и объективный материал против своего героя.
Его героев жалко, но еще больше — их страшно. И не дай бог, кстати, их пожалеть — рад не будешь, костей не соберешь. Возможно, я совершаю незаконную операцию, извлекая героев из художественной структуры и ставя рядом с собой, но сделав так, я прежде всего их боюсь. Того же Егора — на экране я его еще могу жалеть, а в жизни — боюсь. Боюсь алчущей, неразборчиво-агрессивной и пустой его души, боюсь потому, что он способен на все, и его бунт бессмыслен и беспощаден. Я представляю шукшинского героя сослуживцем, соседом по квартире, случайным попутчиком, да просто встречным-поперечным — жуть!
Я боюсь обиды на жизнь его героев. Эта обида — их стимул и кредо. А обида хуже злобы, она разнонаправлена и не разбирает правых и виноватых, но ищет точку приложения для своего непочатого энергетического ресурса.
Есть у Шукшина рассказ «Материнское сердце». О том, как обманутый в городе деревенский парень Витька накопил в своей груди такую мстительную силу, что, не имея под рукой своих обидчиков, стал крушить налево и направо. Снял ремень с медной бляхой, а в ней еще свинцовая блямба, и давай ею бить по головам неповинных сограждан. Среди прочих угодил и милиционеру. Воистину: не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный.
Витька, скорее всего, не типичный преступник в обычном понимании этого слова, но его социальная дебильность, присвоенное им право на самосуд и слепая сила опасны, и срок он получит заслуженно.
Обивает пороги судебных учреждений Витькина мать, плачет, убивается, просит за сына. «Странно, — пишет Шукшин, — мать ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление, она знала одно: с сыном случилась большая беда».
Любовь Шукшина к своим героям сродни материнской.
Его мужество в том, что он избрал весьма трудные для любви объекты, ибо чем человек отверженнее, тем труднее его любить.
И тем больше он в любви нуждается.
Человек — любой! — имеет право на сочувствие, ибо аgпosco fratrem, узнаю себе подобного. И самое трудное узнать себе подобного в том, кто на тебя не похож.
Возможно, у меня сейчас не хватает таланта — или любви — на такое узнавание.
Я не менее тенденциозен, чем Шукшин.
Размышляя над человеческой бедой — частной и всеобщей, человека и этноса, — Шукшин искал причины вовне. Козлом отпущения он избрал государство, взвалив на него всю тяжесть ответственности за бедственное положение современного ему человека.
Государство он рассматривал как сугубо внешнюю, абстрактную и анонимную силу — будто не является оно производным человека, этноса и истории.
Он снял вину со своего героя, возложив ее на государство. Приведенные им примеры жестокие и убедительные.
Я не знаю, на каком уровне Шукшин сталкивался с государством — цензурные условия были тогда таковы, что он смог назвать всего несколько его представителей, на самой низкой ступени служебной лестницы, но и самых влиятельных в глазах маленького человека, ибо страшнее кошки зверя нет — для мышки.
Вот три этих страшных зверя — бюрократ, продавщица, вахтер. Люди, которые выступают от имени государства и именем государства вершат свои дела.
По своей природе и должностной номенклатуре они тоже маленькие люди, супермаленькие, и у них тоже на сердце обида, и именно эта обида сублимируется и реализуется в самодурство и хамство, ибо нет хуже тирана, чем раб.
Свой среди своих, Шукшин знал своим цену. У него было типичное лицо — его узнавали на улице, но долго не могли вспомнить, где видели: на Севере, куда ездили за длинным рублем, или в отделении милиции, или в подворотне, где раздавили одну на троих и тянули из горлá?
Таким труднее всего. В магазине, в парикмахерской, в очереди, в конторе — ежедневно, ежечасно ему приходилось сдавать экзамен на право быть человеком и получать пайковый минимум жизни — кулек апельсинов или справку от врача. Куда ни шло еще интеллигенту, хотя и тот хватается за сердце, услышав вежливый отказ чиновника или отборную брань продавщицы. Сами отморозки, своего они ненавидят больше — отмежевываются от него, заметают сходство, мстят за собственное унижение.
Взаимной агрессии Василий Шукшин дал односторонний анализ.
Он написал несколько рассказов о неистребимом хамстве — в магазине, в ресторане, в больнице: всюду! Герои Шукшина обижаются, озлобляются, в ответ, сгоряча, могут наломать дров. Шукшин написал о смертельной обиде совершенно бесправного человека, у которого всего-то и есть достоинство, но и оно задергано, растоптано, попрано и уничтожено.
Самый эмоциональный его рассказ — «Обида», когда Сашку Ермолаева унизили на виду у малолетней дочки, унизили небрежно, походя и подло — в магазине. И так получается, что другого выхода у Сашки нет, кроме преступления. Иначе жить дальше невозможно. Потому что эта обида не сама по себе, но в цепи множества ей подобных, больше-меньше, за ней стоят другие, которых она и есть чрезвычайный посол и полномочный представитель. Вся жизнь — обида, а эта — последняя капля в чаше Сашкиного терпения. Бытовая его обида становится обидой политической по окраске и по преимуществу.
Шукшин и сам держал на сердце Обиду. Он написал рассказ «Ванька Тепляшин» о том, как не пропускают в больницу мать к сыну, потому что не приемный день, и как оскорбленный Ванька Тепляшин пускает в ход кулаки, потому что может он — когда доведут — соскочить с зарубки. И рассказа этого Шукшину показалось недостаточно, и он написал еще «Кляузу» и опубликовал ее в «Литературке» — за несколько дней до смерти.
«Кляуза» — это не рассказ. Это ябеднический документ. Отчет об инциденте в больнице: к больному Василию Шукшину не пустили друзей — тогда вологодских писателей Василия Белова и Виктора Коротаева. Мало того что не пустили — еще и жестоко обхамили всех троих. Василий Шукшин честно обо всем этом написал, а в заключении привел «кляузу», которую его товарищи послали главврачу клиники.
О, это ябедничество, русская наша исконная, неизлечимая болезнь — какие там лекарства, ничего не поможет и помочь не может…
Крик о помощи — подметные письма: в газету, в ЦК, в ООН…
Вроде бы старая как мир тема. Кто главный человек в России? Околоточный — без тени сомнения отвечал Чехов. Помнил ли об этих словах Василий Шукшин?
Ему было недостаточно искусства — он шел напролом: пытался документально обосновать свою тревогу и свою обиду.
Вслед за Сухово-Кобылиным он мог бы сказать, что писал с натуры. И такое даже ощущение, что искусство ему мешало — он не хотел посредников между реальностью и читателем. И остро, болезненно ощущая недостаточность имевшихся в его личном распоряжении художественных средств, Шукшин решительно пересекал демаркационную черту, отделяющую художку от реала, и говорил языком самой жизни.
Он был не столько художником, сколько — как и его герои — чудиком, придурком, охламоном: отечественный тип правдоискателя и ультраправдиста.
Правда в его прозе приобретала значение политического факта и соответственно — художественного.
Он ввел в литературу кляузу, жалобу, обиду.
И Обида растеклась по его прозе и по его фильмам и окрасила их кроваво.
Сдерживаемый оптимистическим уставом советской литературы и подцензурным ее существованием, он смог реализовать трагическое свое сознание только однажды — в историческом романе о казацком атамане Стеньке Разине.
Пожалуй, трудно назвать шукшинского Стеньку Разина историческим героем — уж очень он похож на обычных, современных героев Шукшина. Такой же «крутой, гордый, даже самонадеянный, несговорчивый, порою жестокий — в таком-то, жила в нем мягкая, добрая душа, которая могла жалеть и страдать».
Привожу шукшинскую жалостливую характеристику, хотя по прочтении романа согласиться с ней трудно.
Обычный шукшинский характер, психологический стереотип, перенесенный в прошлое, чтобы проверить в большом масштабе его наклонности и потенции — что же сумеет сделать этот герой, если выпустить его на исторический простор и дать волю и перспективу?
В плане положительном — немного.
В плане негативном — море крови: выброс персидской княжны в набежавшую волну — самый невинный из его поступков.
Шукшин написал резко и решительно антигосударственный роман. Первое, что делал, захватив город, Стенька — жег бумаги: ненависть не только к бюрократизации русской жизни, но и к цивилизации вообще. Какая, к черту, цивилизация, когда вслед за бумагами Стенька зверски расправлялся с властями предержащими, не делая исключения ни для их жен, ни для детей — и изуродованные трупы плыли по Волге.
Стенька Разин в обрисовке Шукшина — бандит, припадочный, садист, изверг, изувер. И тем не менее Шукшин берет его сторону.
«Государство к тому времени уже вовлекло человека в свой тяжелый, медленный, безысходный круг: бумага, как змея, обрела парализующую силу!»
Поразительно, что исторический сюжет романа разворачивается во времена Алексея Михайловича, царя доброго, милосердного, либерального — словно не утолен народом голод по жестокости, и стóит государству ослабить полицейские функции, как этот недобор тут же восполняет сам народ в лютой, неуемной и неутоленной ненависти, тоскуя по резне.
Отнюдь не идеализируя русское историческое государство — вплоть до теперешних дней, — я считаю упрощением валить на него все грехи.
Выбор героев у Шукшина — все равно, современных либо исторических — происходил по сугубо личным причинам: по аналогии с собственными раздумьями о жизни.
Вот в чем причина его самоличного появления в своих фильмах в качестве актера: единый по существу, тройственный ипостасями.
Нервные, вспыльчивые, неприкаянные, обидчивые, злые и несправедливые, его герои были плоть от плоти их автора: не двойники, но связаны генетически, из того же теста, того же замеса. Пуповина не разорвана даже когда растянута. Они — не интеллектуалы, думать не привыкли, но нужда — политическая и духовная — заставляет, и их мозги, как жернова, перемалывают пережитое и перевиденное.
Всерьез и полноценно рассказал про все это Шукшин только однажды — в рассказе «Штрихи к портрету. Некоторые конкретные мысли Н. Н. Князева, человека и гражданина».
Николай Николаевич Князев, живя в райгородке и ремонтируя телевизоры, исписал «по совместительству» восемь общих тетрадей своими мыслями о государстве. И к кому бы ни обращался Князев со своими тетрадками, все смотрят на это его занятие как на опасное чудачество, а на его размышления — как на несбыточную утопию.
Государство — это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причем этажи постепенно сужаются, пока не остается наверху одна комната, где и помещается пульт у правления.
…Представим себе это огромное здание в разрезе. А население этажей — в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, все здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже — «X» — уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие: перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получат дополнительную нагрузку: закон справедливости нарушен…
Шукшиным схвачена важная черта современной ему русской жизни — доморощенное русское правдоискательство, политически акцентированное и заостренное.
Для окружающих такой правдоискатель выглядит безумцем — и к нему соответственно относятся.
Между прочим, этот рассказ Шукшина был воспринят скорее иронически, чем всерьез — еще один чудик нашелся! В упомянутой уже статье в «Правде» у меня вычеркнули вышеприведенную цитату из этого рассказа, удивившись, что я принимаю героя всерьез. Так испокон веков обезвреживали на Руси правдоискателей…
А между тем отечественное искусство, обнаружив в народе тетрадочную эту манию, отнеслось к ней с полным вниманием.
Вышел в то время на экраны фильм «Премия» по сценарию Александра Гельмана — там бригадир Потапов (в классном исполнении Евгения Леонова), придя в ужас от бардака на стройке, где он работает, приносит в партком свои тетрадочки — с более локальными, чем у Князева, но не менее острыми наблюдениями.
У Бориса Слуцкого есть свой Николай Николаевич Князев, хоть и не названный поименно — в стихотворении «Косые линейки» (привожу с сокращениями):
Косолинейная — в стиле дождя — ученическая тетрадка. В ней сформулировано кратко все, до чего постепенно дойдя, все, до чего на протяжении жизни додумался он, что нашел. В ходе бумажного передвижения это попало ко мне на стол. …Впрочем, подробности эти — технические. Мысли же — мученические, а не ученические. Сам дописался, додумался сам! Сам из квартиры своей коммунальной вызовы посылал небесам. …Я постараюсь ужó, чтоб Москва, Я поработаю, чтобы Россия тщательно прочитала слова, вписанные в линейки простые.Собственно, забота Василия Шукшина о том же — чтобы мысли государственного человека Николая Николаевича Князева узнала Россия.
Лбом об стену.
Кто из них наивнее — Николай Николаевич Князев или Василий Макарович Шукшин?
Приключения человека и гражданина Н. Н. Князева печально завершаются в отделении милиции, куда его отводят предусмотрительные сограждане, препятствуя совершенно легальному его поступку — посылке почтой восьми злополучных тетрадей в центр. Последняя глава этого рассказа называется «Конец мыслям».
Мыслям и в самом деле конец: стопочка тетрадей, на которые Князев потратил семь лет, исписав их своими раздумьями о государстве, — на столе у начальника милиции.
Политический поиск Н. Н. Князева бюрократически пресечен, резко, на полном ходу, заторможен — конец перспективе.
Начальник милиции раскрывает первую тетрадь, которая начинается с «описи жизни»: «…И я, разумеется, стал писать. Я не мог иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям».
А сколько тетрадочек исписал Василий Шукшин?
Восемь?
Восемь с половиной?
Судьба у него трагическая — внезапная смерть в сорок пять лет. Один в поле не воин, он не выдержал борьбы за истину, за ее жизненный минимум, который явно не ко двору, но без которого — никак.
Не алкоголизм, а мания правдоискательства привела его к острой сердечной недостаточности: в октябре 1974 года он умер на съемках чужого фильма.
Что касается меня, то я хочу сейчас понять феномен Шукшина, а не возложить на его могилу очередной словесный венок.
Гостевой отсек
Зоя Межирова — Евгению Евтушенко
Изнывающие звуки
Воспоминание 2010 года
Зимняя заснеженная Москва. Сугробы и черный лед под ногами. Я иду по Тверской в ее вечерних огнях среди спешащих безучастных прохожих. А в воздухе февраля — протяжными тугими толчками звучат, мучая и не отпуская, поющие наплывающие звуки: Окно выходит в белые деревья…
Я выбрала этот вечер и иду в Торговый Дом Книги «Москва», потому что в эти дни — юбилей стихотворения, которым теперь совсем неспроста названа книга, — юбилей лирического шедевра, написанного 23-летним поэтом, почти мальчиком, может быть, в такие же февральские дни его молодости, 55 лет назад.
Я решила отпраздновать юбилей стихотворения тем, что сейчас куплю книгу издательства «Прогресс-Плеада» и снова увижу этот стих на страницах, и опять, с подступающим к горлу комом, прочитаю давно знакомые строки.
Сияет Тверская в банковско-супермаркетовско-ресторанном клокотанье своих реклам и, ничего, кроме себя самой, не желая знать, мчится мимо. Профессор долго смотрит на деревья. / Он очень долго смотрит на деревья/ и очень долго мел крошит в руке… — поют, так же долго и так же медленно и протяжно, гласные и тянут свою упрямую упорную мелодию повторов. И густые волны эти подмывают зимний воздух улицы, изменяя и ритм ее, и пространство, но это не ведомо никому. Ведь это просто — правила деленья! / А он забыл их — правила деленья! / Забыл — подумать — правила деленья! / Ошибка! Да! Ошибка на доске! — отпускает в конце строки свой тягучий текучий ритм мелодия.
Что предвещают, магически ворожа, строки? К чему ведут своим неотвязным наплывом? И замираешь уже в предощущении того, что еще предстоит. И вот они начали повествование, в котором почти и нет сюжета, а только одна музыка сострадания —
Мы все сидим сегодня по-другому, /и слушаем и смотрим по-другому, / да и нельзя сейчас не по-другому, / и нам подсказка в этом не нужна. / Ушла жена профессора из дому. / Не знаем мы, куда ушла из дому, / не знаем, отчего ушла из дому, / а знаем только, что ушла она.
Простой, кажется, безыскусный, открытый мотив, сколько в нем осторожной бережности, и в звуках сколько внимания и заботы! Так говорится — о своем, не о чужом.
Но нет — мотив не безыскусный, он только кажется простым из-за своей внутренней стройности, в нем такая наполненность продленного звука и тон его уже сам по себе — состояние.
И не жалость, а сопереживание в самозабвенной пластике строки. В костюме и немодном, и неновом, — / как и всегда, немодном и неновом, — / да, как всегда, немодном и неновом, — с мучительной настойчивостью повторяет мелодия рыдающим звуком, — /спускается профессор в гардероб. / Он долго по карманам ищет номер: / «Ну что такое? Где же этот номер? / А может быть, не брал у вас я номер? / Куда он делся? — Трет рукою лоб. — / Ах, вот он!.. Что ж, как видно, я старею, / Не спорьте, тетя Маша, я старею. / И что уж тут поделаешь — старею…» / Мы слышим — дверь внизу скрипит за ним. / Окно выходит в белые деревья, — взмывает интонация — вот он катарсис, выброс энергии накопившихся изнывающих звуков, подготовленный ровным плато многократных «и», — божественный катарсис, такой редкостный вообще для стихов, — /в большие и красивые деревья, / но мы сейчас глядим не на деревья, / мы молча на профессора глядим. Сколько времени сердца уделено, потрачено на эту упоительно ноющую мелодию, на это сострадание, на его текучесть и протяжность, на эти наплывы рыдающего воздуха. И какая изумительная и тревожащая мера недосказанности.
И вот я у входа в магазин. Черный лед и сугробы. И тепло больших сияющих залов с множеством книжных полок и пластиковых книжных стендов, вынесенных ближе к центру, которые представляют, рекламируя, самый ходовой товар.
Я прошу мне дать книгу Евгения Евтушенко, говорю, как она называется, и сразу чувствую, что продавщица чуть в растерянности. Но по телефону мне сказали, что книга есть. Семеня и исчезая за тяжелой дверью, ведущей куда-то в подвал, девушка надолго пропадает.
Я терпеливо жду. Но ее все нет и нет, и ожидание уже превышает все допустимые сроки.
Тогда я подхожу к прилавку с кассой и прошу помощи. В этот момент продавщица появляется из-за тяжелой подвальной двери, но, к моему удивлению, с пустыми руками.
Она подводит меня к полке совсем крохотного углового закутка, который и есть поэтическая секция, и, неуверенно пошарив глазами, снимает и протягивает мне книгу. «Сколько у вас экземпляров?» — спрашиваю я. «Два», — слышу в ответ. «Всего два?!.» — я не верю ее словам. Этого не может быть!.. Ведь это центральный книжный магазин…
«На каждой есть стихотворная авторская надпись… — не обращая внимания на мое ошеломленное восклицание, продолжает девушка. — Вы можете любую выбрать…» — «А почему у вас только две книги?..» Слабая, чуть кривая улыбка обиды сводит лицо.
Но продавщица уже вежливо ускользнула.
И я одна в крохотном угловом закутке секции поэтических сборников… Уходит он, сутулый, неумелый, / какой-то беззащитно неумелый, / я бы сказал — устало неумелый, / под снегом, мягко падающим в тишь. / Уже и сам он, как деревья белый, / да, как деревья, совершенно белый, / еще немного — и настолько белый, / что среди них его не разглядишь… И снова сострадание повторами самозабвенно настаивает и отстаивает… И бессознательная поэтическая интуиция «надзирает» за Музыкой.
Я выбираю книгу с надписью, которая мне больше понравилась, расплачиваюсь и выхожу на улицу.
А мелодия стихотворения, та мелодия, единственные звуки которой невозможно перевести ни на один другой язык, одиноко поет и плачет и над собой, и над старым профессором, и над всеми нами, и я плачу, неся книгу в магазинном фирменном пакете.
А Москва, леденея в ночной мгле, безучастно и невозмутимо грохочет и мчится мимо в клокотанье своих реклам, не желая знать о беззащитной музыке наших слез.
Эссе Зои Межировой «Изнывающие звуки» было опубликовано в «Независимой газете» 28 мая 2015 г. и в «Московском комсомольце» 25 июля 2015 г.
* * *
Евгению Евтушенко
С лицом, оплывшим Cвечным нагаром, Ты кажешься старым. Но я-то вижу Cквозь дней отдышку Того же мальчишку, — Морской пират, Мушкетер, раскольник, Застенчивый школьник — В тебе сошлись, Без труда совпали, Другими не стали. И силы ярость В душе все та же, Раденья на страже, — Под низкой лампою в кабинете — Сладчайшие сети. Взовьется дух В животворных строчках и Взорвавшихся почках. В них вихрь надзвездный И смерч наземный, — Словам подъяремный. И вспыхнет в сердце Весны цветенье, Строки наважденье! Мечта — пронзительней Солнечной спицы — Стихами пролиться.Стихотворение напечатано в «Независимой газете» 21 января 2016 г.
Быть Александром Вампиловым Праведники & грешники
В благочестивых ты благочестив и в неправедных неправеден…
Александр Вампилов утонул в Байкале 17 августа 1972-го, не дожив всего двух дней до своего тридцатипятилетия: он банального 37-го года рождения, как Белла, Юнна и многие другие евтушенки-шестидесятники.
Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу…Данте в этом возрасте спустился в преисподнюю, Вампилов погиб, когда перевернулась моторная лодка.
Подпольная, кулуарная при жизни, его слава после смерти стала открытой и повсеместной. Трагическая смерть — вот парадокс! — закрепила его место в искусстве. Мне бы хотелось, однако, поговорить о пяти пьесах Александра Вампилова так, словно трагической этой «иркутской истории» не было вовсе — поговорить о Вампилове как о живом, отделить искусство от смерти, от моды, от китча. Не путать два все-таки разных жанра — некрологический, то есть мемориальный, и литературный, то есть эссеистский.
Жаль, что нет театра, в котором шли бы все его пьесы. Может быть, книга его избранного заменит нам такой театр?
Вряд ли. У нас нет привычки к чтению пьес. Я помню, как стояли невостребованными в библиотеках томики Евгения Шварца и Александра Володина, в то время как на спектакли по их пьесам билеты рвали с руками. У нас нет культуры чтения драматургии — читатель рассматривает ее как подмалевок либо эскиз к театральному представлению. Зачем тогда читать, когда можно смотреть? Зачем дуб, когда есть желуди?
Как раз я люблю читать пьесы. Может быть, дело в том, что пять лет я отбарабанил в театре завлитом. Скорее, однако, эта должность могла отвратить от драматургии: шутка ли, двести пьес в год — таков самотек в театре! Однажды меня попросили отобрать пьесу Островского к его юбилею — я залпом прочел все сорок семь его пьес, и ощущение чего-то грандиозного и необозримого не проходит у меня до сих пор. Воистину, нельзя объять необъятное.
Да и в прозе я больше всего люблю диалог — реальность, жизнь, действие — и порою — признáюсь, грешен! — пропускаю описания. «Белой гвардии» Булгакова я предпочитаю написанную по мотивам этого романа его пьесу «Дни Турбиных».
Пусть Шекспир писал для театра, а все равно драматургия — это прежде всего литература, и только потом театр. Может быть, это самый современный вид литературы: динамичный, действенный, сквозной. Читатель пьесы — лучший ее режиссер.
А писателя надо читать подряд, всего, насквозь — чтобы отделить постоянное от случайного, личное от заемного, лейтмотив от оговорки.
Я долго думал, кого из двух моих любимых драматургов-шестидесятников выбрать для этой книги — кого из двух Александров. Так и не решив эту дилемму, пишу этот портрет Вампилова, а Володину посвящаю рассказ «Капля спермы».
Прочитанный насквозь Александр Вампилов предстает не только как искусный драматург и честный исследователь жизни, но еще и как философ — создатель собственной нравственной модели. И недостаточность — все же! — театральных и критических интерпретаций драматургии Вампилова связана как раз с тем, что его пьесы берутся по отдельности, изолированно, без учета того общего, что свойственно всему его драматическому циклу, пусть незаконченному, — того концептуального освещения, которое отбрасывает целое на частности: темы, сюжеты, мотивы, настроения…
Менее всего я хочу приписать Вампилову некий этический императив, моральный ригоризм, нравственную риторику. Создавая свою модель, он исходит из реальности и ни разу о ней не забывает, но ею не ограничивается. Не жизнь, но образ жизни — modus vivendi. Помимо реальности и в непосредственном соседстве с ней — ее концептуальная выжимка, отстоявшийся вывод, этическое резюме.
Выписываю у Альберта Эйнштейна:
Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира; и это не только для того, чтобы преодолеть мир, в котором он живет, но и для того, чтобы в известной мере попытаться заменить этот мир созданной им картиной.
Этим занимается художник, поэт, теоретизирующий философ и естествоиспытатель, каждый по-своему. На эту картину и ее оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, которые он не может найти в слишком тесном головокружительном круговороте собственной жизни.
Сочтем эти слова за существенную поправку к реалистическому уставу. Тогда мы легко простим Александру Вампилову условные, неправдоподобные повороты сюжетов — от попавшей не по адресу записки Шаманова в «Прошлым летом в Чулимске» до двадцатиминутного явления ангела в «Провинциальных анекдотах». Да, это натяжки — если соизмерять их с реальностью, но они необходимы Вампилову для создания и оформления его концептуальной модели.
В каждой пьесе Александра Вампилова неприкаянно бродит среди прочих персонажей некий сверхположительный персонаж, этакий князь Мышкин, праведник, святой. Сконструированный этот герой помещен в реальную ситуацию окрестной действительности. Вампилов ставит опыт, варьируя его в сюжетах: что изменится в результате этого явления — грешный наш мир или само это ангелическое существо?
Добрый человек из Сезуана?
Христос из легенды о Великом Инквизиторе?
Иегова из древнего мифа — неузнанный, непризнанный, изгнанный?
Праведник, без которого не стоит село, а по утверждению Солженицына — ни город, ни вся земля наша?
Судьба грешного Содома обсуждалась двумя небезызвестными лицами, они торговались, как два еврея на базаре, но товар того стоил!
— Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников?
— Если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие.
— Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город?
— Не истреблю, если найду там сорок пять.
— Может быть, найдется там сорок?..
Тридцать, двадцать, десять, один: Лот (женщины в счет в те древние времена не шли). Оправдано ли наше бытие в мире присутствием в нем праведников? Судьба слова во времени витиеватая, путаная, противоречивая. Слово «святой» в русском языке скорее прилагательное, чем существительное. А какие от него производные! Святой — святоша! Но святой — святыня! И все равно, религиозное содержание из слова выветрилось, зато человеческое — осталось.
Не пример для подражания — человек не обезьяна, а люди не ангелы — но, может быть, маяк, или вектор, или просто корректив к нашему пути по жизни. Гоголь писал о неравных уделах и об уделе быть передовою, возбуждающею силой общества. У Пушкина есть стихотворение о встрече демона с ангелом.
Не так-то все, однако, просто…
Второй из «Провинциальных анекдотов» Вампилова так и называется — «Двадцать минут с ангелом». Двум севшим на мель командировочным нужна трешка, чтобы опохмелиться. Соседи по гостинице в «помощи» отказывают, зато агроном Хомутов — «ангел» — предлагает сто рублей. Вот тут и начинается всеобщая нервотрепка: сумасшедший? идеалист? пьяный? жулик?
— Зачем же ты людям нервы трепал, а? Богородицу из себя выламывал, доброго человека!
— Да откуда ты такой красивый? Ну? Откуда ты явился? Уж не ангел ли ты небесный, прости меня, Господи?!
— Он всех нас оскорбил! Оклеветал! Наплевал нам в души! Его надо изолировать и немедленно!
— Звоните в больницу. Это мания величия, определенно. Он вообразил себя Иисусом Христом.
Такова реакция окружающих на явление «ангела». Агронома оскорбляют, избивают, связывают и допрашивают. Его бескорыстие повергает всех в недоумение и уныние: оно необъяснимо, беспричинно, не укладывается в обычную норму поведения. Хомутов смущает, колеблет покойное и привычное существование Анчугина, Угарова и других: им надо измениться, стать другими — либо изменить Хомутова, свести на общий, «свой» уровень его поступок, подвести его под общий знаменатель. И под угрозой дальнейших истязаний, они вынуждают у Хомутова правдоподобное «признание»: шесть лет не посылал матери деньги, она умерла, и он решил отдать их первому, кто в них нуждается больше, чем он. Объяснение, кстати, достаточно жалостливое, слезливое, внятное — и Хомутов принимает искренние соболезнования бывших своих истязателей.
Вампилов не указывает, в чем же истинная изнанка поступка Хомутова — в бескорыстии или угрызениях совести? Какой породы этот человек — ангелической или обычной? В любом случае, однако, чистое добро в этом водевиле вынуждено притвориться раскаявшимся злом. Что более внятно, правдоподобно и безопасно.
В «Прощании в июне» рассказана притча о взяточнике (грешнике) и ревизоре (праведнике). «Грешник» работает в мясном магазине — людей не обижает и себя не забывает. Нагрянувшему, как снег на голову, ревизору «грешник» предлагает взятку — тот не берет. Добавляет — все равно не берет. С перепугу «грешник» отдает все, что у него есть, — и снова натыкается на отказ. Получив по совокупности — недостача в магазине плюс взятка — десять лет и честно отсидев их, «грешник» возвращается в родной город и встречает ревизора. «Ну, — говорит, — дело прошлое, а скажи-ка ты теперь мне, дорогой товарищ: сколько тебе тогда дать надо было?» «Грешник» копит деньги, покупает машину, дачу и снова приходит к «праведнику»: возьми! Но праведник выгоняет его из дома.
Искусить, соблазнить, совратить «праведника», расшатать его пьедестал, свести на нет его деятельность, переделать по своему образу и подобию — иначе жить «грешнику» невмоготу.
Или-или.
Или: нет пророков в своем отечестве, одним миром мазаны, все под себя гребут, и ты такой же, только притворяешься либо по крупному играешь, всё одно.
Или: срочно пересматривай свою жизнь и начинай новую.
Vita nuova!
— К черту гостиницу! Завтра же ноги моей здесь не будет! Кончено! Я начинаю новую жизнь! Ухожу на кинохронику! — кричит Калошин в «Истории с метранпажем», хотя неизвестно, начнется ли у него новая жизнь или все останется по-прежнему.
Снова мнимая сюжетная точка — Александр Вампилов был искусным мастером таких неопределенных, колеблемых, вариативных концов.
Да и не только концов. Колеблется само понятие жанра у Вампилова — драма? мелодрама? водевиль? притча?
Все начинается с анекдота, который, однако, грозит превратиться в трагедию. Испуганный Калошин притворяется больным, но в этот момент с ним случается настоящий сердечный приступ. Все с ним прощаются — типичная сцена «у постели умирающего», но приступ проходит, и Калошин решает начать новую жизнь. В «Старшем сыне» (в параллель «Старшей сестре» Володина) Васенька грозится убить Макарскую, и в самом деле в конце концов поджигает ее дом, застав с ухажером, но все остаются живы, и сцена с погорельцами вызывает смех, а не слезы. В «Прощании в июне» Букин и Фролов «играют» в ревность, игра внезапно переходит в серьезное «окончание», они идут стреляться, но дуэль кончается убийством… сороки: агнец на месте Исаака, да? «Утиная охота» начинается со зловещего розыгрыша — друзья посылают Зилову похоронный венок, но Зилов неожиданно и в самом деле решает покончить с собой. Тогда друзья берут с него слово, что он употребит охотничье ружье по назначению и пойдет с ними на утиную охоту. Этим взятым силой «обещанием» пьеса кончается — чем кончилась эта история в действительности, читатель может строить только догадки.
Так, на самом краю трагедии разворачиваются все анекдотические сюжеты Александра Вампилова.
Традиционно-трагические атрибуты — различные виды оружия — символически присутствуют чуть ли не во всех водевильных ситуациях Вампилова, намекая на кратчайшую возможность разрешения конфликта — с собой ли, с другими ли, не все ли равно? — но все-таки мнимого разрешения: поэтому ни одного убитого в его пьесах нет. Оттого и многоточие в каждой его пьесе — развязки нет, пока есть жизнь.
Если в первом акте висит ружье, в последнем оно должно выстрелить — классическая формула Чехова. Мейерхольд был сторонником сгущающегося по ходу действия символа: в первом акте ружье, в последнем — пулемет. Для Вампилова оружие — это пародийный отказ от драматической условности, но одновременно и намек на трагическую изнанку жизни. Об этой изнанке драматург помнит постоянно и не дает забыть зрителю.
Водевильный сюжет переведен Вампиловым в драматический регистр, но, доведя сюжет до кульминации, Вампилов спускает его на тормозах — трагедия могла произойти, но, к счастью, не произошла или отложена на неопределенный срок. Зритель/читатель весь в напряжении, ожидает самого худшего, но худшего не случается, и мы избавлены от трагического ужаса. То же самое делал Пушкин в «Повестях Белкина»: трагические сюжеты с хеппи-эндами. Та же «Барышня-крестьянка» с влюбленными из враждующих семей — счастливый вариант «Ромео и Джульетты».
«Старший сын» начинается с розыгрыша — студент Бусыгин притворяется сыном Сарафанова, музыканта-неудачника. Сарафанов который уже год сочиняет симфонию «Все люди — братья», но дальше первой страницы она что-то не движется, да и можно ли такую симфонию дописать до конца? Водевиль разворачивается в опасной близости с драмой. «Этот папаша святой человек», — говорит Бусыгин, уловив ангелическую сущность Сарафанова. Обман продолжается уже из сочувствия — тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. Начав с розыгрыша, Бусыгин кончает настоящей сыновней преданностью Сарафанову и родственной заинтересованностью в судьбе его семьи. Любовь начинается со лжи, но оборачивается правдой.
В «Утиной охоте» сюжетная ситуация сложнее. Опустошенный, циничный и равнодушный Зилов встречает Ирину. Его приятель думает, что это очередной адюльтер, Зилов опровергает его предположение: «Ты что, ничего не понял? Она же святая…» Чутье какое-то у вампиловских грешников на святых — так и тянет к ним, как ночных бабочек на фонарь. Ох уж эти опасные связи — праведников и грешников! Не к добру…
Вот как Бабель рассказывает об одной из таких связей в гениальном рассказе «Иисусов грех»: дал Господь бабе Арине ангела в мужья — выпало тебе, Арина, неслыханное на этой побитой земле, благословенна ты в женах!
Мало ей с ангелом спать, мало ей того, что никто рядом на стенку не плюет, не храпит, не сопит, мало ей этого, ражей бабе, яростной, — так нет, еще бы пузо греть вспученное и горючее! И задавила она ангела Божия, задавила спьяну да с угару, на радостях задавила, как младенца недельного, под себя подмяла, и пришел ему смертный конец, и с крыльев, в простыню завороченных, слезы закапали.
Этот фантастический эпизод с умертвлением ангела может быть прочитан и как притча — в связи с концептуальным содержанием драматургии Вампилова.
Зилов — Дон Жуан, которому нужен «ангел», чтобы начать новую жизнь. За «ангела» он принимает Ирину — скорее ангелическими чертами он наделяет молодость и невинность, целомудрие принимает за бесполость. Он забывает про свою жену, ибо она уже бывший ангел, им же когда-то совращенный, обманутый, постаревший. Зилов произносит страстный покаянный монолог перед запертой дверью — он адресован Галине, его жене, а слушает его Ирина. Зилов ищет спасения извне — Галина, Ирина, женщины, ангелы, ему вроде бы и невдомек, что причина зла — он сам, и надо найти силы внутри себя, чтобы стать другим.
Самая страшная история рассказана Вампиловым в последней его пьесе «Прошлым летом в Чулимске».
Здесь сразу же два праведника — таежный житель эвенк Илья Еремеев и удивительная, не от мира сего, девушка Валентина. Эвенк проходит стороной, на периферии сюжета — немыслимая все-таки в современном мире самоизоляция от реальных конфликтов. Илья Еремеев — свят, но какой-то особой, детской, простодушной святостью: вот уж кто — как вольтеров «простодушный» — ничему не учился, а потому не имеет предрассудков. Валентина, напротив, вполне реальна, но только иной реальностью, чем окрестный мир. Ее образу придан символ — нарочитый, слишком прямой, но характерный: она все время чинит ограду палисадника, которую ломают лихие прохожие. Палисадник расположен на пути в столовую и, как говорит один из героев, мешает рациональному движению. Что — верно. Бесперспективность этих починок очевидна, и тем не менее Валентина с каким-то оголтелым упорством продолжает свой Сизифов труд.
Валентину любят сразу двое — усталый, сдавшийся Шаманов и дикий, необузданный Павел. Валентина любит Шаманова, но из жалости к Павлу идет с ним на танцы. Павел совершает преступление: насилует Валентину.
Из всех пьес Вампилова, эта самая милитаризованная: пистолет у Шаманова, охотничье ружье у Павла, дробовик у отца Валентины. Один раз даже Павел стреляет в Шаманова — осечка. Никто никого не убивает, но гнусное надругательство над человеческой личностью совершено. Самое поразительное, однако, что физическое насилие словно бы и не затронуло Валентины — она остается прежней, скверна не коснулась ее, она прошла сквозь это страшное в ее жизни событие незапятнанной.
Вокруг пьес Вампилова возникло много легенд — от поэтизации провинциального быта, к которой будто бы он был склонен, до крушения идеального образа. Из одной еще советской статьи я даже узнал, что теперь — после изнасилования — Валентина навсегда потеряна для Шаманова. На мой взгляд, чудовищная какая-то, античеловеческая позиция, когда домостроевские предрассудки довлеют над элементарными моральными понятиями. С Валентиной случилось жестокое несчастье, но почему оно должно стать преградой для любви Шаманова? Шаманову нужна была Валентина для душевного возрождения, теперь Валентине нужен Шаманов для нравственного, что ли, выпрямления. И именно в этот трагический момент ее жизни — душевно возродившийся Шаманов ее бросит? Что это — домысел критика-совка или недомолвка драматурга?
Может быть, все дело в многоточиях и обрывах Александра Вампилова? В том, что он пошел по новому, неизведанному (или забытому?) пути, показывая человеческие драмы, которым нет ближайшего разрешения? Ведь чем драма отличается от трагедии? В драме те же бездны, тот же ужас, но без очищающего, разрешения. Драма — это трагедия без катарсиса, занавес в ней падает до преображения героев. Ходасевич делал из этого парадоксальный вывод: драма безысходнее трагедии.
Зерно должно упасть в землю, чтобы прорасти. Добро можно нести в мир, только соединившись с людьми — такими, какие они есть. Идеал не сокрушен и не совращен, но совмещен с реальностью, откорректирован ею, пусть даже трагически. В чистом виде ничего в природе не встречается — мир ищет соединений, компромиссов.
Один из героев Вампилова высаживает в Сибири на косогоре альпийскую траву — приживется или нет?
Лихая советская современность проверяется общечеловеческими измерениями, словно бы с нее писателем берется проба — соответствуют ли выбранные им в герои грешники привычным и прекрасным принципам добра, человечности, сострадания, мужества и любви или нет? И есть ли в этом одичавшем обществе место для праведников?
Посвящение-7. Александру Володину: Капля спермы
Рождественский сюрприз
Мои утраченные годы.
Пушкин. ЧерновикХотя у меня была и другая семья и младший сын, Алеша. Та женщина, актриса, умерла. И мой старший сын взял Алешу с собой в Америку.
Александр ВолодинС годами меняется многое. Обиды превращаются в вины. Говорят, это естественно, известно даже медицине. Но вины-то настоящие!
Александр ВолодинБочком, бочком, прячась за спины зрителей, рост позволяет — чтобы самому всё увидеть и уйти незамеченным. Картинки вполне, на уровне, но что тут нового скажешь, если Петербург — балованное дитя художников, с мирискусников начиная: Добужинский, Бенуа, Лансере, Остроумова-Лебедева. Повтор неизбежен, но и вневременная какая-то свежесть наличествует — ветерок с Невы, изящное сочетание посеребренных красок, серая дымка, черт знает что, вот он и высунулся, близоруко разглядывая пепельный пейзаж, и нос к носу столкнулся с автором — и отпрянул неузнанный. Зря боялся: годы берут свое. Конечно, если присмотреться, то разгладятся морщины, вернется волосяной покров на голове, потемнеют усы и виски, выпрямится позвоночник, но никто не присматривается и ходить ему по этому разгороженному зальчику в заштатной галерее Сохо более-менее безопасно: его скорее узнает нью-йоркский, чем питерский земляк.
Другой вопрос — зачем он сюда приперся? Искусства ради, которого в Нью-Йорке навалом и без этой спонсированной каким-то русским скоробогачом выставки? Сейчас вот в Метрополитене Рембрандт с современниками, пять Вермееров включая, и барочные гобелены-шпалеры-тапестри, а напротив, на углу 86-й стрит и 5-й авеню, в Neue Galerie Лодера и Забарского — Густав Климт, который post mortem побил все аукционные рекорды, когда его «Адель» потянула на 135 миллионов. Так чего он притащился в даунтаун на эту во всех отношениях незначительную выставку, коли даже Климт ему не по ноздре, и маленьких голландцев он предпочитает большим, типа Франса Халса и частично Рембрандта? (Вопрос навскидку: к каким голландцам отнести Вермеера — большим или малым?) Из ностальгии, которую он если и испытывает, то по утраченному времени, а не покинутому пространству? Из-за той командировочной интрижки в пару дней, которой не придавал и тем более не придает теперь никакого значения? Или из-за рисковой ситуации и возможной рождественской заварушки, которой скорее всего не будет по причине его неузнаваемости? Человек-невидимка — вот кто он сейчас: там ему было тесно, здесь его нет. Но почему он ее узнал, а она его — нет?
Ну, это и ежу понятно: он шел на ее вернисаж и ожидал встретить автора, хоть между ними океан, а бенефициантка ожидала кого угодно, только не его. Или его — среди прочих. Да она и мало изменилась: маленькая собачка до смерти щенок. Если он явился на ее выставку, то можно предположить, что она там читает его книги. Сколько лет прошло с их таллинского романчика без божества, без вдохновенья, а просто потому, что их поселили в одном номере, не обратив внимания на различие полов из-за ее негендерной, звучавшей одинаково в мужском и женском роде фамилии? Романчик — так себе, из случайных и неприметных, как-то он не запал на нее, хотя вполне, невысокая кареглазая брюнетка с девичьей, красивой формы грудью. Зато впечатляла ее (с мужем) 50-метровая октогональная комната в коммуналке на Грибоедова — бывший танцзал какого-то музыкального училища, разбитого после революции на несколько коммуналок. Что говорить, для жилого помещения октогонально-оригинально и по метражу привольно, но мебель ставить неудобно — к стенке не придвинешь, за ней пустое пространство, где собирается пыль и прячутся от хозяев навсегда пропавшие вещи. Еще был у них рыжий кот, который вылазил оттуда в облаке пыли.
— Держим взамен пылесоса, — шутила Таня, а пылесоса не держали, так как кот его боялся до смерти.
Как звали кота? Забавно как-то. Никогда не вспомнить, напрочь выскочило из головы, сколько лет прошло. Да и «октогональная» — не точное слово. Оно возникло случайно — по ассоциации с октогональными баптистериями в Италии — в той же Флоренции или Пизе, рядом с дуомо и кампанилой, да еще, помнится, октогональная то ли церковь, то ли что в Сеговии вне города, за крепостной стеной. Комната же была вообще без углов, абсолютно круглой, будто вычерченной по циркулю, а потому неудобной в смысле обстановки, но ее оригинальность была прикольна, хозяева комнатой-залой гордились. Как и размером: 50 кв. метров по тем временам — шутка ли? И уплотнить было никак нельзя — комната была целокупна и неделима. Не разделять же ее на сегменты, из которых выход в общий коридор только один.
Ее муж — три года бездетного брака — был посредственным художником, но набил себе руку на «состаривании» византийских и русских икон на два-три столетия назад, и товар шел ходко — контрабандой прямиком за границу. Бралась хорошего качества иконная доска XVIII–XIX века, наносились повреждения, иногда довольно сильные, типа продольной трещины, а потом прорисовками плюс специальными составами икона доводилась до кондиции старинной — скажем, псковской школы XV–XVI века или даже византийской палеологовского ренессанса. Это был основной семейный заработок, пусть и рисковый в смысле фальшака и контрабанды, зато жили не черно, даже сытно, а Таня в спокойном режиме работала в штате Театра Комиссаржевской сценографом, и никто не подозревал, что втайне она балуется еще станковой живописью: как выяснилось, очень недурственной. Это все были питерские пейзажи, и почему автор, продолжая жить в этом умышленном городе, назвала свой сериал «Ностальгия», не очень и понятно. Модный ноне в Инете ностальгический флэшбом, а если поточнее — флэшбум? Скорее «Миражи Петербурга» из-за дымчатой неуловимости пейзажей или «Времена года», потому что в них ни одному предпочтения не отдавалось, и переходы были незаметны, невнятны, тонки: «Глубокая осень похожа на прохладное лето, а приближение зимы дает о себе знать запахом весны». Это анекдот, а вот цитата: «Весна, шествуя вперед, мало-помалу добралась до середины лета и перешла в теплый, докучливый застой…», и есть еще какой-то стих, кажется, графа Хвостова, но снова заклинило, как и с именем рыжего кота-пылесоса.
Испытывать ностальгию по Ленинграду, живя в Петербурге? Но именно этот нонсенс и был поводом, почему он инкогнито решился сходить на выставку — выяснить, что это за ностальгия и почему у него, жителя Нью-Йорка, ее нет, а у Тани, жительницы Петербурга, она есть? Или с возрастом чувства в нем окоченели, и прежде живой, импульсивный человек превратился в ледяшку?
А что, если она его все-таки признала, когда они столкнулись нос к носу, но у нее, как у женщины, еще меньше оснований знакомиться с ним заново столько лет спустя? В конце концов, она тоже не помолодела, хоть он и не успел разглядеть ее как следует, сам не зная, чего испугавшись. Ну, встретились, покалякали, пару взаимных комплиментов — он ее картинам, она его книгам, «Как сын?» — «Как сын?» (у каждого по сыну), мог бы пригласить ее в какую-нибудь рядом забегаловку, да хоть в итальянский ресторан поблизости, где, кроме пасты, неплохо готовили мясо, — по-дружески, по-человечески, не будь он бука и нелюдим. С другой стороны, к чему его обязывали эти парочка-тройка амурных сеансов? Несколько минут взаимного трения да малость спермы, которая обрызгала ее заждавшуюся, алчущую, плакучую вагину? Нет, презиками они с ней не пользовались, да и откуда, кто мог знать, что их поселят в один номер, воспользовавшись ее бесполой фамилией? Они шли как два мужика, что по тем временам считалось безопасным, без намека на голубизну. А что до чувств, то их все напрочь выела безответная и тем более постоянно возбуждаемая любовь к жене, и волю он давал себе только в ее отсутствие, не придавая большого значения фрикциям и воспринимая чужое влагалище как вместилище для скопившихся сперматозоидов — блуд, не более. Что значит капля спермы? Однолюб с узконаправленным мышлением. Не то что слепец, но полутораглаз.
Уже на второй день их скоротечного романа он стал раздражаться на Таню из-за ее несколько театрализованной речи и старомодных выражений, типа «намедни», «вскорости», «вчерась», «припозднилась», позаимствованных, как ему казалось, из спектаклей, идущих у них в театре, а на третий день она неожиданно поменяла билет и отбыла в Питер, хотя командировка у них была шестидневная: группа молодых театральных деятелей на днях русской культуры в Эстонии. Фиг бы такая была возможна сейчас, когда между Россией и Эстонией напряг. Иное дело в те достопамятные добрые времена: союз нерушимый республик свободных.
Отъезд Тани слегка его удивил, но скорее обрадовал, чем огорчил, и он не очень задумался тогда над причиной, а отдался зрительным впечатлениям, от которых сексуальные отвлекали: Таллин был единственным из советских городов, где он чувствовал себя за границей. До него не сразу дошло, что его временная партнерша была замужней девственницей, для которой первая измена (из мести мужу за его измену) все равно что потеря целомудрия. Можно даже так сказать: первая измена мужу — окончательная потеря девственности. А он, выходит, был орудием мести.
Что-то он тогда профукал, не вник, а была разница: для него — очередной командировочный перепихон, для нее — с примесью чувств, в которых разбираться ему был недосуг. Будучи безответно и навсегда влюблен в одну девочку-девушку-женщину-жену, он никак не мог предположить, что сам может вызвать схожее чувство. К тому же, в отличие от него, Таня была в Таллине впервые: новый мужчина в новом ландшафте.
После Таллина между ними ничего больше не было, хотя однажды, пару лет спустя, на какой-то театральной постпремьерной тусовке она отвела его в сторону и напомнила ему его же слова, что он предпочитает женщин постарше, с первыми следами увядания, и вот теперь… Неужели он ей это сказал в Таллине, какой стыд! Чтобы отвязаться? Им и в самом деле было тогда ему 26, а ей 22, но смущала его не ее молодость, а ее — для него — исчерпанность: грубо говоря, кинул пару палок — с него довольно. И потом ее текучие груди, которые выскальзывали из его рук. Какая упертая! Короче, завуалированное это предложение было им вежливо отвергнуто. Заодно вспомнил, как еще раньше она притащилась к нему, когда его жены не было дома, с младенчиком, развернула пеленки, тот пустил струю, теплые брызги окропили его лицо, он побежал к крану смывать их. Был и остался брезглив.
Народу на вернисаже было немало, но чем это объяснялось — множеством осевших в Нью-Йорке питерцев или Таниными коллегами и знакомцами? Или канун Рождества — куда еще деваться? Воспользовавшись тем, что толпа тесно окружала бенефициантку, он прикипел взглядом к знакомому пейзажу: ну конечно же — канал Грибоедова, переименованный теперь, наверно, обратно в… Еще один прокол в его памяти. Когда жил там, знал.
Жил бы там — знал бы.
Как хорошо, что Таня изобразила канал с противоположной стороны, чем на открыточных видах с безобразной церковью Спаса-на-Крови на месте, где кокнули императора: давно пора снести! Вот и знакомая подворотня — вход был со двора, справа, третий этаж, без лифта. Он бывал в этой зале-комнате всего пару раз, познакомился с мужем, с каждым разом все больше становилась заметной беременность Тани, а поначалу он думал, что она просто набирает вес. Не спец по этим делам, у его жены был маленький живот, и все были удивлены, когда она родила, потому что за неделю до они ходили в гости, никто из их друзей ничего не заметил. А до чужих беременностей и детей ему не было никакого дела.
— Узнаёте?
Он обернулся — перед ним стоял молодой человек, смутно кого-то ему напоминая.
— А то все говорят, что без Спаса-на-Крови и Дома книги получается абстрактный пейзаж. Может быть Мойка, Фонтанка, Пряжка, что угодно. Но не для меня. Я здесь родился, — и ткнул пальцем в знакомую подворотню.
Тут он мгновенно вспомнил — Таня рожала дома. Не по моде, которая еще не докатилась до Питера, — схватки начались неожиданно, не успели бы довезти до больницы. Вот кого напоминает ему этой молодой человек — ну конечно же это Танин сынок. Но и вылитой Таней его не назовешь. Мальчики, которые в мать, говорят, счастливые. Лицо его отца не припоминалось — только ранняя лысина. У молодого человека была густая темная шевелюра. Глаза серые, на подбородке ямочка, и ямочки на щеках, когда улыбался. Ростом не вышел, но это искупалось подвижностью — не человек, а живчик, бурно жестикулировал и даже подпрыгивал, когда говорил. А говорил уже с заметным акцентом: давно, видимо, здесь, вращается в американской среде. Чем больше он в него вглядывался, тем узнаваемее тот выглядел. Где они могли встречаться? Спросил о профессии: архитектор, живет и работает в Сан-Диего. Что-то мелькало, как забытое имя кота, как стишок Хвостова, как прежне-нынешнее название канала Грибоедова, как пирожки с крупными такими типа рисовых, но не рисовыми зернами — снова память подводит.
Зато вспомнил, как его зовут: Илья. С его наводки. В Таллине он сказал Тане, что хотел дать сыну имя Илья, но побоялся, что сочтут за еврейское — зачем ребенку раньше времени сталкиваться с антисемитизмом? А она вот не побоялась, но тут случай другой: если у него сын полукровка, то этот и вовсе размытых кровей, а фамилия черт знает какая, не типичная ни для титульной и ни для еврейской нации, ни мужская и не женская, даже не склоняется. Внучка известного советского композитора — вот так-то. Кого же ему напоминает его правнук с ямочкой на подбородке и суетливой жестикуляцией? Он пытался вспомнить, есть ли ямочка на Танином подбородке — опять провал в памяти. Сколько лет прошло! Что он, сам себе мозгоправ? Да гори всё синим пламенем!
Илья оказался не в меру речист — очевидно, по-русски ему в Сан-Диего говорить не с кем, хоть там и было довольно обширное русское комьюнити, но более пожилого, наверно, возраста, он пролетал мимо. Зато регулярно бывал в Питере у мамы, а мама — у него в Сан-Диего, родаки давно разошлись, у папы своя семья, живут в Германии, Илья его почти не видит. Как всех раскидало по белу свету. Нет, мама больше замуж не выходила — сначала из-за него, а теперь по возрасту (так и сказал). Русские слова с американским акцентом сыпались из Ильи как из рога изобилия.
— Пошли, я познакомлю вас с мамой, — услышал он не в меру ретивого молодого человека, чем был поставлен в довольно затруднительное положение.
— Я тебя сразу же узнала, когда ты прятался за спины, — усмехнулась Таня, у которой на подбородке ямочки не было. — Удивилась бы, если бы не приперся. — И без перехода: — Зачем ты старишься в мемуарах, наговаривая на себя? — И оценив его цепким художническим взглядом: — Небритость тебя молодит. — И опять без перехода: — Илья, он с тобой знаком с младенчества, ты обоссал его, когда я развернула пеленки. Правильно сделал.
Илья стоял в стороне и мучительно пытался декодировать их треп.
— Почему ностальгия?
— Ясное дело. Потому что этот город остался только в моей памяти. С натуры я не пишу. Хуже всего, когда здания реставрируют — как театральная декорация. Предпочитаю руины. Давно к нам не наведывался?
— В качестве кого? На побывку? В родные пенаты? Туристом? Того города, в котором я жил, больше нет. Боюсь, не узнáю.
— А в Таллин? Теперь с двумя «н» на конце. Как раз он узнаваем. Помнишь…
— Предпочитаю Средиземноморье, — перебил он ее. — Особенно Италию. Объездил вдоль и поперек.
— На Таллине табу? — улыбнулась она.
— Было — и быльем поросло.
— Думаешь?
Илья переводил взгляд с матери на нового знакомца, не понимая, о чем они, и относя свое непонимание за счет забываемого из-за неупотреба русского языка. Однако «Таллин» зацепил его, и он, уставши молчать, тут же вклинился:
— А в Таллине у нас с мамой был reunion — я прилетел из Сан-Диего, а мама приехала ночным поездом из Петербурга. Полный улет, а не город. Больше трех дней не надо. Тем более мама знает город с юности — заправский гид. Где мы только не побывали. А потом в Петербург. Там все свои. Друзья, подруги, одноклассники…
А у него там своих не осталось — все чужие. Слабо сказано. Одних уж нет, а те — далече… Да и Таня — не друг, не подруга, а так, стаффажная фигурка, как на картинах Клода Лоррена, часть дымчатого, неуловимого, сквозь поволоку пейзажа. Скорее, правда, таллинского, чем питерского. Только сейчас дошло: серебристая дымка времени — метафора ностальгии. А у него вместо ностальгии — тени воспоминаний. Таня мало изменилась. Маленькая собачка…
Пора сматываться. Он еще раз прощально, внимательно глянул на порывистого Илью, смутно уже догадываясь, кого тот ему напоминает. И отслеживать ситуацию не надо, достаточно чуть глубже копнуть прошлое. Вот он, тот таллинский пласт.
С выставки — в ближайшее кафе. Заказал кофе с пирожным. И тут вспомнил: кота звали Наполеон.
— В честь императора? — спросил он тогда Таню, будучи и сам кошатник.
— В честь пирожного. Такой он сладенький…
Вспомнил и безвкусное саго, которым начиняли пирожки у него на географической родине. Канал Грибоедова был Екатерининским, но переименовали ли его обратно, он не знал. Тренировка памяти, не лишняя в его возрасте: чем урюк отличается от кураги? Изюм — кишмиш. Фига — инжир. Или смоква? Винная ягода? Зато стишок графа Хвостова так и останется в запасниках его дырявой памяти: «Зимой весна встречает лето…» Или «Зима весной встречает лето…» А дальше? И спросить некого.
Он поднес руку к подбородку и нащупал неизменную ямочку.
Вот бы с кем бы он не хотел встретиться, так это с самим собой в юности, болтливым и суетливым.
Одно слово: живчик.
Капля спермы.
Рождественский сюрприз.
Новогодний подарочек.
Полный финиш.
Младший шестидесятник Убийство в розовом гетто
На этом месте должна была стоять другая глава, еще не написанная, но продуманная в деталях, кой-чего не хватало — вот я и не решался, откладывал со дня на день, с неделю на неделю. Нужен был толчок, как для Пруста вкус мадленки или звон упавшей ложки (или вилки?). Или как у Декарта, которому Паскаль не мог простить его фразы о Боге: Тот дал мирозданию толчок и самоустранился за ненадобностью.
Почему вдруг вспоминаешь то, что забыл на всю жизнь? Вслед за пристрелочной начальной главой о нашем писательском микрорайоне сочинил главу о Булате, который жил тогда через несколько остановок, у «Речного вокзала», и первым посетил меня в Розовом гетто — чем не повод? А о Тане Бек вовсе не собирался писать отдельно, но в общем портрете нашего писательского кооператива, само собой почему так названного. Таня — типичный аэропортовский представитель: сызмала здесь, дочь полка, впитав с молоком матери (точнее, отца) все достоинства и пороки чернильного племени, пусть в компьютерный век сие выражение — безнадежный анахронизм, а тем более по отношению к Тане, раньше других приспособившей свои немного старомодные стихи к современной чудо-технике. О рекордном числе самоубийств в Розовом гетто я уже писал, да и сам въехал в квартиру, где удавилась Сусанна Георгиевская, но, убей меня Бог, никак не мог предположить, что в число самоубийц войдет моя предотъездная подружка Таня Бек. Произошло это уже за пределами моего московского времени, в Нью-Йорке я уже жил больше не только, чем в Москве, но и чем в Питере, Таню не видел десятилетия полтора, успел с ней эпистолярно повздорить — точнее, она со мной, хотя мы оба легки на ссору, да и возраст у меня хоть и слезоточивый, но равнодушный. Что связано между собой: под видом других оплакиваю себя, а к другим — отменно равнодушен. Короста старческого равнодушия, как говорил небезызвестный граф. А вот, узнав о смерти Тани Бек, все не могу прийти в себя.
Иногда мне как-то особенно «везет» — четверть века назад вернулся из штата Мэн в Нью-Йорк и узнал о смерти Сережи Довлатова, а мою поздравительную к дню его рождения открытку получила уже вдова. И теперь вот — возвратился из своего трудоемкого и прекрасного путешествия в далекий и невероятный мир буддийской Азии, на которое подначил сына, а меня как обухом по голове: самоубийство в Москве Тани Бек. Двух мнений тут быть не может: самоубийство — политическое. Короче, толчок появился, вот я и вычленяю индивидуальный портрет Тани из группового портрета Розового гетто. Пусть ее портрет будет этюдом к коллективному, на котором обвожу кружочком ее милую некрасивую чистую и честную мордочку.
В отличие от Довлатова, которого я знал давно, с питерских времен, а здесь, в Нью-Йорке, встречался чуть ли не ежедневно (точнее, ежевечерне), Таню Бек я узнал, переехав из Питера в Москву, мы оказались соседями по писательскому коопу: Таня жила (и вела войну не на жизнь, а на смерть) с мамой на Черняховского, я — на Красноармейской. Мы могли познакомиться где угодно — в писательской клинике, в Тимирязевском парке, у общих знакомых-соседей, которых была тьма, но свел нас Войнович — его квартира была тогда штаб-квартирой диссидентствующих литераторов, а я как раз пытался найти зарубежного издателя для своих непечатных в России и опасных в случае обнаружения книг. Таня же близко дружила с Войновичем в его опальный период — и до самого конца: разговаривала с ним за несколько часов до самоубийства, он пытался успокоить ее, да и в некрологе написал, что «нелепо, ведь на самом деле не было по-настоящему серьезной причины». Таня думала иначе, и у Войновича, чья старческая короста потолще моей, осталось, тем не менее, чувство вины: «Прощай, Танечка, и прости». Его дочь позвонила ему из Германии и сказала, что этого не случилось бы, будь жива мама (жена Войновича).
Не знаю.
В названии нашего коопа Розовым гетто было, конечно, некоторое преувеличение — хоть дома там из розового кирпича, но литераторы не сплошь евреи. Много русских, Войнович — полукровка (вторая половинка, кажется, сербская), Искандер — полуперс-полуабхаз, Таня Бек, та и вовсе была всех кровей, включая экзотическую скандинавскую, датскую, шутила, что из викингов. Один свой сборник она так и назвала — «Смешанный лес»: по стихотворению о своей родословной:
Родословная? Сказочный чан. Заглянувши, отпрянешь в испуге. Я, праправнучка рослых датчан, Обожаю балтийские вьюги. Точно так же мне чудом ясны Звуки речи, картавой, как речка. Это предки с другой стороны Были учителя из местечка. Узколобому дубу назло, Ибо злоба — его ремесло, Заявляю с особенным весом: Я счастливая. Мне повезло Быть широким и смешанным лесом. Между прочим — российским зело.Странноватая для русского слуха фамилия принадлежала ее отцу, очень порядочному (по тем временам), хотя и незначительному писателю Александру Беку: «Волоколамское шоссе», «Жизнь Бережкова», «Новое назначение», «На другой день». Таня осталась ему верна на всю жизнь, после его смерти занималась его литнаследством, а при жизни во всех семейных баталиях становилась на его сторону, с матерью разъехалась, сменяв огромную квартиру на две: когда я приехал в Москву в начале 90-х, застал ее в однокомнатной в том же подъезде, где жил Фазиль Искандер. Как будто я не уезжал и не прошло с нашего прощания 13 лет: насквозь папина дочь, Таня продолжала говорить о матери с тем же ожесточением, как и прежде, ее разум все еще кипел возмущенный, как и тогда, я не очень понял причину их конфликта. Если бы она дала прорваться своей злости в стихи! Нет, не посмела. Стихи благостные, христианские, есть хорошие, умные и трогательные.
Как поэт, Таня, несомненно, превзошла своего отца как прозаика, а ее все еще воспринимали как папину дочку.
В литературном мире, где я вращался и где все знакомые были старше меня (иногда намного), одна Таня была на семь лет младше и вызывала чувства не только дружеские, но и не очень сильные мужские: выше меня ростом, плечистая, спортивная, угловатая. Однажды в какой-то компании у нее в гостях погас вдруг свет, кто-то физически тяжеловато, но с девичьей грацией плюхнулся мне на колени и впился в губы. Свет так же неожиданно включили, но наш с Таней поцелуй еще некоторое время длился как ни в чем не бывало, пока мы не отлепились, усладив и возбудив друг друга. До сих пор помню вкус ее слюны. Дальше этого поцелуя не пошло, и Таня, прочтя мой московский полумемуарный роман с живыми персонажами, справедливо, наверное, писала, что любовь к Лене Клепиковой выела все остальные чувства, высосала всё без остатка, и стал я урод уродом — осталось одно холодное любопытство к людям и событиям. Коли начал цитировать, процитирую полностью:
«Страницы, посвященные отношениям Вашего персонажа с Леной, несравненно и невыгодно выше окружающей их прозы… Тут я уже, наверное, вторгаюсь за пределы „литературного текста“, в Вашу личную личность, но все существо этого повествования читателя на такое вторжение провоцирует… Изображенное Вами чувство, вероятно, настолько сконцентрировало, оттянуло в себя то лучшее, что в Вас есть (образовалось уродство, которое, впрочем, и составляет красоту, ибо — единственность личности), да настолько, что остальному миру осталось лишь Ваше любопытство. Страстное, жадное, но холодное любопытство, которое — хоть и однокоренной, но антоним любви.
Настоящий роман это особенно обнажает. В страницах о любви голос чистый, несчастный, прекрасный, а в рассказе об «остальном мире» — не обижайтесь, но праздный.
Люди для Вас — лишь потрошительный материал, лишь сырье для тонкой, точной, наблюдательной сплетни (вот и определила жанр доброй половины прочитанного), а она от литературы столь же далека, как любопытство от любви».
Вот здесь Таня как-раз и ошиблась круто, пальцем в небо, потому что вся настоящая литература, включая «Горе от ума», «Братьев Карамазовых» или «В поисках утраченного времени», есть сплетня, замешанная на метафизике и развернутая в метафору, но об этом см. главу с моим манифесто, соответственно названную «Апология сплетни». А тогда мне так понравилось Танино определение, что я выпросил у нее разрешение цитировать ее письмо в моем романе. Что и делаю сейчас — увы, после ее смерти.
Таня родилась в 1949 году и росла исключительно в литературной среде. Бывала резка, всегда независима и бескомпромиссна, характер колючий, доверчива и обидчива, восторженна и скептична, перепады настроений, что испытал на себе, весьма разборчива в знакомствах, что, однако, не уберегло ее от горчайшего разочарования под конец и послужило одной из причин самоубийства. Требования к жизни — архизавышенные, девичьи: если максималистка, то прежде всего к самой себе, отчего остальным не легче. Об этом ее лучшие стихи:
Пожелтел и насупился мир. У деревьев осенняя стать. Юность я износила до дыр, Но привыкла — и жалко снимать. Я потуже платок завяжу, Оглянусь и подумаю, что Хоть немного еще похожу В этом стареньком тесном пальто.* * *
Ходившая с лопатой в сад, Глядишь печально и устало… Не строила — искала клад. Не возводила — клад искала. Твою надежду на чужой Непредсказуемый подарок Жизнь охлестнула, как вожжой: — Не будет клада, перестарок! Под раскаленной добела, Под лампою без абажура Земная жизнь твоя прошла, — Кладоискательница, Дура…Мне тоже пару раз от нее досталось. Скорее всего, виноват я — у меня мало с кем складываются ровные отношения, даже с Леной Клепиковой. А здесь и вовсе нашла коса на камень.
До нашего отвала из России оставалось меньше года, и наши с Таней отношения развивались бурно. То, что возникло между нами, можно назвать короткой вспышкой дружбы, чуть даже больше, о чем так смутно написано у Ахматовой:
Есть в близости людей заветная черта, Ее не перейти влюбленности и страсти…Я мало кому давал свой рукописный «Роман с эпиграфами» («Три еврея») — из страха быть обнаруженным. Тане — дал. Роман ей пришелся, но сентиментальную фразу о моем сыне осудила за слащавость. Думаю, сказалась здесь ее собственная бездетность. Тем не менее согласилась хранить мои рукописи — вдруг провалится оказия и они пропадут? Выругала меня за дружбу с одной поэтессой (Юнной Мориц), объявив ее монстром в юбке и сославшись на Цветаеву: была Психеей, стала Валькирией. Да Юнна и сама признавалась, что не ездит на Пегасе, а летает на метле.
На наших «похоронах», как тогда именовались проводы, потому что навсегда, безапелляционно заявила, что один из гостей (покойный Володя Левин, приятель Юза Алешковского) — стукач.
Она меня и здесь достала. Как человек наивный, хоть и скорпион — как наивный скорпион, — я не учел, что потенциал литературной и женской злости, в ней заключенный, может обрушиться на кого угодно, все равно на кого. После очень хорошего вечера у нее, когда «вновь я посетил» и принес ей бутылку молочного цвета ирландского виски в железной коробке — «Сохраню навсегда», восторженно сказала Таня и предложила выбрать любую книгу из ее библиотеки, мой выбор пал на Замятина, — я, уже из Нью-Йорка, попросил ее посодействовать в издании моих книг в Москве и получил в ответ письмо-отповедь — резкое, обидное письмо с отказом быть моим литагентом, хотя сама только что пристроила в журнале «Столица» пару моих опусов. Но одно — помогать по доброте душевной, а другое — брать на себя обязательства, да еще на коммерческой основе. Ну и досталось мне! Что на нее нашло? Какая вожжа под хвост? Я долго гадал, чем вызвал ее раздражение, искал причины в себе, упрекал себя в бестактности. Мне казалось справедливым, если мы поделим мои московские гонорары — до чего я измеркантилился в Америке! Короче, наша дружба дала трещину, отношения похолодали, я это сильно переживал через океан и слал Тане через Колю Анастасьева и других общих знакомых подарки, которые она благосклонно принимала. И на том спасибо!
Была еще одна причина. Таня прислала нам с Леной свой новый сборник стихов с автографом — «…близким сквозь даль…», я мгновенно откликнулся, не вчитываясь, пролистав, был чем-то занят. Хотя книга, несомненно, заслуживала самого внимательного прочтения. Отчасти виной тому подвернувшаяся оказия, с которой я торопился послать ответ. Таня, с ее обостренным чутьем на фальшь, написала мне, что я ее книгу не читал вовсе. Снова моя вина. А теперь вот мне уже не сказать ей, как понравились мне позднее ее стихи — и какие именно. Непростительная вина — как друга, так и литературного критика.
Издалека, из-за океана, я мог позволить себе надсхваточную позицию, и мне, фанату независимости — зависеть от царя, зависеть от народа, — стало казаться, что моих московских либеральных знакомых, Таню включая, заносит идеологически. Несомненно — особенно в стихах — Таня была индивидуальна, групповуха была чужда ее таланту, но одновременно ей было одиноко одной на ветру — вот ее и прибило к ультралиберальному лагерю, тем более она была аэропортовское дитя и даже ее литературные метания были ограничены аэропортовскими границами. Связь была тесной, плотной, на физиологическом уровне — в очередной мой наезд Таня уговаривала меня встретиться с флагманом радикального либерализма критиком Наташей Ивановой, с которой я когда-то был довольно близок, но мне было так хорошо с Таней, а времени было в обрез, что я отказался. После расстрела парламента в октябре 1993-го, с которого и начался откат русской истории, Таня подписала коллективку «42-х» в поддержку Ельцина и расстрельщиков. Несмотря на возрастное — в дюжину лет — отличие от главных шестидесятников, Таню стали зачислять именно в эту литературно-политическую когорту: по клановым взглядам? по партийной спайке? по мафиозной тусовке, к которой она воленс-ноленс принадлежала, а куда еще ей было податься, прибиться? Не знаю, а судить издали боюсь.
Закон мафии: ни с кем дружить, а против кого дружить.
В мои московские времена Таня была независимей, судила-рядила на свой, а не чужой лад, ей понравились «Три еврея», а спустя полтора-два десятилетия — не уверен. А тогда она сказала, что все теперь встало на свои места, и пусть книгу никто не напечатает (я и не чаял тогда), но каждому — по заслугам, и кому надо — прочтет. Я решил, что она говорит про Бродского, который был персоной нон грата в России, а на Западе еще не успел раскрутиться и набрать славу. Оказалось — про скушнера, который о ту пору крепчал как государственный поэт и антипод Бродского. Таня рассказала, как у Саши шла статья в «Воплях», где она работала, и он все время звонил в редакцию, обновляя список упомянутых живых поэтов — чтобы никого не забыть и никого, не дай бог, не обидеть. Вот именно: вплоть до собаки дворника, чтоб ласкова была. В этом был весь скушнер-Молчалин, человек на все времена, обласканный всеми властями — от брежневских до нынешних.
Знала бы Таня, что через пару-тройку месяцев после ее самоубийства скушнер получит очередную госпремию от Чубайса, то бишь из кармана государства! До полного везения ему не хватает Нобельки или вечности.
Тогдашняя Таня рассказывала о нем с презрением, как о придворном еврее, а незадолго до ее смерти я прочел ее большое интервью с Кушнером в «Новом мире» — это не Саша изменился к лучшему (наоборот), а Таня — увы, к худшему. Спокойно отнеслась тогда к моей в «Трех евреях» характеристике «мелкого беса крупных габаритов» Лидии Яковлевне Гинзбург, а тут вдруг читаю в другой Таниной статье: «великая Лидия Яковлевна Гинзбург». Господи, если теоретик-эклектик и литературный слабак Гинзбург великая, то какой эпитет поставить перед именами Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, Платонова, Бабеля, Булгакова, Мариенгофа? Того же Бродского? Что-то в Тане надломилось, я не всегда узнавал ее по публикациям, да и не так чтобы внимательно за ними следил. Закон Гекубы в действии. А потом прочел чью-то статью о том, как диаметрально изменилось в России отношение к Бродскому: от любви до ненависти один шаг. «На самом деле изменился не Бродский, изменились мы», — делает вывод автор и объясняет, в чем эта измена себе прежним, откуда эта ненависть к самим себе в прошлом и повержение кумиров. Такую измену претерпели страна в целом и ее граждане в отдельности. Поговорим об этом в другой раз. Что же до Тани Бек — помимо прочего, с возрастом она испугалась одиночества, на которое сама себя обрекла независимостью и максимализмом:
Глупая! В отрочестве отшельник Мудрым казался. Кожи кичливой колкий, как ельник, Мир не касался. …Ныне мечтаю смешаться с вами — Мне меня мало! — Но ни объятьями, ни словами Льда не сломала. Ныне я вглядываюсь тревожно В звезды и лица… Необходимо и невозможно В мир перелиться!Отец Александр Мень крестил Таню, она стала ходить в церковь, пусть и нерегулярно. Семейная жизнь не сложилась у нее никак — замужество с прозаиком Сергеем Калединым продлилось рекордно короткий срок — месяц, больше ни с кем она матримониально свою судьбу, насколько я знаю, не связывала, если не считать литературу, которой осталась предана до конца. Выпустила несколько книг стихов, освоила пару журналистских профессий — литературного комментатора и интервьюера «Московских новостей» и «Независимой газеты», преподавала в Литинституте, студенты ее любили. И вот смерть — из-за обширного инфаркта, как гласит официальная версия, но — по неофициальной — из-за передоза снотворного. Или инфаркт теперь в русской новоречи эвфемизм самоубийства? Почему Таня Бек, талантливый поэт, удачливый журналист и критик, искренняя православная, траванулась, наложила на себя руки, пойдя на этот непоправимый акт, на этот смертный, с христианской т. зр., грех? Ничто в ее балованной судьбе дочери литературного полка не предвещало такого ужасного конца. Жизнь ее достала, решив показать своему баловню трагическую изнанку.
Ее смерть напрямую связана со скандалом Туркменбаши. Несколько московских литераторов — Евгений Рейн, Михаил Синельников, Игорь Шкляревский — предложили туркменскому диктатору перевести его стихи на русский язык. А тот уже издал третью книгу стихов «Менин рухубелентлик бахарык» (что значит, ни меньше ни больше, «Весна моей духовности»). Так что, если выгорит, дело обещало стать, что называется, золотым дном. Почуяв добычу, к пиитам присоединился главред журнала «Знамя» Сергей Чупринин и предложил выпустить антологию туркменской поэзии. Посредником в переговорах между русскими литераторами и туркменским диктатором был «Газпром», а у того как раз начались нелады с поставкой туркменского газа.
Многие писатели и журналисты возмутились таким откровенно меркантильным, аморальным поступком своих коллег. Включая российское отделение ПЕН-клуба, которое способствовало освобождению дюжины туркменских писателей-диссидентов и теперь сочло несовместным подобное низкопоклонство с членством в ПЕН-клубе. Заявление на эту тему сделал председатель Российского ПЕН-клуба Андрей Битов и пригрозил участникам организационными мерами. Рейн оправдывался безденежьем и ссылался на Арсения Тарковского, который переводил стихи Сталина, но там инициатива исходила от царедворцев (к 70-летию вождя), и как раз Сталин ее пресек — переводы не были опубликованы. Резко осудила поэтов-халтурщиков и Таня Бек. Один из них — Женя Рейн — был ее близким другом, она выступала на вручении ему Пушкинской премии и даже написала о нем лестное стихотворение, уподобив шагаловскому персонажу, что в корне неверно: те — люди воздуха, а Рейн — скорее из рубенсовских типов и уж точно меркантил из меркантилов. К числу самораспостраняемых мифов относится легенда о рейновском диссидентстве — рядом не стояло. Именно Рейн и иже с ним, одикаревши и ссучившись, обрушили на Таню по телефону нецензурные проклятия, устроили обструкцию, обвиняли, что абстрактные принципы она ставит выше человеческой дружбы. На самом деле для той Тани, которую я знал по Москве, эти принципы не были абстрактными, но плотью и кровью, что было ну никак не понять тому же Рейну, которого я знаю намного дольше и лучше, чем Таню Бек, — и дольше, чем Таня Бек, — и который, будучи автором нескольких хороших стихов, но в целом поэт медийно преувеличенный, одновременно — самый циничный из всех моих знакомых. Я уже рассказал о нем в предыдущей книге «Не только Евтушенко», а сейчас пишу о покойной уже Тане Бек, а не о живом пока что Жене Рейне.
Предпочел бы, чтоб наоборот.
Танин бунт против товарищей по цеху и друзей по жизни был возвращением к Тане прежней — юной, отчаянной, бескомпромиссной. Поступок геройский, с учетом, что друзья-товарищи скурвились, сама атмосфера в стране стала удушливой, удушающей. Что бы ни случилось в русской истории в дальнейшем, но жившие тогда в России еще опишут
…те годы дальние, глухие, В сердцах царили сон и мгла.Таня была чистой, порядочной, партийная принадлежность еще не основание, чтобы оправдывать любую гнусность своих однопартийцев и даже друзей. И еще одно — главное. У нее, несомненно, был выработан иммунитет на удары со стороны государства, и, займись ею, к примеру, гэбуха, она бы сумела устоять, но, когда удары посыпались от своих, она растерялась. Своя своих не узнаша — целый месяц выдерживала она натиск бывших друзей, обвинявших ее теперь в предательстве.
Мертвые не всегда и не обязательно правы. Включая самоубийц. Но не в этом случае. Самоубийство есть последний довод, когда слов уже не хватает, когда слова не в цене, сказать можно что угодно — как и сделать. Мне кажется, именно такая ситуация сложилась теперь в Москве. Мягко говоря, я бы назвал ее фамусовской Москвой, хотя есть все-таки разница между бегством Чацкого из Москвы и самоубийством в Москве Тани Бек. И куда было ей бежать, стиховая пуповина связывала ее с родной читательской аудиторией. А это даже больше, чем родина. Напомню: Чацкий стихов не писал, это Грибоедов заставил его говорить стихами.
Зато Грибоедов писал:
…Да нынче смех страшит и держит страх в узде.Наступили новые времена, когда ни смех не страшит, ни страх не держит в узде.
Другой мой московский приятель, прозаик и публицист Виктор Ерофеев, который приезжал как-то в Нью-Йорк и выступал в «Русском самоваре» и на русскоязычнике в частном доме, куда и я был зван, но как-то не получилось, о чем жалею, назвал эти новые времена эпохой чекизма. С другой стороны, однако, он просил через устроительницу, чтобы слушатели не задавали вопросы о политической ситуации в России. Если честно: поэтому и не пошел. В либеральных «Московских новостях» Виктор опубликовал весьма печальную статью о невозможности для средней руки бизнесмена, рядового журналиста или профессионального писателя сохранить то, что называется человеческим достоинством.
Таня Бек пыталась это сделать, но у нее ничего не вышло. Она сама бросила вызов, о котором, может, и жалела как о кромешной ошибке. Не ввиду катастрофических для нее последствий. Как человек порядочный и совестливый, она всегда готова была взять вину на себя, даже когда кругом все были виноваты перед ней, как в данном случае.
Она стала нерукопожатной, московская литературная кодла травила ее и в конце концов уничтожила. Та самая аэропортовская мишпуха, которую она совсем недавно защищала в беседе с Соломоном Волковым, а тот, с позаимствованным у Бродского, которого интервьюировал, апломбом, апологетизировал Сталина. Вот какие настали времена — обнаглев и самоутвердившись, интервьюеры сами стали давать интервью, вынимая истину из кармана. Таня Бек приняла всю эту лапшу, которую вешал ей на уши Соломон, за чистую монету: доверчивый, наивный, чистый человек брал интервью у прожженного кривляки, лжеца и мистификатора. Как раз в это время журнал «Нью-Йоркер» выступил с разоблачительной статьей: выпущенные Волковым воспоминания Шостаковича — фальшак. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. А его разговоры с Бродским? Разбитые на диалоги лекции Бродского в Колумбийском университете, в которые после смерти Бродского Волков вставлял даже споры с мэтром, хотя при жизни и пикнуть не смел, пока Бродский его не выгнал вовсе, учуяв трупоеда. Но откуда Тане было знать, что она разговаривает с литературным жульем!
Ее смерть можно назвать самоубийством, а можно — убийством. Зависит от того, как посмотреть. Убийство путем травли. Никто не может так травить, как свои. Бывшие свои. Таня Бек, это типичное порождение «Аэропорта», «Аэропортом» и была убитом. Прецедентов — множество. От Сатурна, пожирающего своих детей (см. офорт-капричос Гойи) до гениальной формулы Тараса Бульбы: «Я тебя породил, я тебя и убью».
Аэропортовские сатурналии.
Ловушка для Золушки.
Таня угодила в собственную западню — по крайней мере, в западню, которую сотоварищи (Рейна ключая) сооружали для идейных врагов. Эволюция, точнее, деградация сказочного образа: из принцессы обратно в Золушку, в парию, в изгойку. Своей насильственной смертью Таня доказала, что лучше быть Золушкой, чем принцессой, что поэту лучше жить впроголодь, чем кормиться с царского стола, — она ушла от своих, которые стали чужими, от клановых друзей, которые превратились в лютых врагов. Из жизни — в смерть. И смертью воспарила над премиально-тусовочной литературой, которая относится к настоящей литературе разве что по касательной. Смерть как ultima ratio.
Увы, других аргументов в этой смертельной схватке с круто меняющимся временем у Тани не осталось.
Вот ее собственное стихотворное предсказание, которому, увы, не суждено было сбыться:
Я буду старой, буду белой, Глухой, нелепой, неумелой, Дающей лишние советы, Ну, словом, брошка и штиблеты. А все-таки я буду сильной! Глухой к обидам и двужильной. Не на трибуне тары-бары, А на бумаге мемуары. Да! независимо от моды, Я воссоздам вот эти годы Безжалостно, сердечно, сухо… Я буду честная старуха.Что касается лично меня, то я потерял читательницу, хоть и грех так говорить: Таня Бек сама поэт, у нее есть отличные стихи, она первоклассный журналист и критик. Но как бы это точнее объяснить, чтобы читатель не заподозрил меня в эгоцентризме и меркантилизме. С тех пор как Таня прочла в рукописи «Трех евреев» и так и не оконченный мой московский роман, у меня не было лучше, квалифицированней и тоньше читателя, хоть мне от нее и доставалось. Ей понравился мой рассказ «Поэт и муха», она напечатала его в модном тогда журнале «Столица», но главное было не это, а ее отзыв, который душевно превышал мной написанное: я сочинил гротеск о поэте и члене Союза писателей в новые времена, когда ни поэзия, ни членство уже никому не нужны, а Таня почувствовала к герою жалость, которой не хватило у автора, хотя она и была, видимо, заложена в сюжете и структуре рассказа, но автор этого не сознавал. Мой многоголосый, скорее идеологический, чем политический, роман «Семейные тайны» а-ля Толстоевский вошел в список кандидатов на русского «Букера», который мне не светил — в жюри входил бард Алик Городницкий, о котором я давным-давно опубликовал критическую статью в «Юности», а потом опубликовал письмо Булата Окуджавы мне о его стихах. Единственное, что меня интересовало, — мнение другого члена жюри: Тани Бек. А потом я сочинил книгу, протограф которой решился дать прочесть ей одной, и она нашла жанровое ему определение, которое я поначалу хотел вынести в подзаголовок — «роман-сплетня». И так никогда не узнаю теперь ее мнения о конечном продукте — во что выродился мой роман-сплетня, а иначе — роман с памятью, став «Записками скорпиона». Либо об этой книге «Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых». Вымирают не только знакомые, но читатели, как бы они ни отнеслись к этой моей новой книге — Слуцкий, Бродский, Довлатов, Эфрос, Окуджава, Таня Бек, кто на очереди? Пишу теперь в пустоте.
Вот именно: глас вопиющего в пустыне.
Записка в бутылке — с необитаемого острова по имени Иммиграция.
To Whom It May Concern.
Посвящение-8. Тане Бек: Преждевременная эякуляция
Знаешь, я теперь поняла, что с ним творится. Он не может поверить, что это ничего не значило.
Эрнест Хемингуэй. ФиестаЯ желаю удачи своему сопернику. Увы, в сослагательном наклонении. То есть в прошлом. Если б можно было повернуть время вспять! Главная ошибка моей жизни — эта женитьба. Света называла его своим нулевым мужчиной, но это как сказать. Дон Жуан, который готов был ради нее пожертвовать благословенной свободой, — уже не Дон Жуан. А зацепила она его на своем дне рождения. Или еще раньше? Как только познакомились? Я же их и свел.
Как раз в Ольвии ей исполнилось двадцать, и если бы не Анатолий, отметили бы скромно, вдвоем, утаив от остальных. Был грех — я проговорился.
В тот год стояло знойное засушливое лето. Света боялась, что цветы все сгорят, — вот я и спас часть из них: собрал ей небольшой букет, а заодно притаранил трехлитровую бутыль молодого вина, сырец называется. Смотался за ним на винный завод, километрах в пяти от раскопок. Анатолий превзошел меня: раздобыл где-то арбуз, а наша хозяйка (мы жили с ним в одной хате) зарезала гуся и испекла в яблоках. По нашим студенческим меркам, роскошь, но в отличие от нас Анатолий был уже аспирантом, башли у него водились. Света была тронута, а я, любуясь натюрмортом на столе, гадал: началось уже у них, пусть пока на уровне флюидов? Сколько я о нем потом думал? А он — обо мне? А Света — о нем? Допускаю, что для нее тот мимолетный флирт в Ольвии был незначительным эпизодом. Так почему мне, стороннему наблюдателю, так глубоко запал и мучит до сих пор их скоротечный роман? Да и можно ли назвать романом одно несостоявшееся мгновение любви?
Не в пример Анатолию, я не был скособочен на сексе и не сводил любовь к нему одному. Моя любовь была единственной и целеустремленной, а не множественной и безличностной, как у нашего донжуана.
«Донжуан» звучит, пожалуй, немного высокопарно, но я употребляю это имя скорее в мифическом, чем нарицательном смысле, поскольку судьба и философия севильского соблазнителя стала мифологемой — в отличие от иных нарицательных героев: другого дона, например, его соплеменника из Ла Манчи. Если говорить не о донжуанстве как явлении, а о конкретном его носителе, следует обозначить Анатолия иначе: шалун, прелестник, шармер, мачо, блудодей, потаскун, кобель, охальник. Того проще: трахальщик. Или кидала. В том смысле, что палки кидал налево и направо.
Может, я преувеличиваю, но, по-моему, ни в обеих наших археологических группах — одна из Питера, другая из Киева, — ни в самом селе Парутино, которое примыкало к раскопкам древнегреческой колонии Ольвия, не осталось ни одной бабы в подходящем возрасте, которой он бы, по его собственному выражению, не вдувал, а наезжал Анатолий сюда каждое лето. Что говорить, профи: не пропускал ни одной дырки, трахал все, что движется на двух ногах. Имею в виду баб — настоящего донжуана мужики оставляют равнодушным, как чужд он любым извращениям и лишен сексуального воображения. Помню недоумение Анатолия, когда я признался, что меня возбуждает раздвоенный древесный ствол — женщина вверх ногами.
Странная вещь, его курятник продолжал относиться к нему хорошо, снисходительно, я бы сказал, по-матерински и единодушно осудил Свету — что заставляет страдать человека, который до нее не ведал, что такое любовные муки, да и вряд ли подозревал об их существовании, проходя по жизни легко и весело, без напряга. Мог бы, конечно, уточнить, что именно в Свете их раздражало, но не хочу утяжелять рассказ психоложеством.
Анатолий был не только великим практиком, но и теоретиком, философом, адептом… хотел сказать «любви», но задумался. Любовь все-таки была ему, как сейчас говорят, по барабану. Скорее е*лематика, чем наука любви. Правда, это я разделяю, он же — по крайней мере, до встречи со Светой — не видел разницы между Венерой и Эросом, ставил знак равенства между любовью и сексом, подводя теоретическую базу под свой промискуитет. Это сугубо, как мне казалось, личное, субъективное тождество он распространял на всех остальных, полагая, что мы все обманываемся, принимая похоть за любовь. В том числе бабы, даже самые невинные и романтичные из них.
— Свою собственную похоть? — уточнил я.
— И свою, и чужую. Когда они думают, что влюблены в кого-то, просто хотят с ним перепихнуться больше, чем с кем-то другим, хотя и других не исключают, будучи натурами полигамными. Само это слово «любовь» — не более чем женский эвфемизм, чтобы скрыть куда более элементарные потребности. С одной у меня вышла история — разок трахнулись, а когда снова подзавелись, ее мужик возвращается. Да я и незнаком с ним был. Успел шепнуть: «Ничего, мол, не расстраивайся. Муж дое*ет» — и сделал ноги. Согласись, чисто физически нам все равно с кем: резервуар для спермы, а на эту роль сгодится любая. А то заметят на себе похотливый взгляд и тут же напридумают, что мужик в них втюрился, тогда как тот просто хочет отхарить. Таких влюбленных любая бабец может насчитать десятки, если только не окончательная уродка. Что их удерживает от пое*ели с кем попадя, только страх: страх забеременеть, страх перед обнаружением, страх за репутацию, невротический страх внебрачной случки. Стыд — тот же страх. Да мало ли! Не специалист по фобиям. Что означает любовь — однозначно.
— А любовь импотента?
Анатолий расхохотался:
— Чего не знаю, того не знаю. Лично мне в ближайшее время не грозит. Бью без промаха. Ни одной осечки.
В то время я как раз читал роман Хемингуэя про алкаша-импотента, трезвенника-еврея и стареющую нимфоманку, в которую оба по уши, а она, собираясь выйти за совсем уж не просыхающего шотландца, умыкает на пару дней девятнадцатилетнего матадора, которого ревнивый еврей молотит перед самой корридой, а заодно задевает алкаша-импотента, совсем уж незаслуженно. Роман водянистый, занудный, но от кой-каких моментов я впечатлился. Ну, скажем, мысль о том, что только импотент, с его безнадежной тоской по утраченному, знает толк в любви. Дал книгу Свете, хоть и с некоторой опаской, зная уже, что Анатолий положил на нее глаз. На том раннем этапе гадательных моих предположений его интерес объяснялся вовсе не личными свойствами Светы, тем более Анатолий считал мужским преувеличением отличие женщин одна от другой, а тем, что, охочий до баб, он оказался в положении крестьянина, который, обработав и истощив окрестные земли, искал теперь новые, девственные. Вот именно — девственные, а в том, что Света еще девственница, сомнений быть не могло. Уже тогда, давая ей «Фиесту», я опасался, а теперь почти уверен, что роман сыграл свою роль в том, что произошло и чего не произошло у нее с Анатолием. Вольно или невольно послужил сводней. Не я, а Хемингуэй. Хотя свел их я. Точнее, представил друг другу, когда Света забежала ко мне за «Фиестой».
Они бы и без меня познакомились. В таких экспедициях все узнают друг друга в несколько дней, и немедленно возникают флюиды, а спустя еще некоторое время — неизбежные романы. Так что, помимо Анатолиева женолюбия, сама атмосфера была пронизана призывным, мускусным запахом возбужденных самок, противиться которому не было никаких сил. Плюс расслабляющее влияние Юга — раскрепощающее или развращающее, один черт! — отрыв от привычной жизни, некое незаконное, я бы сказал, существование. Короче, вседозволенность. Перекрестный секс, то есть всеобщая пое*ень, получал тут статус наибольшего благоприятствования. Вряд ли все эти мгновенные связи возникли бы по месту постоянной прописки их участников — ни у него в Киеве, ни тем более у нас в Питере. Вот почему южное это блудилище не имеет продолжения и обрывается, как только его участники возвращаются домой и приступают к служебным и семейным обязанностям.
Тем же вечером, когда вернулись с дня рождения, Анатолий стал вязаться ко мне с расспросами. Конечно, не очень хорошо заглазно характеризовать Свету, смахивало на сплетню, но, с другой стороны, приятно сознавать, что знаю ее лучше собеседника, по крайней мере, на данном этапе. Почувствовав это мое легкое над ним преимущество, Анатолий тут же свел его на нет:
— Бабу не узнаешь, пока ей не вставишь. Частушку помнишь?
Вот уж вечер настает, Солнце книзу клонится. Парень девушку е*ет, Хочет познакомиться.— Смешно, хоть и вульгарно, — поморщился я.
— Думаешь? По мне, это вольный перевод Библии, а уж лучше, чем там, нигде не сказано: Абраша познаша Сарру. Е*ля как активный процесс познания. В сравнении с ней всё — мусор.
— И много ты узнаешь о женщинах, когда они для тебя на одно лицо?
— Почему на лицо? Лица как раз разные. Зато там — одно-единственное отличие, и то общее, типовое: целки от нецелки. Вот где таится их душа! Все остальное, извини, конечно, надстройка. Потому и познаша — иудеи в этом знали толк. Одна только поправка: процесс познания важнее самого познания. И повторная мужская активность как раз по причине замкнутости от нас бабы, ее, если хочешь, мистической непознаваемости. Потому они и пассивны по своей сути, даже самые нимфоманки среди них.
— А как насчет зубастого влагалища? Мужик отдает все, а взамен получает шиш. Секс — истощение мужской мощи. Вагина дентата.
— Что с индейцев возьмешь? У примитивных народов и мифология на примитивном уровне.
— Мое дело предупредить.
— Уж кого-кого, а баб я получше тебя знаю. Не говоря о том, что старше тебя на червонец.
Сказать честно, меня уже мутило от его бесстыжей откровенности, а еще больше — от непотребного словаря. Притом, что во всех других отношениях, за пределами донжуанства, хороший был парень, знал средневековую архитектуру и был по уши влюблен в Италию, будто прожил там полжизни, хотя ни разу не бывал, как и нигде за бугром, и наш Ленинград, куда он изредка наведывался, был для него заграницей. «Моя духовная родина», говорил про Италию, и мы летали с ним от Сицилии до Венеции. Так, с его личной подачи, я влюбился заочно в Сиену, и, когда впервые побывал в ней пятнадцать лет спустя, крепкое такое было чувство, что не впервые, — карта не понадобилась, так хорошо знал и чувствовал этот чудный город. Даже то, что Анатолий с брошенными бабами сохранял добрые отношения, тоже говорило в его пользу. Если б не Света, отнесся к нему снисходительно и, может, даже сдружился, хоть он и слинял на ампирном фоне Питера, когда однажды пожаловал к нам с предложением руки и сердца. Но наш город со своей исторической гордыней с кого угодно собьет понт. Случилось это уже за событийными и временны́ми рамками моего рассказа, а потому не так уж и важно для сюжета.
Света достала его с первого взгляда. Она была юна, свежа, таинственна, да еще эта ее девичья коса! А в то лето она была как-то особенно прелестна: расцвела на Юге, созрела для любви. Эта не сознаваемая ею самой любовная готовность в сочетании с очевидным целомудрием и доставала чуть не каждого мужика в обеих партиях. Одновременно к ней было довольно трудно подступиться ввиду ее несколько отвлеченной мечтательности и как бы не от мира сего. Обхаживали, кадрили, но не переходя границ, и она сама, как оказалось, немного страдала от этого своего неземного, недоступного образа. Тогда как Анатолия эта ее девичья недоступность и чистота и подзавела, и он — нож к горлу — пристал ко мне с допросом.
Я понимал, что делаю что-то не то, и на следующее утро устыдился излишней болтливости, но той ночью мне было ну никак не остановиться. До сих пор не пойму, почему оказался таким треплом. То ли нарезался этим отдающим оскомину и вызывающим изжогу сырцом, то ли Анатолий загипнотизировал меня своим любопытством. Возникло даже чувство дружбы и общих интересов, хотя все было наоборот.
— …Одним словом книгочейка, — продолжал мой пьяный язык как бы помимо меня. — Я — тоже, но для меня чтение в одном ряду с любовью и путешествиями. А для нее вровень нет ничего.
— Оттого что мало путешествует и не знает любви? — предположил Анатолий, но осторожно, в вопросительной форме.
Я не врубился, пока он не спросил прямым текстом.
— Да нет, — сказал я. — Книги — наркотик, она от них балдеет, ныряет с головой. Книжный мир принимает за реальный, зато настоящий реальный в упор не видит. Для меня, знаешь, «над вымыслом слезами обольюсь…». То есть знаю, что вымысел, но именно как вымысел и заводит, а не сам сюжет. Для меня — как, для нее — что.
Вот тут и подумал, что зря, наверное, дал ей «Фиесту». Коли она весь действительный мир пропускает сквозь книжные линзы, то «Фиеста», с откровенным, по тогдашним нашим целомудренным представлениям и по сравнению с Тургеневым, Толстым и Чеховым, описанием сексуальных импульсов и нравов, будет в некотором смысле расширением ее жизненного опыта. На самом деле, как оказалось, это у меня были допотопные книжные представления. А ей книги заменили опыт быстротекущей жизни и научили кой-чему, что мне и сейчас невдомек. Я так и застыл навсегда перед великой тайной. Но что теперь говорить…
Думая предупредить нескромные поползновения Анатолия, наоборот, если не спровоцировал, то подзадорил его, сказав, что Света мало подходит на роль очередной его бабец. Да и бабьего в ней ничего. А у него уже была одна: Майя, соседка Светы. Как и мы, из Питера.
— Хочешь сказать, недотрога? — как-то слишком прямо понял меня Анатолий. — Ты пробовал?
— Не в том дело.
— А в чем? Ты, случаем, сам в нее не того?
— Да нет. У нас просто дружеские отношения.
— Другое дело. Сам понимаешь, если бы у вас что было, я бы и пытаться не стал. Жены или подруги друзей для меня — ни-ни. Табу. Я — не Дон Жуан, — отмежевался он от предшественника.
— Пытайся не пытайся — ни черта не выйдет.
— Почему так думаешь?
— Потому! Не из таких она!
— Что значит — таких? Любая недотрога на самом деле дотрога. По-твоему, она не женщина? У нее что, между ног другое, чем у остальных? Ты заглядывал? Иная скромница в постели может оказаться скоромницей, о-го-го! Просто не нашелся еще мужик, который подобрал бы к ней ключ. Все бабы — б*яди.
— Ну, ты загнул…
— Пусть докажут обратное!
— А презумпция невиновности?
— А кто говорит, что это преступление — быть женщиной? То есть б*ядью.
— Считаешь, твоя тактика сработает на любой?
— Совсем нет. У меня к каждой свой подход. Чтобы не преувеличивать: пять женских типов, соответственно, пять разных тактик.
— И к Свете?
— И к Свете. Хоть и принадлежит к редкому типу. То есть нетипична. Хотя бы как целка, а целок сейчас — днем с огнем. Тем более интересно попробовать. Если ты не против. Препятствия вдохновляют. Сопромат, одним словом. Целка всегда тайна, но стоит целке раздвинуть ноги, и что остается от ее тайны? Вот именно.
— А как же насчет мистической непознаваемости женщины? — напомнил ему я.
— Женщина вообще — да, конкретная женщина — нет. Сечешь? И знаешь, как надо себя вести? — продолжал он свою лекцию. — Как будто все уже позади, давно перешли эту грань. Поменять местами причину и следствие. Не интим должен следовать за коитусом, а наоборот. Сечешь?
— Телега впереди лошади.
— На спор?
Я догадывался, что пари его еще больше раззадорит, но отступать было некуда. В ту ночь на меня какой-то столбняк нашел. Паралич воли. Поспорили на бутылку коньяка. Мне страстно хотелось выиграть, даже к раскопкам охладел, хотя на следующий день нашли мраморную плиту с греческой надписью, и между нашими и киевлянами вспыхнула старинная вражда. Одновременно было любопытно, выстоит ли крепость перед профессиональной осадой. Что я точно знал, обманывать Анатолий не станет — расскажет, как есть.
Встречались они со Светой на людях, причем одним из этих людей чаще всего был я, его сосед, а другим — соседка Светы, роман с которой у Анатолия был на исходе, что он и не скрывал, а заключив пари, стал всячески нам со Светой демонстрировать. На мой взгляд, непристойно. Но это, по-видимому, входило в его стратегию, и как ни странно — срабатывало. Однажды сидели, помню, все вчетвером на берегу лимана, а когда Майя, нервно хохотнув, побежала купаться («Кто со мной?» — но никто не откликнулся), Анатолий, словно не замечая Свету, обратился ко мне:
— Что мне с ней делать? Ума не приложу.
Тут я не выдержал и, оставив его со Светой, побежал вслед за Майей.
— Как мне хотелось его ударить! — сказала мне Света в тот же день, но в этом ее осуждении Анатолия за любовное предательство был некий излишек чувства, который показался мне подозрительным, и я уже начал немного сомневаться, что выиграю пари. Тем более, Света решила поговорить с Анатолием о Майе.
— Она тебя уполномочила?
— Естественно, нет!
Сочла мой вопрос нелепым, не заметив в нем иронии.
— Хочешь, поговорим с ним вместе? — продолжал я ее подъе*ывать, но скорее для собственного удовольствия, потому что у Светы и в менее напряженных ситуациях чувство юмора часто подремывало. Уж слишком серьезно она относилась к жизни и к людям.
От моей помощи она отказалась, и состоялся ли у них с Анатолием разговор о Майе — не знаю, но через пару дней та объявила, что уезжает с раскопок, сославшись на болезнь матери.
Забыл сказать, что хоть роман с Майей у Анатолия был исчерпан, но их сношения, которые происходили то у нас в доме, то в доме, где стояли Майя и Света и где у каждой было по комнате, у Светы — проходная, рутинно продолжались. В последнее время Майя перестала к нам заходить. Чем объяснить? Обидой? Гордостью? Или дело в Анатолии, который пользовался своими ночными визитами к Майе, чтобы заодно повидать Свету? Не было ли это частью стратегии Анатолия по охмурению Светы? Продемонстрировать отрешенной, неопытной и сексуально заторможенной девице прелести физической любви и таким образом раздразнить и возбудить ее? А когда Майя уедет, Анатолию легче будет ходить к Свете по проторенной тропе. Наши дома, кстати, находились на разных концах села, а село было большим, разбросанным, хаты стояли хуторами.
Света вся как-то изменилась. Раньше жила закрыто, одиноко, ни друзей, ни подруг. Я был единственным ее доверенным лицом, и то до известной степени. Вся лучилась, но как-то изнутри. Интровертка, короче. А тут я вдруг все чаще стал замечать ее в компаниях, главным образом у киевлян, а своих земляков, включая меня, наоборот, чуралась. Стеснялась? Видел ее теперь только на раскопках и почти всегда смеющейся, раньше даже улыбалась редко. В глазах появился какой-то странный блеск, который гас, когда наши взгляды встречались. Или мне так казалось? Наши отношения с Анатолием тоже как-то застопорились, хоть мы и жили под одной крышей. О пари больше не вспоминали, будто его и не было.
Однажды взял для нее на почте письмо из Питера, обрадовавшись возможности повидаться. Вошел в дом и застыл на пороге, услышав голос Анатолия:
— Моя коханя, мое дыхане…
Хотел уйти. Хотел остаться и подслушивать дальше. Вдруг решился и быстро вошел в комнату. За наглядным свидетельством проигранного пари. Нет, все было довольно невинно. Света сидела за столом, а Анатолий стоял рядом и гладил ее по голове. Света тут же вскочила и, как мне показалось, довольно зло на меня глянула.
— Что значит «коханя»? — поинтересовался я.
— Как тебе не стыдно подслушивать! — сказала Света.
— Могли бы хоть дверь закрыть на задвижку для большего комфорта, что ли, — огрызнулся я и протянул Свете письмо.
— Следующий раз так и сделаем.
Это не Анатолий. Это Света сказала.
— А идите вы! — бросил я и хлопнул дверью.
Анатолий пробудил в ней не похоть, а пошлость, зло думал я, идя через пыльный поселок к себе домой. Дорогу перебегал ежик, но, завидя меня, встал на задние лапки, демонстрируя беззащитную бело-розовую грудку. На ночь мы оставляли блюдце с молоком, а наутро находили пустым.
Конечно, язык любви так банален и примитивен (как, впрочем, и ее телодвижения), что лучше не вслушиваться. Даже «Песнь песней» или «Ромео и Джульетта» — трескучая риторика. Сам я, будь влюблен, постеснялся бы сказать прямым текстом. Даже себе, не уверен, признался бы. И какое мне до них дело! Пусть трахаются на здоровье, если так невтерпеж. Анатолий прав — все одинаковы. Недотрога — дотрога, скромница — скоромница. Баба и есть баба, хоть я в упор в ней бабу не видел. Вот только за коньяком придется смотаться в Очаков, в здешнем сельмаге выбор невелик: портвейн, кагор и горилка.
У самого дома повстречал Майю:
— Попрощаться пришла. Анатолия не видел?
— Вы разминулись. Он как раз у вас в хате. Я оттуда.
Обнял Майю, она вдруг расплакалась.
— Да брось, невелика потеря, — сказал я.
— Ты не понимаешь. Он хороший.
Вот и она туда же!
На душе было скверно. Думал только об одном: поспеет ли Майя?
Разделся и лег — скорее бы уж день прошел. Заснуть не успел: вошли Света с Анатолием.
— Мне надо с тобой поговорить, — сказала Света.
— Отложим до завтра, я уже сплю.
— Нет, сегодня. Пойдем искупаемся.
Пока шли, говорили о чем-то стороннем. Поплавали по лунной дорожке. Уселся на камень, а Света, нисколько не стесняясь, скинула с себя купальник. Куда делась ее дикая стыдливость? Для нее было проблемой сходить пописать, когда мы на целый день отправлялись вдвоем в Павловск или Комарово.
Глядел как завороженный. Первый раз видел ее голой. В лунном свете казалась прекрасна. В солнечном, впрочем, тоже. Одеваться не торопилась. Стояла и глядела на море. Как видение. Потом повернулась ко мне. Такая родная, желанная, господи. Встал с камня. Больше нас ничего не разделяло — ни мой страх, ни ее стыд, ни наши робость и неопытность, ни Дон Жуан с синими глазами и стратегией обольщения. Хотел ее дико. Но вместо того чтобы пойти к ней, услышал вдруг собственный голос:
— Так что же такое «коханя»?
Момент был упущен, о чем буду жалеть всю жизнь.
— «Коханя» по-украински «любимая», — спокойно сказала Света и стала одеваться.
— Думаешь, он тебе первой это говорит?
— Ну и что?
Я проводил Свету до дома, и по дороге она не то чтобы оправдывалась, но пыталась объяснить, что ее связывает с Анатолием.
— С ним просто, понимаешь? Как будто сто лет знакомы. Все житейские подробности становятся легкими, невесомыми. Есть вместе, загорать, говорить — все равно о чем: о поэзии, о любви. Вот я стихи ему свои прочла, а ты даже не знал, что я пишу. Пусть слабые, но тебе о них сказать стыдно, а ему я читаю. Другой, чем вы все. Восторженный. Импульсивный. Лицо круглое, как у мальчишки, а нос облупленный. А глаза — синие, вечерами темнеют.
— Да что ты в описания ударилась? Что я, не знаю твоего Анатолия? Насмотрелся.
— Смотреть не значит видеть. Ты не то видишь. А я о нем иначе как с нежностью не думаю. Знаешь, снисходительно так: дурачок. Как о сыне, хоть он и старше на десять лет. Или как о брате, «как сорок ласковых сестер».
— Знаешь, как это называется? Инцест.
Пропустила шутку мимо ушей. Даже не возмутилась.
— Вчера он от Майки уходил — полночи отношения выясняли. Уходя, подошел ко мне — притворилась, что сплю. Подошел, погладил по голове, пощекотал по-хохлацки за ухом. Это у них ласка такая. Прошептал что-то на своей мове, типа кохани. Чуть не заплакала от нежности. Как была ему благодарна, хотелось всех людей целовать, отдать им все за ласку, за добрые слова, за коханю.
— Коханя, — хмыкнул я.
— Нет, ты не понимаешь. Что в том дурного? С ним ничего не кажется пошлым. Да, он меня поцеловал. Днем мы с ним шли с лимана, навстречу детдомовцы в одинаковой одежке. Он проводил их глазами, а потом сказал: «Как я хочу мальчишку от тебя. Мы бы с ним на Днепр ходили вместе».
Меня всего аж передернуло. Тем более вспомнил его стратагему: вести себя так, будто все уже позади.
Так за чем дело! Роди ему мальчика. А как быть, если девочка? Откажется?
Но я сдержался, ничего не сказал.
Что-то удерживало меня от вмешательства, хотя Света, похоже, и ждала его, но не известно, как бы среагировала. Могло наоборот — подхлестнуть: из духа противоречия. Еще чего! Мало того что свел, так еще послужу катализатором их отношений, которые и без того развивались стремительно. Вот и не вмешивался, надеясь, что само как-нибудь обойдется. Это наше русское авось! Или мое ленивое воображение? Непредставима за этим занятием. Тем более с Анатолием. Она с ним без году неделя. Нет, не победить ей в такой короткий срок девичий стыд, который к тому же, по классификации Анатолия, есть страх. Или Дон Жуан по скрытой своей сути — психоаналитик, и у него есть отмычка к любым женским страхам и неврозам?
Подошли к ее дому.
— Давай еще пройдемся, — предложила Света.
— На сегодня хватит, — сказал я.
Мне как-то неловко было выслушивать все эти сантименты. Несколько раз хотел перебить и рассказать о нашем с Анатолием пари, о его мужской стратегии, о донжуанстве как таковом. Может, попросить ее помочь мне по дружбе выиграть спор? Шутка.
Вместо этого спросил:
— А перед Майей не стыдно?
— Перед Майкой? Скорее уж перед тобой. Перед Майкой пусть он стыдится. Мне она никто. Да и ему не жена.
Разлучницей себя не чувствовала и, пожалуй, была права. Если Анатолию не стыдно, ей чего стыдиться?
Был третий час ночи, когда вернулся домой. В комнате Анатолия горел свет. Предпочел бы прошмыгнуть мышкой, но он меня ждал. Зашел в плавках, высокий, спортивный, синеглазый, круглолицый — все верно. Сердцеед.
Поставил на стол бутылку коньяка:
— Я очень сожалею о том пари.
— Я тоже, — сказал я. — Но ничего не поделаешь. Мы поспорили. Проиграешь — отдашь, выиграешь — отдам я. А сейчас хочу спать. Забирай свою бутылку.
На следующий день мы остались одни. Майя улетела. Подумал, подумал и укатил на денек в Очаков, предоставив, так сказать, идеальные условия для эксперимента. Остановился в пансионе у маяка, с видом на море. Днем долго, до посинения, плавал, чтобы выбить из головы всю дурь, что там скопилась. Ночью была гроза, первая в серпне. Вот и я уже стал мовать по-хохлацки. Странно, у Анатолия хороший русский — почему в интимные минуты он переходит на украинский? А для Светы звучит как музыка. Или банальность по-иностранному перестает быть банальностью? А что за иностранный язык хохлацкий? Порченый русский. Тут же взял себя в руки: не хватало, чтобы ревность к Анатолию переросла в шовинизм.
Я стоял у окна, небо и море резали стальные молнии, ливень сек выжженные холмы и лез в окна, пол был мокрый от дождя. В голове стучала одна мысль: надо быть одному. Зависимость от женщины — худшее из всех рабств. Предпочитаю самообслуживание.
Проснулся от дурацкого сна. Будто взбираюсь по крутой тропе в горы, навстречу — пара. Отхожу в сторону, уступая им дорогу, а когда они проходят, обнаруживаю вдруг, что не могу ступить ни шагу: ни назад, ни вперед, ни в сторону. Кругом обрыв. Полная безнадега.
Преодолев соблазн вернуться в Парутино ночным автобусом, уехал только на следующий день. На случай проигрыша, в котором уже не сомневался, запасся бутылкой конька.
Ситуация, которую застал по приезде, резко отличалась от той, что оставил. На раскопках Светы не было: приболела, вот и осталась дома. Что именно? Пустяки, скорей всего, женские дела. Анатолий держался особняком, ни с кем не общался, включая меня. Едва кивнул. Показалось даже, что дуется на меня. За что? Вечером исчез, но скоро вернулся и сразу же ушел к себе. Со мной — здрасьте, до свидания. Следующим утром увидел Свету — чуть бледнее обычного, но веселая. Анатолий ни разу к ней не подошел. Что произошло? Ревность вперемежку с любопытством. Что сильнее? Не знаю. И не знаю, что бы хотел узнать. Что знаю точно — любопытство хотело совсем иного, чем ревность. Мир пошатнулся на своих опорах, но я надеялся на чудо. Если бы он устоял! Как бы я хотел выиграть у Анатолия бутылку коньяка. Одновременно… О господи, ну не извращенец ли? Вуайерист? Мазохист?
Мне не спалось, да и Анатолий мешал: мерил шагами комнату. Что зверь в клетке. В конце концов привык к его шагам и заснул. Стук в дверь, часа три уже было. На пороге Анатолий с бутылкой коньяка.
— Проиграл? — спросил я сквозь сон.
— Думаю, да.
— Не понял.
— А что здесь понимать! — И поставил бутылку на стол.
Вскочил с кровати и вытащил свою.
— Говоришь загадками, — сказал я.
— Зато ты у нас вылитый Жан-Жак Руссо!
— С которой начнем?
На столе стояли близнячки: две бутылки семизвездного «Двина», который был бы вполне сносным пойлом, если б не отдавал клопами. Единственное, что нашлось в Очакове.
— Поехали?
— За Свету, — сказал я, все еще надеясь. — Во всяком случае, я не темню, как ты. — И передразнил его: — Думаю, да.
— Это ты не темнишь? Самый, что ни есть, темнила и есть. На голубом глазу! Тебе все было известно с самого начала.
— Что мне известно?
— То!
Я ничего не понимал.
Опрокинули еще по одной.
— Коньяк так не пьют, как мы с тобой, — сказал я ни с того ни с сего. — Что водку глушим. А водку как воду.
— Догадываюсь, ты не из тех, кто трезвонит про свои связи. Но когда заключали пари, это само собой разумелось, хоть и не оговаривалось. Должен был предупредить.
— О чем?
— Что не целка.
— Не целка? — переспросил я потрясенно.
— Хватит мне вкручивать! — закричал он вдруг. — Тебе ли не знать! Сейчас-то чего ваньку ломать? Она сама сказала.
— Что сказала?
— Что у вас был роман.
— Роман?
Вспомнил почему-то ее голой на берегу.
— Да, роман. И не платонический. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ты ее первый мужчина.
— И чем этот роман кончился?
Говоря по правде, я охренел немножко.
— Хитрован! Хочешь узнать от меня свою любовную историю?
— Почему нет?
— Как ты наново увлекся бывшей одноклассницей и охладел к Свете? Тут я не выдержал и заржал. Как-то рассказал Свете, что в шестом классе влюбился и написал на ногтях ее имя: по букве на ноготь. Вот именно — ее. Мою первую зазнобу тоже звали Света. Рассказывал с задней мыслью — чтобы не только посмешить Свету Вторую, но и дать ей понять, что снова влюблен. О чем она и так давно должна была догадаться. Но она — от ворот поворот, в таком же камуфляже:
— Чтобы избежать тавтологии, ты не должен больше влюбляться в Свет.
— Возьми другое имя, — предложил я. — Скажем, Пульхерия. Или Евлампия. Какое больше по душе?
Посмеялись. Смехом-трепом и ограничилось.
И вот Света возвращала мой же рассказ о первой любви, приукрасив и продлив. А разлюбил я свою школьную зазнобу довольно скоро, влюбившись в молоденькую учительницу французского, которую нам прислали взамен старухи-бестужевки, а та ушла на пенсию, лишив нас анекдотов из дореволюционной сладкой жизни. Обе мои школьные любови были отнюдь не платонические: я отчаянно мастурбировал, по многу раз, днем и ночью, при первой возможности, счет потерял, ужасаясь одновременно своей испорченности. Уже юношей, предпочитая онанизм суррогатам любви, возвел в принцип и даже обосновал теоретически все выгоды самообслуживания. А любил я в своей жизни только одну и был бы, наверное, порешительней, если бы не проклятое рукоблудие. Не могу сказать, что не сделал попытки, но тут же пресек ее, как только почувствовал сопротивление. Случилось это месяца через полтора после моей камуфляжной исповеди. Сопротивление было нерешительным, колебательным, словно Света сама не знала и хотела переложить решение этого вопроса на меня одного. Но я и так чувствовал себя кощунником, посягнув на святыню и возжелав большего, чем у нас с ней уже было. Господи, как мы с ней были молоды, как не хотели взрослеть! Как боялись потерять девство: она — свое, а я — наше общее. Вот и избегали всеми силами секса.
Как раз про училку я Свете Второй ничего не сказал, а про Свету Первую — в качестве иносказательного признания, которое ее как-то задело, коли она придумала ему такое невероятное продолжение.
— Она сама тебе сказала?
— Про то, как ты вернулся к школьной пассии?
— Да нет! Про мой роман с нею?
— Конечно сама. Кто еще! А что? Или баба должна таить свои связи, чтобы не скомпрометировать мужика? У нас с ними наоборот: что их компрометируют, нас украшает.
— Так ты с ее слов решил, что не целка? — спросил я, и сердце мое развеселилось.
Оказалось, преждевременно.
— Сказала, чтоб не осторожничал. Что она не та, за кого ее принимаю. «Не боись. Девка порченая». Так и опешил. И от того, что говорит, и от того, как говорит. Слова какие-то не ее, не девичьи. Смещение объекта. Первый раз в моей практике уд потерял прежнюю мощь и прыть, еще не достигнув цели. Трахнул кое-как. Не успел вставить, тут же кончил. Стыд и срам. Фиаско. Будто ничего и не было. Вот тогда она и говорит, что физиологически мы не подходим друг другу. Понятно, обиделся. Тебе есть с кем сравнивать, спрашиваю на всякий случай — а вдруг наговорила на себя, что порченая? Тут она и предъявила доказательство: рассказала о вашем романе. Глянул на нее — и полетел. Или это во мне соревновательный дух проснулся, но у меня снова встал. Говорю, что был не в форме, но сейчас попытаюсь ей показать, на что способен. И пру на нее с елдой наперевес. Она ни в какую — одевается. «Это тебе не штангу поднимать, где три попытки. Не вышло с первого раза — привет. Спрячь свое орудие. Что я тебе, испытательное поле для твоих сексуальных экспериментов? Подопытная самка? У тебя их кругом навалом. На них и тренируйся. Майку вызови. Потаскун ты. Вот и истаскался. Израсходовал свои мужские силы». Дура, думаю, ничего не сечешь — это как раз те силы, что восстанавливаются от раза к разу. Но сказать не решился. Ты бы ее видел! В глазах огонь, мне с такими никогда не привелось еще. Первый раз страх перед бабой испытал. Сам представь! Одно за другим. Не целка, а я именно на целку нацелился. С тобой роман, и что я сравнения не выдерживаю. И продолжает издеваться, режет без ножа: из чистого, мол, любопытства дала. Чтобы узнать, что такое Дон Жуан, чем отличается от обычного мужика и соответствует ли своей славе. Выходит — не соответствует. Посрамление Дон Жуана. Я совсем раскис. Как ты говорил? Вот-вот: вагина дентата. В переносном смысле, конечно. А как в прямом, я так и не успел узнать. — И вдруг без всякого перехода: — Так у вас был роман или нет?
— Раз она говорит, значит, был.
— А сам не знаешь? Молчун треклятый! Проиграл я или выиграл?
— Тебе лучше знать.
Что я мог еще сказать? Как объяснить ему, что словесная грубость от великой ее застенчивости? Говорил в основном он, талдыча одно и то же: о том, что вставить едва успел, фрикций ни одной, повис как плеть, удар по либидо. А снова встал из бешеной ко мне ревности и ненависти, что я опередил и что со мной ей хорошо, а с ним — никак. Я помалкивал, догадываясь, что это она через него так меня утешает, давным-давно зная о моей любви, но что ей оставалось, коли я не решался. И снова вспомнил ее на берегу ночью.
Вышел на крыльцо, вдохнул ночной воздух, глянул на звезды, а потом размахнулся и что есть силы влепил себе оплеуху. Жест отчаяния, одиночества и глупости.
Потом открыли вторую бутылку, и когда от коньяка и от ночи осталось всего ничего, беседа наша вошла и вовсе в фантастическое русло: он уговаривал меня заступиться за него перед Светой, и я в конце концов согласился. Оба были датые, так наклюкались. Все, чего он хотел, — чтобы ему предоставили еще одну возможность доказать себя как мужчину.
— Путь к сердцу женщины идет снизу, — выпалил он очередную банальность, придавая излишнее значение своему двигателю.
С такого вот бодуна отправился через все село к Свете. Букет цветов, который собрал ей Анатолий в хозяйском саду, нести отказался. Пришел просто так, без ничего.
Света обрадовалась, чмокнула в щеку, будто мы с ней сто лет не видались. Показалось, что лицо у нее заплаканное, но мог и ошибиться. Поговорили о том о сем, я все не решался. А когда начал, она тут же перебила:
— Зачем пожаловал? С поручением? Ты, вижу, вошел в роль свата.
Только тогда, увидев ее гневное лицо, осознал всю нелепость поручения и унизительность моей роли. Но отступать было некуда.
Подумал, подумал, а потом выпалил:
— Я знаю, что у вас было.
— Что? — спросила Света и смотрела на меня не отрываясь.
— Это у него первый раз в жизни, — повторил я его собственные слова, не вдаваясь в подробности.
— Что именно? Преждевременная эякуляция?
Меня как резануло. Подобные слова в ее устах! Нарочно, чтобы меня задеть? Ладно Анатолия, а меня за что? Мир перевернулся с ног на голову.
— Да нет. — И произнеся это, тут только понял, что произошло с Анатолием. Так и сказал: — Первый раз в жизни влюбился.
— Догадываюсь, — удивила меня Света еще больше. — Только что с того? Меня не колышет.
— Он страдает.
— По заслугам. Ходил по жизни гоголем, а теперь споткнулся. Пусть пожалуется кому-нибудь из своих прежних девиц, чтобы слезы вытерла и нос утерла. Да хоть Майку пусть призовет. Она тоже страдает. Страждущий плюс страждущий — вот и получится счастье. Как в арифметике.
Решил не напоминать, что в страданиях Майи повинна отчасти и она.
— Сама же говорила, что относишься к нему по-матерински.
— Говорила. А теперь решила приберечь материнские чувства для настоящих детей, когда они у нас с тобой будут. — И без всякого перехода, не дав опомниться: — Вот письмо тебе сочинила. Откуда было знать, что Анатолий тебе сам обо всем доложит и ты явишься ходатаем? События те же, но с иной точки зрения. Как в «Расёмоне». Читай, а я пока к лиману сбегаю. А то мне стыдно.
Забыл сказать, что Света, будучи дико замкнутой и стыдливой в общении, давала зато волю в эпистолярном жанре и вся выкладывалась в письмах, пусть даже случайным адресатам, к которым я ее ревновал. По ее письмам я и предположил, что она могла бы стать писателем, — перышко у нее было отточенное, а чувства нерастраченные.
Ценю твою деликатность, хоть она, по-моему, и извращенного характера. Уехал, оставив нас с Анатолием одних, но нам бы и одной хаты за глаза хватило. Коли приспичит, место найти не проблема. Однако в эмоциональном плане без тебя оказалось легче: стыд ушел.
Ладно, это все глупости, просто мне трудно писать. Но все равно я тебе все расскажу. Иначе не смогу с тобой встретиться.
Началось все с Майки. Понятное дело, я знала, что он с ней крутит. Когда они были вместе, Майка тревожно смеялась, вся светлела как-то и всегда находила нужные слова. Мне было очень хорошо с ними. Помню, я прошла у моря совсем рядом, они сидели в лодке голые, обнявшись, и не видели меня. Было так тепло, цикады звенели, как сумасшедшие, луна была, море. Я тихо позавидовала тогда Майке. Они так подходили друг другу. Он стройный такой, высокий, с милым круглым лицом, с настоящими кудрями, выцветшими от солнца. И еще у него синие глаза, вечерами они темнеют. А Майка, хоть и чуть полноватая, тоже высокая, с жесткими рыжими волосами. Ночью она входила, осторожно касаясь мебели, лежала на кровати и пела:
Я тебе сказал не все слова, Растерял я их на полпути, Я тебе сказал не все слова, Их так трудно найти.Я знала: эту песню любил Анатолий.
Я думала, им хорошо вместе. Однажды нарушила свое вежливое молчание, спросила Майку. Она посмотрела как-то странно, очень странно и даже неприязненно, потом слишком весело ответила: «А я скоро уеду. Ну их всех». А любила она не как любят девчонки, да она уже не девчонка. И по годам (ей двадцать четыре), и по своему отношению к людям. Ладно, подглядела еще кое-что тогда на лодке. Нет, не следила за ними, случайно вышло, но ушла не сразу. Я этого никогда не видела — ни в жизни, ни в кино. Стыдно подсматривать, но не оторваться никак. Так это страшно и прекрасно. И тогда ей завидовала, и теперь — ее бесстыдной страсти и милой ласковости, ее умению любить, говорить что-то совсем глупое, а становится светло и радостно. Потом начались наши с Анатолием прогулки и разговоры. Я была уверена, что невинные, тем более что рядом ты и Майка, но она первая заметила, что нас с Анатолием связывает что-то, и уехала, оставив на его имя большое письмо. Ты — вслед за ней.
Утром я не могла от неловкости глядеть Анатолию в глаза. А он явился к завтраку в белом костюме, высокий, загорелый до черноты, со своими синими глазами, шутил, рассмешил всю группу, и мне стало легко и хорошо. Он как-то отдалился. Ну, сокращаюсь.
Вечером пришел и попросил помочь со статьей об Ольвии в московский журнал — пройтись стилистически, все-таки родной у него украинский. И опять мне было как-то неловко, потом прошло. Работали долго, пошли к морю, потом к нему. Я нечаянно толкнула рюкзак на стуле, из него посыпались игрушки. Оказалось, Анатолий собирал их по всем городам, от Симферополя до Николаева, для своей маленькой племянницы. Он очень любит детей, до абсурда, ни одного малыша не пропустит на улице. И о семье мечтал. Была у него одна в Киеве, но пожелала долгого счастья с более достойным. Теперь ты понимаешь, почему он сказал, что хочет от меня мальчишку? Тебе было противно, показалось пошлым, а меня тронуло до слез. Если бы он тогда этого не сказал, ничего бы, наверно, и не случилось. Но именно тогда я поняла, что не уйти мне от него. Хотела, чтобы ты помог, но ты — ни в какую. Оставил меня одну. Помнишь, тогда на море?
Одним словом, этой ночью все и произошло. И вдруг сразу, в тот же момент, поняла, что его не люблю, что он мне вовсе не нужен со своей спортивной фигурой, и даже синие глаза не нужны. Простилась с ним совершенно спокойно, а он волновался, хотел проводить, но я не пустила. Пришла в свою хату, легла и поняла, что я самая последняя дрянь. Ужасное отвращение к себе. Мне даже противно было касаться одежды. А о тебе я и вспоминать не могла. Началась горячка, всю дико трясло, хозяйка дала каких-то капель, и я уснула. Наутро еще хуже. Мысли о смерти, не самоубийство, а так, сразу лечь и не проснуться. Чтобы людей не мучить. Вспомнила о тебе со стыдом и нежностью. Ведь у меня есть ты, и если вчера я могла о тебе не думать, то потом жить не смогу без тебя.
О нем я ни разу не думала дурно. Он светлый, радостный, с синими глазами. Ну и что, что у него были другие женщины? Что в этом дурного? Разве он насильник? Он им нравится, а сам пока не встретил ту единственную, которую мог бы любить как жену и мать своих детишек. Вот он и ищет. Какой же он донжуан? Разве донжуан любит детей? У Анатолия, наоборот, переизбыток любви — оттого такой любвеобильный. Но я-то без любви, а просто от какой-то расслабленности, растерянности, безволия. Меня мутило от брезгливости к себе. Я бы хотела полюбить, сразу все отдать, всю жизнь, а вместо этого — пустота и раскаяние. Вспомнила прежние встречи, которые всегда так двусмысленно кончались, и решила, что мне не нужно сближаться с людьми. И зачем они, эти встречи, и как вести себя, если нет любви, а только теплое, до боли, чувство? Что мне делать, родной мой? Я никому еще не приносила счастья. И с тобой ничего не получалось. Лучше быть одной. Думала, когда сюда ехала, что совсем уйду от людей. А тут Анатолий как снег на голову, с его синими глазами и осторожной ласковостью.
И откуда этот мой холод — будто ничего не произошло. А что произошло? Столько ждала — и ничего. А он растерялся от своей мужской неудачи, волновался, суетился, но я — ни в какую. Себя винила: если даже у донжуана со мной сорвалось, то, может, я и не создана для этого? А потом еще над ним издевалась, он совсем присмирел. Что на меня нашло? Реванш? Но за что? Если бы ты знал, как мне совестно, обидно, горько. Ненавидела себя, хотелось умереть тут же, на месте. И не от любви к нему, ее нет ни капли, это я ясно сознаю все время, а оттого, что мучаю людей, не могу сохранить их как милых дорогих друзей.
Почему, думаешь, я ему сказала, что не подходим физически и что у меня есть с кем сравнивать? Не совсем лгала: хоть у нас с тобой до этого не дошло, уж не знаю почему, но я как любила тебя, так и люблю, и ты это прекрасно знаешь. Не можешь не знать.
Хороший мой, я знаю, как дико тебе писать все это. Но ты все поймешь, простишь, главное, поймешь, а то я жить не смогу от отвращения к себе. Прости, если можешь.
Перечел это покаянное окаянное письмо. Потом еще раз. Заучил наизусть. Сидел над ним и плакал. От нежности, от обиды, от отчаяния. От жалости — то ли к Свете, то ли к самому себе. Глянул на часы — полвторого, а Светы все нет. Обошел весь поселок — нигде. В голову лезли нехорошие мысли. Вдруг осенило — я знал, где искать. Побежал к лиману. Навстречу Анатолий. Вид такой понурый, что ни одного укола ревности.
Нашел ее там, где впервые увидел голой. Света сидела на том камне, где сидел я и глядел на нее, как завороженный. Я и сейчас не очень понимал, что должен делать.
Сказал, что встретил Анатолия, вид у него никакой.
— Ты знаешь, что он ради тебя остался? Киевляне уже все отвалили.
— Знаю. Он мне только что предлагал вместе лететь в Киев. Два билета на самолет показал.
— И ты отказалась?
— Как видишь.
— Почему он быстро кончил? Понимаешь? — пошел я напрямик. — От восторга, который никогда прежде не испытывал. А что, если он настоящую любовь принял за очередную интрижку? С непривычки. Ошибка донжуана. А теперь догадывается.
Пусть читатель не подумает, что я какой извращенец и уговаривал Свету из мужской солидарности. Дело не в Анатолии, а во мне. А если бы не преждевременная эякуляция? Все могло сложиться иначе, думал я, забегая вперед и прокручивая будущие аргументы. Чистота эксперимента была нарушена. Вот я и взял сторону Анатолия. Но постепенно самец возобладал, и меня понесло в противоположном направлении. Воспользовался сведениями, которыми располагал благодаря соседству и болтливости Анатолия.
— А мальчишку от тебя хочет, потому что девчонка у него уже есть. И никакая не племянница, а дочка. Вот он ей и собирает игрушки. И жена его бросила не потому, что захотела долгого счастья. Его бля*ство ей во где. Он тебе чесал, а ты уши развесила.
— Так-то ты выполняешь его поручение, — улыбнулась Света. — Не заводись. Даже если он был бы во сто крат лучше, все равно не люблю его.
«Не любишь, а дала», — попридержал я про себя, чтобы попрекнуть сто лет спустя.
— А что было делать? Сам посуди. Своим обожанием ты обрек меня на вечное девство. С полгода, наверно, уже готова. Тысячу раз проигрывала в воображении. Что, мне самой тебе предлагаться? Даже на это решилась, когда Анатолий стал подваливать. Разделась и ждала. За тобой было дело. Мог предотвратить. И никакого Анатолия не было бы. Да еще «Фиесту» подсунул. Вот я и подумала: вдруг ты тоже импотент, коли на меня никак не реагируешь? И долго мне так невеститься? На всю жизнь остаться вековушей? Ведь не решился бы? Скажи честно.
«Трудно было решиться, — соглашаюсь я через сто лет. — Онанировал днем и ночью, представляя тебя, а саму держал на пьедестале. Был уверен, что тебя с него не совлечь ни Анатолию и никому другому. Потому и поспорил с ним».
— Согласись, подлянка. Как ты мог пойти на это?
— Он сам предложил.
— Какое мне до него дело? Но ты, ты… Сам виноват. Толкал нас друг к другу. Вот и дотолкал. Скажи ему спасибо. Ты мой первый и единственный мужчина, а он — нулевой. Представь себе! Проделал твою работу, коли ты от нее всячески отлынивал. Я и почувствовать ничего не успела, ревновать не к чему и не к кому. Так, побрызгал только. Да и не уверена, что он первопроходчик. Скорей всего, сама — пальцами.
— Ты это говоришь, чтобы меня успокоить.
— А тебя это беспокоит?
— Не очень, — соврал я.
— Плюс гарантия, что изменять тебе не стану. У меня больше нет сексуального любопытства, нет нужды расширять постельный опыт, чтобы сравнивать. Сравнение — в твою пользу. А так бы…
Время от времени мы вспоминаем то лето в Ольвии и посмеиваемся над незадачливым донжуаном и его фиаско. Хотя чего-то мы не договариваем, а иногда даже кажется, что говорим совсем не то.
Месяца через полтора он заявился в Питер собственной персоной и снова предложил мне роль свата, но на этот раз в прямом, то есть матримониальном, смысле. В нашем чинном и спесивом городе он смотрелся жалко, провинциально, и не только Света не понимала, что в нем нашла, но и я удивлялся моей с ним былой откровенности, а тем более тому дурацкому пари. Света дала ему отлуп, но по другой причине.
После отъезда Анатолия мы пробыли в Ольвии еще неделю — дружеские отношения были восстановлены, но какой-то напряг остался. По окончании студенческой практики, хоть и обезденежились на ней порядком, решили несколько дней попутешествовать по югу России. Тогда это еще была Россия — по крайней мере, в нашем представлении.
Очаков, Николаев, Одесса. Был уже не сезон, поезда шли полупустые, мы оказались одни в купе, почему-то именно стук колес и толкнул нас друг к другу. Все оказалось так легко, так просто, само собой, будто мы всю жизнь с ней только этим и занимались. Это была бессонная ночь, а мы ненасытны — столько скопили сексуальной энергии за год вынужденного воздержания. Чем вынужденного? Вот именно. А что, если и в самом деле я должен быть благодарен Анатолию, что тот сделал Свету женщиной? Его шутка, что муж дое*ет, оказалась пророческой. За окном мелькали море, степь, полустанки с толстухами, продающими горячую картошку с укропом. Подкрепившись, мы принимались за прерванное занятие. Находясь в таком обалденном друг от друга и от самой е*ли состоянии, мы не смогли по достоинству оценить даже впервые виденную нами Одессу — от ее прославленной в кино лестницы до воспетой в литературе скумбрии (она же макрель), которую купили на одесском базаре и съели опять-таки исключительно для восстановления наших сексуальных сил: вкусить-то вкусили, но так и не распробовали.
Ну и скрутило нас тогда. И как я мог возвести в принцип рукоблудие? Никакого сравнения. Это было наше свадебное путешествие, хоть женились мы не сразу, а спустя полгода.
Анатолий нагрянул в Питер не в очень удачное время. Как я ни уговаривал Свету, убеждая, что забеременеть с первого раза довольно трудно, тем более преждевременная эякуляция, она все-таки пошла на аборт. На всякий случай. Другой аргумент так ей и не предъявил — не хватило альтруизма. Да и Анатолий вклинился так некстати со своим предложением. Вот из-за чего у нас нет детей. Виноват я.
В остальном, наверное, тоже.
Счастливым наш брак не назовешь, хотя по нам этого не скажешь. Мы перебрались в Москву и в новые времена кое-как обустроились: я подался в ресторанный бизнес, Света ведет культурные передачи на НТВ и тайком пописывает. Со стороны — дружная пара, ни в чем не нуждаемся, квартира у Таганки, часто путешествуем по Италии, в которую влюбились заочно, со слов и благодаря Анатолию. И даже о том парутинском эпизоде если и заговаривали, то усмешливо. Потом и вовсе перестали.
Для своих тридцати восьми Света выглядит классно — на десять лет моложе. Словно время не властно над ней. Совсем не обабилась, как ее сверстницы. Наивна, чиста и прекрасна. Все еще заплетает свою девичью косу, которая была старомодна уже в наши студенческие годы и в которую я — да и Анатолий, думаю — влюбился еще до того, как полюбил ее обладательницу. Так по чему я тоскую бессонными ночами, лежа рядом с ней и вспоминая ту лунную ночь на берегу? Дорого бы дал, чтобы все переиграть наново. Что за столбняк на меня напал! Сам обрек себя на роль соглядатая. Влюбился с первого раза, а потом пер против собственной природы, полагая долгом и подвигом преодоление самого себя. Страх перед потерей девства? У меня еще больший, чем у нее? Ее девства или моего? Она моя первая и единственная женщина, зато я у нее второй, что бы она там ни говорила о нулевом мужчине. И это непоправимо, как смерть или измена. Была не от мира сего, таковой и осталась, но на земном уровне желала того же, что все остальные. Анатолий был прав, когда говорил о скромнице и скоромнице. Я и не предполагал в ней такой ярой, такой безнадежной страсти. Зато как круто он ошибся, когда думал, что тайна женщины исчезает, стоит ей раздвинуть ноги. Как была тайной, так и осталась, хотя вот она лежит рядом и мы с ней неразлучны восемнадцать лет. Навсегда тайна, и чем дальше, тем больше. А как бы сложились наши судьбы, если бы не преждевременная эякуляция Анатолия?
Кому не повезло в новые времена, так это ему. Пути наши не пересекались, хоть он и присылал по праздникам открытки, а Свете еще и ко дню рождения, с которого, собственно, у них и началось, когда он так расстарался и притащил арбуз с бахчи и гуся в яблоках. Света, кажется, знала о нем больше, хотя не думаю, что они тайно встречались. Хотя кто знает. Однажды сказала, что сломала ему жизнь и чувствует себя виноватой. В чем выражается, спрашиваю. «Спивается». Откуда ей известно? Не спросил. Что говорить, подзалетел он тогда круто. Тем более ему впервой. А теперь вот она корит себя за жестокость. А что ей оставалось?
В том-то и дело. Был выход.
О его смерти я узнал случайно и не сразу сказал Свете, все как-то не с руки было. В конце концов решился.
— От алкоголизма?
— Да нет. То есть пил он, конечно, не просыхая. Но погиб не от этого. Копал какой-то курган в Ставрополье. А потом исчез. Спустя несколько дней нашли в степи с перерезанным горлом. Не я, — пошутил я, чтобы как-то разрядить обстановку.
Никак не отреагировала. Не рассердилась, и то хорошо. Что ни говори, первый мужчина. Пусть и нулевой.
— Арестовали кореша, с которым они вась-вась многие годы — вместе копали, вместе киряли. Решили — по пьяному делу. Но тот отмазался: ни причины, ни повода. Делить нечего, водяры от пуза, пили по-черному, но по-хорошему. Остаются отморозки. Бродят по степи, скучают без дела. Что ты хочешь, беспредел.
Не то что табу, но с тех пор разговоры о том парутинском лете прекратились сами собой. Как и о ее несостоявшемся материнстве. Каждый из нас обречен нести свою муку в одиночестве. А она перед кем чувствует себя виноватой? Перед покойником? Перед собой? Что не самореализовалась как женщина? Перед тем неродившимся мальчишкой, которого так хотел Анатолий, чтобы ходить с ним на Днепр? А что, если это был не его, а мой мальчишка?
Проклятое парутинское лето!
Гостевой отсек
Быть Владимиром Высоцким: Гераклитова метафора
Высоцкий уже мелькал в этой книге, но именно что «мелькал» — ввиду моего шапочного с ним знакомства. Как художника я знал его близко, в личку — на экране, на сцене и по песням, которые слушал не только в записях, но и на концертных квартирниках. Познакомил нас Женя Евтушенко в кабинете Любимова после премьеры «Под кожей статуи Свободы», один из самых слабых у него спектаклей, хотя Юрий Петрович и попытался выжать из этой поэмы все, что мог, но — не стоила выделки. Признаюсь, что не был безразборным фанатом Высоцкого-актера, и его прославленный Гамлет надоел мне за четыре часа сценического действа до чертиков, еле выдержал — нельзя самую философическую роль на театре строить на одном хриплом крике. Зато в роли Лопахина в «Вишневом саде» — в том же театре на Таганке, но у другого режиссера (Эфроса) — Высоцкий меня потряс. Может быть, это была лучшая роль, когда-либо им сыгранная. Иное дело — Высоцкий-бард: я высоко ставил не только его песни, но и его стихи и понимал его страстное, так и неутоленное желание увидеть их напечатанными: лучшие его тексты под гитару выдерживали гутенбергову проверку. С этим, собственно, и связан один эпизод в нашей семейной жизни, о котором я упомяну здесь вкратце, чтобы дать место его мемуарно-стиховому описанию в этом гостевом отсеке.
В середине 70-х желание Высоцкого быть напечатанным было близко к осуществлению, как никогда. Либеральный питерский журнал «Аврора», где работала Лена Клепикова, уже набрал подборку его стихов, и благодарный Володя дал приватный концерт в редакции. Лена позвонила мне, и я прибыл со своим сыном на этот импровизированный концерт: мой тезка наяривал часа два, наверное, с видимым удовольствием — аудитория была новой, элитной, профессиональной. В промежутках — треп, выпивон, закусон. Однако вспоминать о Высоцком у меня все равно нет никаких оснований. Тем более, все кончилось так печально: в последнюю минуту обком партии снял цикл стихов Высоцкого.
Я бы и не решился дать здесь его портрет, если бы не неожиданная подмога от двух моих друзей, один из которых знал его близко — Михаил Шемякин, а другой еще меньше, чем я, — Юджин Соловьев. Оба, однако, впервые увидели его в один и тот же год — 1974-й. Один — в Париже, знаменитым художником, другой — в Ленинграде, 10-летним тинейджером на этом самом частном концерте в «Авроре». На Юджина-Евгения Соловьева, нашего с Леной Клепиковой единственного отпрыска, эта встреча произвела такое сильное впечатление, что спустя несколько десятилетий, став американским поэтом, он напишет о Высоцком стихотворение, которое я здесь публикую — в параллель мемуару Шемякина.
Касаемо звездной дружбы двух больших русских художников Михаила Шемякина и Владимира Высоцкого, то хоть она и продлилась всего шесть лет, до преждевременной, в 42 года, гибели Высоцкого, да и встречались они не так часто — во время наездов Высоцкого в Париж — но обоим на эту дружбу крупно повезло — это был духовный союз по причине сродства душ. Кто знает, может, ни у Володи, ни у Миши не было по жизни более близкого человека. Именно в эти годы — 1975–1980 — Шемякин записал 107 песен Высоцкого. Помимо высокого качества самих записей, необычайно важен уникальный, интимный адрес исполнения: Высоцкий пел не для безликой аудитории, а для своего близкого друга.
Великая эта дружба продолжилась post mortem: мало того, что Шемякин способствовал трехтомному нью-йоркскому изданию Высоцкого в 1988 году, но в приложении к этому самому полному по тем временам собранию выпустил отдельной книжкой его стихи и песни со своими рисунками. Я бы не решился даже назвать их иллюстрациями, потому как по сути они не иллюстративны — скорее антииллюстративны. Шемякин не просто придерживается стиховых драйвов, но отталкивается от них и дополняет. Ну да, по Декарту — тот самый щелчок, который приводит в движение в данном случае художественное воображение. Стихи Высоцкого — как источник вдохновения и кормовая база для Шемякина. Зритель может сопоставлять и сравнивать слово и изо, но вправе рассматривать эти рисунки как самостоятельные произведения искусства. Из этих семи черно-белых образов за тридцать лет выросла целая симфония в цвете — 42 изображения!
Высоцкий был «трагическим тенором эпохи», пусть его тенор был хрипловатым, охрипшим, хриплым. Вот-вот: «Охриплый голос мой приличен песне». Уж коли речь о поэте, то и цитаты из поэтов, пусть и в хронологически обратном порядке — Пушкин вослед Ахматовой, хотя ввиду общеизвестности я мог обойтись и без ссылок. Трагической эпохе под стать охриплый голос ее трагического тенора. Вот эту трагическую изнанку даже самых развеселых песен Высоцкого и почувствовал его друган Шемякин, как никто другой. По совпадению с собственным трагическим мироощущением? Его рисунки — не просто дань дружбе, но по внутренней нужде, по личной творческой необходимости. В этих антииллюстративных иллюстрациях трагизм поэзии Высоцкого усилен за счет его трагической судьбы. Смерть художника отбрасывает обратный отсвет на его творения, перенаправляя и напрягая их сюжетный драйв и круто меняя семантику. Так случается сплошь и рядом. С тем же Шукшиным, например, памяти которого Высоцкий написал прекрасный стих, связав его смерть со смертью сыгранного им героя в фильме «Калина красная»:
Еще ни холодов, ни льдин. Земля тепла. Красна калина. А в землю лег еще один На Новодевичьем мужчина. Должно быть, он примет не знал, Народец праздный суесловит, — Смерть тех из нас всех прежде ловит, Кто понарошку умирал. Коль так, Макарыч, — не спеши, Спусти колки, ослабь зажимы, Пересними, перепиши, Переиграй — останься живым. Но в слезы мужиков вгоняя, Он пулю в животе понес, Припал к земле, как верный пес. А рядом куст калины рос, Калина — красная такая… Смерть самых лучших намечает И дергает по одному. Такой наш брат ушел во тьму!.. Не буйствует и не скучает. И после непременной бани, Чист перед богом и тверез, Взял да и умер он всерьез, Решительней, чем на экране.A propos отмечу, что Высоцкий разок спел эту свою балладу, как он сам определял жанр своей стиховой эпитафии, но потом решил, что она не для исполнения под гитару: «Считаю, что ее хорошо читать глазами, эту балладу. Ее жалко петь, жалко». Вот и Шемякин воспринимает даже гитарные песни Высоцкого прежде всего, как стихи, относя их к высокой поэзии. Спор это давний, не так давно он снова выплеснулся наружу, когда Кушнер и Рейн вышли из жюри в связи с присуждением премии «Поэт» барду Юлию Киму. Полагаю, однако, ими двигали вовсе не принципиальные, а куда более низкие соображения.
Коли «Калина красная» стала восприниматься после смерти Шукшина в качестве, что ли, предсказательной ленты, так и стихотворение Высоцкого на смерть Шукшина семантически изменилось после гибели самого Высоцкого и приобрело автобиографические черты — как преждевременный некролог самому себе, как эпитафия себе заживо. Как, впрочем, и другие его стихи и песни — к примеру, «Мои похоронá», к которым Михаил Шемякин сделал страшный и по сю пору актуальный рисунок: Высоцкий в гробу, а вокруг те, кто наживается на его смерти, используя его посмертную славу себе в карман. То же, впрочем, происходит с другими ранними покойниками — Бродским, Довлатовым…
Текст не неизменен во времени. Вроде бы те же слова, буквы, запятые, да не те! Не меняя слов, время переписывает наново поэзию и прозу. «Гераклитова метафора», как определил Осип Мандельштам текучесть явления культуры. Один в один, эта дефиниция подходит к прочтению Михаилом Шемякиным стихов и песен Владимира Высоцкого.
Когда-то Мстислава Добужинского назвали лучшим читателем среди графиков Петербурга. Я бы причислил Шемякина к той же когорте великих читателей среди художников, невзирая на их жанровую специализацию. Тот же Анатолий Эфрос с его смелым сценическим прочтением русской и мировой классики: Гоголь, Шекспир, Достоевский, Чехов, Мольер, Булгаков. Думаю, Шемякин — лучший чтец поэзии Высоцкого, коли он сквозь магический кристалл времени увидел в нем трагического певца эпохи и сумел свое вид´ ение — как и видéние — запечатлеть в штрихах, линиях, композиции и цвете. Не в том даже дело, отчего страдает Гамлет — от самого себя или от своей эпохи? Разница между оптимистом и пессимистом отражена в множестве историй и анекдотов. Однако именно трагическое мироощущение адекватно, впору, под стать трагическому русскому веку, в котором выпало жить и погибнуть Владимиру Высоцкому. Именно поэтому в его личной судьбе отразилась трагедия трагической России, прошу прощения за тавтологию, но именно в ней и смысл.
Хочу быть верно понятым. Трагическая судьба евреев в прошлом столетии — холокост, этот цунами антисемитизма, уничтоживший две трети европейского еврейства, если не способствовал (не хочу быть кощунником), то не помешал триумфу этого народа, который окрасил в свой колор весь XX век, — Бродский называл его «жидовским веком». Несмотря на великие взлеты, трагическая судьба России была усугублена и продлена во времени и никакого просвета в конце этого бесконечного туннеля не видно. Увы.
Вот почему даже зонги Высоцкого к любимовскому спектаклю «Десять дней, которые потрясли мир», хронологически отнесенные к революциям 17-года, «когда в куски разлетелася корона», прочитывались тогда и до сих пор, особенно после прекрасного образа страстотерпицы России, распятой на кресте, в рисунке Шемякина, именно как «гераклитова метафора»:
Схлынули вешние воды, Высохло все, накалилось, Вышли на площадь уроды, Солнце за тучами скрылось. А урод-то сидит на уроде И уродом другим погоняет, И это все при народе, Который приветствует вроде И вроде бы все одобряет.«Ну что ж, четче, чем сказал Высоцкий, не скажешь! — комментирует Михаил Шемякин. — Я в этом рисунке постарался выразить то, о чем он пел и думал. Незавидная судьба у многострадальной России! Сколько раз вели мы ее, истерзанную и оплеванную, на очередное распинание. И сколько же будем еще распинать ее, глумиться над ней…»
Этой итоговой книге «Две судьбы» Высоцкого — Шемякина — с текстами и рисунками, фотографиями и воспоминаниями, комментами и факсимиле, в высшей степени присущи полифонизм, трагизм, многомыслие. Она не только о сдвоенной, переплетенной судьбе двух художников, но о трагической судьбе России под их пристальным скрещенным взглядом. Удивительное издание, и я благодарен Михаилу Шемякину за согласие дать фрагменты для моей книги.
Владимир Соловьев Михаил Шемякин Марина, Мариночка, Маринка
Под стать Володе была и Марина Влади. Подчас грубоватая в своей прямолинейности, она, невзирая на чины и звания, врубала не в бровь, а в глаз персоне, не отвечающей ее принципам справедливости и честности. Вот один из эпизодов, говорящих о непримиримом характере Марины. Поведал мне его сам Высоцкий.
Редакция газеты «Фигаро» устроила банкет в честь популярной французской кинозвезды Марины Влади. Банкет проводили в одном из фешенебельных домов на Елисейских Полях. Марина немного запаздывала, а приехавший ранее супруг великой актрисы — Владимир Высоцкий пил лимонад и вел беседу с каким-то белобрысым французским журналистом, к счастью блестяще говорящим по-русски. Ибо знаниями французского языка Володя так никогда и не блеснул, разве что на пластинке, записанной и изданной Мариной в Париже, носящей название «Натянутый канат», он с могучим славянским акцентом пропел две песни на языке галлов. Публики было много, в ожидании звезды люди потягивали легкие коктейли и прогуливались, поглядывая на часы. И вот Марина явилась. Поздоровавшись с устроителями приема, актриса подошла к супругу, продолжавшему беседу с белокурым французом. Француз протянул руку Марине и назвался Полем Торезом. Рукопожатие, однако, не состоялось. Марина резко отдернула свою руку и, изменившись в лице, переспросила: «Так вы и есть тот самый Поль Торез — журналист?» — «Да, мадам», — растерявшись ответствовал француз.
«Володя! Одевайся! Мы немедленно уходим из этого дома, да, да! Мы не можем находиться, где принимают негодяя, написавшего грязный пасквиль на нашего друга — художника Михаила Шемякина». И под изум ленные взгляды оторопевших гостей и хозяев Марина увлекла за собой Володю и, схватив пальто, устремилась к выходу. «И мы ушли с банкета в ее честь», — закончил свое повествование Володя. Встретившись через несколько дней с Мариной, я хотел поблагодарить ее за благородный поступок. «А как я могла иначе поступить?» — резко ответила мне Марина. И больше мы к этой теме не возвращались.
Жить с людьми, отмеченными печатью гения, весьма и весьма нелегко. Марина терпела и прощала Володе многое — буйное пьянство, «актерские влюбленности», измены, ранящие ее душу, но она никогда бы не простила малодушия; к счастью, у великого барда в генетическом коде этот порок начисто отсутствовал. Она была бесконечно предана Володе и так же бесконечно любила его. А бремя бесконечной любви и обожания не всегда легко нести человеку, к которому эта любовь устремлена. Страстно любя Высоцкого, она так же страстно и мучительно его ревновала. Русские по-разному относятся к Марине. Многие не приняли ее книгу «Прерванный полет», написанную сразу после ухода Высоцкого. Книга грешит «неточностями». Рисунок образа ушедшего супруга иногда страдает искажениями. В ее записках Володя зачастую представлен немного жалким и «затюканным», и по сравнению с Мариной не совсем образованным и даже «ростом не совсем вышедшим».
И это не могло не вызвать отрицательную реакцию у тех, кто хорошо знал Высоцкого. Он мог быть вызывающе резким, грубым, безобразно пьяным, угрюмо-депрессивным, но — никогда не был жалким! Грубость его не была хамоватой, а, пожалуй, граничила с высокомерием и являлась лишь защитной реакцией легкоранимой и уязвимой души. Ну а что касается некой «неучености» Высоцкого, то пробелы в знаниях касательно авангардной музыки, философии и литературы он заполнил благодаря моим собраниям книг и музыкальных записей и прежде всего своему цепкому уму и повышенной восприимчивости, Володя за несколько лет экстерном прошел несколько университетов. Для меня это был один из интереснейших и увлекательных собеседников, которого ну никак нельзя было упрекнуть в невежественности или малообразованности. Да и вообще в Высоцком было столько необычного, что от него можно было действительно многому научиться и многое познать.
Что касается нелепой темы «роста» Высоцкого, то я в этой книге привожу одну фотографию 1970-х годов, где на «Фуар дю трон», то есть неделе увеселительных аттракционов, я отснял Марину и Володю. Марина стоит на каблуках, а Володя в легких кроссовках, и по этому снимку можно понять, что Влади была на несколько сантиметров все же ниже Высоцкого. Хотя по поводу своего среднего роста Высоцкий «покомлексовывал» и иногда с легким привкусом горечи восклицал, обращаясь ко мне: «Росточку бы нам с тобой, Мишуня!»
В связи с проблемой «росточка» вспоминается смешной эпизод, когда Володя влетел ко мне в мастерскую, лихорадочно возбужденный и сияющий. Оказывается, он вычитал в одном «научном» журнале, что где-то в Индийском океане на какой-то широте и такой-то долготе расположен остров, обладающий чудесным свойством необычайно быстро развить дремлющие в нашем теле возможности. «Всего два месяца, Мишуня, на этом острове, и мы уедем с него двухметровыми амбалами!» — восторженно вещал он. И тут я довольно жестоко вмиг разрушил его радужные планы. «А ты уверен, Вовчик, что в нашем теле „уснули“ гены роста тела в высоту? А что, если через два месяца один из нас возвратится с громадным ухом слонового размера, а другой будет катить на тачке впереди себя свой разросшийся… нос?» Володя моментально скис и несколько дней пребывал в мрачном настроении. Зато потом родились строки:
Я вышел ростом и лицом, Спасибо матери с отцом!..Творчество избавляет нас от комплексов.
Возвращаясь к книге Марины Влади «Прерванный полет», наверное, я понял, почему книга Марины Влади, наполненная душевной болью, пронизана явными противоречиями. Если внимательно «вслушаться» в текст, то можно почувствовать горечь обиды оскорбленной в своих чувствах женщины.
Я вспоминаю возвращение Марины из России после погребения Высоцкого на Ваганьковском кладбище. Бледная, осунувшаяся вдова великого барда привезла с собой посмертную маску супруга, воспоминания о невиданном и неслыханном количестве объятых горем людей, проводивших любимого барда и актера в последний путь. И вместе с этим она привезла боль и горечь от услышанных от «доброхотов» повествований о Володиных изменах в последние годы, о якобы состоявшемся романтическом обряде венчания Высоцкого с молоденькой девушкой-простушкой в сельской церкви. О вроде бы уже народившемся от Высоцкого «маленьком чаде». Или еще о многом, что было, и чего не было, и чего вообще не могло быть. Не об этом ли провидчески предупреждал Марину Высоцкий в строках своих стихов:
Не верь тому, что будут говорить… Не верю я тому, что люди рады…Загадочна русско-азиатская душа — в ней удивительным способом уживаются отвага и трусость, благородство и низость, мудрость и идиотизм, преданность и предательство. Душа эта непредсказуема и многогранна, и вот одна из граней, именуемая «мерзко-пакостной», не пощадила страдающую и убитую горем вдову поэта, а сладострастно втыкала все новые и новые ножи в скорбящее сердце. Не успели закрыть крышку гроба Певца и Актера, как уже сносили с участка, принадлежавшего другу Володи — известному и талантливейшему сценаристу, — домик, построенный Высоцким, где они с Мариной так мечтали жить и который она так любила. В общем, «выдано» было «новоиспеченной вдовушке» по полной программе. И вся эта мерзость и грязь обрушилась на голову своенравной, ревнивой и страстной Влади.
«Я снимаю маску с любимого лица, плачу, целую холодный лоб Володи и тут же ору на него, ругаю, проклинаю и снова реву. Я не верю в Бога, не верю в тот свет, но, если он есть, как я надаю Володе на том свете по физиономии, как надаю!..» Она пожертвовала для него многим. Прежде всего, своей карьерой актрисы кино. Профессией, которую она так любила. Это была действительно великая жертва. Жертва во имя любви. Но любимый в конце пути ее предал. Теперь становятся понятными многие нюансы в ее «Прерванном полете». К стыду своему, должен признаться, что и я, не достаточно прочувствовав и поняв ситуацию, сложившуюся в последний год в отношениях Влади и Высоцкого, не смог удержаться в своих интервью от отрицательных высказываний по поводу вышедшей тогда книги.
И вовсе не из-за того, что в Марининой книге мне как близкому другу Володи тоже досталось на орехи. И опять же должен отметить, что «нападки» на меня довольно сумбурны и противоречивы. То она пишет, что «Миша Шемякин был такой худой, что разглядеть его можно было лишь в профиль». И тут же через страницу, опять же, о том же Мише: «Мне надоело таскать его пьяную тушу». Не хочется себя «обеливать», в запое я бывал «хорош», но «таскать мою тушу» Марине никогда не приходилось. Во-первых, во всех русских кабаках моя кличка была Неугомонный, поскольку доставшаяся мне от отца-кавалериста способность не спать по четверо суток распространялась, к ужасу со мной живущих, и на период запоя. А в русских кабаках Парижа, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса бедняги музыканты иногда не спали по двое суток, подыгрывая горланящему патриотические песни Шемякину, за что я и удостоился от них этой клички. Поэтому, несмотря на неимоверное количество выпитого, на ногах Миша держался превосходно, и, во-вторых, того, о чем она написала, просто не было.
Вернее всего, Марина была обозлена на меня, думая, что я знал о Володиных «амурных похождениях» и скрыл от нее это. Но должен признаться, что за все годы нашей дружбы с Володей разговора о женщинах у нас не возникало, хотя, разумеется, что «монашествующими» нас назвать в то время было бы сложно. Я не спрашивал, а он не рассказывал мне ни о своих семейных, ни любовных делах. Мы понимали ценность отпущенного Судьбой нам Времени; ведь мы жили не в разных странах, мы жили в разных измерениях — он в стране светлого будущего, я в стране отсталого капитализма. Поэтому, приезжая ко мне, Володя стремился прежде всего поработать со мной над записями, успеть прочитать энное количество запрещенной литературы, выслушать десятки пластинок неизвестных композиторов, посмотреть много раз со мной «Казанову» Феллини, «Идиота» Куросавы и новинки Бунюэля. И плюс успеть ночами «потрендеть» с другом за «философию и космос».
Это после Лимонова, сегодня, стало модно описывать свои постельные дела, и обнажение детородных органов преподносится в искусстве как «обнажение души». И вот уже известный режиссер делится с читателями интимными подробностями обо всех своих амурах, не щадя тех несчастных женщин, которые меньше всего хотели публичной огласки их похождений. Мужчины были более мужественными и одновременно более, ну, условно скажем, «гигиенично-приличными».
Время лечит душевные раны, расставляет все на свои места. Я думаю, что сегодня о бережном и восхищенном отношении Марины к памяти ушедшего Володи говорит многое. Это прежде всего: душой и сердцем сотворенный ею моноспектакль «Прерванный полет», который она играла во французских театрах и привозила в Россию; ее высказывания о Высоцком как о гениальном явлении в русской культуре — все это доказательство тому, что она очень многое поняла и простила. Наверное, Марина осознала, что последние годы она жила не с тем талантливым, неистово-энергичным, взвихренным и бесшабашным Высоцким, которого она когда-то полюбила, а с больным, несчастным человеком, терзаемым желанием свободно творить в свободном мире и осознанающим, что этому уже не суждено случиться, а посему сознательно убивающим себя алкоголем и морфием и уже давно пребывающим в полубреду, многое не осознающим и не отвечающим за свои проступки и поступки. Наверно, в минуты просветления Володя осознавал, что все идет «наперекосяк». И что сам он совершает в своей жизни какие-то роковые ошибки. И из его души вырывается вопль отчаяния:
Я по грудь во вранье! Выпить штоф напоследок — и в прорубь.Истинное отношение Высоцкого к Марине — его чувства и мысли — с необыкновенной силой и ясностью высказаны в строках его стихов и песен. Там все — и боль, и любовь, и нежность:
Маринка! Слушай, милая Маринка, Кровиночка моя и половинка… —и готовность безбоязненно пострадать за свою любовь:
Я для тебя могу пойти в тюрьму — Пусть это будет за тебя награда.И главные строки, написанные им и посвященные ей незадолго до смерти, свидетельствующие о том, что Высоцкий ясно понимал спасительную роль Марины в его судьбе, в его жизни:
Мне меньше полувека, сорок с лишним. Я жив, двенадцать лет тобой храним.Сегодня ясно — прощение и перемирие в душе Марины состоялось, а с ними вернулась и любовь, теперь уже навсегда. И я могу только, низко поклонившись Марине, произнести ей слова искренней благодарности за то, что долгие годы она спасала и хранила моего друга — большого русского поэта, великого барда и замечательного актера Владимира Высоцкого. От меня и от всей России — спасибо тебе, Марина!
Eugene SOLOVYOV
VLADIMIR VISOTSKY AT AURORA, LENINGRAD, 1974
His voice boomed, bouncing of the walls.
He strummed his guitar strings with force and passion.
T e boisterous crowd sat enraptured, in awe.
It was a gorgeous summer evening at Aurora Magazine
in Leningrad in 1974. I was only ten, the only child there,
puzzled by the adults’ exuberance and overdrinking.
Vladimir Visotsky: it was an honor to listen to your private
concert, and the intensity and wonder of that evening
are with me still, forty years later. T e lyricism and humor
of your songs lef the private audience entranced, and me,
excited and unable to sleep that night. T ank you for
your boundless energy and charm. It’s little wonder you
burned yourself up so unfortunately young. You gave fully
to every moment of your life, holding nothing back.
And I am thankful for this indelible memory of my childhood.
S.B. По мотивам стихотворения Юджина Соловьева «Vladimir Visotsky at Aurora, Leningrad, 1974»
Его голос гудел, отражаясь от стен, Пальцы рвали… гуляли по струнам, Его голос хрипел, а он пел нам, Всё пел… Разгоняя мурашки по спинам. Это было давно, но как будто в кино… Память ленту крутила, вертела: И мне вновь… десять лет, Мы идем на концерт, Что судьба нам приватно дарила… Ленинградский фуршет Был исчерпан до дна И с закусками взрослыми выпит. Ну, а мне, пацану, не заснуть до утра — Впечатлений на жизнь… и сполна. Лето… Вечер… Семьдесят четвертый… Слушаем, дыханье затая… В здании редакции «Авроры»… Всем светила… плавилась душа.Посвящение-9. Владимиру Высоцкому: Mea culpa. Стыды
В мире слишком много людей, мне их не осилить.
Д. Г. Лоуренс. Сент-МорА у меня и в ясную погоду
Хмарь на душе, которая горит.
Хлебаю я колодезную воду,
Чиню гармошку, и жена корит…
Высоцкий. СмотриныИ я со смертью перешел на «ты»…
Высоцкий. Мой черный человекЯ стыжусь, следовательно, существую.
Владимир Соловьев (не я)Бывают, знаете, такие безмолвные, безголосые звонки — что песни без слов. А телефонного идентификатора у меня нет. Да если бы и был! Снимешь трубку, а там мертвая тишина. Не совсем мертвая, а как будто кто-то дышит на другом конце провода. Как с того света. Он тебя слышит, твои вопросительные, тревожные «алё», а ты его — нет. Ты что-то объясняешь в трубку, просишь говорить громче или перезвонить, и через пару дней он перезванивает — и снова тишина. Я говорю «он», но может быть ведь и «она» — кто знает? Некто слышит мой голос, а я пытаюсь угадать, кто дышит в трубку. В голову приходит самое разное, но нет, всё не то, надо знать точно.
Это может быть человек, с которым сто лет назад мы были в дружбе, но потом разбежались по идейным, а не личным, как он теперь говорит, причинам — из-за женщины, и каждый раз, прилетая из Москвы в Нью-Йорк, он набирает меня, чтобы услышать мой голос, в каком я настроении и жив ли еще. Вот я и представляю виртуальный разговор с ним по известному шаблону, который так никогда и не состоится, увы мне!
— Как живете?
— Регулярно.
— Как здоровье?
— Не дождетесь.
— Как дела?
— Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо!
Это может быть женщина, с которой мы романились много лет тому назад, и флирт перешел в привязанность, а секс — в близость, так недалеко и до любви, если бы я не был уже женат на любимой женщине или в матримониальной практике у нас допустимо было двоеженство. Почему нет? Экономически не под силу? Предположим, обе удачно устроились и прилично зарабатывают — там или здесь, без разницы. То есть разница, конечно, есть — о ней и пойдет речь среди прочего. Что гадать, чье это дыхание на другом конце провода, когда всё давно уже в прошлом: дружбы, любови, измены, предательства. А на носу Новый год, до которого не думал дожить в самых смелых мечтах. А он — или она? — позвонит, чтобы молча поздравить меня с Обрезанием Христа? К тому же разыгрался геморрой (подробности опускаю), что мешает графоманить как ни в чем не бывало.
Это и есть образ иммиграции — песни без слов, безмолвные звонки, легкое дыхание в телефонной трубке. Я так давно уехал оттуда и так долго там не бывал, всё там так неузнаваемо изменилось, что моя тоска по прошлому носит не пространственный, а временной характер. Что мне утраченные ландшафты или утерянные люди, когда безнадежно убывает время. Как и дóлжно: ностальгия — это скорбь по утраченному времени. «Мои утраченные годы», как гениально сказал Пушкин, но кто об этом знает, когда это из его черновиков? Не грех и повторить, хоть эти слова и стоят эпиграфом к другой моей истории.
Вот еще один безмолвный звонок, но нет, звонит из Бостона бывшая одноклассница. Поздравляет с наступающим Новым годом. И рассказывает, что с ней приключилось. Повезла в Петербург урну с маминым прахом, а вернулась уже из Израиля, где приходила в себя и делала уколы против бешенства: на еврейском кладбище ее повалили на землю и искусали шесть одичавших псов.
— Понимаешь, меня всю жизнь пальцем никто не трогал, а тут…
— Тебе повезло — могли загрызть насмерть.
— Я лицо и шею руками прикрывала, потом сторож прибежал, из бомжей. Там такое запустение… Евреев почти не осталось. Подошла к памятнику Антокольского — ну, знаешь, там, где он в окружении своих скульптур…
— Такой же в Осло — Ибсену: в центре он, а по сторонам его герои.
— Вот они из-за памятника и выскочили, эти кладбищенские псы, — сказала она и заплакала. — Столько швов наложили! Вот я и подалась в Израиль, благо есть к кому, чтобы подлечиться.
— А ты разве еврейка? — удивляюсь я.
— Наполовину. Никогда не скрывала и никогда не страдала.
«Потому и не страдала, что наполовину», — молчу я.
— Как Петербург? — спрашиваю я, чтобы сменить тему.
— Неузнаваем. Поразрушили. Понастроили. И продолжают. В самом центре. Нет, не наш.
— Кто не наш?
— Город не наш.
«Это время не наше, — опять молчу я. — Наше кончилось. Мы пережили свое время». А вслух говорю:
— Времени нет. Вот голос не меняется. У тебя такой же, как в пятнадцать лет.
— Ты хочешь сказать, что у меня тогда был такой же голос, как сейчас?! — Смеется.
— Я хочу сказать, что у тебя сейчас голос, как тогда, — выкручиваюсь я.
— Была встреча одноклассников. Выпили за вас с Леной. Тебя помнят, а любят? Кто — да, кто — нет. Я обещала перевести в европейскую систему и послать твой фильм о Довлатове.
«Еще не хватало!» — Опять молча.
— Кто был?
— Семь человек. Сам увидишь. Прямо сейчас высылаю снимки «по мылу». Посмотрим, кого ты узнаешь.
Ее только и узнаю, хотя не видел с тех пор, как кончил школу, но она как-то прислала фотку, где лежит на пляже в окружении то ли тюленей, то ли морских котиков, хрен их знает! Стройная, не обабилась, но все равно время прошлось по ней, как асфальтный каток. Как и по всем нам. Да и фамилия у нее теперь другая, мужнина. Сын, внучка. У одноклассницы — внучка! Черт! По моде нынешнего времени употребляет заборную лексику:
— Ты любишь *уи? — спрашивает, вспомнив мой фильм о Довлатове, где я демонстрирую подаренную им непристойную статуэтку.
— Что я, голубой? Скорее наоборот. — Я имею в виду вагины.
А недавно прислала емельную похабель:
Прожив в России 10 лет, американец так и не понял, почему пи*дато — это хорошо, а ху*во — это плохо. Но более непонятным для него было, почему пи*дец — это хуже, чем ху*во, а оху*тельно — это лучше, чем пи*дато!
Нет, моя однокашница таких слов произнести ни устно, ни письменно не могла, даже если знала!
Фотки тут же уничтожаю, зато восстанавливаю в памяти ту пятнадцатилетнюю девочку, с которой учился в школе, — с толстой косой, со сросшимися бровями, с синими подглазинами, по поводу которых мы с однокашником прохаживались весьма недвусмысленным образом. Однокашник тоже в Америке, хотя он чистый русак, — доктор медицинских наук переквалифицировался здесь в компьютерщика. Как и с одноклассницей, с однокашником так и не встретился, хотя они оба напрашивались. Стыдно, конечно, но как иначе сохранить их школьные образы?
Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии, ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива? Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.Кстати, Бродский, хоть и обращается в этом стишке к Марине Басмановой, но под прозрачным псевдонимом, одни инициалы, увековечив ее в любовно-антилюбовном цикле. Вот кто не умрет, так это она, покуда жив русский стих: М.Б.
Нет, не хочу ни снимков, ни встреч из принципа. Пусть время стоит там, где оно остановилось, когда мы расстались после школы, задолго до моего отвала из Питера в Москву. Дальнейшее — молчание. Часы сломаны — дешевле купить новые, чем чинить старые. А то позвонил еще один одноклассник, с которым мы и вовсе учились с первого по третий, а потом проклюнулся еще один, с которым мы расстались после пятого, когда нас объединили с девочками, и завязалась с ним емельная переписка. Письма — классные. Такой же, как был прежде, — трогательный, живой, импульсивный и настоящий. Как в детстве. Даже на фотографиях, которые шлет электронкой: я уже привык и полюбил его нового — старого. А рассказ о нас так и назвал — «Невстреча» и посвятил его Номе Целесину, хоть он и не любит публичности. А название — в подтверждение моей теории, каковая еще будет изложена, что время не существует. Как там евреи говорят? Не время проходит, проходим мы — и уходим (это я уже от себя). Но пока мы не ушли, мы те же самые, что были. Мы — навсегда, то есть от рождения до смерти. Что, само собой, не навсегда. В этой жизни мы — временщики. Да позволено мне будет не замечать грим, который Время годами наносит на наши лица и тела. Это Смерть — с косой, а Время — с палитрой. Дориан Грей — гениальная метафора, хотя роман занудный. Я хочу сохранить этот мир таким, каким он был в моей юности, а он незримо стареет на тайной картине, чей автор — Время.
Вот бородатый интеллигент средних лет, а где же тот ангелоподобный ребенок — оба мои сыновья? Нашей с Леной родительской любви хватило бы на дюжину детей, так он был мал, мил и дорог: мальчик-с-пальчик. Но у нас был один сын, а теперь, выходит, их двое? Трое, четверо, пятеро — десятки моих сыновей на разные лица прошли сквозь время. Говорю с этим аляскинским галеристом и пиитом по телефону через всю Америку и Канаду и чувствую некоторое отчуждение — не только пространственное, но и душевное: у него там, в Ситке, на Аляске, своя семья, свои проблемы и тревоги, держится молодцом, да и сын он — каких поискать: друг, а не только сын. Был период сближения и возвращения на круги своя, когда ему грозила смертельная болезнь, ад кромешный, как могли, поддерживали его и получили вдруг на ломаном русском длинное благодарное письмо всё тем же корявым почерком подростка, что и в России, — когда читал Лене, пустил слезу, такое трогательное!
…Когда я вспоминаю нашу общую жизнь, то, конечно, очень благодарен и за прекрасное, сказочное детство в России, и за выезд в Америку, за поездки по Америке (Crossroads), Hackley School, что помогло мне попасть в Georgetown (университет), поездки в Европу и т. д. Я уже давно достаточно ответственно и здорово (с хорошим здоровьем) жил, а вот в последние месяцы — немного сбился. Но, надеюсь, это долго уже не протянется; я вроде бы наконец-то прихожу в себя. Барбара (моя невестка) давно готова к моему выздоровлению и готова меня простить за измену.
Я также зря так часто говорю плохо о Джулиане — он хороший мальчик, ему трудно быть младшим братом такого популярного и послушного как Лео (мои внуки). На самом деле, хотя с Джулианом нелегко, но он интересный и своеобразный. Просто у меня на него было последнее время меньше энергии, но вроде бы моя энергия постепенно возвращается.
А об Алис (итальянская девушка, жившая у сына по обмену) я вообще зря что-либо плохого говорю — она веселая, с ней легко, у нее покладистый характер, и за счет ее подростковой энергии у нас дома за последние два месяца было больше радости и смеха, что так важно, в особенности Барбаре, пока я плохо себя чувствовал и сходил с ума.
С ноября я довольно часто вспоминал наши поездки (мы всюду таскали его с собой) и мое детство, и все интересное и приятное, что мы вместе делали.
Осенью собираюсь с Лео в Нью-Йорк погостить. Надеюсь, уже никаких болезней/вирусов у меня не будет и всё будет веселее. А когда-нибудь, может, приеду с одним Джулианом.
Никогда особенно с детства не думал и не замечал свое здоровье. Эта болезнь помогла мне понять, как важно жить с интересом и весело, но все-таки понимая, что жизнь и здоровье надо ценить и ничего глупого не делать — с француженкой, даже если она тут ни при чем. (После поездки в Бутан и одноразового романа с этой француженкой сын и заподозрил у себя СПИД — см. мой рассказ «Лопнувший кондом».)
Но — лучше о вас. Молодцы, что вы продолжаете писать и печататься и быть успешными и в России, и в Нью-Йорке, с хорошими друзьями вокруг, и жить интересной, интеллектуальной жизнью.
Мы собираемся чаще к вам приезжать в гости. Лео и Джулиан будут явно, с возрастом, более интересоваться большими городами, и Нью-Йорк, конечно, им будет все больше нравиться. И конечно, можете приезжать к нам летом, если захотите (а можно и не летом)…
…Мы совсем перестали друг другу писать. Всё общение — либо электронной почтой, либо по телефону. Так вот — редкое, длинное письмо. Хочу вам обоим написать, какие вы всегда были хорошие, родные и интересные мне родители и что я очень благодарен вам и за прекрасное детство (как вы мне привили интерес и любовь к природе и культуре), и до сих пор.
Целую, обнимаю, ваш Жека. Чудом пронесло! Зато семья распалась: It’s only divorce, it could have been worse: a flu or an aneurysm, —писал поэт Eugene Solovyov, отстрадав по полной.
Нет, он всё тот же — ребенок, мальчик, юноша, муж, отец. Единство времени при разрыве места и действия. Это тебе спасибо, Жека, за письмо, в котором ты остановил прекрасное мгновение. Юджин, Евгений, Женя — и только для нас с Леной ты всё еще Жека и таким пребудешь в отпущенное нам время.
Сколько у нас его в запасе?
Увы, хоть мы и родились с Леной с разницей в пять дней, что обыграл означенный поэт в посвященном нам стихотворении — «На свет явившись с интервалом в пять дней, / Венеру веселя, тот интервал под покрывалом вы сократили до нуля. / Покуда дети о глаголе, Вы думали о **** в школе» — но вряд ли мы умрем одновременно, как Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Петр и Феврония. Разве что в катастрофе — автомобильной или самолетной. Я не представляю жизни без нее, но и она уже не представляет жизни без меня — так тесно и долго мы живем друг с другом. Время не властно над ней — или это потому, что я вижу ее каждый день? А если бы мы расстались со школы — и встреть я ее сейчас?
Я бьюсь над загадкой времени, а в это время звонок: Жека? Майя? Миша? Стив? другой Миша? Саша? Который из двух — здешний или московский? Лева? или Лев? мой тезка — Володя? Юра? Марина? Наташа? та Наташа или другая Наташа?
Или снова безмолвный звонок?
Когда долго не звонит — Он? Она? Оно? — начинаю беспокоиться, нервничаю, скучаю, тоскую: не случилось ли что с моим молчаливым собеседником? Отслеживаю безмолвные звонки. Музыка без слов. Музыка, как иностранный язык: слушаешь и не понимаешь. Я тоже молчу, вслушиваюсь: тишина с тишиной говорит. Сколько уже этих звонков? Не считал. А зря. Чем не сюжет, когда сюжетов все меньше и меньше, и мастерство взамен вдохновению, но заменить не может, а вдохновение — то есть, то нет. «Когда находила на него такая дрянь», как стыдливо называл вдохновение родоначальник. Мне бы творческую виагру! Или перебьюсь?
А пока что мне стыдно за мою обсирательную — ну ладно, вычеркиваю, пусть ругачую — прозу, где я описал всех своих знакомых, полузнакомых и незнакомых узнаваемо, а то и напрямую, под их реальными именами. Стыдно, что между реалом и художкой всегда делал выбор в пользу последней, жертвуя на ее алтарь друзьями, подругами, собутыльниками. Стыдно перед живыми и мертвыми, но не жалею и продолжаю писать по-прежнему. Стыдно перед Бродским — похожего на него героя я вывел в своем скандальном романе «Post mortem», а потом, переиздавая, в «Двух шедеврах о Бродском» и в «Апофеозе одиночества». Вот где вдохновение совпало с профессионализмом! Покойников — стыднее всего. Папу и маму — за то, что они умерли, а я все еще жив. Старшую сестру, которая умерла подростком от порока сердца, а я был вредный, гадкий, невыносимый ребенок: отлично помню, как доводил ее. Мне было пять, а ей пятнадцать, когда она умерла. Сейчас ей было бы о-го-го.
Это чувство стыда перед ней я перенес на Лену. Полюбил ее с обостренным чувством стыда и вины, что не властен над временем. Почему она смертна, как все?
Mea culpa.
А телефон все звонит и звонит.
Из Элизиума?
Снимаю трубку, чтобы услышать в ней знакомое дыхание.
Ошиблись номером.
Не стыд, а стыды.
Мне стыдно перед теми, кого я пережил — пусть даже они были в разы старше меня. Мне стыдно перед Пушкиным и Прустом, перед Моцартом и Шекспиром, перед именитыми и безымянными. И сколько бы человечество ни увеличивалось, покойников больше, чем живых.
Самые стыдные стыды — перед женщинами.
А если безмолвный голос принадлежит той единственной из моих гёрлз, для которой я был — несомненно! — первым, но сделал вид, что не заметил, а что мне оставалось? Относительно других: чаще всего — вторым (в замужнем варианте — все равно что первый), иногда очередной, а один раз, может, первый, а может, нет, под вопросом, сомнения гложут меня, все глуше и глуше.
Мой мужской опыт невелик, хотя как сказать? Не считая Лены, сплошь случайные, командировочные случки в пару-тройку коитусов, редко больше. Нет, никого из них я не любил, за что тоже стыдно, а просто давал выход накопившейся сперме в отсутствие жены, а так как мы с ней расставались редко, то и донжуанский список можно на пальцах сосчитать плюс парочка в уме. С дюжину наберется, даже, может, с чертову, смотря куда отнести преждевременные эякуляции, черт побери! У меня ни разу не было проблем с эрекцией, зато пару раз я кончал раньше времени, чему были объективные причины: однажды сунулся спьяну, другой — у моей одноразовой подружки были регулы, и член не скользил в увлажненном влагалище, а купался в кровавой ванне. Удовольствие еще то! А она трахалась, только когда приходили месячные, с гарантией — чтобы не забеременеть. Понять можно с учетом первобытной тогда практики абортов в той стране, откуда я родом: выскабливали без наркоза. А теперь? В среднем, помню цифру: девять абортов на женщину.
Вот мои стыды: за преждевременную эякуляцию, за безжеланный секс, за безлюбость, за аборты. Да мало ли? Всего не перечислишь. Память, слава богу, слабеет — стыд, увы, остается. А кому-нибудь стыдно передо мной? Если вообще помнят меня. Мы знали друг друга в другом тысячелетии: поменялись все четыре цифры на календарном табло, живая жизнь канула в прошлое. Гамлетова забота: порвалась дней связующая нить, как мне обрывки их соединить? Но и там, через океан, обвал времени, когда империя вместе с партией накрылись, а теперь нефтяная игла, вертикаль власти и выборы без выбора. Может, там смена времен еще острее и невыносимей. Как это у Гейне, коли пошли косяком цитаты: трещина мира прошла сквозь мое сердце? А мы отсюда глядим туда с птичьего полета, поверх барьеров — иммиграционная анестезия пространства.
Один стыд мне помог в жизни. Так сложились у меня отношения с Леной, что я мог ей изменять (в ее отсутствие), но не мог сподличать. Вот почему у гэбья ничего не вышло со мной, хоть жали на меня, как на всех остальных. Я ей подробно рассказывал о вызовах туда и моих увиливаниях. Я хотел остаться целкой в публичном доме, что мне, как ни странно, удалось, не пойдя ни на прямую конфронтацию, ни на постыдную коллаборацию. В смысле нервов мне это дорого стоило, но обошлось бы еще дороже, сделай я тот или иной выбор. Ни гнить в тюрьме, оставив Лену соломенной вдовой, ни мучиться угрызениями совести я не хотел. Выкрутился — и отвалил: сначала из загэбизированного Питера в крепостную Москву, а потом из Москвы в никуда, т. е. в Америку. Там мне было тесно, здесь меня нет. Хотя с полдюжины книг по-английски, да только что с того?
Вот еще раз цитата, к нынешним временам на моей географической родине, боюсь, не применимая: «Да нынче смех страшит и держит стыд в узде». Именно стыд перед Леной и удерживал меня от грехопадения, а так бы скурвился, как остальные мои друзья-товарищи. Может быть, и посочувствовала бы, но уважать бы перестала, а то бы и ушла. Ведь она пошла за меня не по большой любви, а скорее по моей настырности и по зову плоти, когда пришла пора. А что такое любовь, как не зов плоти? Объективированная похоть, когда желание обретает конкретное имя. Случайность: окажись на моем месте кто другой… Но ведь и о моем желании можно сказать то же: на пути звериного инстинкта возникает случайный, в общем-то, объект, который отражает мое к нему чувство. Я влюблен в свое чувство, отраженное и олицетворенное в объекте желания. Обратный луч, посылаемый субъекту от объекта. И все равно: один любит, а другой позволяет любить, и мне тогда казалось, что одной любви хватит на двоих. Хватило? Любящий божественнее любимого, потому что вдохновлен богами. Платон, да?
Художественным выплеском того стыда стал мой бесстыдный «Роман с эпиграфами», позднее переименованный в «Трех евреев».
Мне стыдно, что я не любил моих женщин, кроме Лены. «Мне двух любить нельзя», — как говорит опять-таки у Пушкина его Лаура. А они любили меня? Мне редко удавалось остаться с женщиной сам-друг наедине — чтобы она ни о ком больше не говорила. Не исключаю, что, будучи со мной, они представляли на моем месте другого.
На ложе любви мне признавались в любви — к другим, превращая означенное ложе в общеизвестную кушетку, а меня в психоаналитика или исповедника, если только это не одно и то же. Какое мне дело до их супружеских или любовных не со мной проблем? По сути, я был сублимацией: у них была естественная потребность поделиться своим экстраматримониальным опытом с мужем, а они делились своим матримониальным опытом со своим любовником, то есть со мной, что сподручнее.
В эпоху Возрождения в брачный договор, помимо супругов, вносили еще и будущего любовника жены — чичисбея, как необходимое условие счастливой женитьбы: одному мужу не под силу ни женская похоть, ни бабья болтливость. Их опыт был мне интересен как писателю и обиден как любовнику: кому-то достается жар единичной любви, а кому-то между физическими пяти-, десяти-, пятнадцатиминутками — горькие и страстные признания в любви к другому. Что получается? Любовь втроем? Не просто любовный треугольник, где я сам-третей, а групповуха, пусть и не синхронная, куда я не очень и вписываюсь. Вот именно:
Изменяешь любимому мужу С нелюбимым любовником ты.Ох уж эти мне любовницы-рассказчицы с их альковными историями! Почему та, с которой у меня был трехдневный командировочный роман без божества, без вдохновенья, тут же выложила мне как на духу историю своей первой брачной ночи, когда муж влепил ее плюху, сочтя шлюхой (и до сих пор так считает), хотя он был ее первым мужиком, а ее минет был чисто инстинктивным: когда он кончил, она целовала его тело, спускаясь все ниже и ниже, пока не дошла до обмякшего пениса, взяла его в рот, и — о чудо! — он окаменел и выпрямился? Мне она тоже сделала минет, но я был ее третьим мужчиной, а не мужем, девственность мне требовалась только от одной женщины, а эта была вовсе не бл*дь, но страстная минетчица. Ее первую супружескую ночь с первым минетом я включил в свой роман-эпизод «Не плачь обо мне…» — ее рассказ мне пригодился как писателю, но не как человеку и не как мужчине.
Странно, но женская разговорчивость всегда претила мне, я предпочитал молчуний, чтобы самому разгадывать тайны, которых у них, может, не было и нет, а потому нечего и выбалтывать. Отсутствие опыта — объяснение их молчаливости?
А кто молчит теперь мне в трубку, кто молча звонит мне — женщина или мужчина? Молчун или молчунья? Отзовись, Христа ради!
Теперь я уже не знаю, что стыднее: когда тебе женщина отказывает или когда ты женщине отказываешь? А когда ты пристаешь к женщине безжеланно, по ложно принятой на себя обязанности и нарываешься на отказ? Как побитая собака, ей богу. А то еще стыдишься спустя полчаса и много лет спустя, что так и не решился, хотя был шанс. Да еще какой — как мне стыдно перед одной крупной женщиной с мелкими чертами лица (а какая у нее вагина, так и не узнал): мы остались наедине, оба сильно этого хотели, и оба — как заторможенные. Здесь сразу же несколько сюжетов на пару-тройку рассказов, но у меня уже есть глава в «Записках скорпиона» о похождениях моего члена, а сейчас у меня возрастной цейтнот, вот и валю все стыды в одну кучу. Вместо того чтобы самому разобраться, оставлю это кроссвордное занятие читателю.
А пока что я, третий лишний, испытываю стыд перед мужьями моих любовниц, хоть я их и не знаю? Мое счастье, что не знаю? Самообман: что это меняет? Примерим на себе: разве мне было бы легче, если бы жена изменила мне с незнакомым, чем со знакомым? Не знаю, не знаю. В моем списке подозреваемых, как в таблице Менделеева, есть пустые клетки: для тех знакомых Лены, с кем я не был знаком. Моя совесть мнимо чиста. Теперь мне стыдно за свое бесстыжье, как раньше — за стыд. Я стыдился своей идишской родни — что общего у меня с этими местечковыми тетками и кузяками? Да и старомодного отца я стыдился, хоть он на военной службе — подполковник погранвойск — обтесался и советизировался. Зато мой сын меня не стесняется: моего английского, моей русскости, моего неамериканизма. Когда мы с ним вместе на людях, он ведет себя по отношению ко мне покровительственно, но это не обижает меня. Нет, он лучше сын, чем я был своему отцу. Ему нечего будет стыдиться и не в чем виниться, когда я умру, а мне — есть чего и в чем.
Проходят ли стыды с жизнью? Уходят ли они со смертью? Что суть мои стыды в сменяющемся времени — при моей жизни и за ее пре делами?
Я открыл тайну времени. Марсель Пруст выходит в свет после долгой болезни и видит, как безнадежно состарились его знакомые, но и его знакомые с трудом узнают его и путают с его приятелем Блоком, который тоже постарел. А я, убравшись вовремя из России, разорвал связь не только пространства, но и времени. Никого из моих прежних знакомцев, друзей и врагов или ставших врагами друзей, я не вижу и — надеюсь — не увижу, они остались в моей памяти прежними, неизменяемыми, неизменными. Мне звонят и пишут одноклассники — и те, кто живет здесь, и те, кто наезжает оттуда, но я избегаю встреч, дабы их (и мое) старение не вмешалось в мои отношения со временем. Мое время — не гераклитова река, в которую нельзя войти дважды, а стоячие буддийские воды, волшебное болото, в которое можно войти дважды, трижды и сколько угодно раз: в нем никто не меняется и не старится, и само время остается прежним, законсервированным навсегда. Наоборот, чем в той оперетте, где с незнакомыми герой не знакомится. А я знакомлюсь только с незнакомыми и разбегаюсь, как только мы начинаем привыкать друг к другу. Не нужен никто из прежних, а тем более тот или та, кто молчит в телефонную трубку, — выкинуть телефонную книжку, полностью обновить состав знакомств! Не обретенное время, как у Марселя Пруста, а обновленное, вечно обновляемое время, как у Владимира Соловьева. И только моя соседка по квартире — прежняя, любимая, родная.
Она звонить и молчать не может — у нас с ней один телефонный номер.
Про главный стыд перед ней — ни слова.
Потому что стыдно.
Не стыд, а винá.
Об этой моей вине она не знает, хотя могла бы догадаться.
Mea culpa.
Mea maxima culpa.
Jewish guilt.
А пока что дежурю у телефона. Жду молчаливого звонка. Позвонит ли поздравить с Новым годом?
— С кем ты молчишь? — спрашивает жена.
— Ошиблись номером.
— Почему не вешаешь трубку?
— Узнаю тебя, Аноним! — кричу я. — Я знаю тебя, Маска! С Новым годом, таинственная незнакомка! С Новым годом, тайный знакомец! С Новым годом — будь счастлив, будь проклят, кто бы ты ни был!
Посвящается Соловьеву — Владимиру, Володе, Вове (и Лене)
В самом деле, что это я? Столько посвящений моим старшим товарищам по литературному ремеслу и ни одного посвящения мне! Хотя я не просто адресат поэзо-прозы, но часто фигурант ряда опусов. Ограничусь тем, что приведу всего несколько избранных текстов обо мне либо мне посвященных — Иосифа Бродского, Евгения Евтушенко, Елены Клепиковой, Александра Кушнера, Зои Межировой и Бориса Слуцкого. Исключительно в реставрационных целях: воспроизвести, пусть и в ироническом ключе, те отношения, которые нас тогда связывали, и атмосферу, в которой мы жили.
Иосиф Бродский Лене Клепиковой и Вове Соловьеву
Безцензурная версия — впервые
I.
Позвольте, Клепикова Лена, пред Вами преклонить колена. Позвольте преклонить их снова пред Вами, Соловьев и Вова. Моя хмельная голова вам хочет ртом сказать слова.II.
Февраль довольно скверный месяц. Жестокость у него в лице. Но тем приятнее заметить: вы родились в его конце. За это на февраль мы, в общем, глядим с приятностью, не ропщем.III.
На свет явившись с интервалом в пять дней, Венеру веселя, тот интервал под покрывалом вы сократили до нуля. Покуда дети о глаголе, вы думали о е*ле в школе.IV.
Куда те дни девались, ныне никто не ведает — тире, — у вас самих их нет в помине и у друзей в календаре. Все, что для Лены и Володи приятно, не вредит природе.V.
Они, конечно, нас моложе и даже, может быть, глупей. А вообще они похожи на двух смышленых голубей, что Ястреба позвали в гости, и Ястреб позабыл о злости.VI.
К телам жестокое и душам, но благосклонное к словам, да будет Время главным кушем, достанется который вам. И пусть текут Господни лета под наше «многая вам лета!!!»Сноска в тексте
Речь о двух последних строчках третьей строфы, которая во всех предыдущих публикациях значилась, как «Вы думали о браке в школе». Эвфемизм, чуждый фонетическому контексту, а потому гипотезы и догадки читателей строились на звукописи и аллитерациях:
На свет явившись с интервалом в пять дней, Венеру веселя, тот интервал под покрывалом вы сократили до нуля. Покуда дети о глаголе, вы думали о е*ле в школе.Да и семантически — кто в школе думает о браке, зато е*ля — «одна, но пламенная страсть». Будут возражения? Касаемо самого слова, то в книге пятнадцатилетней давности у меня даже был подраздел с названием, от которого не открещиваюсь и поныне: «О, это сладкое слово е*ля…». Только в том петербургском издании это «сладкое слово» стояло без никакой звездочки взамен буквы «б»! К слову, все замены пропущенных букв на звездочки в лексических ненормативах словах принадлежат редакции, а не автору, который пишет по правилам русского языка, а не по новопринятым законам моего любезного отечества.
Борис СЛУЦКИЙ
У всех мальчишек круглые лица. Они вытягиваются с годами. Луна становится лунной орбитой. У всех мальчишек жесткие души. Они размягчаются с годами. Яблоко становится печеным, или мороженым, или тертым. У всех мальчишек огромные планы. Они сокращаются с годами. У кого намного. У кого немного. У самых счастливых ни на йоту.Евгений ЕВТУШЕНКО — Владимиру СОЛОВЬЕВУ
(В ответ на мои упреки в многословии, устно и печатно)
Скрывают лишние слова Суть потайного естества — Царицу нитку в пряже. И Винокуров нам давно Сказал, что лишнее — оно Необходимо даже. Представьте, если буду прям, То выйдет неприлично, Когда, мужик, а не слабак, Все сразу в русских трех словах Скажу я лаконично.Коктебель
Весна 1974
Александр КУШНЕР
К портрету В. И. С.
Кто хуже всех? Позор природы? Насмешка неба над землей? Кто возмущает все народы Своею правою рукой?[1] Кто волк, а кажется: ягненок? Кто любит финок, как ребенок? Кто не стесняясь ни хрена, Содрал прическу с Бенуа? Кто надоел жене Елене, Внушает жалость сыну Жене, Не ставит мать свою ни в грош? Кто на Монтеня не похож? Кого безумная столица Своим пророком нарекла? Кто Наровчатовым гордится? Плюет на честь из-за угла? Кто Вознесенского гонитель? Кто демон? Кто душемутитель? Кто о великом Евтушенке Нам слово новое сказал? С его стихов сухие пенки Кто (неразборчивый) слизал? Кому должно быть очень стыдно? «Кто, кто так держит мир в узде?» Кому лихую рифму видно И в этой строчке, и везде?[2] Кто носит сызмала в кармане Один сомнительный предмет? Кто забывает Кушнер Тане (Моей жене) послать привет? Кто перед всем крещеным миром, Попав в писательский союз, Публично назван дебоширом? Кто демократку, как картуз, Нахально носит на макушке? Кто в диссертации своей Нам доказать хотел, что Пушкин — Шеллингианец? Кто злодей? Кого ночами совесть мучит? Кто, аки тать, во тьме ночной По дому ходит и канючит И просит Бога: боже мой! Кто оскопил кота Вильяма? (Чем не шекспировская драма!) Кто написать про Аксельрода Не соберется потому, Что для российского народа Еврейский гений ни к чему? ………………………………..[3] Спроси у сирот и у вдов — И вопль раздастся: Соловьев!Елена КЛЕПИКОВА
ТАБУ
Моему однокласснику
Школьный коридор, залитый солнцем, осенним стеклярусным солнцем. Тополь торчит в окне, дорос уже до верхних этажей, а в младших классах едва дотягивал до первого крупными младенческими листами. Не виляй, память, в сторону — ближе к делу!
Распахнуты настежь классы, все бегут в коридор и в страхе жмутся по стенам, потому что еще неизвестно, на кого направит свой дикий, свой бешеный гнев Агарышев, в злобе неукротимый, а злобный почти всегда — слава богу, еще в школу редко ходит, отпетый прогульщик, но учителя смотрят сквозь пальцы, даже рады, что свои погромные инстинкты Агарышев утоляет чаще на стороне, вне школьных стен. Он — гроза школы, все его боятся до дрожи — однокашники, родители, учителя.
И мы обычно вздыхаем с облегчением, когда объект избиения наконец-то Агарышевым выяснен, и губы его сереют от бешенства, а глаза наливаются кровью — бойня началась! На этот раз — мимо, мимо, пронесло! — и, сострадая очередной жертве Агарышева, мы радуемся собственной безопасности.
Это стыдное чувство — и непременно стадное. Кажется, именно оно называется в поэтике Аристотеля катарсисом: переживая краем сердца мучения жертвы — основной его, здоровой частью зрители ликуют и торжествуют, ибо рок настиг все-таки героя, а не их самих!
А участь Агарышевской жертвы чаще всего достается Яше Раскину. И не совсем понятно, в чем тут дело… В любовном ли соперничестве — Агарышев вполне резонно ревнует Яшу к Любе Стороженко, в которую влюблены поголовно все: от семиклассников до десятиклассников.
Как всегда приходится на школу: свой погромщик, свой шут и льстец, свой раб на посылках, свой вдохновенный выдумщик и враль, свой доносчик, свой мальчик для битья — так непременно и коллективный любовный идол имеется, сакральный объект половых вожделений школяров, еще не дозревших до правового приобщения к любовным действам.
Наша школьная Венера для вожделеющих старшеклассников — Люба Стороженко. На нее изливалась потаенно коллективная страсть и мутная похоть подростков в виде обильных поллюций в их беспокойных фрейдистских снах, замещаемых днем платоническим любовным пресмыканием.
Один из немногих, я был к Любе отменно равнодушен — и вижу в том свое эстетическое превосходство над однокашниками. Ибо Любина резко и наспех выписанная красота на украинский спелый манер была черезчур картинна и потому приманчива неразборчивому вкусу школяра. Для большинства своих ревностных поклонников Люба являлась как бы наглядным пособием по женской привлекательности, как потребны в школьном обиходе иные наглядные пособия: географические карты, физические приборы, макеты, таблицы и лягушки для потрошения основ биологии.
Это позднее уже развитый и более прихотливый вкус, оттолкнувшись от Любиной показательной образцовости, уверенно предпочтет тайные или скорее лукаво и с тонким намеком недопроявленные до плоти прелести эффектной и прямо заявленной красоте.
А пока, на школьном уровне вкуса, Люба царила среди старшеклассниц: созревшая грудь — при жалостном безгрудии наших худосочных однолеток, уверенная плавность движений, отсутствие девчоночьих смешков, розыгрышей, сплетен, всей этой инфантильной игровой прыти — наоборот: вдохновенная серьезность девичества, с головой погруженного в таинство телесного цветения с близким уже позывом к плодоносности.
А сладкий дурманящий аромат, который буквально источала ее цветущая плоть на уроках физкультуры, вожделенный и отвращающий запах, что мутил сознание мальчишек и снижал их спортивные рекорды!
Даже я его помню, этот резкий грубоватый дух от Любиной жаждущей плоти, существующий как бы отдельно от нее, от ясного и вдумчивого ее лика — как требовательный, слепой, но и наивно доверчивый призыв к нашей мужской готовности.
Даже я, несмотря на полнейшее равнодушие к Любе, был взбешен, когда наш физрук, похабный и свойский мужик, державшийся с нами на одной ноге, точно и ловко всадил ладонь в Любино разгоряченное междуречье — под видом подстраховки в ее вполне благополучном соскоке с гимнастического коня.
Помню выражение ласковой наглости на его недрогнувшем лице, машинально скользнувшее на следующую претенденку, с которой он развязно и холодно проделал тот же номер. Но мы-то видели, что сладость запретного плода он вкусил именно с Любой!
Физрук был сурово наказан — что-то выкрали у него из стола, какой-то важный документ, — соразмерно его вине перед классом, ибо Люба была коллективной жрицей любви, на которую никто не смел единолично посягать.
Кроме Яши Раскина, хилого отличника, которого Люба сама выделила среди своих разномастных фанатов.
Однако Яша странным образом избежал ревнивой горячности однокашников и прочих Любиных кавалеров. И теперь я догадываюсь отчего так.
Яшины размолвки и бурные примирения с Любой были так патетичны и искренни, так не умел он скрыть от бдительного классного надзора свои натуральные чувства, что в повальной игре в настоящую Любовь они казались лицемерными, открыто поддельными, были как бы игрой более высокого класса, чем общая любовная игра, то есть фальшивили так несносно, как только и умеет прикидываться и резать слух самая забубенная и нагая истина.
Короче, на глазах у всего класса, чересчур увлеченного коллективной любовной игрой, Яша и Люба пестовали и довели в конце концов до натурального исхода свою настоящую страсть, свое запретное и распаляемое от препятствий вожделение, которое решительно никто не хотел замечать, хотя оно и лезло в глаза. Кроме разве Агарышева, самого старшего из нас, уже познавшего строение и назначение женской плоти не только по анатомическому атласу, целомудренно выставленному в кабинете биологии.
Этот атлас воспринимался школярами как сатанинское искушение, как смертоносное табу с черепом и скрещенными костями, как солнце истины, слепящее глаза, но нам еще недоступное, как… как… Ибо мудрено было, симулируя внезапный интерес к строению, скажем, мужской грудной клетки, скосить глаза к соседней женской препарации, да еще так дьявольски скосить, чтоб обозреть во всех обжигающих дробностях ее таинственное лоно и чтоб никто при этом не заметил дикий скос твоего блудливого взгляда от образцовой грудной клетки мужской особи к этому сладострастно взрезанному бугорчику с алой промежиной и волосяной курчавой окоемкой, что выводила наконец из заманчивых, но темных дебрей женского чрева к точному истоку сексуального вожделения!
О, этот незабвенный анатомический атлас, назойливо и с научной безапелляционностью направляющий твою гудящую похоть к целебному источнику, с точным маршрутом ее продвижения и даже с наглядным целевым обоснованием!
Эта первая твоя женщина, самая верная и самая бесстрастная любовница — с безвольно раскинутыми руками и мужественным профилем стахановки тридцатых годов!
Как упоительно противоречила этому властному профилю советской бесполой чеканки сладострастно округлая раздвоинка, венчающая женское чрево, рассеченное анатомическим ножом!
Из этой прелестной сизо-алой раздвоинки, бросающей в жар, в пот и умственное расстройство вожделеющего школяра, торчали вялые кончики половых лепестков — как эмбрион очень знакомого цветка, провисший из лопнувшей почки.
Еще бесстыдней и любострастней противуречили надменному профилю нашей стахановки или мухинской колхозницы с ВДНХ — ее безвольно распластанные ноги, посколько в них — в отличие от наивной безвольности ее натруженных рабочих рук с воловьими венами — безвольность была уже призывной, нагловатой, обессиленной похотью, которую изо всех сил пытался сдержать ее волевой оскал.
В бесовской своей двуличности: чиновно-советская лицевая спесь какой-нибудь депутатки какого-нибудь Президиума или Совета и развратная призывность одалиски — наша общешкольная сожительница доводила порой до грозной прострации и сексуального неистовства одуревшего старшеклассника, влипшего в атлас с профанацией научного интереса, то есть с критическим, хотя и натренированным перекосом взгляда с одного пола к другому, и для большей еще подстраховки — с верхней точки мужского объекта к вожделенному низу женского.
Уже звонок звенел, и новый класс беспечно втекал в кабинет биологии, где наш зачарованный сладострастник свершал запретные действа лицом к лицу, а точнее — лицом к чреву своей рассеченной чаровницы.
И наша старенькая учительница из девушек, ничего подобного даже в фантазию не пускавшая, пережившая и блокаду, и даже те самые тридцатые годы, когда ее юный профиль как две капли воды походил или тщился походить на державный разворот нашей препарированной стахановки, — итак, седовласая наша биологичка робко касалась предплечья неутомимого последователя Фрейда, покупаясь на его талантливую профанацию чисто научного интереса к строению мужской грудной клетки или черепной коробки, и застенчиво выдворяла за дверь как будущую звезду на биологическом небосводе.
А он, то есть я, но и он — тоже, осоловело и расслабленно находил себя где-то в коридорных глубинах, удаленный от могущественного источника страсти, осязал в смятении подмокшие трусы, но тотчас забывал, переключаясь с детской стремительностью на страх перед директором, что имел обыкновение обходить коридоры и даже уборные, равно для мальчиков и для девочек, в поисках прогульщиков, и панически устремлялся в свой класс серьезный, застенчивый мальчик с честолюбивыми помыслами — до следующего сомнамбулического воспарения в кабинет биологии с неизменным и уже описанным выше эффектом.
Где она теперь, наша коллективная возлюбленная, с обстоятельным пылом изнасилованная несколькими поколениями школяров? Где он, тот общедоступный красноречивый бедекер в запретный мир мужско-женских ритуальных таинств?
Когда у нас, как и у недоросля Агарышева, появилась своя женщина, она уже не была первой и невольно сравнивалась и одергивалась нашим любострастно препарированным идеалом. Как не могла уже ни одна живая женщина вызвать тот ослепительный взрыв желания, абсолютно бесправного, что был обрушен на ту орденоносную стахановку-иезуитку! И уж, конечно, ни одна, самая неприступная и самая желанная ваша возлюбленная не сможет обладать и каплей того дьявольского иску сительства и жгучего соблазна, как наша незабвенная детская со-любовница!
Ее горделиво-порочный лик, извращенно любимый мною, точнее — безжалостный анатомический взрез ее искусительной плоти, оставленной на атласе в виде горячительных намеков, на которые натыкается и вспыхивает воображение подростка: ну там, пучок рыжеватых волос из-под мышки, опять же волосяная нежнейшая штриховка ее рассеченного лобка, и далеее, как я уже упоминал, с наивным похабством расставленные ноги (на самом деле — идеальная позиция для анатомической приглядки) — всё это совокупно вспархивало у меня перед глазами и чувствительно стесняло в любовных связях, поскольку мой школьный кумир позднее стал как бы первой женой в моем скромном серале… покуда этот идеальный объект детской сублимации с ее голубыми туманными прожилками, алыми протоками капилляров, ветвистыми ручьями артерий и синими каналами вен не влился в могучий символ реки Любви, вытекающей из всеобщего источника Жизни, к которой и приобщались мы, жаждущие школьники, как жаждущие школьницы безвольно приникали к соседнему, не менее священному половому истоку всеобщей людской Любви.
Но возвратимся к одушевленному кумиру школьной страсти, а именно к Любе Стороженко. Как я теперь понимаю, между Любой и анатомической картой существовала железная связь. Те чувства, что вызывала в нас Люба своей спелой и уже готовой к засеву плотью, а мы — не могли, не смели, да и прав не имели излить на нее! — изливали сладострастно и разнузданно на нашу безгласную гетеру, дополнительно возбуждаясь от пошлой ее двуличности.
Знала бы Люба, что педантически распотрошенная на глянцевитом атласе колхозница с ВДНХ, которую она дважды в неделю равнодушно и даже брезгливо лицезрела на уроках, имеет к ней прямое и срамное отношение, являясь Любиной заместительницей в любви, отважно принимая на себя нашу зудящую похоть и оставляя на долю Любы лишь остаточные, расслабленные позывы стадного желания.
Не будь у нас под рукой этой сладострастной отдушины — Любе несдобровать!
Ибо если она сама не ведала, чего алкала ее вызревшая плоть, то очень многие из старшеклассников уже уловили ее глухой, беспомощный призыв, и в конце концов коллективная страсть прорвалась бы тем яростней и глумливей, чем сильней и святее велось Любино обожествление.
Но, слава богу, обошлось! — спас анатомический атлас, как и по сю пору он, наверное, удерживает не одно поколение школьников от безрассудных поступков. Если, правда, не польстились нынешние издатели учебных пособий на западный научный образец и не сравняли потрясающий разрыв между государственным профилем и наивно бл*дской позой бывшей нашей общешкольной Мессалины.
А теперь и к Агарышеву вернемся, кто единственный учуял страдальческую и единонаправленную страсть Яши Раскина и колебательный, весь в сомнениях, с заворотами и оттяжками, но — как выяснилось позднее — неизбежный встречный путь Любы Стороженко.
…Так вот, Агарышев прежде нас узнал женщину и потому многое ему открылось раньше и глубже, чем нам и даже самим Яше с Любой, Богом осужденных на самомучительную и пыточную любовь со школьной скамьи.
Но, очевидно, Агарышев приобщился к природным тайнам как-то слишком уж непривлекательно, коли не только не прекратил платонического возвеличения Любы, но дошел до самого позорного любовного пресмыкания, когда уже хотя бы пустой, равнодушный, а не досадливый, как обычно, Любин взгляд приводил его в исступление счастья.
По утрам он регулярно поджидал Любу, нимало не смущаясь нашими осторожными, впрочем, смешками, и в школу шел только вослед Любе, трудоемко выкрадывал из гардероба ее варежку, а самое несносное, самое позорное: на неделе заскакивал в наш класс посреди урока, выискивал Любу, обливаясь стыдным жаром, смотрел на нее в упор в каком-то умильном бессильном смятении и хлопал дверью перед носом возмущенного педагога.
До такой невозможной степени довел он свое угодливое раболепство — при своих-то разбойных повадках! — что даже Люба испугалась наконец. И был момент, когда все наше старшеклассие инстинктивно почуяло, что вот-вот прорвется, как надувной шар, любовный восторг Агарышева и выльется в настоящий разбой, в извращенное мстительное злокозние, в глумливое поругание былой святыни!
И Люба это учуяла и потому не вступалась за своего Яшу, когда Агарышев зверзки его избивал. Хотя избивал он Яшу вовсе не из ревности, а по другим, более коренным причинам. Ради Любы он готов был на все, так рабски стелился перед ней на самых низких ступенях школьного ухаживания, где Люба ему определила место, что ревновать просто бы не посмел! Мало того, шепни ему Люба, чтоб он, наоборот, взял Яшу под свою разбойную защиту — и он бы, ради Любы, стал Яшиным усердным клевретом. Но тогда мы не знали простейшего строения мелкой и с подлостью преступной души и трепетали за Любу, как оказалось, совершенно зря.
Именно оттого, что Агарышев знал за собой бандитские склонности, он хмуро сторонился законного преступления, зато пер со всех ног к преступлению доступному, судимому только общественным судом, с которым считаться не привык.
Он в панике изыскивал укрытия от собственной зудящей готовности к преступлению, боялся потерять волю — а как оказалось позднее, всегда над собой последнюю волю имел, и бешенство скорее разыгрывал и самовольно разъярял, чем был одержим! — и потому поспешно замещал свою неистовую мужскую страсть к Любе сподручными и скорыми средствами: украденной варежкой, к примеру, или тем самым ненормальным для горделивого школьника любовным холуйством, которое уже переходило в насмешку, в самоиздевку и снижало иронически предмет страсти.
Именно Агарышев вдохновенно «спускал» перед атласом, перед нашей бесстыдно и жутковато оголенной соналожницей, Любиной охранительницы от фонтанирующей похоти недозрелых подростков. Она и на этот раз спасла нашего любовного кумира от самой большой опасности, грозящей ей доподлинно…
А седенькая девушка-биологиня, заприметив маниакальное пристрастие Агарышева к анатомическому атласу, единственная горячо отстаивала его перед педсоветом, где неоднократно подымался вопрос о его исключении из школы за неуспеваемость и погромные инстинкты.
Итак, мы с Яшей и Любой в восьмом классе, Агарышев — в девятом, хотя старше нас лет на пять как минимум — часто оставался на второй год, и после школы он сразу загремит в армию.
Я встречу его лет через семь, возвращаясь из библиотеки, прежний колючий страх подкатит к горлу, и я попытаюсь малодушно увильнуть от встречи — во всяком случае, тело мое панически дернется к ближайшей подворотне, и я сделаю вид, что не узнаю его.
А его и в самом деле мудрено узнать — из цыганистого литого парня с буйной копной смоляных волос он стал доходягой с болезненной одышкой, лицо печально заострится, как к старости, и жалкая растерянная улыбочка прорежется вдруг в нем. И я стыдом загоню свой страх в пятки, а окажется, что бояться уже нечего: и я не тот, и он другой. Агарышев снимет кепочку, и я увижу с внезапной болью жиденькие его, ржавые волосенки — этакую младенческую дебильную поросль, — и он расскажет про службу на атомной подлодке и что облучен и обречен — сам знает, и спросит жадно и ревниво, кого я встречаю из однокашников, и я пойму, что это — святая святых: уродливая бандитская его подростковость, потому что будущего нету.
А он воскликнет возбужденно, с бескорыстной гордостью за однокашника:
— Яшка-то наш, слыхал, куда подался? В гору лезет, чертяга! Такой дошлый не пропадет! — И добавит недоуменно: — Ты не помнишь, за что я его все время бил? Ведь не из-за Любки же!
При чем здесь Люба?
Не еврея бы — не посмел!
А из евреев безошибочно выбрал Яшу — самого типичного по внешности, самого интеллигентного среди нас и самого физически слабого и малорослого. Бил жестоко, с упоением, входя в раж. Когда уставали кулаки — ногами, но с подковыркой, чтоб насмерть не забить: всегда соображал, а мы не знали разумных границ его лютости.
Яша не сопротивлялся, да и как он мог сопротивляться? И никто его не защищал — ни мы, ни учителя — никто. Даже Юра Спесивцев, наш классный силач, не решался — из-за бандитской неуправляемости Агарышева: вдруг ножом пырнет? А Люба, которая, как я теперь понимаю, могла одним ласковым разговорцем с мирным Агарышевым или притворным хотя бы к нему расположением навсегла прекратить избиение, остерегалась, хотя и чувствовала странную силу над грозным своим ухажером. Но никогда не воспользовалась, ибо упускала за сиюминутным страхом свою подлинную безопасность: боялась, как бы Агарышев в раже не свершил, отворотясь от Яши, с ней то, от чего волей себя предупреждал! Да и может ли знать нормальный человек, тем более — школьник, что подлый и, казалось бы, неограниченный разбой на самом деле всегда ограничен и даже ждет, чтоб его поскорей ограничили и сузили законными рамками!
Ведь что было тогда в школе? Не просто — «все позволено» Агарышеву, но «все позволено» Агарышеву с Яшей Раскиным! Был какой-то молчаливый если не заговор, то уговор: Яшу можно бить. Более того, эта еженедельная кошмарная процедура перестала быть из ряда вон выходящим событием — влилась в школьную бытовуху. Какая-то странная соглашательская атмосфера была, я не могу прояснить ее словами, но нутром чувствую безошибочно: тогда у нас в школе, да и по всей стране существовал негласный устав, по которому положение еврея было еще более бесправно, чем и без того бесправное положение любого советского гражданина. Помню сам я, с содроганием наблюдая бешеные скачки, а то и дикарские пляски звероватого Агарышева над одеревеневшим от ужаса Яшей, отговаривался от заступничества и тем, что слишком глубоко погрузился в литературные вечнозеленые заросли, чтоб размениваться еще и на школьные дрязги! В конце концов, я вовсе перестал выходить в коридор при первых звуках агарышевского буйства.
Агарышев этим и пользовался — он давал себе волю именно с Яшей, главным образом — с Яшей, а с другими — походя, мимолетно, не в полную силу, скорее для поддержания своего разбойного авторитета, чем по страсти! Убежден — сейчас убежден, а тогда не помню, — убежден железно: не будь в ходу негласный государственный антисемитизм, бешеный Агарышев нашел бы в себе силы сдержаться.
А Яша Раскин, окончив школу, нацелился на инженерную доходную карьеру. После института уехал на Урал, вернувшись, молниеносно защитил диссертацию — был из наших ребят самым удачливым, но, когда начались еврейские отъезды, внезапно все бросил, сорвался с кропотливо пробиваемой стези советского успеха и намылился в Америку. Все удивлялись такой скоропалительности — чего, мол, ему не хватало, с жиру бесится! — а Яша, может быть, Агарышева вспомнил, как тот его сосредоточенно бил и приговаривал: «Жидовская морда!» И наше молчаливое попустительство припомнил конечно.
Но вот что характерно: сам Яша, в бытность свою еще советским инженером, почему-то всегда, при редких наших встречах, пытался с натужным юмором вогнать агарышевский антисемитский разбой — в любовную месть за Любу.
Видно, безупречный инстинкт выживанияя еврея в антисемитской стране подсказывал Яше придать своим страданиям и унижениям характер любовного откупа за Любу. И, путая вдохновенно библейские тексты с советской реальностью, Яша выдавал себя за Иакова, вынужденного отрабатывать свою возлюбленную жену у прижимистого Ливана-государства.
Правда, библейский Иаков отрабатывал у библейского же Ливана двух жен и с куда меньшим душевным ущербом, чем советский Иаков — одну. Но это незначительное расхождение со своим библейским аналогом Яшу не смущало. Он резонно мотивировал возросшим — с тех баснословных пастушеских времен! — еврейским калымом за православную невесту.
Что ж, ежели так, то Яша отработал свою Любу сполна!
Что мне Агарышев, который, скорей всего, уже в могиле, или Яша Раскин, который с Любой — в Америке. Хотя забавно — палач погиб, а жертва спаслась. Так и положено — для равновесия, во имя справедливости: палач должен стать жертвой и вызвать к себе острую жалость, а жертва — триумфатором, а заместо жалости — зависть: гуляет себе там на международных просторах свободы и демократии!
Eugene SOLOVYOV
THEN & NOW For Volodya and Lena
In the black-and-white photograph, you face each other smiling — dad, your dimple showing clearly in prof le, the f irtatious smile dancing on your face, just for you, mom, your long chestnut hair f owing gently down past your shoulders, demurely looking back, more reserved, as was always your nature. T en, unlike today, the two smiles were genuine, your eyes meeting with af ection. It was 1975, two years before you lef all you knew behind, naively giving up on the old life you grew tired of, basing your whole future on dreams and hopes of the new world you knew nothing about. You were thirty three then, high school sweethearts, your birthdays separated by f ve days in February. T ere are no background colors or shapes in the old photograph, just a blank white wall, and you are suspended as in eternity, the moment forever, although I have not looked at this picture in years. I was your only child, the sole survivor amidst the many abortions, birth control a relative unknown in the Soviet Union, even in Moscow, the poorly made condoms usually breaking in moments of passion. United States greeted you with a new language, bizarre customs, freedom you so badly craved but did not know what to do with, and you settled into your life in New York City, trying to f t into this new world, before falling back into the relative comfort of the small immigrant Russian circle, conversing once again in your mother tongue, surviving, continuing. You were wildly successful and able to support yourself with your writing: literary grants to teach at Columbia University and Queens College, hundreds of articles in prestigious American newspapers and magazines, political biographies translated into twelve languages and sold in thirteen countries, f nally: books published in Russia today. However, you fought more of en: dad, you slammed doors, mom, you withdrew and fell into silence. No conversation for days. „И все хорошее в себе доистребили,“ although not quite as extreme as this line from a song by Visotsky proclaims, Russia’s most popular man since Gagarin. T e smiles like the two in the photograph, were gone within the decade, but the marriage persevered, out of habit, the fear of breaking away from each other, the custom of sharing the same loneliness together. I bolted west across the new country and never looked back, leaving you even more alone. I settled in Sitka, the former capital of Russian Alaska, becoming its only current Russian. You used to visit while I was still married, admiring but not fully relating to your American grandkids, my two boys, Leo and Julian, whom I did not teach Russian language or customs. I bring them back to New York once a year now, and you observe with curiosity how handsome, tall, more American and less Russian they become with each new visit. I am sorry I have moved so far away, but you taught me restlessness and homelessness, one place no better than any other, New York City was too dif cult to live in, and I did not want to fall into an immigrant circle or to speak Russian. My wife and I decided, unlike you, to dissolve our marriage, trading new loneliness for loneliness in the relationship gone sour and distant years ago. I did not slam any doors, but my wife grew as silent and introverted as you did, mom, separated and withdrawn from our relationship. We also have photos in which we are smiling happily, with eyes only for each other. T ey are all in color, as if taken yesterday. Your photo, the black-and-white one, is venerable with age, but it is strange to look at, as the moment it shows and all of my childhood, were always full of color and brilliant. T ank you! It’s nice to see you happy and young again, even for the moment long gone, nearly forgotten.
Зоя МЕЖИРОВА
* * *
Первоначально строка значило укол.
Из словарей
Володя мой Соловьев, Флейта, узел русского языка, Бесшабашно-точных Ньюйоркских рулад соловей, Завязывающий Слово в петлю, От которой Трепещет строка, Становясь то нежней, то злей. Вокруг никого, Поговорить уже не с кем, Среди небоскребов — Один. Но если и так, Что бы там ни было — Господин, Сам себе И отец, И блудный Подсудный сын. Держитесь, Володя, Делать нечего, Такие вот времена. Волна отбросила, О скалы расшибла, Отлива, прибоя В этом вина. Но всё прибывает, питает Никем не отобранный Плавный мощный язык. Знаю, что только к нему Вплотную, Как живительному Источнику, И приник. Никого нет вокруг. Страшно. Пустынно. Но Библия на столе. Перед работай читать, И дурные мысли Умчатся на помеле. Да вот еще кот-мудрец, Сбоку у книг примастился, Смотрит взглядом Всех континентов И всех времен, И не отводит глаза… Какая нам разница, Володя, Что за погода И что за день, Слабый свет Неслышной луны Или беснующаяся гроза? Пейте живительный Горький напиток, Дивный язык Далекой бездонной На время канувшей В топи сказок Или исполнившихся Предсказаний Сонной покорной страны. Там травы благоухают И веют отравой, И выходы из потерь Почти уже не видны. Но все еще Вещая птица Сирин Властительно в темной Беззвездной ночи поет И призывает Над материками Необозримый, Незримый, Неутолимый Строки Победный полет.Владимир Соловьев — Владимиру Соловьеву Не от мира сего последняя дрянь Новогодняя история
Ходит это существо —
Трын-трава и трали-вали,
И на свете ничего
Нет прекрасней этой твари.
Александр МежировЭто такая любовь, имя которой нельзя произносить.
Лорд Альфред Дуглас. Две любвиУ меня умер Бонжур, мой любимый кот — а будто бывают нелюбимые? — но этот был такой няшный, умильный дружок, каких только сыскать, и вот, утоли моя печали, я стал рыскать в своей сорной памяти, чтобы нет, не развлечься, а отвлечься от моего горя лукового. Я исписал сотни, наверное, страниц о мужской ревности, типа «ревную — значит существую», подставляя в качестве подозреваемого объекта мою, скорее всего без вины виноватую Лену Клепикову, а кого еще? — и вот она, ненавидящая театр как таковой, вынуждена была исполнять в моем театре одной актрисы роли дездемон, аннкарениных, одетт, моллей, кармен и кармелит и прочих попрыгуний-лето-красное-пропела. Ну, само собой, подозревать хуже, чем знать: у реальности есть границы, а у воображения нет.
Исчерпав тему игры мужского ложного — хотя, как знать? — воображения и проклятой неизвестности, я сдвинул сюжетные поиски в сторону вполне реальной женской измены в широком диапазоне от случайности до привычки, от «сама не знаю, как это случилось» до «измена — это так просто». Эти сюжеты тоже были уже на исходе, но тут впервые с тех пор, как это стряслось, считай, в другой жизни, меня клюнул петух в голову и пробудил мою память о самом странном эпизоде не из моей жизни, случившемся самый раз под Новый год: благословен давший петуху мудрость различать утро и ночь… — так, кажется, звучит утренняя молитва в еврейском сидуре?
На смену моей ревнивой прозе — эта антиревнивая история, которую я извлекаю из завалов своей цепкой, патологической памяти. Давно пора было рассказать, да все не с руки — не решался. Я близко знаю обоих участников этого сюжета, а третьего в личку не знал, но только наслышан о нем, как и многие тогда в стране: мы все жили в Питере, а он в Киеве и довольно скоро после случившегося умер. Собственно, если бы не его смертельная хворь и преждевременная смерть, ничего, скорее всего, не произошло и писать бы мне сейчас было не о чем, никакого отвлека от смерти моего рыжего дружка.
А тогда мы наладились встречать Новый год в актерском Доме творчества в Репино, где кормили куда лучше, чем в соседнем писательском Доме творчества в Комарово, да и кинотеатральная атмосфера была поживее, повеселее. Мы — это мы с Леной, которые на зимних каникулах пасли там нашего сына Жеку и который ни за что в ту ночь не хотел ложиться спать до боя курантов по ящику, наехавшие неожиданно из Москвы Эфрос с Олей Яковлевой, ну, само собой, Федор из Ленкома с Катей из Театра комедии, а со стороны позвали Бродского, который, как всегда, припозднился и прибыл за те самые пять минут пять минут до упомянутого боя, о которых поет Людмила Гурченко в своем зонге-хите, а тот навяз в зубах у всего моего поколения независимо от вкусов. Я тогда активно критиканствовал в СМИ обеих столиц, а служил завлитом в театре и был членом не только Союза писателей, но и театрально-киношных союзов — потому у меня и был выбор между двумя домами творчества. Снег по колено, финские сани, могила Ахматовой, театрально-капустническое веселье, легкий флирт, а иногда романы — опускаю. Бродский со своим рутинным и по любому поводу «Нет» — так он начинал любую свою фразу — успел-таки в оставшиеся пять минут вштопориться в спор по гносеологическому поводу, когда стали поднимать тост за Новый год:
— А что, собственно, празднуем сегодня?
— Рождение Христа, — робко сказала единственная среди нас крещенная при рождении Лена Клепикова.
— Нет! — картаво отрезал Ося, но тут же выдавил из себя улыбку, относясь к Лене с несвойственной ему нежностью. — Рождение — 25 декабря, а сегодня, на восьмой день, обрезание. Как и положено по нашим обычаям. Был даже такой праздник в Минеях — Праздник Обрезания Господня.
— Первая его мука, — сказал Оля Яковлева. — Я видела в Нотр-Дам фриз про его крестные муки, начинается с обрезания.
— Да сколько угодно! — сказал Бродский. — Барельефы, мозаики, фрески.
Сюжет этот был тогда внове, это сейчас он стал общим местом и трюизмом. Впереди также были стихотворные приношения Бродского на Иисусов ДР, которые он на автопилоте выдавливал из себя каждый год. Попадались и хорошие, а в основном вымученные, не в обессуд ему буде сказано.
— Ладно, — примирительно сказал Эфрос. — Выпьем за рождение самого известного еврейского мальчика, которого евреи почему-то не признают.
— Нет! — Это опять выдал негатив Ося, которого немного раздражало присутствие за нашим столом еще одного супер-пупер-талантливого человека, с которым мы его только что познакомили. — Джошуа — не еврей, а полукровка.
Мы сначала опешили, а потом, когда дошло, рассмеялись.
— И все-таки он был полным евреем, — возразил я. — Потому как его отец был тоже еврейского происхождения. Еврейский племенной бог.
— Нет! — начал было опять Бродский, но в это время стали бить куранты, и на его лице появилась гримаса: монологист, он терпеть не мог, когда его перебивали, пусть даже со Спасской башни.
В это время к нашему столику подошла официантка и протянула Федору телеграмму. Федор открыл ее, а потом скомкал и спрятал в карман.
— От Кати? — успел спросить я, но ответа не услышал.
Наступил новый год, все стали чокаться, шум стоял невообразимый.
— Что-нибудь случилось? — снова спросил я, когда всё понемногу улеглось.
— Я знаю? Пишет, что не приедет — не успевает. Подробности письмом. У меня уже тогда мелькнуло, что Кати нет среди нас из-за меня, моя вина, хотя я ничего еще не знал, не догадывался и не подозревал даже. Учитывая часовую разницу во времени с Киевом, куда она умотала в трехдневный вояж с двумя товарками по театру, и я дал ей телефон этого болезного чуда-ребенка, который уже звездил по всей стране своими недетскими стихами, ничего еще непоправимого не стряслось, у них Новый год еще не наступил, а беда пришла аккурат в Новый год по киевскому времени. Вот и в этом рассказе я забегаю вперед, а надобно все по порядку — вертанем время назад, коли искусство — единственное! — нам это позволяет. Да еще, может быть, наши неуправляемые сны, над которыми мы не властны, зато они над нами! Там тоже никакого вектора времени, никакого tempus fugit, тем более и на самом деле не время летит, а это мы пролетаем мимо него — от рождения до смерти. А само время не иллюзион? Как и наша жизнь, если вдуматься.
Федор с Катей были неразлучной парой, хоть и работали в разных театрах, а он и вовсе инстаграммный муж — все время ее фоткал. Отчасти именно благодаря мне они и переехали из Владивостока в Питер. По линии ВТО я ездил в ревизионные командировки по российской глубинке, а потом писал отчеты о виденных мною спектаклях и давал кой-какие рекомендации. В тот раз я укатил на две недели по маршруту Свердловск — Красноярск — Владивосток и вернулся в приподнятом настроении: Катя на сцене производила обалденное впечатление, но и по жизни была хороша, совсем не актерского племени, задумчивая, вдумчивая, смотрящая внутрь, а не вовне. Не от мира сего, короче. Тем и пленяла — на сцене и в реале. Устроил ей просмотр в Театре комедии, где главрежем был мой приятель Вадим Голиков, а очередным режиссером Петя Фоменко, который потом так прославился своей московской «мастерской». На обоих она произвела обалденное впечатление, но она отказалась — без Федора из Владивостока ни за что. Мы опешили. Федор был главрежем во владивостокском ТЮЗе, где Катя актерствовала, но они даже не были женаты. Даже если у них шуры-муры, не тянуть же за собой бойфренда!
— Мы с детства вместе, — сказала Катя.
Этого еще не хватало!
Не было счастья, да несчастье помогло. В это время как раз турнули главрежа нашего Ленкома, усмотрев в его постановке по «Воскресению» религиозные мотивы — сейчас, говорят, снимают с точностью до наоборот. Вот я и помчался у Управление культуры на Малой Садовой (как завлит, я был член худсовета города) и долго там втолковывал, что профиль почти один — что пионеры, юные зрители владивостокского ТЮЗа, что молодь комсомольского возраста у нас в Ленкоме — одна и та же инфантильная аудитория. Убедил не убедил, но сработало — Федора взяли и.о. И даже небольшую комнату им выхлопотали в коммуналке на Васильевском острове — а что им еще надо, когда весь день в театре, только переночевать?
Я как-то спросил Федора, почему они с Катей обходятся без штампов в паспорте.
— Чтобы не говорили, что я распределяю роли по родственному признаку и главные даю жене.
Принято, если это в самом деле так и даже если это не совсем так.
— Тогда вас примут за брата и сестру и заподозрят инцест, — пошутил я.
А Катю, когда я с ними сдружился, спросил, почему они с Федором, если с детства знакомы, на «вы».
— Ты и вы — это все романтика городского романса от Пушкина до Окуджавы.
— Не понял, — сказал я, хотя одна моя знакомая со своей мамой на «вы». Но мне иногда — призна́юсь и признаю́сь — хоть и умный, а тонкости не хватает. «У нас, немцев, нет пальцев для нюансов», хоть я не немец, да и автор этих слов был наполовину поляк (Ницше).
Катя странно так на меня посмотрела и в ответ стала читать стихи, которые знала во множестве и читала классно.
Пустое «вы» сердечным «ты» Она, обмолвясь, заменила И все счастливые мечты В душе влюблённой возбудила. Пред ней задумчиво стою, Свести очей с неё нет силы; И говорю ей: как вы милы! И мыслю: как тебя люблю!— Ну я про то и говорю!
Катя рассмеялась:
— И встречно, обратное; как говорят о фуге, — ракоходное движение Окуджавы:
К чему нам быть на «ты», к чему? Мы искушаем расстоянье. Милее сердцу и уму Старинное: я — пан, Вы — пани.Я подхватил, слегка подпевая — это при моем-то слухе, медведь на ухо наступил!
Катя терпеливо прослушала два куплета в моем фальшивом исполнении, но потом перебила и закончила сама — сухим речитативом, но без мелодии. Если есть песни без слов, то почему не быть песням без мелодии?
Зачем мы перешли на «ты»? За это нам и перепало — На грош любви и простоты, А что-то главное пропало.Наповал! Я заткнулся и больше моих новых друзей не пытал. Так и не знаю, кто прав — Александр Сергеевич или Булат Шалвович?
Не то чтобы сплошь адюльтер и промискуитет, но нравы в театре свободные, легкие, без напряга, знаю по себе, перепихнуться — без особых проблем: теснота общежития, вечерние спектакли, репетиции за полночь, поцелуи и обжимки на сцене по ходу действия, переодевания у всех на виду, а потом голышом в душевые, чтобы смыть грим и пот и все такое прочее, но, я бы сказал, что даже если разврат, то случайный, одноразовый, без грязцы, как в других творческих сферах. Ну, как бы это доступно и эвфимистически объяснить? Все эти дружеские поцелуйчики, прикосновения, касания — какая часть тела легальная, а какая табуированная? Где эта чертова граница между «можно» и «нельзя»? В театре отсутствует начисто. Это не значит, конечно, что все со всеми.
Самой собой, наши донжуаны в Театре комедии запали на новенькую, тем более незамужнюю, а ее дружок, даже если о нем слыхивали — через Неву, в другом театре, но — к Кате было не подступиться. Не из таких: дикарка, интровертка — из породы тех, которые с незнакомыми не знакомятся. За глаза Катю прозвали непорочной девой, а то и похлеще — христовой невестой.
Господи, как мы все были тогда молоды! Федору — 27, из молодых да ранний, Кате — 21, а я был перестарок — 29. А киевлянин, тот и вовсе мальчик, в пубертатном возрасте, еще и 16-ти не было, но в отличие от нас — мы все выбились в люди, каждый в своей сфере, но слава к нам пришла позже, а он уже был, пусть в узких кругах, но известен по всей стране, а та занимала тогда куда более обширное пространство, и Крым был наш, но никто не обращал на него политического внимания, если не считать интерес к судьбе крымских татар у диссидентов и интеллигентов. Ну да, вундеркинд, имя — Леонид, фамилию называть не буду, кому надо — и так вспомнит. Собственно, я их с Катей и свел, не будучи с этим мальчиком знаком лично, но заинтересовавшись им, как профессиональный критик. То есть даже так: у меня возникли сомнения в связи с его зашкаливающей славой.
Что если эта молва в обгон, рукоплеск впрок, хвала авансом, который еще надо заслужить? Ну, знаете, как эти хилые еврейские детки со скрипочками в слабых ручках на сценах — редко кто из этих вундеркиндов дотягивал до настоящего артиста. Что, если бы эти стихи принадлежали не киевскому подростку, а пииту в годах — произвели бы они такой бум? Короче, склонялся, что это очередная китчевая обманка, на которую так падок наш народ, а потому несказанно удивился, прочтя его напечатанные и самиздатные стихи насквозь, все что удалось раздобыть: настоящий поэт, зрелый, не по возрасту, мастер, с удивительными прорывами и открытиями. До сих пор помню некоторые его строчки: «У комаров нелетная погода, а нам совсем неплохо под дождем…» — это из стихотворения, которое он посвятил Кате, потому и помню. Сейчас в независимой Украине к нему заново пробудился интерес, одна статья так и называлась «Забутий генiй», отчасти, думаю, по политическим причинам, у Лени есть проукраинские стихи. Такое, например, — Катя привезла его мне тогда из Киева, влюбившись не только в Леонида, но в Украину, среднюю строфу я запамятовал:
Я позабуду все обиды, И вдруг напомнят песню мне На милом и полузабытом, На украинском языке. …………………………. Я постою у края бездны И вдруг пойму, сломясь в тоске, Что все на свете — только песня На украинском языке.Короче, когда Катя с другими актерками намылилась в Киев в эту трехдневку-экскурсию, я посоветовал ей разузнать подробнее о самородке и дал телефон его отца, довольно известного прозаика. Виниться мне не в чем, но воленс-ноленс я послужил сводней. Мальчик уболтал ее своими стихами? Не только. Скорее своей судьбой, своим роком: мальчик был обречен, белокровие, жить Леониду осталось всего ничего. Не она в него втюрилась, а он — в нее. Умирающий девственник, последний шанс забросить свое семя в вечность — он так ей и сказал, этот умный не по годам мальчик, который хотел не только Катю, но и еще ребенка от нее, которого ему не суждено увидеть, и он это знал.
А Катя? Жалость — она его за муки полюбила? Тоже нет. Амок? Вряд ли. Я бы сказал — сродство душ из-за сходства судеб. Это я узнал много позже, от Федора: у Кати было чувство близкой, неизбежной и внезапной смерти, с которым она жила с детства всю жизнь. Поскольку по некоторым медицинским обстоятельствам родилась она не в простой рубашке, а прямо в саване. Ну да, врожденный порок сердца. В реанимашку, как к себе домой. Федор не то чтобы ее выходил — слишком громко сказано, но был ее товарищем по не совсем детским играм, взял под свою опеку, они узнали друг друга, когда учились в одной школе, Катя была совсем еще сопливкой, а Федор старшеклассником, но сдружились, несмотря на возрастную разницу, были как брат и сестра, с тех пор Катя и называет его на «вы», и он ее тоже, сначала шутя и для равенства, а потом так уж у них повелось.
Мрачные врачебные пророчества не то чтобы совсем не сбылись, но отложились на неопределенный срок, а детская та обреченность хоть и ушла в подсознанку, но наложила отпечаток на Катину психику и на ее жизнь. Отсюда вся эта ее медитативная самоуглубленность и стремление к чему-то запредельному. Тот диагноз-приговор немало способствовал ее полноценному существованию — на сцене и в жизни. Может, сама она этого и не вполне сознавала, но ее тело и душа сызмала поставили себе задачу перемахнуть через смерть. И вот все ее страхи, которые запали в нее с детства, очнулись и встрепенулись вдруг в ту новогоднюю ночь в Киеве — до полного отождествления с этим умирающим мальчиком, который влюбился в нее и хотел от нее ребенка, силясь заглянуть за пределы своей физической жизни. Можно ли винить Катю в том, что с ними произошло в ту новогоднюю ночь, когда они остались совсем одни — одни-одинешеньки на белом свете перед лицом неминуемой смерти? Да никто ее и не винил, меньше всего Федор — только она сама. То ее покаянное окаянное письмо Федору начиналось: «Я не смогу с тобой встретиться, пока все тебе не расскажу» — и подпись: «Катя, последняя дрянь».
Через полтора месяца Леня умер, а Катя и Федор расписались в загсе. Я был свидетелем со стороны невесты, а со стороны жениха позвали человека с улицы. Об аборте и речи не было. В сентябре у них родился сын, которого назвали в честь отца — Федором.
Такая вот новогодняя история, дорогой мой читатель. С наступающим!
P.S. ХУЛА ИЛИ ХВАЛА: СОЛОВЬЕВ ЗАБИЛ НА ВСЕ!
Регулярно печатаясь в русской периодике по обе стороны океана, автор привык, что на его по политикану в разы больше отзывов, чем на эссеистику и художку. Потому неожиданным подарком для меня была дискуссия вокруг моего новогоднего рассказа «Не от мира сего последняя дрянь». Среди множества отзывов отсюда и оттуда попадался и негатив. Честно, мне всегда интересны несогласные со мной отзывы, а потому самым любезным показался резко отрицательный: редактор даже не решилась его опуб ликовать, дабы не обижать автора, а передала мне в личку. «Соловьев забил на все!» — отзывался неведомый мне читатель, имея в виду, впрочем, не один только этот новогодний сказ, но и другие мои опусы — как в газетном, так и в книжном формате, а их у меня в последнее время половодье. «Пир во время чумы», — говорят про меня в Москве, а я называю это «бабьим летом», которое здесь у нас в Америке зовут «Indian summer». Уж на что я любитель современного русского сленга, полагая, если что в России сейчас бурно идет в рост, так это русский язык, но тут на всякий случай полез в Вику: забить на все — не обращать внимания на что-л, остаться равнодушным, не переживать по этому поводу
Ну, касаемо «не переживать» — еще как! В остальном — все верно. Согласен с этим определением на все сто и беру его на вооружение. Как в позапрошлом столетии французские художники присвоили себе ругачую кличку своих зоилов — импрессионисты. Когда-то, еще в России, я сочинил горячечную исповедь «Три еврея» — на полном, немыслимом тогда, да и сейчас, чистосердечии, а теперь поздно переучиваться у жизни на краю. Да, я забил на все, и последние свои предсмертные сочинения пишу без всякой оглядки ни на кого, как Бог на душу положит. Чтобы понять и рассказать другим, что случилось на моем веку — со мной и с нами. Хула в похвалу!
Слово отзовистам.
Какая трагическая история под Новый год! Сначала смешная, а потом вдруг такой крутой поворот. Долго не выходит из головы. Вопрос автору: это документальная история или из головы? Производит впечатление абсолютного правдоподобия, но это может быть мастерство маститого автора. Или так нельзя подходить к художественному произведению? Все равно, интересно бы узнать.
Мне кажется, это неверный подход к художественному рассказу. Мы же не спрашиваем, действительно ли так было, как описано в «Даме с собачкой» или в «Смерти Ивана Ильича». Писатель убеждает или не убеждает. Новогодний рассказ В. Соловьева убеждает, не возникает никаких сомнений, что он списан с натуры, а так или нет, никакой роли не играет. Пушкин еще написал «Над вымыслом слезами обольюсь». Очень трогательная история получилась.
Было — не было, разве в этом дело! Так написано, что было! Печальная, но вместе с тем светлая история о двух ипостасях человеческого бытия — о жизни и смерти. Много знакомых мне лиц и фамилий, равно как и не знакомых, но к концу чтения рассказа ставших близкими и щемяще родными. Благодарю Владимира Соловьева за еще одну встречу с Иосифом Бродским, вдобавок к его книгам о нем, да и не только с ним. Повторюсь, что встретила много знакомых имен, например Анатолий Эфрос, книга которого «Профессия: режиссер» и по сию пору является знаковой для меня в плане постижения и человеческой души, и искусства как такового.
А какие стихи в рассказе — упоительные! Особенно про «ты» и «вы» — Пушкина и Окуджавы. Да и у героя симпатичные, лирические стихи. Так редко в газетах стихи печатают, а жалко.
Цитата из В. Соловьева «Такое, например — Катя привезла его мне тогда из Киева, влюбившись не только в Иосифа, но в Украину…»
Тест по тексту (типа ЕГЭ):
1. Так, в кого влюбилась Катя? Ответ: Леня, Иосиф, Федор… (правильное подчеркнуть, недостающее дописать);
2. Продолжительность действия, описанного В. Соловьевым? Ответ: Новогодний вечер, год, порядка 5–6 лет… (правильное подчеркнуть, предложить свой вариант).
Ответ на предложенный тест (второй вопрос): ВЕЧНОСТЬ.
Вечность влюблена в произведения времени.
Действие пьесы Шекспира — пара часов. Это на сцене. А по действию несколько лет. «Король Лир», скажем. Это элементарно, Уотсон.
Вечность — это та черная дыра, куда всасывается и исчезает все. Кануть в вечность — как в Лету кануть. Но временные отрезки обозначены (герои тоже), и год упомянутого Нового года определить не трудно. После чего пойдут нестыковки. События по датам будут наезжать друг на друга… отставать, обгонять… А далее… микс. Было — не было. (Так, было ли?) Какая разница…(?), и т. д. и т. п. Время действия — вечность! Место действия — планета Земля! Это же элементарно — Уотсон! Ощущение ножниц и клея… на заготовленном тексте (незаконченном). Вот им-то какая разница…
Поразительны манипуляции со временем в рассказе. В нем особое время — спрессованное. Владимир Соловьев сам пишет: «Вот и в этом рассказе я забегаю вперед, а надобно все по порядку — вертанем время назад, коли искусство — единственное! — нам это позволяет». Это сразу же после намеренного авторского анахронизма, когда в Ленинграде празднуют Новый год, а по киевскому времени он еще не наступил! На самом деле наступил — в то время Киев жил по московскому времени, а стрелки были передвинуты назад только в незалежной и самостийной Украине! Но как искусно этот анахронизм использован в рассказе Соловьева!
Владимир Соловьев, автор обсуждаемого рассказа:
Автор должен повиниться за досадную оговорку (опечатку, описку, обмолвку, как угодно) в рассказе «Не от мира сего последняя дрянь»: в одном месте я назвал литературного персонажа Леонида Иосифом. Так случается сплошь и рядом — см., к примеру, последнюю главу «Капитанской дочки» и проч. Не в оправдание, а в пояснение этого парапраксиса, который Фрейд объясняет в «Психопатологии обыденной жизни» случайным выходом наружу бессознательного, должен сообщить, что в последнее время много занимаюсь Иосифом Бродским: полгода назад в Москве вышел мой килограммовый фолиант о нем «Иосиф Бродский. Апофеоз одиночества», а сейчас подготовил новое издание этой книги, сокращенное и дополненное «Бродский. Двойник с чужим лицом». Короче, голова моя по самое некуда забита Бродским, вот имя его и выскочило, как черт из табакерки, в неположенном месте, тем более он тоже фигурант этого рассказа, пусть и маргинальный.
Не винитесь за эту оговорку, Автор! Она сразу видна любому внимательному читателю. В литературе всякое бывает. А рассказ прекрасный. В нем есть что-то Бунинское.
Вот так новогодний подарочек! А как задушевно написан!
Гениальное Новогоднее!
Enjoyed reading this wonderful, intriguing story, from its great title to the unusual plot. «Innocent» betrayal, which cannot lead to jealousy, even for the husband. Birth of a «holy» child, defying the physical death of his father who will never see him alive. A New Year’s day treat! T ank you.
Как-то все пропустили лучший абзац в этом рассказе. Не то чтобы оправдание адюльтера, но проблема поставлена очень серьезная и всерьез. Цитирую из него несколько фраз, но советую перечесть его целиком: «Все эти дружеские поцелуйчики, прикосновения, касания — какая часть тела легальная, а какая табуированная? Где эта чертова граница между “можно” и “нельзя”?» Очень меня это болезненно задело, а когда дал прочесть моей подруге, она прямо ахнула. Долго потом об этом с ней говорили, выясняли отношения. Я думаю, автор сам не очень понимает, на какую тему замахнулся. Тут не рассказ писать надо, а научное исследование.
Вы же отлично понимаете, что тут (после перепиха и одноразового разврата частого) уже… трижды кожу сняли, а вы… по шерсти тужить начали вдруг (вместе с автором). Смотрится это как чистое юродство в лицемерии? Коммент свой советую дать «прочесть… подруге», может, что дельное и подскажет. И измены, как таковой, по авторскому тексту В. Соловьева никакой я не вижу. А вот сумбура, наворотицы, логических нестыковок в избытке.
Ну, это, положим, релятивизм — от «нельзя» к «можно» и обратно. Хотя как раз эта колебательность, сомнительная в этике, и есть очарование этого рассказа, построенного на нюансах и недоговоренностях.
Вы процитировали из последней части чудного абзаца. Цитирую из верхней его части. В. Соловьев: «…но нравы… свободные, перепихнуться — без особых проблем… разврат, одноразовый…». И после того как «перепихнулись» и многократно, одноразово развратились, рассуждать «…какая часть тела легальная, а какая табуированная» в поисках этой «чертовой границы между “можно” и “нельзя”» имеет ли какой-то смысл?
Да нет же! Вы не схватили суть ни этого абзаца, ни всего рассказа. Даже Дон Жуан с Казановой этого не знают, хотя и раздвигают пределы возможного до невозможного. Отсюда божья кара Дон Жуану, которую он воспринимает как справедливую, заслуженную им. И когда «злодей» Сальери и «жертва» Моцарт говорят о несовместности гения и злодейства, то ставят знак вопроса. А сколько гениев-злодеев в действительности — от Караваджо до Наполеона. И когда авторский герой (не путать с автором Владимиром Соловьевым) вкусил от этого библейского дерева, он все равно остается в больших сомнениях, какая часть дела легальная и какая табуиро-ванная. И речь идет, конечно, о женском теле, родном и любимом. Отсюда введение необычного случая, как верно заметил один из комментаторов, «innocent betrayal и birth of a holy child» в качестве оправдательной причины женской измены. Очень разветвленный сюжет и многозначный смысл, а вы ищете ответы там, где поставлены вопросы.
Все границы уже давным-давно стерты, можно… все, и автор это как оказалось? «знает по себе».
Is it a true story?
Не стыдно задавать этот вопрос? Если хорошо написана, то автоматически становится true. Помните, Гертруда Стайн сказала Пикассо, когда он закончил ее портрет: «Не похожа». Что ответил ей Пикассо? «Будешь похожа». Ха-ха!
Yes! True!
Леонид Киселев… Умер в 22 года.
Леонид Киселев умер в 22 года. Герой рассказа Владимира Соловьева умер в 16 лет. Даже если это прототип, не надо путать его с литературным героем. В рассказе Соловьева среди «изменщиц» упомянута попрыгунья, героиня одноименного рассказа Чехова. Ее любовник — художник Рябовский. Оба прототипа узнали себя в героях. В художнике Рябовском — художник Левитан, который прекратил отношения с Чеховым, но спустя год возобновил дружбу, признав право художника давать своим героям некоторые черты живых людей. А сколько реальных прообразов у героев того же Толстого!
Возможно, прототип. Но это реальные стихи Леонида Киселева. Привожу полностью:
Я позабуду все обиды, И вдруг напомнят песню мне На милом и полузабытом, На украинском языке. И в комнате, где, как батоны, Чужие лица без конца, Взорвутся черные бутоны — Окаменевшие сердца. Я постою у края бездны И вдруг пойму, сломясь в тоске, Что все на свете — только песня На украинском языке.Рождественский жанр, как у Диккенса, но на современный лад. Соловьев вносит что-то свое, читаешь с неослабевающим вниманием, но не всегда правдоподобно. Соловьеву главное удивить. У него уже был какой-то рассказ, там еще больше всего накручено, его напечатала под Рождество какая-то нью-йоркская газета, «В Новом Свете» или «Комсомольская правда», не помню точно. Зато название помню, противное такое — «Капля спермы». Как раз этот рассказ в «Русском базаре» чище, лиричнее, возбуждает и возвышает. Но не все в голове укладывается, что там происходит. Зато атмосфера тех лет передана очень точно, не придерешься. И название классное — «Не от мира сего последняя дрянь». Звучит.
Похоже, что «последняя дрянь» может стать мемом.
Рассказ — прелесть!
Благодарю газету и автора за саму атмосферу рассказа — родным и близким повеяло от каждой буквы, каждого слова. Отечеством, одним словом! Очень теплый, душевный рассказ, особенно его начало, ибо воспоминание «о братьях наших меньших» — это то, что делает нас добрее, а жизнь нашу наполняет смыслом…
Как говорит моя дочь о таких сюжетах — ну, это Шекспир…
И действительно, тут ситуация уровня древнегреческих трагедий, откуда он и идет.
Начинается так вроде бы легко, как бы смехом-смехом, и вдруг в конце такой удар.
Шекспир да и только. И где В. Соловьев этот невероятный сюжет раздобыли? Хотя жизнь преподносит такое порой, что и сочинить невозможно. Написано, как всегда у Соловьева, с необычайной свободой и большой живостью. И остается после прочтения в душе какой-то туман горечи и печали. Сквозь бойкую свободную раскованность ритма — такой результат неожиданный, такое ощущение. А эпиграф еще больше остроту корня сюжета подчеркивает, и не напрямую. А чуть вкось…
Соловьев забил на все!
Из отзывов на газетную публикацию новогодней истории Владимира Соловьева «Не от мира сего последняя дрянь». «Русский базар», Нью-Йорк, 31 декабря 2015 — 6 января 2016
Апология сплетни Манифесто Владимира Соловьева
Две самые интересные вещи на этом свете — это сплетни и метафизика. Что в принципе одно и то же.
Чоран — Ахматова — БродскийЧто такое сплетня, Эмиль? Ведь вся литература, по существу, сплетня. Толстой сплетничал про Анну Каренину, Достоевский про Настасью Филипповну, мы с вами про Веронику Витольдовну [Полонскую].
Анатолий Мариенгоф — Эмилю Кроткому по поводу предсмертной записки Маяковского с просьбой не сплетничать: «Покойник этого ужасно не любил», но сам дал повод, включив в свою семью чужую жену Веронику Полонскую.
Если даже Бог ошибается (сотворение человека, например), а уж тем более сомневается (в избранном Им народе — неоднократно), то человек и вовсе — взрывчатая смесь самодовольства и комплексов, триумфов и ошибок, взлетов, падений, фобий, тупиков. Само собой — и писатель. Тот и вовсе комок нервов. Акутагава так и говорил, а Бродский за ним повторял: «У меня нет принципов — одни нервы». И хотя импульс — мой тайный двигатель, но в редкие мгновения покоя я достаточно рационален, чтобы глянуть на себя со стороны. А будучи по изначальной литпрофессии критиком, романные свои ошибки сознаю довольно четко. Все до одной были совершены по/на инерции прежнего вдохновения, в отсутствии музы («Муза пошла покакать» — определение Юнны Мориц. «А если у нее запор, что делать?» — спрашивал я, будучи младше и наивнее), в промежутке, в страхе не потерять набранный ритм и квалификацию, остаться на плаву во что бы то ни стало, чего бы ни стоило. Вот именно: без божества, без вдохновенья. Мильон раз приводил наш спор с Бродским при первой встрече в отеле «Люцерн» в Манхэттене после пятилетней разлуки: стоячим писать или не стоячим. Самое в этом нашем уже американском споре забавное, что человек, сработавший стоячим лучшие свои стихи (питерские + первые годы после отвала), доказывал мне теперь, что эрекцию лучше использовать по назначению, а не сублимируя в литературу. То есть отрицал теперь вдохновение, настаивая на профессионализме. «А как же Ахматова с ее „стихи не должны литься, как вода из-под крана“?» — «Оправдание своей лени», — отмахнулся Ося, а сам теперь сочинял стихи, как заводной таракан. Ну, ладно — пусть будет вежливый эвфемизм: как заводной соловей у Андерсена. А редкие взлеты в его позднем поверженном творчестве — горизонталь импотента вместо вертикали е*аря — связаны были как раз с вдохновением, пусть и негативным: антилюбовный, антикушнеровский, антиправославный и антиукраинский стишки, все написаны «враждебным словом отрицанья» — кому из классиков принадлежит эта отточенная формулировка? Так Бродского подзаводили «бывшие»: ленинградская подружка, которая сама по себе, может, и ни при чем; злейший враг по Питеру, который теперь напрашивался на дружбу и качал из Бродского вступления, предисловия и рекомендации, а post mortem и вовсе объявил себя единственным другом по жизни, братом по поэзии и даже материальным и метафизическим наследником; москвич-приятель, который с присущим ему тактом настаивал креститься на пороге, вот-вот, смерти — в чем уверял он Бродского, а тот назло немного еще протянул. В ответ на эти императивные уговоры Бродский и сочинил свой именно стоячий «Памятник», самый нетрадиционный в этой, с Горация, стиховой традиции, противопоставив «вечной жизни с кадилом в ней» — «камень-гвоздь, гвоздь моей красы». Прав, не прав — без разницы. Как и в антиукраинском стихе — усомнился в целой стране, независимость которой счел фикцией задолго до того, как по проложенному им пути пошла его географическая родина. Данте и Сухово-Кобылин в своей мстительной злобе уж точно не правы, но «Комедия» — лучшее из написанного по-итальянски, а «Смерть Тарелкина» — великая русская пьеса, пусть ее автор, скорее всего, и убил зверски Луизу Симон-Деманш, которая, последовав за ним в Москву, всячески ему досаждала, вязала по рукам и ногам. Разве в том дело? Убил, не убил — вопрос теперь столь же праздный и академический, как и тот, чем заняты по ночам Молчалин и Софья, герои другой гениальной русской пьесы: барышня или бля*ь? Одно другому не мешает и не противоречит. Уж коли вышепомянутая муза явилась автору, то требует от него взаимности и активности. Творческой, а не сексуальной. Муза и есть по сути — сокровенной, но очевидной — творческая виагра. В противном случае — изнасилование музы импотентом, и стихи текут, как вода из-под крана. Без божества, без вдохновенья — значит, без эрекции. Писать без вдохновенья — все равно что трахаться без эрекции.
Вот я и говорю: литература — это, само собой, эрекция, но эрекция без оргазма.
Велосипедисты перед Большим туром по Франции шесть недель воздерживаются от секса или е*утся, но не кончают. Накопление мощной энергии и превращение ее в единый импульс к победе. Оргазм — сам по себе победа, после которой ничего другого не нужно. Малая смерть, а в литературе — большая: капут вдохновению. Тем более преждевременная эякуляция — см. выше на эту тему и с этим названием мой сказ, посвященный Тане Бек. Противоположный полюс: karezza, тантрический секс, отсрочка оргазма — состояние искусственное, изнурительное, но не совсем бессмысленное. Оргазм автора может вызвать разве что недоумение у читателя, если только тот не заядлый вуайерист. Секрет в том, что у читателя оргазм должен наступить прежде, чем у писателя. Эстетический рецепт Мейерхольда мне ближе чеховского, который он ловко на свой лад перефразировал: если в первом действии висит ружье, в последнем должен стоять пулемет. Кстати, ружье и пулемет — фаллические образы, вылет пули или снаряда подобен семяизвержению. Привет дедушке Зигги.
Как добиться оргазма у читателя? Во время соития Урана с Геей Кронос отсек своему родаку член и выбросил в море, где семя, пенясь, изверглось. Результат — Афродита из пены морской. Хотя не морской и не пены. «Останься спермой, Афродита, и слово в музыку вернись» — перефразировал я Мандельштама в романе «Похищение Данаи», но не в коня корм — никем не был услышан. Главное для писателя — услышать собственный голос, ибо «не найдет отзыва тот глагол, что страстное земное перешел». Надо ли вообще заботиться о читателе? Цель творчества — самотдача, нас унижает наш успех, позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Лучшие стихи и книги XX века написаны без расчета на читателя, без надежды на него, без мысли о нем, для самих себя: Пруст, Кафка, Джойс, Мандельштам. Или, как говорил Стравинский, для себя и для гипотетического слушателя. То есть слушатель или читатель — опять-таки не сам по себе, но alter ego автора. Литературе вредит сверхзадача, которая делала ее популярной. Вот поместить своих политических врагов в ад — совсем другое дело: не политика, а страсть! Сама по себе политика — скоропортящийся продукт, но Данте ухитрился возвести ее в высший ранг искусства.
Не помню, где ежегодно устраивается конкурс на лучшую скульптуру из песка. А бумага, что, долговечнее песка? А тем более та виртуальная реальность, куда все чаще зашкаливает подлинная литература — одинокая и никомушеньки не нужная, кроме разве Вэнь Чаня, китайского бога словесности. Теперь литература и вовсе ушла в подполье, уступив место масскультуре. Крошечные тиражи — вот доказательство вынужденной элитарности литературы. Платон тот и вовсе считал, что поэту нет места в государстве. Тем более — в нынешнем. Все равно каком — тоталитарном или демократическом. Где обитает крот? Где текут подземные реки? Прошу прощения за mixed metaphor. А фонды и премии укрепляют авторитет тех, кто их учреждает и дает, а не явления-анахронизмы.
Премия, если хотите, — это двойной дивиденд с литературы: сам по себе творческий процесс таит столько радости и муки — ну, как секс, с чем еще сравнить это двойное чувство? одной любви музыка уступает, а по мне, теперешнему, так и не уступает, — что получить за это высшее из мне известных наслаждений еще и премию — двойной навар, а потому как-то неадекватно. Не говоря уж, что все эти литпремии — чаще всего результат интриг и маневров. Тем более в России. Опять-таки сравнение из той же области: представьте, если вам платят за близость с любимым человеком, а? Литература — награда сама по себе. А тут еще награда за награду. Нашла награда героя. Ха-ха.
Популисты, типа Стефана Цвейга, полагали литературу реваншем за недопрожитую жизнь. Вяземский писал, что ад — это мысли об упущенных возможностях. Русская история — кстати — это сплошь упущенные возможности: Новгород Великий, Борис Годунов, Петр Третий. Да хоть император Павел. Ну и занесло меня — при чем здесь история? Вернемся к экфрасису. Почему Флобер говорил, что Эмма Бовари — это он, и чуть не умер по-настоящему, когда его героиня приняла яд? «Теперь я вижу, что всегда боялся жизни», — признался Флобер. Джулиан Барнс в «Попугае Флобера»: «Свойственно ли это всем писателям? И является ли обязательным условием: то есть, чтобы стать писателем, нужно в определенном смысле уклоняться от жизни? Или так: человек ровно в той же мере писатель, в какой он способен уклоняться от жизни?»
Флобер был вуайором, а не девственником. Анатолий Мариенгоф, автор самого антициничного романа в русской литературе, вызывающе названного «Циники», обожал жизнь — не в качестве участника, а как свидетель. Один критик попрекнул меня, что мой роман «Семейные тайны» зашкаливает в гинекологию, минуя порнографию. Нормально. Я принимаю все эпитеты, которыми меня одаривают критики: вуайерист, сплетник, гинеколог. Спасибо за подсказ! Да, писатель должен быть гинекологом — в том числе. Знать женщину от и до, назубок, «как драму Шекспирову». Включая ее чувствилище. То есть влагалище — хорошее слово, хоть и отдает мужским шовинизмом: от глагола «влагать», но — à propos — «Лучше нет влагалища, чем очко товарища» (не пробовал — натурал). Феминистский вариант: «принималище». Или «непринималище»! Предпочитаю латинскую «вагину». Не слово, а чистая поэзия. Как и то, что оно означает. Дело, конечно, вкуса, какому слову предпочтение. А вот что несомненно — знание. Это — позарез. Тут у одного литератора прочел фразу, которой тот, несомненно, гордится: «Озеро чернело меж двух гор, как влагалище». Даже гинекологически неточно. Там какой угодно, только не черный цвет, который есть отсутствие цвета — привет Выготскому и Малевичу. Чернота влагалища — это подсознательный ужас девственника перед женщиной, но автор — муж и отец, неужто никогда туда не заглядывал? Ну, заглянул бы тогда в атлас, что ли, если натура так страшна.
Комплекс Самсона перед Далилой — еврейского героя перед антигероиней еврейского народа? Зависит от того, с точки зрения какого этноса глядеть — всё упирается в тот факт, что в отличие от иудеев гои-филистимляне своей истории не записывали — ни трагической, ни героической. В любом случае — символ мужского доверия, сгубленного женщиной. Женщина — пагуба.
Обязанность писателя знать, какого цвета влагалище, а не отделываться одной краской, в которой, помимо ужаса, еще и невежество. Худшее в литературе — приблизительность, чем бы она ни прикрывалась: остроумием, фрондой, эпатажем. Если книга написана вприглядку, она не написана вовсе, ее существование призрачно. Писатель должен знать, какого цвета влагалище, даже если он не собирается его описывать. Я — заглядывал, рассматривал, трогал руками и губами, тыкался носом, орудовал языком, а не только входил членом — грубый инструмент, не чувствует нюансов; я там был, мед, пиво пил — и усы лишь обмочил. Свидетельствую: радуга соцветий, включая розовый, синий, перламутровый и проч. Норман Майлер считает лучшим описание женского органа у Джона Апдайка в рассказе «Соседская жена»: «Янтарный, эбеновый, золотистый, каштановый, ореховый, рыжеватый, бежевый, табачный, кунжутовый, платиновый, бронзовый, персиковый, пепельный, огненный и светло-серый — вот лишь несколько цветов моей игрушки».
Писателю лучше быть гинекологом, чем невеждой.
Сексуальные сровнения напрашиваются сами собой. Писатель — вуайор по определению. Ладно: пусть вуайерист. Вуайерист поневоле.
Плюс стриптизер, эксгибиционист, трахаль. Писательское возбуждение, вдохновение, сам творческий процесс сродни соитию или мастурбации — в любом случае в результате появляются на свет Божий детки: стихи, рассказы, пьесы, романы. Честно говоря, мне не очень внятен сам термин «сублимация». С таким же успехом можно объявить сублимацией натуральный половой акт.
Что что сублимирует?
А не есть ли обычная баба замена бабы необычной? Сиречь музы. За ее неявкой. Не искусство — сублимация секса, а секс — сублимация искусства. Как сочетать е*лю с литературой? Насколько полноценен художник как таковой? И средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он? К черту это «быть может»! «Вероятно, корень нашей испорченности именно в нашем „я“, но ведь в нем же и источник создаваемой нами музыки, живописи, поэзии. Как тут быть?» Это Моэм, а Оден сказал про Эзру Паунда, что дал бы ему сначала Нобельку за стихи, а потом — на электрический стул как коллабоса. А сам Оден — ангел, да? Как бы не так! Художник — монстр по определению. Если начну перечислять, мне никогда не кончить.
Опять из сексуального словаря, будь проклят: мне никогда не кончить…
А я сам? Надя Кожевникова меня как-то порадовала: «Я вас люблю, Володя. Вы такой же монстр, как я». Монстр ли я? Лучше, хуже, но иной породы: я — скорпион.
Любить поэту не дано? У Шекспира не было детей? А «Гамлет», «Лир», «Генрих IV» — обе части? Познакомился тут с одной ирландкой, так она все уши прожужжала про пятерых своих баскервилей.
Дернуло меня спросить:
— А дети у тебя есть?
— Дети? — удивилась она. — Так они же и есть дети. Вечные дети. Как и наши коты. У Миши Шемякина целое стадо котов и собак — он считает их непавшими ангелами. В отличие от человека — павшего, падшего, заблудшего. То есть Миша пошел дальше царя Соломона, который, хоть и полагал, что одна душа у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, но не знал, душа сынов человеческих восходит ли вверх и душа животных нисходит ли вниз, в землю. Зато Шемякин — знает.
— Дети — наше прошлое, — шепчу я Лене, когда она нудит, что мы редко видим Лео и Джулиана, наших внуков-англоязычников, застрявших в Ситке, бывшей столице русской Аляски.
Наше вечное настоящее — коты и книги.
«Я скромен, когда говорю о себе, но горд, когда себя сравниваю» — это, конечно, типично французское motto, хоть и принадлежит индивидууму, а не этносу (Альфонс, маркиз де Кюстин). Чтобы сделать его русским, еврейским или американским, надо произвести инверсию: я горд, когда себя сравниваю, но скромен, унижен и покаян, когда говорю только о самом себе. В державинском смысле: «Я царь — я раб, я червь — я бог».
При всех прошлых выгодах писатель — невыгодная професссия. В бытность мою членом Союза писателей один довольно известный поэт (не скажу кто, да и не важно) удивлялся, что я не пользуюсь членской книжкой для соблазна девиц: «Стóит ее предъявить, любая пойдет». А теперь какая девица пойдет с поэтом, а тем более за поэта — только потому, что поэт? У меня на этот сюжет есть классный постсоветский рассказ «Поэт и муха», который Таня Бек пристроила в модный тогда журнал «Столица». Литература как способ самоутверждения — не литература вообще. Скорее, способ самоотдачи, самоедства, самобичевания, самопокаяния и экзорцизма. Не устаю приводить Платона и прошу прощения за повтор: все созданное человеком здравомыслящим затмится творениями исступленных. «Записки скорпиона», например. Как до этого — «Три еврея», написанные шиитом-флагеллантом Владимиром Соловьевым. Главный нетворческий стимул «Записок скорпиона» — нежелание автора прослыть автором одной книги, хотя у него вышло с две дюжины, но послабже. Попытка побить собственный рекорд или хотя бы вровень — вот что такое мои последние книги: «Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека», «Иосиф Бродский. Апофеоз одиночества», «Не только Евтушенко», «Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых» и — е.б.ж. — «Быть Владимиром Соловьевым. Мое поколение — от Барышникова и Бродского до Довлатова и Шемякина».
А московский роман я сочинил вослед, на инерции питерского романа, решив, что эксгибиционизма, флагеллантства и исступленности мне должно хватить еще на полтысячи романных страниц с живыми и легко узнаваемыми прототипами из Розового гетто, и, как я уже писал, дал на прочтение первые сотни страниц моей соседке Тане Бек, умной, талантливой, забалованной, с которой недолго предотъездно дружил, попросив изложить претензии в письменном виде, чтобы вмонтировать в продолжение моего живого романа. Она согласилась, и я уже привел пару абзацев ее едкого, злое*учего письма, но сам роман закончить не успел, а теперь вот, за тридевять земель пространства и времени, пользуюсь неоконченной рукописью для этой книги «Высоцкий и другие» — романных воспоминаний, которые строчу, чтобы сфокусировать два времени в одной книге: то, о котором пишу, и то, в котором живу. Занятие рисковое, конечно, учитывая безжалостное время. Однако кто уклоняется от игры, тот ее проигрывает — выскочило из головы, как по латыни. Проще говоря, не рискнешь — не выиграешь. На Паскаля я уже где-то здесь ссылался.
О трагической Тане Бек я написал отдельно, а здесь пару слов о другом трагедианте эпохи, который ее и иже с ней крестил.
Не мне, конечно, судить, но полагаю, что отец Александр Мень, с которым я пару раз встречался (в том числе с Юзом Алешковским, который, будучи под сильным шофе, обрушил на батюшку мат-перемат, и Мень выслушивал его пьяную абракадабру с благодушным терпением и, как мне показалось, веселясь), но безрезультатно (в отличие от Юза я не крещен и не обрезан), обращая в веру безверых литераторов, привел многих к благостности и лицемерию. Мне кажется, ему льстило общение с писателями, в чем лично я большого греха не вижу, хотя маленький — для попа — был. Он принимал нас каковы мы есть, ничего не требуя. Учительство ему претило. Он был просветителем, а не учителем. Его терпимость и всепрощенчество отменяли у вновь обращенных чувство вины и требовательность к самим себе — говорю только о тех крестниках, с кем знаком: с полдюжины литераторов, которых он обратил в истинную веру, не изменив ни на йоту. Об остальной его пастве ничего не скажу — не знаю.
По контрасту и для равновеса привожу иное мнение куда более, чем я, авторитетного и квалифицированного в вопросах веры человека — Сергея Аверинцева:
…Специальным объектом миссионерских усилий отца Александра стало совсем особое туземное племя, которое зовется советской интеллигенцией. Племя со своими понятиями и преданиями, со своими предрассудками, по степени дикости в вопросах религии подчас превосходящее (и уж подавно превосходившее лет тридцать назад) самые дикие народы мира. Племя, с которым миссионер должен разговаривать на его собственном туземном языке; если нужно — на сленге…
Апостол книжников, просветитель «образованщины», отец Николай Голубцов, его духовник и наставник в молодые годы, предупреждал его: «С интеллигенцией больше всего намучаешься». Вот он и мучился. Не будем перечислять поименно знаменитых на весь мир людей, которым он помог прийти к вере; было бы тяжким заблуждением, вообрази мы хоть на минуту, будто для него (или для Бога) любая знаменитость была важнее, нежели самый безвестный из его прихожан. В Церкви нет привилегированных мест — а если есть, то они принадлежат самым убогим. Интеллигент — не лучше никого другого, может быть, — хуже всех; но он наряду со всеми другими мытарями и разбойниками нуждается в спасении своей бессмертной души, а для того, чтобы его спасти, его необходимо понять именно в его качестве интеллигента. В противном случае духовный руководитель рискует либо оттолкнуть чадо по вере, либо заронить в нем мечтательность, побуждающую вообразить себя совсем даже и не интеллигентом, а чем-то совершенно иным, высшим, не нонешнего века. Словно бы сидит раб Божий не в квартирке своей, а в афонской келье или же в покоях незримого града Китежа и оттуда с безопасной дистанции наблюдает, сколь неосновательна светская культура и сколь неразумна «образованщина».
Антиинтеллигентский комплекс интеллигента — проявление гордыни, которой не надо поощрять; вся православная традиция учит нас, что человек может начать свой возврат к Богу единственно от той точки в духовном пространстве, где находится реально, а не мечтательно. Отнюдь не для угождения интеллигенции, но для ее вразумления ей нужен пастырь, который понимал бы ее интеллигентское бытие со всеми его проблемами, искушениями и возможностями — изнутри. Этим определяется значение жизненного дела отца Александра.
О. Александр пал первой жертвой нового времени, его безмерно жаль, а всадили ему топор в голову за то, что он пытался вывести на чистую воду высший клир РПЦ и передал разоблачительные документы Юлиану Семенову: тот был главредом «Совершенно секретно», Мень входил в редколлегию. Убиты все: Мень, Семенов, Плешков-посыльный.
Эту историю я впервые услышал от и.о. главреда «Совершенно секретно» Артема Боровика в «Арагви», когда прилетел в Москву спустя 13 лет после отвала. С Артемом и Вероникой я встретился по делам — и подружился. Он напечатал в своем таблоиде пару глав из моего не очень удачного романа «Операция „Мавзолей“» и набрал для публикации еще кучу моих опусов: два рассказа, главы из «Андропова» и «Трех евреев». Плешков уже был убит, Семенов лежал в коме, отцу Александру Меню, члену редколлегии «Совершенно секретно», осталось жить всего несколько месяцев. Что между ними общего, кроме того, что все трое были евреи, что отцу Александру ставили в вину православные юдоеды? — но это не имеет никакого отношения к моему сюжету. Куда важнее, что они были связаны с органом печати, который поставил целью тайное сделать явным (все равно из каких целей). Будто бы Плешков вез Юлиану Семенову в Париж магнитофонную запись, где отец Мень, с фактами на руках, изобличает в связях с КГБ церковных ВИПов во главе с новоназначенным патриархом Алексием Вторым, а тот был завербован еще в Таллине, в самом начале своей церковной карьеры, в бытность еще Алексеем Ридигером. Артем был в тот вечер сильно возбужден, имя Лимонова не сходило у него с языка, он называл его наводчиком, хотя прямых доказательств, похоже, не было. В «Книге мертвых» Лимонов дает свою версию парижских встреч с Семеновым и Плешковым — не очень убедительную. Чем больше он оправдывается, тем больше подозрений. А теперь вот и Артем Боровик убит, а Лимонов отсидел свое и вышел на волю. Не без моей помощи — я опубликовал с полдюжины статей в его защиту по обе стороны океана на обоих языках. О чем не жалею, хоть мои знакомцы и упрекали меня, что защищаю подонка. А я и не отрицал, что подонок, одна статья так и называлась: «В защиту немолодого негодяя», но мало ли подонков разгуливает на воле, а не пойман — не вор. Грешники нуждаются в защите, а не только праведники. Праведников защищать легко, грешников — трудно. Я предпочитаю быть адвокатом, а не прокурором. Да и посадили Лимонова вовсе не за то, что он навел в Париже гэбуху на Плешкова, но за политиканство в России, где к тому времени власть боялась уже собственной тени и потешную лимоновскую партию нацболов приняла за реальную себе угрозу, а угроза ей мерещилась посюду, но это особый сюжет. Я и так отвлекся. Хотя так и должно писать эту книгу, путая божий дар с яичницей и бузину в огороде с киевским дядькой.
Скажу только, что в отличие, скажем, от другого отца — Глеба Якунина отец Александр не политиканствовал, но исходил из высоких моральных соображений, что с его стороны было по меньшей мере легкомысленно. Куда делись те секретные материалы, которые Плешков привез своему шефу по «Совершенно секретно» Юлиану Семенову? Они решили, что безопаснее начать эту операцию из Парижа, и доверились диссидентствующему Лимонову, но, увы, крупно просчитались. Дела темные, черт ногу сломит, вынужден пользоваться слухами, домыслами, сплетнями. О сплетнях, собственно, и речь.
Gossip.
Тогда, в Москве, на заре туманной юности, в конце 70-х, мне так приглянулось Танино жанровое определение затеянного мной литпредприятия, что я решил использовать его в качестве подзаголовка. Отлично: роман-сплетня!
А припомнил я ту давнюю историю по прямой аналогии с новыми обвинениями меня в сплетничестве.
Некто Топоров Виктор, теперь уже покойный, написал мне открытое письмо в питерских «Известиях», о котором я узнал года полтора спустя, да и то совершенно случайно — от Ильи Штемлера, который рутинно прилетел на пару недель в Нью-Йорк. Порылся в Интернете, письма не обнаружил, зато реплику с обширными цитатами из письма, в котором Топоров удивляется, что меня печатают другие издательства, а сам — отказывается. Внутриредакционную переписку — я обычно посылал рукопись по электронной почте одновременно полдюжине издателей, как говорили прежде, в докомпьютерную эпоху, под копирку, и ждал, кто первым клюнет, — редактор предал гласности и выдал мне по первое число, что в порядочных домах не делают. Тем не менее письмо кончает, как порядочный: «Честь имею». Тут уж интернетный репликант не удержался: «Вот так, честь имеет, хоть и соплище в носу. В. Соловьев повержен, сейчас Виктор Леонидович его еще укусит и, вероятно, помочится на лицо».
Само по себе — лажа, не заслуживает упоминания, если бы не два фактора. Даже три.
Первый — отчужденность самого литпроцесса в диаспоре. Как-то получил от своего литагента в Рио-де-Жанейро увесистый пакет с дюжиной газетных вырезок на незнакомом языке. С малолетства у меня географический заскок: путаю столицу Аргентины со столицей — тогда — Бразилии. Как человек-книга и накталоп Паганель — тот вообще изучал испанский по поэме португала Камоэнса, отчего всякие сюжетные недоразумения в «Детях капитана Гранта». Короче, я даже не знал, на каком языке написаны рецензии, так как наша с Леной Клепиковой книга вышла одновременно на испанском и португальском, и какая из них на каком, я тоже не знаю. Все, что мне оставалось, — выискивать наши имена в присланных статьях, независимо от того, бранят авторов или хвалят. Забавно, кстати, почему права на эти языки были проданы не в Мадрид и не в Лиссабон — Южная Америка выложила больше денег, и потом знакомые сообщали, что видели нашу книгу в Мексике, Перу, Чили, Аргентине. Наверное, добралась она до Испании и Португалии. Не в том дело. Аналогичное чувство испытываю я, когда до меня доходят печатные отзывы обо мне из России, хоть и по иной причине, чем с испанскими или португальскими рецензиями. Та же отчужденность, то же одиночество писателя в диаспоре: книги-то выходят там, основной читатель там, а ты здесь, пусть и в столице мира, но по отношению к языковой альма-матер — на окраине, в местечке, в глухой провинции, в глухой обороне. Ощущение, прямо скажу, довольно драматичное. Зоя Межирова тонко почувствовала это в отличном про меня стихотворении, которое с удовольствием снова процитирую (частично):
Володя мой Соловьев, Флейта, узел русского языка, Бесшабашно-точных Ньюйоркских рулад соловей, Завязывающий Слово в петлю, От которой Трепещет строка, Становясь то нежней, то злей. Вокруг никого, Поговорить уже не с кем, Среди небоскребов — Один. Но если и так, Что бы там ни было — Господин, Сам себе И отец, И блудный Подсудный сын. Держитесь, Володя, Делать нечего, Такие вот времена. Волна отбросила, О скалы расшибла, Отлива, прибоя В этом вина. Но всё прибывает, питает Никем не отобранный Плавный мощный язык. Знаю, что только к нему Вплотную, Как живительному Источнику, И приник.Что любопытно, не успело это стихотворение появиться в Сети, как тут же вызвало ответный бум, — как здесь, в Америке, так и через океан, в Москве. Все признавали художественные достоинства этого посвященного мне стихотворения, а если спорили, то наши не иначе, как по эмигрантской гордыне, вставая на мою защиту, зато россияне — из чистого патриотизма. Пусть читатель сам решает, кто из них прав. На мой взгляд — Зоя Межирова.
Дивные строки, но в принципе у простонародья принято считать, что лун не слышно, а видно, и отрава не обоняется, а, так сказать, ощущается организмом. Но это узел русского языка, завязывать который в слово дано не всякому. Вот и лицеист Мясоедов завязал его в строку: «Блеснул на западе румяный царь природы», а его одноклассник Пушкин (или Илличевский) развязал: «И изумленные народы / Не знают, что им предпринять: / Ложиться спать или вставать». И почему Зоя считает тебя несчастливцем, которого «волна отбросила» и «о скалы расшибла»? Это уже что-то горьковское, хотя ты не буре-, а горевестник.
* * *
Какой фонтан словесного оргазма! Ты словил кайф? Гигант — так возбудить поэта! Для утешения твоего одиночества: среди небоскребов — твои постройки, башни из книг-кирпичей, один кирпич поставлен на другой получается небоскреб: небоскреб Довлатова, небоскреб Бродского. Слепил, теперь обжигаешь кирпич «Евтушенко». Ты — среди своих небоскребов.
* * *
Зоя, нам на русской траве хорошо дышится. И меня испугали Ваши строчки:
Там травы благоухают
И веют отравой
Может быть, долетая до Америки, они могут наглотаться всякой нечисти.
* * *
Володя, стихотворенье, посв. Вам — и по форме интересней, и стильней двух остальных (про Евтушенко и Шкляревского). Вообще, идея о том, что кроме Вас — никого вокруг, должна идти с эпиграфом: «Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет…» Все три посвящения — с сильным акцентом на время суток (сумерки, вечер, ночь) и в каком-то суженном до размеров кабинета-ящика пространстве. Что, как вы помните, по Бродскому и есть тюрьма, где недостаток пространства возмещен избытком времени (ночь — куда длиннее). Как-то так. Вроде настроение даже оптимистичное, доброжелательно-перспективное, но воздуха между строк мало. Такое странное у меня вызникло ощущение. Но, другое дело, пока есть посвящения — значит, кому-то мы дороги, и нам есть кого благодарить. Одна из форм счастья, если не уходить в гностицизм.
* * *
я попросту порадовался за тебя.
«критиканство» я позволить себе не могу: не квалифе.
у каждого из нас свое кривое зеркало приставленное к другому человеку. в моем ты выглядишь по-другому.
в моем кривом зеркале — ты словесных «узлов» и «петель» не вяжешь. ты пишешь накатом, взахлеб, фиксируешь мысль, твои «узлы» и «петли» в характеристиках, анализе натур и ситуаций.
«волна отбросила» — согласен: эмиграция в другой язык, при том, что русский — рабочий. но тем ты и великолепен, что «волна» тебя не разбила.
«живительный горький напиток» — это как бы из Бродского
Не только в эмиграции, но по всему миру писательство как таковое в наше время — старомодное, неприбыльное, героическое занятие, но писать русскую прозу в плотном англоязычном окружении, где и своя-то не востребована, — это уже не героизм, а безумие. Так мне приблизительно и объяснил один коллега-американец, который не мытарствует, но выдает в год по книге, а иногда даже попадает в последнюю или предпоследнюю строчку бестселлерного списка «Нью-Йорк Таймс». Фамилия, кстати, Костелянец, предки из России, а у меня в Питере был знакомый литературовед Борис Осипович Костелянец — наверняка родственники. А знаете, каков средний годовой заработок американского писателя? Чуть больше четырех тысяч в год. Мне, правда, в помощь журналистика, которая держит на плаву, но главным всегда считал художку и, любя литературу, а не себя в литературе, имею наглость равняться на высокие образцы: Пруста, Джойса, Кафку, Фолкнера, а из наших — Мариенгофа, Муратова, Бабеля. Переучиваться — поздно. Я — дважды герой литературного труда. Так и сказал американу-коллеге, тусуясь с ним на банкете-фуршете в честь переезда нашего общего литагентства в даун-таун. Ни на что больше не способен, только на этот безумный или геройский (зависит от точки зрения) акт. Безумству храбрых уже никто не поет песню. Моя — на исходе, по жанру — лебединая, хоть я и не лебедь, а скорпион, который жалит сам себя, а не только других, но другим — понимаю — от этого не легче.
С другой стороны, именно эта заокеанская отчужденность и дает независимость от читателей, от властей, от тусовки. Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно? Я — сам по себе, они — сами по себе. Аксенов сравнил жизнь иммигрантского писателя с жизнью на собственных похоронах. Я бы не то что смягчил, но уточнил бы этот образ. Жизнь русского писателя в Америке — жизнь на необитаемом острове, омываемом со всех сторон океаном английской речи. Сошлюсь на гениальную догадку Дефо, которому в детстве предпочитал Свифта, а теперь — не знаю: жизнь на необитаемом острове превращает его обитанта в писателя. А что ему еще остается? По сути, любой писатель — Робинзон Крузо. Понятно, до встречи с Пятницей, когда ему еще не с кем перекинуться словечком и, одиночествуя, он ведет дневник без надежды, что его кто-нибудь когда-нибудь прочтет. А Пруст, удалившийся от мирской суеты, обив свой кабинет пробкой и превратив в необитаемый остров на суше, не Робинзон Крузо? Иммиграция и есть обитая пробкой комната, то есть тот вакуум, который гарантирует не только мертвую тишину, но и чистоту литературного эксперимента. Гримаса в темноте. Человек-невидимка. Между небом и землей. Русская литература в добровольном теперь уже изгнании — та самая сфера, центр которой повсюду, а поверхность нигде. Мое кромешное литературное одиночество разделяет со мной разве что кот-антидепрессант Бонжур, который геральдически лежит сейчас на своем обычном месте, слева от монитора, сочувствуя моим творческим потугам — взамен музы. Или такой пример: некий янки из Коннектикута — diarist — полвека вел дневник в Ливерпуле, Нова Скоша, пропустив только три дня: был такой мороз, что замерзли чернила в чернильнице. Я видел этот дневник в местном краеведческом музее — он так и не издан и, боюсь, никогда не будет. А Лене жаль, что никто не узнает, что произошло в эти три дня, когда чернила превратились в лед. Как и я не узнаю, что с ней произошло в те дни, когда меня не было рядом.
Если писатель — Робинзон Крузо, то литература — письмо в бутылке. Тому, кто первый ее выловит. Может, и никто. Рукописи горят — и еще как: большинство пьес Софокла, Эсхила, Еврипида, большая часть «Истории» и «Анналов» Тацита до нас не дошли. Да мало ли! Тем более — тонут. Надежды мало. «Читателя найду в потомстве я»? Или не найду. Разве ты сам себе не читатель? Можно ли мечтать о лучшем? Всё, что остается, — писать для самого себя. Гёте назвал писательство трудолюбивой праздностью, а я, модифицируя Гёте на современный и медицинский лад: геморрой у писателя должен быть в обязательном порядке. Какой же писатель без геморроя! Четверть века назад, уже в Америке, мне один оперировали, но я продолжал идти — точнее, сидеть — своим путем, ибо если я не пройду этой тропой, она так и останется нехоженой, и у меня образовался новый, о чем можно судить по цветным снимкам, которые мне выдал гастроэнтеролог Джейн Влодов: хоть в рамку да на стену! Кандинский рехнулся бы от зависти. Прямое свидетельство, что не закоснел и не бросил свое праздное занятие на необитаемом острове. Предъявлю на том свете. Если будет кому.
Льюис Кэрролл, Моэм и Юрий Казаков, да тот же Межиров стали писателями, потому что были заиками. Заикание как стимул творчества. Моисей был косноязычен, а вместо него к народу обращался его брат Аарон, но Бог седобородый предпочитал косноязыка говоруну. Послушайся Бабель совета рабби Арье-Лейба: «Перестаньте скандалить за письменным столом и заикаться на людях» — никакого Бабеля в русской литературе не было — он бы перестал заикаться, но письменный стол пришлось бы выбросить за ненадобностью и сменить профессию. Стать комиссаром или чекистом, скажем. Почему нет?
Настоящий писатель продолжает заикаться и за письменным столом — мой ответ Бабелю.
Я не заика, но поздно стал говорить, родители думали, что я немой, и водили по врачам, а прежде чем научиться читать, я стал писать — воспоминания в третьем лице: «Мальчик хотел быть, как все» — чисто советское начало моего мемуарного романа в третьем классе. Писателем я стал благодаря Лене Клепиковой — она не дослушивает, а то и вовсе не слушает, что я говорю. Литература в моем частном случае — это жизнь вслух. Как-то рассказываю Лене об очередном литературном замысле, а в ответ:
— Вот беда-то!
Хороший писатель — плохой оратор. Соответственно, наоборот. Я гляжу в пустой зал, я научился слушать тишину. «Только зеркало зеркалу снится, тишина тишину сторожит».
Мир абсолютной тишины. То есть без эха. Жизнь в вакууме. А теперь вот еще постепенно глохну, пошел в маму, а слуховой аппарат носить стыжусь. Вот и хожу оглушенный, под колпаком, птицы выводят свои трели уже не для меня, разве что ворóна. Да дятел. И еще синяя птица, которая издевательски мяукала, передразнивая охотившегося за ней моего кота. Чириканье воробьев, пение дроздов и трели соловьев тоже слышу, но если вблизи. Такие вот дела. Слушать соловья через слуховой аппарат — нонсенс. Прогрессирующая глухота и есть необитаемый остров: в будущем. Все, что мне останется — заполнять полое пространство кириллицией. Что уже и делаю. Тренируюсь.
Буквы, буквы, буквы…
Возвращаясь к покойному Топорову, он случайно затесался в число моих адресатов. С Питером я в конфликте, а потому миную его издателей. Однако, зная, что главредом питерского «Лимбуса» служит переводчик и литкритик Виктор Топоров, который однажды принял участие в обсуждении моих «Трех евреев» на радио «Народная волна» (Нью-Йорк) и вообще пишет вроде бы независимо, и часто диатрибы против той же питерской литературной кодлы, что и я, предложил ему нашего с Леной Клепиковой «Довлатова вверх ногами».
Надо отдать ему должное — он ответил мгновенно и попросил две недели. Однако книгу перехватило московское издательство «Совершенно секретно», с основателем которого, трагически погибшим Артемом Боровиком, у нас с Леной были когда-то приятельские отношения. Так что, как любит выражаться Топоров, «Лимбус» пролетел, как фанера над Парижем. О чем я ему честно и сообщил. Наши пути еще разок пересеклись, когда Наташа Дардыкина написала в «МК» восторженную рецензию на мой роман «Семейные тайны» и номинировала его на премию «Национальный бестселлер», которой заправлял тот же В. Т. К тому времени, пышущий ядом и изливший его уже на всех окрест, он зачислил меня во враги, о чем я, понятно, и не подозревал, а потому в очередную рассылку моей новой книги „Post mortem“, после того как Игорь Захаров и Ирина Богат, с которыми у меня на нее был договор, усомнились, что она отвечает канонам академической биографии (не сравниваю, но Андре Моруа сказал про «Диккенса» Честертона, что это одна из лучших когда-либо написанных биографий, и прежде всего потому, что вовсе не биография), включил «Лимбус» в число адресатов. За что и схлопотал «открытое письмо Владимиру Соловьеву» в питерских «Известиях».
Мстительная первопричина этого открытого (а для меня до сих пор закрытого) письма, думаю, все-таки не только в том, что я в свое время отозвал свое «Лимбусу» предложение с «Довлатовым вверх ногами», а в том, что мы с В. Т. пусть не враги, скорее даже единомышленники, но именно поэтому конкуренты, и я написал в «Трех евреях» об отношениях Бродского и скушнера за четверть века до того, как этой темой занялся Топоров. И часто очень неплохо — см., к примеру, его эссе «Похороны Гулливера». Так что на меня он напал из перестраховки либо по злобе, а то под пьяную руку. Откуда мне знать! Да и не очень интересно.
Судя по отрывкам, уровень его антисоловьевской филиппики значительно ниже даже его среднего уровня. Он, к примеру, советует мне, вместо того чтобы пересказывать сплетни двадцатипятилетней давности, рассказать о моем кураторе из КГБ и намекает, что им мог быть нынешний президент России. Бедный Путин — вот уж точно возвел на него напраслину. Зря грешите на президента, В. Т.! Кто знает, пишет намеками Топоров. Чего гадать, когда я сам назвал в «Трех евреях» поименно и гэбистов, которые меня вызывали, и задействованных гэбухой питерских писателей. И дабы именно как конкурента нейтрализовать меня окончательно, пишет, что скушнер и я похожи — оба чернявенькие, маленькие и подпрыгиваем. Это, конечно, очень сильный аргумент, наповал, Соловьев в нокауте. Куда проще было сказать, что оба — евреи, их спор — междусобойчик, что им делить-то? Секрет полишинеля: третий еврей в «Трех евреях» — автор, который никогда этого не скрывал и никем другим не притворялся. Но к слову — в отличие от скушнера — я не чернявенький (другой масти) и не подпрыгиваю (другая походка, иной стиль), да и ростом чуть повыше. Хотя как развернутая метафора еврея — сгодится, хоть и для бедных. Случаем, великий русский националист В. Т. не спутал меня с самим собой? Ведь мы, кажется, даже незнакомы — по крайней мере, я его не упомню. Вот и посоветовал в ответ словами его тезки Виктора Сосноры:
Жить добрее, экономить злобу.
А то ведь и злобы у нас квота — может не хватить на оставшуюся литературную деятельность. И на жизнь — мы на самом ее краю, если только не патологические долгожители.
Что до Путина, то встречаться с ним я не мог — ни в КГБ, ни в 281-й школе в Советском переулке, которую мы оба кончали, но в разные годы. Причина обеих невстреч — хронологическая: российский президент чуток меня младше. Так что, если бы я действительно служил в КГБ, то не Путин был бы моим куратором, а я — его. В таком случае, полагаю, президент у россиян был бы совсем иным, хоть и под тем же именем. Лучше, хуже — не мне судить. Тем более в таком сослагательном варианте. А кем бы стал я, будь куратором будущего президента России?
Вариант: «поэт Василий Жуковский — император Александр Второй».
Пару слов о ВВП, чтобы больше к нему не возвращаться. Книгу о нем — не вдаваясь в подробности — мы писать отказались, хоть у нас и был карт-бланш, а именно — книги о его кремлевских предшественниках плюс с дюжину жареных деталей да парочка заманчивых предложений. Представьте, гоголевский маленький человек стал главой не департамента, а всего государства российского. ВВП — это Акакий Акакиевич со всеми вытекающими отсюда последствиями — с достоинствами и недостатками того. Акакия Акакиевича очень жалко, но не забудем о его посмертной жизни, о его обидах и мстительности. Я говорю о потенциале Акакия Акакиевича — к добру и злу постыдно равнодушен. Как принято теперь говорить в стране, откуда я родом: равновелико удален.
Надеюсь, однако, что ВВП еще понимает разницу между пиаровым мифом о себе и самим собой, но когда перестанет врубаться, тогда кранты. Представьте Акакия Акакиевича с манией величия. И еще: ВВП скрытен и бездеятелен в государственных делах, а занят исключительно созданием властной — под себя — вертикали, и средства для него оправданы целью — в конце концов, он не выпускник института благородных девиц. Все это не только плохо, но и хорошо. Если он займется вдруг государством без навыков управления или с совсем иными навыками, которым не я его научил, не будучи его куратором и никем в КГБ, это приведет к еще более печальным последствиям, чем его бездействие. Трагический прецедент: одна-единственная его акция — война в Чечне, все равно, кто взрывал дома, чтобы ее вызвать: когда горит лес, некогда выяснять, кто оставил непогашенный окурок.
Говорю это со стороны, из безопасного далека, через океан, почти объективно, но не совсем над схваткой, хотя ставок в этой политической игре у меня нет. Ставить там не на кого. И не на что — я говорю о пробе. От питерских либералов я натерпелся не меньше, чем от московских консерваторов — чума на оба ваши дома. Да и не тот возраст, чтобы брать чью-либо сторону. Отсюда моя надсхваточность, пусть и не тотальная. Whatever it is, I’m against it, как говорил Маркс — не Карл. Гаучо.
Другое замечание моего зоила я воспринял более серьезно хотя бы потому, что оно лишено оригинальности: будто в моих книгах — «четвертьвековой давности сплетни». Имеются в виду не только книги «Три еврея», «Довлатов вверх ногами» и «Post mortem», но и мои опусы о Слуцком, Окуджаве, Искандере, Шемякине, Юнне Мориц, Анатолии Эфросе и прочих, в которых вроде бы все из первых рук, то есть по личным впечатлениям. Что же до сплетен, то меня они интересуют даже двухтысячелетней давности — тот же Плутарх, к примеру. Единственно, что жаль: как мало сплетен оставила нам всемирная история, и чем дальше в глубь времени, тем меньше.
Но вот еще один самодовольный, без каких-либо на то оснований, критик, если я не ошибаюсь, судя через океан, из противоположного лагеря, некто Немзер, когда обсуждались соисканты на Букера, назвал мой роман «Семейные тайны», который, по словам пакостника Топорова, пролетел с «Национальным бестселлером» (премией, им же учрежденной), как фанера над Парижем, — «коллекцией сплетен». Опять пальцем в небо, но уже по другой причине: «Семейные тайны» — произведение фикшинальное, вымышленное, художка, плод и итог «ложного воображения», нас возвышающий обман, над вымыслом слезами обольюсь, bla-bla-bla — сплетен там не должно быть по определению, да? Вот тут я и вспомнил отзыв моей предотъездной подружки Тани Бек, со смертью которой все никак не могу смириться, на мой неоконченный роман с живыми тогда еще и легко узнаваемыми персонажами: роман-сплетня.
Так или не так, но если тебе со всех сторон твердят, что ты пьян, ложись спать. Или как сказал не помню кто: если тебя обвинят, что ты украл Эйфелеву башню и прячешь ее в кармане, не спорь, не оправдывайся — немедленно беги из Парижа. Согласились же французские пленэристы с уничижительной кликухой, которую им дали критики, и с тех пор называются импрессионистами. В принципе, они должны быть благодарны своим зоилам, у которых глаз острее, чем у комплиментщиков, как я — своим: за имя. Да будет так: писатель-сплетник. Почему нет? Если есть писатель-фантаст либо исторический писатель, то почему не быть писателю-сплетнику? А будучи не только прозаик и политолог, но по изначальной литературной профессии еще и критик, попытаюсь разобраться что к чему и что почем. Мы привыкли одиозно относиться к одиозным понятиям, а если их вывернуть наизнанку? Что есть сплетня вообще и в литературе в частности? Вдруг я не единственный сплетник среди писателей? Что, если существует этакое сплетническое направление в литературе? Мой любимый Мариенгоф, который проходит по разряду мемуаристов, будучи как писатель ничуть не ниже Бабеля, Зощенко и Платонова, в «Записках сорокалетнего мужчины» пишет:
«Почему-то при слове „сплетня“ обычно корчат брезгливую гримасу, а при слове „литература“ поднимают глаза к потолку. Напрасно! Литература и сплетня это почти одно и то же. Я, разумеется, говорю, о большой литературе, паршивая — та всегда была не в меру благородной».
Среди писателей-сплетников Мариенгоф называет Лермонтова («Княжна Мери»), Флобера («Сентиментальное воспитание»), Шодерло де Лакло («Опасные связи») и даже Пушкина — тот собственной жены не пощадил:
О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобою счастлив я, Когда, склоняяся на долгие моленья, Ты предаешься мне нежна без упоенья, Стыдливо-холодна, восторгу моему Едва ответствуешь, не внемлешь ничему И оживляешься потом все боле, боле — И делишь наконец мой пламень поневоле!Что можно Пушкину, почему нельзя Соловьеву? Когда-нибудь я все-таки решусь и опубликую давно написанную главу «Тайна Лены Клепиковой». Опять это клятое «е.б. ж»! Если не при жизни, то post mortem…
Возьмем, к примеру, предыдущую (до смерти «Тарелкина») великую русскую пьесу «Горе от ума». Что лежит в ее сюжетной основе? Запущенная Софьей Фамусовой сплетня о безумии Чацкого. Грибоедов и сам признавался, что принципиальный сплетник. Яго пускает в оборот сплетню о неверности Дездемоны — и драйв «Отелло» предопределен, главные его герои обречены, включая автора интриги — Яго. А сюжетный двигатель «Гамлета»? Пусть и оглашенная потусторонней силой — Призраком — сплетня об измене королевы с деверем и убийстве им короля, дабы узаконить незаконную связь и узурпировать престол. Диккенс сравнивает молву с летучей мышью — тоже неслабо. А во второй части «Генриха IV» Шекспир выводит сплетню на сцену: «Входит Молва в одежде, сплошь разрисованной языками». Не знаю, у кого лучше — у Пастернака или у Шекспира, но мне больше подходит в контексте разговора оригинал: «Enter Rumour, painted full of tongues». А «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», которые сознательно выстроены на сплетнях и слухах, их опровержениях и подтверждениях — сплетни суть преддействие, действие и постдействие этих романов. Уберите из романов Достоевского сплетни, и они рухнут как карточные домики.
Две лучшие книги ХХ века — «Шум и ярость» и «В поисках утраченного времени». В первом сама сюжетная неразбериха возникает из-за невозможности понять, что в сплетне есть правда, а что — выдумка, а уже от этой событийной невнятицы — эмоциональная сумятица, которая в конце концов приводит главного героя к самоубийству. А вот как выглядит это у Фолкнера в теоретическом плане (в эссе «Писатель у себя дома»): «…живых людей не превратишь в хорошую рукопись, самая увлекательная рукопись — это сплетня, в ней все почти сплошь неправда».
Роль аристократических сплетен сен-жерменского предместья в мемуарной эпопее Пруста всеобъемлюща и общепризнана. Два романа — «В сторону Германтов» и «Содом и Гоморра» — целиком выстроены на сплетнях, герой помешан на сплетнях, захлебывается в них, для него это идефикс. «В поисках утраченного времени», если угодно, пример тусовочной, точнее — посттусовочной литературы, описание огромной аристократической тусовки, больше тысячи персонажей, в которых современники узнавали себя и своих знакомых (иногда ошибочно), некоторые рассорились с Прустом, обвинили его в сплетничестве, дезе, инсинуациях, но ему по барабану, к тому времени он уже стал анахорет, бежал от тусы в свою башню из слоновой кости. Точнее, из пробкового дерева, которым обил свою комнату, а верхнему соседу регулярно, как только сносятся, покупал войлочные шлепки. На то и гений, чтобы воспарить над сен-жерменской тусовкой и заняться вечными темами любви, ревности, измены, времени и смерти: его пример — другим наука, включая данного автора. У Пруста как раз то самое сочетание сплетен и метафизики, о котором, ссылаясь на Бродского, сообщает Довлатов в «Записных книжках» — по сути тоже собрании слухов и сплетен: «Бродский говорил, что любит метафизику и сплетни. И добавлял: „Что в принципе одно и то же“».
На самом деле — чего Довлатов не знал, так как Бродский в разговорах часто опускал либо замутнял первоисточник, — эта мысль позаимствована им у Ахматовой, а той — у Чорана, чего она и не скрывала: «Две самые интересные вещи на этом свете — это сплетни и метафизика». В очерке «Исайя Берлин в восемьдесят лет», приводя эти слова, Бродский добавлял от себя: «Можно продолжить, что и структура у них сходная: одно легко принять за другое». Понятно, Довлатов, не подозревавший о существовании Чорана, а стихи Ахматовой сравнивавший с песнями Утесова («Объясните мне, Володя, какая разница, вы же критик!» — пытал он меня), спокойно приписал эту формулу Бродскому.
Уж коли помянул Чорана, то Бродский много от того позаимствовал (от мизантропии, направленной в том числе на мизантропа, до апологии Иова, но Чоран считал себя плохим его учеником, унаследовав не его веру, а только вопли), пользуясь малоизвестностью того в англо— и тотальной неизвестностью (тогда) в русскоязычном мире. Сам Бродский, схватывавший всё с налета, более подробно узнал о Чоране от своей приятельницы Сьюзен Зонтаг, которая носилась с Чораном и фактически представила высокобровым американам (предисловие к нью-йоркскому изданию «Соблазна существования»). Восстанавливаю авторство Чорана в том, что касается метафизики и сплетни. Эта моя книга и есть метафизика вмеремежку с анекдотами, зато анекдоты и сплетни — из первых рук: моих собственных.
Следуя заветам этой авторитетной троицы — Чоран — Ахматова— Бродский, — я и сочинил свой докуроман «Post mortem» — о человеке, похожем на Бродского, дабы сделать Бродского похожим на человека, а не на памятник, который сотворили еще при его жизни и не без его участия клевреты — кто по недомыслию, другие себе в карман. Задача была не из легких — дать именно метафизический портрет, а сделать это можно в том числе через сплетни, которые демифологизируют образ, спасают реального, знакомого, живого человека из-под завалов памятника. Есть два вида жизнеописания: биография и агиография. Biography but hagiography. То есть именно биография, а не житие святого, на что тот и не претендовал никогда, кокетничая словом «монстр», когда говорил о себе. Сознательно или бессознательно, все мы существа не только физические, но и метафизические, то есть живем двойной жизнью, одновременно на двух уровнях, в двух мирах, и ухватить некий кус посмертной — нет, не славы, а жизни — очень даже некисло. Замысел на уровне высоких cтандартов.
Сам Бродский — в данном случае Joseph Brodsky — любил повторять «plane of regard», то есть точка отсчета. Вот я и избрал домашний plane of regard, интимный угол зрения — чтобы герой больше походил на Бродского, чем сам Бродский, каким он стал под конец жизни, утратив прежний, с моей точки зрения — подлинный, облик. Тем более я неплохо знал его, в Питере тесно общался и дружил, но не входил — еще чего! — в его нью-йоркскую камарилью. Что и позволило мне сочинить честную и объективную о нем книгу. Больше года гулял этот классный роман, с прозрениями и воспарениями, по российским издательствам, в последнюю минуту запрещаемый бродсковедами и бродскоедами (то есть трупоедами), пока не нашел пристанище в «РИПОЛе», который с тех пор выпускает одну мою книгу за другой, в том числе итоговую о В. Р. — Великом Русском, как мы его звали заглазно: «Иосиф Бродский. Апофеоз одиночества». Касаемо меня: нет пророка в своем отечестве, тем более живущего через океан.
— Есть мнение, что вы греетесь в лучах чужой славы, — деликатно выразился один мой радиоинтервьюер.
— Своей достаточно, — огрызнулся я.
И пояснил, что мне одинаково занятно писать о Бродском, Евтушенко, Довлатове и прочих литературных ВИПах, которых близко знал лично, но также и о моей покойной маме или здравствующем коте Бонжуре, которые ничем не прославились, хоть и ангелы во плоти — оба! Для меня кот Бонжур и Ося Бродский — в одном ряду, хоть я и предпочел бы иметь дело с первым, а не со вторым.
Здешний приятель Миша Фрейдлин шутил в связи с приключениями той запретной моей книги:
— Они, случаем, не путают Бродского с Путиным, о котором, как о живом, ничего, кроме хорошего?
— О мертвых, конечно, только хорошее, — примирительно сказал другой мой знакомый Миша — Гусев. — Но Бродский ведь умер уже давно, на него это правило не распространяется.
До книжного издания в «РИПОЛе» он поместил в редактируемом им еженедельнике «В новом свете» (нью-йоркский филиал МК) большой кус из моего докуромана, а «Литературка» дала три главы, по полосе на каждую, вызвав бурю откликов. А уж сколько я дал интервью по радио и ящику, в ежедневках и уикли об этой книге! А то, что ее долго не хотели издавать, мне не привыкать — с таким же ожесточением боролись питерцы с публикацией «Трех евреев».
Да, мертвецы беспомощны, у них нет никакой возможности ответить на то, что о них говорят живые. Но, во-первых, в таком же точно положении вскоре окажусь я; во-вторых, я и при жизни Бродского, не принадлежа к его «на первый-второй рассчитайсь», писал о нем что думал. А главное: живой Бродский мне дороже, чем памятник. Обо всем этом я не уставал повторять в интервью, в разговорах, на встречах с читателями, дописав книгу и выглянув на свет Божий из писательского подполья. Проще говоря, засветился. Еще не изданный, тот мой докуроман стал мифом.
Окололитература берет верх над собственно литературой. Включая интервью, но не только: предисловия, послесловия, комментарии, биографии, встречи с читателями, письма, а теперь вот емельки. И это, пожалуй, естественно. Как с таблицей умножения, с этим не поспоришь. Ежу понятно.
Лично я в последнее время только и делаю, что даю интервью, тусуюсь в здешних русскоязычных панафинеях то ли сатурналиях — в зависимости от времени года, а точнее, в «русских ночах», если воспользоваться названием когда-то знаменитой книги князя Владимира Одоевского, и напрямую, без посредников, во встречах с читателями. Вылез из своей берлоги и пошел по рукам. Здесь, в Нью-Йорке, — раздолье: несколько теле— и радиостанций с открытым эфиром, множество газет и библиотек с русским контингентом книгочеев, тусовки-русскоязычники. «Большим событием в культурной жизни Нью-Йорка стала встреча с читателями Владимира Соловьева…» — зачин статьи в «Русском базаре», одной из многих в Америке русских газет. Сколько с тех пор прошло таких литвстреч у меня от океана до океана — от Лонг-Айленда до Силиконовой долины.
На таких встречах мы с Леной подписываем автографы. Работа не пыльная, а хоть какой да заработок. Такие встречи стали рутинными — в публичных библиотеках, домашних салонах, литературных клубах, да хоть в доме для престарелых, который «престарелые», крепкие и разумные старики и старухи, называют «детским садиком», и не живут здесь, а ежедневно посещают: играют в шахматы, спорят, сплетничают, интригуют, смотрят кино или слушают таких вот гастролеров, как мы с Леной Клепиковой. Я уже застолбил жанр устного разговора. Нет, не чтение отрывков из новых или еще не дописанных книг, а чат с читателем. Здесь, в русскоязычном Нью-Йорке, я — царь и бог (точнее, как сказала мне главред «Русского базара» Наташа Шапиро: «Вы не бог. Вы — заместитель бога»), а где я там, на моей географической родине, несмотря на обойму с две дюжины книг? Живи я там, но я живу здесь. Глисты жили счастливо и весело, пока не узнали, где живут. Преимущество мемуариста: лучше быть живой собакой, чем мертвым львом. Лучше быть беспризорной собакой, чем львом в клетке, хоть общеизвестно: животные в неволе живут припеваючи и в два-три-четыре раза дольше, чем на воле. Два разных времени — в клетке и на свободе. Клетка — это законсервированное время, как на каре Брана из кельт ской саги. Забыли? Я устал ссылаться на эту чудную историю, похожую на «Одиссею».
Какая судьба ждет меня в моей стране? Может, я и не езжу туда уже четверть века, боясь узнать, что давно уже прах и среди мертвецов сам — мертвец. Ау! Нет больше нигде на свете Владимира Исааковича Соловьева, а есть Vladimir Solovyov, но какое мне до него дело? Как ему — до меня? Ося Бродский — и Joseph Brodsky. Я пишу про обоих, путая правду со сплетней, как и должно биографу, хоть он и не папарацци. Иногда даже жаль — сколько потаенных, сокровенных мыслей я передал своему герою, переплетя с его собственными, а где благодарность?
От покойников еще меньше, чем от временно живых. Или мы квиты? Черчилль считал, что написание книги — целое приключение: «Сначала книга — не более чем забава, затем она становится любовницей, женой, хозяином, наконец тираном».
Я бы добавил: и тюрьмой.
Вспоминаю последние книги о Прусте, Пикассо, Эйнштейне и прочих титанах — там о них сказано все как есть, с подробностями личной жизни, пусть те и малопривлекательны, а то и отвратительны, как у Пикассо: особенно с близкими, с женами, а внука довел до самоубийства. Прусту приносили в постель двух мышей, сажали в одну клетку, те начинали кровавое побоище — и только тогда мой любимый писатель достигал оргазма. Воображения на секс уже не хватало.
Только на прозу.
Зато какую! Его последний том «Обретенное время» — на уровне первого «В сторону Свана».
А Лимонов вот и Пушкина относит к монстрам. Не знаю. Зато знаю, что лучшую книгу о Пушкине написал бы Дантес.
По-французски.
Если бы не трагическая та дуэль.
Кто сказал, что великий художник должен быть жизненным примером для подражания? Делать жизнь с кого? Только не с художника! А поэт и вовсе патология — уже тем, что мыслит стихами. Значит, и во всем остальном. Если Бродский называл себя монстром, пусть не без ласкательства к самому себе, но и считал себя им, сожалел о многих своих поступках — это общеизвестно. А остальные? Лермонтов — задира, злослов, мизантроп, многие теперь оправдывают Мартынова (в их числе его правнучка, с которой я здесь знаком) — что тому оставалось по тогдашним понятиям чести, когда Лермонтов каждый день над ним измывался и оскорблял? Да мало ли! Патологическое, воинствующее нематеринство Ахматовой, крещенский душевный холод Блока, садизм Есенина, Некрасов — картежный шулер, Фет забрюхатил любимую девушку, и она покончила жизнь самоубийством, потому что он отказался жениться на бесприданнице, Пастернак предал Мандельштама в телефонном разговоре со Сталиным, Мандельштам заложил на допросе всех, кому читал свое стихотворение о Сталине. Что нисколько не умаляет их поэтических достижений.
А мне тут один радиожурналист, опять-таки интервьюируя меня, говорит, что, узнав про солитера у любимой им Марии Каллас, не может больше ее слушать. Меня как раз глисты меньше всего интересуют. Воспринимаю человека, о котором пишу, не на физиологическом, а на психологическом, поведенческом, душевном, метафизическом уровнях. Но здесь уже не может быть никаких табу. Тот же Плутарх писал о греческих и римских лидерах все, что о них знал, включая, само собой, и сплетни. А как же без них? Сплетни — часть образа того, о ком сплетничают.
Не впервые обратился я к биожанру, хотя ни разу еще так не усложнял себе задачу и не скрывал, пусть и секрет Полишинеля, главного героя под псевдонимом. Потому что в прежних книгах, сочиненных вместе с Клепиковой — об Андропове, Горбачеве, Ельцине, Жириновском, чуть не за каждую получили по миллиону, как неимоверно завышала наши гонорары советско-российская пресса, для которой цифра ниже не представляет интереса — мы писали открытым текстом, без псевдонимов, метафор и иносказаний. Правда, в последнюю совместную книжку про Довлатова, где у Лены топографический передо мной перевес (она знала Сережу не только по Питеру и Нью-Йорку, но и по Таллину, пробной его эмиграции), я включил рассказ «Призрак, кусающий себе локти» — про Довлатова, но не совсем, а потому под псевдонимом. Как и в упомянутых «Сердцах четырех», где легко угадываются прототипы: Камил Икрамов, Володя Войнович, Фазиль Искандер и Олег Чухонцев. И опять не один к одному. Ceci n’est pas une pipe, хотя на этой картине у Магритта изображена именно трубка. Одно — художка, а другое — политические био под американский издательский договор, реал в чистом виде, с подлинным верно и указание на судебные издержки.
Опыт накоплен порядочный — с учетом, что те же «кремлевские» биографии должны были не только отвечать международным стандартам, но и содержать нечто новое, дабы выдержать конкуренцию американских, английских и прочих зубров мировой кремленологии. В итоге наши книги вышли на 12 языках в 13 странах (причина разноцифрия в том, что хоть американы и бриты читают на одном языке, но книжная эстетика у них разная — соответственно, и издания).
Жизнь Кремля в те времена была за семью печатями, и, помимо проверенных фактов либо достоверных слухов, которые исходили из двух и более источников, были в контексте одновременных им событий и выдерживали проверку историческим, политическим и психологическим анализом, мы также приводили ряд слухов, выражаясь словами Светония, «лишь затем, чтобы ничего не пропустить, а не оттого, что считаем их истинными или правдоподобными». Это вовсе не значило, что приводимые кремлевские слухи мы считали неправдоподобными, но у нас не было возможности проверить их истинность, о чем мы и ставили в известность нашего международного читателя. Что же до правдоподобия, то мы придерживались общеизвестного правила: на яблоне могут расти золотые яблоки, но груши расти не могут.
Или взять тех же «Трех евреев». Первое, еще нью-йоркское издание состоялось с технической помощью Довлатова, я успел подарить ему книгу, которая — так случилось — была последней из им прочитанных. Уже после его смерти Лена Довлатова передала мне, а потом озвучила в упомянутой радиопередаче его отзыв: «К сожалению, все правда».
Само собой, возникает вопрос, как сооотносятся эти два слова — правда и сплетня?
Если сплетня, подобно громоотводу, заземляет миф и приближает к истине, то что есть миф по отношению к сплетне? Застывшая, застылая во времени — все равно, четвертьвековой или двухтысячелетней давности — окаменевшая сплетня становится мифом. Достаточно назвать эпос о Гильгамеше, Библию, «Илиаду». Где там кончается мифология и начинается история, где сквозь сплетню проглядывает правда? А что такое «преданья старины глубокой» как не те же сплетни?
Исторические сплетни. Сплетни, ставшие историей. Сплетни как тайный двигатель литературы, истории и политики. Их кормовая база и сюжетный драйв.
Карлейль определил историю как дистиллят сплетен. История меня в данный момент интересует именно как отрасль литературы. Когда мы с Клепиковой сочиняли по-быстрому наше биодосье Андропова (в Америке, Великобритании, Европе и Японии книга успела выйти еще при его жизни), а тот столько напустил вокруг себя тумана, то соавторы внимательно штудировали классических историков — Фукидида, Плутарха, Тацита, Тита Ливия, Светония, Тойнби, вплоть до наших Карамзина, Соловьева, Платонова, Ключевского, Покровского. Все они были писателями в не меньшей мере, чем историками. Историк античности Момзен и историк Второй мировой войны Черчилль — блестящие рассказчики и стилисты, и каждый получил Нобельку по литературе. К сожалению, политическая история мира прошла по большей части под знаком авторитарных или тоталитарных режимов, то есть диктатур, тираний и автократий, или, как говорит нью-йоркский журналист Саша Грант, обобщая, узкократий, когда информация выдавалась обществу дозированно, в соответствии с нуждами власти на данный момент. Зато вовсю работал слуховод, из которого и черпали историки — от «отца истории» сказочника Геродота аж до наших дней. Есть сплетни-однодневки, но есть сплетни навсегда, навечно, и нет уже никакой возможности их опровергнуть, отделить легенду от реальности. Соломон и Нефертити, Нерон и Клеопатра, Генрих Восьмой и Наполеон, Гитлер, Сталин, Мао — в той же степени знаковые величины, что и реальные персонажи истории. За отсутствием точной информации сплетни — это идеи и гипотезы. Прошлое — не только историческое, но и семейное, индивидуальное — это гипотетическая, виртуальная, метафизическая реальность. Прошу прощения за трюизм: чужая душа — потемки, и это можно отнести и к Тутанхамону, и к жене. А собственная душа — не потемки? Самые что ни на есть! Сколько мне приходилось слышать сплетен о самом себе! Одна из — что моим куратором в КГБ был В. В. Путин.
Чтó большая литература, когда даже детективы, которые заменяют мне кроссворды, чтобы заранее, на середине книги, сквозь уловки и ухищрения автора, угадать убийцу, покоятся на сплетне: «По натуре я — сплетник», — признается Эркюль Пуаро, его собеседница в тон ему говорит: «Обожаю скандалы и сплетни, и чем больше в них злости, тем лучше!», а сам автор пишет, что сплетня — это правда, но если ты оперируешь реальными фактами, то подсуден за клевету, а когда сплетничаешь — нет. В самом деле, без сплетен все сюжеты Агаты Кристи застопорились бы на месте.
Уж коли занесло на детективы, процитирую напоследок моего любимого британского детективиста Николаса Блейка. Будучи также поэтом и парадоксалистом, он перенасытил свои развлекательные романы тончайшими наблюдениями. В том числе — о сплетнях:
«Я никогда не мог уразуметь, почему моралисты столь сурово осуждают так называемые сплетни. Это не только особый жанр устной литературы, распространенный среди малограмотных, но и любимое развлечение таких интеллектуалов, как университетские преподаватели и священники. Как обесцветилось бы наше общение, если бы этот, по выражению Бернса, „непокорный член“ — язык — не получал иногда свободу позлословить».
Вот я и говорю: сплетнями, как миазмами, пропитан воздух, которым мы дышим, но не будь этих миазмов, мы бы задохнулись в безвоздушном пространстве. Как не прожили бы мгновения без бактерий, которые паразитируют внутри нас.
Что же до литературы, из приведенных примеров читатель, надеюсь, убедился, в какую классную компанию я угодил: Плутарх, Шекспир, Достоевский, Пруст, Фолкнер и прочие. Вполне достойные ребята, хоть и сплетники. Так чего ж тогда мне стыдиться?
Без вопросов: я — писатель-сплетник.
На том стоял и стою.
Как говорил Довлатов, извиняюсь за мысли.
Поехали дальше.
Кто там на очереди?
Владимир Соловьев?
Владимир Соловьев.
Представляю его следующую книгу.
Мое поколение — от Барышникова и Бродского до Довлатова и Шемякина
ПОЖИЗНЕННАЯ ЛЮБОВЬ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ И ЛЕГЕНДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ Владимир СОЛОВЬЕВ — София НЕПОМНЯЩАЯ tête-à-tête Ночной разговор на Facebook
Как различить ночных говорунов,
хоть смысла в этом нету никакого?
Иосиф БродскийВот как всё это началось. Человек я сравнительно новый на Facebook, на самых ранних порах отбирал френдов из реальных моих знакомых, пока не понял виртуальный характер фейсбучной дружбы. Среди самых первых, пожелавших сойтись со мной ближе, была молодая москвичка София Непомнящая, которую я принял в свой дружеский круг, не заглядывая в ее curriculum vitae, — за красоту. Волоокая синеглазка, да еще с таким вдумчивым, углубленным, пытливым взглядом, что с ходу влюбился, в чем тут же ей и признался. «Это длится не более двух недель. Проверено» — ушат холодной воды на мою седую голову со стороны прекрасной незнакомки. Вот-вот, седина в голову, а бес — нет, нет, не в ребро, конечно, эвфемизм, разве что то самое ребро, из которого сделана праматерь наша Ева. Выяснилось, что я у Софии не просто второй, как обычно утешают нас девушки, а, наверное, пятитысячный френд — на пределе ее фейсбучных лимитов. Ну, чисто, мужской гарем, где я по возрасту мог бы оказаться евнухом, хотя все еще не соскочил с этого дикого жеребца. Мой друг Миша Шемякин изобразил Казанову со стоячим болтом в могиле, которую по этой причине регулярно посещают возлюбленные, чтобы получить от него post mortem то, что он давал, но не додал им при жизни.
Предсказание Софии, однако, не исполнилось, пусть чувство мое за две недели не то чтобы улеглось или охладилось, но одухотворилось, что ли, в ущерб чувственности: благодаря ее разносюжетным постам высокого интеллектуального накала. Классный блогер, но мало того, что мы сошлись с ней во взглядах, так еще и стилистически, что для меня, как писателя, важнее всего. А она та еще мастерица плести словеса: словесная лакомка. А какие притчи она выдает. Вот, например, про ауто-агрессии — об антисанкциях:
Известный русский художник Ван Гоголь вместо уха отрезал себе нос. Ван Гоголь был импрессионист и сердечник. У него сложилась импрессия, что нос у него — гулящий. Вот в сердцах-то нос и отрезал. Сократил, так сказать, за прогулы. Но сам Ван Гоголь все равно остался с носом. И еще с каким. Вот такой коан; такая дзенская загогулина. Еще и Акутагава потоптался на носе. Но это уже совсем другая история. А ухо что? Ухо оно ухо и есть.
Пояснение. Надо, конечно, было пояснить происхождение этого сюрного фантазма. Это ответ на сюрную реальность. Антисанкции часто называют «Назло маме отморожу себе нос» или «Назло теще отрежу себе ухо». Все такие общие проявления аутоагрессии получили название «бомбить Воронеж».
На каком-то этапе нашей виртуальной, а точнее — по старинке, — метафизической близости я усомнился в реальном существовании Софии Непомнящей, припомнив разного рода литературные розыгрыши — от Клары Газуль, все пьесы которой сочинил Проспер Мериме, до Черубины де Габриак, которую измыслил Макс Волошин и писал за нее стихи, много лучше своих собственных. Да еще фильм «Симона» — кинорежиссер Виктор Тарански, которого играет Аль Пачино, в отчаянную минуту, когда от него в разгар съемок уходит ведущая актриса, создает взамен виртуальную актерку: Симона становится любимицей публики, получает Оскара и начинает жить натуральной и независимой от своего создателя жизнью, а после неудачной попытки режиссера дезинтегрировать свое создание, стерев из компьютерной памяти, беременеет от него. Дела!
Усекли? Во всех случаях мужики выступают в качестве творцов женских образов — от Пигмалиона до героя имярек у Гофмана, сюжет которого довоплотил Оффенбах. А что, если за мою (пусть и не мою) Софию Непомнящую работает, прикрываясь ее именем, типа маски или камуфляжа, целый think tank? Если только вымышленная София Непомнящая не есть измышленная мной самим?
Я поделился своими сомнениями в реальности Софии Непомнящей с Софией Непомнящей, а это все равно что делиться ревностью с ревнуемой женой, что я тоже делал — неоднократно и до сих пор. Так что мне не впервой. София Непомнящая предъявила мне косвенные и прямые доказательства своего физического существования, которые не то чтобы убедили меня, а скорее утешили (и утишили) мои сомнения. Даже если обман, то возвышающий; даже если игра ложного воображения у визионера, а какое воображение не ложное? Платон мне друг, но истина дороже. Меня обманывать не надо — я сам обманываться рад. Влюбчивый Гумилев, само собой, увлекся вымышленной испанкой Черубиной и стрелялся из-за нее на дуэли с ее творцом Максом Волошиным. Про себя скажу, что я приревновал мою Черубину к сонму ее поклонников на ФБ: с юности не люблю групповуху.
Мне кажется, София крепко обиделась на мои сомнения в ее существовании и время от времени — и по сю пору, когда мы с ней неожиданно сдружились и соавторствуем в некотором роде, — возвращается к ним: поначалу всерьез, а теперь шутя, ставя себя на мое место. Вот несколько ее реплик на этот для меня до сих пор актуальный южет:
— А сомнения в моей реальности (можно и так прописать) со временем должны развеяться благодаря совершенно невероятной био и образу жизни, ее (Сони) то и дело (чуть не ежедневно, — недельно, — тут мой словарь иссякает, а язык немеет) фото из разных точек земного шара соответствуют ее пунктирному повествованию о своих перемещениях и благо (ну не «зло» же) ключениях заставляют все же поверить невероятному.
— А вы, милейший В.С., слишком сильно собой заняты и слишком мало мной увлечены, чтоб жертвовать (больше, чем ныне) свое время на чтение моих спотыкающихся проб пера, кои сама часто (по модусу вивенди) не поспеваю перечесть.
— Имхо, правильно начать, как вы и сделали, с дисклеймера: «Я сомневаюсь, а что, если меня развели, как лоха?» — «Спокуха, умник: я тоже вначале сомневался». Есть такая еврейская присказка к рассказываемой байке: «Вы этому верите? Я тоже нет. Однако о нас с вами такое не рассказывают».
— Обо мне рассказывают еще и не такое! — брякнул я.
— Но я же в Вас не сомневаюсь!
И совсем уж измываясь над Фомой неверным:
Так вот: имхо идеальную женщину можно не только запирать в шкаф (клозетов не напасешься), но просто по использованию дезинтегрировать (направив на нее дематериализатор).
— Поздно, Соня…
Мы продолжали время от времени перебрасываться с Софией лайками и комментами, но я вообще на ФБ репликант, старомодно полагая Инет электронным самиздатом, а с меня достаточно бумажных изданий — сотни эссе в периодике по обе стороны океана и две дюжины книг на 12 языках в 13 странах (по-английски разные тиснения — в США и Великобритании). Иногда я выставляю на своей странице ФБ обложки моих книг и линки статей и телеинтервью. Ну и, конечно, по мере возможностей слежу за постами Софии Непомнящей, коли мы с ней на одной волне, даже стилевой, помимо идеологических и политических сплошь и рядом совпадений. Потому и не вступаю в спровоцированные ею диспуты — все равно что спорить с самим собой. Это был вялотекущий роман — улица с односторонним движением, да? — пока вдруг, несколько дней назад, в разгар работы с моим издательством над очередной книгой авторского сериала под рабочим названием «Фрагменты великой судьбы», а именно ночью 21 октября 2015 года, я не был вычислен, вычленен и извлечен из огромного, со всего света, гарема этой прелестницы, о чем узнал, обнаружив обращенную прямо ко мне записку Софии Непомнящей:
— Пожизненная любовь наших родителей и легенда для людей моего поколения. Неувядаемых вам творческих сил и крепкого здоровья!
Без всякого на то повода, не юбилей и даже не день рождения — вестимо, «легенда» тут же откликнулась:
— Спасибо, милая, умная, тонкая София! За что мне такая милость?
Мгновенный ответ:
— За ваш полувековой труд во исполнение пророчества «возвратить сердца отцов детям»*.
И следом сноски и приписки:
– * Пророчество об Иоанне Предтече (Мал. 4:5–6); «И предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный» (Лк. 1:17).
— За восстановление связи времен; так чтоб для нас ожили мысли, чувства, надежды, волнения и страхи родительского поколения.
— …и все это — легко и свободно текущей и живо играющей родниковой русской (питерской) прозой.
— Чтоб вам не делиться, позвольте отвесить то же самое в полной мере и неутомимой подвижнице пера и соратнице вашей Елене!
Успеваю все-таки провякать нечто о противостоянии отцов и детей:
— Это все-таки скорее конфликтная ситуация, чем гармоничная. Пророчество — еще не реал.
— А конфликт О и Д еще никто не отменял. За успех вашего безнадежного дела!
Посему все тщусь внедрить авторский свой неологизм; если не вместо, то наряду с «ватой»*. По аналогии с креаклами, креативным классом*«проПукл» — пропутинский класс. Это та часть Д, которые то ли отрыгнули сердца О, то ли О им такие попались.
— А что, собственно, Вы из моей родниковой прозы читали, дорогая моя София?
— А вот немало, матерый вы скорпионище!
Само собой, намек на мои «Записки скорпиона», мемуарный роман о Москве. Иногда мы с Софией не поспеваем друг за другом и отвечаем невпопад, не дождавшись ответа. Sapienti sat — понимаем друг друга с полуслова, хотя иногда попадаем впросак — я чаще. Я тащусь от нее, но и тащусь за ней — не всегда поспеваю. Сказывается не только разница в возрасте: физически мы с ней разминулись во времени. Еще разный опыт — опытный писатель и опытный блогер. Игра, однако, идет на ее поле, а потому в ее пользу, но победителей и побежденных в таких вот делах не бывает. Как в любви. Опытный мужик всегда добьется от девицы то, что она больше всего — и больше, чем он! — хочет. Опять этот клятый опыт!
Эпистолярная скоропись с репликами, репризами, отточиями, недоговоренностями, оговорками, проговорами, да мало ли? мало не покажется! — вот жанр этого неоконченного пока виртуального романа, который оборвется так же внезапно, как начался, по техническим причинам: рукопись пора сдавать в типографию, последний шанс вставить этот наш с Соней отрывочный и обрывочный треп — когда в личку, а когда на стенке, а теперь вот в эту мою книгу. А насчет стенки и лички, я не сразу врубился и ответил невпопад.
Вот эта вставка:
— Только диалог лучше — прямо на стенке, а не в личке — накладки профессии.
— Как на пиру Валтасара? Мене, мене, текел, упарсин…
— При почти постоянном участии в бизнес-переговорах минимизация непрозрачного общения считается хорошим тоном.
— Так у нас же с Вами не бизнес, а изящная словесность. И дружба (надеюсь).
— Угу.
— За одно это «угу» готов Вас расцеловать. Впрочем, не за дно только «угу». Ничего не отвечайте. Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки — потом. Даже такие, как Вы.
— При любой возможной случайной утечке инфы всегда, даже задним числом, можно выяснить: она произошла не через меня.
Как сказал не я, любите самого себя — этот роман никогда не кончается. Мы с Софией романимся друг с другом или каждый с самим собой? Похоже на разговор с зеркалом, да?
— Непредсказуемость окончательной формы (укуса frown emoticon или улыбки smile emoticon) скорпионова хвоста входит в понимание принципа неопределенности в смайлике Шрёдингера. Хорошо бы воспроиз-весть. Смайлик можно передать в текстовом, а не дорогом графическом варианте. Народ оценит по полной. А важность просьбы о расшифровке — в том, что дева утверждает: смайлик сей есть суть улыбки ВС на его фото и даже его самого! Вааау — ну как тут не заинтриговаться, да? Это пояснение к посланной мне и неразгаданной мной аватарке. А графические эмотиконы приходится по техническим причинам заменять их словесными эквивалентами.
— Откуда Вы взялись такая, дорогая моя Соня? Вы — писатель. Это в моих устах высшая похвала. Помимо прочих более явных и явленных Вами в сети и на пляже достоинств. Из Ваших многочисленных поклонников я единственный, кто ценит Вас как коллегу. Не считая Вас самой, полагаю. Впрочем, за все остальное — тоже. В смысле, ничто человеческое мне не чуждо.
— М.б. В самом еще зародыше. Пока что — неумелый микро (нано) блогер. А ценили бы — читали бы frown emoticon.
— Соня, перестаньте проверять на мне Ваши чары. Действуют. Передохнем. Я читал и читаю Вас, но такой вот, в личку, разговор ценю выше всего, даже когда он на общедоступной странице, на виду у всех. Когда-то я даже мечтал, будучи влюблен… Ладно, в другой раз. Да Вы и так догадались, чувствую. Или не догадались? Если даже извращенец, а кто нет? И что есть норма? А из Ваших фоток выбрал одну из многих — не скажу какую. Догадайся, мол, сама. Пошел вкалывать, как раб на галере, не к ночи будет помянут.
— Все в вашей авторской. Меня всегда много. Увы. Уж такова моя троякая особенность.
— Соня, остановитесь! А то прилечу к Вам во Флориду, на горе Вашему фотографу и моему издателю!
— ой smile emoticon
— Наконец-то я Вас напугал. Привет Вашему океану от нашего — один и тот же. Я больше верю буддистам, чем Гераклиту.
— Да не проживаю я нигде. Это — просто моя ВМБаза в США.
— Ну, с морпехами мне не справиться — пас!
— В морях и океанах провожу больше времени, чем на их побережье.
— Центр повсюду, а поверхность — нигде, как опять-таки не я сказал. А НК — не про Вас. Моя любимая у него цитата. Зато я — про Вас. В самое яблочко, согласны?
— Согласна с вами и с Кузанцем (хоть это не только его определение).
— Но он первый! Лично мне на ушко. А Паскаль и прочие — плагиат. Даже мой любимый Борхес этого не приметил, а еще эрудит!
— smile emoticon
— А возвращаясь к моим скорпионьим повадкам, жалю прежде всего самого себя, как и положено скорпионам.
— Как хлыст и лассо ковбоя.
— А что еще? Добрейший из скорпионов.
И мгновенный ответ на мой вопрос о ее осведомленности в моей книжной продукции:
— Исторические детективы, прежде всего! Как на ходу изрекаемые пророчества точно ложились на угадываемый ход истории. Особая пикантность чтения их — читать, накладывая историческую линейку: когда написано, что было уже тогда известно и что сталось потом.
— Если Вы читали мои (в смысле написания) «Семейные тайны», то да — этот исторический детектив про современность сбылся. Увы.
— Я имею в виду Андропов, Горбачев, Ельцин и пр. прежде всего.
— Ну да, наши с Леной Клепиковой политические триллеры, благодаря им мы держались на плаву. До сих пор еще не проели и не пропутешествовали сказочные те гонорары. Все эти книжки про Андропова и прочих кремлевских резидентов выходили сначала по-английски, потом на других языках, а в новую (теперь ужé старую) эпоху по-русски.
— Я все уже по-русски читала. И «с линейкой» (исторической). Все равно как читать об Иване Грозном времен Избранной рады с некоторыми неожиданными (и неожиданно сбывшимися) пророчествами.
— Историк пророчествует назад. Не Пастернак и не Гегель, а Шлегель, один из братьев, какой не упомню.
— А вот какой-то у вас был роман или я путаю: роман с литературным таким названием, где из главных героев Бродский и Кушнир? Года примерно 1990? Похоже на «Роман с памятью», но другое. Вроде б там еще и Марамзин был, и Довлатов… Что-то сегодня мой роман с памятью не задался frown emoticon.
— София, не притворствуйте! У Вас дивная, энциклопедическая память, а путаете Вы понарошку, для правдоподобия. Была такая пьеса про Шоу «Милый лжец». Меняем гендер: милая лгунья.
— Ладно. Признаюсь. Для оживления памяти кинулась к списку ваших (с Еленой и без) трудов — и НЕ нашла! (чего искала)
— Изначально «Роман с эпиграфами» (нью-йоркское и питерское тиснения), но «Захаров» в Москве издал под названием «Три еврея» (понятно, кто третий?) — горемычная питерская исповедь, написанная в России в 1975 году за три месяца. «РИПОЛ» переиздал «Трех евреев» в моем однотомнике со скромным названием «Два шедевра об Иосифе Бродском», а дюжина глав из него вошла в последний мой томище «Иосиф Бродский. Апофеоз одиночества» — второй в авторском сериале после «Довлатова», а к концу года выйдут еще «Не только Евтушенко» и «Высоцкий и другие».
«РИПОЛ» продлил мое литературное существование — бабье лето, Indian summer, лебединые песни — одна за другой. Пир во время чумы? Мой предсмертный реванш за тощие годы, когда я весь ушел в мир американской журналистики, «Роман с эпиграфами» полтора десятилетия лежал в столе невостребованным, а до России дошел и вовсе четверть века спустя после его написания, обернувшись «Тремя евреями»? Убитая книга, зато потом восстала из пепла, что та птичка-мазохистка с высоким болевым порогом.
— ВОООТ!!!!! Именно это название и есть! Вот вытащенный Вами утопленник, сплавившийся по волнам моей памяти. Значит, название просто дезинтегрировалось?
«Роман с эпиграфами» превратился в «Трех евреев».
— А «Роман с памятью» — это подзаголовок «Записок скорпиона».
— Так почему «Роман с эпиграфами» не значится в вашем послужном?
— Что еще за послужной список? В конце каждой из последних книг приводится перечень предыдущих и парочка будущих. «Список Соловьева» неизменно начинается с «Романа с эпиграфами».
— «Романа с эпиграфами» — нет, Соловьев Владимир Исаакович. Хоть тут гляньте, хоть где -13594.html библиотека, книга, книги, скачать книги До 1977 года Владимир Соловьев жил в Ленинграде и Москве, был членом Союза писателей и… librams.ru
И сразу же вслед:
— Spooky! Роман-призрак! Так у вас там конкретные предсказания (сбывающиеся). Не помните? Значит, пророк «восхИщенный и восхищЕнный» /Цветаева/ сам не помнит, что ему реклось?
— Запамятовал! Был у меня такой футуристский романчик «Операция „Мавзолей»». Увы, многое сбылось, но слабая книжка с сильными страничками. Исполнение не на уровне замысла. Я еще не вошел в силу, как прозаик.
— У вас все исторические романы читаются стремительно, как «Капитанская дочка» или «Метель», — вот что здорово! А «Роман с эпиграфами» и вовсе не прост.
— Да. Нет. Как сказать: да, не прост? Или: нет, не прост? Кое-кто считает «Трех евреев» моей лучшей книгой. Что не так. Но там в самом деле эманация духовности и душевности в гармонии. Потом одно шло в ущерб другому, что не уменьшает значимости последующих опусов. Скособоченность им к лицу.
— Обращалась к старшим: тут какие-то многослойные воды текут, как лавоподобный (псевдотихий) сэндвич. А они мне: ты тут вообще ничего понять не можешь. Вот как ты «Пушкинский дом» читала, а не разжевала: лизнула только самый поверхностный слой. А под ним шевелятся все архетипы русской литературы и культуры.
— Ну уж нет! Согласен с Вами, а не со старшими. Есть английская поговорка о том, что, копаясь в себе, можно вырыть пустоту. Я о Битове. А там — в «Трех евреях» — сказано, что роман пишет не Владимир Исаакович Соловьев, а Владимир Исаакович Страх. Страх умнее, тоньше, талантливее Соловьева.
— Ай да сукин сын я! Все: налью себе валерьянки и пойду писать в девичий дневник: «Сонька — гений!»
— Феномен пси! Я только собрался написать Вам, что пошел кормить Бонжура (котофей), а Вы тут как тут про валерьянку! Вы читаете мысли на расстоянии? Или чувства? Как сказал пиит, инстинкт пророчески-слепой. Пошел кормить кота взаправду. За мной не заржавеет. Бонжур, за мной!
— Wow! (взамен смайлика) Короче говоря, творческих вам! И при всем наинижайшем и наитрепетнейшем к Елене — знайте: девушки таких, как вы, любят.
Весьма пикантный смайлик.
— Корова не доена, конь не поен, кот не кормлен и проч. Вчера оральный жанр — телеинтервью, сегодня — письменный: ответы на вопросы. У нас с Вами выходит замечательный ночной разговор двух авгуров. А таких, как Вы, София, любят стареющие мальчики (даже). Если только Вы не фата-моргана. Виртуальный обним. Ваш ВС.
— Фаты-морганы прячутся под фатой, а не публикуют что ни день свои все новые свежие фото с самых разных широт, меридианов и прочих географических координат.
Какой чудный смайлик я обнаружил, накормив Бонжура, который был так назван, потому что найден в Квебеке, а там bonjour все равно что у нас здесь ОК.
— На странице автора содержатся две напетые (проакыненные) Владимир Исааковичу оды. Но это так. Для пока не сыскавшихся побуквенных собирателей всего мной пишущегося.
— София, милая, ни одной оды не нашел, зато в новой книге «Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых» у меня раздел посвящений Владимиру Соловьеву. Авторы — Бродский, Евтушенко, Кушнер, Слуцкий, Клепикова, Eugene Solovyov, а самое последнее — Зоя Межирова. Отличный стих, безотносительно ко мне.
Володя мой Соловьев, Флейта, узел русского языка, Бесшабашно-точных Ньюйоркских рулад соловей, Завязывающий Слово в петлю, От которой Трепещет строка, Становясь то нежней, то злей…Весь стих см. в разделе «Посвящается Соловьеву…»
В ответ смайлик с аплодисментами.
— Образованная Вы девушка, однако. Такая осведомленность в моих подвигах на ниве изящной словесности. Книг — невпроворот, а сейчас и вовсе выходят одна за другой.
Завтра пойду на почту служить ямщиком и отправлю Вам одну. Или прилететь к Вам во Флориду и вручить все мои сочинения прямо на пляже? Самолет, боюсь, не потянет.
— Знамо дело. Вы куда как злописуч. Но в вашем случае — это благо.
— Надеюсь. Что меня роднит с Шекспиром, Достоевским и Гомером — мы все графоманы.
— без этого — никак
— Чувствую родного человека. Вы — тоже — графоман, стилист, тонкач. Хоть и жирная, по собственному признанию. Но Вам это к лицу. Точнее — к телу. Заметили, конечно, гендерную подмену — три эпитета мужеские, а четвертый — женский. Только не кокетничайте, пжст!
— Не кокетничать это как? я не умею frown emoticon. В стиле там есть как раз элементы кокетства. Но это от смущения. И потом «Le style c’est l’homme». Ныне мне не до стиля, не при стилЯх мы нынче. А кокетство — это элемент общения: ирония у меня добрая, а доброта ироничная. А причина проста: не фабричная я. На фабрике ООО «Прокруст и Со» меня не делали. Вот и вышла такая корявая. Питерским легче. У них есть великие лекала (образцы). По ним можно пули лить; хоть серебряные, хоть яхонтовые. И вот как в пулю сажают вторую пулю или бьют на пари по свечке — так можно себя прокрустицировать, причем с высокой результативностью.
— Очень! До меня сразу дошло, я опытный инженер человеческих душ, привет Сталину. Седцевед (не путать с сердцеедом). Оставайтесь самой собой. И не мешайте мне выстраивать наш авгурий — и августейший (Августа и Августин!) — разговорище.
— После такого (необходимого) дисклеймера, реплики все же имхо лучше РЕгруппировать по смысловому, а не буквально хронологическому принципу.
— Продолжаю работать. Все замечания — кстати. Откорректирую.
— Можно симулировать интерактивность с читателем: кинуть вопрос-конкурс в массы на лучшую интерпретацию: «чтобы бы это значило?»
— Что я и делаю — и продолжаю регруппировывать. Хочу спрессовать во времени — чтобы в одну ночь. Мы с Вами, милдруг, не только авгуры, но еще пиранделлисты.
— Мало того: можно симулировать при этом интеллектуальную (ну, хотя бы в области совр. физики) невинность (мол, сам вот в недоумении). Декларируемая глупость автора обычно льстит читателю. И настраивает его к оному автору еще благодушнее.
— Нужен не только драйв, но интрига — как бы многоточие под конец. Но и в самом деле, точку ставит только смерть.
— Ну да. «Писатель» пока без единого читателя.
— А я? Профи-читатель, будучи вдобавок к прочим ипостасям еще и критиком. С этого и начинал. Еще вопрос, что хуже — недооценка или переоценка? Да нет, Вы знаете себе цену. А теперь знаю я — Вам. А сейчас — за работу. Мы вчера поменяли моей книжке название — не из одних только из коммерческих соображений: «Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых». В параллель и тон «Не только Евтушенко». Делаю соответствующие изменения. А за Вами не поспеваю. Да какая же Вы корявая — опять кокетничаете от смущения? Глянул на дом, где Вы обитаете — на берегу ни одного деревца? Вам там не грустится? У меня рядом приятель живет — зовет в гости. Никогда не был в тех краях. Развлекайтесь и отвлекайтесть, а я пошел пахать ниву родной словесности. А тут еще кто-то звонит, черт!
— Отличное название! Я про «Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых». Интегрирующее. Не настораживающее.
— Спасибо! Лена взяла трубку, думая, что меня нет дома. А может, в самом деле меня нет дома? Где я? На флоридском пляже?
— Огромный ей от меня привет! Я ей, кстати, еще прежде Вас на/ отписала свои на ее счет восторги. Прошу зачесть.
— Вам все зачтется, но зачем перегружать себя плюсами? Где, черт побери, минусы? Про «жирную» я слыхал, но это пусть не кровавый, а телесный навет на саму себя. Ладно, поговорим лучше обо мне, а Вас оставим в покое. Отключаюсь. Временно. Снял трубку — буду говорить. Оказалось, я дома. Кто бы мог подумать!
— Все! Всееее копируем в верхний старт (где вы помянуты).
После телефонного разговора. Звонила Наташа Шарымова на предмет последней книги моего пятикнижия «Быть Владимиром Соловьевым. Мое поколение — от Барышникова и Бродского до Довлатова и Шемякина». Разговор как раз про Барышникова и его новый спектакль о Бродском.
— София, а что, если я наш полуночный авгуров разговор попытаюсь тиснуть в одну из моих ближайших книг? Если поспею. И если Вы не возражаете, конечно. Да? Нет?
— Польщена. В полнейшем восторге. Невероятно лестно попасть живьем в Вашу живую книгу. Даже фамилию тогда лучше сменить на «потомственную» — Соня ХАБИНСКАЯ
— Спасибо за доверие, Соня ХАБИНСКАЯ! Это как-то сближает.
— А вертая назад к нашим баранам, хотя они все Ваши — ну, тараканы, какая разница? — можно, торжествующий Холмс, где-то отком-ментить, типа: «Будучи припертой мной к стене (стыдно тем, кто не о том подумал), Соня призналась в мистификации и даже разрешила неприметно, только для самых въедливых, сообщить и свою настоящую, а не виртуальную фамилию: Соня Хабинская».
— Перестаньте меня поъе*ывать, Соня. Фома Неверный стал Фомой Верным, но предварительно мне, как и ему, надо дотронуться до Вас, потрогать Ваши — ну, не раны, так шрамы, да хоть царапины, ежели таковые имеются и если Вы позволите, конечно.
— Вам можно всё!
— Ловлю Вас на слове. А где именно сейчас обитает моя таинственная незнакомка? Если это не военная тайна. Где-то мелькнула пляжная фотка, да? То Вы одна, то с кем-то. Пусть лучше он снимает Вас, чем снимается с Вами. Коррозия образа. Если Вы все еще во Флориде или у Вас есть любой какой-нибудь американский адрес, сообщите, и я пришлю Вам с автографом книжку из последних.
— Понимаю, что с вашей загрузкой за перипетиями моей био (на ФБ) Вам не уследить, а потому коротко: моя штаб-квартира (родственника, часто пустующая) при приездах в штаты…
Далее следовал флоридский адрес, которым я воспользуюсь на следующий день, чтобы послать моей знакомой незнакомке последнюю мою книгу.
— Хулиганство (мелкое) дозволяете?
И не дождавшись моего ответа, пока я его строчил:
— Да, сколько угодно! Тем более Вам. Сам из хулиганской породы. Будьте самой собой и никогда не спрашивайте ни у кого разрешения.
Софья Непомнящая — она же Соня Хабинская в девичестве — прислала мне пикантную свою фотку с припиской:
— Это — ночью по указанному адресу.
Приглашение к танцу? Интим предлагать?
Долго из-за этого снимка-неглиже не мог заснуть, несмотря на снотворные таблетки. А как спалось в эту ночь Соне Хабинской?
Проклятие, что не могу поделиться этой чудесной фоткой с читателем!
— Опера «Эйнштейн на пляже» это не про Вас, Соня? Как поздно до меня дошло! Был еще какой-то пляжный фильм у Ромера.
— Или «Непрожитая жизнь с идиоткой».
— Привет обоим — покойнику Шнитке и выживаго Ерофееву (который Виктор). Не я один, мы оба нашпигованы цитатами, а цитата есть цикада, неумолкаемость ей свойственна: вцепившись в воздух, она его не отпускает. Привет, самый-самый поэт прошлого столетия.
— «Несостоявшаяся жизнь с идиоткой». Если у вас есть минута, могу быстренько добавить (с последующим стиранием) еще гламурчика. Фото имхо лучше взять из «славянской серии» — как дополнительный фон к вашему декларируемому еврейству. Ловите — послала русскую красавицу.
— Соня, прелесть моя, я за Вами не поспеваю. Мне бы справиться с уже посланным. Все учту. Кокетство Вам тоже к лицу — что мало Вами увлечен. Мысленно обнимаю. Можно?
— Еще как можно! Вы, что, туги на ухо? Повторяю: Вам можно всё!
— Тогда разрешите мне моими мыслями про Вас поделиться с Вами?
— Вы только это и делаете. Валяйте.
— Ваша духовность и телесность не в ущерб душевности? Это не риторический вопрос. Мой любимый Стивенсон в детстве нарисовал человечка и спрашивает маму: «А душу тоже рисовать?» Или это Ваша таинственность, которую я принимаю за загадочность и пытаюсь отгадать, а тайна на то и тайна и так далее. А Вы сами себя знаете? Ладно, Вам не до таких разговорчиков, вижу. Завтра отошлю мою книгу — одну из. Какую выбрать — вот в чем вопрос, а не в том, что думал принц Датский. На свете счастья нет, но есть покой и воля, чего Вам и желаю на атлантическом берегу.
— Вы, как Пикассо, пишете на песке: это все уже в процессе стирания. Срочно спасайте свою ИС (интеллектуальную собственность).
С сожалением увидел я потом эти снимки на авторской странице моей Сони — в общем доступе. Да еще с ссылкой на меня:
— Это все В. Соловьев меня подбил на хулиганство. Ща сотрем. Было тут 40, оставим парочку, и то ненадолго.
Чужие голоса:
— а самые первые были самыми интересными
— жалко на телефоне смотрел, не успел сохранить
— вот и не надо — Это Соня.
— изящная словесность пошла
— Кто такой этот Владимир Соловьев, с которым ты так бесстыдно кокетничаешь?
— Сегодня дан был urbi et orbi (публичный) ответ, кот., пользуясь его свежестью, можно тут привести.
И, предупредив меня — «Ща-ща, Вова. Ща на вас поработаю. Рекламку вам на свои 5 тыс. растиражирую. У нас же такой вполне публичный литературный роман smile emoticon», — Соня вывесила на своей странице интервью со мной, как раз в этот день опубликованное (см. следующую главу с полным его тектом). А на жалобу, что оттуда выпал самый важный кусок на еврейско-христианский сюжет, тут же добавила и его, присовокупив:
— Хоть у меня есть свое, отличное от этих Соловьевых мнение. А вообще этот «соловьиный сад» в отечественной культуре, как я погляжу, заселен сверх всякой меры. Потому с изобретением ТВ некоторые В. С(оловьевы) перешли просто на свист. Отнюдь не художественный….
— Да, с именем-фамилией мне крупно не повезло. См. мой рассказ на этот сюжет «Мой двойник Владимир Соловьев», многократно печатавшийся, в том числе в этом году в моем томище «Иосиф Бродский. Апофеоз одиночества». Несу ответственность только за Владимира Соловьева самого себя — остальные не родственники и даже не однофамильцы!
В разговоре о моей клятой фамилии живейшее участие приняли наши с Соней френды. Даю вразнобой, вперемешку — мои, Сонины, чужие?
— За что? — не выдержал Владимир Соловьев, который я.
— А не свисти! И клювом не щелкай.
— А чем щелкать прикажете? Пальцами, как оклеветанный графом Алексей Каренин?
— Каренин, как помнится, не щелкал, а трещал пальцами…
— Ну уж трещал! Окарикатурил граф.
— Фамилия меж тем, прошу заметить, на Руси славнейшая!
— И да и нет. Когда всех Соловьевых затмевает один?
— Соловьи и разбойники, они свистеть должны!..
— А я вот разливаюсь соловьем. В школе, правда, меня так и называли — соловьем-разбойником. О моих певческих потенциях никто и не предполагал. Кроме меня.
— Как это «чем»? — скворцом!!! ///А мог бы жизнь просвистать скворцом, Заесть ореховым пирогом…///
— Да, видно, нельзя никак… Оттуда же, — заканчиваю я Мандельштама.
— Доигрался х… на скрипке.
— Некоторые в таких ситуациях добавляют первую букву отчества. Очень стильно. И по-американски. Советую.
— Спасибо. Как-то поздно уже.
— Ну хотя бы когда будут возлагать цветы — не будут путаться!
— Тропа не зарастет — вопрос к кому?
Последние четыре реплики — мой разговор с московским музыкантом Владиславом Виноградовым. Опускаю — пропускаю остальные вмешательства в наш с Соней tête-à-tête. Мне удается-таки время от времени встрять в разговор, извинившись за то, что я говорю, когда меня перебивают. А это уже Соне:
— Ну да, опять двадцать пять — Соловьев во всем виноват, если в кране нет воды… Я все это слышу с детства… См. мою книгу «Три еврея». Однако согласен хоть на эту роль — провокатора, а провокатор — повивальная бабка истории, не я сказал. Чужого не надо, свое — отдам. Я вас спровоцировал, а другие пользуются. Жаль. В общем пользовании. А я-то, лох, думал, что это все только мне… В смысле, фотки.
— Было — вам.
— Было — и быльем поросло. Не успел воспользоваться.
— Ус п е ли.
— Это был не я, как в том анекдоте про туннель…
— Просто дева должна беречь свой неокрепший от разочарований.
— Впрочем, спасибо за право синьора, синьорина!
— Вот право-то, граф (Альмавива), и стоит ценить Смайлик «wink».
— Ценю. Не без того.
— Жермон задает Виолетте («Травиата») резонный вопрос: «Минет увлечение, — что вам тогда останется?»
— Минет или минет?
— Однааако!
— Сегодня с пяти утра работаю над «Высоцким и другим». Вот и заклинивает. Не извиняюсь: пошлость — смазочное вещество в отношениях между людьми.
— «Высоцкий и другие» — стильно. В пандан «Не только Евтушенко»?
— Догадливы. Гадайте дальше.
— На кофейной гуще?
— Кто «другие»?
— Укладываюсь в 6 секундное окошко: если в предыдущей книге однокорытники Евтуха — Белла и Андрей, то «другие» — ВЕСЬ КОКТЕБЕЛЬ.
— Ну, Вы даете, Соня! А хорошо ли подглядывать и перлюстрировать чужие рукописи? Этому Вас учили в детстве? Придется мне Вас удочерить и перевоспитать. Если не возражаете. Весь Коктебель плюс. Кто входит в «плюс»? Чур, не заглядывать через плечо!
— Через плечо — это что? намек на мои 174 см? — не заглядывала. А про Коктебель — это образ Влада Вертикалова из Василия Аксенова «Таинственная страсть». Я ведь тот период изучаю как времена Чаадаева и царя Гороха — по лит-ре и кино. Н/п сельхоз кино о выращивании царей из шутов гороховых.
— Узнаю про Вас, Соня, все больше и больше. Мне до Вас тянуться и тянуться. Я о росте. Разве что на цыпочках. Надеюсь, хоть без высоких каблуков? А что за мысли у моей удочеренной папиной дочки о самом Высоцком? Соня, не ленитесь и не отлынивайте от заданий. Вы спрашивали, дозволяю ли я мелкое хулиганство, и, не дождавшись ответа, прислали чудный снимок Сони неглиже. Так я, не спрашивая дозволения, добавляю кой-какие пикантности в наш треп, но Вы, прочтя, сможете забанить, если успеете.
— 6 сек: БЕЗОТЦОВЩИНА
— Так, от дочерне-отцовских отношений отказываетесь? Отлуп? Я верно Вас понял? К чему относится «безотцовщина»? К физическому прошлому? К писательскому статусу? Почему же прислали мне девичью фамилию и я воспринял это как знак доверия? Или Вы Соня, НЕ ПОМНЯЩАЯ своего родства? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу — или Я понять тебя хочу, темный твой язык учу. Какой вариант относится к Вам, неудочеряемая Соня? Статус возлюбленной (виртуальной) Вас больше устроит?
— БЕЗОТЦОВЩИНА — это о ВСВ.
— Это я не врубился поначалу или Вы прямь счас переориентировались на Высоцкого? Так были же у него отец и две матери, включая любимую мачеху. Любимов — отцовская фигура? Вряд ли…
— БЕЗОТЦОВЩИНА — ключ к хар-ру ВСВ, — настаивает Соня, не пускаясь в подробности.
— А может быть отцовской фигурой женщина? Мачеха? Марина Влади? Он прилипчивый был. Даже к Мише Шемякину, хоть тот моложе лет на шесть. Проехали. Пойду в монтажную — переклеивать наш разговор, а то никогда не кончу с Вами. В смысле — и только в этом смысле: из-за Вас. А Вы пока подумайте, кто другие.
На дворе глубокая ночь, а нам с Соней все не оторваться друг от друга. Ночь целую с кем можно так провесть! — что имеет в виду ее тезка Софья Фамусова? Или моя не моя Соня уже спаиньки?
— Коли Вы не даете мне заснуть, возбуждая без нужды, то и я Вам не дам. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты вечности заложник у времени в плену.
— …как летчик, как звезда. Не спи, не спи, работай, Не прерывай труда, Не спи, борись с дремотой, Как летчик, как звезда.
— Отлично, моя авгурша! А с дремотой бороться не приходится — я засыпаю со снотворным.
Уходим от темы разговора, а мне его в книгу сдавать поутру! Совсем отбилась от рук моя красавица-умница, нас обоих тянет куда-то в сторону. Или на сторону? Призываю Соню к порядку:
— Не позволяй душе лениться! — А это откуда? — Не отлынивайте, а то мне придется самому отвечать на собственные вопросы и стать соавтором — нет, не Софии Непомнящей — Сони Хабинской, вы превратитесь и вовсе в Spooky.
Задел за живое. В ответ забил фонтан красноречия — монолог Сони Хабинской о Высоцком:
— Уж больно заарканила я ситуацию. Думала вынести обсуждение на ФБ, но, вижу, уже поздно. Разгадка проста. Неоднократно приходилось сопровождать мои мини-группы в заказных экскурсиях по музею ВСВ. А понтами они увешаны, понятное дело, как светлейший князь Потемкин брюликами. Поэтому они редко довольствуются обычными штатными экскурсоводами. Приглашающая сторона либо осведомляется у стороны угощаемой, кого из друзей ВСВ или просто его биографов им хотелось бы вживую в музее послушать. Вот по совокупности этих интерактивных повествований поняла следующее.
При живом папе живого папу ВСВ увидел впервые лишь где-то лет в 10, отправившись из своего нищего детства прямехонько в сверкающий антиквариатом дом папиной новой семьи в ГДР.
После пары лет (папа врал, что 3 года) он вечно холодного и недосягаемого своего отца снова утратил до самых что ни на есть хрущевских времен.
— А дружелюбная мачеха, которую благодарный Володя звал «мама Женя»?
— Да. Жил с мачехой. Но метался. Дома своего (ни на Каретном, ни на Мещанской) не имел. У родной мамы был неприветливый любовник, у взрослых (прежде всего — мам) была своя жизнь. И младой ВСВ просто мешался под ногами. Чтоб не мешаться и ища замену отцу (ну да, отцовская фигура, будь по-Вашему!), шлялся по взрослым друзьям семьи. Но все большую часть жизни проводил на улице, рос дворовым шалопаем. Да еще и непонятно какого двора, когда везде и всем получужой. Рослый красавец с иконостасом боевых…
— Больше 20 наград. Было за что.
— Вот-вот, этот папа орденоносец вечно был недосягаемым идолом. Окромя нескольких Володиных песен (военных, писанных, чтобы понравиться отцу), сына не любил. Потом врал, что любил. Упрекал сына с самых примитивных совковых позиций.
— Вы о нем больше знаете, чем я. Я не биограф, а портретист, Высоцкого видел больше на сцене, чем в личку. У меня про него гостевая глава — там Миша Шемякин с мемуаром про Марину и Володю (и его же тетрадка фоток и иллюстраций), мой сын Eugene Solovyov с английским стихом про Высоцкого (видел его тинейджером) и моя преамбула (печаталась пару месяцев назад в МК там и «Русском базаре» здесь). А как же у Высоцкого не возник эдипов комплес?
— Кто Вам сказал, что не возник? Пусть и на латентном, неосознанном уровне. Короче, папы сперва не было физически, потом (до конца жизни) эмоционально. И наконец (опять же, до конца жизни) — идейно. Так что, красавец еврей (в отличие от щуплого и по сравнению с ним невзрачного ВСВ) оказался просто типичным советским жлобом. Еще и хищным до вещей и денег мещанином в придачу.
Кстати, музейные экскурсоводы занижают вдвое еврейскость ВСВ. Папа его — еврей по полной: якобы русское ИО его мамы…
— Нина Максимовна?
— Вот-вот! — переделка с еврейского (не упомню какого точно ИО). Такие дела (с) (Курт)
— Соня, милая, остановитесь, пока не поздно — мне это в текст и в контекст вставлять! Хотя нечто на любимую тему русского народа про еврейство — весьма кстати. Я и не подозревал. Муж всегда узнает последним. Если узнает. На меня эти «еврейские» новости сыпятся как из рога изобилия: то у Мастроянни мама из Одессы, то мама Адама Мицкевича из выкрестов, а то все репинские бурлаки — на подбор: лайбовники, лалы. А теперь вот Высоцкий… Если даже так — хорошо бы все-таки проверить — что из того? Как отразились эти гены на искусстве Высоцкого? Имеет ли это хоть какое значение в его артистической и поэтической биографии? И относительно разнесчастного детства нашей суперзвезды позвольте усомниться. На послевоенном фоне у Высоцкого было счастливое советское детство.
— Уточняю: не беспризорщина, а именно БЕЗОТЦОВЩИНА. Да, при живом отце. Имхо ключ к характеру, поведению, деструктивности и самоуничтожению. Сублимированный эдипов комплекс: обращен на самого себя.
— С Высоцким закончили. А кто «другие»?
— Окуджава, само собой…
— ?
— Тарковский, да?
— Оба. Отец и сын. В конфликте О и Д.
— Учение — не свой брат /лат. «non penis canis est»/.
— По-русски звучит двусмысленно. Но по латыни тоже, кажется, ругательство: Lingua latina non penis canis est. Латинский язык не пенис собачий, да? Еще!
— Эврика! Ваша Юнна…
— Давно уже не моя. И слава богу! Слуцкий меня пытал: «Неужели вы спите с Юнной?» И не дав мне ответить: «Дружбы с ней тоже не понимаю».
— Вы спали с Юнной Мориц?
— Академический вопрос. Как и вопрос о том, чем заняты ночью Софья Фамусова и Молчалин, имя запамятовал. Как и то, чем с Вами сейчас заняты мы.
И уйдя от вопроса, дабы заинтриговать — нет, не Соню, а читателя! — перечисляю остальных героев и антигероев моей книги «Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых».
— Шукшин, Эфрос, Слуцкий, Володин, Вампилов, Рейн, Таня Бек, младшая шестидесятница из Розового гетто. О любом из них? Да хоть обо мне. Главный герой всех моих книг — Владимир Соловьев. Потому следующая так и называется «Быть Владимиром Соловьевым».
— О Вас — с превеликим удовольствием. И знаете — почему? Нет, не потому, что Вы самый-самый из них…
— Прочту утром, чтобы не отвлекаться от архитектуры нашего разговора — чистая готика получается. Кафедрал! Достроят потомки, если не согласитесь на удочерение.
На утро получаю крылатого коня среди облаков (аватар) с надписью: Sof a Nepomnyaschaya to Vladimir Solovyov
Летайте Пегасом, Владимир!
Надежно. Выгодно. Удобно.
Что я и делаю с тех пор, как себя помню. Маршрут, правда, выбираю не я, а расчудесный этот коняга, крылышкуя метафизическое пространство, и под его копытом оно превращается в субстрат времени, которое я пересекаю в разных направлениях с читателем в качестве пассажира.
Продолжение в следующей книге Владимира Соловьева
РУССКИЙ МИР ПОВСЮДУ, А ЦЕНТР — НИГДЕ!
Интервью с Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ
Москва — Нью-Йорк
— Расскажите, как вы иммигрировали в Америку, что-то запомнилось из этого судьбоносного события?
Владимир Соловьев. Еще как запомнилось! Наш отъезд был неожиданным и скоростным. Хоть мы уезжали по эмигрантским документам, но это не мы эмигрировали, а нас эмигрировали. Нам предложили немедленно покинуть страну, в три дня — с трудом выторговали 10 дней. Мы выбрали Запад, потому что альтернативой был Восток, о чем нас прямо и недвусмысленно предупредили: суд, тюрьма, ссылка.
В моих «Записках скорпиона» — подзаголовок «роман с памятью», издан в Москве в издательстве «РИПОЛ классик» восемь лет назад — есть целый отсек «Соловьев-Клепикова-пресс». Так называлось образованное мною и моим соавтором, а по совместительству женой Леной Клепиковой первое и единственное в истории Советского Союза независимое информационное агентство, сообщения которого широко печатались в мировой печати, а возвращались на родину в обратном переводе с помощью вражьих голосов. Достаточно сказать, что «Нью-Йорк таймс» не только регулярно публиковала наши инфо и политические комменты, но как-то даже тиснула статью о работе нашего пресс-агентства с нашей московской фоткой на Front Page, что нам значительно облегчило карьерную жизнь на первых порах жизни в Америке. Мы c Леной получили гранты от Колумбийского университета и Куинс-колледжа Нью-йоркского университета и с ходу стали публиковать статьи в ведущих американских газетах, начиная с той же «Нью-Йорк таймс» и включая «Уолл-стрит джорнал», «Вашингтон пост», «Чикаго трибюн», пока права на наши статьи не купил «United Feature Syndicate» и не занялся их распространением в газетах. Работа каторжная — каждую неделю по статье. Мы не только выдержали конкуренцию с аборигенами, но и были среди трех финалистов Пулицеровской премии. Дальше переход количества в качество: под шестизначные авансы мы выпустили несколько политических триллеров — про Андропова, Горбачева, Ельцина. Сначала по-английски, потом на других языках, а в период гласности — по-русски.
— Владимир, вы часто работаете в соавторстве с вашей супругой Еленой Клепиковой, расскажите, пожалуйста, о вашем творческом тандеме.
Владимир Соловьев. Я бы не назвал это тандемом — слишком мы с Леной разные, даже стилистически, главные наши достижения в одиночных заплывах. Формула Герцена «ниразнимчато срослись годами, обстоятельствами, чужбиной» — к нам не подходит: не срослись! В совместных книгах — про Андропова или Довлатова — у каждого свои главы. А в самых последних книгах — «Иосиф Бродский. Апофеоз одиночества» и «Не только Евтушенко» Лена сняла свое имя с обложки и титула, хотя там у нее отличные тексты под ее именем. Не желает нести ответственность за те мои высказывания, с которыми не согласна.
— Конечно, многим интересна ваша книга «Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека». Довлатов — это культовая фигура не только для русскоязычного читателя, но и для русских американцев — недаром его именем даже улицу в Куинсе назвали. Расскажите, пожалуйста, о том, каким вы видите Довлатова, ну и, конечно, в чем своеобразие этой книги.
Владимир Соловьев. Это опять-таки мнимосоавторская книга, у Елены Клепиковой и Владимира Соловьева там сольные разделы, а сходимся мы только в большом начальном диалоге о Довлатове, но и в нем скорее расходимся во мнениях и взглядах. В отличие от нашей предыдущей книги «Довлатов вверх ногами», эта написана в защиту Довлатова от клеветы, зависти и злобы его заклятых друзей из писательской братии. Речь не о критике прозы Довлатова, типа дима-быковской, она имеет право на существование, да я и сам не принадлежу к крутым фэнам этого писателя и не раз лично ему высказывал свой негатив о некоторых его опусах, типа «Иностранки», провальной у него вещи. Его музейно-китчевый образ мне чужд. Недооценка Довлатова при жизни сменилась его посмертной переоценкой. Многих его современников я ставлю выше Довлатова — Фазиля Искандера, обеих Людмил, Петрушевскую и Улицкую, и трех Василиев — Аксенова, Белова и Шукшина. Довлатов скорее перфекционист, чем шедеврист. Но критика и критиканство — две большие разницы. Тенденция некоторых питерских коллег Довлатова низвести его прозу до уровня анекдота или байки, противопоставление орального жанра письменному — мол, Довлатов лучше устно рассказывал свои истории, чем писал их, а то и вовсе нонсенс, что настоящих высот Довлатов достиг в эпистолярном жанре, как утверждает его лучший враг из бывших друзей, контрабандно издавший свою с ним переписку, несмотря на протесты Лены Довлатовой, Сережиной вдовы и правопреемницы. Наша с Леной Клепиковой книга о Довлатове — ключевая, знаковая и, думаю, именно по ней будут судить об этом разнообразно талантливом человеке с его разнесчастной судьбой. Он принадлежит к плеяде трагикомиков — комических писателей, трагических по жизни: Свифт, Зощенко, Довлатов. Мне трудно рассказывать о нашей книге, а тем более ее пересказывать — эти полтысячи страниц надо читать, а многочисленные, впервые публикуемые снимки подолгу рассматривать вместе с подробными к ним титрами. Могу только сказать, что в книге напечатаны уничтоженные, но восстановленные нами, считай, из пепла Сережины письма и его устные сказы, которые он не успел или не смог написать, а вот «Перекрестный секс», полноценный рассказ Сергея Довлатова, написанный Владимиром Соловьевым, по разным причинам не вошел в книгу и будет напечатан в ближайшее время в «Ex Libris», литературном приложении «Независимой газеты». Плюс множество детективных исследований-расследований загадочных явлений из жизни Довлатова — от его роковой юношеской любви до кошмарной смерти в машине «скорой помощи», когда два придурка санитара уложили его на спину и привязали к носилкам, по дороге его растрясло, и он, по словам шофера, „choked on his own vomit“. А никакой не цирроз печени и не сердечный приступ! Классифицирую смерть Довлатова, как непредумышленное убийство.
— Вы не остановились на достигнутом и сняли документальный фильм «Мой сосед Сережа Довлатов». О Довлатове есть, конечно, множество воспоминаний. А каким вы помните его?
Владимир Соловьев. Всяким. Разным. Остроумным — да, но веселым — никогда. Для веселья у него не было ни причин, ни поводов. Безрадостная судьба литературного неудачника в Ленинграде, когда его не просто никто не печатал, но никто из коллег не считал за писателя. Единственный его литературный вечер состоялся в питерском Доме писателей, я делал вступительное слово, а Сережа читал свои уморительные, до коликов, рассказы, которые так и не дошли до советского гутенберга. Лена Клепикова о его литературных хождениях по мукам пишет в своей монографической главе «Мытарь», а она знала Сережу не только по Питеру, но и в обеих его эмиграциях — внутренней в Таллине и заокеанской в Нью-Йорке. В Эстонии все его литературные грезы кончились полным крахом, а состоялся он как писатель только в Нью-Йорке, хотя сформировался еще в России. Именно здесь были изданы все его книжки — сначала по-русски, а потом по-английски и на других языках, он печатался в самом престижном литературном журнале «Нью-Йоркер», редактировал русскоязычник «Новый американец». Эмиграция для него — vita nuova, но не dolce vita. Сквозь тернии к звездам? Но звезды засияли на его небосклоне post mortem, а при жизни одни тернии и унижения. «Унизьте, но помогите», — обращался Сережа к Бродскому, который был не только великим поэтом, но еще и литературным паханом и распределял блага среди писателей-эмигре. Сережа страшно переживал эти унижения, а Бродский, помогая и унижая, брал реванш за собственные свои унижения в Питере. Ну, например, он был освистан слушателями, когда читал в гостях у Довлатова свое «Шествие». Вернувшись из перестроечной Москвы с чудесными вестями, мы с Леной Клепиковой первым делом отправились к Сереже его обрадовать: в редакциях о нем спрашивают, хотят печатать, кто-то из маститых отозвался с восторгом. Слово Лене Клепиковой:
Сережа был безучастен. Радости не было. Его уже не радовали ни здешние, ни тамошние публикации, ни его невероятное регулярное авторство в «Нью-Йоркере», ни переводные издания его книг. Он говорил: «Слишком поздно». Все, о чем он мечтал, чего так душедробительно добивался, к нему пришло. Но слишком поздно. Даже сын у него родился, которого вымечтал после двух или трех разноматочных дочерей. И на этот мой безусловный довод к радости Довлатов, Колю обожавший, сурово ответил: «Слишком поздно».
— Кто сейчас «остался» из ваших единомышленников в Америке? Или вы не ставите границ, с одинаковой легкостью общаясь с людьми из разных стран?
Владимир Соловьев. О чем вы! Какое может быть единомыслие между писателями? Мы даже с Еленой Клепиковой разномышленники! А единомышленники знаете где? На кладбище. Скорее заединщики, которых у меня множество по всему белу свету. Ну, например, главред замечательной нью-йоркской газеты «Русский базар» Наташа Шапиро, которая с дюжину лет печатает «Парадоксы Владимира Соловьева». А в России редакторы «Московского комсомольца» и «Независимой газеты», которые в этом году тиснули множество наших с Леной эссе из будущих книг книжек — про Евтушенко, Высоцкого, Бродского, Довлатова, Шукшина. Или гендиректор московского издательства «РИПОЛ классик» Сергей Михайлович Макаренков — единственный в мире человек, которого я называю по имени-отчеству, хотя он, наверное, годится мне в сыновья, лично не знаком. Мы с Клепиковой — сольно и в соавторстве — выпускали наши книги во многих российских издательских домах — от «Вагриуса» и «Захарова» до АСТ и ЭКСМО, но «РИПОЛ» стал нашим родным домом, хотя мы ни разу там не бывали и вряд ли когда будем. Судите сами, за десять лет десять книг! В последние 12 месяцев и вовсе рекорд: 4 книги до конца этого года. Пир во время чумы, как кто-то припечатал. Пусть и в одном авторском сериале! Перечисляю: «Быть Сергеем Довлатовым», «Иосиф Бродский», «Не только Евтушенко», «Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых». А в замысле — пятикнижие. Почему нет! Пятая книга «Быть Владимиром Соловьевым. Мое поколение — от Бродского и Довлатова до Барышникова и Шемякина». Что всех нас объединяет поверх индивидуальных отличий? Мы все сороковых годов рождения, бывшие ленинградцы, а потом ньюйоркцы, полная противоположность шестидесятникам.
— Как известно сам Сергей Довлатов писал, часто обижая своих знакомых. Случались ли аналогичные ситуации с вами?
Владимир Соловьев. Сплошь и рядом! Это в порядке вещей, литературная норма. И не только мемуары, но и проза, где не один в один, пусть и узнаваемые прототипы. Левитан на год раздружился с Чеховым, когда узнал себя в герое «Попрыгуньи», у Марселя Пруста в его гениальной лирической эпопее «В поисках утраченного времени» литературные персонажи настолько напоминали живых людей, что те обижались и прекращали отношения с автором. Не сравниваю, конечно, но в моей литературной практике таких историй — уйма. К примеру, питерский пиит Кушнер, узнав о моих «Трех евреях», заявил, что вычеркивает меня из жизни, хотя были близкими друзьями, сохранился его автограф нам с Леной, без которых он «не представляет себе жизни». Довлатов, прочтя мою довольно критическую рецензию на новую книжку Бродского, сказал, что «Иосиф вызовет вас на дуэль». Обошлось, однако. Куда дальше, Лена Клепикова прерывает со мной иногда на пару дней отношения, когда узнает себя в моей героине, а я настаиваю, что это все художка: в конце концов прощает, а что ей еще остается? Последний мой томище о Бродском вышел с посвящением «Иосифу Бродскому — с любовью и беспощадностью». Комментарии требуются? Московский рецензент писатель Павел Басинский писал, что «Соловьев никаких человеческих, слишком человеческих скидок своему герою не делает. Другое дело, что он не делает этих скидок и тем, кто этого заслуживает в силу отсутствия гениальности». А в повести «Призрак, кусающий себе локти» очевидный прототип — Сережа Довлатов, но мертвые срама не имут, зато вдовы обижаются, даже Лена Довлатова, с которой, однако, сохранились дружеские и деловые отношения — очень помогала в работе над обеими книжками и над фильмом. Она мне пишет, что досталась мне в наследство от Сережи, а я ей — что она сама по себе. Удивительная женщина! В героях другой моей повести «Сердца четырех» узнавали Фазиля Искандера, Володю Войновича, Камила Икрамова и Олега Чухонцева. Да мало ли? У мертвых нет возможности ответить, а живые переживут. Вот Женя Евтушенко, к примеру, у которого было предостаточно оснований для обид на меня, тем не менее сбросил мне недавно на компьютер письмо с таким вот началом: «Володя и Лена, наши сложные, но все-таки неразрывные отношения…» Спасибо, Женя!
— Насколько место жительства отражается на творчестве, по-вашему мнению?
Владимир Соловьев. По-разному. Антураж, декорации могут меняться, но страсти — одни и те же повсюду. Я о себе. Я не этнограф, а инженер человеческих душ, как удачно выразился товарищ Сталин. А на предмет перемещений моего бренного тела в пространстве, да еще через океан — еще две цитатки, я автор насквозь цитатный, недаром первоначальное название «Трех евреев» — «Роман с эпиграфами». Позади всадника усаживается его мрачная забота, с поправкой на то, что Гораций жил в лошадиную эпоху, а Владимир Соловьев — в самолетную. Или как говорит марракеш, рассказчик, в «Тысяче и одной ночи»:
Покинь же место, где царит стесненье, И плачет пусть дом о том, кто его построил. Ты можешь найти страну для себя другую, Но душу себе другую найти не можешь!Возьмем ту же ревность, по которой я большой спец как человек и писатель и исписал на этот драйв сотни страниц в разных жанрах — от четырехголосого романа «Семейные тайны» до эссе «Ревность как культ вагины». Пруст, гениальный анатом ревности, который расщепил ее, как волос, на четыре части, жил во Франции в прошлом веке, обезумевший от ревности Стриндберг, автор романа «Слово безумца в свою защиту», который не решился издать на родном языке, а только по-французски, жил в конце позапрошлого в Швеции, наш родоначальник сказал, что Отелло не ревнив, а доверчив, а творец этого ставшего нарицательным образа — и вовсе несколько столетий назад. «Ну да, я тебе изменяла, но не делай из этого трагедий», — говорит жена Шекспиру в известном анекдоте. Мои «отелло» живут в Москве, Петербурге, Нью-Йорке, разной возрастной, этнической и культурной принадлежности, но сиблинги по испытываемым переживаниям. То же с другими базовыми чувствами.
— Вам важно творить, находясь именно в Америке?
Владимир Соловьев. Ну, творить — слишком высокое слово. Работать. Без разницы где. Хоть в бочке — привет Диогену. Антон Чехов писал на подоконнике, а Илья Эренбург в кафе. Главное, чтобы под рукой были канцелярские принадлежности — чем писать и на чем писать. Свобода? Когда я пишу, я свободен, где бы ни стоял мой письменный стол. Я чувствовал себя совершенно свободным, когда настрочил за пару месяцев в Ленинграде, Москве и псковской деревне Подмогилье свою горячечную исповедь, известную теперь повсеместно под названием «Три еврея», а теперь я свободен в Нью-Йорке, где сочинил с полсотни рассказов, сотни статей и две дюжины книг, включая мое мемуарно-аналитическое пятикнижие — метафизические романы о знаменитых моих современниках и о самом себе.
— Уходит поколение людей, приехавших в одно время с вами. Среди них недавно ушедшие Лариса Шенкер и Костантин Кузьминский. Список смертей, наверняка более длинный, вы знаете лучше меня. Стоит ли по-вашему это как-то запечатлеть, написав об этих людях, их роли в истории русской эмиграции?
Владимир Соловьев. Ну уж нет! Это побочные, маргинальные фигуры, хотя менее всего я бы стал отрицать их публикаторские заслуги. Спасибо Ларисе Шенкер — она первой издала «Трех евреев» в своем издательстве „Word“. Нет, первым было «Новое русское слово», флагман зарубежной русской печати — они печатали этот мой автобиографический роман серийно, да еще отдельные главы Сережа Довлатов тиснул в редактируемом им «Новом американце». Да, иных уж нет, а те далече, как Саади некогда сказал, хотя в наше время коммуникационных скоростей расстояние не играет большой роли. На одной из панихид я сидел между двумя Ленами — Довлатовой и Клепиковой. Лена Довлатова мне шепнула: «Сходит со сцены наше поколение», а Лена Клепикова добавила: «Центровики ушли». И еще один корректив: я не архивист эмиграционной жизни. В моих вспоминательных книгах больше тех, кто умер в России, чем писателей-эмигре. А главное — для меня, как мемуариста-аналитика, нет разницы между живыми и мертвыми, покойники и выживаго — фигуранты моего прошлого, я извлекаю их из моей памяти. Вот почему подзаголовок одной из книг моего сериала — «Памяти живых и мертвых». Уж коли я так щедро цитирую других, то почему не самого себя? Это из «Не только Евтушенко», на выходе:
Живых людей превращу в литературных мертвецов, зато мертвецов окроплю живой водой и пущу гулять по свету. Пока пишу, живые помрут, зато оживут мертвые. Вот и меняю их местами. Увековечу тех и других. Смерть всегда на страже, недреманное око, условие существования. Книга, пропитанная смертью. С миром, с прошлым, со смертью — на «ты». Я и ты, а не ты и оно, как ошибочно полагал Мартин Бубер.
Я не биограф, а портретист — чувствуете разницу? И каждый портрет сложный и противоречивый — будь то Довлатов или Бродский, Евтушенко или Шукшин, Эфрос, Окуджава, Тарковский, Высоцкий, все равно кто! И все глазами их младшего современника. Мой метод как художника-портретиста — многожанровый, многоаспектный, многогранный, голографический, фасеточный, что стрекозиное зрение. Вот почему сквозь портреты персонажей моих книг, включая мой автопортрет, проглядывает портрет времени. Это и есть мой главный герой — Время, переставляющее фигуры моих знаменитых друзей и знакомцев.
— Ваш полный тезка, философ Соловьев написал 130 лет назад: «Дело в том, что евреи привязаны к деньгам вовсе не ради одной их материальной пользы, а потому, что находят в них ныне главное орудие для торжества и славы Израиля, т. е, по их воззрению, для торжества дела Божия на земле… Между тем просвещенная Европа возлюбила деньги не как средство для какой-нибудь общей высокой цели, а единственно ради тех материальных благ, которые доставляются деньгами каждому их обладателю в отдельности». Как бы вы сегодня проинтерпретировали это мнение?
Владимир Соловьев. Я не синагогальный иудей и не воцерковленный христианин, хотя прошел довольно сложный путь от совкового атеизма через агностицизм — типа «если бога нет, кому показывать фигу, а если он есть, зачем с ним ссориться» — к вере, но не к религии. К Библии я отношусь как к литературному памятнику — вровень, скажем, с Гильгамешем, хотя в Коране тоже есть классные суры и метафоры — ну, скажем, мост Судного дня Сират, тонкий, как волос, и острый, как лезвие меча! Будучи профессиональным эстетом, я не могу и не хочу делать выбор между Афинами и Иерусалимом — для меня и во мне они более-менее мирно сосуществуют. Однако Библия еще и история самого трагического и уникального племени, которое дало миру не просто три великие религии, но еще великую этическую систему в Спинозовом, что ли, понимании этого слова. Дело в том, что в самом биологическом составе человека понятие добра и зла отсутствует, к добру и злу человечество изначально и постыдно равнодушно — в отличие, скажем, от кошачьего мира, сужу по всем моим четвероногим, мертвым и живым. Ну да, я страстный кошатник. Как говорил мой любимый философ Шеллинг, пусть и немчура, в человеке Бог снимает с себя ответственность и возлагает ее на плечи homo sapiens. Мой тезка и однофамилец — но не полный тезка, он «Сергеевич», а я, простите, «Исаакович», хотя здесь в Америке подзабыл свое отчество, — так вот, будучи страстным юдофилом, В.С. Соловьев противопоставлял иудеев христианам не только в отношении к материальным благам, но шире и глубже, в метафизическом, гносеологическом смысле — евреи впитали этику с молоком матери, она у них в крови и во плоти, на инстинктивном и генетическом уровне. Хотя бы в силу того, что на полтора тысячелетия старше христиан, но не только. А потому я негативно отношусь к самому понятию «иудеохристианства», это оксюморон и нонсенс. Скорее уж тогда, христианство — это поздний иудаизм! Суть, однако, в том, что в нашем космополисе, в нашей глобал виллидж, числитель важнее знаменателя, а потому я воспринимаю человека на индивидуальном уровне. Могу предъявить тому множество свидетельств — от упомянутых риполовских книг моего авторского сериала до моей самой исповедальной книги «Три еврея», которая выдержала множество тиснений по обе стороны океана и которой Сережа Довлатов — это была последняя прочитанная им незадолго до смерти книга — дал обалденное определение: «К сожалению, всё правда». Так вот, там два еврея-антипода, Бродский и Кушнер, а между ними мечется их младший современник Владимир Соловьев, выбирая свою судьбу. Нет, я не о том, что еврей еврею рознь, но плохой еврей хуже плохого христианина, а хороший еврей лучше хорошего христианина. Генрих Гейне знал, что говорил: он — крещеный еврей.
— Каково ваше ощущение понятия «Русский мир» — насколько он (русский мир) присутствует в Америке особенно сейчас, когда поток иммигрантов сильно сократился.
Владимир Соловьев. Откуда вы взяли, что поток иммигрантов сильно сократился? Вот недавнее сообщение нашего Госдепартамента: в этом году 265 тысяч россиян подало заявки на получение грин-карты, а впереди еще два месяца. Будет треть миллиона, как сирийских беженцев в Европе! А сколько здесь русских с другими статусами — дипломатов, гостей, студентов, я знаю? Не только в Америке — русскоязычников много по всему миру. В третий раз побывал в милой моему сердцу Сицилии — с каждым разом наших там все больше и больше, родная речь на каждом шагу. В Америке — тем более. В Нью-Йорке куда ни пойдешь — в кино, на театральную премьеру, на вернисаж, в модный ресторан — боишься говорить по-русски на интимные темы: подслушают и всё поймут. Когда вышла первая книга авторского сериала про Довлатова, авторов разрывали на части — аншлаговые творческие вечера в нью-йоркских библиотеках, в литературном клубе на Лонг-Айленде, в Силиконовой долине в Калифорнии, где входной билет стоил 30 долларов, да сверх того покупали книги с автографами — еще 30 долларов! Замечательная аудитория — благодарная, отзывчивая, умная. Один мой московский издатель говорил, что больше продает книг за границей, чем в России, — и в ближнем, и в дальнем зарубежье. Опять-таки ссылаясь на собственный опыт, обе книги этого авторского сериала — о Довлатове и Бродском есть в магазинах не только Москвы, Питера и Новосибирска, но в Киеве и Харькове, Таллине и Ереване, Берлине и Париже, Сан-Франциско и Чикаго и, само собой, во всех книжных магазинах Нью-Йорка — проверял по Инету. Мир современной русской культуры полицентричен — в нем нет ни метрополии, ни даже столицы. Любые претензии на главенство отвергаю с ходу. Перефразируя средневекового философа Николая Кузанского, русский мир повсюду, а центр — нигде.
Интервью взяла Aнна Генова
Фонд «Русский мир». 28 октября 2015
Курсивом набран вопрос-ответ, выпавший при публикации.
Представление следующей книги
Представление следующей книги
Владимир СОЛОВЬЕВ
БЫТЬ ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ
Мое поколение — от Барышникова и Бродского до Довлатова и Шемякина
(фрагменты)
Быть Иосифом Бродским
ПОСТСКРИПТУМ
Пародия сопровождает нас до могилы — и за ее пределы. Посмертный юмор судьбы следует учитывать тем, кто печется о посмертной славе.
Приключения с телом начались сразу же после его кончины в ночь на 28 января 1996 года. Утром его вдова отправилась с ближайшими друзьями в соседнее кафе, а на дверях повесила записку с координатами этого кафе и с просьбой в дом не входить. Однако поэтесса МТ, бывшая когда-то его секретаршей, но давно отставленная и к демиургу доступа последние годы не имевшая, из-за чего была великая обида (помню ее день рождения, когда обещан был «генерал», но не явился, МТ в расстроенных чувствах, день рождения насмарку), взяла реванш и, несмотря на записку и полицейского, проникла в дом и провела у трупа полтора часа, пока не была выдворена разгневанной вдовой. Как беззащитен покойник! Если мертвому дано видеть, что творится с его телом, легко представить ужас ИБ, когда он беспомощно взирал на недопустимого соглядатая.
Что произошло за эти полтора часа между живой поэтессой и мертвым поэтом, вряд ли когда станет известно. Вариант «Нравится не нравится — спи, моя красавица» с подменой на мужской род, отпадает именно ввиду этой подмены, хотя Миша Шемякин изобразил в серии казановских рисунков мертвого сердцееда в гробу со стоящим болтом и скачащую на нем фанатку-некрофилку. Думаю, впрочем, что и треп на высокие темы, которого Марина великая мастерица, пришиб бы покойника ничуть не меньше. Как профанация.
Хождения по мукам тела великого поэта на этом не закончились. Спор, где ему быть захороненным — в Нью-Йорке или в Питере («На Васильевский остров я приду умирать…»), был решен в пользу Венеции, тем более сам возжелал, чтобы его бренные останки покоились на Сан-Микеле:
Хотя бесчувственному телу равно повсюду истлевать, лишенное родимой глины, оно в аллювии долины ломбардской гнить не прочь. Понеже свой континент и черви те же. Стравинский спит на Сан-Микеле…Венеции ему пришлось дожидаться 17 месяцев. В конце концов виза была выдана, пропуск в вечность получен, ИБ отправился в Италию. Первая неприятность произошла в самолете: гроб раскрылся. А когда, уже в Венеции, его грузили на катафалк, гроб переломился пополам. Переложенный в другой гроб, ИБ прибыл на гондоле на Сан-Микеле. Пытались было положить его в русской части кладбища, между могилами Дягилева и Стравинского, но Русская православная церковь разрешения не дала, потому что ИБ не православный. Несколько часов длились переговоры, в конце концов решено было хоронить в евангелистской части — в ногах у Эзры Паунда: два поэта, еврей и антисемит. Поверх барьеров, так сказать. Вдова, сын, близкие, друзья, роскошный венок из желтых роз от Ельцина и проч. Тут, однако, обнаруживается, что в могиле уже кто-то есть. То есть чьи-то останки. Венецианские могильщики в срочном порядке роют новую, куда и опускают на веревках гроб. Стихи над могилой, комаровские ландыши, кремлевские розы. Все расходятся. Один из провожавших (не Харон) возвращается и обнаруживает, точнее не обнаруживает гигантского венка от российского президента. Некто уже успел перетащить его на могилу Эзры Паунда. Если только не сам Эзра. Венок от Бориса Ельцина на могиле Эзры Паунда! Кощунство? Фарс? Игры покойничков? Чтобы сам Эзра спер ельцинский венок? С него станет.
Знал бы ИБ, что ждет его за гробом!
Мораль см. выше: бесчувственному телу равно повсюду истлевать.
Без всяких «хотя».
Быть Михаилом Барышниковым
КАК БАРЫШНИКОВ СНИМАЛ БРОДСКОГО
— …Ваши черно-белые фотографии. Есть замечательная — Иосиф Бродский с женой Марией. Она (фотография) широко известна, но не все знают, что вы — автор. Не во всех изданиях есть ваша, так сказать, подпись, не говоря уж об Интернете. Так вот, там есть движение…
Барышников. Они бежали за тигром.
— По другую сторону ограды… Тигр был в клетке…
Барышников. В White Оак Plantation. Там огромные вольеры, тигр терся о решетку, а Иосиф мурлыкал: «Мрау… мрау… мрау…» Сидел, наверное, минут двадцать. Потом пришла Мария, и тигр побежал. Они — за ним. Параллельно, с другой стороны, есть еще вольеры. По-моему, с леопардами. Мария смотрит на леопарда в одну сторону, а Иосиф на тигра — в другую. Я много его снимал там…
— Там — это где?
Барышников. Во Флориде. Он позвонил как-то и сказал: «Хочу оторваться от Нью-Йорка, заела работа…» Они с Марией провели, по-моему, две с половиной недели или даже три. И я с ними. У меня как раз там были репетиции… Иосиф сидел и дописывал пьесу «Демократия», переделывал ее. Вечерами мы гуляли…
— Здесь у вас в Центре висит портрет Иосифа. Расскажите о нем…
Барышников. Иосиф меня очень корил, корил без конца, что я не справляю дней рождения. Он мне всегда приносил свои книжки с надписями, а в тот раз — фотографию. И говорит: «Повесь, я хочу, чтобы у тебя была моя фотография». Или он сначала про эту фотографию спросил, что, мол, я думаю, поместить ли ее на обложку… Я сказал: «По-моему, неплохая фотография», а он говорит: «Я хочу подарить ее тебе». Мне как раз сорок лет стукнуло. Я говорю: «Только надпиши…» И он мне написал:
Страна родная широка, Но в ней дожить до сорока Ни Мыши, ни ее коту Невмоготу. Мыши — от Jozeph-а.Потому что я его звал «Jozeph». С первого дня, когда мы познакомились. Он тогда сказал: «Я очень не люблю имя Михаил, и Миша тоже не люблю, можно я буду называть вас „Мышь“»? Я говорю: «С удовольствием…» [Смеется.] А он говорит: «Вы называйте меня Jozeph…» Мы через две недели перешли на «ты»… Как-то так получилось…
Из разговора с Михаилом Барышниковым.
«Русский базар», 19 апреля 2008
Быть Михаилом Шемякиным КТО ВЫ, МИХАИЛ ШЕМЯКИН?
Неужто в самом деле — 70? Не может быть! Господи, как время летит, обгоняя нас, смертных. Мы с Вами принадлежим к прореженному войной поколению — помню наши малочисленные классы в школе. Бродский, Довлатов, Шемякин — называю центровиков. Все трое — мои земляки: сначала по Лениграду, потом по Нью-Йорку. Вы, правда, прибыли сюда из Франции, потом отбыли в свой сказочный замок в Клавераке, где мы с Леной Клепиковой у Вас гостили, а теперь вернулись во Францию, куда зовете в гости. Как-нибудь, как-нибудь — е.б.ж., как подписывал свои письма Лев Толстой: если буду жив. Недавно листал московский фолиант про Вас, там тетрадки Ваших фоток: с Ельциным, с Путиным, с Евтушенко, с Плисецкой, и вдруг вижу Вас со мной — это нас снимал Ваш друг Аркадий Львов. И подпись: «С писателем и журналистом Владимиром Соловьевым, первым написавшим в СССР о М. Шемякине в 1962 в газете „Смена“». Сколько я с тех пор сочинил про Вас — в периодике по обе стороны океана, в моих книгах. О Бродском, правда, больше, зато о Вас, пожалуй, больше, чем о Довлатове. Нас всех связывало не только знакомство и товарищество, но и принадлежность к военному поколению, которое я всегда противопоставлял шестидесятникам, а Бродский всячески от них открещивался. Какой прекрасный стих у Слуцкого про нас! Приведу полностью, потому что никто из нашего поколения — увы! — не дал более точной характеристики:
Войны у них в памяти нету, война у них только в крови, в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых. Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: живи! В сорок втором, в сорок третьем, в сорок четвертом. Они собираются ныне дополучить сполна все то, что им при рождении недодала война. Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу. Они ничего не знают, но чувствуют недобор. Поэтому им все нужно: знание, правда, удача. Поэтому жесток и краток отрывистый разговор.Мы вломились в русскую культуру, несмотря на все мыслимые и немыслимые препоны на нашем пути, которые ставили не только власти, но и наши коллеги. Помните конфликт Оси с Евтухом? Было из-за чего: перед принятием окончательного вердикта о высылке Бродского кагэбэшный босс советовался с Евтушенко, и тот подтвердил — да, он не видит судьбы Бродского в России, но просил облегчить ему выезд за бугор. Я рассказал об этом со слов Жени в мемуарном романе «Три еврея». А годом раньше — это уже с Ваших слов — генерал КГБ растолковывал Вам: «Союз художников не даст вам здесь спокойно жить». Вот почему центровики-шестидесятники — одомашненные, прирученные, лояльные, ливрейные диссентеры приспособились к режиму — или режим приспособил их к себе? — и остались в России, представляя ее «человеческое» лицо во время иностранных гастролей, а центровики нашего поколения не выдержали, и власть их не выдержала — и, отвергнув уступки и компромиссы, пошли напролом и оказались в изгнании по причине физиологической несовместимости с Советской властью.
Я бы, однако, не сводил все к политике либо идеологии. Отнесу к шестидесятникам замечательные слова Тынянова, не про них, понятно, сказанные: «Они были задумчивы. Но они еще не думали». Задумчивость перешла в думание в плеяде сороковиков и достигла апогея в лучшем из нас — Бродском.
Не хочу сводить все к поколенческому если не конфликту, то разрыву — это только знаменатель, куда важнее числитель: божий дар, который индивидуален и штучен: Бродского, Шемякина, Довлатова. Я бы добавил сюда еще одного питерца — Барышникова, хотя он чуток моложе, послевоенного разлива. И Лимонова — он Ваш ровесник и когда-то Ваш друг, пусть сам из Харькова, и сочинил о Вас пасквиль «On the Wild Side». Но кого только этот мизантроп не язвил в своих «лимонках», что нисколько не умаляет его литературный талант.
Это не диатриба одному поколению и не апология другого, нашего. Терпеть не могу групповщину и коллективную гордость — поколением, этносом или традицией, без разницы. Я сейчас о числителе, который важнее знаменателя по определению: Бродский превзошел всех своих современников не благодаря принадлежности к военному поколению, еврейскому племени, русской культуре или прививке англицкой метафизической поэзией, а исключительно по причине своего природного гения, которого тащит за собой судьба помимо или даже вопреки его воле. Или взять Михаила Шемякина, если Вы, Миша, не возражаете.
Воистину, per aspera ad astra! Из беспробудной темной ночи детства, где отец гонялся за Вами с матерью с пистолетом, а потом хватал шашку и рубил все, что попадалось ему на пути, — через исключение из художественной школы с волчьим билетом, дурдом с экспериментальным лечением, от которого шизеют, бегство от всевидящего ока гэбухи в скиты Сванетии и Псково-Печерский монастырь, служа послушником и пытаясь избавиться от фобий и страхов с помощью искусства, — к мировой славе. Вот откуда Ваши апокалиптические видения, рыла, упыри, монстры — весь жуткий паноптикум Ваших образов! Нет, не сублимация, а самопсихоанализ.
Преодолеем, однако, соблазн обратиться к дедушке Фрейду — дабы избежать упрощений и редукционизма. Ограничусь художественными аналогиями. «Ты даешь зрителю подслащенную пилюлю, — сказал Вам Эрнст Неизвестный. — На твоих картинах цвет ликует, а внутри — мрак. Если твои карнавалы перевести в черно-белый цвет — „Капричос“ Гойи получится». А мой сын, сам художник и поэт, определил Вас, как Гойю, попавшего в страну чудес.
Кто Вы, Михаил Шемякин? Волшебник Изумрудного города? Я помню нашу первую встречу в Вашем волшебном замке — боевые шрамы на лице, полученные, по Вашим словам, при сварке (а не нанесенные самолично, как утверждает в очередной своей «лимонке» упомянутый друг-враг), удивительная, какая-то детская, слегка лукавая улыбка, в зубах голландская трубка с длинным чубуком, камуфляж американских коммандос, высокие сапоги. Кот в сапогах? Окруженный оравой реальных котов и собак, Ваших любимцев, которых Вы содержали у себя в клаверакском замке и называли «непадшими ангелами» — в отличие, от падшего, человека, — а теперь перевезли во Францию. Что ни говори, все мы из одного общего зверинца, который Вы изобразили в иллюстрациях к «Зверям св. Антония» Дмитрия Бобышева, и человек в этом бестиарии такой же зверь, как все остальные: Бог творил всех по одной и той же схеме. Так что, негоже человеку зазнаваться. «Меньшие наши братья» испытывают ничуть не менее сложные и утонченные чувства, чем мы: к примеру, любимое занятие Вашего пса Филимона, склонного к созерцанию и медитации, — наблюдать закат солнца. А когда заходит речь о мощном интеллекте крыс, Вы, их изобразитель в рисунке, живописи, скульптуре и балете, не без тайного злорадства замечаете, что, повернись генетическая история чуть иначе, не человек, а крыса на каком-то ее витке стала бы венцом творения и хозяином на земле.
Странным образом Вас влечет к себе мир тлена и разрушения, и когда я Вам говорю об этом, Вы подтверждаете: в качестве художественного объекта только что сорванному с дерева яблоку Вы предпочтете иссохшее, с трещинами, как старческие морщины. «Мертвая природа» у Вас — это как бы удвоенный натюрморт, смертный предел изображенного объекта, вечный покой.
В любой жанр Вы норовите вставить натюрморт. Даже в обалденный памятник Казановы в Венеции вмонтировали мемориальную композицию с медальонами, раковиной, ключом, двуглавым орлом, сердцами и русскими надписями и назвали ее «магическая доска Казановы». Ее метафорическая и эротическая символика поддается расшифровке, но сами предметы и их распорядок на доске завораживают зрителя. Как Вы чувствуете и передаете в бронзе фактуру — кожаного кресла, черепной кости, бутылочного стекла, мясной туши, стального ножа, черствого хлеба, оригинал которого Вы вывезли из России в 1971-м и храните до сих пор, сами удивляясь, что, затвердев как камень, хлеб сохранился.
Помните, я долго не мог оторваться от гигантского натюрморта в Вашем кабинете: длинный стол, на котором в два ряда разложены медные пластины с трехмерными изображениями черствых хлебов, увядших фруктов, усохших сыров и рыб, а вдобавок еще черепа — чем не пир мертвецов? Некрофилия? Смертолюбие? Не без того. По ассоциации я вспомнил «усыхающие хлеба» Мандельштама. Ваши барельефные натюрморты — это объемные реминисценции голландской живописи, где парадоксального концептуалиста и метафориста сменяет утонченный эстет и, как бы сказал другой поэт, равный гением с предыдущим, «всесильный бог деталей».
В конце концов, я поддаюсь соблазну и, нарушая созданную Вами композицию, усаживаюсь за этот стол с некрологическим натюрмортом на нем (прошу прощения за невольную тавтологию). Вас это нисколько не смущает — наоборот! Вы тут же хватаете камеру и фотографируете меня в этом скульптурном некрополе.
Постпостмодернист, метафизик, гротескист, парадоксалист, визионер, деформатор — кто угодно, Вы одновременно также минималист: привержены старинным, музейным канонам художества, и это делает Ваше творчество уникальным в современном искусстве. Ваша любовь к фактуре, к материалу, к художественной детали, будь то цветочки на камзоле или лошадиной попоне, да еще выполненные — не забудем, в бронзе! — выдают в Вас художника ренессансного типа, как Ваш любимый Тьеполо или Тинторетто. Диву даешься, как монументалист сочетается в Вас с миниатюристом. Абрам Эфрос вспоминает, как Шагал выписывал на костюме Михоэлса перед его выходом на сцену никакими биноклями неразличимых птичек и свинок. Но у Вашего зрителя есть такая возможность — разглядеть и полюбоваться, грех ею пренебречь. Ваше искусство требует пристального взгляда.
Вот что меня сейчас интересует: есть ли перегородка в голове художника? История о том, как Леонардо-ученый подмял под себя Леонардо-художника, общеизвестна. А что отделяет Шемякина-художника от Шемякина-исследователя?
Искусство часто балансирует на границе между эстетикой и наукой. Лабораторный, расщепительный характер иных Ваших исканий очевиден. К примеру, в Вашей аналитической серии «Метафизическая голова». Рентгеновский глаз художника проникает в суть, за внешние пределы. Там, где наше зрение схватывает скользкую гладь стекла, художник обнаруживает артерии и вены, кровеносную систему бутыли. Как зеркало в фильме Кокто «Орфей», сквозь которое проникают герои в зазеркальный, посмертный мир, и мгновение спустя зеркальная зыбь стягивается, смыкает свою поверхность, подобно воде.
Редкое сочетание рационализма и вдохновения, моцартианства и сальеризма. «Он приобрел часы и потерял воображение», — сказал Флобер. А у Вас в мозг вмонтированы даже не часы, а портативный компьютер: свобода парадоксально ассоциируется с дисциплиной. «Канон — основа творчества», — объясняете Вы.
Элохимы, как известно, творили людей по своему образу и подобию. Гёте перевернул эту формулу, объявив человека творцом богов по своему образу и подобию. Дальше всех, однако, пошел Спиноза: «Треугольник, если б мог говорить, сказал бы, что Бог чрезвычайно треуголен». Так вот, подобно треугольному богу Спинозы, Ваш бог — округлый, будь то земная биосфера или свисающий с лозы кокон, женская грудь или череп. Кстати, «бога бабочек» Вы изображаете в виде чешуекрылого существа. Чем не метафора на тему Спинозы?
Пример Вашего рационально-чувственного искусства — многогрудая, безрукая, четырехликая Кибела, стоявшая, как часовой, на тротуаре перед входом в галерею Мими-Ферст и ставшая символическим обозначением нью-йоркского Сохо. Как жаль, что ее убрали!
Сама новация этой статуи — в обращении к традиции, но не ближайшей, а далековатой, архаической, забытой, невнятной, таинственной. До сих пор археологи и историки гадают, почему малоазийцы избрали богиней плодородия девственницу Артемиду, которая была такая дикарка и недотрога, что превратила Актеона, подглядевшего ее голой во время купания, в оленя и затравила его собственными псами. В самом деле, как сочетается девство и плодородие? Есть даже предположение, что три яруса грудей у Артемиды в Эфесском храме — вовсе не груди, на них даже нет сосков, а гирлянды бычьих яиц, которыми прежде украшали ее статуи, а потом стали изображать вместе с мужскими причиндалами оскопленных быков. Отталкиваясь от древнего и загадочного образа, Вы дали ему современную форму и трактовку. У Вашей Кибелы груди самые что ни на есть натуральные, недвусмысленные, с сосками, они спускаются, уменьшаясь, по огромным бедрам чуть ли не до колен. По контрасту с этими бедрами — тонкая талия, античная безрукость, юное лицо, обрамленное звериными масками. Я бы не рискнул назвать это символическим образом женщины, но скорее непреходящим — мужским и детским одновременно — удивлением художника перед самим явлением женщины: телесной и духовной, зрелой и девственной, мощной и беззащитной. Дуализм эстетического восприятия полностью соответствует здесь сложной, противоречивой природе самого объекта.
Я мог бы говорить и говорить Вам — про Вас, но пора и честь знать. Закругляюсь. Я влюблен в Ваше искусство, горжусь дружбой с Вами и еще — напоследок — нашим землячеством. Как бы нас не мотала по белу свету судьба-злодейка, мы как были, так и остались петербуржцами — в большей мере, чем русскими, иммигрантами или космополитами. Либо имя нашему Космополису и есть Петербург, самый европейский, самый нерусский город в России. Редко, когда такой локальный, местнический, почвенный патриотизм, patriotisme du clocher, патриотизм своей колокольни, так естественно, без натуги врастает в мировую культуру. Это можно сказать о Вас, о Бродском, о Барышникове, о Довлатове. В результате исторических катаклизмов само понятие «русскости» размыто. Иное дело — Петербург. Вы сами признаетесь: «Петербург воспитал меня как художника и человека». Так и есть: Питер — Ваша художественная колыбель.
Не первый раз поздравляю Вас с юбилеем. В 70 лет, когда многие художники подводят итоги, Вы работаете с молодой, жадной энергией, поражая и привораживая и завораживая своим искусством. Желаю Вам и впредь — глядеть вперед, а не назад. Короче, быть юнгой, а не женой Лота. Обнимаю.
Владимир СОЛОВЬЕВ
«В Новом Свете» (нью-йоркский филиал «Московского комсомольца») 3–9 мая 2013 г.
В одном номере со следующей публикацией. Быть Сергеем Довлатовым
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ СЕКС
Рассказ Сергея Довлатова, написанный Владимиром Соловьевым на свой манер
Названием, сюжетом, целым эпизодом и даже отдельными словечками эта история обязана Довлатову, а потому и посвящена его памяти.
Ты у меня одна.
Я у тебя — один
из целого табуна
употребленных мужчин.
Виктор Куллэя сзади подойду прикрою
ладонями твои глаза
и буду слушать грустно виктор
иван василий константин
Стишок-порошокЖенщина пришла к Конфуцию и спросила, чем многоженство отличается от многомужества.
Конфуций поставил перед ней пять чайников и пять чашек, и говорит:
— Лей чай в пять чашек из одного чайника. Нравится?
— Нравится, — согласилась женщина.
— А теперь, наоборот, лей в одну чашку из пяти чайников. Нравится?
— Еще больше нравится, — призналась женщина.
— Дура! — заорал Конфуций. — Такую притчу испортила…
На меня тут один наехал, сколько у меня мужиков было. Честно ответила: «Так это же надо сосчитать…» Так он прямо лег. А что я такого сказала? Я должна их всех в уме держать, что ли? Да еще не вечер, хоть мой бабий век на исходе, но парочка-другая, смотришь, набежит. Я — как бабочка: с цветка на цветок свежий нектар собираю.
После первого раза никогда долго не простаивала, всегда при деле, пусть я и припозднилась, уж не знаю, для кого берегла свои первины — застоялась в девках. Сколько возможностей упущено! Мне льстило, что меня кадрят и клеят, хотя не очень тогда понимала что к чему. Очень возвышенно и с оторопью к этим делам относилась. Евтушенковское «Кровать была расстелена, а ты была растеряна. Ты спрашивала шепотом: „А что потом? А что потом?“» было для меня чуть ли не откровением, а теперь — пошлая чернуха для таких вот романтических барышень, какой была я.
Нашелся наконец — слава богу! — опытный, настойчивый, предприимчивый кот, от которого я бегала, бегала, бегала, пока не поняла, что никуда мне от него не деться, да и зачем? Нет ничего прекраснее, когда в первый раз! А так бы до сих пор в девках ходила! Шутка.
А потом уж пошло-поехало — почему нет? Люблю любовь. Точнее, любви предпочитаю секс. Вот только моего первопроходца нет-нет да вспоминаю. Спустя несколько лет мы с ним пересеклись — не то. Как какой-то древний грек выразился: нельзя дважды войти в одну и ту же реку.
Что любопытно, никто из моих кавалеров замуж не предлагал — многие были женатики, а другие не хотели связывать себя: перепихнулись — и поминай как звали. Мне уже было 26 — критический возраст, учитывая скоротечность времени: жизнь проносится молниеносно, оглянуться не успеваешь. Вот тут он мне и подвернулся, мой будущий муж.
Ужасный наивняк в этих вопросах, чистый, как голубок. Врезался в меня по уши. Да и я, не могу сказать, что ровно дышала. Надоели мне все эти одноразовые случки. А этот — интеллигент, художник, хоть и абстракционист, в постели заводной, всю ночь, бывало, не смыкаю ног.
Два моих портрета написал — опять-таки абстрактных, но слегка, смутно узнаваемых. Все признали их его шедеврами, а он говорил, что это «шедевры его любви». А я так думаю, что я сама была его шедевром — так преобразила меня его любовь.
Одно жаль — ему больше, чем мне — что в смысле потомства он трудился совершенно зря: мои ранние, один за другим, аборты сделали меня неплодной. С другой стороны, это расширяло возможности для замужней женщины кайфовать на стороне. Нет, любовников у меня пока не было, но, как девушка многоопытная, я не то что грезила, а предполагала — ну, не исключала — самой такой возможности. Почему нет? Этому мешала его постельная активность — я не успевала проголодаться, чтобы подумать о другом мужике. А это уж точно знаю: чтобы возникло желание, нужна если не полная аскеза, то хотя бы крутая диета: похоть — это одиночество плоти. Как во сне жила: тихая гавань замужества, считай, второе девичество, но на этот раз бестревожное, покойное.
Если быть до конца честной, это он сам подтолкнул меня на внебрачные отношения. Если бы не та злополучная ночь, когда мы вернулись из гостей, и я ему всё выложила, по возможности смягчив инцидент, чтобы не ранить его нежную душу. Так он устроил мне скандал на всю ночь. Из-за чего? Ничего же не было.
Подрядилась тогда помыть посуду, а этот фрик от поэзии за мной на кухню увязался будто в помощь. Сразу догадалась, что к чему. Ничего против — почему не позабавиться. Да еще в легком подпитии была, а уболтать меня после нескольких рюмашек ничего не стоит. Вот тут и появился, шатаясь, еще один гость, редактор журнала с провальной челюстью, сильно под градусом, но быстро врубился, что к чему: «Продолжайте, продолжайте. Простите, что помешал».
До меня даже не сразу дошло, из-за чего мой так разошелся: что я целовалась или что целовалась с его близким, а по тем временам, ближайшим другом. Вскоре мнимые, как оказалось, друзья разбежались — неужели из-за того прерванного поцелуя, гори он синим пламенем? Идеологический окрас, под которым муж представил конфликт, уверена, не более чем камуфляж, а в основе основ — все тот же случайный, пустяшный поцелуй, который и поцелуем не назовешь. А может, и вся их компашка в конце концов распалась из-за меня?
— Ты делаешь меня уязвимым! Обнажаешь тыл! — заводился муж всё больше и больше. — И нашла с кем! Уж коли так приспичило, шпарь на панель и ищи на стороне.
— Ты, что, меня курвой считаешь? — заорала я.
Чем больше человек не прав, тем сильнее ругается.
— Не считаю. Я тебя люблю.
Когда мы начали встречаться, я рассказала ему о прошлом, но преуменьшила, конечно, размах моей женской активности, коли он придает этому такое значение — зачем зря причинять боль? А я не зациклена на правде — что еще за фетиш такой? Правда — хорошо, а счастье лучше.
Вот тут он и выпалил, что я навсегда запомню.
— Я люблю тебя такой, какая ты есть. Твое тело принадлежит тебе. А мне — во временное пользование. — И нервно ржет. — Но с моими друзьями — не моги и думать! — продолжает он всерьез.
Легко сказать, чтобы не с его дружбанами. А с кем? С замужеством у меня не осталось больше собственных знакомых. С кем еще мне куролесить или кому поведать о моих внебрачных приключениях, которые вторглись в нашу размеренную, рутинную, немного скучноватую супружескую жизнь? Ни доверенных подруг-дуэний, ни просто близких, отдельных от друзей мужа, у меня самой никого не было. Не мамаше же рассказать — та бы, конечно, словила кайф от любой моей интрижки на стороне, ненавидя, как и положено, зятя. Тем более, тот — еврей, а мамаша не без того — с тараканом в голове. Или лично в нем еврея невзлюбила, потому что среди ее подружек евреек навалом и даже бойфренд на старости лет той же породы — такие же стоеросовые, как она? А муж, как и его друзья-приятели — продвинутые такие евреи, полукровки, породненные из титульной нации, вроде меня, шиксы, а то и вовсе чучмеки. Но маманя нашу космополитную шарагу не больно жаловала и однажды, на моем дне рождения, прямо так и сказала: «Как ты можешь? Одни евреи» — и ткнула пальцем на артиста из «Современника», чистокровного армяшку. По-своему она была права. Ведь они и сами называли свою супертусу, каких в Москве тогда днем с огнем, обобщенно: Jewniverse.
Тусовочный, гламурный, элитный мир. Со стороны — оазис, но без большой любви между ними — скорее с трудом скрываемая зависть и прямое соперничество. Иногда тот, кто проигрывал другому в художествах, брал реванш у жены победителя. Распадались пары, становясь темой пересудов и сюжетом искусства. Сплетни быстро превращались в мифы.
Что далеко ходить, та же питерская компашка, хоть Бродского мы тогда недооценивали, а о Довлатове слыхом не слыхивали: 650 километров, а какой разрыв во времени! Тех же «ахматовских сирот» взять, три «Б»: Бобышев, уступая таланту и славе Бродского и весь обзавидовавшись, уломал зато его подружку Марину Басманову, хотя и уламывать, думаю, не надо было: секс — это улица с двусторонним движением, насильно мил не будешь. Настоящий мужик всегда добьется от бабы, чего она больше всего хочет. А бывает и наоборот, по себе сужу: настоящая баба и так далее. Если женщина кому не отказывает, то это она не отказывает самой себе. А ревность — негативное вдохновение, вот Иосиф и выдал с пару дюжин классных любовно-антилюбовных стишков, вместо того чтобы придушить свою герлу, как Отелло Дездемону. Сублимация, так сказать. Вся эта история докатилась до нас в первопрестольной, как пример, что такое хорошо и что такое плохо. И к чему приводит такой вот, пользуясь определением Довлатова, перекрестный секс — к великой поэзии и ранней смерти. А прикончил бы изменницу — и всех делов: мог жить и жить. Пусть поэзия и лишилась бы нескольких шедевральных стишков. А так что получилось? Триумф и трагедия. Трагедия и триумф.
А из-за океана до нас дошла совсем уж диковинная байка. Довлатов, другая будущая знаменитость, предупреждал жену, которая поддалась за бугор раньше его, чтобы блюла себя, а когда прилетел, решил, что недоблюла, и стал искать соучастника гипотетического проступка, пока не остановил свой выбор на семейном друге. И не пойдя по пути сублимации, нашел более прямой и непосредственный выход — отодрал из мести жену подозреваемого на всякий случай: квиты. Хоть и не вполне был уверен в подозреваемом. Но со всеми женами приятелей не пересношаешься, хоть там у них в культурном русскоязычнике Нью-Йорка, говорят, все со всеми спали наперекрест — с кем попадя. Сам Довлатов в этом отношении был мертвяк, все силы на водку, литературу и радиоскрипты уходили. Родная мать про него говорила: «В большом теле — мелкий дух». А та история с местью через секс кончилась тем, что муж всё разузнал и ушел из дому — семья распалась, несмотря на общего ребеночка. Да и сам Довлатов долго не протянул — хроник. Дикий мир, скажу вам. Тудысюдыкаться надо по чистому вдохновению, безо всяких там задних мыслей и сторонних привнесений. Потому и отказала мужниному сопернику, что тот из мстительности — это у него на мужа стоял, а не на меня. Сколько все-таки вокруг етья наворочено — дедушке Фрейду и не снилось!
А с тем моим кухонным поцелуйщиком и тискальщиком, из-за чего у нас с мужем ночная разборка вышла, нелепая заморочка и досадный прокол. Подумав, что коли заплачено авансом и я пострадала впрок, то имею теперь полное право, решила начать именно с него. Когда мой отъ ехал в творческую командировку, я поскучала пару дней, а потом не выдержала, набрала поэта и сначала экивоками, под видом, что значение иностранного слова выясняю, а так как он подозрительно молчал в трубке, то прямым текстом: не продолжить ли нам то, что началось тогда на кухне, но ничем не кончилось — все равно что прерванный полет, да? И представьте, нарвалась на унизительный отказ: мол, тогда он был слегка поддатый, а сейчас, будучи трезвым, извиняется за то свое недостойное поведение. Вежливо так отчитал. Удар по моему женскому самолюбию. Полный отстой.
Только повесила трубку, как звонок — тот самый случайный вуайерист, который прервал нас на кухне и из подсмотренного им поцелуя сделал вывод, что я девушка доступная, общего пользования — почему не попытаться? А я и не думала противиться — вдобавок, реванш за пережитое унижение от никакого поэта. Ну, я и позвала его, а в это время муж из командировки звонит. Скучает, говорит. Я, соответственно, тоже. И очень хочу. Все равно кого — об этом молчу. Покалякали, поцеловали друг друга в трубку. Понятно, я слегка призадумалась. В это время снова звонок — домофон. Не отменять же свиданку с редактором, если муж по мне в командировке скучает. С этого всё и началось. Пошла по рукам. Точнее, они пошли по моим рукам. Поимела всех его друзей, а заодно и его врагов — как императрица Жозефина всю наполеоновскую армию.
С каких-то пор мне стало казаться, что до моего доходить стало, но помалкивает. Он молчит — я молчу. Нормалёк. Само собой устаканится. А нет — так отобьюсь. Что для меня было как гром среди ясного неба — бунт жен выдранных мной мужиков. Хуже, чем взревновали. Устроили гнусное надо мной судилище, или, как они говорили, «суд чести», а на самом деле — суд Линча. «Я — при чем, если вы не можете ваших мужей при себе удержать?»
Бабий тот заговор кончился тем, что жены прекратили со мной знаться, объявили бойкот, о чем поспешили доложить моему мужу. Тусовочка, само собой, накрылась, к этому давно шло, я послужила последней каплей. Что мне до их мишпухи, но как мне разрулить мою семейную ситуацию? По ниточке ходим. А муж продолжает в молчанку играть. Интим между нами кончился — скучновато стало. А потом и вовсе из дому ушел. Насильно мил не будешь. Тем более, в это время я не пустовала, и у меня еще тлел не ахти какой, вялотекущий, чепуховый романчик с Владимиром Соловьевым, который и пишет с моих слов эту историю, добавляя, не знамо зачем, отсебятину. Его дело: он — писатель, я — рассказчица. А почему романчик никакой — Соловьев как врезался когда-то в свою жену-девочку, как запал на нее, так и сохнет с тех пор по ней и изменяет только по физической нужде в ее отсутствие. Вот я и подвернулась. Плюс для расширения писательского опыта: чем не сюжет для небольшого рассказа моя история?
Чем она завершилась? Могла — чем угодно: развод, самоубийство, я знаю? Извелась я тогда вся, перенервничала — всё-таки если кого я в этой жизни люблю, то только мужа: пусть не влюблена, но люблю. Остальные — перекати-поле. Да и привыкли, притерлись друг к другу — как один восточный поэт сказал, не чета нашему фрику, ресницы одного глаза. Недели три ни слуху ни духу. Ну, думаю, беда стряслась. А потом как-то утром явился притихший такой и за свою абстракционистскую работу: изголодал. А вечером, как ни в чем не бывало, ныряет в нашу супружескую постель. Дотронулся до меня — ну, чисто прикосновение ангела. Как я по нему соскучилась! И тут этот ангел как набросится на меня! Как с голодного края. А за завтраком говорит:
— Какое мне дело, что ты романишься с моими друзьями? Тем более, какие они друзья? Я тебя люблю. Почему я один имею на тебя право? Надо уметь делиться.
И заплакал.
Первый раз вижу его плачущим. По жизни сухоглаз, а тут разнюнился. Какой болевой шок испытал, бедняжка.
Я пока что угомонилась. Не знаю, надолго ли. Не помню, кто сказал, да и неважно: грех — случайность или привычка? Честно, мне с мужем хорошо, как ни с кем. На одной волне. Супер. Хотя никогда не забыть мне моего целинника. Вот когда секс был отпадный, улетный, умопомрачительный. Полный отрыв. Но разве такое может повториться?
Примечания
1
Намек на художественное творчество В. И. С.
(обратно)2
Похабщина.
(обратно)3
Сборно-раздвижная конструкция позволяет продолжить перечисление фактов по мере накопления.
(обратно)

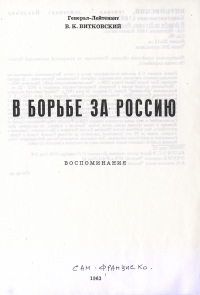

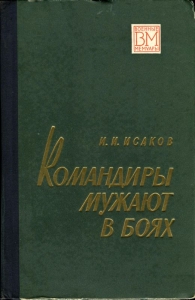
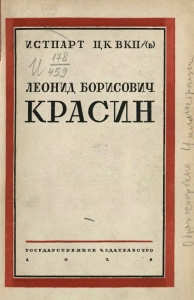

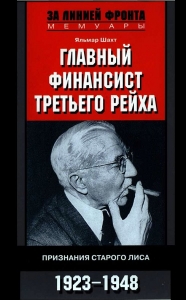

Комментарии к книге «Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых», Владимир Исаакович Соловьев
Всего 0 комментариев