АЛЕКСАНДР НОВИКОВ Записки уголовного барда
Пролог
Удивительная вещь – память. Она не умеет врать. Не носит в себе долго плохое и злое. Если не стирает совсем, то закапывает на самом дне и укрывает хорошим. Или наряжает страшное в такие наряды, что страшным это уже и не кажется. Улыбнешься, усмехнешься, нет-нет да и порадуешься, что все позади и сам это как-то пережил. Но случись писать книгу, как, к примеру, эту, – тут уже приходится в этой самой памяти покопаться. Всего прожитого в ней не сыскать, а что и сыщешь – то как обрывки, клочки, вроде записок из далекого времени, которое она уже перекрасила в пастельные тона, сточила в нем острые углы и выдернула занозы.
Когда я записывал свой «Извозчик», конечно же и подумать не мог, что ждет впереди. Но каждый раз стоя на сцене, исполняя эту песню или еще дюжину записанных в тот же год, хоть мельком, я вспоминаю что-то из этой книги. Если просят рассказать со сцены что-нибудь интересное из прошлого, хочется вспоминать только веселое. Невеселое – тоже в шутку. Но есть и такое, что никак не становится шуткой. И как его ни крути, ни укрывай добрым, ни ряди в улыбки – не рядится. А у песен такая чудная биография: и тюрьма, и слава, и гром аплодисментов, и грохот тюремных замков, и много чего еще. Не было бы песен – не было бы этой книги, которая не только обо мне, но и о времени, застывшем в ключках записок. Память их не успела стереть или спрятать далеко-далеко.
И хоть нас с песнями уже давно не называют «уголовными», пусть будет так: «Записки уголовного барда». Ради памяти.
Александр Новиков
Глава 1 Этап
Поезд вместе со «столыпинским вагоном», в котором ехал я, прибыл на станцию Першино рано утром. Процедура разгрузки вагона была обычной, к которой я уже привык. С платформы выкрикивают твою фамилию, выскакиваешь из «купе», как приказывает конвой, и бегом несешься по коридору. В тамбуре собака с конвоиром, на перроне собак кишмя, конвоя еще больше. Нужно быстро выпрыгнуть из вагона с вещами, сесть возле него на корточки, руки за голову, вещи рядом. При этом еще до пробежки по коридору из клетушки громко и отчетливо выкрикнуть имя, отчество, год рождения, статью, срок. Ошибаться нельзя. Дальше сесть по четыре в ряд, в колонну, состоящую из таких же, выскочивших ранее. Здесь и «первоходы», и «строгачи», и «полосатики». По «воронкам» всех потом рассортируют.
Очередь дошла до меня.
– Новиков!..
– Александр Васильевич, 1953-й, 93-я прим., часть 2-я, десять лет усиленного, – прочеканил я куражно и сверх– разборчиво.
– Пошел!.. – гавкнул кто-то из конвойных с перрона со среднеазиатским акцентом, и я побежал по вагонному коридору. В обеих руках «сидора», мешают, бьются о стены. Выпрыгнул и встал. На меня вытаращились все кто мог. Те, кто приехал из лагеря нас «получать», знали, что этим этапом идет Новиков. Конвой, сопровождавший нас в дороге, первым делом сообщил встречавшим об этом. Собаки рвались и взахлеб лаяли, солдаты таращили глаза. В стороне, метрах в десяти, сидела колонна.
– Руки за голову, лицом вниз! – прокричал капитан с папками в руках.
Я сел четвертым слева, руками обхватив затылок. Следующим, после точно такой же процедуры, из вагона выпрыгнул подельник Толя Собинов. Он опустился на корточки за моей спиной и проворчал свое обычное:
– Козлы. Одно и то же, блядь, чурки безмозглые.
Разгрузка шла еще минут десять. Наконец начали разгонять по «воронкам».
– «Тубиков» отдельно, их после всех. Давай «полосатых»!
«Полосатых» было двое. Один пожилой, выглядевший очень больным и слабым. Второй помоложе, поматерее.
– Давай, начальник, в натуре, вези домой, заебались по этапам гоняться…
– Сам давай, не пизди! – рявкнул капитан.
Они медленно поднялись и побрели со своими огромными котомками к ближайшему «воронку».
– Новиков!
– Я…
– В левый, быстро, на «двойку» поедешь!
– Собинов! Туда же.
«Двойка» – учреждение Н-240 – 2/2. Я с самого начала знал, что еду именно туда.
Дальше начали расталкивать остальных. Поднялся ор, лай, сплошной мат.
– Быстро, блядь, по одному, бегом к автозаку! Вправо, влево – сами знаете! Бегом, быстро! Давай, пошел! Пошел! Пошел, сука!
Через пять минут набили до отказа и поехали. Автозак, в котором ехал я, оказался относительно свободным. От силы человек десять. Можно было даже закурить. Закурили. Дымом потянуло в кабину.
– Э, ну-ка быстро потушили! – крикнул через решетку окошка конвойный.
– Да никто не курит, гражданин начальник, это с улицы, в натуре, тебе потянуло! – сказал Толя, и все заржали.
– Давай не блятуй! – беззлобно и лениво огрызнулся конвойный с тем же азербайджанским акцентом. И все опять заржали.
– Да-а… Что еще за зона эта «двойка», говорят, «красная», – начал разговор кто-то из сидящих рядом.
– У меня подельник по первой ходке был здесь. Завхозы и бригадиры рулят. Козлота, короче, заправляет, – отвечал другой.
– Да сейчас везде на усиленном так. С карантина, говорят, в СПП заставляют вступать. Кто не хочет, того, короче, на прямые работы, на разделку. А «козлам» – послабуха.
– Да ну на хуй! Это все ментовские прокладухи. Вступил в СПП, напялил ландух, поначалу, может, полегче работу дадут. А за первый же косяк на разделку загонят. А ты уже закозлил. И что дальше делать? Не, я вступать никуда не буду. Да никто не будет, – неожиданно повернулся он ко мне и добавил: – Тебя-то, Санек, они фаловать сильней всех будут. Бля буду, у них такая команда есть. К тебе братва прислушивается, а им это как кость в горле.
– Они тебе будут обезличку делать, с первого дня прессовать начнут. На тюрьме прессовали и здесь будут.
Я молча кивнул головой. Думал я сейчас не об этом. А о том, что позади всего два года, а впереди еще целых восемь лет. И жизнь свою здесь придется строить заново и надолго. Выбраться досрочно вряд ли удастся, а потому готовиться надо к самому худшему. Помощи с воли тоже не будет. Маша с двумя детьми еле концы с концами сводит. Большинство знакомых разбежались кто куда. Телефон дома молчит. А из каждой второй машины, из каждой общаги, из каждого кабака звучит «Вези меня, извозчик». Вся страна слушает и поет, а мне за него еще долгих восемь лет.
– Подельник говорил, что зона голодная, петухов на зоне человек 500, не меньше.
– А всего сколько на зоне?
– Две с половиной тыши.
– Каждый пятый, что ль?
– Да.
– Да ты погнал.
– За что купил, за то продаю.
– Эх, сейчас бы раскумариться… Начальник, подгони на заварочку.
В решетку ткнулось лицо конвойного:
– Сейщас, белят, приедем, я тебе раскумарю!
– Ну, ты в натуре жутегон!
И все заржали снова.
– Сейщас приедем, ваш пьвець на карцер пайдет с та– бой. Будете дваем напара петь, ха-ха! – развеселился конвойный.
– Ага, а ты плясать на самотыке вприсядку, – вполголоса ответил ростовским говором тот, что сидел напротив меня.
– Щьто ты сказаль?
– Да ничего. Я говорю, гражданин начальник, кто две лычки на погонах носит, тот на зоне самый блатной!
И все заржали вместе с конвойным.
Так, за неторопливой беседой, вперемешку с пререканиями, «воронок» наш въехал в зону. К самому началу начал – на вахту.
Ждать пришлось недолго. Пришел ДПНК, и началась высадка новобранцев.
Открылась дверь, всем приказали выходить и строиться возле машины.
Перед нами стоял стройный, среднего роста капитан с папками личных дел в руках. Он был весь как на шарнирах, переминался с ноги на ногу и, поигрывая сигаретой, зажатой между пальцами, приветствовал нас бодро и весьма своеобразно:
– Ну, здорово, блядь, мужики! Я сейчас буду вас выкликивать, отвечайте как положено. Я – ДПНК, зовут меня капитан Панков, погоняло у меня «Блатной», для тех, кто не знает. Блатней меня тут только хозяин и медведь. Навидался я всяких, так что блатовать при мне не советую. Ясно? Короче, мне все по хую, чуть что – сразу в трюм. Жаловаться на меня бесполезно. Лучше договариваться по-хорошему. Короче, посидите – поймете. Женили?
При этом через каждые два-три слова он вставлял еще более отборную матерщину. Но несмотря на всю его «бла– тату» и грозность речей, было видно, что человек он не злой. Просто играл как в каком-то диком театре свою роль.
Он говорил с блатным акцентом, криво улыбаясь и помогая себе очень выразительной распальцовкой. Кроме этого, находился либо в легком подпитии, либо с перепоя. Румянец на щеках и повышенные тона явно указывали на это.
– Новиков!
– Я, Александр Васильевич, тысяча девятьсот пятьдесят третий…
– Да знаю, бля. Тут тебя уже давно ждут. Я тоже иногда твои песни пою, по пьяни, ха-ха-ха! И я тоже Александр. Сашка Блатной меня зовут, понял? Но блатовать могу здесь только один я. Понял, нет?
Он красовался и рисовался перед конвойными, которые подобострастно на все его перлы кивали головами.
– В отличие от этих чурок я, блядь, по этой жизни все понимаю. Я-то здесь вырос. А эти отслужили и опять к себе урюком торговать поедут. Правильно я говорю?! – повернулся он в сторону конвоя.
– Так тошна, таварищ капитан!
– То-то, бляди.
После этого он выкликнул оставшихся и скомандовал:
– А сейчас на шмон и в отстойник. Потом вас всех переведут в карантин. А оттуда уже кого куда. Ясно? То-то.
На шмоне, к моему удивлению, у нас ничего не отняли. Просто вещи вольного образца, как то– шапку, дубленку и кроссовки заставили сдать в каптерку на хранение. Сколько времени провели мы в отстойнике, уже не помню. Помню только, что постоянно заглядывали к нам незнакомые люди в форме. По каким-то формальным предлогам, но было ясно, что приходили поглазеть на меня: что же это за диковина такая – Новиков, из-за которого столько шума и беготни?
После формальных процедур наконец «подняли на зону».
Всех повели в карантин. Карантином был отдельный барак в самом конце зоны, рядом со столовой. Как и остальные бараки, он был обнесен локалкой. Калитка была на электрозамке, возле которой стоял «черт» и открывал строго по распоряжению завхоза или, на худой конец, шныря. В центре двора – бочка с водой на платформе-тележке, точно такая же, как в фильме «Кавказская пленница», на которой Шурик с шофером Эдиком бросаются в погоню за Ниной, Трусом, Балбесом и Бывалым из дома товарища Саахова. Только покрашенная в голубой цвет и размерами побольше. В зоне не было водопровода, и пара «чертей» таскала эту бочку через всю лежневку, как пара гнедых. Единственное их достоинство было в том, что они были не пидоры – пидорам и опущенным возить воду и трогать продукты в лагере запрещено. В остальном это были полуголодные, драные, замордованные люди, с безумной тоской в погасших глазах.
«М-да, веселенькая зона», – подумал я.
Все, что я раньше слышал об этом лагере, начинало приобретать реальные очертания и походить на правду.
На календаре была весна. Апрель месяц, а весной здесь и не пахло. Небо было свинцового цвета. Солнце ненадолго появлялось и снова исчезало до следующего полудня. Ветер дул несильный, но какой-то леденящий и пронизывающий… Вокруг – болота, оттаивающие на несколько месяцев лета, после которых – опять мерзлота. Вечная мерзлота, на глубине чуть больше метра. Но сейчас я еще этого не знал. Сейчас я молча смотрел на эту пару людей, запрягающихся в телегу и по-бурлацки бредущих за водой. Ее мне с сегодняшнего дня предстояло пить.
Глава 2 Карантин
Двор карантина, обнесенный забором из железных штырей, был полностью вымощен досками, меж которыми не было ни сантиметра живой земли. Как и вся жилзона, он стоял на слоях бревен, которые настилали рядами, а затем сверху обшивали досками. Лагерь ютился на болотине, поэтому весной, когда болото оттаивало, сквозь доски проступала вода, и тогда снова клали бревна, и снова поверх них набивали доски. Иногда это делали каждый год, иногда через два. Слои тонули в топи, у которой, казалось, нет дна. Ходили слухи, что с момента основания лагеря толщина этого жуткого плота дошла до 10 метров. Вполне возможно, что за 50 лет так и было. Центральная улица – «лежневка», прямая как стрела, названием своим, вероятно, происходила от «лежащих в виде настила бревен». Лесные лагеря основывались либо на болотах, либо в непролазной чаще. Начиналось все, как в обычном городе, – с центральной улицы. Асфальта и камня не было, а чтобы «тротуар» был ровным, единственным выходом было мостить его бревнами. В углу карантинного двора стоял деревянный сортир размером с большой сарай. Вонючий и крашенный известкой. Рядом – вросшая в бревенчатый панцирь пара берез. Со стороны казалось, что растут они прямо из бревен. Весна еще не пришла, и поэтому были они голы и на вид давно отсохшие.
Двор был всегда полон народу, который по двое, по трое тусовался туда-сюда. Устраивал «терки». Кто курил, кто стоял в очередь заварить банку кипятку самодельным кипятильником. В бараке розетки не было, и все в целях пожарной безопасности было перенесено во двор. Да и потому, что народу проживало больше сотни человек – протолкнуться и так негде. Для этого на улице стоял столб, вдоль которого был прилажен провод, деревянная площадка и две оголенные розетки.
Кипятильники были зоновской конструкции. Две металлические пластины, между ними по краям тонкие дощечки или текстолитовые планочки. Все это обмотано для скрепления нитками. Расстояние между пластинами чуть меньше полусантиметра. В каждой с краю дырочка, в нее просунут и закручен провод. Что-то типа двух электродов. Другие два конца– голые, почерневшие. Их втыкали в контакты оголенной розетки, а сам кипятильник – в банку с водой. Две-три минуты – и вода закипает. Далее – кто чего желает: кто – чифирь, кто – «купец», кто – кисель.
По инструкции эти приспособления были строго запрещены, но начальство на такие мелочи закрывало глаза. Во– первых, всегда холодно. Во-вторых, всегда тесно. Водопровода нет, горячей воды нет, ни хрена нет. Поэтому, чтобы не жаловались лишний раз и не писали прокурору, на всё это смотрели сквозь пальцы. Правда, перед прокурорской проверкой из областного центра провода обрывали, водовозные телеги с бочками прятали, опущенным запрещалось даже нос высовывать. По всей лежневке, напротив каждого барака, которые тоже были обнесены стальными заборами и имели точно такие же дворы, выставляли активистов с синими «ланду– хами» на рукаве. На «ландухе» было белыми большими буквами выведено– «СПП». «Совет профилактики правонарушений». Лагерная мелкая «козлота». Состоял совет в основном из пидоров и опущенных. Были и состоящие в нем формально, даже кое-кто из бригадиров, завхозов и просто поверившие начальству, что благодаря этому членству можно освободиться досрочно. Были, конечно, всякие. Но вдоль лежневки стояли в основном пидоры. Те, которые чистили сортир, двор и убирали барак. Этим было уже ничто не за– падло. Да их никто и не спрашивал. Альтернатива простая – или на лежневку, или отпинают все внутренности. И не дай бог пожалуешься приехавшему прокурору. Прокурор уедет, а всех жалобщиков начальство загонит в «трюм» без вывода на работу. А там – вообще петля. По выходу же из трюма в бараке ждет другой суд. Завхозу и бригадиру от начальства за жалобу влетит, поэтому бить будут беспощадно. После этого даже просто выжить – большая проблема.
В карантин мы шагали без особого энтузиазма, но порядок есть порядок. Вместе со всем прибывшим этапом ввалились в этот самый двор и прошли в барак.
Встретил нас завхоз по фамилии Чистов, по кличке – «Кит». Дядька в годах, очень приветливый и радушный. Он уже знал, кто я и кто со мной – в лагере новости разносятся мгновенно. Место в бараке он мне определил несравненно лучшее, нежели другим, – в самом дальнем конце. Здесь как и в тюрьме: чем дальше от дверей, тем козырней.
Бросили на койки матрасы, распихали барахло по ящикам. Сидим, потихоньку осматриваемся. Входит Чистов.
– Здорово, мужики. Наслышан, наслышан. Александр, чего сидите, заходите ко мне, чайку попьем. Расскажете, чего хоть в мире делается.
Жил он в отдельной комнатушке – очень большая по лагерным меркам привилегия. У него была плитка, посуда, телевизор. Кровать с панцирной сеткой. Для лагеря тех времен – довольно круто. Было видно, что в глазах лагерного начальства он фигура заметная. Да и просидел уже больше 10 лет. Этот знал про лагерь все.
Заходим, садимся. Лагерь штука коварная. Всегда надо присмотреться. Тем более мы в лагере первый раз. Тюрьма – тюрьмой, а лагерь – совсем другое. Следственный изолятор– это, если так можно сказать, подготовительные курсы. А здесь уже все по-настоящему – другой мир. Со своими законами, традициями, жесткой иерархией и подводными течениями, которых тот, кто не сидел, никогда не разберет, не поймет и, случись попасть сюда прямо с воли, может наступить на такие грабли, которые перечеркнут всю его лагерную биографию.
Чистов как опытнейший зэк, отсидевший долгий срок, тоже осторожничал и в разговоре начал тонко прощупывать, кто мы и что у нас на уме. Характер, материальное обеспечение, профессия, бойцовские навыки. В лагере нет мелочей. А уж эти вещи тем более важны.
Более всего интересовал его, конечно, я. Толю он спрашивал как будто из вежливости. Но и в его ответах он пытался уловить то, что на словах не говорится.
– Как добрались-то? Этапом много вас пришло?
Он прекрасно и одним из первых знал, сколько нас пришло – на то здесь и посажен. То, что он напрямую работает со штабом, объяснять нам было не надо, но не говорить ничего о себе было нельзя. Нужно было заводить знакомства, связи. Иметь хотя бы первое представление о том, каков этот лагерь. Поэтому беседа завязывалась поначалу «о погоде».
– Человек десять, – ответил я.
– Вы оба из Свердловска?
– Нет, Толя из Уфы.
– Короче, мужики, я вам объясню, как себя вести, что за зона. Что можно, что нельзя. Вы, главное, пока никуда не лезьте, присмотритесь. Что непонятно – спрашивайте у меня.
– Да мы не лезем. Сколько нам здесь в карантине сидеть?
– Неделю, может, две. Сейчас ваши личные дела пробивают. Потом будет распределение по бригадам. Профессии какие есть? Права есть? Может, корочки электрика, тракториста?
– Нет, откуда, – улыбнулись мы.
– Жаль, без профессии всех гонят на прямые работы, на разделку. Но тебя, Александр, наверное, в клуб заберут. В клуб пошел бы? Будут фаловать в СПП – не соглашайся. Скажи, мол, поживу, осмотрюсь, потом решу. В быковую не отказывайся. На распределении все кумовья сидят, хозяин, зам. по POP и отрядники. От них все и зависит.
– А где хуже всего?
– Хуже всего в 101-й бригаде и в лесоцехе. Там, если захотят, любого за месяц уморят.
– А лучше всего?
– Везде хуево. В жилзоне, конечно, получше: библиотекарем, нарядчиком, завклубом, в ПТУ кем-нибудь… Ты ж не пойдешь шнырем? – сказал он и, улыбаясь, посмотрел мне в глаза.
– Нет, конечно.
– Да, шныревкой – тут желающих до хрена и больше. Как зима настает, мороз минус пятьдесят, так тут ломятся и в шныри, и в водовозы, лишь бы в тепло. Лишь бы выжить.
– Я, в общем-то, слышал.
– Ты такого, Санек, не слышал. Это страшная зона.
Он вдруг замолчал, поднял на меня глаза и прямо в упор
повторил уже совершенно другим тоном:
– Страшная…
Пробежал холод, и на душе стало тоскливо и тревожно. Теперь это надолго. И по-настоящему. Это уже не из рассказов Варлама Шаламова и Солженицына. Это все теперь «в натуре на собственной шкуре». Восемь лет… И надо выжить. И не просто выжить – прожить достойно. А главное – выйти. Хотя до этого еще ой как далеко.
Чистов прочитал мои мысли. В лагере все, кто просидел больше пяти лет, читают по глазам и по таким мелочам, которых на воле просто не замечают. Мы молчали.
– Курите, мужики. – Чистов пошарил по карманам, выложил на стол пачку сигарет с фильтром и начал рассказывать.
Глава 3 Мясорубка
Эта зона всегда негласно называлась «мясорубка». Сюда мутноголовых, тяжелостатейников со всей страны свозили. Сейчас, правда, уже не то, что десять лет назад. Но я еще застал. Раньше шесть лет здесь самый малый срок был – в основном от десяти до пятнадцати. Я застал еще людей – четвертаки добивали. Раньше полный беспредел был: то черная зона, то красная. Резня, поножовщина, бунты. Сейчас другой беспредел. Сами скоро увидите. Людей тут ломают как спички. На моем веку такие росомахи были, по полсрока, по десять лет блатовали, а на одиннадцатый – вдруг в пидорах оказывались. Вон, Коля Фиксатый червонец отмотал, с блатными весь срок откантовался. А потом в карты проигрался в хлам. Ответить не смог, рассчитаться тоже. Опустили. Так с петухами срок и добивал. Здесь хуй кто поможет. За карты, мужики, не беритесь – дохлый номер.
Да что – Фиксатый… Были еще. Один, не помню кликуху, проиграл – ему постановку сделали, так он, короче, в запретку ломанулся. Его с вышки чурка застрелил. Одно, в натуре, хорошо – мужиком актировался. Да это место тут рядом. Старики его еще помнят.
– А ты сам-то за что? – спросил я, – срок-то у тебя немалый.
– Да-а, это дело мутное. Короче, потом как-нибудь расскажу. По приговору – одно, а в натуре – совсем другое. Давай вечером заходи, после отбоя, посидим, поговорим. Я тебе кое-что посоветую. С бригадирами перетру кой чево. А пока пойду, мне тут надо в одно место, ручки шлифануть.
Мы встали и вместе с ним вышли во двор. Во дворе была сцена.
– Ты, крыса ебаная, заворачивай плавней, разольешь всю воду, сука!..
Шнырь подлетел к въезжавшей во двор бочке с водой и с размаху несколько раз ударил по загривку одного из водовозов. Тот покорно съежился и после каждого удара повторял:
– Серега, прости, все понял… Прости, все понял…
– Давай, пошла, крыса! – крикнул шнырь и, повернувшись к стоящему у входа в локалку, добавил: – А ты что ебало разинула, гидра?! Давай на скороту ворота закрывай, животное!
Тот бросился бегом.
Шнырь определенно рисовался перед завхозом Чистовым. Рыл землю копытами. Шныревая должность в лагере считалась в некоторой степени «западловой», и его могли в любой момент за провинность списать на прямые работы – обычно в лесоцех или на разделку. А там обязательно ждало самое тяжелое рабочее место. Мужики его к себе близко не подпускали. С пидорами тоже никак нельзя. Поэтому, как на фронте, приходилось искупать неудавше– еся шныревство кровью и ударным трудом. Некоторым, правда, удавалось вернуться на прежнее место. Обычно это бывало, если на свидание привозили хороший грев и пару сотен рублей. Грев завозился через бригадира, деньги – тоже. У него они и оставались.
А платой за это было ходатайство перед отрядником о том, что человек исправился и что шнырем, мол, был незаменимым. Бригадир делился гревом с завхозом, завхоз – с отрядником, и вопрос решался. Проще говоря, завхоз и бригадир – самая важная пара при решении любого вопроса. Отрядники многого не знали. А если и знали, то, конечно же, с их слов. Потому все кадровые назначения производились по мнению этой лагерной элиты. Шнырем в зоне человек становился всего один раз. Дальше ему постоянно приходилось рвать когти, гонять пидоров на чистку сортира, стучать, шарить и докладывать о том, что услышал и увидел: у кого деньги после свиданки, кто жалобу по ночам пишет, кто кого имеет, кто на кого зуб точит. И, разумеется, насмерть хранить бригадировы и завхозовы тайны. Тайны, иногда превеликие и страшные. Которые, если и рассекречивались, всегда сопровождались крушениями человеческих судеб и лагерных биографий.
Бывали, конечно, более или менее приличные и порядочные по лагерным меркам шныри, но редко, да и то где– нибудь и когда-нибудь…
Телега с бочкой наконец въехала во двор и остановилась в центре. Конструкция этого транспорта позволяла хорошую маневренность и легкость в управлении. Просто до гениальности. Низкая платформа, к переднему краю которой приделана оглобля, заканчивающаяся поперечиной – большой буквой «Т». С каждой стороны оглобли становился человек, руками держа свою половину поперечины и налегая грудью, тянул всю телегу, посреди которой стояла огромная бочка. Никакой упряжи. Быстро запряглись, быстро распряглись. Живая картина «Бурлаки на Волге». К моему удивлению, никто не обратил на эту сцену ни малейшего внимания.
Тихо подошел вечер. Я сидел на кровати, перебирал свои пожитки, когда в барак вошел крепкий и довольно рослый парень, огляделся и направился прямо ко мне. Одет он был в черные брюки, черную куртку незоновского образца, под которой была тельняшка десантника. Вместо сапог на нем были какие-то ботинки непонятного производства.
Весь лагерь, за малым исключением, был одет в сапоги, поэтому такая форма одежды сразу же бросилась в глаза. А уж тельняшка – тем более.
Он подошел ко мне и спросил просто:
– Ты – Новиков?
– Я.
– Давай познакомимся. Меня зовут Мустафа. Марат Мустафин. А так для всех – Мустафа. Я здесь в клубе библиотекарем. Выйдем на улицу, – сказал он и многозначительно обвел глазами барак.
Мы вышли. Мустафа не курил, и по его телосложению и рукам было видно, что он более тяготеет к спорту, к кулачному бою, нежели к вредным привычкам. Тельняшка ему очень шла. А кроме всего, она красноречиво говорила о его немалых лагерных привилегиях и иерархическом положении.
– Как устроился? Как Чистов встретил?
– В общем-то, хорошо.
– Ты с ним сильно не откровенничай. Он крученый. В общем-то, мужик неплохой, но мало ли…
– Да я особо ничем и не делился.
– Я с ним сейчас поговорю, чтоб после проверки тебя втихаря в клуб отпустил. Там спокойно. Если сейчас пойдешь – сдадут вмиг. Тут все сдается. Ползоны на штаб работает. Мне тоже кое в чем приходится, но по другой части. Я никого не сдаю – мне не нужно. Короче, вечером встретимся, все расскажу.
– А ты сам откуда? – поинтересовался я.
– Из Верх-Нейвинска. Закрытый город, ты наверняка знаешь.
– Даже бывал не раз.
– У нас с тобой общие знакомые есть.
– А кто?
– Потом. Давай долго тусоваться не будем, а то до штаба слух раньше времени дойдет. За тобой пасут. Я сейчас на минутку к Чистову забегу, договорюсь, а вечером, как стемнеет, за тобой приду.
Он повернулся и быстро вбежал по ступеням в барак.
Через несколько минут вышел, довольно улыбаясь. По пути кивнул мне – все в порядке.
На проверку вся зона, две с половиной тысячи человек, выходила поотрядно от своих бараков строем по четыре в ряд. Вначале толпились во дворе. Затем всех пересчитывали. Если количество не сходилось, шнырь бегал, искал. За бараком, в сортире, под лестницей, под кроватями, на кроватях. Отряд – сотня человек, а то и более, в это время стоял и ждал. Если присутствовал начальник отряда, за опоздание можно было тут же угодить в карцер. Прямо с проверки. Если все сходилось, ворота распахивали настежь, отряд выходил на лежневку и строем шагал на плац.
Карантин на проверку не ходил и поэтому наблюдал за всем шествием сквозь прутья забора.
Первыми в строю шли «петухи» и «черти», застегнутые на все пуговицы, строго по четыре в ряд – не дай бог сбиться. Их было видно сразу: драные, грязные, некоторые разукрашенные фингалами. Далее – чертова– тые мужики, потом – просто мужики. И в самом конце – блатные. Мужики – так-сяк. Блатные – в расстегнутых телогрейках, руки втянуты в рукава, вразнобой в конце строя. С шутками, прибаутками, с сигаретами в ладони. А кто и вовсе – в зубах. Фуражки особого покроя, высокие, держащие форму, с козырьками. От тех казенных, что выдавались в каптерке и которые положено было носить, они отличались как небо и земля. В казенные были одеты только петухи и черти. Называлась такая фуражка по-лагерному «пидоркой». Должен сказать – не зря. На кого ни надень – именно таким он сразу и покажется. Не припомню на своем веку ни одного головного убора, который бы так скотинил человека. К слову сказать, «пидоркой» он зовется во всех лагерях страны и по сегодняшний день. Устоявшееся, обычное название, такое же, как на воле – «шапка». Поэтому все, кто имел возможность, шили фуражки втихую на заказ. Начальство их иногда снимало, но в основном с тех, к кому нужно было придраться. А большей частью закрывало на все глаза.
Первые ряды шли в «пидорках», натянутых на лоб. Последние – в закинутых на затылок фуражках, которые, кстати, тоже назывались «пидорками». Но уже с другой интонацией. На воле так носят фуражки дембеля, когда едут после службы домой – куражно, небрежно и торжественно.
Гремя сапогами, отряд за отрядом тащился на плац, со стороны которого доносился звук незнакомого марша в исполнении лагерного духового оркестра. Точнее, чего– то, отдаленно напоминающего духовой оркестр из моего раннего детства, состоящий из только что записавшихся в духовой кружок дворца пионеров. На слух казался группой из трех, может быть, четырех инструментов – большого барабана, баритона, трубы и еще чего-то. Как только он «грянул», я почему-то вспомнил песню «Похороны Абрама», и как живые предстали перед глазами все участники той записи 1984 года – сводный оркестр с двух кладбищ города Свердловска. Однако по сравнению с теперешней четверкой те были просто Большим Лондонским оркестром. Виртуозами с абсолютным слухом. Потому что эти играли такую какофонию, от которой можно было не только «получить рак уха», но и облысеть. «Оркестр Дюка Эллингтона, перекусанный энцефалитными клещами» – классифицировал я для окружающих этот неординарный коллектив. Впоследствии при визуальном знакомстве все оказалось еще хуже.
Когда за поворотом скрылся последний строй, в той части лагеря, где был наш карантин, стало необычайно тихо. Двое в форме пересчитали нас по головам и удалились.
На мир спустилась вечерняя тишина. Я вдруг вспомнил фильм «Калина красная». «Вечерний звон, вечерний звон…» Вот оно откуда. Как точно эта мелодия, эта песня передает настроение, которое накатывает только в неволе. Эту бездонную грусть, тревогу, предчувствие беды, сквозь которое стреляет молния дикого желания вырваться отсюда.
А как? Никак. Может быть, чуть пораньше?.. Может – не до звонка?.. Ах, воля, воля, все отдал бы.
«…Как много дум наводит он…»
Вот они идут строем. Все разные. Все расставлены по своим ступеням. Кем на воле были и кем здесь стали? Ходили, бегали, пили, хохотали, разбойничали, грабили, воровали, убивали… Бравые, легкомысленные, неуловимые. И вдруг угодили сюда. В «мясорубку». А здесь все по-другому. Здесь предстоит рассортирована. Лестница жестокая. На ней или стоять на занятой ступени, или подниматься вверх. Стараться подниматься. Или просто стараться стоять. Желающих сбить тебя с этой ступени будет много. И каждый час, каждый миг надо стоять. Шаг вниз – и начнут сталкивать еще ниже. Тогда держись хотя бы за эту. Потому что следующая будет еще хуже. И удержаться на ней еще труднее. Чем дальше вниз – тем быстрее. Чем быстрее – тем труднее держаться. А внизу – «курятник». Черти, петухи, пидоры. Внизу – лагерный ад.
«…Как много дум наводит он…»
Я ходил по двору из конца в конец молча и бессмысленно, думая сразу о многом, дожидаясь, когда же, наконец, закончится проверка. Чтобы встретиться с Мустафой, чтобы иметь хоть какую-то ясность и представление о том, куда я приехал.
Мустафа почему-то показался мне наиболее порядочным из всех, с кем довелось в тот день встретиться, несмотря на его библиотекарскую должность. Ничего себе – библиотекарь! Кулаки по чайнику, центнер весу. И лицо доброго костолома.
Если на воле сейчас расставить таких библиотекарей, люди читать перестанут.
А вообще, главное – узнать побольше о лагере. По этапам нарассказывали всякого. Нужно разбираться, где правда, где брехня.
Издалека послышался стук шагов первого выходящего с плаца отряда – проверка закончена. Я вернулся в барак, лег на нерасправленную койку и стал ждать.
Время подходило к полуночи, когда в барак протиснулся шнырь. Бесшумными шагами он пролетел к моему месту, наклонился и, прикрывая ладонью рот, прошипел:
– Александр, не спишь?.. К тебе пришли.
Он вытянулся, огляделся и, наклонившись, добавил еще тише:
– Мустафа.
И так же быстро удалился.
Молодец Мустафа, сдержал слово, отметил я про себя. Хотя в том, что именно так и будет, не сомневался.
Встал и тихо вышел. У калитки, держась рукой за электрозамок, стоял все тот же шнырь. Улыбаясь, он угодливо нажал кнопку, замок щелкнул, дверь открылась. На пустой и гулкой лежневке стоял Мустафа.
– Пошли быстро, пока какая-нибудь блядь не сдала.
Мы молча пошли в ту же сторону, куда два часа назад
отряды шагали на проверку. Клуб был прямо напротив штаба, по другую сторону лежневки. Пока шли, Мустафа шепотом проводил краткую экскурсию, оборачиваясь через плечо:
– Сзади – столовка. Ты знаешь.
Идем дальше. Метров через тридцать:
– Справа – школа. Дальше справа – больничка. Слева – бараки отрядов. Вот это 10-й – самый поганый.
Там бригадир, Захар, конченая мразь. За больничкой – штаб, напротив – клуб. Нам сюда. С заднего хода зайдем, чтобы Загидов не слышал. Это завклуб. Услышит – точно сдаст. Я с ним потом договорюсь.
Обошли клуб с обратной стороны. Тишина, никого. Мустафа открыл ключом висячий замок на двери заднего хода, и мы очутились в деревянном и затхлом предбаннике. Было полное ощущение, что я попал в дровяник, следом за которым находится хлев.
Мустафа будто уловил мои мысли и иронично заметил:
– Не Кремлевский дворец, конечно… Зато здесь никто не кантует.
Он открыл еще одну дверь, и мы двинулись по коридору.
– Пойдем в художку, в библиотеке стремно – окна на штаб выходят.
Перед дверью, за которой была эта самая художка, вдоль стены стояли какие-то стенды и плакатные щиты. Вероятно, свежеизготовленные, выставленные на просушку. Картин я не заметил.
Вошли. На кровати в дальнем углу сидел широколицый, добродушного вида парень. Все было вокруг заставлено рамами, планшетами. Кровать была вплотную придвинута к стене, а перед ней стоял письменный стол. Пахло красками и едой. Парень быстро встал с кровати, вышел из-за стола и протянул мне руку:
– Файзулла.
На нагрудной бирке было выведено красивым шрифтом: «Ильдар Файзуллин, 1 отр.».
– Файзулла. Тоже татарин, – отрекомендовал Мустафа.
– Да тут все в клубе татары: завклуб – татарин, библиотекарь – татарин. А я наполовину башкир, ха-ха-ха, – засмеялся он.
– У-у, жаба!.. – беззлобно отреагировал Мустафа и, замахнувшись над головой Файзуллы огромным кулаком, продекламировал что-то по-татарски. Понятно было, что это отборная, татарская ругань. Но не злая, а шуточная и по-лагерному театральная. Закончилась тирада одним выразительным, протяжным словом, произнесенным в нижнем регистре:
– Бо-о-ка-а!
Повернувшись ко мне, Мустафа перевел:
– Жаба.
В ответ Файзулла разразился не менее красочной тирадой на башкирском, в котором слово «бока» с различными прилагательными повторялось несколько раз.
Далее еще что-то вроде перебранки на обоих языках, чередуемой отборным русским матом. И в конце – резюме Мустафы:
– Давай чай ставь, жаба! Да жратву доставай. У-у-у, харю-то наел!
– А сам-то, ха-ха!..
– Не обращай внимания, Александр, это мы всегда так. Завтра, если увидишь Загидова, послушаешь, как тот нас с Мустафой кроет.
– Да, Загидов – конченый. Хитрый татарин, – улыбнулся Мустафа. – Представляешь, три татарина в одном клубе. И все – хитровыебанные.
– Это вы – хитровыебанные. А я нет, я нормальный! – уже в голос смеялся Файзулла.
«Да, в клубе жизнь совсем другая. Веселая контора, – подумал я. – Отдельное государство. Своя конура, плитка, койка, телевизор, книги. Здесь и срок летит быстрее».
Файзулла засобирался, накинул телогрейку.
– Я сейчас, быстро, до столовой добегу, возьму чего– нибудь пожрать.
– Тушенки попроси и хлеба белого! – вдогонку ему крикнул Мустафа.
– Говна на лопате, – ехидно огрызнулся тот в ответ и, хихикнув, вышел.
– Мы про запас тут ничего не держим – придут, вышмо– нают. Они только и ходят, рыщут, где чего пожрать найти.
– Кто?
– Менты, кто. Голодные тоже бывают, или закусить нечем. Наши-то прапора – еще ладно, эти нас знают. Мы их тоже всех знаем. А если из батальона шмон, то все метут. Солдат в батальоне еще хуже зэков кормят, бля буду. Такая же перловка, такая же треска пересоленая. Они иногда прямо на шмоне, когда по баракам идут, конфеты из тумбочек жрут. А в столовке с завхозом у нас все правильно. Файзулла ему кое-что из ширпотреба делает, наборы кухонные или еще что-нибудь. Я книги даю хорошие, если надо. Ну, а он, соответственно, насчет пожрать не отказывает.
– А шмоны часто?
– Нет. В основном если кто-то с водкой спалится или загасится какой-нибудь петух в рабочей зоне в штабелях. Бывает, что боятся возвращаться в жилзону.
– А почему боятся?
– По-разному бывает. Скрысил чего-нибудь или сдал кого-нибудь, а люди узнали. Вот и боится, что ночью в бараке в каптерке выебут или запинают. Что, не знаешь, как делается?
– Да знаю, конечно.
– Может, с крытым пидором жил в одной семейке, не знал, что того втихаря или завхоз, или бригадир нанизывают. А потом ему масть вскрыли. И все. Вся семейка – в петухи. Вот и боятся в жилзону идти, в изолятор закрываются. Просят в другую область перевести. А хули в другой области? Все равно рано или поздно узнают. Не дай бог еще кого-то так же зафоршмачили – вообще убьют. Но отсюда никого никуда не отправляют. Здесь конечная станция. Мясорубка.
Опять прозвучало это слово.
– А откуда оно пошло это название – «Мясорубка»?
– Давно его приклеили. Лагерь в 37 году основали. В следующем году – юбилей – 50 лет будет. Замполит Файзуллу уже загружает потихоньку на эту тему, мол, надо стенды сделать. Музей боевой славы местных ментов, короче говоря. А что «Мясорубка», так когда на производство выйдешь, на разделке пару-тройку дней повкалываешь или в лесоцех зайдешь, сразу все поймешь. Не-е, на разделку тебе нельзя. Я попробую поговорить с замполитом, может, пристроим тебя в хорошее место. Пока на производстве, а там потом в клуб переберешься. Загидов на следующий год освобождается.
– Я завклубом вряд ли когда-нибудь буду.
– Должность, конечно, козья. А что делать? Здесь вся зона – козья. Вся – красная. Блатные есть, но какие это – блатные? Кого старшаком назначили, кто просто блатует, мужиков бьет, за себя работать заставляет. В каждой бригаде по-разному. Есть несколько нормальных мужиков, хоть и в бригадирах, но при понятиях. Я тебе их потом покажу, познакомлю. Самая конченая мразь здесь – Захар, бригадир 101-й бригады. Конченая мразь. Сидит уже лет двенадцать. Девочку пятилетнюю изнасиловал и в колодец бросил. Живую. Потом ходил, мразь, несколько дней слушал, стонет она или нет. Так вот эту тварь хозяин поддерживает, потому что бригада план тянет. Основная бригада на разделке. На все его дела глаза закрывают. Хотя хозяин полковник Нижников – мужик хороший. Его и вольные, и зэки, и менты – все здесь уважают. Сказал – отрезал. Мужик суровый, но справедливый. Ему нет разницы: мент ты или зэк. Провинился – получи. Он и отрядников кой– кого бил у себя в кабинете. Шнырь штаба рассказывал. За пьянку, за то, что деньги у кого-то из зэков вымогал. Да… Загнал к себе в кабинет и начал пиздить. А тот: «Александр Николаич!.. Алекандр Николаич!.. Простите!.. Не губите!.. Извините!.. Осознал!» Крысы ебаные, хе-хе. Погоняло у него – «Сохатый». Он точно, когда идет по бирже – как лось. Шаги широченные, высокий, прямой. Да еще папаха. Бабы тут по нему на воле сохнут. Каждый день пять километров кросс бегает и двадцать раз на перекладине подтягивается. Не пьет, не курит. А самое главное – взяток не берет. Остальные с обеих рук берут. Кто чем. Кто ширпотребом, кто со свиданки, кто с родственников.
– Я, кажется, видел его. Когда нас только привезли, в зону проходил высокий полковник.
– Да, это он. Он один здесь полковник. И один – высокий. Скорее всего, вызовет тебя еще до распределения.
– Было бы неплохо. Хоть знать, чего ждать. У меня же в личном деле всего понапихано: и карцер, и связь с вольными, и «склонен к побегу».
– Конечно, тебе лучше с ним поговорить, чем с отряд– никами. Из них половина алкаши, половина идиоты. А оставшимся – все по хую. Они здесь такие же зэки. Кто пенсии ждет, кто свалить отсюда мечтает. Здесь что – болота, комары. Тоска. Дно. Конечная станция.
В разгар беседы вернулся Файзулла. За пазухой он держал большой сверток из газеты. Тихо вошел, закрыл дверь на ключ и довольно потер руки. Затем извлек из него две банки тушенки, хлеб, десяток картофелин и несколько луковиц.
– Так, мужики, нас сегодня неплохо подогрели. Зав. столовой сегодня в ударе, хе-хе. Правда, просил ему пару кухонных наборов нарезать. Потом нарежу.
– Ну, давай, Файзуллина Петровна, свари-ка нам пожрать, – начал опять куражиться Мустафа, – да поживей, ха-ха…
– Да тебя хуй прокормишь! – в тон ему ответствовал Файзулла, ныряя в глубь шкафа за кастрюлей.
– Вот это правильно.
Кастрюля была запрещенным предметом, поэтому ее приходилось прятать. Внешне она была мятой-перемятой, с единственной ручкой. Крышка и того хуже.
– Была нормальная кастрюля. Вышмонали, крысы, в этом месяце. Только жратву сварили, они тут же на запах прибежали. Так, вместе с кастрюлей, все и унесли. Вахта здесь рядом – они запах быстро чуют. Я говорю: «Хоть еду– то оставьте». «Нет, – говорят, – собакам на вахте скормим». И что ты думаешь? Все спороли, а кастрюлю Круть– Верть себе домой унес.
– А кто это – Круть-Верть? – поинтересовался я.
– Да прапор на вахте. На шмоне всех крутит: «Лицом ко мне… Спиной ко мне». Тупорылый такой. В его смену лучше через вахту ничего не проносить – он нутром чует. Бывает, доебется до кого-нибудь: круть – верть… встать – сесть… одеть – снять… Конченый. Такого тупорылого на всем Ивделе нет.
– А зовут как?
– Да хуй его знает. Азер по национальности. А зовут… да Круть-Верть и зовут.
– Тут самый хороший – это Шура Блатной, ДПНК. Панков фамилия. Этот хоть орет, матом ругает, но никогда у зэка последний кусок не отнимет. Он в принципе мужик нормальный. Не со всеми, правда. Но с ним всегда можно договориться. Если ему чего надо, сам всегда подойдет, спросит, в чем нуждаешься. А эти крысы – прапора, сначала что-нибудь вышмонают, потом за твои же вещи у тебя же и вымогают. То денег дай, то набор, то картину нарисуй, – неожиданно загорячился Файзулла.
– Да, знаю, он нас встречал. Видно, что он не злой, просто напускает жути.
– Вот-вот. Он и бухой бывает на дежурстве. Но его никто не сдает. Потому что он сам зэков редко когда сдает. Если уж накосячил крупно или нагрубил ему, тогда может, – добавил Мустафа.
– Это что. Тут вот есть подполковник Дюжев. Жирная такая свинья. Этот никогда не орет, всегда на улыбочке, на любезностях. Говорит, лыбится, сочувствует, головой кивает, а в конце разговора – раз, постановление на десять суток карцера. Вот если этот тебя, Александр, вызовет, с ним нужно осторожно. По его роже не поймешь, что он задумал. Нижников его не любит. Но у него, говорят, в управлении кто-то из родственников, поэтому плотно сидит в замах.
– Его тут все ненавидят, а что толку?
– Он Файзуллу несколько раз в трюм сажал. Сан Саныч, правда, доставал оттуда к вечеру, но все равно.
– Сан Саныч нам вроде как пахан. Клуб – его вотчина. Он замполит, а Дюжев – зам. по режиму. Оба – замы. Кто до нижниковского кабинета раньше добежит, ручку шли– фанет – тот и прав! Хе-хе…
– Между собой не ладят, но с нами борются сообща, – подвел черту Мустафа.
Тем временем Файзулла почистил картошку, скинул ее в кастрюлю и полез под кровать за плиткой.
– Плитку тоже периодически при шмонах отбирают, – сказал он, сдувая с нее пыль, – но тут без плитки – никак. Чем. например, сушить планшеты? Отнимут – что делать? Приходится идти к Сан Санычу. Тот звонит на вахту. Иду, тащу обратно. Эта плитка где уже только не перебывала.
– Самое главное, что она им на хуй не нужна! Одни приходят, забирают – их жаба давит, что мы тут не голодные. Другие – чтобы потом вымогать что-нибудь. Дюжев приходил несколько раз – сам лично забирал. Представляешь, подполковник, зам. начальника, по колонии ходит, плитки собирает. Лично.
– Это чтоб на Филаретова хозяину капать. Мол, вот, в клубе бардак, грев туда завозят, целыми днями не работают, только жрут…
– Здесь в зоне все поделено, – начал объяснять Мустафа. – Производство, лесоцех, разделка – это вотчина Нижникова. Он любого зэка в зоне знает по фамилии, в лицо и в какой бригаде работает. У него память как компьютер.
У Сан Саныча – клуб, школа, ПТУ. Если с ним отношения хорошие, то он много чего решает. На УДО без его рекомендации не попадешь – характеристики для комиссии он дает. И на суде по досрочному освобождению почти всегда присутствует лично. От него все зависит.
А у Дюжева – хозобслуга, шныри, завхозы, комендант. Карцер! А еще столовая, швейка и склад. У этого больше всего. То-то он ходит жирный, как свинья.
– Он тут крутит дела – будь здоров, – добавил Файзулла. – Продукты на всю зону, шмотки, сапоги и прочее. Есть с чего поживиться.
– Да еще так тянет кое с кого. Тут же – лагерь, ничего не утаишь. А всех, кто в клубе, он не любит. Он вообще клуб ненавидит. Так и говорит: «Была бы моя воля, Мустафин, я бы из этого клуба еще один карцер сделал. Вот тогда бы вы с Файзуллой у меня на месте были, и душа моя была бы спокойна».
– Нет, ты представляешь, Александр? Из всего карцер сделать! Тебя он точно возненавидит. Если узнает, что был здесь – удавится, хе-хе.
– Зато Нижников любит петь. У него любимая песня: «Запрягайте, хлопцы, кони…» Ему Дюжев – по хую.
– Здесь как хозяин решит – так и будет. Пакости и про– кладухи с разных сторон, конечно, тоже будут. Но сожрать уже не смогут – хозяина боятся все. Каждый год смотр самодеятельности проходит. Из управления начальство приезжает. Нижников с Филаретовым лично программу принимают.
– А кто выступает, что за самодеятельность? – поинтересовался я.
– Да много чего. Хор, ВИА, танцоры, цыгане. Кто стихи читает, кто на гармошке играет, кто просто дуркует.
– Как понять?
– Ну, сатиру на лагерную жизнь гонит. Тут один пантомиму показывал на местное начальство. На Дюжева показал – он его на пятнадцать суток в карцер упрятал. Без вывода. За то, что кровать плохо заправил, или в сапогах нечищеных шел. Доебался, короче, до чего-то. Зато когда тот его на сцене показывал – а хули его не пародировать – брюхо показал – вот тебе и Дюжев! – все в зале ржали до упада.
– А хор… Хор раньше, еще в старые времена, из путних мужиков состоял. Даже блатные кое-кто пели, по раскумарке. А потом хозяин поменялся. Пришел новый замполит – дурак. Начал заставлять коммунистическую хуйню петь. Все, естественно, разбежались. Нагнали тогда в хор пидоров да чертей. Сделали певчий курятник. Ну и все. Это давно, еще до Нижникова было. Он пришел – все поменялось.
– Да, Дюжева поставь – он и сегодня курятник сделает!
– А сам впереди петь будет, ха-ха-ха!
– А гитары в клубе есть? – спросил я.
– Во!.. О гитарах. Я совсем забыл, – взвился Мустафа. – Здесь же до твоего приезда капитальный шмон был. Все гитары в отрядах позабирали и к Загидову в кабинет под замок перетащили. Дюжев с прапорами рыщет всю неделю по зоне, гитары из бараков выметает. Это к твоему приезду, Александр.
– Точно. До чего ж они тебя боятся. Как будто ты споешь что-нибудь и советская власть рухнет к ебени матери! – добавил Файзулла, открывая банку тушенки резцом по дереву.
– Да они не только в зоне – они и в батальоне охраны, который здесь за забором, все гитары вышмонали. Все магнитофоны у солдат из тумбочек позабирали, вместе с кассетами. Видно, из Москвы команда поступила.
– Да… Это плохо. Трудно тебе будет спрятаться. Будут пасти день и ночь.
– Да ладно, черт с ними. Мне сейчас, если честно, не до гитары. Я ее уж целых два года в руках не держал, забыл, что это такое.
– Надо переждать. Все утихнет, уляжется. Это первое время они будут во все шнифты глядеть, а потом отстанут.
Тогда можно и с Сан Санычем насчет клуба поговорить, – успокоительным тоном добавил Мустафа.
– Давайте лучше поедим. Пока Дюжев не учуял, хе-хе, – пригласил к столу Файзулла.
Он уже успел достать откуда-то из заначки сало, порезать хлеб, распотрошить чеснок и все это разложить на чистом листе белой бумаги.
– Сальцо… Не желаете, Александр… как вас по-батюшке?
– Васильевич.
– Сало, как вы знаете, в тюрьме – основной продукт, Александр Васильевич.
– У-у, жаба! – гримасничая, вытаращил глаза Мустафа. – Какой ты татарин, Файзулла? Представляешь, жрет сало день и ночь и называет еще себя татарином. Ты – не татарин, ты – хохол – «Файзулленко»! Нет, ты глянь. Завтра Загидову доложу, хе-хе…
– Доложи, доложи. Я давно знал, что ты – кумовская рожа, – откусывая сало, смеялся полным ртом Файзулла, – у Дюжева внештатным, поди? А вообще Коран не запрещает. Там написано: на войне и в плену, чтобы выжить, можно есть мясо самого грязного животного – свиньи. Аты сам, с понтом, не жрешь?
– Это свинья тебя должна есть! – не унимался Мустафа.
– А что, – не обращая внимания, отправляя в рот очередной кусок сала, продолжал он, – мы живем здесь как на войне – не знаешь сегодня, что будет завтра. Это раз. Срок мотаем – это тот же самый плен. Это два. Так что имею право есть сало по полной программе.
– Александр, ты угощайся, не обращай внимания на этот базар. Он так все сожрет. Он как верблюд – набивает впрок, хе-хе.
– В этом лагере на одной каше, без сала, не выжить, – ответил набитым ртом Файзулла.
Дальше была картошка с тушенкой, чай с конфетами и еще разные лагерные байки.
Мустафа с Файзуллой очень мне понравились. Были они совершенно разные. Маленький, коренастый, как колобок, Файзулла. Добродушный и весьма остроумный. И мощный, напористый Мустафа. Не менее остроумный, но более ядовитый в суждениях. Ильдар Файзуллин несколько лет назад учился в Свердловском архитектурном институте. Приехал поступать из Башкирии. Поступил. Не знаю, как уж так вышло, но сел он за грабеж. Кажется, по пьянке снял с кого-то шапку. Шапка ему была не нужна. Нужно было превосходство. Превосходство он получил, а с ним и сроку лет, кажется, семь. Но несмотря на это, был веселым и даже самоироничным.
Над собой он посмеивался легко и с удовольствием. Кто-то сказал, что основная черта великодушных людей – самоирония. Над другими – так же легко и всегда по-доброму. Даже о досадивших ему начальниках он говорил как о незлых злодеях. Художник он был, конечно, не Леонардо, не Брюллов, но все же с фотографий копировал достаточно точно, делая по лагерным заказам портреты чьих-то любимых и близких. Парочка таких незаконченных работ валялась на забитом до отказа подоконнике. Главным же ремеслом, которое его кормило, была резьба по дереву. В дальнем конце комнаты на стульях и коробках лежали заготовки кухонных наборов, шкатулок и прочей деревянной дребедени, которую ему заказывали и вольные, и зэки, и даже высокое начальство. Как у любого художника, в его лагерной каморке был полный бардак, который он характеризовал как «рабочий беспорядок».
– Зато при шмоне помогает, – пояснил он, – в таком бардаке даже мне ничего не найти, а уж ментам – и подавно. Загасить здесь можно хоть что. А в лагере это первое дело – загасить. Если, конечно, хочешь, чтобы у тебя что-то было.
Пристроиться художником ему помог Мустафа. До этого пришлось порядком поработать в лесоцехе на срывке. Срывка – одно из самых трудных рабочих мест. Долго там не протянешь. Поэтому Файзулла знал цену своему клубному месту. И относился к Мустафе как к старшему доброму брату.
Поели, посмеялись. Время незаметно перевалило за 2 часа ночи. Нужно было уходить. Я начал собираться.
– Подожди, не выходи. Я сейчас на лежневку с центрального крыльца выгляну, не дежурит ли там Дюжев у дверей, – пошутил Мустафа.
– А что, запросто. Может, и поставили кого. Да и сам Чистов мог шныря поставить, – подтвердил Файзулла.
– Серьезно, что ль? – спросил я.
– А ты думал. Вполне. Тут не СИЗО. Тут такие прокла– духи бывают. Чистов – он уже пересиженный, он все может. Другое дело, ему освобождаться скоро, поэтому вряд ли будет в штаб докладывать. Если спалишься, скажет, что ты самовольно ушел. Шнырь подтвердит. Шныря лишат, на худой конец, ларька на месяц, и всего делов. Ну, вы подождите, я схожу. Надо тихо, чтоб Загидов не проснулся.
Мустафа вышел и на цыпочках пошел по коридору. Отворил дверь и выглянул на лежневку.
– Сейчас никого из начальства нет. Главное, чтобы ДПНК на встречу не попался. Если бы ты уже распределенный был, с биркой, так никто бы и не спросил – ночью народу в зону много возвращается. С погрузки вагонов, с ремонтных мастерских. А если из карантина – проблема. Главное – идти не оглядываясь. С вахты сверху все видно. Но они там иногда спят или бухие, – напутствовал Файзулла.
Вошел Мустафа.
– Пошли за мной… Тихо… Загидов и во сне все слышит. Узнает – первый побежит к Филаретову задницу страховать. Сейчас как выходишь, иди прямо, но не бегом. Если бегом – сразу заметят. Иди, будто с работы, с промзоны из второй смены возвращаешься.
Я вышел на освещенную прожекторами лежневку, повернул направо и в полной тишине двинулся к карантину. За спиной была вахта, наверху, над ней, смотровой кабинет ДПНК, из которого вся зона просматривалась как на ладони.
Дверь клуба затворилась, тихо щелкнув. Идти я старался бесшумно, но все равно шаги мои звучали как ударные инструменты в туземных танцах. А может быть, мне просто казалось. А еще казалось, что спину мою сверлит взглядом Сашка Блатной – капитан Панков. Что вдруг, разглядев и узнав меня, сейчас заорет на всю зону: «А-а-а… Новиков!.. Вот ты где! А ну, блядь, куда идешь?.. Откуда? От Мустафы?!.»
Я не боялся попасться. Я боялся, что каким-нибудь образом они узнают, где я был, и этим подведу всех. Конечно же, ничего от меня не дождутся, но что ответить в таком случае? Хожу гуляю? Песни сочиняю? По вам соскучился, гражданин начальник?
Шаги звучали нестерпимо громко. Вахта удалялась. Никто не окликал. До калитки пятьдесят метров, тридцать… десять… Калитка. Не закрыта, замок не защелкнут – вставлена картонка. Ай-да шнырь, ай продуманный.
Вхожу в барак. Пахнуло табаком.
– Ну, вот и он! Я же говорю, блядь, это он в клубе был. Меня не наебешь.
Передо мной выросла фигура человека в форме с красной повязкой на рукаве, на которой было выведено белыми буквами – ДПНК. Он произнес слова, глубоко затянулся, шумно выдохнул табачный дым и спросил в лоб:
– Ну-с, что будем делать?
Это был не Панков.
Непонятно, то ли кто-то сдал, то ли просто зашли глянуть, какой он, Новиков. На месте не нашли, собрались искать, а я – вот он, тут как тут. Решили взять «на пушку»? Может, я бы и растерялся, не будь богатого опыта, приобретенного в следственных изоляторах Камышлова и Свердловска, да приключений на этапах.
– Что вы имеете в виду, гражданин начальник?
– Где ходишь? Где был, в клубе? – сразу бесцеремонно перешел на «ты» дежурный.
– В сортире, гражданин начальник, – ответил я и немало удивился собственной находчивости.
В голове возникла сцена, сопровождающаяся закадровым голосом Ефима Копеляна на темы кинофильма «Семнадцать мгновений весны»: «Штирлиц знал, что Мюллер никогда не пойдет проверять сортир. Тем более общий. Скорее всего, пошлет Вайса или на худой конец своего шофера. Вайса рядом с Мюллером не было. Шофер был, но за спиной у Мюллера. Значит, в сортире он еще не был. Значит…»
– В сортире, гражданин начальник. А что особенного? В свободное время никому не запрещается, – пытался отшутиться я.
За спиной дежурного и прапорщика показалась физиономия шныря. По ее выражению я понял, что наряд только что вошел.
– Да ладно гнать. Я знаю, где ты был. Повезло тебе: не пойман – не вор. Иди спать и не вздумай по зоне шататься.
Они неторопливо вышли и двинулись в направлении калитки.
«На первый раз пронесло», – подумал я.
Из своей каморки вышел Чистов. Спросил у шныря, что случилось, зачем приходили. Понял все. Потом повернулся ко мне и коротким жестом показал идти за ним, в его убежище.
– Вот бляди, уже сдали. Видели, что Мустафа приходил днем, и сдали. Ты видишь, какая зона, Санек? Сука на суке. Сейчас к Мустафе пойдут. Начнут на понт брать, мол, Новиков от тебя шел и спалился. Больше никто не видел? Загидов, завклуб, не видел?
– Нет, все тихо.
– Ясно. Это значит, днем кто-то цинканул Дюжеву или Шемету.
– А кто это – Шемет?
– Это начальник оперчасти. Главный кум. «Мюллер». Он тебя еще не видел. Но все о тебе знает. Этот – хитрый лис. Хочешь чаю?
Я отказался. Докурил сигарету и ушел спать.
Так пролетело три дня. По ночам я ходил в клуб к Мустафе. Утром приходилось вставать на проверку, потом опять спать. В обед и вечером – в столовку. Рацион и «меню» ее мало отличались от баланды и каши следственного изолятора, поэтому почти все «карантинники» забирали положенную пайку хлеба и возвращались в барак. Варили чай и пробавлялись тем, что осталось с этапа.
Несмотря на свои внушительные размеры, столовая всегда была битком. В дальнем конце сидели те, кто поблатней. Иногда по четыре-пять человек за десятиместным столом. Чем ближе к выходу, тем плотнее они были набиты. А те, что возле самых дверей, – просто кишели. Возле них постоянно толкались, пихались и шумели. Но за другие столы садиться никто не смел. Даже если бы вошел любой начальник и приказал это сделать – никто ни за что бы не подчинился. Слева у входа толпились петухи, черти и так далее. Справа – мужики, и в конце, у стены, – блатные. Большая часть из которых были почему-то «диетчики» – питались по диетическим нормам: хлеб – белый, баланда другая, все остальное тоже. Здоровенные парни, с накачанными бицепсами, в черных мелюстиновых костюмах незоновского образца. В общем, самые больные и слабые, остро нуждающиеся в дополнительном и особом питании! Понятное дело, зона есть зона – кто как может, так и пристраивается.
Раздача еды происходила тоже по-особенному.
У каждого отряда есть два-три «заготовщика». Они заранее приходят в столовую и получают на всю бригаду по количеству человек пайки хлеба, баланду и кашу.
Последние две позиции выдаются с кухни в десятилитровых бачках, которые называются «флотками».
«Заготовщик» в лагере – нечто среднее между мужиком и чертом. Он не может быть ни петухом, ни опущенным – законы во всех лагерях и тюрьмах едины – опущенному к общей еде притрагиваться запрещено. Иногда даже не опускают или не петушат только потому, что с должностью заготовщика справляется ловко. Там тоже нужна сноровка и прыть. Там тоже есть свои хитрости. Чтобы бачки были полнее, приходится иногда на раздаче втихаря то пачку сигарет сунуть, то чаю. А их где-то надо взять. Приходится крутиться. Это уже кто как может.
Бачки полные – значит, всем досталось. Паек всем хватило – значит, все хорошо. Не хватило – виноват только заготовщик. Или отдай свою, или иди, бери где хочешь. Проси, отнимай, покупай, что хочешь делай – должно хватить всем. А нет – значит «под молотки». Несколько таких косяков – и «с черпака слетел». А там дальше – очень непросто жить.
Дальше чертоватого мужичонки не поднимешься уже никогда. Это в лучшем случае. «Заготовщик» – это характеристика, оценка положения и степени значимости в лагере. Бывает, обсуждают кого-нибудь:
– Ну, как он? Что из себя представляет?
– Да-а… Заготовщик.
Далее можно не обсуждать.
Отряд идет в столовую точно так же, как и на проверку: впереди – курятник, следом – мужики, в конце – блоть.
Вошли в столовую. Петухи – налево. Мужики и блатные – направо. «Петушатник» представляет собой маленький закуток. Поэтому там всегда кишит. Дерутся, толкутся, вырывают друг у друга, хватают с пола. В этом углу объедков не бывает. Но сколько бы объедков ни осталось на столах в правой стороне – туда нельзя. За это забьют до смерти.
Чертям еще можно пошустрить после всех. Петухам ступать в правую половину нельзя. Все поделено четко и соблюдается неукоснительно. Плата за нарушение – иногда жизнь.
– Ну, как тебе наша столовка, Александр? – спросил меня по возвращении Чистов.
– Да как сказать… – уклончиво ответил я.
– Не ресторан, конечно, где ты играл, хе-хе… Но сейчас ходить можно. Раньше здесь все не так было. Она поменьше была. Петухов вообще на порог не пускали. Так в предбаннике и жрали. Да за столовой, там, где помои выбрасывают. Что говорить, зима настанет – сам увидишь. И сейчас еще кое-что от прошлого осталось.
– А что там происходит?
– Ой, Санек, лучше этого не видеть и не знать. Раньше на зоне петухов до 500 человек доходило. Куда такую армию денешь? А жрать им хочется сильней остальных. Представляешь, что было тут вокруг столовой? Я-то еще застал… Трудно тогда было. Очень трудно. Сейчас их поменьше – человек триста. Но тоже – до хуя!
После первых двух посещений столовой и первых дегустаций ходить в нее расхотелось. Но денег при себе не было. Связей не было. Достать другой еды было негде. Поэтому приходилось мириться и молча отщелкивать дни моей лагерной жизни.
Ждали распределения. Днем водили в больничку на обследование. Это была самая важная процедура для решения вопроса о предстоящем трудоустройстве. Проверка на «тубик», «сифон» и на «дезу» – дизентерию.
– В этой системе «тубиком» можно стать в одночасье. Чифирнул с кем-нибудь из одной кружки, на этапе ли подхватил. Не узнаешь, не уследишь и никак не сможешь предвидеть, – наставлял меня Чистов. – Если найдут в начальной стадии – могут оставить лечиться в лагерной больнице. Если в запущенном виде – отправят на специальную «тубзону». Лучше туда не попадать. Практически верный путь в могилу или отсидка до звонка. А если срок червонец или пятнашка – то неизвестно, что лучше. Мне вот, слава богу, повезло. Я тут за десять лет знаешь сколько на вахту вперед ногами проводил? У-у-у… – Он закатил глаза и показал рукой в сторону забора. – Там кладбище. Гробы в три-четыре слоя лежат. Один на другом. Вечная мерзлота – глубоко не копают. Да и кто копает? Пидоры полудохлые… Кому тут на хуй это нужно. Выкопали полтора метра– зарыли. Следующего привезли– не копать же снова. Могилу вскрыли, на прежний гроб бросили, землей для близира закинули. И так до следующего. Трехэтажное общежитие, блядь. А сверху палка с жестянкой от консервной банки. А на ней номер. Вот и все, что осталось от человека. Ни фамилии, ни имени. Из родственников сюда никто и не ездит. Так, один раз нарисуются, может быть. И все. Если сразу не приехали, гроб с телом не забрали, значит, это навсегда.
Он затянулся, помолчал и добавил:
– Кладбище здесь большое. Неизвестно, где больше: здесь живых или там мертвых. Вот так, Саня.
Я слушал не перебивая. Ему хотелось не столько наставлять меня, сколько просто выговориться.
– Ну, а ты-то за что здесь?
Он опустил голову, помялся и сказал абсолютно безучастно и бесчувственно:
– Не поверишь… Дочь свою по-пьяни изнасиловал… Это по приговору. В натуре все немного по-другому. Да хули сейчас вспоминать – десять лет прошло. Уже все забылось… И она, видно, тоже. Даже вот на свиданку ко мне приезжала. Простила меня.
Он прикурил новую сигарету от догорающего уголька прежней, покашлял и проговорил в пол:
– Раньше за это в лагере выебать могли. Но вот как-то прошел через весь срок, тьфу-тьфу… Раньше, Санек, понятия-то не такие были. И блатные – не такие. И кумовья – не такие. Да что вспоминать – было и было. Скоро уж освобождаться. Так до звонка почти и досидел.
– А давно ты здесь в карантине?
– Давненько. Но ты не думай, я завхозом не весь срок был. Я и на разделке отпахал, и в лесоцехе. Хапнул тоже будь здоров. Здесь все через прямые работы проходят. Не хотел тебя расстраивать, но и тебе тоже придется через все пройти.
В переводе с его витиеватого зоновского языка понимать это следовало так: «Я сходил в штаб, кое-что узнал. У кого узнал – это мое дело. Там уже есть решение – отправить Новикова на разделку леса. Распределение будет формальной процедурой. Но я тебе этого не говорил».
Глава 4 Распределение
Вместо прогнозируемых одной-двух недель просидеть в карантине мне довелось только три дня. На четвертый всем приказали строиться.
– На распределение, – пояснил Чистов. – Сегодня вы у меня последний день – вечером раскидают по отрядам.
Нас пересчитали и небольшой кучкой повели в сторону вахты.
Штаб представлял собой большой одноэтажный барак с двумя сквозными выходами. Один из них вел на плац. В левом крыле располагался кабинет начальника колонии, в правом – его замов, оперчасть, а также нарядная. В ней работали заключенные. Все остальные работники колонии были люди в форме. Нарядная – очень важный орган. С ее ведения происходят распределения рабочих мест и перемещения из отряда в отряд. Даже освобождения от работы по болезни или другим бытовым причинам тоже идут через нарядную. А потому нарядчик в зоне – человек далеко не последний. Особенно – старший нарядчик. Несмотря на то, что он тоже заключенный, должность позволяет ему многое. Фамилия старшего нарядчика была – Кутаков. О нем мы знали из рассказов Чистова, с которым тот был на довольно короткой ноге. Мустафа с Файзуллой тоже упоминали его имя, когда перечисляли самые блатные должности в зоне.
– Кутаков – бывший подполковник. Вопросов решает много, но по каждому ходит сначала к Дюжеву, – говорил Мустафа.
– Вообще-то не дай бог иметь такую фамилию, хе-хе… – продолжал Файзулла. – По-татарски «кутак» – «хуй». Вот и представь, как звучит эта фамилия! Загидов его так и называет за глаза – «подполковник Хуев»! А в глаза, что ты! – Витя… Виктор Батькович!
В штаб мы вошли гурьбой, но тихо и с чувством здорового любопытства. Казалось, никто нас здесь и не ждет, потому что битый час пришлось стоять в коридоре, разглядывая плакаты агитационного характера, рассказывающие о трудовой доблести и энтузиазме заключенных колонии. А также читать местную стенгазету и очередной номер межзоновской многотиражки под названием «За труд!». В простонародье – «Козье Знамя». Рядом располагался стенд «Передовики производства», именуемый тоже не иначе как «Доска пидоровиков». Глазеть на все это было довольно занятно. Ни лавок, ни стульев в коридоре не полагалось, поэтому приходилось слоняться до крыльца и обратно. Дальше него ступать нельзя было ни шагу, о чем все были строго предупреждены каким-то капитаном.
Поочередно открывались двери кабинетов, на которых висели таблички с указанием фамилий, званий и должностей их обитателей. Из них постоянно выходили и входили какие-то люди в форме, с папками в руках. Иногда запрыгивал штабной шнырь, так же быстро выпрыгивал и бежал в какой-нибудь барак выполнять поручения. Носился он неимоверно быстро.
– Вишь, как шустрит – аж с пробуксовкой срывается, – с ухмылкой заметил кто-то из нашей компании.
– Шустрить не будешь – в лесоцех на пилораму загонят. Там не так скакать придется, – в тон ему отвечал другой.
– Да хуй с ним, со шнырем, лишь бы нам туда не угодить, – пробурчал третий.
Мы с Собиновым стояли в стороне и хихикали над содержанием газеты.
Распределение проходило в кабинете начальника колонии, полковника Нижникова. Все его заместители, начальники производств, начальники отрядов уже сидели там. Вот-вот должны были выкликнуть нас.
Не помню, кого вызвали первым, но все с волнением ждали, когда первопроходец выйдет, чтобы узнать, какая атмосфера за дверями, о чем спрашивали. Что за мужик – «хозяин»?
С первым беседовали относительно недолго.
– В лесоцех, – понуро сообщил он, затворяя за собой дверь кабинета. – Всех, по ходу, туда загонят.
– Нас, скорее всего, последними заведут, – предположил Собинов, – тебя-то уж точно.
– Разницы нет никакой. Как дело откроют, обомлеют: постановление в изолятор, непризнание вины, иск сто шестьдесят шесть тысяч… Даже не сомневаюсь, что на разделку пошлют, – ответил я.
– Да подожди ты… У них смотр самодеятельности каждую весну проходит, а заниматься некому. Чистов же говорил, что комиссия из управления ездит, смотрит, в какой колонии лучше. Замполит за это башкой отвечает. Так что могут пока и в клуб хотя бы на время определить, – подбадривал Толя.
Одного за другим всех пропустили через кабинет. Остались мы вдвоем. Выглянул человек в форме и выкликнул:
– Новиков! Собинов! Заходите.
Мы вошли. Поздоровались. Напротив двери за большим столом сидел начальник колонии. Слева вдоль окон – остальные участники комиссии. Справа, вдоль глухой стены стояли в ряд стулья, на которые нам велено было присаживаться.
Начальник колонии показался человеком исключительно приятной и волевой внешности. Мужчина лет сорока пяти, улыбчивый, с ясными голубыми глазами и очень цепким, пронзительным взглядом. Надо сказать, улыбка ему шла. Из рассказов он представлялся мне немного другим. Среди присутствующих сразу узнал его заместителя Дюжева, которого никогда в глаза не видел, но по описаниям Файзуллы и Мустафы распознал безошибочно. Вот что значит глаз художника.
Дюжев сидел, ехидненько ухмыляясь. На вид это был добродушный толстячок, более подходящий на должность швейцара из пивного бара, нежели на начальника режима. Форма его тоже была не совсем гладкой. А может, просто сидела на нем из-за его нескладных форм как с чужого плеча.
В полную противоположность Дюжеву сидящий на третьем стуле от него замполит Филаретов был строен и подтянут. Форма на нем сидела безукоризненно. По всему было видно, что он действительно замполит.
Нижников очень приветливо поздоровался и, вероятно, не зная, как правильно начать, произнес приветствие, чередуя фразы мудреной приговоркой. Как мы поняли через несколько минут, приговорка была неотъемлемой частью его речи и заменяла собой невысказанные вслух мысли.
– Ну, здравствуйте, вот так само дело ебиомать… Прибыли, вот так это дело?..
Произносил он это добавление так же просто и естественно, как люди произносят, сами того не замечая, слова– паразиты – «как бы» или «короче».
Как впоследствии выяснилось, от интонации, с которой он произносил приговорку, и зависело любое его решение. Если зловещим тоном, а далее все остальное приветливо, то все равно в конце объявлял о водворении в карцер. И наоборот. Приветливое «это само дело ебиомать…», несмотря на последующий разнос, наставления и предупреждения, заканчивалось поощрением или благодарностью. При всем при этом человек он был неординарный и в некотором роде даже уникальный, хотя бывал порой жестким и даже жестоким.
Приговорка была фирменным «лейблом», и в лагере иногда его потихонечку передразнивали. Полностью произносил он ее только в особых случаях. «Вот так это дело, само дело ебиомать…» В разговоре же в качестве связующего звена применял в сокращенном варианте – «самдел ебиоть…» Но что более всего удивительно – только в разговоре с заключенными или работниками колонии – не важно, женщины это были или мужчины. Даже в присутствии прокурорских чинов и вышестоящего начальства. И никогда – в присутствии родственников, приехавших на свидание, или других вольных лиц, не имеющих отношения к колонии.
– Вы вдвоем прибыли? А третий где? – спросил он, перелистывая личное дело.
– В тюрьме остался. Его, наверное, на другую зону отправят, – ответил Толя.
– Так… профессии какие есть? Если есть, пусть родственники, вот так само дело, документы пришлют.
– Да какие профессии: я – музыкант, он – директор, – улыбнулся я.
– Это не профессии. Здесь – не профессии. У вас ведь иск, так? Погашать как будете? Что-то погасили уже?.. Статья с конфискацией?.. Так… Ага, понятно, – бормотал он себе под нос, листая дело, – так…самдел ебиоть…вину не признаете? Так?
– Так.
– Конечно, не признают, хе-хе. Конечно, ничего погашать не хотят. Чтоб такой иск гасить, надо работенку высокооплачиваемую иметь. У нас тут где самые высокие заработки? – мелко посмеиваясь, вмешался в разговор Дюжев. Все это время он сидел молча и внимательнейшим образом, улыбаясь, разглядывал нас обоих.
– Кажется, на разделке? Или в лесоцехе? – картинно повернулся он к сидящему рядом майору добродушного вида с проседью на висках. Майор улыбнулся и молча кивнул.
– Вот, начальник производства, майор Пентегов, вас устроит на самые высокооплачиваемые должности, – продолжал ехидничать Дюжев.
– Да мы, в общем-то, на теплые места и не рассчитываем. Куда поставите – там и хорошо. Нам везде хорошо, – в тон Дюжеву ответил я.
– Было хорошо, – поправил Дюжев.
Повисла глупая пауза.
Первым ее нарушил Нижников:
– Ну, вот так это само дело ебиомать… У нас тут производство большое. Летом сплав. Зимой разделка. Лесоцеха свои. Пилим, само дело… Погрузка в вагоны. По всей стране. Вот так, ебиоть, отправляем.
Далее он стал рассказывать о производстве, о нормах, о трудовых подвигах и местных «стахановцах», которые ударным трудом заслужили досрочное освобождение и вместо того, чтобы «прохлаждаться здесь до звонка, ушли, вот так само дело ебиомать, досрочно…».
Потом говорил Пентегов. Следом – замполит Филаретов. За ним – еще кто-то. И так, в незаметно для всех потеплевшей атмосфере пришли к самой важной теме – клубу. И что представляет собой этот клуб в понимании лагерной администрации.
– Самодеятельность у нас, вот так это дело, хорошая. Вокально-инструментальный ансамбль есть, хор, народные инструменты, само дело… Но только тем, кто уже поработал на производстве год-два… Зарекомендовал себя с хорошей стороны. Доказал трудом, вот так это дело ебиоть…
Нижников обвел глазами всех присутствующих.
– Правильно я говорю?
Присутствующие закивали. Дюжев сидел неподвижно, с той же ухмылкой, сложив руки в области пупа.
– А песни, эти, которые ты пел на магнитофон, вот так это само дело, – не те песни. Надо русские народные, трудовые, а не то что, ебиоть, в ресторанах там или где… А здесь это – нет…
– Нет, почему же, можно, здесь тоже поют. Вон, в изоляторе. Еще как поют, хе-хе, – заметил Дюжев. – Пожалуйста, пой. Каждой песне – свое место.
– В общем, так, – после нескольких незначительных вопросов ко мне и к Собинову начал подводить итог Нижников, – для начала определяем вас на разделку в 101-ю бригаду. Вот сидит ваш начальник отряда – капитан Грибанов, прошу любить и жаловать, как говорится, вот так это дело. – Повернувшись лицом к капитану, он хлопнул ладонью по столу.
– Принимай обоих. Парни здоровые, на разделке такие нужны. Поработают, мускулы накачают… так это дело… А потом можно и про клуб подумать. И работу другую, понимаешь, вот так это дело, само дело ебиомать.
Нижников приподнялся над столом. Все поняли – разговор окончен. Распределение тоже. Мы встали.
– Все понятно. Разрешите идти?
– В коридоре подождите. Нечего по зоне шляться. В карантин вас отведут, – вдогонку приказным тоном проговорил Дюжев.
– Так… Никуда не выходить. Ждите в коридоре, – первый раз за все время подал голос Грибанов.
Мы вышли на крыльцо и закурили.
– Ну, шило… Так я и знал. Как минимум полгода придется стреляться на этой ебаной разделке, – мрачно изрек Собинов.
– А как тебе начальник отряда? – спросил я.
– Как шавка подлаивает Дюжеву. По вйду – недалекий. Мне так кажется. Но рыть землю сейчас начнет всеми копытами – хозяин дал добро.
– Хорошо хоть, вместе в один отряд, так полегче все же. Хоть общаться будем по-человечьи. Чувствую, Грибанову это не очень понравилось. Будут нас разбивать, наверное.
– Вряд ли. Если бы хотели – могли это сделать прямо сейчас, – выпустил дым Толя. Вряд ли. А отрядник? Отрядник, как хозяин скажет, так и сделает. Надо к Нижникову подход искать.
– А Дюжев? Уматный тип. Как слон непробиваемый. И сам себе на уме. Правильно его тут «Дермантиновая жопа» называют! хе-хе…
– Да все они тут… Вот, бля, зверинец, вот попали… Кого тут только нет, и каждая блядь – начальник! Подожди, еще другие не проявились. Может, как проявятся, так и Дюжев благодетелем покажется.
Мы докурили и вернулись в штаб. Вышел Грибанов и нырнул в какой-то кабинет, бросив на ходу:
– Быстро в карантин. После проверки – в 10-й отряд. Завхоз придет за вами. Идите, идите, собирайте вещи.
И мы пошли.
Первый вопрос Чистова по нашему возвращению был:
– Ну что, куда? На прямые работы?
– В 101-ю.
– Так я и знал. Думал, еще, может, посмотрят на то, что вы в институте учились, что ты на гитаре играешь… Ясно. Значит, из управления цинканули. А может, хозяин сам так решил. Ну да ладно, давай чайку попьем, а то вечером вас уже в 101-ю загонят.
Мы пошли собирать вещи. Потом посидели за чаем.
– Если что, заходите, не стесняйтесь, всегда рад, – с этими словами Чистов проводил нас до крыльца.
Глава 5 101-я бригада
Из карантина мы, не помню уж в чьем сопровождении, прибыли на место новой дислокации, в 10-й барак, где располагалась теперь уже наша, 101-я бригада. Основная, самая многочисленная в колонии, а потому находящаяся под пристальным вниманием полковника Нижникова. Бригадира звали Владимир Захаров, с естественно вытекающей из фамилии кличкой – Захар. Барак, в который мы поселились, был, в отличие от карантина, двухэтажный. Более поздней постройки, а потому – кирпичный. Двор почти ничем не отличался от карантинного – те же две березы, тот же дощато-бревенчатый настил. Разве что сортир в два раза больше да несколько огромных деревянных мусорных баков у забора, высотой по грудь и с разинутыми огромными откидными крышками. Внутри они кишели крысами, которые иногда выскакивали наружу и гонялись по бортам друг за дружкой. А то кучей мчались от баков к сортиру, ныряя в огромные щели настила или под стены крашенного известью антисанитарного нужника. Так как было их без счету, мусорный бак круглые сутки шуршал, цыркал и писклявил. В нем тоже шла жизнь. Это тоже был лагерь со своей иерархией и вечной битвой за место под солнцем.
На крыс никто не обращал внимания. К ним привыкли, с их присутствием смирились. Они тоже были зэки.
Ветки берез были голы. А стволы от постоянного лазания по ним все изодраны, отшлифованы сапогами, вакса которых, казалось, с годами въелась в бересту, сделав ее серо-черной. Меж крупных и толстых веток параллельно земле были прибиты какие-то доски, отдаленно напоминающие части разрушенного охотничьего лабаза. Назначение их для неопытного глаза было непонятно. Это был зимний «петушатник». В конце двора ютилась кочегарка – кирпичная коробка с черной дверью и трубой.
Барак стоял торцом к лежневке. За дальней его стеной – забор, опутанный колючкой. Контрольно-следовая полоса – «запретка». Потом еще забор. А далее уже и не видно.
Если бы барак был рабочим общежитием завода, фабрики, ПТУ или, на худой конец, казармой, в нем могло бы разместиться человек пятьдесят, от силы восемьдесят. В лагере с расселением проще – только на втором этаже проживало почти двести человек. Не считая петухов – они жили под лестницей и в предбаннике. Самые блатные из них – у дверей и в коридоре среди сапог. Но за эти места надо было биться. Поэтому драка и свара в этой части барачного поселения не прекращалась. Даже более жесткая, чем среди мужиков. Особенно зимой. Самых опущенных и слабых в морозы выгоняли жить в мусорные баки. Или на «лабаз» на березы. До конца зимы дотягивали немногие.
Встретил нас завхоз – бритый наголо, с довольно сытой мордой рослый детина примерно нашего возраста. Фамилия его была Крамаренко. Одет он был совсем не по уставу – в черный мелюстиновый костюм, ботинки с набитыми каблуками. Под курткой – футболка. В руках – какая-то тетрадь, что-то вроде вахтового журнала. Встретил более чем приветливо, все время улыбался, спрашивая ка– кие-то мелочи. Потом рявкнул в дверной проем:
– Дневальный!.. Ну-ка, быстро убери в третьем проходе матрасы со шконарей с первого яруса!
Дневальный был худощавый парень лет двадцати пяти. Он вывернулся из-за моей спины и бросился убирать чьи– то матрасы.
– Куда их? В шестой?.. Подождите, мужики, сейчас освобожу…
Я прекрасно понимал, что из-за такой смены мест могут последовать разборки или подняться базар, тем более, что мы новенькие и из-за нас вдруг кого-то подвигают из блатного третьего прохода в обычный шестой.
– А кто здесь спит? – поинтересовался я. – Давай без непоняток. Кого вы из-за нас выгоняете?
– Санек, все нормально. Отрядник так приказал. Так что заселяйся свободно – они сейчас на работе. Им об этом объявили еще утром, так что базаров быть не может. А если до Захара дойдет, что кто-то здесь недоволен, – вообще рога поотшибают, – сказал Крамаренко и, повернувшись в сторону шныря, прикрикнул:
– Давай, шевели булками!
– Сейчас, Олег, сейчас быстро уберем…
Шнырь уже бежал по бараку между двухъярусными койками, толкая впереди себя взашей какого-то опущенного.
– Давай, крыса, быстро взяла матрасы и в шестой проход!
Пнул для убедительности его под зад и стал контролировать исполнение своего приказания, держась руками за верхние шконки, раскачиваясь взад-вперед, всем видом и движениями показывая, что готов пнуть еще раз, но уже с разбегу.
– По одному бери, гидра!..
Махнул в сторону опущенного рукой и добавил:
– Тупорылая, блядь, Валька-крыса.
Тот быстро скрутил матрас и, прижав его к груди, бросился в сторону двери к шестому проходу.
– Давай, второй неси короче!.. Потом вниз пойдешь, будешь Чуче помогать. Чтоб сортир через час весь вычистили! Поняла, крыса?!
– Понял, понял. На заварочку-то хоть дай…
– Дам, дам. Когда сделаете. Если завтра отрядник мне хоть слово за сортир скажет, я Чуче второе ухо оторву! Понял? Так и передай.
Все это время мы стояли в коридоре рядом с Крамаренко, который, как выяснилось, оказался нашим земляком из Свердловска.
– Ну, все, мужики, давайте заселяйтесь, располагайтесь. Чего не ясно – со всеми вопросами ко мне. К отряд– нику – не надо.
– Да, в общем, нам все понятно. Завтра что? Когда на работу?
– Вечером придет Захар. Он поздно, после одиннадцати приходит, иногда после полуночи. У него свободный съем. Придет – все расскажет. Если чай надо или чего поесть – заходите ко мне в каптерку, я все дам. Ни к кому не обращайтесь. Тут все очень непросто, – выходя, сказал он.
Остановился и еще раз повторил с нажимом на первое слово:
– О-очень непросто.
Мы сели напротив друг друга, думая с чего начать: пить, есть или раскладывать скарб?
Между кроватями у стены стояла тумбочка с дверцей и выдвижным ящиком. Ящик был пуст. На дне его лежал лист-календарь. На календаре был апрель и семь крестиков, проставленных чьей-то рукой.
– Сегодня, Толя, седьмое апреля 1986-го года.
– Всего-то? – грустно усмехнулся он.
Как по команде, мы встали и пошли курить.
Походили по двору кругами, вернулись в барак, не зная чем заняться. Проверка на плацу закончилась, и отряды шумно строй за строем потянулись по своим местам.
Открыли ворота, и незнакомая нам бригада с топаньем и базарным гомоном начала заползать в барачный двор.
Грохот сапог перешел в предбанник, затем на лестницу. Мужики начали пробираться к своим шконарям. Некоторые с любопытством поглядывали в нашу сторону. В лицо меня никто не знал, поэтому пытались определить, который из этих двоих – Новиков?
Все разбрелись по углам и начали соображать лагерный ужин. Собирались в проходах между шконарями, по двое, трое, четверо, мелкими «семейками» – в лагере поодиночке не выжить. На тумбочке – банка с кипятком, а то и две. Пара рыбных консервов, маргарин, несколько конфет да пайка хлеба, принесенная из столовой с казенного ужина. Ее обычно забирают с собой, чтобы вечером вот так, в более теплой компании и в «домашней» обстановке съесть с чем бог послал. Послал из лагерного ларька, в котором раз в месяц на девять рублей можно отовариться. Если, конечно, в качестве наказания его не лишило начальство. А лишить могло за что угодно: не поприветствовал должным образом начальника отряда, даже если тот пришел пьяный как свинья. Не застегнул верхнюю пуговицу. Не почистил сапоги. Плохо заправил кровать. Да за что угодно. Не говоря уже о невыполненной норме на производстве.
Иногда, если план дается хорошо, вместо девяти рублей – аж тринадцать. И вот в эти тринадцать нужно уложить всего понемногу – сигареты, сахар, консервы, маргарин. Растянуть все это на месяц. Поэтому сбивались в «семейки», «кентовались». Вскладчину легче: кому-то посылка из дома, кому-то передачка со свиданки. Если на воле нет никого – все равно с голоду не пропадет – маленький общак выручит. С каждым такое может случиться. Поэтому коль голодуха – беда общая, то и отбиваться от нее лучше сообща.
С банками носились во двор к такому же точно столбу, как в карантине. Кто – сам, вместо кого-то – «сынок». Это тот, кто в «семейке» помоложе. Или кто при блатных в качестве «сынка». Кое-кто бегает заваривать по десятку банок, быстро, туда-сюда. За вскипяченную банку в качестве платы – заварка чая или горсть конфет. В основном это удел заготовщиков или мужичков, которым не хватает еды или нет поддержки с воли. А то и просто за «боюсь». В основном, конечно, последнее. Называется это – «послать ушана».
После того как все мужики и ушаны заварят, у столба начинают биться петухи. Здесь тоже не все равны. Поэтому шевелиться приходится быстрее и занимать место у кипятильни – в драку.
Появился Крамаренко. Он прошел по проходу, поглядывая вправо-влево, будто ища кого-то. Поравнялся с нами. Стрельнул глазами по тумбочке, по одеялам. Осмотрел четыре одноэтажные койки, стоящие в самом конце, и повернул обратно. Через минуту подлетел шнырь с литровой банкой в одной руке и кипятильником в другой.
– Вот, мужики, завхоз подогнал вам. Сейчас кого-нибудь пошлем.
Он нагнулся, прострелил взглядом межкоечное пространство до самых дверей и крикнул кому-то:
– Эй, кукус, иди сюда!
Подбежал шустрого вида бойкий паренек лет двадцати.
– На, сходи скипяти. Вот сюда принесешь, понял? – и, повернувшись к нам, добавил: – Если надо будет кипятку или чифирь заварить, вот его кликните.
Парень быстро взял банку и убежал.
– А как его зовут?
– Да зовите – «кукус». Он откликается. А так погоняло у него – «Валет». А меня Дима зовут, – представился шнырь. – Если чего надо – я тут.
Валет вернулся довольно быстро, перехватывая горячую банку из руки в руку.
– Пока петухов разгонял, задержался немного…
Он оглянулся несколько раз в сторону дверей. В дверях стоял шнырь Дима, внимательно контролирующий процедуру.
После нехитрого ужина народ начал собираться ко сну. Кто выскочил покурить, кто по нужде. В воздухе замелькали одеяла. Гвалт начал потихонечку убывать.
В дверях появилась фигура завхоза, возвестившая об окончании дня:
– Та-ак!.. Давай отбой!.. Отбой, блядь!
Брезгливо повернувшись к располагавшемуся у входа курятнику, он гаркнул:
– А ну, крысы, хорош галдеть! Раскудахтались… Давай быстро ложись!
Для острастки еще несколько раз матюгнулся, и у входа стало тихо.
Я лег на нерасправленную койку и поглядел вокруг. Четыре аккуратно заправленные кровати, две из которых были с панцирными сетками, точь-в-точь такие же, как у моих деда с бабкой. Они оставались пусты. Значит, главные лица этой обители еще не пришли. Было ясно, что в «панцирном» углу живет Захар со своим ближайшим окружением. Я закинул руки за голову, закрыл глаза, задумался и незаметно провалился в сон.
Разбудил меня лязг электрозамка и удар железной калитки. За окном застучали сапоги, и послышался хохот нескольких глоток. Шаги были громкими, уверенными. Даже нахальными. Кто-то тихо сказал: «Захар идет».
Маленького роста человек, одетый в черное, прошел от лестницы до конца барака, не сбавляя шага, громко стуча каблуками. Нарочито громко, ударяя железными набойками в пол. Следом за ним – высокий мускулистый парень лет двадцати пяти, в заломленной на затылок высоченной «пидорке» синего цвета, одетый в телогрейку с длинными– предлинными рукавами. В них он прятал кисти рук. Из одного рукава торчали четки, которые он постоянно перебирал. Этот стучал ногами тише, но походка и все жесты говорили о его нарочито блатных манерах.
Следом шагал третий. Совсем негромко и без особых манер. В углу они вполголоса перекинулись несколькими фразами и плюхнулись на кровати. Потянуло табачным дымом.
Крамар прошел до самой главной койки.
– Есть будете? – спросил он Захара, и, повернувшись ко второму, рослому, повторил услужливо: – Петруха, есть будешь?
– Давай, неси чего-нибудь.
Дима-шнырь схватил банки и рванул к выходу.
Завхоз опустился на шконарь напротив Захара. Они говорили тихо, вполголоса. Несколько раз, мне показалось, прозвучала моя фамилия. Я приподнялся. Захар, наклонившись в сторону, прямо из-за спины Крамара разглядывал меня. Мы встретились глазами, но он тут же перевел взгляд на того, которого звали «Петрухой».
Я тоже отвернулся и стал думать, как же нам предстоит знакомиться. Идти представляться я посчитал для себя слишком унизительным. Он, скорее всего, тоже. Поэтому все должно было состояться завтра на работе. Или в кабинете начальника отряда Грибанова, который, конечно же. нагрянет прямо с утра. Об этом перед отбоем всех известил Крамаренко:
– Завтра утром отрядник будет. Не дай бог у кого кровать окажется плохо заправлена! Я предупредил, блядь!
Прибежал Дима-шнырь с газетным свертком в руках. Застучал консервным ножом. Из угла запахло килькой в томатном соусе, луком, чесноком и салом. Однако есть почему-то не начинали. Тихо переговаривались, время от времени гогоча. Я перевернулся набок, накрылся подушкой, чтобы заглушить весь этот базар. Завтра на работу, надо бы поспать…
– Санек… Новиков… Саня… Ты чего лежишь, присоединяйся. Идем чифирнем да познакомимся, – в наступившей вдруг тишине громко и отчетливо произнес голос из угла.
Я повернулся. Не вставая со шконаря, откинувшись спиной на стену, на меня глядел Захар. Все звуки, шорохи и храпы в бараке мгновенно улетучились.
– А то мы тебя только по песням знаем, ты уж извини… Песни твои уважаем. Так, братва?..
Все одобрительно закивали.
– Мы, конечно, народ простой, давно на воле не были, хе-хе… Хоть расскажи, что там делается. Про перестройку… Что это за хуйня такая? Да, пацаны? Ха-ха!.. – заржал Захар.
Я рассмеялся в его же манере и для поддержания разговора ответил:
– Благодарю. Какая на хуй перестройка? Если бы была перестройка, я бы здесь не сидел.
– А-га-га-га!.. – одобрительно ответил угол.
Я поднялся и пошел.
– Садись поближе. – Захар подвинулся на край, освободив место. – Располагаться в лагере надо сразу поудобней, жизнь – она здесь у каждого долгая… да… Если, конечно, не накосячишь, га-га…
– А если накосячишь, то, бля буду, может показаться еще дольше, хе-хе!.. – ответил в тон Захару тот, которого звали Петрухой.
– Петруха, – протянул он мне руку.
– Это у нас тут самый блатной, вишь, бля, весь на пантомимах, – начал в ерническом тоне Захар. – Надо, бля, закрыть тебя суток на десять, га-га!.. чтоб с шарниров спрыгнул!
– Человек только пришел, а ты, в натуре, уже свои кумовские замашки засвечиваешь. А я тут с тобой кентуюсь. Подумает, что я тоже, бля буду, такая же кумовская крыса, хе-хе, – прихохатывая, отвечал Петруха.
С первых же минут знакомства я понял, что Петруха при Захаре играет какую-то особенную роль. Что он не просто «старшак» – старший сменного звена, как его представил Захар. Несмотря на его подчиненность Захару по работе, он держится уверенно, отпускает острые и ядовитые шутки в его сторону, да и в адрес администрации, и при этом гогочет так, будто сидит вовсе не в тюрьме, а в рабочем общежитии золотодобывающего прииска. Как бывалый, повидавший виды, даром что 27 лет, намывший золотишка не только для страны, но и для своей заначки, в предостаточном количестве.
С виду, конечно, Петруха был намного ярче и колоритнее Захара – рослый, красиво сложенный, с неимоверно сильным рукопожатием и мускулатурой. А главное, веселый и очень располагающий к себе. Единственное, что портило всю картину, так это нервный тик, который изредка его беспокоил. Со стороны казалось, будто он по-цыгански передергивает плечами. В руке он вращал четки, виртуозно накидывая их петлями на пальцы – сказывалась длительная и многолетняя тренировка. Отсидел он к моменту нашего знакомства из отпущенных ему девяти лет почти семь.
Шутками он сыпал, не уступая Захару, и, безусловно, имел незаурядное чувство юмора. У Захара это чувство было более изощренное и грубое. А иногда и зловещее. Хотя абсолютно не похожее ни на чье и присущее только ему.
Третий, что пришел вместе с Захаром и Петрухой, сидел молча.
– Это Вася, старшаком последнее время в бригаде ходит. Скоро освобождается. Так, не работает уже… дни добивает, – представил его Захар. – Десяточку отдал хозяину. Вот так.
– А у тебя сколько? – спросил я.
– А у меня пятнашка. Одиннадцать лет уже здесь. Повидал немало всего. Тут место гиблое. Последние годы полегче стало. А раньше что было, рассказать – мозги сведет. Эта зона, Санек, раньше так и звалась – «Мясорубка». Я срок начинал в лесоцехе на самом жутком месте. Все прошел. Здесь каждый должен пройти все. Пока через огонь и воду не пройдешь – хозяин тебя на теплую должность не поставит. Тут и блатные через это прошли. А кто не хотел – по полгода в БУРе отсидели и – бегом на производство. Или этапом на Белый Лебедь. Слышал? Это – ад. А кто и вон туда, за забор, в холодный цех, – показал он за спину. – Вон, Петруха тоже в БУРе не один раз чалился. Если б не я, так там бы и сидел, блатовал перед вшами, га-га!.. Перед ментами много не поблатуешь. В «нулевке» был? – спросил он меня, резко повернувшись.
Я кивнул. В «нулевке» я не был, но в свердловской тюрьме, сидючи в карцере, в непосредственной близости от этой самой «нулевки», прекрасно знал о ее замораживающих свойствах и особой роли в исправлении нарушителей режима содержания.
– На тюрьме «нулевка» – санаторий по сравнению со здешней. Здесь зимой минус пятьдесят градусов. Решетку откроют, и через полчаса будешь как ледяной балан. Тихий, тяжелый и готовый к выносу, хе-хе, – добавил Петруха. – У Дюжева это любимая хата. Он любит ее больше, чем свой дом родной, га-га!.. Так, бля буду, и говорит, что очень любит эту камеру и всем в ней пожить желает, хотя бы денек.
– А там, бля, больше и не проживешь! Разве что с салом туда заедешь, хе-хе! А, Петруха? Когда сидел в БУРе, на матрасе из сала спал?
– Да не-е… Я по мнению чалился. Полгода БУРа дали, а я в Сочи мотанул, бля. Дюжеву говорю: «Ты точкуй. Как полгода подойдет – цинкани мне по телефону, я подъеду…» Га-га-га!..
– Э, а где у нас завхоз? Дневальный!.. Где эта крыса? В одиночку, что ли, в каптерке трамбует? Видал, Санек, какую харю Лысый насосал? Га-га…
– Эй, скажите там шнырю, чтобы Лысого позвал!
Пришел Крамаренко. Вид у него был не заспанный – ждал, когда позовут. Может, он бы и сам притащился из любопытства, но без ведома и приглашения Захара сделать этого не мог.
Вероятно, какой-то из захаровских тестов на начальной стадии я прошел, поэтому приглашение завхоза в нашу компанию означало следующее: «Новиков – парень нормальный, поддержку даем. Из общей массы выделить, возникающие вопросы решить. Объяснить более подробно отрядную жизнь и особенности всех обитателей барака. В рамках позволенного, разумеется. В общем, Лысый, пошевели рогами».
– Завтра утром отрядник придет с тобой беседовать, – перешел, как мне показалось, к основному вопросу Захар, – он так собой мужик ничего, но на лесть, правда, падкий, сучара, и к мелочам любит цепляться – шконарь, заправка койки, форма одежды и прочая мудня. Ты ему не груби. Да-а… Во всем соглашайся. Он будет про семью спрашивать, как иск погашать будешь. Признаешь вину – не признаешь вину? В общем, скажи так и так, мол, с Захаром разговор был. От работы не отказываюсь. Остальное со временем осознаю.
– Ну, ты сейчас, бля буду, человека на стахановский путь настроишь, хе-хе, – вмешался Петруха. – «Ударным трудом, примерным поведением и явкой с повинной на нераскрытую делюгу искуплю, в натуре, гражданин начальник!..»
– Во, бля, чешет, га-га! Как по заученному. На каждой встрече с начальником все шесть лет, поди, это повторяешь? Не-е, я же говорю, Санек, тут каждый второй – пересиженный. А каждый третий – кумовская рожа! Га-га– га!.. – заржал Захар.
– У тебя, Захар, образование – три класса церковноприходской. А у человека – институт. А ты сидишь тут ему втираешь, что говорить и как говорить. Твой Грибанов – тоже три класса образования. Он до того, как отрядником стать, на гидролизном заводе не то бульдозеристом был, не то еще каким хуйлом. У него на морде солидол, бля буду, до сих пор намазан, хе-хе!..
– Да хули – институт! Институт… Здесь, Санек, другой институт. И педагоги, бля, другие. Здесь педагог – Грибанов. Завкафедрой – Дюжев. А академик – Нижников!
– А ты тогда кто? – ядовито вставил Петруха.
– А я… Я, бля, лабораторные работы преподаю, а-га– га!.. – загоготал Захар.
– Ну, ладно, хорош базарить, давай поедим, что там бог послал.
Поели. Петруха с Захаром отпускали остроты в адрес друг друга. Иногда цепляли Лысого, который лениво и незлобно откусывался. В общем, как говорится, ужин удался. Захар допил чай, закурил, откинулся на стену и произнес совсем не в тему:
– У тебя на воле-то погоняло какое было?
– Да не было. Так, по фамилии, если звали иногда – «Новик»… Так же, как тебя – «Захар». А с чего ты спросил?
– Так просто. Чтоб новое не выдумывать, хе-хе…
– А ты, бля, Дюжеву заявление напиши, так, мол, и так, не могу придумать осужденному Новикову кликуху. Помогите, в натуре, гражданин начальник, пересидел, мол, мозги у меня хуево работают! А в конце еще напиши: «В связи с хуевыми мозгами прошу дать разрешение на внеочередной ларек…», га-га-га! – поддержал по-своему Петруха.
– То-то я смотрю, у тебя кликуха не по фамилии – «Петруха». Писал разрешение на кликуху Дюжеву? Писал, сучара… га-га! Атак был бы – «Мулицей», – ответил Захар и, повернувшись ко мне, пояснил: «У него Мулицев фамилия». А что, было бы не хуево – «Мулица». А-га-га!..
– А ты – «Захаровна»? Бабушка пересиженная, с высшим кумовским образованием, га-га!
«Бойкие ребята, – подумалось мне, – у них тут все не так плохо».
– Так вот, – продолжал Захар, – отвлекись малость. Отрядник в зоне – первый человек. Хозяин все с его слов делает. Отрядник рапорт написал – начальник пишет постановление. Для начала – ларек. Потом пять суток с выводом. Дальше, если не понял, – пять или десять суток, но уже без вывода.
– А чем без вывода хуже? – спросил я.
– Чем? Без вывода – это значит все десять суток чалишься в камере на одной баланде и пайке. Там клопов и вшей столько, что этой пайкой одних только их не прокормишь. А надо, бля, еще и самому пожрать. Подогрева там нет. Может быть, конечно, подогреют, если с завхозом изолятора каны наладишь. Меня бы, допустим, подогрели. Ну, так я отбарабанил уже червонец. И завхозов этих пережил на своем веку воз и маленькую тележку. Да меня и хуй посадят! Кто план делать будет? Хозяин никогда из-за плана на такое не пойдет. А тебе, Санек, не дай бог туда угодить – придется чалиться на паечке, да-а… А если с отрядником будет все путем – то и ларек лишний, и свиданка внеочередная. Свиданка – это до хуя делов! Здесь за это и в СПП вступают, и оперчасть информируют. С проверки идут строем мимо почтового ящика, что на клубе висит, – раз! – и письмишко в ящик, с понтом, домой. А там внутри ксива старшему куму, Шемету. На конверте адрес домашний, фамилия родственников, а внутри – ксива в оперчасть.
– И дойдет? – спросил я.
– Ты что, не знаешь? Или уже интересуешься, га-га? Письма же вскрываются. Все идут через цензуру, – удивился Захар. – Там, если что-то поблазнит, – вычеркивают тушью. А если начнешь писать про администрацию или про беспредел – такие письма гасят в помойном ведре. А тебя – к Дюжеву или к Шемету. И – на учет, как жалобщика. А это – шило! – добавил он и ткнул двумя пальцами в шею в области гланд.
– Ты, в натуре, человеку лекцию читаешь по кумовской подготовке и тайным засосам с оперчастью, хе-хе! Биографию свою, бля буду, рассказываешь? Есть маза, что ты сам этот ящик и вскрываешь! Га-га!.. – не унимался Петруха.
– Да-а! Заебался я из него твои малявы выкидывать! Одно и то же в них: «Гражданин начальник, довожу до вашего сведения, бригадиру Захарову завезли на зону надувного пидараса». А-га-га!.. Про сало и колбасу уже никто не читает, а-га-га!..
– Я же говорю, Санек, что он еще до Дюжева этот ящик вскрывает! Ты видишь, куда ты попал? Хе-хе… Захар – старая кумовка!
Петруха закурил сигарету и вышел, следом за ним – все остальные. Мы с Захаром остались вдвоем.
– Петруха – мой близкий. Поэтому ты не обращай внимания на наш базар. Это мы меж собой так. Остальным не положено. У меня, честно говоря, разговор с Грибановым про тебя был не очень хороший. Он мне уши тер целый час, что, мол, у тебя иск большой, поэтому только на прямые работы. Что вину, мол, не признаешь, поэтому надо тебя прессануть, место потяжелее дать и прочая херь. Но я в бригаде сам все решаю. Нет, к отряднику, конечно, прислушиваюсь, но в основном все решаю сам. Если что, то через хозяина. Завтра я тебе выходной дал, в жилзоне останешься, отдыхай. Лысый тоже в курсе. Видишь, и место у тебя козырное, и шнырь на швабре ездит, хе-хе. Первое время он с продуктами поможет. Если деньги есть, дашь ему, он все закажет. А на производстве, если грев завезти надо или что-то загнать в зону, – обращайся ко мне. Только не лезь с этим делом ни к кому. Сдадут влет. Кумовья все отберут и в изолятор посадят. А вечером подходи, с нами будешь ужинать.
На этом разговор закончился.
Утро наступило быстро, и о его начале возвестила через весь барак глотка Лысого:
– А ну, давай, подъем!..
Как обычно оглядев «курятник», он проорал в дополнение:
– Давай шевелись, крысы! Хорош кумарить!.. Быстро на завтрак строиться!
Муравейник ожил. Барак наполнился людьми. Все старались как можно быстрее одеться и вырваться на улицу из этой духоты и портяночного смрада. Кто-то на ходу разминал сигарету, кто-то тащил банку с кипятильником. Гвалт, суета, толкотня…
Через несколько минут все стихло. Кроме меня и Собинова осталось еще несколько человек.
– А это что, тоже блатные, хе-хе? – спросил он заспанным голосом. – Как вчера с Захаром поговорил? Что эта рыбина сказала? – тихо приговаривал Толя, закидывая постель одеялом.
– Та-а-к… Все вышли? – просунулся в барак шнырь и побежал, считая людей, по проходу: «Раз…два…три… Новиков, Собинов, на завтрак можете не ходить… Эти пришли из ночной… Вроде все… Можно идти!»
Отряд построился и пошел в столовую. Опять подлетел шнырь:
– Ваш хлеб принесут, я сказал заготовщику. Он на тумбочку положит. А если хотите, сходите на завтрак, каши хряпните. Заодно место свое забейте. За вторым столом ваше. За первым – Захар, Петруха, старшаки евонные. Они на завтрак не ходят, но за их стол никто не садится. Здесь так положено.
Шнырь убежал.
– Масть охуенная! Первый стол… Второй стол… На воле, блядь, бычки собирали. А тут первый стол… – проворчал Толя.
– Да они и здесь кое-кто кашу жрали руками прямо из флотки. Мустафа мне кой про кого рассказывал. Да и по рожам некоторым видно, – жестом изобразил я лысину и длинный буратинный нос, указывающие на портретное сходство с Крамаренко.
– Да, сейчас-то крыса отъелась. Раньше, бля, поди, в сапогах пряталась, а сейчас морда не пролезает…
– Да нет, он, по-моему, с карантина – в СПП. И завхоз по национальности.
Мы тихо заржали.
– Сегодня у нас, Толя, выходной.
– Есть маза – последний, – мрачно улыбаясь, согласился он.
И мы пошли курить во двор.
Через полчаса в открытые ворота, грохоча сапогами, ввалился беспорядочный строй. Последним притащился заготовщик с большим свертком в руках. Заскочил в завхозовскую каптерку, выложил что-то из принесенного и пошел по проходам разносить оставшиеся несколько паек. Наши и чьи-то еще.
Все вокруг опять зашумело, затопало. Замелькали кипятильники, зазвякали банки. Наступала вторая часть завтрака. Целая сотня народу ухитрялась на такой маленькой площади за считаные минуты поесть, собраться, одеться и выскочить через кишащие проходы на улицу, выкурить на двоих, на троих одну сигарету, построиться и двинуться на вахту.
– Стройся на работу! – крикнул во дворе шнырь. – Стройся, быстро!..
Из каптерки выполз Крамаренко.
– Иди, буди Захара с Петрухой, – тихо, по-домашнему сказал он шнырю. Тот на цыпочках пошел в дальний угол.
– Захар… Володя… вставай. Петруха… вставай.
– Да слышу, хули ты мне тут на ухо шепчешь. Привык Лысому шептать, га-га!.. – поднялся Захар. – Петруха, подъем!
– Ты, блядь буду, как на заготовку спешишь… Черпак, в натуре, вижу, вон, из-под подушки торчит! Хе-хе… – проснулся Петруха.
Они еще над чем-то посмеялись и стали собираться.
Через несколько минут все ушли. До проверки оставался час.
Просыпаться рано я уже привык – в следственном изоляторе подъем в шесть утра. Включается встроенный в нишу над дверью репродуктор, звучит гимн Советского Союза. Дальше какие-то новости с героическим уклоном. После них – утренняя гимнастика, под рояль. «…Встаньте прямо… вдохните… глубже… достаньте руками носки…» Особо диковинно это слушается, когда полкамеры сидит на шконарях с «козьими ножками» в руках и дышит газетой, набитой самосадом, который глубже уже не вдыхается. «…Начинаем бег на месте… выше ногу… выше голову…» Конечно на месте. Куда отсюда убежишь?
С тех пор у меня аллергическое восприятие всех этих процедур под аккомпанемент рояля. Как это ни смешно, но утренняя гимнастика, только заслышу ее звуки, ассоциируется у меня не с волей и здоровьем, а с тюремной камерой и ядовитым махорочным дымом. А вот гимн – только с подъемом и пробуждением. И никогда – с тюрьмой. Потому что музыка гимна – гениальная. Потому она выше всех тюрем и клеток, выше всех горестей и напастей, несмотря на то что написана во времена, когда вся страна была одной большой тюрьмой.
– Подъем! На проверку!..
Начали шевелиться и подниматься те, что не ушли с утренней сменой. Работа на разделке шла круглосуточно, поэтому второй и третьей смене позволялось спать до проверки, а после нее – до полудня. Потом – на обед. После обеда строиться – и на работу. С точки зрения бытовых условий эти смены были очень неудобны – они несколько раз в день попадали под различные «подъемы» и «построения». С другой стороны, ночью на бирже поменьше всякого начальства, можно чего-то раздобыть. С шоферами легче и незаметнее договориться. Да и приготовить в тепляке у кого-нибудь из земляков что-нибудь поесть. Ночь есть ночь. Все основное и важное в тюрьме делается ночью. Как и все запрещенное и наказуемое.
– Выходи строиться!
Народу во дворе собралось вдвое меньше, чем рано утром. Петухи уже построились, мужики прохаживались неподалеку. курили. Открыли ворота.
По лестнице послышался стук сапог с набойками и голос Лысого:
– Выходим, выходим!
Мы с Толей пошли в конце строя, где его, собственно, нет – общая кучка, беспорядочно собравшаяся по устоявшейся традиции. Отряд за отрядом уже шагали на плац. В какой-то просвет между этими толпами вклинились и мы своей оравой. Слева по-офицерски, на два шага выйдя из строя, шел Лысый, постоянно покрикивая:
– Так, подровнялись!.. Подровнялись!
Петухи шагали стройно и в ногу. Дальше – нестройно, но почти в ногу – черти. Еще ближе к концу – нестройно и не в ногу – мужики. В самом конце – «иду, как идется, хуй укажешь!» – блатные. В этой компании мы с Толей старались ни в чем не отставать и ничем от коллектива не отличаться. Мустафа намедни подогнал мне черную телогрейку и свою фуражку. Сапоги выдал завхоз. Короче говоря, одет я был в черный цвет и в стиле «ништяк, Санек!». Сапоги, правда, были кирзовые, обычные зоновские, страшноватые, но на первое время годились. Мустафа обещал в ближайшее время раздобыть офицерские, хромовые. Впоследствии, когда я, наконец, заполучил их, радовался им больше, чем лакированным штиблетам на воле. Это было еще одним доказательством того, что все ценности в мире – относительны. Собственно, как и вкусы.
Первым в строю шагал одноухий длиннющий опущенный по кличке Чуча. Одет он был в зачуханнейшую телагу и такую же пидорку. Кроме всего прочего, он был от природы лопоухим, а потому единственное ухо торчало и оттопыривалось от головы так, будто бы его неудачно пришили. Цвета оно было фиолетового, что свидетельствовало о мерах воздействия и воспитания, применяемых завхозом и шнырем. По его торчащей голове можно было ориентироваться, где начало нашего отряда и конец отряда, впереди идущего. Смешаться этим двум строям было невозможно. В конце впереди идущего шли такие же ребятки, как и в конце нашего – в черных телогрейках, с четками в руках, с более развитой мускулатурой и более свободной речью. Так что дистанция при строевом хождении в лагере соблюдалась естественным способом, несмотря ни на какие толчки и напирание сзади. Если она сокращалась до двух-трех метров, последний ряд идущего впереди строя оборачивался, и следовала если не оплеуха, то примерно такая речь: «Ты куда, крыса дырявая, летишь? У тебя что, животное, диоптрии не наводятся?!»
После этого дистанция быстро восстанавливалась. Если же отряд отставал и образовывалось большое пустое пространство, раздавался голос Лысого:
– А ну, живность, подтянулась быстро! Давай, шевели гребнями! Кашей, что ль, опоролись?!
И строй начинал шагать быстрей, несмотря на ритм, задаваемый духовым оркестром.
На плац вырулили лихо и остановились прямо напротив штабного крыльца. Того самого крыльца, на котором курили, ожидая распределения. Все отряды стояли лицом в его сторону. Кажется, их было восемнадцать.
Ждали начальство. В стороне молча переминался с ноги на ногу духовой оркестр. Выглядел он весьма импозантно.
Огромный доисторический полковой барабан, стоящий прямо на дощатом полу плаца. По нему колошматил чертоватого вида парень в синей, грязной телогрейке. Баритон и труба. Ржаво-латунного цвета, гофрированные, будто жеваные. Дули в них примерно такие же, как и барабанщик. Фальшиво и очень громко. Гримасы на их лицах были тоже примерно одинаковые – как и музыка, многострадальные.
Казалось, что у последних двух висят сопли, а сами они не играют, а сморкаются. В общем, оркестр был в образе.
Наконец на крыльцо, рассекая животом окружающую среду, нехотя выполз Дюжев. Нарядчики со счетными досками побежали сверять количество, считая народ «четверками». Пересчитывали по несколько раз, что-то помечая карандашом на дощечке. После этого бежали докладывать стоящему перед строем майору с повязкой «ДПНК».
Когда все сошлось, грянул оркестр, и отряды в обратном порядке двинулись по баракам.
– Ну, как играют? нормально, нет? – с ехидцей спросил меня Лысый. – В такой оркестр пошел бы, хе-хе?
– Без слез не глянешь, – в тон ответил я.
– Они, вот, черти чертями, а от работы освобождены. Числятся где-то в хозобслуге. Кто в бане, кто у коменданта на побегушках. Их бы, блядей, на разделку загнать, во они бы тогда заиграли! Га-га!.. – пояснил Лысый.
Ввалились во двор. Все пошли врассыпную, кто курить, кто варить, кто просто слоняться или спать.
– Письмишко, что ли, домой написать? – зевнул Толя. – Сейчас можно – пиши сколько хочешь. Писать только нечего.
– Сочиняй, напрягай фантазию, – сказал я.
– Сочинять тоже надо умеючи. Напишешь не то – к операм потащат.
– Аты пиши – «то». Мол, дорогие родственники! Здесь очень хорошо. Кормят нас как на убой…
– Нет, на «убой» – нельзя. Подумают еще, что мочить кого-то собрался, хе-хе…
– Ну, тогда так: «Дорогие родственники! Приехали на место. Погода очень хорошая. Поезд попался мягкий, вагон теплый. Начальники здесь добрые и образованные. Особенно подполковник Дюжев…»
– «Дюжев» – вычеркнут.
– Ну и пусть. Зато хоть постебаемся. «Работа здесь не трудная. Ударным трудом буду искупать свою вину, досрочно гасить иск… Очень хочу вступить в СПП… Это что-то вроде комсомола, только еще лучше, и к тому же выдают повязку. За это здесь всех, кто вступил, хвалят…»
– Вот это да! Давай быстрей бумагу, пока текст не забыл, ха-ха!..
Мы докурили, посмеялись и пошли спать до обеда.
Уснуть оказалось не так-то просто. По бараку все время сновали люди. Шнырь носился по проходам со шваброй, вытирая пыль под кроватями. Хлопали форточки, ведра. Я накрылся телогрейкой с головой, и мысли опять полетели за забор. К дому, к знакомым, к друзьям и недругам. Ко всему, что осталось там, где не был уже почти два года. Неполных два… А впереди еще целых восемь. Куда и к кому она будет летать, эта память, через пять? Через семь? И к кому возвращаться придется через десять?
Поймал себя на мысли, что нигде так не мечтается, как в темном холодном карцере, полном крыс, таких же голодных и ожесточенных. Или на шконаре, накрывшись с головой телогрейкой, налегая одним ухом на подушку и закрывая другое закинутой за голову рукой. Удивительно, но вспоминается только хорошее, только самое светлое и радостное. Даже то, что когда-то по ту сторону забора злило и не давало покоя, здесь улеглось и показалось пустыми хлопотами. Лежа под этой самой телогрейкой, понимаешь, что тихо грубеешь, черствеешь, а то и попросту звереешь. Жизнь поменяла краски и правила игры. Хочешь или не хочешь, тебе теперь придется находить в этих новых красках радужные и светлые. И играть по новым правилам. В незнакомую и страшную игру с писаными или неписаными законами, длина которой – срок. А на кону – жизнь. Даже если ты уверен, что выиграешь. Но – время… Впустую уходит время. Тебе сегодня тридцать три года. Возраст Христа. Символично, но что это меняет? Выйдешь – будет сорок три. Это чей возраст? Взрослого мужика, у которого все конфисковали, все отняли. И нет ни кола, ни двора. Свободу отняли – это на время. Десять лет– это навсегда. Единственное, чего не смогли отнять– возможность думать. Вот и думаешь, думаешь… И все больше почему-то о прошлом. О сегодняшнем думать не хочется. Или потому, что оно еще – не прошлое? Будет и оно прошлым. Но каким оно будет, зависит… От чего оно зависит?
– Новиков! К отряднику! – прервал мои мысли голос Лысого.
Глава 6 Отрядник
Начальник отряда капитан Грибанов встретил меня сидя за столом, уткнувшись в какие-то бумаги. На мое «здравствуйте» он откинулся на спинку кресла, скосил голову набок и после недолгой паузы без всякого приветствия изрек:
– Почему входите не как положено? Почему обращаетесь не по форме?
– А как нужно?
– Как нужно? «Осужденный Новиков по вашему вызову прибыл». Что, не учили в СИЗО? Выйдите и зайдите как положено.
– Выходить я никуда не буду. Я не в детском саду.
– Чего? Я не понял, что сказал? Что за тон?
Он свел брови к переносице и, кажется, опешил от такого начала разговора. Его синие глазки вцепились в меня. Он медленно оторвался от спинки и навалился грудью на стол.
– Не надо борзеть. Здесь борзым гривы быстро укорачивают, – не отрывая взгляда, пробасил он, насколько позволяла глотка, нашаривая на столе пачку сигарет.
«Хорошенькое начало, – подумал я. – Этот – настоящий идиот. Да еще и самодур, пожалуй. Но другого не дадут, жить придется рядом с этим. Надо как-то искать общий язык».
– Крамаренко! Завхоз! – крикнул он.
Лысый влетел, не прошло и секунды. Все это время он или стоял за дверью, или прогуливался по коридору.
По его удивленному взгляду я понял, что и он не ожидал застать меня, стоящим возле двери с фуражкой в руках.
– Да, гражданин капитан, слушаю вас, – подчеркнуто, как бывалый служака, прочеканил он.
В глазах «гражданина капитана» сверкнул довольный огонек. Вот, полюбуйся, мол, Крамаренко, кем бы ты на воле ни был, а у меня здесь свой порядок: я сижу, а Новиков как миленький стоит у двери. И будет там стоять сколько надо.
Лысый не слышал нашего разговора, поэтому в его глазах картина так и выглядела: сидит вальяжный Грибанов, а перед ним смиренный Новиков теребит в руках фуражку. Картина и впрямь довольно позорная. И я попер внаглую:
– Может, вы все-таки разрешите присесть, гражданин начальник, а то мне как-то неудобно на вас сверху вниз смотреть.
Слова «на вас сверху вниз» подействовали на него как укус гадюки.
– Разрешаю.
– Благодарю.
Я придвинул стул и сел напротив.
– Крамар, – панибратски обратился он к Лысому, – в какой проход его определил?
– В третий, гражданин капитан.
– В третий? В третий рано. В шестой надо. А лучше в десятый.
– Дак Захар сказал…
– Захар? А он у меня спросил, твой Захар? Так… Потом зайдешь, поговорим на эту тему.
– Понял. Сделаем, как скажете, гражданин начальник, – пробормотал он и смылся.
Тюрьма не только отнимает и заставляет. Она еще и учит. Где-то я читал, что маленький ребенок, попавший в беду, за несколько дней взрослеет на целые годы. И даже находит выход из ситуации, из которой не каждый взрослый его найдет. Экстремальная ситуация будит в человеке вместе с инстинктами и неведомые способности. По самым мелким и незаметным признакам человек улавливает приближение беды. Предчувствует ее, расставляет все возможные беды по полочкам, выбирая из всех – главную. От которой надо спасаться и защищаться. С которой надо справляться. Определять, из чего или от кого она исходит. Если эта беда – землетрясение, – предчувствовать и предвидеть его по тревожному бегству змей, лягушек, кошек и прочей живности. Если эта беда – огонь, – по едва уловимому запаху гари. По отсветам пламени, в конце концов. Если эта беда – человек, – то по тысячам мелочей, которым чаще всего нет объяснения. Эти мелочи видит и понимает только одна часть души – интуиция. Чем дальше она видит, чем острей ее зрение, тем больше шансов. Она и только она просыпается раньше всех и весь свой опыт пускает на защиту.
Тюрьма сама по себе – не беда. И опасности сама по себе не представляет. Главная опасность в тюрьме – человек. Он неповторим, а потому и опасности исходят от него разные. А потому в тюрьме есть только одна весталка – интуиция.
Я глядел на сигаретную пачку, которой поигрывал мой новый начальник, проводя со мной «ознакомительную беседу». До слуха моего долетали обрывки его дежурных фраз и наставлений, которые он вбивал в мозги каждому вновь прибывшему. Я пытался по этим фразам, этим жестам, этой мимике понять, что он за человек, чего от него ждать и в какой момент. Это нужно было сделать сейчас и быстро. Беседы не получалось. Говорил пока только один он. Говорил о том, что работа здесь – родная мать и что от этой самой матери зависит вся моя судьба. В общем, все как в передовицах «Козьего Знамени», которое мы уже читали в коридоре штаба.
Через полчаса некий портрет его начал вырисовываться и выглядел примерно так.
В общих чертах – идиот. Падок на лесть. Склонен к самодурству. По натуре не очень злой. Больше старается таковым казаться. Любит показать, как все ему подчиняются. Безынициативен – во всем выполняет только распоряжения вышестоящего начальства. Исполнителен. Не слишком образован. Не слишком грамотен. Очень доволен собой. Прямых конфликтов избегает – боится выносить сор из избы. Трусоват. Не в меру любопытен. По совокупности упомянутых качеств создает впечатление идиота средней руки.
«Для начала портрет неплохой, – подумал я уже несколько веселее. – Будем искать общий язык».
Возникла пауза, и я начал:
– Бросил было уже курить, гражданин начальник, но вот от нашего разговора что-то разволновался… Мне показалось вначале, что вы тоже не курите.
– Кури, кури… А с чего ты так решил?
– Да у вас вид такой спортивный, – ударил я тупой лестью в самую толстую струну его «самосознания».
– Да-а. Занимаюсь иногда. Я считаю, раз форму одел, надо держать себя в форме, – выпалил он, довольный своей остротой, состроив брови домиком. Любую мысль, показавшуюся ему умной, он неизменно сопровождал этим мимическим упражнением.
Быстро потушив сигарету, он продолжил, интересно переводя спортивную тему к вопросу о погашении иска:
– Здесь на спорт времени нет. Здесь спорт – это работа. Работа тяжелая, прямо скажу. Но на свежем воздухе… Хвоя… Хвойные породы в основном. Оплата сдельная – зависит от выполнения плана. Деньги идут на карточку, а там уже вычитают. Если алименты или иск… Иск у тебя ведь большой? Сто шестьдесят шесть тысяч, кажется, так?
– Так.
– В сто первой бригаде самые высокие заработки. Рублей шестьдесят в месяц бывает. Летом – на сплаве работают. Тоже хвойные породы…
Фразы мне показались очень знакомыми. Где-то я их уже слышал. «Вот так это дело, само дело, ебиомать… хвоя…» Да… Здесь поют с одной дудки.
Дальше заговорили о семье. О ранее судимых родственниках, которых, к его видимому огорчению, у меня не оказалось. О следствии и суде. Об общественном мнении. И здесь я, уловив момент и руководствуясь составленным психологическим портретом, рассказал ему такую брехню собственного сиюминутного сочинения, что «гражданин начальник» мигом перешел в разряд разинувшего рот слушателя. Брехня была перемешана напополам с правдой. Правды было меньше, и только та правда, которую он мог знать из личного дела или приговора. Брехни было втрое больше, но он ее не знал. Поэтому все вместе производило довольно убедительное впечатление. В общем, вспомнил Остапа Бендера и начал:
– Посадили меня по личному указанию Андропова. (Андропов, правда, умер до моего ареста. Но что особенного – «дедушка умер, а дело живет!..») По указанию КГБ СССР, с подачи идеологического отдела ЦК КПСС (что, собственно, было правдой) за мной начали следить. На Западе мои песни крутили по радиостанциям (что тоже было правдой). Это вызвало раздражение и гнев соответствующих органов. Дали указание найти «за что» и посадить (тоже правда). Ельцин как первый секретарь обкома (чистая правда) пытался свести все к инциденту областного масштаба, даже пытался помочь (а вот это уже была чистая брехня), но ничего поделать не смог. Сегодня дело находится под пристальным наблюдением западных правозащитных организаций (полуправда), жена получает оттуда запросы обо мне (брехня). И поэтому в тех тюрьмах, где я сидел под следствием, начальники отвечали за меня головой (чистая брехня). Если со мной что-то случится или меня начнут прессовать, Запад поднимет шум и будет международный скандал (полуправда-полубрехня, на усмотрение слушателя). Поэтому, чтобы меня не зачислили в разряд политзаключенных, начальству в Главном Управлении (!) дали команду: ничего лишнего в отношении меня не предпринимать. В противном случае, не дай бог что случись, начнут ездить из Красного Креста, из «Международной Амнистии» (брехня в квадрате), приедут, увидят, что в этом лагере творится, и тогда раздуют такой базар, что местным начальникам придется головы поотрывать. А после этого будут ездить сюда каждый месяц иностранные наблюдатели (брехня, да еще какая). Лично я шума никакого не хочу, хочу сидеть себе тихо, погашать иск по мере возможности (брехня), чтобы выйти отсюда поскорее (чистая правда). А кроме всего, начинается перестройка (куда деваться – правда), и я имею сведения, только вам одному скажу, по секрету, что по моему делу сюда вскоре приедет целая комиссия (брехня из брехней!).
По мере моего рассказа домик из бровей гражданина капитана становился крышею своей все круче и круче. А лицо все умнее и умнее. Потом поговорили о распорядке, о рабочем графике, о самодеятельности. Между делом он достал какую-то желтую книжку, на обложке которой было напечатано: «Тетрадь индивидуальной воспитательной работы с осужденным». Повертев в руках, крупными буквами вывел в три строки мою фамилию, имя и отчество. Приклеил фотографию. Еще подумал и рядом с фотографией начертал: «Иск 166 711 руб.»
– Крамаренко!
– Я здесь, гражданин начальник…
– Так, в общем, остается в третьем проходе. Все вопросы с каптеркой реши.
– Уже решил.
– Расскажи, как написать заявление на личное свидание, на посылку из дома.
– Сделаем, гражданин капитан!
Крамаренко безошибочно определил настроение начальника. Может быть, по голосу все той же собственной интуиции. А может быть, ему хватило всего трех слов: «Остается в третьем проходе».
– Разрешите идти? – спросил я тоном встающего на путь исправления, просветленного беседой с прозорливым и умным начальником.
Брови сложились в домик.
– Идите, осужденный. Желаю успеха.
Я встал и пошел к двери. Лысый схватил со стола пепельницу полную окурков, поглядел на меня, на начальника, снова в пепельницу и выскочил следом. В этот день в желтой книжке с моей лысой физиономией появилась первая запись. Много позже, когда я освободился, милые и добрые женщины, работницы спецчасти, в нарушение всех должностных инструкций, вытащили ее из моего личного дела и подарили мне. Низкий им поклон. Как много я мог не узнать о себе, если бы не они. Но это будет потом, не скоро. А пока, довольный беседой, я шел к своей койке делиться с Толей впечатлениями. День выдался по меркам этого края ясный. Солнце несколько раз показывалось из– за туч. Оно не грело, но оно – было. А значит, не все так мрачно и серо. Ни в небе, ни на душе. Захотелось поиграть на гитаре. Так захотелось, что ноги сами чуть не рванули в клуб. Но в клубе нет гитар. Да и что сейчас сыграешь – я не держал ее в руках уже полтора года. Нет, ничего не забыл, просто руки ее, гитару, забыли. А вместо нее завтра придется взять крючок и раскатывать по эстакаде баланы. А еще хуже того – грузить доски. Березовые шестиметровые плахи, непомерного веса, в которых заноз не пересчитать. Три человека на вагон. Шестьдесят тонн на троих за смену. Да черт с ней, с гитарой, придет время, не вечно же сидеть здесь. Пойти просто так в гости к Мустафе с Файзуллой, сегодня выходной, в конце концов. Здесь их почти не бывает. Если дадут раз в месяц – радуйся. Другим и этого не перепадет. Хотя кто его знает – это все по рассказам. Сам пока не видел, не знаю. Здесь все живут по– разному. Поэтому говорят и рассказывают те, кому плохо. Кому хорошо– молчат. Посмотрим, каково будет мне. С завтрашнего дня и посмотрим. А сейчас – к Мустафе, расскажу про идиота-начальника. Вот и поржем.
С этими мыслями я пошел предупредить Лысого, на случай, если меня хватятся или будут вызывать куда-нибудь, что я в клубе.
– Отрядник сказал, что тебе ходить по зоне запрещено. Хозяин запретил. Но иди, если хочешь… Если что – я тебя не отпускал.
– Понимаю. Если будут искать – пошли кого-нибудь за мной.
В ответ Лысый только ухмыльнулся и молча покачал головой.
Файзуллы на месте не было. Как оказалось, он ушел на производство забирать заготовки для шкатулок и подносов, которые он резал в премногом числе. На производстве, в промзоне, был отдельный цех по изготовлению ширпотреба. Одно из самых теплых и доходных мест в зоне. Делал цех то же самое, что и Файзулла, но в более примитивном виде и не такого высокого художественного достоинства. Файзулла был Фаберже местного пошиба. Всем комиссиям, посетившим колонию – от образовательной до прокурорской, в штабе дарили памятные сувениры. Тем, что поплоше – деревянные наборы цехового производства. Комиссиям позубастее – изделия от Файзуллы.
Художка была заперта, а из-за соседней двери, что вела в библиотеку, доносились голоса.
Я толкнул дверь и вошел. В первом небольшом кабинете за столом в тельняшке навыпуск сидел Мустафа. Напротив него стоял какой-то парень.
– О, привет! – обрадовался Мустафа. – Подожди в соседней, книжку возьми, если хочешь, почитай. Сейчас с этим вот закончу…
Я прошел в соседнее помещение. Это, собственно, и была библиотека. Рядами стояли стеллажи с книгами. Как в самой что ни есть городской библиотеке, только гораздо меньшего размера. Книги были большей частью новые, в очень хорошем состоянии. В глубине помещения стоял топчан, выполняющий функцию дивана и кровати. Взяв первую попавшуюся книгу, я присел на него и начал листать. Из кабинета отчетливо слышались голоса Мустафы и пришедшего. Последний говорил с сильным украинским акцентом, гыкая, окая и растягивая слова. Диалог был интереснейший.
– Та-а-к… Как твоя фамилия, говоришь?
– Павлюченко.
– Хохол?! – радостно спросил Мустафа.
– Та чистокровный! Вжель так нэ видно?
– Конечно, видно. Еще как видно. А книги-то тебе надо, или завхоз послал?
– Та нэ, нэ завхоз. Для сэбе.
– А у меня на хохляцком языке книг нэмае. В СПП состоишь?
– Состою. Кабы ж не состоял, так до быбливотеки не отпустили б.
– По жизни кто?
– Мужик… Нормальный. А шо?
– А шо? – передразнил Мустафа, – а шо? Нет, ты посмотри, бля, – мужик! В СПП состоит! Сам – хохол! По– русски – еле-еле ботает… На заготовку ходишь? А?! – рявкнул он, и тельняшка начала медленно подниматься над столом.
Зашедший книголюб попятился к двери.
– Ну ладно, Марат… я в следующий раз…
– Куда?! Какой следующий раз?! – Мустафа схватил читателя одной рукой за горло, другой дал по печени, под дых. Тот вырвался и бросился бежать.
– Куда?! Стоять! Я тебя еще не записал! Сейчас, блядь, запишу, тогда пойдешь!
После каждого слова он осыпал его ударами по «требухе».
– Ни один хохол еще не вернул книгу в нормальном состоянии! Все хохлы – пидарасы!.. Говори, сука, будешь ходить в библиотеку, а, сэпэпэшное хуйло?! Заготовная крыса! А?! – выкрикивал он, продолжая бить.
– Не-е… Никогда… Марат!.. Никогда больше нэ приду!
– И скажи всем своим хохлам, за то, что книги мне в прошлый раз покоцали, поубиваю козлов, если хоть один еще придет!
Павлюченко вскочил с пола и бросился бежать. Мустафа нагнал его в дверях и что есть силы пнул под зад. Сапоги прогрохотали по коридору, хлопнула центральная дверь клуба, и все стихло.
Я вышел к запыхавшемуся Мустафе. Тот кружил по комнате, как тигр в клетке, приговаривая:
– Что ни хохол – вот такая крыса! Этот этап пришел с Украины. Сразу пол-этапа – в СПП, пол-этапа – в заготовщики. Остальные – в пидорасы. И все – читать! Записались в библиотеку, чтоб по зоне друг к другу в гости ходить. Завхозу говорят, что в библиотеку, а сами, бля, чифирят у кого-нибудь в отряде. Назавтра у другого собираются, мутят что-то свое… Мне завхозы жалуются, так, мол, и так, отрядники недовольны. Хозяин на отрядников наезжает. Дюжев наезжает. Те на завхозов наезжают. В общем, говорят, давай, Мустафа, выписывай их как-нибудь.
Замполиту говорить нельзя – ему чем больше в библиотеке народу записано, тем лучше. Значит, воспитательная работа идет. С одной стороны, замполит – мой прямой начальник, с другой – завхозы просят. Короче, вот такая хуйня.
Он сел за стол. Взял ручку и совершенно спокойным тоном, будто собрался писать письмо любимой мамочке, произнес:
– Та-а-к… Павлюченко… Из библиотеки выписался… добровольно. – Аккуратно вывел что-то напротив фамилии и повел ручкой вниз по списку, бормоча под нос: – Павлюченко… Иванов… Зотов… Анисимов… Тищенко… О, бля, Тищенко! Какой отряд?.. Семнадцатый. Сейчас, подожди еще минуточку, Александр, я шныря за этим пошлю. Надо за неделю библиотеку в порядок привести.
– Мустафа, так у тебя вообще ни одного читающего не останется, хе-хе, – рассмеялся я.
– Это было бы идеально. Для меня идеально – это чтоб в списках были, а сюда вообще не ходили. Никакой головной боли. И книги не покоцаны, и время свободно.
Мои первые впечатления о его библиотекарских качествах полностью подтвердились: чтобы люди перестали читать, не надо прекращать выпускать книги. Надо поставить таких, как Мустафа.
– Ну, а мне-то можно?
– Если хохлов в роду нет, хе-хе…
Он набрал в банку воды и вытащил большой полиэтиленовый мешок с чаем.
– Вообще говоря, книги здесь всякие. Вся классика. Поэзии хватает. Замполит говорит, что у него даже дома таких нет. А эти пидоры, – кивнул он на дверь, – берут почитать, а сами то портачки рисуют, то на самокрутки страницы выдирают. Или вообще теряют. А мне перед Филаретовым отчитываться потом. До меня тут был один мудак библиотекарем, назаписывал кого попало. Когда я заступил, триста с лишним человек числилось. Ну, куда на хуй? Я ревизию провел, посчитал, сколько книг на руках, сколько на полках. Потом, когда стали обратно сдавать, аж ужаснулся – не книги, а дранки какие-то. И самые драные, как ты думаешь, кто сдает? Конечно, хохлы!
– А татары есть? Татарам-то должна быть лафа?
– Не-е. Татары молодцы. Татары вообще не читают! Ха-ха!..
Вода в банке вскипела. Он засыпал чай и вытряхнул из мешка на стол шоколадные конфеты.
– Давай чайку попьем лучше. А то сейчас придет этот… как его… Тищенко, испортит все настроение.
– А сколько человек на сегодня осталось? – в заключение все-таки спросил я.
– Хохлов? Человек сорок… Может, пятьдесят. – Он развернул конфету, откусил и добавил: – Надо их всех актировать. В списках для штаба пусть числятся, а так – на хуй нужны. Список я для себя веду. Филаретов если узнает, что у меня в библиотеке всего двадцать человек, – обомлеет. Заставят ходить по отрядам, агитировать, загонять. А так все ништяк. По списку – триста. А приходят двадцать. Милейшее дело.
В дверь постучали.
– Да-а! Кто там? Входи!
– Марат, звал?
На пороге стоял человек в застегнутой на все пуговицы телогрейке. На нагрудной бирке было написано: «Васильев В.».
– Звал. Как фамилия?
– Тищенко.
– А-а-а! Тищенко! – обрадовался Мустафа. – Вот и Тищенко! А я тут думаю, где потерялся? Значит, Тищенко?
– Так точно.
– А почему на бирке – «Васильев»?
– Та шоб по дороге не чекернули… Завхоз выходить с отряду не дает. Не верит, шо до клуба.
– Хохол?
– Так точно.
– В библиотеке записан?
– Так точно.
– В СПП состоишь?
– Так точно.
– Ты что заладил – «так точно… так точно…»? Отвечай: хохол ты или не хохол?!
– Хохол.
– А я так думаю, что ты не хохол… А чистый пидор!
Мустафа вскочил из-за стола, схватил его, как и предыдущего, за грудки и начал бить по бокам, приговаривая на каждый удар: «Так точно!» Тищенко обмяк и повис на кулаке Мустафы.
– Не-е… не пидор… не пидор…
– Повторяй, гидра, быстро за мной: «Все хохлы, которые не сдали книги, – пидарасы… Так точно! Все хохлы, которые покопали книги, – пидарасы!.. Так точно!» Повторяй, козлопетух!
На каждое «так точно!» Мустафа бил его наотмашь пятерней по темени.
Потом загнал в угол, поднес к самому носу кулак и, выкатив глаза, прорычал:
– Ну что, будешь дальше ходить в библиотеку?!
– Нет… не буду… никогда не буду.
– Книгу принес?! Ну-ка, давай сюда.
Тищенко запустил руку под телогрейку и извлек ее из– за пояса.
– Та-а-к… Сейчас все страницы пролистаю, если, не дай бог, есть хоть одна портачка – будешь повторять сто раз то же самое на одной ноге, вот здесь, прямо в углу! Понял?!
Мустафа начал листать.
– Так… смотрим прямо с первой страницы… Ага!.. Вот на десятой пятно от чифиря! – изо всей силы треснул он Тищенко по башке. – А вот на пятнадцатой!.. А вот, на двадцатой!.. А вот, блядь, вся книга покоцана! Вот! вот! вот! – продолжал бить его по темени Мустафа. – Я тебя научу, суку, книги читать! Вот! вот! вот!
Очередной читатель выломился так же, как и первый. Его нагнал такой же увесистый пинок.
– Ну вот, видишь, Александр, приходится из-за таких козлов нервы портить.
Он сел за стол, придвинул список.
– Та-а-к… Тищенко… Выписался добровольно… Книгу сдал. Какое сегодня число?
– Девятое апреля, кажется.
– Так и запишем. Девятое апреля, тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. Кто у нас там следующий по списку?
В коридоре послышались шаги и голос, напевающий что-то.
– Файзулла пришел. Наверняка чего-нибудь пожрать с биржи притащил, – сказал Мустафа и стал собирать бумаги со стола.
Отворилась дверь, в проеме выросла фигура Файзуллы с карикатурно выпяченным вперед животом и втянутой шеей, всем видом изображающая Дюжева:
– «Всем оставаться на местах!.. Приготовить к добровольной выдаче запрещенные предметы!.. Члены СПП от шмона освобождаются!.. Мустафин – в изолятор!»
Файзулла довольно улыбался и кривлялся.
– Я же говорю, жратву принес, – сказал Мустафа.
Потом повернулся к двери и куражно отчеканил:
– «Осужденный Файзулленко! Вы хотите записаться в библиотеку? Только что освободилось два места. Вам надо срочно заполнить анкету!»
Файзулла достал из-за спины сверток и, врашая им над головой, дразня и кривляясь, стал припевать фразу из известного фильма на башкирский манер.
– Я вам денежки принес… за квартиру за январь… Я вам денежки принес…
Мустафа картинно схватил его за шиворот, будто повторяя на бис два только что исполненных номера, и начал, гримасничая, задавать вопросы, сам же на них отвечая:
– Фамилия? – Файзулленко! Национальность? – Хохол! В СПП состоишь? – Еще с воли! На Дюжева работаешь? – Еще как! Читателем хочешь стать? – О-о-чень!
Он вывернул из рук Файзуллы сверток и, выпихнув его за дверь, крикнул вслед:
– На сегодня – свободен! За книгами будешь приходить с салом!
– У-у-у, крыса ненасытная… – прогудел из-за двери Файзулла. – Пошли ко мне, Александр.
В разгар нашего застолья в дверь резко постучали. Через несколько секунд стук повторился с утроенной силой, и голос из-за двери прокричал:
– Откройте! Сколько раз говорил – не запираться! Файзулла!..
Голос был с явным татарским акцентом, неимоверно громкий и противный.
– Загидов приперся, завклуб, – констатировал Файзулла. – Сейчас начнет гундосить.
– Александр, сиди, не обращай внимания. Он так-то беззлобный – поорет и уйдет, – добавил Мустафа.
Открыли дверь. В комнату впрыгнул среднего роста дедушка, весь в черном, обритый налысо, с фуражкой в руке. Он размахивал ею, помогая себе говорить. Повышая тон, задирал ее над головой. Понижая – опускал ниже пояса.
– Так… Понятно. Конечно же – едят. С завклубом хер поделятся! – то ли серьезно, то ли в шутку начал он, не обращая на меня ни малейшего внимания. – Конечно, Загидов – старый…. Загидову– скоро на волю… Загидов сало не ест… Загидов – татарин. Зачем ему сало!
– Ладно, ладно, Загид-бабай, чего ты разволновался? – хитро похлопал его по плечу Мустафа.
– Файзулла, планшеты для замполита сделал? – перешел на деловой тон Загидов.
– Давно лежат готовые. Никто не приходит забирать.
Не слушая Файзуллу, он пошел вкруговую по комнате,
заглядывая за планшеты, в шкаф, по углам, будто выискивая что-то.
Он отворачивал стоящие вдоль стен рамы, поднимал что-то с пола, заглядывал под тряпки. Причем как-то бессмысленно, автоматически, бросая вещи, лежащие на самом виду – на подоконниках, на верстаке. Даже в стоящее у входа мусорное ведро заглянул так пристально, будто на дне его лежало что-то ценное. При этом приговаривал:
– Конечно, бля… Еще бы, бля… Бардак, бля…
Сделав круг, опять очутился у стола.
– Из какого отряда? – неожиданно спросил он, повернувшись ко мне.
– Как тебе не стыдно, Загид-ата? Не узнаешь самого известного на зоне человека?.. Это Александр Новиков.
Я улыбнулся. Загидов неожиданно тоже. Мы одновременно протянули друг другу руки. Знакомство состоялось.
– Надо было не закрываться тут. Надо было человека ко мне пригласить, – переходя на добрый тон, начал он выговаривать Файзулле. – Мозги от сала совсем заплыли… мылом.
Еще раз протянул мне руку и уже совсем приветливо сказал:
– Очень приятно. Заходи, как будет время. Поговорим о делах наших клубных. В шахматы поиграем. В шахматы хорошо играешь?
– Играл когда-то. Вроде бы неплохо…
– Приходи, я тебя обыграю. Не просто обыграю – разгромлю.
Он потряс фуражкой над головой и выпрыгнул гак же быстро, как и появился.
– Хитрый татарин, – произнес вслед удалившемуся Загидову Мустафа. – Сделал вид, что тебя сразу не узнал. Уже кто-то цинканул, что ты здесь – пришел проверить. Завтра утром Филаретову побежит докладывать. Ему освобождаться скоро, а он все за свое место трясется. Помиловку ждет. Полгода назад написал. Каждый день ждет. Все на домино гадает: скинут – не скинут. Крыша едет потихоньку.
Остаток дня прошел в разговорах о воле. В воспоминаниях и даже в анекдотах. На душе как-то отлегло и посветлело. Это был и вправду настоящий выходной. К вечеру, перед проверкой, я вернулся в барак. О том, что этот выходной – последний, я, конечно, еще не знал.
Вечерняя проверка, как оказалось, во многом отличалась от утренней. Во-первых, народу было в несколько раз больше – почти вся зона. Плац был забит до отказа. Кроме этого, было уже темно и, несмотря на развешанные по углам площади прожекторы, все тонуло в полумраке. Огромная сине-черная масса, состоящая почти из двух тысяч человек, гудела, ходила ходуном и пристукивала каблуками. В конце каждого строя шло движение. Земляки перекрикивались, иногда что-то быстро передавали друг другу. Очень быстро и незаметно. В этом людском месиве, в сумрачном свете вряд ли кого-то можно было распознать. Надвинул на глаза шапку, повыше задрал воротник, и – родная мать не узнает.
Пока ждали начальство, можно было отбежать на несколько минут в сторону, чтобы с кем-то пообщаться. Земляки или друзья иногда не могли неделями увидеть друг друга – работали в разные смены, в разных концах. Кто на бирже сырья, кто на лесозаводе. Поэтому вечерняя проверка была единственной возможностью встретиться. Начальство зорко следило за такими перемещениями и строго наказывало за них. Почему – я узнал чуть позже. А пока толкался в конце строя, подбивая чечетку каблуками кирзовых сапог и пересмеиваясь с окружением.
Вышел ДПНК Панков, Дюжев и все начальники отрядов. Никто не говорил, не командовал – ждали Нижникова. Хозяин задерживался. Проверка затягивалась. Толпа начала шататься и переминаться с ноги на ногу. Паузу прервал Дюжев:
– Та-а-к… Ну-ка, встали как положено! А то распрыгались! Кое-кто у меня на День космонавтики суток на десять «в космос» слетает. Без вывода на работу. У меня тут есть один «гагарин» на примете, хе-хе…
Откуда-то из дальних рядов крикнули буратиньим голосом:
– Да хули Гагарин, гражданин начальник!.. У нас тут своя Терешкова есть!
Плац грохнул от хохота.
Дюжев расплылся в улыбке. Живот его выпятился еще сильнее и затрясся. Смеялся он беззвучно, одним животом.
– Я смотрю, там добровольцы объявились?
Дюжев прекрасно знал, что крикнул кто-то из блатных, поэтому глядел поверх голов, в конец строя.
– Давай, Валя, не балуй! А то я тебя завтра замуж выдам… за Гагарина, хе-хе…
Плац загоготал снова.
В этот момент из дверей вышагнул полковник Нижников. Он оглядел всех слева направо. Толпа стихла.
– Та-а-к, вот так это дело, само дело ебиомать… – приветственным тоном начал он. – Всех посчитали? Кто докладывает, вот так это дело?..
ДПНК Панков, «Сашка Блатной», подошел к Нижникову, что-то объясняя, несколько раз оборачиваясь на строй. Дюжев стоял и млел, не глядя на полковника, а только покачивая головой и переминаясь с каблуков на носки. Кое-где слышались смешки.
– Хорош базарить! – крикнул Панков, всем своим видом показывая, что можно начинать.
Нижников кашлянул в кулак и громко произнес:
– В этом месяце, вот так это дело, план у нас почему– то отстает. В прошлом месяце работали хорошо… А в этом что-то хромает, само дело ебиомать! В чем дело? Давайте, вот так это, начальники отрядов, серьезно отнесемся…
Далее следовала длинная пламенная речь. Надо отдать ему должное – он никому не грозил, не стращал изоляторами. Он просто призывал, давайте, мол, мужики, приналяжем. Вы ведь можете работать, умеете работать. Но что-то у вас разладилось. Давайте наладим – по-другому нельзя.
Высказав все, что касалось производства и плана, он закончил информацией о приближающемся празднике в своей весьма своеобразной манере:
– У нас, вот так это дело, приближается праздник. Кто не знает – День космонавтики, само дело… В космос, конечно, вам еще рано, но улететь домой, на свободу пораньше, если работать как следует, то, понимаешь, вот так это дело, само дело ебиомать!..
На этом проверка завершилась. Отряды вновь загудели и двинулись по баракам. Издалека слышны были выкрики и остроты на тему космонавтики.
– А Дюжев, бля буду, – лучшая Терешкова на всем Ивделе!.. бля буду!
– Не-е… У него дупло широкое – в ракету не пролезет!
– Да ему эту ракету нужно в дупло забить и запускать! А-га-га-га!..
При повороте с плаца на лежневку на углу стоял Панков, дымя сигаретой и оглядывая проходящих.
Он узнал меня, возвышающегося над толпой, и чуть заметно кивнул в знак приветствия. Потом, будто спохватившись, крикнул вслед:
– Ну, что, Новик, как устроился? Все нормально?
– Лучше не бывает, гражданин начальник!
– Пиздишь, конечно. Но слышать приятно, ха-ха!
Остаток вечера прошел в обычных хлопотах. Прокричали
отбой, в красном уголке погасили телевизор – завтра на работу. Завтра еще один день от срока – долой. Я, лежа, писал письмо. Закончил, вложил в конверт и, не заклеивая крыла, захлопнул между страницами. Книга была – рассказы О'Генри. Ее мне любезно, на просьбу почитать что-нибудь повеселее, дал Мустафа.
Проснулся я от резкого толчка в плечо.
– Подъем, подъем… Новиков, подъем…
Шнырь Дима бегал по проходу и выборочно толкал спящих, называя фамилии:
– Собинов, подъем…
Я поднял голову. На меня с соседнего шконаря сонно глядел Собинов.
– Куда подъем? Что, утро уже? – ворчал он.
– Сколько времени? – спросил я его. – Что за новости?
Шнырь торопливо будил мужиков:
– Ночное звено!., вставай… вставай!
– На погрузку… Опять, бля, на погрузку вагонов, – процедил кто-то из глубины барака.
Народ начал копошиться, собираться на работу.
Мы с Толей вышли, закурили. Времени был третий час ночи.
– Ну вот, блядь, началось. Вагоны по ночам грузить, – мрачно бубнил он. – Ни поспать, ни пожрать… Слушай, а какое право они имеют на работу ночью выгонять? Я же спал всего два часа? – обратился он к кому-то из курящих рядом.
– А здесь это по хую! Здесь день и ночь не различают. Чтоб спать только ночью, а работать только днем – не канает.
Мы стояли в стороне и гадали, по какой такой причине мы выходим не утром со всей бригадой, а звеном в два десятка человек, глубокой ночью, да еще на погрузку.
Ко мне подошел чернявый смуглый парень, протянул руку и с непонятным легким акцентом представился:
– Познакомимся… Меня Славка зовут. Не удивляйся, что немного с акцентом говорю – я болгарин. Нас тут несколько человек по одному делу.
Славка сразу чем-то мне понравился. От него веяло спокойствием, правдивостью и мужеством.
– Пойдем в сторонку, а то тут одни уши, – тихо сказал он.
Мы пошли к калитке.
– Это Грибанов, скорее всего, приказал тебя прессануть. Ты, говорят, с ним с первого дня поцапался?
– А ты откуда знаешь?
– Здесь все долетает вмиг: один сказал, другой – передал… Через пять минут вся зона знает.
– А ты здесь давно?
– Уже больше года. До этого на разделке работал. А тут на свиданку родственники приезжали. Посылку получил. А грев завез не через Захара, а через наших – на лесозаводе один болгарин имеет возможность. Ну, короче, с этими блядями не поделился, вот на измор и поставили, вагоны грузить по ночам. Адская работа. Тебя, смотрю, тоже решили – под молотки.
– А с какими блядями не поделился?
Славка так искренне удивился, что даже встал как вкопанный.
– Как с какими? С Захаром, с Лысым, с Петрухой… Это, Александр, не простые ребята. Еще увидишь, что это за люди. А меня сейчас будут морить, пока денег не принесу или половину жратвы не отдам. Хуй им! Меня морить бесполезно – с работой я справляюсь. Просто сейчас загнали на погрузку, чтоб все видели: вот, смотрите, у Керина свиданка была недавно, а сразу после нее – на вагоны. Делайте выводы.
Он закурил еще одну сигарету и продолжил:
– А бывает наоборот. Работает человек на разделке, на срывке дров, например, вдруг – свиданка. Вышел с нее, проходит день-другой, а на третий уже или инструментальщиком в этой же бригаде, или кочегаром. Короче, почти не работает и в тепле. Но это ненадолго. Месяц-два покайфует – и опять на разделку. Захар долго в тепле никого не держит. Потом начинают люди подходить, будто невзначай советовать. Мол, так и так, перевод из дома проси выслать. Адрес вольного человека из поселка дадим. Получит, себе чуток заберет, остальное занесет. А лучше через Захара сделай. Сам понимаешь, все до тебя не дойдет, зато опять в тепле сидеть будешь. В общем, Александр, эти бляди тут неплохо кормятся.
Меня удивили его прямота и смелость. Долети его слова до Захара, пришлось бы ему несладко. Славка будто уловил мои мысли:
– Я их не боюсь. Будут прессовать, будет невмоготу – возьму сучкоруб и завалю. Мне по хуй! Я никогда головы не гнул и никогда ни на кого не надеялся, кроме себя самого. Они все – твари. Я-то никого не убивал. Не грабил. Я лес на воле пилил. У нас бригада была вся из болгар. Пилили, разделывали, на юг отправляли. Это под Алапаевском было – город такой рядом со Свердловском, знаешь? А нам хищение впаяли, 93 прим., в особо крупных размерах. Мне девять лет дали. Остальным по десять да пятнадцать. Сейчас по очереди кассатки пишем, но пока – глухо. Посмотрим, как дальше будет… Ты знаешь, за что Захар сидит?
– Ну, что-то слышал… – уклончиво ответил я.
– Девочку пятилетнюю изнасиловал и в пустой колодец бросил. Все, кто вокруг Захара, – твари. Поэтому – мне по хую. Они, кстати, это чувствуют. Прессуют до определенного предела, а там опять отступаются. Но я им ни копейки, ни куска не давал и давать никогда не буду. И ты не давай. Один раз дашь – весь срок тянуть будут. Из-под пресса вылезать не будешь. Они же думают, что у тебя миллионы. Видишь, сразу подтянули: «Санек, попей чайку с нами, поешь с нами…» Будь осторожней, Александр.
Он почему-то меня называл полным именем. Никаких – «Санек». Никаких – «Новик». А себя – «Славка». С болгарским акцентом это звучало мягко: «Слаука». Свою фамилию Керин он тоже произносил на болгарский манер – Слаука Керэн.
– Стройся!.. Пошли.
Все сбились в строй по два человека. Получилось примерно десять пар. Мы с Толей шагали рядом. Славка с кем– то в паре – следом за нами.
Старшим смены был молчаливый парень, которому, судя по прическе, предстояло скоро освобождаться, поэтому и был поставлен в ночную смену «по вызову». Именно так наше звено и называлось: «Ночное, по вызову». Сам он, конечно же, не работал, просто ходил, следил малость за порядком и добивал оставшиеся дни. «За прическу», – как говорили в таких случаях. Уйти на свободу с волосами, а не со стриженой лысиной, было довольно не просто. Приходилось писать Дюжеву заявление «на отращивание волос». Если заявление подписывалось, то человек попадал в определенную зависимость от администрации, так как в любой момент, за любую провинность могли снова остричь наголо. Поэтому, чтобы меньше попадаться на глаза начальству, лучше ночной смены ничего придумать было нельзя. Но только в том случае, если ты – не работаешь. И если с Захаром у тебя – «все правильно».
Моя и Толина головы на тот момент были острижены налысо. Сделали это легко и быстро в лагерной цирюльне еще по приходу. Поэтому каждое дуновение ночного ветра, холодного и колючего, мы ощущали в первую очередь затылком. Натянув фуражку на самые уши и втянув шею в плечи, мы ежились у дверей вахты. Сверху из окна выглянул ДПНК Панков и ленивым сонным голосом крикнул:
– Какая бригада? Кто старший смены?!
– 101-я! – задрав голову, ответил обросший.
Открылась дверь. Выскочил прапор нерусского вида и в
высоком регистре с акцентом проголосил:
– А ну, белят, как бараны не стой!.. Па аднаму, не ас– танавливайс, прахади!.. Адын, дыва, тыри, щетыри, пиат… Васимнасит щалавек.
Последним шел старшак. Он назвал свою фамилию. Прапор что-то пометил, записал на дощечке. Дверь за нами защелкнулась, и мы очутились в промзоне. Вглубь вела широкая дорожка, напоминающая трап, длиной в несколько сот метров, петляющая и извивающаяся меж построек, столбов, штабелей и канав. Вокруг лежал плотный, осевший снег с небольшими островками-залысинами черно-коричневого цвета. Это была земля, перемешанная с корой, опилками и черной грязью. В свете развешанных вдоль всего пути фонарей и прожекторов эти островки казались зияющими ямами. Слева были видны сторожевые вышки, вокруг которых все было освещено особенно ярко. Вдалеке работали башенные и мостовые краны. Изредка ночь разрывали тепловозные свистки. Трудно было привыкнуть к мысли, что, несмотря на звуки этих механизмов, мы находимся в неволе, попросту говоря – в тюрьме.
Наше первое рабочее место находилось на территории, которая называлась «Биржа готовой продукции», или по– лагерному – «Биржа-пило». Войдя в центральные ворота этой дополнительно огороженной территории, мы двинулись прямо по направлению к вагонам. Обычным, коричневым грузовым вагонам, которые каждый видел на воле не раз, но никогда не задумывался, что они иногда заезжают в неволю.
Прошли вдоль рельсового полотна до какой-то теплушки. Из нее вышел парень, о чем-то поговорил с нашим старшим и указал на несколько пустых вагонов. Это был бригадир погрузки.
Всем было велено получить рукавицы – «верхонки» и переодеваться в рабочую одежду. Драные – сплошь лохмотья – грязные телаги, в которые нам предстояло облачаться, одеждой можно было назвать с большой натяжкой. Из развешанной по стенам рухляди выбрать что-то подходящее было непросто. Особенно мне, с моим огромным ростом.
Перебрав целую гору, я нашел телогрейку с торчащей во все стороны ватой. Единственным ее преимуществом были достающие до кистей рукава и две пуговицы под горлом. Размер – на два порядка меньше необходимого, однако выбирать было не время, да и не из чего. Повязав поверх нее веревку на месте пояса и надев рукавицы, я повернулся к Толе для обозрения и оценки своего внешнего вида. Он выкатил глаза и диковато хохотнул:
– «Черт-закатайвата»!.. В натуре!
Сам он выглядел ничуть не лучше. Таращась друг на друга, мы еще какое-то время гоготали. Потом подошел Славка Керин, такого же вида, с ядовитой улыбкой на лице.
– Во, щас только на танцы идти, все телки будут наши, хе-хе!..
– Да в таком виде в поселок зайдем, не только бабы, а и мужики будут наши, – с мрачным юмором заметил Собинов.
– Это еще не все, – сказал Славка, – надо еще ватные штаны искать. Они здесь такие же – Александру как трусы будут.
Я прикладывал к себе, примеряя одни за другими ватные «шкеры». Ничего подходящего не было – длиной все они выходили чуть ниже колен.
– Какие трусы – плавки, бля! – выругался Толя, глядя на мои старания.
Остальные из нашей компании тоже толкались, снимая с гвоздей и примеряя эту рухлядь.
Наконец экипировка была закончена и наше бравое звено, больше похожее на отряд пленных французов 1812 года, пошло из избы на улицу.
Из соседнего маленького тепляка вышел старшак и скомандовал:
– По трое разобрались! На вагон по три человека. Разбирайтесь, кто с кем будет грузить.
Славка подошел к нему и, показав в нашу сторону, отрубил:
– Мы, вот, трое – Новиков, Собинов и я.
– Нормально, – ответил старший. – Если кто-то лишний будет или кто-то раньше закончит, я вам четвертого дам.
Закончить раньше вряд ли кто захочет, но лишним кто– то мог оказаться. Все зависело от того, сколько вагонов дадут грузить. И что грузить. Если будет пять вагонов – трое останутся лишними и их по одному добавят к тройкам, что поблатнее. Но никак не к тем, что послабее. Так вкратце пояснил Славка. Наша компания была, безусловно, «самой блатной» – если бы кто-то с этим не согласился, морду разбили бы вдребезги. Четвертый нам полагался в первую очередь. Лагерь есть лагерь: в морду по первому требованию – лучший довод.
Пошли к вагонам. Старшак с бригадиром на ходу распределяли, кому и что грузить.
– Вы трое – на рудстойку, вон туда, в конец… Вы трое – на хвою, второй вагон.
Дошла очередь до нас.
– Новиков, Собинов, Керин – на березу. «Полтинник» грузить будете.
– Так я и знал. Суки… «Полтинник» – это самое тяжелое, что есть на погрузке. Это Захар, блядюга, приказал, точно знаю, – вполголоса проговорил Славка.
«Полтинником» назывались березовые доски шестиметровой длины, толщиной в пять сантиметров. В ширину такая плаха иногда достигала полуметра. Поднять вдвоем еле хватало сил. А их нужно перетаскать за смену целый вагон – шестьдесят тонн. Процедура погрузки следующая. Краном подают на площадку пачку из таких досок. Выдергиваем одну, тащим до вагона, забрасываем ее концом в боковой проем. Один человек все время стоит внутри вагона. Он поднимает ее, двое снизу толкают. Дальше забрасывает конец еще выше – на прибитую поперек вагона поперечину. Снизу опять толкают. Заносят хвост в сторону и с силой вгоняют до самой стены вагона.
Первый раз поперечину прибивают на высоте полуметра от пола. Как только высота сложенных досок поравняется с ней, ее отрывают и прибивают еще на полметра выше. И так до тех пор, пока правую часть вагона не набьют доверху.
Потом поперечину набивают на другую, левую половину. Далее – то же самое. Длина вагона пятнадцать метров, поэтому в левой и правой половине как раз шестиметровые плахи и умещаются. Чем плотнее и аккуратнее укладываются доски, тем больше их влезет. Значит, работать придется дольше. Поэтому существуют разные способы «мастырок».
Первый – «укладка досок крестом». Существенно сокращает их количество, создавая видимость набитого вагона. Недостаток такого способа в том, что если мастырку заметят, весь вагон придется перегружать. Физически втроем это невозможно.
Второй – загрузить полуметровый слой, а потом до самого верха– короткими досками, если они поблизости имеются. Выкладывается стенка. За ней – пустота. Если глядеть снаружи– иллюзия загруженного вагона. Достоинство способа в том, что короткие плахи грузить легче и быстрее. Да и нужно – быстрее, пока никто из начальства не заметил или кто-нибудь не сдал.
Недостаток один: если поймают – десять суток изолятора всем троим и перегрузка по новой.
Но мы таких хитростей не знали, поэтому решили трудиться как положено. Мы еще не знали, что это будет – ад.
После нескольких плах, которые мы кое-как вытащили из пачки и доволокли до вагона, я понял главное: в эту ночь нужно не просто загрузить вагон. В эту ночь нужно выжить.
Доски были неимоверной тяжести. Шершавые, ледяные и полные заноз. А мы почти полтора года просидели, провалялись в душных прокуренных камерах и.на этапах. Перебывали в нескольких тюрьмах поочередно, где нас, находящихся под следствием, держали подальше друг от друга.
Мы ослабли. Наши ноги и руки через полчаса отказались слушаться, мы стали запинаться, а потом и попросту падать. В голове шумело, в висках стучало. Начало темнеть в глазах и тошнить. А время неумолимо бежало и бежало – до конца смены, хошь-не-хошь, нужно успеть. Иначе – изолятор. А там– полбуханки черного хлеба, плошка жидкой баланды, в которой только кусок капустного листка и половина гнилой картошины. Назавтра опять сюда же. И так до тех пор, пока не научишься грузить. Или не подохнешь.
На половине вагона я понял, что начинаю подыхать. Толя стоял, уткнувшись головой в штабель, вцепившись руками в обледенелые доски.
– Подождите, мужики… Не могу, хуево мне…
Я сидел прямо на земле, подпирая этот же штабель спиной. Славка опустился передо мной на корточки и, чтоб хоть как-то подбодрить, повторял:
– Ничего, ничего, сейчас передохнем… Немного осталось.
Славка все понимал. И то, что для меня вот так «падать с копыт» – позор, и то, что просить помощи – позор. Да и не у кого ее просить, этой помощи. Что все это заранее придумано. И он знал – кем это придумано. Славка нас жалел. Единственное, чем он мог помочь – это добрым словом и отборным матом.
Хватаю доску, вцепляюсь в нее – надо бы тянуть, – рукй не сгибаются. Поднимать – не разгибаются. Такого со мной никогда не было. Если сейчас вдруг понадобится защищаться от кого-то, буду не в состоянии этого сделать даже топором – не смогу поднять его выше колен.
– Надо немного посидеть, расслабиться. Это пройдет… Суки, козлы ебаные!.. Захар, крыса ебаная! – зло причитал Славка, таская доски волоком в одиночку.
Передохнув, пошли грузить дальше. Вся одежда под телогрейкой промокла насквозь. От спины валил пар. Хотелось пить. Мутило. Закашливались до рвоты. Но ее не было. Только судорожно дергало и выворачивало пустое нутро. Уши закладывало, и все становилось похожим на бред. Мы шатались как слабые тени, волоча эти проклятые плахи. Падали на них же и лежали плашмя. Скрипя зубами вставали и тащили дальше, пока не натыкались грудью на вагонный проем. Пить…
– Мужики, хорош бычить!.. Ну их, эти доски, на хуй! Пойдем, Александр, чифирнем.
За спиной стоял незнакомый парень, тот самый бригадир погрузки. Он кивнул головой в сторону теплушки и, не дожидаясь ответа, ушел.
– Наконец-то хоть один нормальный человек нашелся, – пробубнил Славка, с силой скидывая верхонки и разминая руки.
Мы с Толей оторвались от вагона и, качаясь как пьяные, побрели к теплушке. Славка двинул следом, приговаривая на ходу:
– Ничего, ничего… Это с непривычки всегда так – через недельку втянетесь, все будет нормально.
– Да пошло бы оно на хуй! Втянетесь!.. Не дай бог никому в такое втянуться! – с остервенением выругался Толя. – Вот бы пидорюгу Репьевского сюда. Недаром он явки с повинной под диктовку следака писал – как чувствовал, пидор…
Бригадир погрузки оказался вполне приветливым парнем с очень знакомым лицом и устойчивыми лагерными манерами. Его бригадирская теплушка была хорошо натоплена и пахла едой. Мы стащили телаги и присели к столу, чертыхаясь и проклиная, на чем свет стоит, вагонную погрузку, начальство и всю систему советских лагерей.
– Виктор, – представился бригадир. – Перекурите спокойно. Сейчас «сынка» пошлю, чего-нибудь из еды притащит.
– Благодарим. Нам не до еды.
– Вы располагайтесь, не шугайтесь – сюда никто не сунется. Если кумовья или прапора со шмоном пойдут, я первый узнаю, хе-хе, – добродушно рассмеялся он. – А вообще мы с тобой, Александр, земляки – я тоже из Свердловска.
Он вышел, крикнул кого-то и вернулся в дом. Через минуту влетел паренек армейского возраста и на пороге, переводя дух, спросил:
– Звал?
– Звал. Сбегай до штабеля, притащи чаю, конфет. Ну и что-нибудь…
– Понял, – по-военному коротко отрезал тот и растворился за дверью.
– Сейчас принесет. Просто здесь, в тепляке, ничего не держим, чтоб прапоров не баловать – найдут раз, найдут два, потом повадятся. Все гасим по заначкам.
Он закурил и выдохнул перед собой дым, разгоняя его рукой. Мне курить не хотелось, да и не моглось. Анатолию тоже. Славка не курил за компанию и сердито молчал.
– Да-а-а… Вас, мужики, видно, сразу под пресс решили пустить… Захар, я так думаю, от хозяина инструкции получил – пробить «на гнилушку» со всех сторон. Но это все – хуйня, главное – не подавать виду. Если на пос– тоянку будут на погрузку выводить, я кое-чем могу помочь – пару человечков всегда дам, чтоб полегче было. У меня бригада небольшая, но пара работящих пидоров всегда найдется. Вашему старшаку уже все по хую – скоро освобождаться, вон, гриву какую отрастил. Привел вас на биржу, по вагонам расставил и – в лесоцех, к землякам. Сейчас уже кемарит где-нибудь. К утру придет. Я когда– то на погрузке так же, как вы, начинал. Потом у Захара в 101-й бригаде был. Так что я его не понаслышке знаю. Тварь та еще. Несколько моих переводов из дома замы– лил: «Ой, Витек, спалил ось… прапора на въезде из лесовоза вышмонали…»
Раз мне уши протер. Второй раз протер. А на третий – я завез через других. Ну, и начал он меня прессовать. С отрядником на пару причем. Захар – на производстве, Грибанов – в отряде. До всего доебывался. То я, видите ли, кровать не так заправил, то, бля, ходил после отбоя. То еще что-нибудь. Сначала ларька лишили. Потом свиданки. Потом в изолятор стали гасить. А потом на ком-то из Захаровских кентов я телагу увидел, ту самую, которая якобы с гревом спалилась. Она заметная была – пуговицы на ней были, каких в зоне нет. Мать ее на свиданку привезла. Пронести официально в зону не дали – не того образца, мол. Поэтому ее через одного захаровского человека заслать хотели. Он, конечно, падлюга, все получил, а мне туфту прогнал, что, мол, все спалилось. Я понял, что это за крыса. Прикинь, он каждого второго в бригаде так обул. Поэтому со жратвой проблем у этой суки нет. Потом меня сюда перевели. Я злой на него. Он тоже на меня ядом дышит. За спиной, конечно. А в лицо, блядь, скалится во всю пилораму.
Вернулся посланный за чаем и едой быстро и бесшумно. Выложил все на полку и так же быстро удалился, бросив на ходу:
– Если что-то нужно будет – крикните, я тут рядом. Сейчас сковороду принесут.
Вошел маленький мужичок, пряча под полой сковородку. Поставил на стол и быстро исчез.
– Я за плиткой.
Плиткой был огнеупорный желтый кирпич с вырезанными под спираль канавками. Он достал его из кармана телогрейки и-еразу же начал собирать это диковинное устройство.
– Давай, Кузьмич, заводи тесто на скоряк, – вмешался в процесс Виктор. – Мужикам еще идти грузить надо.
Малорослый дядька по имени Кузьмич привычно поставил банку, достал из шкафа сверток и начал колдовать в углу, смешивая муку с холодной водой, солью и толчеными сухарями. Звякнула о кирпич сковорода, и провода при посредстве трясущихся Кузьмичевых рук воткнулись в раздолбанную и обгоревшую розетку. Он расплавил полпачки маргарина, нагрел до треска и стал шмякать деревянной ложкой на дно сковороды густое тесто. Оно растекалось и напоминало собой обычные оладьи. Употреблять их полагалось быстро и прямо с жара, пока на запах не прибежали прапора. Как только сдернули последний «лан– дорик», всю утварь, не давая ей остыть, вынесли из теплушки. Сковороду – в снег. Плитку-кирпич – куда-то подальше. Спираль – и вовсе за штабеля, соблюдая лагерный закон: ничего не хранить в одном месте.
Поглощая это нехитрое тюремное яство, мы вслух, к видимому удовольствию Виктора и под ухмылки Славки Керина, вспоминали, когда в последний раз ели такую вкуснятину.
– Тут в зоне до хрена таких, которые и на воле ничего подобного не ели, – будто прочитав наши мысли, заметил Виктор. – А здесь ходят, блатуют. Половина из них, блядей, только здесь настоящую жрачку увидала. Да и то которую у мужиков отняли. Кстати, вам если что-то надо в зону завезти – обращайтесь. У меня люди надежные есть – затащат все что хочешь. Хоть бабу!., хе-хе… Вся шоферня, которая сюда за досками ездит, меня знает в лицо – я уж не первый год на погрузке. На биржу завозить, в общем-то, не сложно. Вот в жилзону отсюда протащить – это до хуя делов! Хотя зачем вам в жилзону – там нигде не спрячешь. Завхоз со шнырем сдадут сразу. Такие твари, как Захар, этим и пользуются – мужикам держать жратву негде. В штабелях спрячешь – кто-нибудь из зэков найдет, утащит, сожрет. Если шмон с собаками – овчарки найдут. Значит, прапора сожрут. Поэтому приходится с бригадирами делиться, а то и вовсе отдавать «за «боюсь». Если есть земляки, из тех, кто с положением, у кого свой тепляк или инструменталка, – тогда другое дело. А нет– значит тяжко. Особенно зимой. Зимой здесь – ад.
Дверь резко отворилась, и на порог влетел «сынок»:
– Менты! Атас! Идут по вагонам.
– Где? Далеко? – спокойно, не вставая, спросил Виктор. – Какие менты? Опера или солдаты со шмоном? Беги в лесоцех за старшаком!
– Отрядники, двое… И еще прапора, – добавил «сынок» и убежал.
Виктор встал. Мы повскакали тоже.
– Спокойно, мужики. Если что – зашли погреться, чифирнуть… Это здесь не возбраняется. Остальное – уже мои дела.
Мы напялили рабочую рухлядь и вышли за двери.
Издалека слышались выкрикивающие голоса. Они приближались со стороны нашего вагона, наполовину загруженного и брошенного.
– Эй, где бригадир?!. Где старший, почему на вагоне никого нет? Кто его грузит?
Речь, понятно, шла о нас.
– Ты смотри, бляди, никуда не заглянули, а сразу прямиком к вашему. Вот суки, все знают! – выругался Виктор.
Мы втроем двинулись навстречу голосам. Виктор нас обогнал. У вагона стояли несколько человек в форме. Один из них был майор, второй – старший лейтенант. За их спинами два прапорщика.
– Здрас-сьте, гражданин начальник! – бодро начал он, явно затягивая время. – Все на месте, все работают…
– А ни хуя не все! Кто на этом вагоне, а? – притворно серчая, начал старший лейтенант. – По зоне шляются ночью, да?!
– Я им новые рукавицы выдавал, гражданин майор, ихние порвались уже с непривычки… Научатся, – уверенно начал защищать нас Виктор.
Пахнуло запахом свежевыпитого спиртного – и майор, и старлей были в легком подпитии. Оттого говорили громко и нарочито строго. Старлей старался больше других:
– Хуля ты мне мульку гонишь? Я чего тут, на бирже первый день, что ли? Рукавицы… Скажи уж лучше, в лесоцех бегали за чаем.
– Да никуда никто не бегал. Мы же знаем, что когда вы на смене, гражданин начальник, хрен куда убежишь!.. – кондово польстил старлею Славка.
– Вот это правильно, га-га-га!.. Ладно, на первый раз прощаю, – примирительно, довольным тоном закончил старлей. – Фоменко, бля, запомни, – все видит, все знает… Я даже знаю, какой вагон здесь Новиков грузит. А почему? А потому что березой грузится сегодня только один вагон. А значит, кого на этот вагон поставят?.. Правильно!.. Логика, бля, – железная наука! Правильно я говорю, Шутега? – назвал он Виктора по кличке.
– Вы всегда говорите правильно, гражданин начальник, хе-хе…
– Главное, Шутега, не правильно говорить, а правильно жить!.. – пьяно базарил старлей Фоменко. – Тут до хуя тех, кто правильно говорит… Даже есть и в погонах. А я живу правильно. И вас научу тоже, как жить!.. Блядь буду, научу!
Майор все это время заглядывал в темное нутро вагона.
– Всего половину нагрузили, что ль?.. Давайте шевелитесь быстрей, – проговорил он в нашу сторону и принялся мочиться прямо на вагонное колесо.
Фоменко продолжал монолог:
– Ты думаешь, я не знаю, что ты – Новиков? Хоть у тебя бирки нет на телаге, а я знаю, кто здесь кто. Меня вслепую ебать не надо!.. Я по жизни все правильно понимаю. И песни твои, если надо, понимаю. И ты меня теперь понимать будешь. Короче, надо до обеда вагон закидать, понятно, мужики?.. Вот так-то, – закончил он и пошел присоединяться к майору.
– Заладил, блядь: понятно… понятно… Пьянь гидролизная, – проворчал Славка. – Ты что думаешь, они портвейн или водку пьют? Хуй там. Вон гляди, за забором гидролизный завод стоит. Он из наших опилок спирт гонит. Оттуда его весь поселок тащит. Эти тоже, видно, пойла надыбали – кто-нибудь из прапоров приволок в грелке. Замахнули из горла, за штабелем, и пошли на обход.
– Это точно… Здесь вся деревня пьет со школы до гроба. Да хуля – пьет! – здесь дети в поселке в расконвой– ников играют, в зэков и охранников. За забором такой же дурдом, если не хуже, – добавил Шутега и пошел прочь.
Вернулся старлей Фоменко.
– Давайте грузите, короче, – сказал он, – вагоны грузить, это, бля, не на гитаре бренчать. Там было шесть струн… А здесь, бля, каждая струна… по шесть метров… Га-га-га!.. – заржал он в мою сторону и пошел с прапорами следом за удаляющимся майором.
– Ну, с Богом, – напутствовал нас Славка, и мы потащились к штабелю.
– Интересно, сколько этой канители входит в вагон? Примерно половину загрузили? – поинтересовался Толя.
Я не сразу сообразил, как сосчитать эти проклятые доски. Судя по надписи на борту вагона – «60 т» – это шестьдесят тонн. Если каждая весит в среднем пятьдесят килограммов, получается больше тысячи досок. Многовато.
Сил уже не прибавится, а точнее – их вовсе нет. При наклоне голова кружилась, и мы поочередно спотыкались и раз за разом припадали то на одно, то на другое колено. Со счету давно сбились и только заглядывали с глупой надеждой в черный зев вагона: может, не так много осталось? Но оставалось еще много.
Тем временем начало светать. Кочевряжиться на виду у всех, по-бурлацки кашляя и запинаясь, было еще и стыдно. Продолжали работать на одной злости. Раз от разу все медленнее, со все более длинными передышками. Менялись местами со Славкой, стоящим внутри вагона и пихающим что есть мочи плахи в медленно растущую стопу. До полной загрузки оставалась еще треть.
– Послать бы их всех на хуй с этой погрузкой! – рявкнул в сердцах Толя. – Да пойти на съем – мы уже больше восьми часов тут.
– Это не имеет значения, – ответил Славка. – Хоть восемь, хоть двенадцать – пока вагон не загрузим, в жилзону не пустят. Вернее, пустят, а после проверки в изолятор закроют.
– А где написано, что вагон должны грузить три человека? – в тон им обоим возмущался и я. – Наверняка человек шесть должно быть.
– Если до обеда не успеем, Грибан сюда прибежит, – продолжал Славка. – Я ему скажу, что втроем больше грузить не будем. По крайней мере – березу. Пошел он на хуй!
Мы сидели на остатках штабеля, сгорбившись и уронив головы. Боль в боку не давала разогнуться. Из лесоцеха пришел, оглядываясь и озираясь, наш заспанный старшак.
– Ну что, мужики, много осталось? – спросил лениво он. – Надо бы на съем собираться.
– Да осталось… А как ты вагон березы втроем за смену закидаешь – это же не конфеты грузить. Давай кого-нибудь еще, человечков пару, хотя бы, – сказал Славка.
– Нам Шутега обещал пару чертей подогнать, – поддержал Толя.
– Щас…чертей… Где их взять? Наши сами еле ползают. Если он своих даст – это его дело. Я просить не буду, сами договаривайтесь, – огрызнулся старшак.
– Пойду договорюсь, – ответил я, последним усилием воли отодрав себя от доски, на которой сидел, и заковылял в сторону Шутегиной теплушки. Когда я открыл дверь и повис на косяках, объяснять уже ничего было не надо. Весь мой вид, голос и выросший за спиной горб говорили
о том, что дальнейшая погрузка грозит уже не изолятором, а летальным исходом.
Шутега встал и начал натягивать телогрейку.
– Идите к вагону, я сейчас кого-нибудь пригоню.
Я поплелся обратно. Толя лежал на спине пластом, глядя в небо. Славка – рядом на пологой, широченной ледяной доске. Они тихо и лениво крыли матом все и вся.
– Ебаная система советских лагерей… козлы… Какой пидор додумался исправлять трудом? – дохлым голосом философствовал Толя.
– Да на хуй кому нужно это исправление!.. Вольным за такую работу бабки платить надо, а здесь – на халяву, за пайку. Все их лозунги – в хую дыра.
Я подошел тихо, ища себе место для лежбища.
– Ну что?.. – в голос спросили оба.
– Сказал, приведет «пару гнедых».
Через несколько минут показался Шутега. Впереди него поспешала эта самая пара, одетая в еще более невообразимые лохмотья. При близком рассмотрении оказалось, что синяков на физиономии у каждого гораздо больше, чем может принять на себя любое среднестатистическое лицо – один поверх другого.
– Сейчас еще одного приведут. Эти втроем махом загрузят, – сказал Шутега и пошел в избу.
Перед дверью он повернулся к вновь прибывшей рабочей силе и рявкнул так, что оба бросились к вагону бегом.
– А ну, что ебало сушите?!. Давай шустри, крысоматки ебаные!
– Два пидора, – пояснил он, – у мужиков по тумбочкам крысятничали. Их выловили на этом деле. Ну и, сам понимаешь, теперь честным трудом искупают, хе-хе… В работе – у-у-х! – звери! Главное – раскумарить по-человечьи, – добавил он, поднял с земли толстую двухметровую палку и очертил ею свистящий круг над головой.
Через час в дверь тепляка робко постучали, и тихий голос прогнусавил в щель:
– Витя, все готово… на заварочку дай…
Шутега достал чай, высыпал на расстеленную газету с пригоршню, завернул вчетверо и крикнул: «Забирай, жаба!»
Дверь приоткрылась, просунулась грязная-прегрязная рука, цапнула сверток и исчезла.
– Благодарю!.. – донеслось с улицы, и сапоги застучали прочь.
Время подходило к обеду. Заглянул старшак.
– Ну что, закончили? Давай на съем.
Мы с трудом поднялись и поплелись вместе со всеми на вахту.
Основным желанием было одно: поскорее добраться до койки. Никакого обеда, никакого ужина – только упасть и уснуть. Ноги подгибались, а руки бессильно свисали в карманы телогреек. Закончился первый рабочий день. Точнее – ночь.
Но об этом уже не думали. Думали о том, что назавтра будет то же самое. И что мы будем делать, и где мы будем брать силы? Будем надеяться…
С этими невеселыми мыслями и каторжными разговорами мы как в бреду добрели до барака.
Не успели ступить во двор, как навстречу вышагнул Грибанов:
– Так… Почему так поздно вернулись? Почему не на обеде со всеми?
– Грузить много пришлось. Березу… Вагон резиновый попался, гражданин начальник.
– Новиков… Зайдешь после обеда ко мне! – приказным тоном брякнул Грибанов и быстро пошел в сторону штаба.
– Вот пидор – знает, что люди с ног валятся, и все равно: «Зайди ко мне…» Специально через два часа придет, разбудит и будет гавкать, почему без разрешения спать лег!.. Вот тварь, – пробурчал ему вслед Славка.
Еле-еле поднявшись по лестнице, мы добрались, наконец, до своих коек, последними усилиями стащили canon; и завалились, не раздеваясь. Стало понятно, что с этого дня нас будут не просто давить, а давить насмерть. Без тени сострадания, сочувствия или хоть капли справедливости. Ни поблажек, ни пощады не будет. Ни жалости, ни добра, ни вольностей нам не ждать. Но и отвечать теперь придется тем же. С этого дня мы начали звереть.
Мне показалось, что я падаю вниз головой в какую-то бездонную яму.
Не знаю, сколько времени прошло, но проснулся я от назойливой тряски. Шнырь изо всей силы качал мой шко– нарь, повторяя:
– Новиков – к Грибанову… Новиков, вставай, Грибанов вызывает!
Поднялся тяжело, продрал песок в глазах и пошел в знакомый уже кабинет.
– Гражданин начальник, осужденный Новиков по вашему приказанию прибыл! – во всю глотку издевательски представился я, входя в задымленную каморку. Грибанов довольно осклабился.
– Вольно, вольно. Садись.
Я сел, как обычно, напротив, борясь со сном и лихорадочно думая, как поскорее закончить эту дурацкую встречу.
– Ну, как первый трудовой день? Что делали? Как работа?.. Понравилась?
– Понравилась или нет, пока не понял, – зло ответил я. – Но то, что больше мы вагон втроем грузить не будем – это точно. Нет таких норм.
– До вас все грузили, и никто не жаловался. Ты что, от работы отказываешься? От работы, да?
– От работы я не отказываюсь. Но меня сюда привезли ра-бо-тать, а не умирать, гражданин начальник. Тем более начальник колонии определил на разделку, а не на погрузку, – пошел я в наступление.
– Здесь я решаю, кого куда ставить, – огрызнулся Грибанов. Однако при словах «начальник колонии» слегка осел.
По уже опробованной схеме свои претензии к работе я начал сводить к брехне на тему предстоящего смотра художественной самодеятельности. Брехня, как всегда, чередовалась с правдой.
1 – Вот – руки… Видите, гражданин начальник? Такими
руками ничего, кроме досок, через месяц уже не возьмешь (чистая правда). А в мае – смотр (чистая правда). Меня сегодня или завтра вызовет для беседы на эту тему Филаретов – об этом мне сказал завклуб Загидов (чистая брехня). Замполит всего ивдельского управления лично будет контролировать мое участие в концерте в честь Дня Победы (чистая брехня). Участие без отрыва от производства – то есть днем я буду работать, а вечером помогать в организации концерта (брехня!). Я думал, что вы уже в курсе дела, гражданин начальник. А кроме всего, считаю, что лучшим доказательством моего исправления будет тот факт, что я днем работаю на разделке, погашаю тем самым иск, а вечером участвую в активной общественной жизни колонии (удивительная брехня!). И начальнику отряда – галочка (брехня), и осужденному большая польза (чистейшая правда!)
Брови гражданина капитана сложились в домик, надбровные дуги рванули вверх – мысль, определенно, показалась ему полезной.
– Я в курсе дела. Я замполиту уже про это говорил, – клюнув на брехню, соврал Грибанов. – Но тебе еще рано. Помогать – да. Помогать – другое дело. А Собинов тоже хочет участвовать? Или грузить не хочет?
– Не знаю. За Собинова отвечать не могу.
– Он, я слышал, тоже от работы отказывается? И Керин туда же?
– Отказываемся грузить втроем. Потому что получается по двадцать тонн на человека за смену. Кто такие нормы установил?
– Ты меня спрашиваешь? – сощурился Грибанов.
– А кого мне спрашивать? Ну давайте у прокурора спрошу… Давайте, через вас, письменно.
При слове «прокурор» Грибанова передернуло так, будто прокурор этот уже стоял за дверью.
– Не надо ни письменно, ни устно. Я сам здесь – прокурор и… и…
Поняв, что сморозил ахинею, он замолчал, зашарил по столу руками в поисках спичек, закурил и, выпустив дым прямо в потолок, отрезал:
– В общем, насчет клуба я не против. После работы. Но только запомни – все вопросы через меня. Ни к Филаре– тову, ни к Нижникову без моего ведома не ходить. Вот так. А с Собиновым и Кериным не знаю что делать… Не знаю, не знаю…
– Как что делать? На распределении же решили.
– Ладно, иди спать. Завтра все трое пойдете на разделку. Устраивает?
– Вполне.
– Иди. Иди и запомни: Грибанов думает раньше некоторых. И не хуже некоторых.
«Настоящий идиот», – с удовольствием отметил я. С удовольствием потому, что так легко отвертелся от погрузки, а заодно нашел новый подход к начальству. Вслух же добавил:
– Оказывается, с вами так легко на любые темы говорить, гражданин начальник. Не везет мне ни в чем, так хоть с начальником отряда повезло.
При этих словах гражданина капитана раздуло так, что пуговицы с мундира, казалось, вот-вот начнут отлетать.
– Со мной лучше по-хорошему. Потому что когда ко мне по-хорошему, то и я ко всем – по-хорошему…
«Настоящий, рафинированный», – еще раз порадовался я, затворяя за собой дверь.
А через пару минут уже спал, ничего не слыша, не чувствуя и не помня.
– Новиков!.. Подъем!.. Ваше звено вызвали на погрузку.
Шнырь тряс мой шконарь, повторяя как заклинание одну и ту же фразу.
Я продрал глаза и сел, озираясь. Славка чертыхался и рывками натягивал штаны. Напротив, охая и матерясь себе под нос, очухивался Толя.
– Да-а… Как я и думал – Грибан оказался крысой. Навешал лапши – «пойдешь на разделку…» Нельзя этому сучью верить, ну ни единому слову! – ругался он, закидывая кровать одеялом.
– Не дай бог опять на березу… – пробурчал я и тоже начал одеваться.
Руки, ноги, плечи – все болело неимоверно. Разогнуться стоило больших трудов. А кроме всего, невыносимо хотелось спать.
Пришел Славка. Поставил банку на тумбочку и проворчал:
– Время два часа ночи. Эти твари хотят повторить вчерашний номер – среди ночи лечить березой!
По бараку носились люди. В коридоре шла обычная перебранка из-за перепутанных сапог.
Я обернулся и поглядел в угол, где располагались Захар с Петрухой. Оба спали, укрывшись одеялом с головой. Никто из них даже не пошевелился.
– Спят без задних ног. Хуля им не спать – колбасы на производстве нажрались и – спать, – пробурчал Славка.
Подбежал шнырь:
– Захар ночью с работы пришел, спросил, во сколько вы вернулись… Сначала хотел тебя разбудить, потом сказал, чтобы хоть чутка поспали.
Заварили чай. Славка нашарил у себя в ящике несколько конфет-подушечек. На тумбочке лежал наш хлеб – ужин мы без памяти проспали. Черная пайка, две конфеты на брата, слегка подслащенный чай – больше есть было нечего.
Через пять минут мы уже бродили по двору, разминая неимоверно болящие мышцы. Вернее, то, что от них, былых, осталось.
Как и в прошлый раз, понуро и молча дошагали до знакомой теплушки. Все звено расселось подоскам. Появился Шутега.
– Здорово, мужики! Ну, как вы?.. Тяжко?
Мы неопределенно пожали плечами.
– Радуйтесь. Сегодня березы не будет, хе-хе, – кончилась в лесу. Сегодня – рудстойка.
Наш вчерашний вагон уже уехал. Было радостно глядеть на пустые рельсы. Шутега спустился с крыльца, что– то сказал старшаку, и они оба заржали.
– Да мне по хую – пусть хоть вообще не работают! Лишь бы меня отрядник за это не кантовал… – доносились обрывки его фраз.
Они поговорили, покурили, и наш обросший старшак, которого мы меж собой прозвали «Вася Лохмандей», растворился между штабелями – как обычно, спать в лесо– цех.
Звено двинулось в сопровождении Шутегиного «сынка» в сторону стоящих поодаль вагонов. Мы пошли следом.
– Сегодня рудстойку будете грузить. Остальные – хвою.
«Хвоя» – это такие же по размеру доски, как и березовые,
только из сосны. А потому легче в два раза. Рудстойка – тонкие бревнышки диаметром примерно десять сантиметров и около метра длиной. После березы – просто детские кубики. Единственная беда – загрузить их надо 50 тонн. По времени это дольше, зато не так мучительно,
С горем пополам начали. Через час поняли, что взятыми темпами до полудня нам вагон не осилить. Надо бегать бегом. А сил – только ползать.
– Сколько их в вагон входит, этих долбаных руд– стоек? – по старой бухгалтерской привычке поинтересовался Толя.
Славка ответил не задумываясь, как Шура Балаганов в романе Ильфа и Петрова на вопрос Остапа Бендера: «Сколько вам нужно для полного счастья?»
– Десять тысяч… Если Грибанова столько раз на хуй вместе с ней послать – рабочей смены не хватит!
Посмеялись и пошли сидеть на разбросанных вокруг досках. Откуда ни возьмись примчался «сынок».
– Бригадир зовет, всех троих.
Шутега встретил, сидя по-хозяйски за столом.
– Мужики, сейчас поедите, погреетесь и тусуйтесь около вагона, понты колотите. Я пару человек вам подгоню. Совсем уходить нельзя – сдадут, тогда придется самим, в натуре, грузить. А так, черти пусть шустрят, а вы там для близиру тусуйтесь. Каждый час-два сюда заходите. Сегодня мне Захар навстречу попался. «Ну что, Шутега, Новик с Собином у тебя, говорят, наскоряк за два часа вагон закидали и – в тепляк жабу давить? Га-га-га!..»
– Наши же и сдали. А может, и Лохмандей сдал. Кто его знает, – поддержал Шутегу Славка.
Посидели, поболтали, напялили рухлядь и пошли. Погрузка вагона, к удивлению, шла полным ходом. «Пара гнедых», хоть и не вчерашняя, совсем другая, носилась с охапками этой самой рудстойки с проворством тараканов.
Пробегая мимо нас, один из них, шумно вдергивая соплю в отбитый шнобель, сделал заманчивое предложение:
– Мужики, вы сидите – мы сами все закидаем. По пачке «Примы» на брата и пачку чая на всех дадите – мигом загрузим!
– Пачка сигарет и пачка чая, – урезал аппетиты Славка.
– Годится.
– Теперь точно сдадут. На соседних вагонах всех жаба задушит, хе-хе, – отшутился я.
– Да пошли они… В зоне кто как может, так пристраивается. Не их собачье дело. Кто им мешает так же договориться? – возмутился Толя.
– Никто не мешает. Но никто и не даст. Ты же понимаешь, что Шутега это все делает из-за Александра.
Если бы не он, пахали сейчас, как все, – спокойно ответил Славка. – Я думаю, долго эта лафа не протянется: раз сдадут, два сдадут… Шутегу в штаб дернут. И скажет он: «Извините, мужики – хозяин приказал…»
– Так… Если в день по две пачки сигарет, в месяц – шестьдесят пачек. И чаю тридцать пачек, – по-бухгалтерски начал вслух считать Толя, – это ж, блядь, курить придется бросить и чифирить!.. А кстати, когда у нас ларек?
– Можешь не бросать – паши, вон, вместе с чертями, они с тобой поделятся, ха-ха!..
Всю ночь до самого рассвета усиленно «колотили понты» – то сидели в вагоне, то грелись в тепляке, то ковырялись в штабеле. В эту ночь никто из начальства не являлся, и поэтому, бредя на вахту, порешили, что рабочий день, точнее – ночь прошла изумительно. Грибанов тоже куда-то запропастился. Казалось, все начало налаживаться. Пришли и завалились спать.
Проснулся я от негромкого, но резкого окрика из заха– ровского угла:
– Санек!.. Новик, хорош дрыхнуть!
Это был голос Захара.
– Ни хуя ты не умеешь будить человека, Захар, гага!.. – громко подал голос Петруха. – Испугаешь еще – заикаться начнет… Как петь будет? Га-га!.. Надо, бля буду, деликатно: «Вставай, Санек, тебе помиловка пришла… С вещами на выход. Поешь на дорожку…» А-га-га!..
– Санек, ты слышишь, что эта кумовка несет? Ему-то если помиловка придет, он, сучара, не то что у меня – у всех мужиков тумбочки вычистит да втихаря на лыжи встанет, га-га! Этого будить не надо! А-га-га!..
Я поднялся и нехотя пошел.
– Как-то неудобно – Толю не пригласили… Мне одному – неудобно, – попытался я объяснить свое нежелание есть.
– Пускай спит. Когда научится петь, как ты, тогда и его позовем, – ответил Захар.
– Или – как я. А-га-га!.. – заржал Петруха.
– Кукарекать! Ты бы слышал, Санек, как он под гитару кукарекает! Стихи Дюжева, музыка Шемета, исполняет хор обиженников!.. Солист – заслуженный фупман Советского Союза Петр Мулицев! А-га-га!..
– Ни хуя! «Исполняет бабушка Захаровна, мастерица кумовского романса, жертва усиленного режима содержания!»
Далее в том же духе, беззлобно издеваясь друг над другом, несмотря на поздний час, не обращая ни малейшего внимания на спящий или пытающийся уснуть барак. Пришел Лысый. Принес сверток с едой.
– Посидишь с нами? – спросил его Захар.
– Нет, благодарю. Пойду письмо писать.
Еда была, прямо сказать, не тюремная – огурцы, помидоры, сало, колбаса. Через минуту маленький столик не мог вместить всего, что извлекли из тумбочек и принес Лысый.
– Главное, Санек, в лагере – правильно определиться, – разглагольствовал Захар, заедая помидор колбасой. – Кто-то кашку должен жрать, кто-то колбасу. Кто-то пахать за двоих, а кто-то тихо чалиться. Главное в лагере – с кем кентуешься. С нами кентуешься – одна жизнь, с простыми мужиками – другая. А сам по себе – третья. Но это – не дай бог. В лагере одному нельзя – не выжить. Ну, а с «петухами», сам понимаешь, не кентуются – в пе– тушатник проваливаются: как в прорубь, нырк – и нету. Оттуда уже не выныривают.
– А ты, бля, тогда откуда взялся, га-га!.. – заржал с полным ртом Петруха. – С такими плавниками, как у тебя, Захар, можно не только в петушатник – можно, бля буду, ночью в штаб заныривать!.. Хвостовиной только правильно подруливай, а-га-га!.. Ты вот лучше объясни человеку, почему он с тобой, с Захаром, кентуется, а по ночам березу грузит?
– А это не я решал, это Грибан. Он мне сказал – в ночное звено на погрузку поставить, я и поставил. Первое время, Александр, извини, придется пахать, чтоб с хвоста слезли. Сейчас за тобой глаз да глаз. Я-то двумя руками – «за»… За то, чтоб ты не работал. Но первое время придется. Главное, ты держись к нам поближе, шифруй все правильно. Секретов от нас держи поменьше. Ну и все остальное, сам понимаешь.
Захар доел, встал и вышел.
Петруха курил, отхлебывая из кружки чай, молча поглядывая то на меня, то на огонь сигареты.
– Захар правильно говорит, – неожиданно серьезным тоном начал он. – Он хоть и мурый, но если с ним у тебя будет понимание, то и отрядник заебется прессовать. Тебе надо сейчас по жизни определиться. На первых порах поможем, по-босяцки, как говорится. Деньги тебе сейчас все равно не нужны – связей у тебя нет, просто спалишься. А жратвой – всегда поможем. А там кто-нибудь на свиданку приедет. Кенты или жена… Подогреют. Ну, и ты без внимания нас не оставь. А если наезды какие-то будут – мы все быстро решаем… Хотя какие наезды, хе-хе? Если с нами все правильно, кто наедет? Разве что какой-нибудь пидор. Сняв штаны, задом наперед, ха-ха! – закончил он, увидев, что возвращается Захар.
– Что, лекции читаешь? – ухмыльнулся тот, подмигивая мне.
– Да нет, просто… Просто рамс раскинул перед человеком: откуда в зоне помидоры с огурцами берутся, хе-хе!
– Откуда берутся? Мужики поделились, вон… Со свиданки до хуя, видно, завезли! В них уже не лезут, а-га-га!.. Подогнали нам чутка. Оно же знаешь, Санек, если работа легкая – то и жратвы много не надо! Можно и поделиться. Усек?.. Шучу, ха-ха!..
Говорили еще долго. Очень хотелось спать, но уходить посреди разговора было неловко. Захар поочередно с Петрухой спрашивали то про «Извозчика», то про аппаратуру, то про мои машины. Наконец интерес Захара стал иссякать. Он проглотил пару каких-то маленьких белых таблеток, глаза его посоловели, поблекли. Зазевал, заерзал и, заканчивая беседу, будто невзначай обронил:
– Утро вечера мудреней, давай спать, Санек. Завтра у тебя все – с утра начинается. Хватит тебе – с вечера… Вот так.
– A-ну! Давай, подъем!.. – громче обычного заорал шнырь, возвещая о наступлении очередного рабочего дня.
В захаровском углу тихо зашевелились. Сам Захар поднялся очень быстро, оделся и бодрым шагом, будто бы вовсе не спал, прошел в каптерку к Лысому.
Все привычно галдели, носились с банками, ругались из-за сапог и телогреек.
Из еды у нас почти ничего не осталось, и мы втроем – Славка, я и Толя, наскоро выпив по кружке чая, вышли во двор. Перед воротами толпился народ, сбиваясь в неровный строй. Мы стояли и гадали: куда и на какие работы нас определят сегодня?
– Захар вчера намекнул, что на погрузку мы больше не пойдем. Вроде как с сегодняшнего дня – на разделку, – сказал я.
– Похоже на то.
– У меня все болит… Как работать? Пошевелиться не могу, – ворчал Толя.
Болело все и впрямь сильно – каждое движение отдавалось в позвоночник, ноги гудели как чугунные, стопы распухли, и сапоги казались меньше на два размера. Постоянно хотелось сесть или прилечь. Нужна была передышка, а ее не давали.
Захар поозирался вокруг, увидел нас и через весь двор крикнул:
– А вы что, Санек, на завтрак не идете, что ль? Западло, ха-ха?.. Конечно, с ночи помидоров с колбасой трамба– нешь, никакой каши не захочется! Не-е, на завтрак ходить надо, мало ли что?.. Пригодится. Я вот хожу иногда, хе-хе!..
«Да ты, сука, – провокатор», – молча подумал я.
Выскочил шнырь. Захар схватил его за шиворот.
– Ну что, гидра двухочковая, где бродишь?! Веди народ в столовую!
– Пошли, пошли, пошли… – засуетился Дима и бросился открывать ворота.
По дороге Захар окликал то одного, то другого из впереди идущих с неизменными остротами и комментариями. Просто из желания поточить язык, поупражняться в своих афоризмах. А может, напоказ передо мной, лишний раз демонстрируя превосходство над всеми и полную от него зависимость.
– Та-а-к!.. Куры, куда помчались?! Без вас не сожрут, га-га!.. Чуча, крыса водородная! Вишь, как последним ухом, бля, будто локатором крутит!..
Впереди шагал длинный петух Чуча, единственное ухо которого, неестественно огромное и синее, торчало и поддерживало насаженную на голову пидорку.
– Бля буду, если второе ухо ему оторвать – хуй столовую найдет, ха-ха!.. – поддакивал Захару шедший рядом с ним старший дневной смены по фамилии Мешенюк.
– Вот эта одноухая крыса, Санек, – объяснял мне с ухмылкой Захар, – зимой в одиночку спорола целую флотку перловки. Представляешь? Десять литров! Сидит, бля, гадит уже под себя, а все равно ест!.. Во кишкоглот, га-га! А рыжий, кент евоный… Эй, рыжий!
Бредущий рядом с Чучей рослый конопатый парень довольно крепкого телосложения неохотно повернулся.
– Эй, Рыжий! Ну-ка расскажи, как вы всем курятником на бирже кошку заколбасили? Ага-га!..
– Да это не мы, Захар… Это из другой бригады, – тихо промычал Рыжий.
– Да ладно, блядь, с другой бригады! Мне тут цинка– нули, что Чуча себе уже пидорку меховую шьет! И эту, как ее?., ну, как ее?..
– Жоржетку! – подсказал кто-то из середины строя.
– А-га-га-га!..
Остроты Захара были грубыми, ядовитыми, даже оскорбительными. Но благодаря его особенной декламации и манере очень смешными. А самое главное – ни на чьи не похожими. Ему подражали, но превзойти его было невозможно.
– Что молчишь, крыса одноухая? Вдвоем с Рыжим кошака сожрали, а с подругами не поделились?.. А-га– га!.. – не унимался Захар. – Кошак-то рыжий был? А?.. Э, Рыжий, смотри, Чуча одноухий и тебя заколбасит! По мнению! У него от рыжего цвета – аппетит! А-га-га!..
Подошли к столовой. У дверей все расступились, пропуская вперед Захара и тех, кто шел рядом с ним.
– Пойдем, Санек… Эти еще успеют, – кивнул он на окружающих.
Пошли направо, в самый конец, к первому столу.
– Садись со мной… А вы там смотрите, где кому нравится. За второй стол садитесь. Ваше место будет, – бросил он в сторону Славки и Толи.
Рядом с Захаром занял место Мешенюк и еще кто-то. Я присел прямо напротив. Заготовщики забегали. Захар зачерпнул кашу, съел половину ложки, будто ее дегустируя. Бросил в миску кусок маргарина, высыпал пайку сахара и, размешивая, произнес:
– Ты ешь, Санек, хуля ее пробовать. Она здесь с 1937 года одного и того же вкуса. Чем быстрее ешь, тем меньше воротит… Да, Мишаня?
– Правильно. Ты всегда все правильно говоришь, – поддакнул Мешенюк, поедая свою порцию.
Не доев, Захар встал и пошел к выходу. Мешенюк вскочил и бросился следом. У дверей остановился и крикнул в нашу сторону:
– Новиков и Керин после завтрака собирайтесь на работу. А Собинов… Может спать пока.
– Ну вот, новый номер. Опять какую-то муть затеяли, – отреагировал Толя, вставая из-за стола.
На обратном пути обсудили захаровское решение. Пришли к выводу, что на погрузку гонять нас будут теперь по одному. То есть, нужно готовиться к худшему.
Тем временем во дворе начинала собираться основная часть бригады. По численности это было человек пятьдесят – в основном все незнакомые. Около нас, сидя на корточках, курил довольно неплохо – по зоновским меркам – одетый парень. По лицу и по манерам было видно, что он или из беспризорников, или уже не один год отсидевший. Судя по его друзьям и всем, кто общался с ним, – пользующийся определенным авторитетом. Глядел он всегда прямо в глаза. Сам же взгляд его был цепким и жестким.
– Здорово, Медведь! – поприветствовал его Славка. – Познакомься вот с Александром.
Медведь встал, приветливо улыбнулся и, протягивая руку, очень просто и по-доброму представился:
– Колян Медведев. Из Тамбова я. Короче, просто Медведь. Тамбовский медведь, хе-хе…
По всему было видно, что Славка знает его хорошо и давно. И оба относятся друг к другу очень уважительно.
– Сколько сроку еще тебе, Александр, осталось? – спросил Медведь.
– Почти восемь.
– Многовато. До звонка сидеть – ну бы его на хуй.
– Да мы не собираемся до звонка.
Послышался голос Захара:
– Дневное звено, стройся по двое
Все встали парами. Мы со Славкой – как обычно в конце. Впереди нас – Медведь со своим приятелем.
Мешенюк прошел вдоль строя, педантично пересчитал пары вслух:
– Сорок шесть… Новиков здесь… Собинова оставляем…
– Пошли!.. Давай шевели копытами!.. – рявкнул передним рядам Захар, и бригада двинулась на работу.
По дороге курить запрещалось в связи с высокой пожароопасностью – кругом опилки, кора, доски, обрывки рубероида среди высохшей травы. Медведь иногда оборачивался, и они со Славкой перекидывались репликами и шутками по поводу проплывающего мимо дикого пейзажа или по поводу встречающихся мелких лагерных начальников. В основном в познавательных для меня целях.
– Вон видишь, там вдалеке вышка с часовым? – обернулся ко мне Медведь. – Там раньше не чурка стоял, а хохол. Если кто к вышке подбегал втихаря – он сверху шнурок кидал. К шнурку червонец привязывали, говорили, чего купить. Он червонец затягивал и шипел оттуда, когда прийти забрать. Честный был – с червонца два рубля брал. Потом его, видно, сдали свои же. Хохла убрали, поставили чурку. А этот чурка собрал денег – и пропал. Оказалось – дембельнулся, падла!
– Да здесь это сплошь и рядом. Понятий никаких не осталось – кто кого быстрей наебет, тот и прав! – поддержал Медведя шедший рядом приятель.
Интересно, куда Захар Александра работать поставит? – не в тему вдруг заговорил Славка. – Как ты думаешь, Медведь?
– Да кто знает, что у него на уме? Может и в инструменталку… А может – на дрова.
– На дрова – не дай бог, – снова подал голос шедший рядом.
– Главное – приглядеться. Тихо, спокойно – приглядеться. А там кривая выведет. Жизнь она сама дорогу подскажет. Здесь, в лагере, не надо делать резких движений – смотри, кивай, а делай свое. И главное – молча. Оно не нами так заведено. С поколениями передалось от тех, кто срок добил. И просто выжил, – тихо через плечо напутствовал Медведь.
Постепенно я понял, что человек он очень осторожный, рассудительный. Осторожность его, скорее всего, произрастала из богатого жизненного опыта. Он был беспризорник, скитался по детским домам и интернатам. При всей его неброскости и разумной скромности фигурой в отряде он был влиятельной.
– Медведь – нормальный мужик. Можно многое доверять, – отрекомендовал еще раз Славка.
Наконец пришли на место. Тепляк 101-й бригады располагался рядом с двухэтажным зданием конторы. На верхнем этаже сидело биржевое начальство– начальник биржи сырья, сменный мастер, главный механик. Все вольнонаемные, за исключением учетчиков. Эти были – зэки. Работенка их была непыльной, а потому новичков среди учетчиков не было.
Тепляк состоял из трех частей. Войдя с крыльца, попадаешь в раздевалку, где на гвоздях по стенам развешаны рабочие телаги, а под лавками битком валяются сапоги с воткнутыми в них портянками. Каждая пара помечена – где краской по голенищу, где прикручена проволочка. У некоторых сапог – надрезы по кромке. У каждого – свои метки. Путать нельзя. За Славкой было закреплено место, ближе к углу, удобнее, чем у других. В этом же углу переодевались и держали одежду еще несколько человек, положение которых позволяло такую привилегию. Слева была дверь в кабинет Захара. В правом крыле с отдельного входа – инструменталка. Хозяином ее был неразговорчивый здоровенный детина с неандертальской внешностью и таким же интеллектом по имени Федька Бутаков. При всей своей умственной недоразвитости – на удивление очень хозяйственный и работящий. Захару он заглядывал в рот, выполнял беспрекословно его команды и просто так в инструменталку никого не пускал. А если и требовалось наточить крючок или заклепать цепь электропилы – принимал инструмент на пороге и тут же захлопывал перед носом дверь. Целый день он сидел внутри, почти не показываясь на улицу. Что-то точил, пилил и клепал. Варил Захару еду и чай. Потом по-халдейски носил прямо в кабинет. Это была здоровенная, особо приближенная к Захару «шестерка». Мужики его тихо ненавидели.
Все начали быстро переодеваться. Старший смены, уже знакомый мне Мешенюк, запрыгнул в кабинет Захара и плотно прихлопнул за собой толстую дверь. У меня рабочей одежды не было, а потому я сидел и думал о том, как буду работать в «парадной».
– Выдадут, не торопись, – переодеваясь, сказал Славка. – Это не на погрузке. Здесь в таком рванье работают только черти.
Он кивнул на угол возле дверей, где, как обычно, галдя и ругаясь, переодевалась петушино-чертовская братия. Гардероб этого угла очень напоминал «спецодежду» погрузочной бригады.
Открылась дверь, высунулась физиономия Мешенюка:
– Новик, зайди к Захару. Насчет одежды надо решить. И еще кое-что…
Я вошел. Справа стоял письменный стол. За ним сидел Захар, откинувшись, как обычно, в вольной позе на спинку стула. Позади него было небольшое зарешеченное окно. В углу – аквариум с рыбками. Прямо передо мной лежак, обитый дерматином. Слева во всю стену шкаф. Если не знать, что ты находишься в тюрьме, – обычный кабинет заводского или фабричного сменного мастера.
– Садись, хуля там среди чертей толкаться. Место для раздевалки нашел?
– Да, в общем, все уже нашел. Со Славкой вместе. Ну и еще там кто-то.
– Кто – «кто-то»?.. Медведь что ль? Медведь, у нас, бля, блатной. Он на JIO-15 переодевается – тоже мне, блоть ебаная! У него кент на пиле сидит. Надо бы прикрыть эту лавочку, а-га-га!..
– А что такое – JIO-15? – спросил я для поддержания разговора. Хотя, честно говоря, было глубоко плевать на эту «ЛО».
– Основная часть производства, Санек, можно сказать – сердце.
– Голова, – добавил Мешенюк.
– Это огромная пила, больше метра диаметром. Управляется оператором из отдельной кабины. Напротив – тоже кабина. В ней сидит другой оператор, который огромными клешнями разбирает пачки хлыстов и кидает их в лоток. В лотке движется цепь с поперечинами. «Хлыст» – это ствол дерева, без веток. Он идет до пилы. Доходит. Оператор, что сидит на пиле, останавливает цепь. Нажимает кнопку – пила – жжик! Другую кнопку нажимает – цепь пошла. Шесть метров прошла – стой! Опять пилой – жжик!.. А хлысты, вон, ты видел, лесовозами подвозят. Краном снимают и– на площадку эстакады. Пачка – двадцать тонн. Так пачку к пачке, пятьсот кубов за смену. Ну и так далее… Потом поймешь. От того, как ЛО-15 успевает, зависит план. Если он есть – все в порядке. Плана нет – головы поотшибаю. Еще раз плана нет – в изолятор. А там, когда из изолятора вышел – глянь, а на ЛО уже другой оператор сидит. А этого куда?.. Правильно – на разделку, на дрова. Если будка, где он сидел, была – голова, то дрова – это…
– Жопа, – закончил глубокую захаровскую мысль Мешенюк.
– Уразумел?.. Так, Миша, давай выгоняй всех на эстакаду. Ночную смену гони в тепляк.
Мешенюк быстро вышел.
– Хорош сидеть!.. Давай выпрыгивай из тепляка!.. – донесся его голос.
Застучали сапоги, зазвякали крючки. Народ нехотя потянулся к длинной эстакаде. Через минуту все стихло. Захар закурил и громко крикнул в сторону инструменталки:
– Федька!..
Влетел детина.
– Подбери-ка, вот, Александру крючок покозырнее… чтоб не разогнулся. А то хуй его знает – может, по-стаха– новски работать начнет, га-га-га!.. Да телагу с сапогами. Все понял?
– Понял.
Федька убежал.
– Сегодня подберем чего-нибудь. Если не подойдет – в жилзону вернемся, отряднику заявление напишем. Тебе в каптерке Обух выдаст… Обуха знаешь?
– Нет.
– Завхоз каптерки. Подпольный миллионер зоновс– кий. У него и швейка, и каптерка. Я ему скажу, чтоб с тебя не вымогал. Дюжевский работник… Крыса двухжелудочная, га-га!..
Послышался грохот сапог. Пришла ночная смена, а с ней и Мешенюк.
– Ну что, батька, куда Александра ставить? С кем в пару?
– Со Славкой пусть… Но пока Славке дай кого-нибудь, а мы тут покалякаем. Наработается еще, успеет, срок большой, га-га!.. Иди, иди, смотри за производством.
Захар приоткрыл дверь и крикнул:
– Федька! Захвати там еще чего-нибудь!..
Опять нарисовался детина, держа под мышкой телагу.
– Вот… Все что нашел.
Из телаги он вытащил сверток с какой-то едой и бросил ее на топчан. Телага была вполне сносной и почти по размеру.
– Носи на здоровье.
Так начался мой первый рабочий день в качестве «разнорабочего разделки». Выпили чаю. Захар пришел в благое расположение духа, закурил и забалагурил. На этот раз не о себе. Да и в каком-то другом, неестественном для него тоне. Без работы на публику, без привычного гогота.
– Да-а-а… Жизнь, Санек, она длинная и непонятная штука… Я имею в виду лагерную. На воле там все понятно. Есть у кого помощи попросить, в случае чего – поплакаться. Лагерь – другое. Здесь чтоб себя по положению поставить – годы нужны. Годы… А рухнуть все может в один миг. Я сам из Красноярского края, там попал. Сюда этапом пришел совсем еще молодым, почти пацаном. Не по возрасту пацаном – по жизни. Здесь тогда натуральный ад был. Он и сейчас – ад кое-кому бывает. Но сейчас – прокурор, надзор, Красный Крест, перестройка и прочая хуйня! А тогда – смотрящий, блатные. Ну и хозяин. Хотя хозяин – на третьем месте. Ему с блатными приходилось считаться. Раньше зона черная была, потом уже ссучилась. А тогда все блатные решали. Допустим, загрубила в чем-то администрация, наказали кого-нибудь ни за что – блатные собрались и порешили: завтра зона на работу не выходит. И все. Послали шныря в штаб с депешей – так и так, мужики, мол, на работу идти отказываются. Хозяин в то время другой был, молодой, только на должность заступил. Короче, не поверил. Шныря в трюм закрыли. А утром на вахте висит плакат, черным по белому написано: «Кто на работу выйдет – тот пидарас». И что ты думаешь? Ни один не вышел! Вся зона в бараки вернулась. А почему? А потому что понятия другие были. И предъявляли по-другому: «Плакат читал? Читал. А на работу зачем вышел?.. А? Значит, в пидоры стремишься?.. Ну, раз стремишься – держи пидорский матрас и – в курятник!..» Так и было. Но всю зону в изолятор не посадишь, всех блатных тоже. Не влезут – слишком до хуя народу. А хозяин был дурак – закрыл в БУР самых блатных. Ну и что ты думаешь? Вся зона на работу вышла. День ходит. Два дня ходит. Хозяин доволен, ходит, в хуй себя надувает. А на третий день – штабеля как полыхнули!.. Ты видел, какие здесь штабеля? Самый маленький – с пятиэтажный дом. Так горело, что краны подъемные плавились, сгибались, как свечки. Под это дело еще кое-кого замочили и – в штабеля! Там даже пепла не найти после пожара, не то что – кости. Короче говоря – бунт! В управлении шум, комиссия за комиссией… Хозяина – по пизде метлой. Блатных из БУРа – обратно. Пришел новый начальник – начал рогами шевелить. Это на воле дуракам сказки рассказывают, будто в зоне все делается руками администрации – хуй там! В зоне, запомни, Санек, все делается чужими руками. Чужими. А администрация, если не дура, – все зэковскими руками. И прессуют, и прикармливают. Лагерь– дело тонкое, хе-хе… Думаешь, мне надо, чтобы ты работал? Нет. Я могу тебя вообще на эстакаду не выводить. Сиди в тепляке, чай пей или по бирже шастай. Но сдадут, завтра же сдадут. Меня хозяин дернет, спросит: «Почему у тебя Новиков не работает?» А я что отвечу?.. Не хочет?.. Или – я так хочу?.. Не прокапает. Значит, нужна мулька какая-нибудь. Ну, например, будто я тебя поставил инструментальщиком. Или помощником его – работы много, мол, тот один в запарке не справляется, топоры и цепи наточить не успевает. И так далее. Я эту мульку Грибанову прогоню. Но тот не дурак, все поймет. Раз ты с первых дней на теплом месте – значит, меня подогрел. Значит, он с меня тоже начнет кровь сосать. Нет, не деньги, не сало. Дровами начнет брать. Здесь на воле всем дрова березовые нужны. Чурбанов напилить– то несложно. Их выписывают официально, платят в кассу колонии и – пожалуйста, вывози. И коли их, блядь, на морозе сам. А здесь зимой морозы такие, что одной машиной дров не обогреешься. Здесь и вольные живут в бараках. У других – бани на заимках да во дворах. Дрова здесь – дефицит. Валюта. А кто не захочет машину колотых дров получить? Услуги такой, как «расколка дров», в зоне нет. Но если хорошо попросить Захара, то… А кто может попросить?.. Грибанов, правильно. Не Дюжев, не Нижников, не Филаретов, никто – они высоко сидят. Хотя дрова им тоже ой как нужны. И всем хочется – за копейки. Поэтому, к кому идти? Правильно, к Захару. Через Грибана. Ну, а я и говорю, так и так, гражданин начальник, Новиков дрова колет. Грибанов опять мне не поверит, потому что дрова здесь черти и пидорасы в бригаде колют. Значит, что я должен сказать? А то, что не работаешь ты для того, чтобы лучше работали другие! То есть ты – моя правая или левая рука. Он только рот разинет, чтобы дальше спрашивать, а я ему: «Гражданин начальник, вы машинку дров заказывали, так вот, благодаря Новикову вам накололи две!..» Ну, так, к примеру. Усек?.. Он сразу жало и прикусит. Хотя бы на время, до следующей машины.
Старшаком я тебя сразу поставить не могу– надо пару-тройку месяцев отпахать. Надо знать производство. Будем вместе с Петрухой думать, как это покрасивее обстряпать. Совсем уж не работать не получится. Вон, со Славкой пока да с Медведем работай не в напряг, а там посмотрим. Обживайся, по делам ходи, но учти, если спа– лишься, если поймают не на рабочем месте – я тебя никуда не отпускал! Грузи все на себя. Я, конечно, отмажу перед отрядником. Отрядник – не страшно. Главное, не спалиться хозяину. Вот если тот увидит – это суток десять без вывода, не меньше. Рыло кому-нибудь набьешь – не посадит. С гревом спалишься – не посадит. Прапора какого-нибудь на хуй пошлешь– не посадит. Но если с рабочего места ушел или план не выполняешь– пощады не жди. План – святое. Нижников – душа не мелкая, это не Дюжев, который за пуговицу, за сапоги грязные, за всякую дребедень в карцер сажает. Даже знаешь какой случай был. На стене лесоцеха кто-то ночью написал: «Нижников – хозяин. Филаретов – мужик. Дюжев – пидарас». А-га-га!.. В натуре, не вру, так и было. А утром хозяин идет с обходом по бирже. Его папаху далеко видать. Идет, короче, как сохатый по лесу – широченными шагами. Видит надпись. Он: «Бригадира лесоцеха – ко мне!» Побежали за бригадиром. Тот заспанный, прискакал, ни хуя понять не может. Обросший уже был – вот– вот освобождаться. За шевелюру трясется. Нижников ему: «Та-а-к… Вот так это само дело ебиомать!.. Это что у тебя здесь за агитация?! А?.. Что за грамотеи, вот так это дело, развелись? А ну закрасить быстро, само дело ебиомать!» Тот в ответ: «А что закрашивать, гражданин полковник?» Хозяин как рявкнет: «Обернись, вот так это дело, и думай, что здесь закрасить! А я после обеда посмотрю, как у тебя голова думает, ебиомать…»
Хозяин приказал – нельзя не выполнять. Послали чертей за известкой, за кистью. Бригадир ходит, шифрует: «Как понять – “думай головой”»? В общем, думай не думай, а закрашивать надо. Половину надписи– «Нижников – хозяин. Филаретов – мужик» – до обеда замазать успели. А про Дюжева – нет. Едет после обеда хозяин. Видит издалека одно: «Дюжев – пидарас». Он опять: «Бригадира ко мне!» Тот опять прибежал, весь на измене, бледный. Хозяин ему: «Последнюю надпись почему, само дело, оставил?! Почему, отвечай, не все закрасил? Десять суток без вывода!» «Не успели, гражданин начальник…» Хозяин говорит: «Врешь. Если честно скажешь – не накажу».
А бригадир тот мурый был, к слову сказать, пятнашку добивал – портачки ставить негде. Он Нижникову и говорит: «Если честно, гражданин полковник, то все, что про вас с Филаретовым написано, зона и так знает. А про Дюжева – не вся». Тут хозяин как заржет! «Ну, – говорит, – не зря ты пятнашку, Ваня, отсидел. Иди. За находчивость – прощаю. А надпись… надпись закрасить. В нерабочее время. Вот так это дело ебиомать». А-га-га!.. А с Дюжевым такая история была. Забежал как-то на биржу козел – обычный козел, домашний. Как уж он ухитрился – то ли через забор от поселковых собак спасался, то ли через ворота, куда лесовозы въезжают, – не важно. Ну, народ, разумеется, давай его ловить. Сюда если собака забежит – и то в момент изловят, заколбасят. Зона голодная. А тут – козел! Гоняют его, гоняют. Скачет он через штабеля, через кучи. Целая толпа за ним с палками носится… И вдруг – на тебе! – Дюжев. Идет через биржу на те самые ворота.
– Стоп! – говорит. – Идите сюда. Как фамилии?
Всех пофамильно переписал.
– Почему за козлом гоняетесь? Почему с рабочего места ушли? Ну-ка, давай быстро по местам. Еще раз увижу или узнаю – всех накажу!
И пошел прочь. А один умник возьми да и ляпни:
– А мы его ловили, гражданин начальник, чтоб в СПП принять!., Гa-гa-гa!..
Дюжев остановился, набычился.
– В СПП? А ну, идите сюда! Кто из вас в СПП состоит?
Все молчат. Вроде как – никто.
– Ну, раз вы в СПП не состоите, раз вы не «козлы», – по какому праву его туда тащите? А?.. Всем по пять суток. А тебе, чтоб не умничал… – десять!
Прикидываешь, не за работу десять суток дал, а за козла! Потому что сам – козел, а-га-га!
Захар определенно развеселился. Казалось, даже подобрел. Я сидел, улыбаясь его лагерным байкам. Идти работать никак не хотелось.
– Сходи, Александр, тусанись на эстакаде, крючок опробуй, хе-хе… Славка там один, поди, уже упарился!
Я собрался и вышел. Навстречу попался Мешенюк.
– Ну, что Захар сказал? Куда?
– К Славке в пару.
Эстакада представляла собой длинное сооружение, что-то вроде моста на сваях, возвышающегося на три метра над уровнем земли. По центральной линии вдоль всей эстакады был устроен лоток, в котором непрерывно ползла толстенная цепь. В правом конце находилась та самая установка ЛО-15, в левом – ничего. Она заканчивалась огромной шестерней, крутящейся и волокущей эту цепь. В лоток со стороны установки горой падали напиленные бревна – баланы. Вдоль него стоял люд с крючьями в руках, задачей которого была сортировка древесины, в зависимости от породы и диаметра. Каждый знал, какой диаметр – его. Нужно было вырывать крючком из проходящей мимо горы бревен свои и бросать вниз – в «карман».
Кому-то поручалась срывка тонких – диаметром от десяти сантиметров. Это не слишком тяжело. Кому-то средние, а кому – тол стомер– огромной толщины бревна диаметром до полутора метров. В одиночку сорвать такое бревно невозможно. Ни вдвоем, ни вчетвером. Если оно попадалось, лебедку выключали и всей бригадой при помощи лаг и мата выкатывали из лотка и кидали вниз. От удара дрожала земля. Поток древесины шел непрерывно, поэтому выключения запрещались. Исключение делали только для таких бревен. План за смену – пятьсот кубометров. Если часто останавливать – план не получится. А это уже грозило неприятностями. Поэтому все двенадцать часов – бегом, с маленьким перерывом на обед. Меню небогатое – миска баланды, черпак каши и пайка черного, пополам с лебедой или еще какой-то дрянью хлеба, больше напоминающего пластилин.
По всем нормам и законам для заключенных был установлен восьмичасовой рабочий день. Но на это администрация плевала. А на многочисленные жалобы, тайно переправленные из лагеря, прокурорская проверка отвечала отписками. Во время их визитов подозреваемые или уличенные в написании жалоб сажались в изолятор или уводились в этот день на погрузку вагонов. Официально отправить жалобу было невозможно– они читались в оперчасти и тут же уничтожались. Жалобщики же брались на учет и, как следствие, – выгонялись на прямые и самые тяжелые работы, чередуемые с варварским изолятором. Большинство из них просто не выжили – остались на местном кладбище под палкой с жестяной табличкой. Московские проверки администрация обманывала, задабривала и провожала с миром. А ночью в бараке или в тепляках на производстве бригадиры со старшаками и завхозы со скозлившейся блатотой запинывали и забивали жалобщиков до полусмерти. Тех же, кого бить было небезопасно в силу их физических данных или мощной поддержки земляков, при помощи начальников отрядов просто морили в карцере. А днем выгоняли на работы. Люди болели, худали. А если учесть, что морозы зимой доходили до пятидесяти градусов, то выжить в таких условиях и при такой кормежке было просто невозможно.
Умерших списывали различными способами. Если побоев нет – составляли акт о том, что «замастырился» – «специально надышался выхлопными газами, чтобы симулировать отравление и не работать».
Если замерз – тоже «замастырился» – «специально простудился, обморозил конечности, чтобы не работать».
Если весь в синяках и кровоподтеках – «ссора с осужденными». Если есть переломы – «специально бросился вниз со штабеля, чтобы покончить жизнь самоубийством».
Ни о каких производственных травмах и речи не могло быть. Что бы ни случилось – «замастырился»! А потому ждут– не больница, не гипс и врачи, а изолятор, побои, лишение ларька и очередного свидания. Или тащись со сломанной рукой в жилзону и пиши бумагу о том, что упал в сортире с «очка». Тогда еще можно на что-то рассчитывать. И то затаскают по кабинетам и по всем кумовским инстанциям. Затребуют кучу объяснительных, в итоге отстанут, но работать все равно заставят. Просто на более легкой работе – в лагере больничных листов не бывает.
В этом я вскоре убедился сам. А пока, превозмогая боль в спине и во всех конечностях, взбирался с крючком в руке на свое рабочее место.
Процесс был в полном разгаре. Разделанный лес шел горой. По всей длине эстакады, над самым ее краем, был натянут трос, вдоль которого стояли люди и, держась за него рукой, вырывали крючками баланы из лотка. Трос был единственной помощью – он пружинил и потому помогал поднимать большие тяжести. А кроме всего, был единственной страховкой – высота эстакады доходила до трех метров, и нечаянное падение вниз ничего хорошего не предвещало.
Славка с Медведем стояли на «толстомере». Далее за ними, в самом конце, скакали двое – срывщики дров. «Дрова» – это откромсанные, бесформенные корневища, иногда циклопического размера. Обрезки бревен, кусков толстых веток и всего остального, что не пригодно для распиливания на доски. Это были не те дрова, о которых рассказывал Захар, а те, что горами ползли по лотку, требуя адских усилий и снороцкй. Как хочешь, так и успевай кидать их в металлический кузов – «банку». Один срывщик стоял вверху, второй – внизу, на укладке. Иногда верхний спрыгивал помогать, если попадалось огромное корневище. Примерно каждые полчаса кузов наполнялся доверху. Цепляли стропы, и кран тащил все это вываливать в огромную дровяную гору. Поэтому, пока «банка» путешествовала, пни и коряги приходилось укладывать прямо под ноги. Вернулась – поставили. Коряги – вниз. Опять укладка, опять бегом. И так до бесконечности. До конца смены. Потом, пока бригада переодевается – подбор разлетевшихся, упавших мимо или прошедших до конца и свалившихся за последним колесом лебедки. Эти приходилось таскать вручную, катая, кантуя или волоча.
Я почему-то приглядывался больше не к тому месту, где кожилились Славка с Медведем, а к дровяному углу, про который слышал неоднократно, но увидел воочию только сегодня. Будто чувствовал, что рано или поздно окажусь там.
По всей эстакаде стоял грохот и мат. Лязгала цепь, скрипел, шуршал, пищал и хрустел поток идущего леса. Орала гигантская пила, врезаясь в бока сосновых и березовых стволов. Звенели краны. Вниз градом сыпались ба– ланы, издавая беспорядочный раскатистый стук. Работал диковинный организм – механизм, цель у которого была одна – план.
Славка с Медведем пытались вытащить «за хвост» очередной толстенный балан. Весил он не меньше двух центнеров, поэтому, невзирая на все их усилия, не поддавался. Подцепив его крючками, они медленно бежали следом, выкрикивая: «И-и-и р-раз!.. И-и-и р-раз!..» Увидели меня, но, не останавливаясь, продолжали: «И-и-и!.. еб твою мать!., р-р-раз!..»
– Стой! Останови цепь! – заорал Славка.
Кто-то рванул рубильник. Все встало. Помогать в таких случаях – закон. Навалились еще двое, потом еще. Бревно нехотя вылезло и легло по диагонали через оба борта лотка.
– Кати! Отходи в сторону!
Бревно лениво грохнулось вниз.
– Включай! Поехали!
Все бросились по местам. Мне стало вдруг стыдно и грустно. В этот миг я возненавидел Захара, возненавидел себя. В этот самый миг я понял, как хитро, как ловко и подло Захар начал строить мою лагерную жизнь по своему усмотрению. «Все в лагере, Санек, делается чужими руками…»
Вбить клин между мной, Славкой и Медведем – лучшего способа, чем он придумал, не найти. Поставить всех троих на «толстомер», но Керин и Медведь пусть работают, а Новиков – сиди, кури. То есть можешь и ты, Новиков, работать, но я тебя не заставлял. А можешь в тепляке целый день торчать. Если Славку с Медведем это устраивает, ходи, понтуйся. Результат полезный в любом случае: либо все трое разругаются и станут врагами, либо Новиков добровольно начнет работать. А Захар – ни при чем. Чуть что: «Я же хотел как лучше, но ты сам выбрал, братан, какой с меня спрос?»
– Извините, мужики, с Захаром заболтался! Тот, как сел с утра на метлу, только сейчас спрыгнул! – прокричал я сквозь грохот, вставая рядом со Славкой.
– Тут все просто. Если толстомер вдет, мы с тобой его за хвост цепляем, вытаскиваем из лотка. Медведь – с другой стороны. И – вниз. Главное, его заранее, на подходе зацепить, а то мимо кармана проедет – тащить обратно придется. Это – не дай бог! – с ходу начал учить меня Славка. – Оно когда как бывает: лес тонкий привезут – у нас работы немного. А бывает – лиственница толстенная, машина за машиной. Тогда – беда! После смены с эстакады спуститься – сил нет.
Из будки вышел Мешенюк. Он не работал, и в его обязанности входило только следить, подгонять и стоять на выключателе. Не для того, чтобы выключать в экстренных случаях, а именно для того, чтобы не дать этого сделать, если мужики не успевают сортировать с ходу. Для таких, как Славка и Медведь, он щелкал рубильником, показывая особенное к ним отношение. Для срывщиков дров никаких выключений не полагалось. Никогда, ни по каким причинам. Разве что зацепило бревном и поломало ногу. Или оторвало ее в лотке поперечиной цепи.
Мешенюк шел вдоль по эстакаде с огромным дрыном в руке, выкидывая его перед собой, как посох. Остановился напротив одного из карманов и, замахнувшись дрыном на копошащихся внизу, заорал:
– A-ну, равняй торцы! Вы что, твари, не видите, что пачка кривая?! Где эта косая крыса – Буткин?!
Из-под эстакады вынырнул парень в оранжевой каске. Это был стропальщик по фамилии Буткин, выражением лица очень напоминающий героя фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», изрекающего в конце фильма историческую фразу: «А че это вы тут делаете? Кино-то кончилось…» Хитрющий до невозможности. Один глаз его слегка косил, зубов во рту было не лишку. Шельмовато озираясь, он разогнулся и задрал голову.
– Я тут!
– Видишь, концы торчат? Если эту пачку в штабель отправишь– будешь сам после смены ее там ровнять! Понял, сука?! – рявкнул на него Мешенюк.
Потом, повернувшись в сторону суетящихся внизу мужичков, он постучал палкой по настилу и назидательно проорал:
– Поубиваю, твари, если через пять минут не выровняете!
Один из мужичков начал быстро тягать баланы, разгребая их и выравнивая по торцу. В тот же миг Буткина как ветром сдуло под эстакаду.
Дойдя до нас, Мешенюк внимательно посмотрел на гору толстенных бревен и дежурно посоветовал:
– Поровней, поровней торцы, мужики… Понимаю, что тяжелые, но надо – Захар все равно проверит.
Тон, каким он разговаривал, менялся в зависимости от того, с кем он говорил. С Захаром – заискивающим, иногда до подобострастия. С серьезными мужиками, такими как Медведь, Славка и их друзья, – ровно, иногда повышая голос, но никогда не оскорбляя. От них можно было получить серьезную словесную оборотку, могли быть неприятные последствия. Мешенюк этого боялся. Чертей же и пидоров он глушил нещадно. Все, что он не мог или боялся высказать вслух одним, вдвойне вымещал на других. Разумеется, на самых слабых, забитых и запуганных. По складу характера он напоминал типичного «капо» – трусоватого и мстительного.
Заметив неладное в «дровяном» конце эстакады, он ринулся туда. Двое мужиков отчаянно пытались разгрести груды пней и обрезков, сбрасывая скопившиеся и вырывая из лотка новые. Эстакада не останавливалась. Они поочередно прыгали вниз, в «банку», цеплялись за трос крючком, вновь запрыгивали наверх. Гора дров не убывала.
– У-У-У– поплелся, сука, надсмотрщик ебучий, – проворчал Славка. – Этих двоих Захар морит – на дрова поставил и ждет, когда откупаться начнут.
Мешенюк замахнулся на одного из них палкой. Тот отскочил и начал быстро и беспорядочно скидывать самые толстые пни и обрезки вниз.
Без всякой разминки я встал рядом со Славкой и впрягся в процесс.
– Та-а-к… идет… забегаем назад… цепляем вдвоем!.. Давай, р-раз!.. Медведь, помогай!.. – командовал он. – Хватай взацеп, назад тащи!.. Напротив кармана – стоп!.. Кати!
Очередное огромное бревно, сорвавшись, с грохотом полетело вниз. За ним уже шло следующее. Единственным достоинством «толстомера» было то, что он был почти «голый», с обрубленными сучками и ветками. Мешали только корни и пни, которые назывались на производственном наречии «комлями».
Втянулся в работу я довольно бодро. Кидался на помощь то Славке, то Медведю, однако сил хватило ненадолго – через час они вместе с энтузиазмом стали иссякать. Увидев меня, тягающего баланы наравне с другими, Мешенюк встревоженно и удивленно присвистнул и ринулся в тепляк к Захару узнавать, не поменял ли тот решение, или я сам добровольно отказался от «понтолимонии». А может, произошло то, что требовало дополнительных разъяснений.
Дело шло к обеду. Весь в мыле, запинаясь обо все, что можно, с неимоверно болящей спиной, я дожидался не еды – передышки. Вместе со Славкой, Медведем и другими мужиками мы продолжали рвать, катать и кидать. Перекуров не полагалось. Сигарету – в зубы, двумя руками – крючок.
– И-и р-р-раз!.. И-и-и!.. подымай за хвост!.. Держи!.. Кати!.. И-и-и… два!.. Показался Мешенюк. Взобрался на эстакаду, выключил рубильник и прокричал вдоль всей цепи:
– Обед!.. Бросай, пошли!
Потом подошел ко мне и тихо, отвернувшись от всех, шепнул:
– Иди, Захар зовет. На обед можешь не ходить.
И удалился вслед за кучкой мужиков.
– Лучше пойти в столовку, это мой тебе совет, – сказал Медведь, глядя ему в спину.
К Захару идти, честно говоря, не хотелось. Потихоньку я начал, где своим умом, где по советам Славки, разбираться в ситуации – «въезжать мозгами».
Захар тоже собирался отобедать. На столе стояла маленькая алюминиевая кастрюлька с супом и что-то из консервов.
– Заходи, заходи. Мешенюк говорит, ты там пахать начал. По-стахановски, га-га!.. Если по работе кумаришь – то, конечно, можешь и попахать, дело твое, я не заставляю.
– Я не могу так, чтобы мужики пахали, а я сидел, смотрел. Или надо гаситься где-то, или если уж вышел – вставать рядом.
– Да брось ты эту хуйню! Здесь каждый решает сам за себя. Есть возможность не работать – сиди, кайфуй, не делай глупостей. Что тебе – Керин? Кто тебе – Медведь? Они – одно. А ты для меня – другое. Дело, конечно, твое, смотри… Давай лучше поедим, а то пахать– силенки нужны, а-га-га!..
Вошел Мешенюк, оценил обстановку и спросил, кивая на меня:
– Остается?..
– Веди бригаду на обед, быстро.
Через полчаса, выйдя от Захара и потолкавшись с сигаретой возле крыльца, я поплелся в сторону замершей эстакады. После недавнего ее грохота на землю, казалось, рухнула тишина. Далекие отзвуки кранов и глухой шум лесоцехов не могли нарушить эту иллюзию. Светило солнце. В тот день оно выглянуло всего на пару часов, но светило так ярко, будто обещало, что вот-вот с неба хлынет тепло. Но его не было, оно где-то задерживалось. Порывами налетал несносный колючий ветер, и сразу становилось мрачнее и холоднее.
Я медленно брел, ища место, где можно было хоть на несколько минут прилечь, вытянуться и просто посмотреть в небо. Позавидовать облакам, которые могут лететь куда захочется, или, в конце концов, – куда их погонит. И уж если не облакам, то птицам – наверняка…
– Новиков!– Почему не на обеде, почему самовольно ходишь по промзоне? Кто разрешил?
От неожиданного окрика я вздрогнул. За спиной стоял капитан Грибанов.
– Я Захарова накажу! За то, что у него люди где попало шляются! – притворно строго прокричал он и быстро пошел в сторону тепляка.
«Хорошо разыграно, – подумал я про себя. – Сейчас создаст понты – наорет на Захара, в моем присутствии, разумеется. Тот, скорее всего, свалит все на Мешенюка.
Этот скажет, что я идти на обед отказался, а Захар, дескать, был в это время где-нибудь по производственным делам. Ну, а меня для начала лишат ларька».
Так думал я, шагая следом за Грибановым в сторону раздевалки. Однако все вышло по-другому.
– Почему у тебя Новиков на обед не ходит, а? И бродит, где попало, а? – закричал он с порога, влетев в захаровский кабинет.
– Что значит – «где попало», – гражданин начальник? – довольно нагло ответил Захар. – Бригада на обеде, а я, пока никого нет, послал его получше осмотреть рабочее место. Вот так… Да… Потому что когда идет разделка – много не поглазеешь. Работает он в паре с Кериным. Эстакада большая, работа разная – чтоб знал, что и где находится.
Он начал меня защищать и безбожно врать. Тон его был не оправдательный. Со стороны могло показаться, что он даже «наезжает» на начальника отряда, работая при этом, как обычно, на публику. Публикой был я.
Грибанов повернулся ко мне.
– Правду Захар говорит? Если нет – смотрите. Оба.
– А какой мне смысл врать – я бы что угодно мог сказать.
– Я был в столовой, его там не было, – не унимался Грибанов.
– Так я и не говорю, что он там был.
Из-за его спины левый глаз Захара подмигнул так, что я невольно рассмеялся в каменное начальничье лицо.
Видя, что попадает в дурацкое положение, и, не зная, как быть со мной дальше, Грибанов добавил:
– В последний раз… В последний раз.
– Ловко… – прокомментировал мой рассказ о происшедшем Медведь, вытирая пот со лба. – Это все – постанова. То, что Захар тебя отмазывать начал, – это все понты корявые, чтобы добреньким казаться. А потом, когда начнет морить – а он рано или поздно начнет, – свалит все на Грибанова. А он, Захар, ни при чем. Старая песня. Я же говорил – иди на обед со всеми.
– Сейчас и Мешенюк прибежит, скажет, что из-за тебя ему влетело. И теперь тебе ни на шаг уходить нельзя… Вот, помяни мое слово! – отрывисто выкрикивал Славка, работая крючком и прыгая через лоток туда-сюда.
– Уже понял, – отвечал я, проделывая то же самое. – Смотрят, как себя поведу: или с мужиками, или – с ними. Хотя, если честно, я уже решил: на хуй они мне нужны! Ясно, что это – твари.
– Вон, идет… Послушай, какую пургу начнет гнать, – тихо кивнул Медведь в сторону приближающегося Мешенюка.
– Александр, мне тут Захар за тебя выговаривал… Я-то ж не при делах… Ты бы хоть меня предупредил, я бы знал, что отвечать, – начал врать он. – В общем, ты, если куда собираешься, – у меня отпрашивайся.
– Даже в сортир? – с ехидной улыбкой спросил я.
– Даже в сортир.
Он развернулся на каблуках и ушел.
– Ну надо же, блядь, какая важная пизда – в сортир у ней отпрашиваться! – обозлился Славка.
– А надо было спросить: ты что, смотрящий за сортиром? А-га-га!.. – заржал Медведь.
– Он, часом, не хохол? – поинтересовался я, почему– то вспомнив Мустафу.
– По фамилии вроде хохол. А так – захаровская шестерка. У них нет национальности, – буркнул Славка.
В этом грохоте и визге было не до разговоров. Перебрасывались короткими фразами. Усталость надвигалась и подгибала ноги, телогрейки были мокрыми от пота. Их сбросили и работали в рубахах навыпуск.
– Надо бы передохнуть… – выдохнул Медведь. – Эй, Буткин, поди сюда!
В это время Буткин, кося одним глазом, заводил стропы под очередную пачку. Услышав свою фамилию, он крикнул крановщику: «Майна!., до конца!., клади крюк на землю!» – и побежал к нам. Медведь перегнулся через трос и тихо сказал:
– Замастырь хоть минут на десять… Как чифирь заварят, я маякн$.
– Понял, сделаем, хе-хе… – лукаво хихикнул Буткин. Он пошарил вокруг глазами, поднял обломок толстой ветки, показал ее нам, бережно отложил в сторону и начал заводить стропы.
Медведь побежал в будку заваривать чифирь. Все это время мы со Славкой управлялись вдвоем. Через несколько минут он показался, держа в рукавице кружку и прикрывая ее сверху другой.
– Буткин!
– Здесь! – ответил прямо под нами голос.
– Делай!
– Сейчас изладим.
«Мастырка» заключалась в следующем. Цепь, которая волокла на себе по лотку разделанную древесину, была натянута по принципу велосипедной – только гораздо большей длины. На обоих концах эстакады крутились огромные шестерни. Приводились они в движение мощными электродвигателями. Верхняя часть цепи шла по лотку, нижняя, под эстакадой, вдоль по доскам, лежащим на земле. Если внизу бросить на цепь палку, то, когда она дойдет до шестерни, зубья ее закусят. Если палка крепкая и достаточно толстая – цепь слетит и все остановится. Через десять минут ремонтники натянут ее обратно, но эти десять минут – передышка. И глоток чифиря.
– Ну что там, Буткин?.. Где ты? Делай короче!
– Досчитаем до трех, – ответил снизу голос. – Раз… два… три… ну!..
Цепь дернулась, послышался треск, и все встало.
– Фирма веников не вяжет, – гордо отрапортовал Буткин, влезая на эстакаду.
Откуда-то выскочил Мешенюк и помчался, размахивая палкой, в сторону лебедки.
– Цепь слетела, что ли?.. – на ходу бурчал он. Пробегая мимо нас, злобно зыркнул вниз и прикрикнул:
– Ты, косой, замастырил?!
– Да ты что, Миша, как можно? Я от строп не отхожу.
Забегали ремонтники с железными ломами. Мы стояли
довольные, пуская кружку вкруг и тихо ухмыляясь.
– Часто нельзя – спалимся. А так, изредка – обращайтесь, – сказал на прощание Буткин, спрыгивая с эстакады.
Над нашей головой остановился мостовой кран. Из кабинки высунулся парень и крикнул:
– Мужики!.. Александр!.. Если надо чифирнуть– зовите меня. Я подъеду, веревку кину. Чай засылайте – заварю.
– Вовка Ожег. Нормальный парень, – отрекомендовал Медведь. – Он из другой бригады – из крановщиков. Ему Захар – по хую. Если работы немного, если время есть – всегда подогреет. Или когда менты идут со шмоном – ему издалека видно, – всегда предупредит.
Стемнело. До конца смены оставалось еще несколько часов. Я уже знал, что работать предстоит двенадцать, а не восемь, но что делать, не идти же в отказ. Мужики терпят, буду тоже терпеть. Правды все равно не добьешься – администрация с годами наработала огромный опыт борьбы с жалобщиками и очковтирательством в отписках на прокурорские запросы.
– Медведь, а если всей бригадой забастовать – послать их на хуй с двенадцатью часами, как ты думаешь, можно чего-то добиться? – спросил я в момент неожиданного затишья.
– Такого понятия, как «бригада», не существует. Бригада – это не одно целое. Большинство – сами по себе. Половина – Захару стучит. Пидоры – обо всем Мешенюку докладывают. А есть и просто – стукачи по призванию. Стучат, Саня, стучат. А кто – не сразу догадаешься, – грустно и устало ответил Медведь. – Не успеешь муть поднять – сдадут. Если в штабе узнают, что мужиков на забастовку подбиваешь, – мигом в карцер загасят. Забастовок боятся больше всего. А от тебя сейчас только и ждут, когда или от работы начнешь отказываться, или народ на бунт подбивать. Захар с Грибаном сразу к хозяину побегут или к Дюжеву. Им сейчас только одно нужно – заручиться поддержкой высшего начальства, руки развязать. Потому что самовольно, – они боятся. Не знают: поддержит тебя хозяин, или им на съедение отдаст. Вот и ищут разные поводы. Мой тебе совет: скрипи зубами, но терпи, работай как все. Тогда будет возможность идти к Нижникову и там на них управу искать. Они это тоже знают. Поэтому будут делать все, чтобы эту ниточку отрубить. Захар и Грибанов – одно целое. Они давно повязаны. Грибанов сейчас дачу или дом строит. Знаешь, сколько доски и бревен ему Захар из зоны помог вывезти? Поэтому все, что они на людях базарят, – это драмкружок. Ты под прицелом, Саня. Не хотел тебе говорить, но скажу: это – только начало.
Обратно шли молча. Славка зло курил, пряча сигарету в рукав. У меня в голове шумело, как после первого дня погрузки. По дороге я несколько раз споткнулся. Славка поймал меня за локоть.
– Нельзя спотыкаться, Санек, нельзя… Заметят – добьют.
– Заебутся.
С того момента в трудные минуты моей лагерной жизни я ободрял себя именно этим словом.
Глава 7 День рождения
В один из майских праздников дали общий выходной, и вся зона маялась от безделья. Кто слонялся по двору, кто отсыпался, заморенный трудовыми буднями. После утренней проверки начальство исчезло. Остался только ДПНК– Шура Блатной, находящийся в легком подпитии, да несколько прапоров, которых праздничная лагерная жизнь вовсе не интересовала. Оглядев с высоты своего вахтового кабинета лагерные просторы, Блатной с грохотом захлопнул окно, и более его до вечера не видели.
Я вышел из локалки и быстро-быстро направился в клуб. Файзулла срисовывал какую-то очередную физиономию, поглядывая на стоящую перед ним фотографию. Лицо на фотографии было русское. На рисунке Файзуллы – с «башкирским уклоном». Глянув на него, я понял, почему Ленин, портреты которого висят в Бурятии, – «обуря– тенный», а в Уфе – «обашкиренный». Гены художника. Файзулла был верным сыном своего народа – любое вышедшее из-под его кисти лицо имело неистребимые черты Салавата Юлаева.
Последним мазком Файзулла поставил точку на очередном шедевре.
– Приветствую великого башкирского художника! – с порога засмеялся я.
– Приветствую великого поэта! – весело отозвался он, не отрывая глаз от портрета. – Что, Александр Васильевич, изнываете от безделья, хе-хе?.. А мы вот работаем не покладая рук. Даже шоу на втором отряде посмотреть некогда.
– Какое шоу?
– А ты что, не знаешь? – удивился он, оторвавшись, наконец, от кисти. – Не интересуетесь неформальной общественной жизнью колонии, Александр Васильевич. Сегодня у Мелеха день рождения. Тут один человек по секрету сказал, что лучший кент его поздравлять будет, с сюрпризом. Говорят, даже брагу три дня назад поставили, – хитро сощурился Файзулла. – А знаешь, на чем поедет? Ни за что не догадаешься…
– На тебе что ли, Файзулла, ха-ха? – засмеялся я.
– Не-е… На мне далеко не уедешь. Где сядешь – там и слезешь. Тут покруче есть извозчики.
– Ты на что, морда, намекаешь?
– Не намекаю. Знаю, что в телегу, что воду возит, будут пидоров запрягать, в ленточках, с бубенцами, хе-хе… Такое здесь было уже, правда, очень давно. Мелех скоро освобождается – почти пятнашку отмотал. На волю выходить боится. Не потому, что к зоне привык, а просто – воли шугается. Это у всех так, кто больше червонца оттянул: чем ближе к звонку, тем сильней колбасит. Ну вот, кенты и решили пошутить малость, повеселить его немного. Они и сами, правда, кто восемь, кто десять оттарабанили.
– Интересное зрелище. А если увидят с вахты?
– Да им все по хую. А тем более сегодня Блатной на дежурстве – ему до фени. Лишь бы не убили никого да барак не подожгли. Он на стакан с утра сел – и все ништяк. Дюжев уже дома шестую миску пельменей жрет. Хозяин – на заимке в лесу. Остальные – пьяные, где-нибудь по блядям шатаются.
– А откуда поедут? – спросил я все еще принимая сказанное за шутку.
– Со второго отряда… В девятый, кажется. Из клуба не видно будет, надо или на лежневку идти, или в какой-нибудь барак, в локалку.
– Когда поедут?
– Не знаю. Этого никто не знает. Можно пойти посмотреть, запрягают или нет.
– А как ты посмотришь?
– Если телега в карантине – значит, еше не время. Если телеги нет – значит, скоро поедут. Где она сейчас стоит – оттуда и поедут, хе-хе… Хотя, может, и наврали все.
Я посидел еще немного и собрался было идти, как влетел Загидов. Он, как обычно, сделал круг по комнате, заглядывая в каждый угол и в мусорное ведро.
– Бросай на хуй своего Файзуллу, пойдем в шахматы сыграем. На интерес.
– А какой будет интерес, а, Загид-ака? – ехидно улыбаясь, спросил Файзулла.
– Твоя жопа! – театрально оборвал его Загидов. – Пойдем, Александр, здесь ловить нечего. Это тебе старик Загидов говорит.
– Иди сыграй, сбей ему понты, а то он все – с чертями. Те ему нарочно проигрывают. Тоже мне – Майя Чебурданидзе, ха-ха!..
В шахматы он играл удивительно азартно. «Интерес» был такой. Если я из десяти партий выигрываю хотя бы половину, Загидов лично идет в штаб к Филаретову и хлопочет, чтобы мне разрешали официально после работы ходить в клуб. Если проиграю – с первой же свиданки несу килограмм шоколадных конфет или чего-нибудь «не казенного». Кроме всего прочего, мне было предоставлено право играть белыми.
После первой же проигранной партии стало ясно – играть Загидов умеет. Теорию дебютов знает. Шансы на победу у меня есть, но весьма ничтожные. После каждого выигрыша мой противник вскакивал, бегал вокруг стола, размахивал руками и приговаривал:
– В карты – дураки колоду мешают. Хорошенько мешают! А в шахматы – фигуры расставляют, хе-хе!.. Пока расставляют – играть учатся. До Загидова еще никто не дорос! В общем, пиши жене, пусть на свиданку конфет побольше везет.
Он радовался каждой победе как ребенок. А в одной из партий поставил мне мат таким ударом ферзя о доску, что на звук прибежал Файзулла.
– Да-а, Александр, не дорос ты до нашего завклуба, придется тебе ходить уроки брать.
– Вот именно. И не один год. Жалко, скоро освобождаюсь – так и не научишься играть по-человечьи, хе-хе… – тихо глумился надо мной Загидов.
Пока я складывал фигуры и убирал доску, Файзулла тихо спросил:
– Ты специально проиграл ему? Он же играет неважно…
– Конечно, – соврал я.
– Правильно. Он так тебя быстрей в клуб у начальства выпросит, и хорошо, что не обул его – крику было бы! Что поделать – такие у него в башке тараканы.
– Заходи почаще, если хочешь хороший мат получить, – пригласил меня напоследок Загидов.
Время подходило к полудню, и я потащился в барак будить Славку. В столовой предполагался праздничный обед. Первомайское меню в тот день состояло из винегрета, супа– лапши и котлеты с картошкой. В сравнении с обычными, будничными– эти блюда казались присланными из ресторана «Астория». Праздник и в лагере праздник, спасибо доброму начальству. Пока шли, я рассказал Славке про готовящуюся упряжку, про день рождения «пересиженного» Мелеха, про телегу и бубенцы. Славка поначалу не поверил.
– Их всех в трюм закроют, если хозяин узнает, – предположил он.
– Никого из начальства в зоне нет.
– Файзулла, скорее всего, напиздел. Развели они тебя с Мустафой, хе-хе… Хотя в карантине телеги что-то не видно.
Мы вернулись в барак. Походили по двору, покурили. Вышел Медведь, присоединился к нам. Лежневка начала пустеть – народ тихо расползался по своим норам. В этот момент где-то за углом, со стороны карантина, раздался крик и послышался лязг открывающихся ворот.
– А ну, бля буду, вороные, давай бегом!.. Кента, в натуре, поздравлять едем! Шевелись, блядь, крысы!
Из ворот второго барака выползла телега, запряженная парой пидоров, раздетых по пояс. На ушах у них были завязаны цветные ленточки. На одном – женский затрепанный лифчик небывалого размера. На голове второго – кусок оконного тюля, изображающего фату.
Синяки под глазами дополняли общий макияж, заменяя тушь и тени. На телеге вместо бочки стоял деревянный ящик, на котором верхом сидел суховатый, неопределенного возраста мужичок с кнутом. По обе руки от него, присев на одно колено, стояли двое здоровенных парней. Кнутом был кусок толстой просмоленной веревки, привязанный к палке. Щелкал он не громко да и бил, вероятно, не очень больно – роль его была, скорее, устрашающей. Поэтому махал мужичок им без перерыва.
– Колек, братан, открывай ворота!.. Встречай кента, в натуре!
Телега влетела в соседний двор.
– А-га-га!.. Давай веселей, зверопидоры!
Встречающая сторона, безусловно, была оповещена заранее – выпускающие и принимающие ворота распахнулись одновременно. Народ таращился во все глаза. Все случилось так быстро, что толком никто ничего не понял.
Как только телега влетела во двор, один из запряженных начал колотить ложкой внутри пустой стеклянной банки, изображая бубенцы. Щелкал кнут, звенела банка, братва ликовала.
– «Распрягайте, хлопцы, кони… А-га-га!..» – диким голосом завопил кго-то любимую песню начальника колонии. И уже совсем передразнивая Нижникова, на мотив следующей песенной строки проголосил: «Во-о-т так сам дел еби-о-мать!..» Все в голос заржали. «Паре гнедых» сунули по пачке сигарет, и они выскочили прочь.
Из барака вышел, весь на шарнирах и на полусогнутых, до невозможности блатной именинник. В отставленной в сторону руке, повернутой ладонью в небо, между большим и указательным пальцами он держал длинный наборный мундштук с дымящейся сигаретой. Ноги он ставил широко, закидывая носки в стороны, как балерина. Делал это, разумеется, умышленно – своего рода театр блатной пантомимы.
– Ебать мой лысый череп, кого я вижу! Охуеть – не встать, ебануться – не проснуться!.. Вот это, в натуре, – именины! Заходи, братан, а то я уже загнался весь, ку– марю!..
– Давай тащи карету обратно! – крикнул выскочивший шнырь. – Эй, Дранка, шнифты, что ли, заплыли?! Хватай – и быстро в карантин!
Телега с грохотом понеслась на место.
Толпа весело переговаривалась.
– ДПНК не видел? Ну-ка, дыбани на вахту, не пасут ли сверху?
– Да не-е, им по хую. Сегодня – Панков. Он если и увидит – из-за таких порожняков спускаться не будет.
– Этим кого удивишь? Никого. Вот если брагу учуют – тогда набегут со шмоном. Найдут – всю вылакают.
– Они сами, в натуре, сегодня бухие. Блатной – точно. А Круть-Верть – на выходном. Некому шарить.
Толпа еще погоготала и начала расходиться. У ворот «на атасе» поставили особо зоркого черта.
– Проворонишь, петух мохнатый, – гребень вырву вместе с позвоночником! – напутствовал шнырь заступающего на шухер. – Поняла, двухстволка?
– Понял, – понуро ответил тот и впился глазами в вахту. На вахте было тихо.
Глава 8 Будни
После майских праздников начала наступать весна. Пошли дожди, ветры стали не такими колкими и холодными, а от реки потянуло запахом берегового ила и тины. В окрестных чащах зимники начали таять, и лесовозы, вязнущие в бездорожье, торопливо вывозили с делянок последние зимние запасы спиленного леса. Разделка подошла к концу. В это время в зоне полагалось заниматься уборкой рабочих территорий, вывозом коры, опилок, веток и прочей мелочи, на которую в авральный зимний период просто не было времени. А кроме всего, предстоял важнейший процесс – капитальный ремонт или постройка новой эстакады. В зависимости от решения начальства и степени износа прежней. На сей раз решено было строить новую. Это время в зоне считалось началом летней передышки. Радовались кто тихо, кто вслух: выжили!
Отношения с Захаром и его окружением, напротив, становились с каждым днем все прохладней и прохладней.
Вечерние ужины в дальнем углу прекратились, а самые остронюхие захаровские прихлебалы, старшаки и завхоз Лысый начали здороваться сквозь зубы или попросту не замечать. С одной стороны, такое меня вполне устраивало – общение с этой сволочью особой радости не приносило. Однако поведение их говорило о том, что зреет что-то очень неприятное. Я это чувствовал и ждал. Тихая злоба должна была вот-вот прорваться наружу и в чем– то, в конце концов, проявиться. Начальник отряда тоже становился с каждым днем желчнее. Заглядывая вечером в барак, он молча ждал в дверях, когда обитатели согласно инструкции повскакивают со шконок приветствовать «отца родного». После этого, стуча на захаровский манер каблуками, дошагивал до моего спального места и выкрикивал всегда одну и ту же фразу:
– Я не понял!.. Новикова что, не касается вставать, когда заходит начальник отряда?!
Однажды я не выдержал и рявкнул в ответ так, что у Грибанова чуть не слетела с башки фуражка:
– Я, блядь, в тюрьме, а не в армии!
– Ах, вот как…
Грибанов обвел барак выпученными глазами и рванул к выходу. На ходу, не оглядываясь, несколько раз повторил: «Ладно…будешь теперь как в армии… Ишь, еб твою мать, – он не в армии…»
Барак оглушительно замолчал. Такого себе позволить не мог никто. Точнее, администрация такого никому не позволяла. Это уже была война. Славка, сидящий на шконаре напротив, завертел головой и вымолвил:
– Ну вот… Наконец эти бляди засветились в открытую. Сейчас побежит, доложит Нижникову.
– Пускай докладывает.
– Что доложит – полбеды. Постановление суток на пять выпишет или ларька лишит. Захаровская работа, можно не сомневаться.
С этого дня моя лагерная жизнь начала круто меняться.
Первой проституткой оказался Лысый. Не успел Грибанов хлопнуть калиткой, он вырос в проходе как из-под земли:
– Отрядник сказал с завтрашнего дня поставить тебя на уборку жилой территории.
– Сейчас, разбежался. Передай ему, пусть сразу в карцер закрывает – убирать не буду.
– Мое дело – передать, – трусовато ответил Лысый, помялся и смылся.
Он врал, будто приказал Грибанов. Это была его «козья» инициатива.
Уборкой околобарачной территории по многолетней лагерной традиции занимались только петухи и самые захудалые черти. Пойти на уборку означало то же самое, что записаться в их ряды. Администрация использовала это для того, чтобы всегда иметь формальный повод для наказания – «отказ от благоустройства территории». Обычно пять суток карцера с выводом на работу. Кто-то после двух-трех раз ломался. Кому-то было все равно – лишь бы не били. Кто за пайку хлеба, кто за «боюсь», кто в погоне за призраком досрочного освобождения. Но прикоснувшись единожды к метле – попадаешь в другую касту, из которой обратного пути нет. Поэтому ни о каком «благоустройстве» ни для меня, ни для Славки с Медведем, ни для кого из окружавшей нас компании не могло быть и речи. Трюм – так трюм.
Но была весна. И потому, несмотря на все неурядицы, на душе было легко и не мрачно. Зиму пережили – год долой. А значит, сидеть, худо-бедно, на год меньше. Теплеет… На душе теплеет.
И как обычно, разговоры об амнистии.
В лагере только об этом и говорят, только в нее и верят, только на нее и надеются. Ради нее ведут себя согласно кодексу ИТУ. По крайней мере, стараются так себя вести. Проще говоря, подгоняют лагерную биографию под эту драгоценную, долгожданную, необходимую как воздух амнистию. Амнистия – вторая жизнь.
Мне же надеяться было не на что, а ждать ее – тем более. Поэтому, сидя на бревне с лопатой, растягивал вместе со Славкой и Медведем очередной перекур. Вокруг, разбившись по двое-трое, курила остальная часть бригады. Поодаль, на возвышении, сидел Мешенюк, постукивая веткой по голенищу.
– Так, хорош курить, пошли работать!
Народ нехотя зашевелился и побрел к лопатам, к носилкам, на ходу натягивая рукавицы и чертыхаясь. Нам со Славкой было предписано перетаскать кучу опилок и веток от эстакады на ровное место, для дальнейшей переброски в самосвал. В помощь был придан молчаливый, люто ненавидящий Захара, Мешенюка, лагерное начальство и всю советскую власть парень по кличке, как, собственно, и по национальности, Гуцул.
Интересно, что сел он тоже за лес – еще на воле где– то в Карпатах занимался его валкой, разделкой и торговлей. Так же, как и Славка, только на более кустарном уровне и практически в одиночку. Посадили его за хищение в особо крупных размерах на десять лет. По-русски говорил он с сильным карпатским акцентом, смешно, но очень искренне. Давно, в самом начале срока, по глупости Гуцул ляпнул кому-то, будто бы у него на воле в лесу закопана банка с тридцатью тысячами рублей на «черный день». Разумеется, все это тут же доложили Захару. С того дня Гуцул попал на жесткое «моренье» и весь разделочный сезон, в пятидесятиградусные морозы, простоял на дровах. Одному Богу известно, как выжил. Захар периодически проводил с ним беседы на тему отправки письма родственникам, дабы те банку откопали и Гуцула подогрели. Разумеется, и Захара бы не забыли. А коли не забыли, тогда и место потеплее нашлось, и на «пиздюлях поменьше бы крутился».
Гуцул был либо насмерть стоек, либо смертельно жаден. В существовании банки не признавался ни Захару, ни оперчасти. А потому на полном основании был приставлен к нам со Славкой третьим. Наши – носилки, его – лопата.
– Давай грузи шустрей, до вечера надо все очистить, – подгонял периодически Мешенюк.
– У-у-у, эгныда заморска, – бубнил под нос Гуцул, провожая его злым взглядом. Букву «г» он выговаривал на украинский манер, а вместо «и» говорил «ы». Получалось очень смешно. Мы со Славкой хихикали, Гуцул сохранял каменное выражение лица. Но человек он был добрый и даже душевный.
– Ну, расскажи Александру про банку с червонцами, – подначивал его Славка, – за что тебя Захар целый год морит?
– Та ну яво пыдора…
– Расскажи, расскажи, что он тебе предлагал?
– Шо предлагав?.. Заготоуку у столовой. Досрочно ос– вобождэнне. Шо у нэво у козылыной башкэ ишо есть? Он усэм то прэдлагаэт, колы гроши на карманэ звэнят. А шо до банки – так я напыздэв.
Мы засмеялись. Гуцул вместе с нами. Глаза его, грустные, на миг вспыхнули и опять погасли. Лицо вновь обрело угрюмое выражение. Было видно, что он давно не улыбался и привык жить настороже.
– Я пэсни твои, Александр, часто слушал. Сам слухом нэ располагаю, потому нэ спою на память… Очень душевны пэсни.
Он помолчал и добавил:
– Захар тэбя тоже морыть начынет. Но ничего, ты крэп– кий, хэр воны шо с тобой изладят.
– Захар сказал, что Гуцула до конца срока на дровах держать будет, – ядовито ухмыляясь, вставил Славка.
– Во-во… Грэшно говорыть, но зымой там и устрэ– тимся.
По этому поводу дружно выматерились и потащили очередные носилки к самосвалу.
Глядя на копошащуюся по всей территории бригаду, на это скопище подневольных людей, занятых рабским и бесполезным трудом, я почему-то вспомнил египетские пирамиды.
И там, и здесь – рабы. Но от тех все же осталось великое. А что останется от этих? От нас? Остаться бы самим. Выжить, дожить, дотянуть. А для этого нужно строить свою, лагерную пирамиду. Пирамиду человеческих отношений, которая, выстрой ее неправильно, рухнет и похоронит тебя под собой, не хуже египетской.
Пришел Медведь. Его рабочее место было в самом дальнем конце эстакады – подальше от нас со Славкой.
– Пойдем чифирнем, мужики. Бросай эту работу, – хлопнул он нас со Славкой по плечу. – Без нас понты поколоти немного, скоро вернемся, – сказал он Гуцулу, который тут же бросил лопату и принялся слюнявить самокрутку.
– Эй, куда? – вдогонку нам крикнул неизвестно откуда взявшийся Мешенюк.
– Чифирбак стынет.
– Сейчас Захар пойдет… Я за вас не отвечаю.
– Пошел на хуй, смотрящий нашелся, – тихо выругался Медведь и, повернувшись к Мешенюку, приветливо крикнул:
– Миша, пойдем, чифирни с мужиками! Далеко отрываться от коллектива не надо – мужики огорчаются, хе-хе.
– Благодарю, я потом, – не понял медвежьего юмора Мешенюк и двинул в другую сторону.
– Вот видишь, как технично с хвоста сбрили. А так начали бы цапаться – к Захару побежал или к Грибану. Похитрей надо быть, Санек, похитрей, хе-хе…
День подошел к концу. Кучи остались не убранными, поэтому назавтра предстояло то же, что и сегодня. К вахте шли сбившимся строем. В конце, за нашими спинами, молча шагал Захар. Он был явно не в духе, не острил привычно, не куражился.
– Что-то Захар набыченный… – тихо сказал Медведь.
– Колеса спалились, наверное, – вишь, нераскумаренный идет, – ответил Славка.
– Какие колеса, – спросил я, – наркота?
– Тихо… Он же, бля, на фенобарбитале плотно сидит. Ему с воли загоняют, – шепнул Медведь.
– A-а, понятно. То-то, я гляжу, у него шнифты все время красные и стеклянные.
Заговорившись, я неожиданно споткнулся об лежащую на дороге доску и чуть было не рухнул.
– Ни хуя себе, Александр, дочифирился с Медведем – все гироскопы попутал, а-га-га!.. Все правильно, Санек, на работу надо идти на двух, а с работы – на четырех, а– га-га!.. Правильно, Медведь? – неожиданно гаркнул из-за спины Захар и заржал в привычной ему манере. Мешенюк услужливо подхихикнул. Захар продолжал:
– А на волю, бля буду, – и ползком не западло! Верно? То-то. А вот некоторые здесь – наоборот: ко мне в тепляк – на четырех, а в штаб на доклад – ползком. Чтоб на волю досрочно – строевым шагом с гордо поднятой головой, га-га-га! Правильно я говорю… Иванов?.. Иванов, ты что, блядь, оглох? Правильно я говорю, нет?!.. Какие новости в штабе, а?..
Иванов, шедший впереди, в середине строя, сжался, втянул голову в плечи, будто ему треснули по затылку. Всем стало интересно.
Вот он, лагерь – одной фразой! Захар, виртуоз лагерных муток и интриг, знал в них толк.
В переводе на обычный язык это означало бы следующее: «Я знаю, что ты стучишь на меня в штаб. Но мне на это плевать, у меня со штабом все правильно. Хоть ты и пресмыкаешься передо мной и бегаешь к начальству проситься на легкие работы, я знаю, кто ты и что ты. Тучи над тобой сгущаются».
Медведь повернулся ко мне и многозначительно показал глазами в сторону Захара:
– Выкупил на чем-то и сдал для всех. А ведь молчал, внутри держал. Понял теперь, что такое – Захар?
– Понял. Давно понял.
– Пробы негде ставить. И про каждого ведь, сука, все знает. Сдают, сам понимаешь, сдают.
Медведя вновь перебил голос Захара:
– Иванов аж, бля, шагу прибавил, как про штаб услыхал, а-га-га! На свободу торопишься, что ли, или в первые ряды? Га-га-га!..
И тут же перейдя на зловещий тон, добавил:
– Не гони коней – до звонка к петухам еще успеешь.
Шагавшие в первых рядах петухи и черти ответили на захаровскую шутку дружным ржанием. Голова Иванова сделала пол-оборота назад и невнятно забормотала:
– У тебя какой-то юмор, Захар, непонятный…
– А тебе что, в штабе не разъясняли, какой у меня юмор?
– Я не был в штабе.
– Ну, можно по переписке, а-га-га!..
Иванов пришел в отряд почти в одно время со мной. Это был довольно бойкий и нахрапистый парень из Москвы. До тюрьмы он работал в аэропорту Шереметьево на погрузке багажа. Крал из чемоданов видеокамеры, фотоаппараты, тряпки и все, что можно было легко сбыть барыгам. Деньги, по его рассказам, имел неплохие, не вылезал из ресторанов и такси. Пока не сдали сослуживцы, с которыми не хотел делиться. В лагере поначалу держался довольно высокомерно, потом пообтесался, точнее, пообтесали. Тем не менее страху в его глазах я не замечал. Когда столпились у вахты в ожидании очереди, он, всегда старавшийся держаться поближе к Захару, затерялся в толпе. На шмоне мы оказались рядом. Он поднял глаза на меня, будто желая что-то спросить. Но тут же осекся, засуетился и пошел вперед. Это были совсем другие глаза – водянистые, отрешенные и, как мне показалось, – погасшие. В них плавала тревога и тоска.
– Помяни мое слово, завтра ломанется в штаб, – прервал мои наблюдения Медведь, – не завтра, так в ближайшие дни. Здесь ему уже не жить – Захар дал понять. А знаешь, для чего дал понять?
– Для чего?
– Чтобы ты услышал. А когда начнется – то увидел и делал выводы.
– Я в штаб бегать не собираюсь.
– Он этого не знает, а потому дает маяк: не дай бог в штаб дернешься – будет как с Ивановым. А чифирь, уход с рабочего места – это так, хуйня.
На следующий день Иванова срочно перевели в больницу, а потом и в другую бригаду.
– Выломился, сука. Вымолил у Дюжева, – узнав, прошипел Захар, – ну ладно… Пусть попразднует пока.
В бараке навстречу мне расплылся в улыбке Лысый.
– Отрядник сказал оставить завтра тебя на выходном. А после проверки – в штаб.
Улыбался он гадливо. В его синих поросячьих глазках светилось: «Не хочешь на уборку – ради бога! – Дюжев тебе по-своему объяснит. Этот по пять суток не дает, этот – сразу по пятнадцать».
На проверку я шел с таким чувством, будто бы мне эти пятнадцать уже дали.
Из дверей штаба вышел Дюжев. Ехидно посмеиваясь, он оглядел плац и пошел между рядами, проверяя форму одежды. Видя что-то неуставное, он дергал за рукав и задавал вопрос. Молча выслушивал ответ, после чего определял вид взыскания. Его тут же записывал в блокнот стоящий за спиной начальник отряда. Фамилию осужденного Дюжев не спрашивал, а только тыкал в бирку пальцем, персонифицируя таким образом нарушителя.
– Это что на тебе? Почему телогрейка черная, а не синяя? Ты сам, что ли, синий?.. Пять суток.
Не оборачиваясь и не слушая объяснения, шел дальше.
– Это что на ногах? Почему сапоги не зэковские, а солдатские? Ты что, в армии?.. Пять суток.
Прошел мимо отряда лагерной обслуги, одетого с ног до головы в черный мелюстин, черные телаги, солдатские, а то и офицерские сапоги. Этот отряд был в его непосредственном подчинении, поэтому вопросов ни к кому не возникало. Вопросы были к тем, кто пахал на производстве и одет был «как попало».
– Это что на голове? Почему неположенного образца? Ты что, на показе мод?.. Ларек на следующий месяц.
Очередь дошла до нас. Скрыться, затеряться в толпе было невозможно– голова моя торчала над строем. А кроме этого, вся бригада ушла на работу, и на проверку притащилось от силы два десятка человек. Одет я был во все неуставное – телогрейка черная, костюм черный, сапоги солдатские, фуражка моднейшего по лагерным меркам фасона – спасибо Мустафе с Файзуллой.
Дюжев двинул прямиком в мою сторону. Не здороваясь, глядя в упор на бирку с моей фамилией, он произнес:
– Сразу вижу, Мустафин постарался, нарядил. Где-то я эту телогрейку уже видел. Хоть с мужика телогрейка– то?.. Хе-хе-хе… Почерк на бирке узнаю – Файзуллина каракули. Дать вам на троих пятнадцать суток – и делите между собой как хотите, а?.. Что скажешь? Мустафа подогнал или с воли завезли? Где взял-то?
Сказать, что «с воли» – затаскают по операм. Где взял? Украл? Нашел? Ничего нельзя говорить. С неба упало.
– С убитого снял, гражданин начальник! – бодро отшутился я.
– Да я не против, чтоб – с убитого, хе-хе… Лишь бы человек он был нехороший! С убитого Мустафы, хе-хе… После проверки – ко мне.
Я с облегчением выдохнул: «Вроде от карцера пронесло. Хотел бы дать – дал здесь и сейчас. Видно, Грибанов наябедничал – сам наказать боится и хочет не своими руками. «Все в лагере, Санек, делается чужими руками…» Прав Захар.
Глава 9 По душам о поэзии
Кабинет Дюжева, в отличие от кабинета начальника колонии, был небольшим, тесноватым и казенным. Когда я вошел, он сидел за столом, без кителя, в рубахе. Китель висел на спинке стула, двумя звездами на погонах напоминая о важности его хозяина.
– Здравствуйте. Разрешите?
– Входи, входи. Садись.
В отличие от Грибанова, он не удивился тому, что я вошел без положенного: «Гражданин начальник! Осужденный такой-то по вашему вызову прибыл…»
– Ну вот, наконец-то мы и побеседуем. Более, так сказать, подробно.
Он выдержал паузу, глядя мне в переносицу. Глаза его, маленькие, утопающие в толстом лице, остановились и застыли с безразличным выражением.
– Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. Курить можно?
– Кури. Срок большой, еще успеешь бросить, хе-хе… Расскажи-ка мне про свое дело, очень уж интересно.
– Долго рассказывать, гражданин начальник. В приговоре все сказано.
– Что в приговоре сказано – это другие сказали. Я приговоры не читаю, мне нужно – как на самом деле было. Мне правда нужна.
Поросячьи глазки еще сильней прищурились. Он откинулся назад и устроился поудобней в ожидании.
– Сижу я, понятное дело, не за что, – начал я бодро, – это вам известно не хуже меня.
– Начал хорошо. Правильно. Здесь с этого все начинают. Ну-ну, дальше…
– Поэтому нет надобности рассказывать про то, как делал аппаратуру. К слову сказать, не самую худшую. Многие этим занимались, а посадили только меня. И если уж совсем по правде, то до сих пор бы ею занимался, если б не записал «Извозчика».
– А меня аппаратура вовсе не интересует. Про нее все, как ты говоришь, в приговоре сказано. Ты мне про песни… Мне же интересно знать, как такие никудышные стишата могли стать известными? Плохонькие стихи-то, плохонькие. Ты ведь, поди, и сам это чувствуешь?
– Ну, это дело вкуса и интеллекта.
– Интеллект у меня есть. И вкус у меня есть. И в поэзии я кое-что понимаю. Для меня поэты – это Тютчев, Фет… Я уже не беру Пушкина, Лермонтова. А у тебя что? Написано для тех, с кем ты сейчас в бараке пайку маргарином мажешь. Причем пайку, отпущенную тебе государством, с которым ты, если я правильно понимаю смысл твоих творений, борешься. Или не так? Ты же на каждом шагу твердишь, что – антисоветчик. Хочешь в политические записаться? Не выйдет – у нас нет политических. У нас есть уголовники. И ты сегодня – один из них. Не буду скрывать – выделяющийся из общей массы. Потому как – со своим репертуаром, хе-хе…
– Я эту пайку, как вы говорите, у государства не выпрашивал – оно мне ее насильно запихало. На свою-то я всегда заработаю.
– Заработаешь. Только тебе не о той, на которую ты через десять лет заработаешь, думать надо. Тебе сейчас за сегодняшнюю пахать придется. Пахать и пахать. А ты этого делать не хочешь. Грибанов мне докладывал, как ты к труду относишься. А кто не работает, сам понимаешь, не ест, хе-хе.
– У меня нет замечаний по работе.
– Это пока нет. Пока у вас работа – дурака валять. Вот начнется осенью разделка, там и поглядим.
– Я уже работал на разделке.
– Ты застал самый ее конец, финиш, так сказать. Это уже не разделка, это – доделка. Все у тебя впереди. А так как ты вины своей не признаешь, то разделка – это твое рабочее место до конца срока. Мысли о клубе надо из головы выбросить. Надо жить не по инструкциям Мустафы с Файзуллой, а по инструкциям ИТУ, искупая свою вину и погашая иск. Тогда еще есть какие-то надежды.
– Я никакой вины за собой не знаю.
– Ой ли?
– Да. Что сравнивать мою вину с виной того же Захара. За что я сижу и за что он? А срок примерно одинаковый. Он девочку пятилетнюю изнасиловал и в колодец бросил. А я аппаратуру делал. Потому что наши заводы выпускают дрянь, на которой играть невозможно. И таких, как Захар, здесь не одна сотня. Из которой половина или не работает, или сидит по теплым местам. В лагерной обслуге, например.
– Да, сидят. Значит, заслужили.
– Как заслужили? Чем заслужили?
– Кто – трудом. Кто – признанием вины и помощью оперативным органам в предотвращении преступлений. Или, скажем, в раскрытии. Таким людям мы всегда идем навстречу. Ты вот тоже, если завтра напишешь, что вину свою прйзнаешь, сделаешь нам шаг навстречу, мы тоже сделаем свой шаг.
– Как говорит ваш любимый Захар: признание вины облегчает совесть, но удлиняет срок.
– Нет. Здесь, в этом лагере – нет. Не совесть облегчает. Облегчает само существование. Оно здесь – сам видел какое. От этого самого существования зависит, как скоро отсюда выберешься. И сколько из оставшегося здоровья с собой прихватишь – чего уж скрывать. А такие, как Захар, нам нужны. Потому что если поставить руководить производством таких, как ты – никто работать не будет. А значит, колония плана не выполнит. А значит, будет комиссия и всех нас снимут. Мы этого очень не хотим. Поэтому нам лучше на каждого «Новикова» иметь по нескольку «Захаров». Учреждению нужен план. Понимаешь – план! А если кто-то коньки отбросил – не страшно. Еще привезут – уголовный мир нам кадры поставляет регулярно. Это, так сказать, запланированные потери. Запланированная убыль. В армии на учениях, слышал, наверное, есть такие цифры.
– Вам не уголовный мир, вам суд и прокуратура поставляет.
– Не-е-т… Суд и прокуратура распределяет и определяет. В самом начале – они. Потом – мы. А после нас – Захар и иже с ним. А там, ниже, еще кто-то. Лестница. Лестница жизни. И ты сейчас стоишь как раз у нее посередине. Вот и думай, куда идти: шаг навстречу нам – это шаг по лестнице вверх. Вверху – свобода. Шаг в другую сторону – это вниз. А внизу – страшно посмотреть. Внизу – сорвавшиеся. Мы ведь никого не насилуем и на дно не кидаем. У каждого здесь есть свой выбор. И у тебя в том числе.
– Вы мне предлагаете стучать, пахать и радоваться предоставленной возможности? В СПП вступать, в газету ударные статьи писать? Вы сформулируйте свои предложения.
– Боже упаси. Боже упаси заставлять это делать, хе-хе– хе… Это не наша задача. Это пусть Филаретов делает.
Он на какое-то время замолчал. Легкая ехидная улыбочка, с которой он все время говорил, свернулась в плотно сжатый рот с висящими над ним стеклянными глазами.
– Мы делаем предложения. А если их не принимают – ставим условия. Надеюсь, я понятно выражаюсь?
– Более чем.
– Я, кажется, отвлекся. Мы ведь о стихах начинали?
– О стишатах, – ядовито поправил я.
– О стишатах. О стишатах… помойных ушатах… Ну что же, давай дальше.
С трудом перегнувшись через свое брюхо, он неспешно вытянул из нижнего ящика стола две зеленые тетрадки. Я опешил – это были мои тетради со стихами, которые я возил с собой по всем тюрьмам и этапам, хранил в камере. Никто из начальства в них никогда не заглядывал. Не потому, что их содержание никого не интересовало, а потому, что на одной обложке я крупно вывел: «Дело № 1078. Выписки из материалов дела. Показания свидетелей и экспертов». А на другой: «Дело № 1078. Выписки из обвинительного заключения. Материалы прокуратуры». Ни один конвойный, ни один из шмонавших, будь то прапорщик или высокий начальник, прочитав на обложке эту казенную галиматью, не проявлял интереса заглянуть внутрь. Брезгливо отбрасывал в сторону и продолжал искать бритвы, «ступинаторы», деньги и прочее запрещенное добро.
Дюжев, взяв в руки по тетрадке, приподнял до уровня ушей, покрутил ими над столом и, ядовито хихикая, изрек:
– Вот мы сейчас и поглядим, что нам пишет «прокуратура», хе-хе… А там решим, куда их – то ли автору отдать, а то ли к делу приобщить.
«М-да-а… Лысый с Грибаном основательно пошарили, – подумал я. – Говорил ведь Мустафа, хранить в библиотеке рано или поздно начнут по ящикам и мешкам шнырить».
В изъятых тетрадях ничего крамольного и страшного не было. Просто противно было представить, как полуграмотный Грибанов, запершись в кабинете, водит пальцем по строчкам, выискивая это крамольное. А потом бежит в штаб рапортовать: «Нашел, нашел!..» Вообразив эту картину, я криво ухмыльнулся. Дюжев это заметил.
– Вместе посмеемся… А может, и поплачем. В одиночку, хе-хе…
Он начал, гаденько комментируя и подслеповато щурясь, зачитывать наугад выхваченные строчки.
– Стишата почитаем. Вот, кстати…
Обо мне и сложат песню, Скажем, например, Так уж точно околесню На блатной манер. Два притопа, три прихлопа, Три аккорда в ряд – Под такие вся Европа Пляшет, говорят. Да припутают при этом Девок и тюрьму – Раз уж был блатным поэтом, Подставляй суму. Ярлыков-то в жизни разных Я переносил, Не досталось только красных. И за то – мерси! Не кричал – глаза навыкат: – Родина моя!.. – А любить ее привык, вот, Мудро, как змея. В пустобрешной голосильне Брезговал дерзать. Я лечил ее посильно, Как больную мать. А за это “опекуны”, Сев на сундуки, Рвали мне лекарства-струны – И – на Соловки! Ну, да я душой пошире, Я прощаю их – Помнят пусть о дебошире, “Осквернявшем стих”! И когда из бронзы-стали Их повалят род, Выше всяких пьедесталей Станет эшафот, На котором я не в камне Выбит, изваян, Расплодился, нет числа мне, Вечный, как Боян. А вокруг, мне ниже пупа Ихни бюсты-вши. Мать-История не глупа, Так и порешит!Он дочитал до конца, бросил тетрадь на стол и спросил:
– Чьи – «ихни бюсты – вши»?
– Тех, кто страну довел до такого. По телевизору каждый день о них говорят. Как перестройка началась, так везде и говорят, вы не хуже знаете.
– Перестройка? Это там у них… Где-то далеко, в Москве – перестройка. А до нас она еще не доходила. И дойдет не скоро. Мы здесь – по-старинке: пилим лес и исправляем таких, как ты. Таких, как ты…
Он почувствовал, что поменял тон – в стратегический план разговора это не входило, потому, неожиданно смягчившись, добавил:
– Хотя ты еще не самый худший.
Разговор наш, следует заметить, с самого начала шел не на равных: я его – на «вы», он меня – на «ты». Я тушил очередную сигарету. Он – брал пепельницу и брезгливо выбрасывал окурок в стоящее под столом ведро.
– Перестройка – это для дураков. Все скоро закончится. А здесь– тем более. Закончится, не начавшись. Поэтому если ты надеешься на нее – зря. На амнистию – тоже зря. На бога надейся… Все мы на него надеемся. Я так думаю, скоро сюда первых перестроечников повезут. Здесь много разной братии перебывало. С 1937 года кого только сюда не сгоняли. Нас с тобой еще и в помине не было, а лагерь – был. В следующем году, кстати, юбилей будет – пятьдесят лет, как его основали. Вот тогда, может, и споешь чего-нибудь на юбилее, хе-хе-хе… Нижникова хорошенько попросишь – он у нас любитель пения. Может, стихами его разжалобишь – он у нас более сентиментальный, чем я. Я петь не умею, плясать не умею, стихи писать не умею. Я – не замполит Филаретов. Его ты, может быть, тоже разжалобишь– в самодеятельность кадры нужны. А я – начальник режима. Мой клуб – изолятор. Сцена – плац. А песни и рассказы – это то, что мне приносят из перехваченной нелегальной почты.
Он многозначительно поглядел на меня, вновь перегнулся через брюхо и извлек из того же ящика сложенное вдвое письмо. Повисла пауза. Это было мое письмо. Его я отправил месяц назад через Лысого, еще в то время, когда ужинал в дальнем углу с Захаром и его компанией.
«Если надо что-то черкнуть не через цензуру, Лысому отдай – он отправит», – посоветовал тогда Захар.
«Все в лагере, Санек, делается чужими руками…»
– Ну вот, со стишатами, худо-бедно, разобрались… Перейдем к прозе. Хоть и не люблю я ее, прозу местного производства, хе-хе, а читать надо – долг службы, ничего не поделаешь.
Дюжев поворочался в кресле, вросся в него поудобнее и начал зачитывать пономарским тоном самые, как ему казалось, важные строчки. Ничего особенного и запретного в письме не было. Разве что некоторые характеристики на членов руководства. Причем без упоминания фамилий. Например: «Отрядник – нечто среднее между Витюхой Беловым и участковым, который приходил к нам домой брать с меня объяснение, где я взял деньги на машину…» Витюха Белов – несчастный даун, живший в нашем дворе, игравший на балалайке на крыльце аптеки. Аптека была в торце нашего дома, а крыльцо выходило на улицу Восточную. Словарный запас и ход музыкальной мысли Витюхи почему-то ассоциировался у меня с воспитательными сентенциями Грибанова. Остальное – от участкового.
Про Дюжева в письме ничего не было. Вероятно, потому, что встреча наша состоялась только сегодня.
Далее я предупреждал Машу о том, что ее непременно станут уговаривать воздействовать на меня в части признания мной вины и досрочного погашения иска. Обещать ей мое скорейшее освобождение и воссоединение семьи. Я писал ей, чтобы не верила ни единому слову и не поддавалась на эту агитационную чушь. Фамилий в письме не было, но характеристики были убойными. На всех, с кем ей предстояло говорить по приезду на свидание. Предполагалось свидание в июне.
– Что же ты нас совсем не жалуешь? – ехидно спросил Дюжев. – Я догадываюсь, конечно, кто такой этот… Витюха Белов. Но вот когда твоя Маша приедет, мы у нее подробнее спросим, хе-хе…
– Вас – жалую, гражданин начальник. Про вас – ни слова. Не имел удовольствия общаться, – попытался отшутиться я, – вас и сравнить-то не с кем.
– Это хорошо, когда сравнивать меня не надо. Хорошо – когда с тобой сравнивают. Мне уже через восемь лет на пенсию, а я до сих пор не устаю удивляться: сколько писем ни перечитай – во всех одно и то же – «зона голодная»… «работа адская»… «начальство – сволочи»… «начальство– воры»… «советская власть, тридцать седьмой год»… Одно и то же. А в конце: «Пришлите денег… пришлите черную телогрейку… пришлите сала».
– У меня – ни того, ни другого, ни третьего.
– В этом письме – да. А в других, которые ты уже отправил или отправишь, – будет. Не сомневаюсь ни на минуту. Просто за это письмецо я тебя на первый раз прощу, а за последующие – по десять суток за каждое. Договорились? Пару раз по десять – и научишься писать как надо. И отправлять как надо – через своего начальника, через цензуру. Положено два письма в месяц – вот и отправляй два. И без всяких эзоповых выражений. Писать надо прямо и ясно.
– Через цензуру они точно все одинаковые.
– Ну и хорошо. Всем хорошо. Оперчасти – меньше хлопот. Мне – меньше возиться с этим чтивом, кишащим ошибками и ужасами. А вашему брату – в карцере лишний раз не сидеть. Меньше комиссий, прокурорских проверок и прочей чехарды, которая никому из вас еще не помогла. Комиссия приехала – и уехала. А вам дальше жить. Я понятно говорю?
– Очень понятно. Следующее письмо напишу по всем правилам. Без «эзопов».
– Пиши. А с Грибановым тебе еще долго жить бок о бок, поэтому советую наладить с ним отношения. Да, он Фета не читал. Да, он про Тютчева, может быть, не слышал. Но он сегодня – твой начальник. А ты – простой советский заключенный. Простой уголовник, у которого десять лет срока, сто шестьдесят шесть тысяч рублей иска и общее нерасположение к любому труду. Я тоже не мечтал стать работником колонии. Но так вышло – стал. Не думал носить форму – а ношу. Потому что у каждого из нас свой долг. У тебя долг – сидеть. У меня долг – служить. И служить так, чтобы тебе сидеть во второй раз не хотелось. Это Нижников с Филаретовым верят в то, что вашего брата можно здесь перевоспитывать. Я в это не верю. Я против всякого перевоспитания. Хотя на партсобраниях и у начальства в управлении вынужден твердить обратное. Но положа руку на сердце говорю: не верю ни в какое перевоспитание, ни в какое перерождение. Надо не перевоспитывать, а прививать рефлексы, по Павлову: услышал слово «тюрьма» – вскочил в холодном поту! А еще лучше, чтоб не забывал ее ни на минуту и боялся как огня.
– И я тоже?
– А ты в первую очередь. Ты – вдвойне.
– Почему, если не секрет?
– Не секрет. Потому что ты для многих пример к подражанию. Многим кажется, что раз ты личность известная, значит, можешь рассчитывать на поблажки. А раз тебе можно, значит, и другим захочется. Поэтому я считаю, что тебе за одно и то же положено вдвойне. За что простому смертному – пять суток, тебе – десять. За что простому – пять лет, тебе – десять. Вот тогда никому повадно не будет. Я не занимаюсь спасением душ и спасением личностей. Я – начальник режима. Моя задача – создать тебе такой режим, при котором не будет времени заниматься глупостями и бить баклуши. Не – «режим жизни», а – «режим со-дер-жа-ния»! Мне поручено вас «содержать» в строгости и численном поголовье, простите за неприятное сравнение, хе-хе.
– Никак не думал, что Фет с Тютчевым наводят на такие глубокие мысли.
– Сами по себе они не наводят. Они наводят на другое: читал бы их – не писал бы свои. А значит, сюда бы не попал. Вот на что они наводят. Да не только их – любых других читал бы. Ан нет, ты свои писать начал. Возомнил, будто бы способен родить что-то лучшее. Все уже давно написано. Даже инструкция, по которой я сегодня тебя обязан наказать за нелегальную переписку, написана до нас с тобой. Тебе и ее неплохо было бы почитать. Вот так, гражданин Новиков.
Он сложил письмо в конверт, выдвинул ящик стола, бережно положил его на дно и аккуратно задвинул.
– Оставлю на память. Думаю, не последнее. А тетрадочки твои – «Дело № 1078. Показания свидетелей», хе-хе, отдам Нижникову, пусть почитает. Он у нас любитель. Если захочет вернуть, пусть сам тебе их вернет. А не вернет – новые напишешь. Ну, а от меня тебе на первый раз… На первый раз – ларек. Лишить очередного ларька. Пойдет?
– Благодарю, гражданин начальник. Из соображений, что на голодный желудок лучше пишется?
– Талант должен быть голоден. Но – талант. Надеюсь, ты меня понял?
– Раз я – не талант, чего ж меня голодом морить?
Дюжев встал. Я следом. Он наклонился над столом,
упершись обоими кулаками, и расплылся в улыбке.
– И то верно, хе-хе… Ларек – условно. До свидания.
– До свидания.
Я вышел на крыльцо, закурил. В барак идти не хотелось. Было синее небо с редкими, уже не свинцовыми облаками. Была тихая небесная радость– впереди целый выходной. А еще большая радость – вечером не идти в изолятор. И ларек цел. Стихи вот только забрали. Ну, да никуда не денутся, отдадут. Просто придется еще раз выслушивать от начальника колонии. Но это даже хорошо, если вызовет. Дюжев его, по всему видно, не любит. Он вообще никого не любит. Если, как говорит Захар, «грамотно преподать», – то можно все обернуть себе на пользу. Грибанов, Дюжев– с одной стороны. Нижников, Филаретов– с другой. Я даже представил себе картину – сидят улыбающиеся начальник и замполит.
«Та-а-к, вот так, само дело ебиомать, поступили к нам с Сан Санычем стихи, вот так это дело… Хорошие, понимаешь, стихи, само дело, ебиомать!..»
От этих мыслей я рассмеялся вслух.
За спиной, в глубине штаба, послышался голос Грибанова:
– Где шнырь? Где шнырь штаба?
– Я здесь, гражданин начальник, – отозвался голос, – чай заваривал.
– Дюжев у себя?
– Был у себя. От него только что Новиков вышел.
Скрипнула дверь, и грибановское «Разрешите, товарищ
подполковник…» тут же затворилось ею.
«Быстренько прискакал, козлище, – подумал я, – не терпится узнать о результатах своей оперативной работы… Дурак дураком».
Тут же посетила крамольная мысль: а не написать ли мне еще письмишко? Следуя советам Дюжева – без «иносказаний». Да пустить официально. «Письмо для цензора и Дюжева с Грибановым». Интересно, дойдет такое?
С этой затеей я вернулся в барак. К вечеру письмо было готово.
Исполнено оно было в лучших традициях эпистолярного идиотизма и ленинской партийной конспирации.
Здравствуйте, мои родные!
Пишу вам из лучшей в стране колонии усиленного режима. Мне здесь очень хорошо. Начальство умное, заботливое, очень тепло ко мне относится. Особенно начальник отряда. Человек он образованный, хорошо знает русскую литературу и поэзию. Поэтому нам есть о чем поговорить вечерами. Он даже на работу меня определил не тяжелую – на разделку леса. Целый день я катаю бревнышки. Точнее, они сами катаются, а я только крючком их дергаю. Работа всем очень нравится. Мы могли бы работать и по двенадцать часов, но начальство разрешает только по восемь. Правда, сейчас разделка закончилась и всех бросили на мусор. Работа временно не по специальности. И прямо скажем – хреновая.
В выходные мне разрешили сидеть в библиотеке. На первый раз всего пять суток. Если понравится, обещали продлить до пятнадцати. Условия для проведения досуга отличные. Вшей и клопов здесь нет. Только пчелы и бабочки. Каждый день думаю только о вас и о досрочном погашении иска с признанием вины. Хочу об этом написать прямо генеральному прокурору, потому что местный, Ивдельский, мне может не поверить.
Денег сюда присылать не надо. Одежды тоже. Одет я, слава богу, во все лучшее. И цвет, и фасон мне очень к лицу. Из еды тоже всего навалом. За последние полгода поправился на двадцать килограммов. Если брошу курить, боюсь, поправлюсь еще.
Своих стихов больше не пишу и не читаю. Зато они очень понравились начальнику отряда, который случайно увидел их под трусами и носками на дне моего ящика. Показал их заместителю начальника колонии, тому они понравились еще больше. Поэтому он не хочет отдавать тетради обратно. Я же сейчас читаю только Тютчева и Фета. А для самообразования – «Кодекс ИТУ по внутреннему распорядку и условиям содержания осужденных». Очень нужная U 'полезная книга.
В колонии полным ходом идет перестройка. Все хотят трудом искупать вину. Только не знаем, как?
По выходным в клубе показывают отличные фильмы: «Ленин в октябре», «Броненосец Потемкин», «Как закалялась сталь».
За меня не переживайте и не расстраивайтесь. Десять лет – это не срок, пролетит мигом. А пока все хорошо, даже выходить не хочется.
Пишите. Обнимаю. Целую.
Александр»
Я так увлекся письмом, что не услышал шагов подобравшегося к моему шконарю Лысого.
– Письмишко решил черкнуть?.. Хорошее дело. Прошлое-то дошло куда надо?
– Дошло. Куда надо. Это вот вдогонку шлю, официально.
– А то нет проблем – отправлю, – предложил Лысый.
– Благодарю. У меня тоже нет проблем.
Вечером, возвращаясь с проверки, я прямо из строя свернул в клуб, бросив на ходу Лысому:
– Я к Мустафе. К отбою приду.
– Отрядник запретил.
– Мне он этого не говорил.
Проходя мимо висящего на дверях клуба почтового ящика, я опустил письмо. Через две недели оно пришло в Свердловск. Черной тушью было тщательно вымарано слово «мусор». А в слове «хреновая» – закрашено «хре». В остальном содержание письма цензуру вполне устроило.
– Здравствуйте, Александр Васильевич, исаме сис! – привычно ерничая, встретил Файзулла. – Давненько вы к нам не заглядывали, может, в должности повысили, хе-хе? Вас, говорят, сегодня Дюжев вызывал?
– Откуда знаешь?
– Штабной шнырь доложил. По какому поводу, если не секрет?
– Письмо спалилось.
– Почему – не в трюм, хе-хе?..
– Ларек. Условно.
– Это что-то новенькое для Дюжева. На него не похоже. Обычно суток на пять, а то и десять.
– А еще тетради со стихами Грибанов вышмонал. Из– под трусов достал.
– Это не Грибанов, это – Лысый. А может, и шнырь, по его приказу. И что со стихами? Говорил ведь тебе Мустафа: держи в библиотеке.
– Не отдает. Сказал, отнесет Нижникову.
– Отлично. Нижников все равно отдаст Филаретову. Вызовут, конечно, для беседы, потом вернут. Сан Саныч – это не Дюжев.
– Ладно, давай Мустафу свистну. Он у Загидова, по– моему, сидит.
Мустафа, вошедший как всегда шумно и широко, в оценке моего визита к Дюжеву был более категоричен:
– Ну, что эта толстопиздая жаба хотела? Просто пробивала тебя на гнилушку. Ему и стихи, и письма – одно и то же. Для него это – макулатура. Для него поиздеваться – хлебом не корми! Смотрит, какая от тебя ему может быть польза. Знаем…
Всю следующую неделю Мустафа убеждал замполита Филаретова в том, что большой пользы на разделке от меня не будет. Если и будет, то ровно такая же, как от всех. А при том дефиците кадров, который на сегодня в рядах лагерной самодеятельности, я мог бы принести большую пользу. Филаретов и слышать не хотел:
– Пусть об этом говорит с Нижниковым. Если тот разрешит, я не против.
При этом речь шла не о том, чтобы устроить меня работником клуба, а о том, чтобы можно было в него ходить в свободное от работы время.
– Сходи к хозяину, – советовал Мустафа, – скажи, что будешь работать на разделке. А по вечерам – в клуб. Для них главное – работа. По-другому не получится. Они ведь боятся не того, что работать меньше будешь, а того, что напишешь что-нибудь такое, от чего вся советская власть в Ивдельском районе рухнет к ебени матери! Боятся сами не знают чего. И все ждут этого. Ждут и ждут, идиоты. Поэтому пасут за тобой день и ночь. Шарят по ящикам, по тумбочкам, под матрасом. Ищут пожарные, ищет милиция, хе-хе… В общем, мой совет: иди к хозяину, не дожидаясь. Только Грибанову ничего не говори, узнает – поперек крыльца в штабе ляжет. На локалку замок повесит, ключ проглотит!
– Иди, Александр, иди. Мустафа – старая кумовская крыса, хе-хе, в штабных делах лучше всех разбирается, – закуражился Файзулла.
– Как тресну по толстому гребню! Художественная жаба!
Выпили чай, посмеялись над последними событиями и разошлись.
Попасть на беседу к начальнику колонии было очень непросто. Во-первых, по инструкции это делалось только с разрешения начальника отряда. Если явиться без спросу – «самовольное хождение по зоне». Сразу угодишь в изолятор. Если начальник не примет, или его не окажется на месте – о визите в штаб будет известно через пять минут. Поэтому все равно – изолятор. Если нарвешься на Дюжева – в изолятор прямо из штаба. Отведет самолично, не поленится. Шанс есть, но очень малый, что Нижников вызовет сам. Это сомнительно и можно ждать долго. За это время гри– бано-захаровская компания с благословения Дюжева «наплещет такого керосина», напишет таких рапортов и докладных, что «ни тушить пожар, ни отмазываться» будет нечем. Поэтому надо идти. Но когда? Утром – на работу. Вечером Нижникова уже нет. Следующий выходной в лучшем случае через неделю. Грибанов каждый день бегает на производство смотреть, как я работаю. Каждый мой шаг докладывают. Закосить на больного? Можно. А на что закосить? Простуда? Грипп? Зубы? Точно – зубы!
Через день, скатав хлебный мякиш и затолкав его поглубже между десной и щекой, я стоял в кабинете начальника отряда, подпирая правой рукой челюсть, а в левой держа заявление на внеочередной выходной по причине посещения санчасти.
– Вообще-то, зубы у нас не являются освобождением от работы, – подозрительно покосившись, ответил на мою просьбу Грибанов.
– Я не прошу освободить от работы, гражданин начальник. Я прошу выходной. В счет следующего. Если не дадите, я все равно на работу не пойду.
– Выходной дам. Но послезавтра – на работу.
Он еще раз недоверчиво покосился на мою челюсть.
– Точно – к врачу? Или снова письма со стихами писать? Давай с тобой так договоримся: я не против стихов, но ты должен их показывать мне. И письма – только через меня. Это не я придумал – это приказ Дюжева, – бестолково соврал он. – Все?
– Все.
– Иди.
Утренний вопль Лысого на подъем меня уже не касался, и я, накрывшись одеялом с головой, под гвалт собирающейся на работу бригады пытался поспать лишний часок. Снизу, из двора, доносился голос Захара:
– Стройся!.. Сколько человек? Мешенюк, сколько народу?
– Все, кроме Новикова. Его отрядник в санчасть оставил.
– Знаю. Знаю я эту санчасть – замастырился! Керин, ты Саньку благодарность выскажи, сегодня один за двоих работать будешь, га-га!
– Ничего, отработаю. Здесь все за двоих работают, – огрызнулся Славка.
Лязгнули ворота, беспорядочно загремели сапоги, и через минуту все смолкло.
Глава 10 Стоматолог
Кабинет лагерного стоматолога представлял собой комнату со стоящим посредине креслом, бормашиной довоенного образца и старым письменным столом у стены. На нем вперемешку с кружками и остатками еды лежал журнал приема и еще какие-то беспорядочные бумаги. У двери – несколько драных стульев и большой оцинкованный бак, приспособленный под помойное ведро. Мне уже повезло – я попал в день приема. Стоматолог, из числа местных жителей, был приходящим и являлся в колонию два раза в неделю. Вел прием до обеда, потом исчезал. Никто не мог сказать точно, когда он будет в следующий раз. Эти сведения я получил от больничного шныря, которому очень польстило мое – «Здорово, земляк!» – вместо более привычного для него – «Эй, клизма!..»
Несколько раз заглянув в пустой кабинет и изучив степень его технического совершенства, я лихорадочно думал о том, на что пожаловаться и чем обосновать причину сегодняшнего визита. Придумал я вот что. Ни о какой зубной боли речь не идет, просто хочу поставить железные коронки. Деньги есть. Если не клюнет, скажу честно, что нужен выходной. Мол, охренел от работы, поэтому пришлось немного подзакосить. Это тоже – небесплатно.
Мои мысли прервал шнырь:
– Ты здесь еще не был? С ним еще не виделся?
– Нет.
– Короче, я тебе кое-что подскажу. Только не для массовки. Он по натуре бухарик, пьет все. Все, что горит, и все, что в аптеке продается. На будущее имей в виду – идешь к нему неси с собой червонец. На худой конец, пятерку, тогда все будет ништяк. Его бы давно уже выгнали, да других в поселке нет. А этот всю жизнь тут прожил. Тут и сбухался. Сейчас придет, посмотришь. С ним можно говорить прямо, как с зэком – он не сдаст, не кинет. А еще лучше, если есть одеколон – с ним и приходить. Желательно – «Тройной». Одеколон и пятерочку сверху. Сразу будет понимание.
В конце коридора, за углом, послышались шаги и голос, напоминающий голоса лилипутов из цирка.
– Он идет, – сорвался с места шнырь.
К дверям кабинета подошел очень маленького роста человек с испитым серым лицом, чертами напоминающий ханта или манси.
– Ко мне? – спросил он через плечо, открывая дверь кабинета.
– К вам…
– Подожди. Я вызову.
За дверью послышалось звяканье посуды, стук брошенных в ванночку щипцов и прочей инструментальной утвари, тихий мат. Потом пауза и задумчивое пение.
– Заходи!
Я вошел. Врач сидел за столом, ко мне спиной, наклонившись над журналом. Не поворачиваясь, он спросил:
– Принес?.. С собой есть чево?
– Что принес?
– Ну… ну, это… – Он хлопнул себя тыльной стороной ладони по горлу. – Анестезия есть?
– Нет. Не знал как-то. – опешил я от такого начала.
– А в отряде есть? Может, в отряд сбегаешь? Или давай, – потер он в воздухе тремя пальцами, – я за зону сбегаю, возьму пузырек.
В этот момент я увидел, как трясутся его руки. Они не тряслись – они ходили ходуном.
– Одеколона нет. А это, – потер и я пальцами, – если надо, схожу принесу. Только сейчас нельзя – отрядник в бараке.
– Годится. Минуту…
Он открыл дверь и выкрикнул в коридор: «Дневальный, ко мне!..»
Заскочил шнырь.
– Есть?
– Есть, – ответил тот и поставил на стол бутылку «Тройного» одеколона, накрыв ее перевернутой вверх дном кастрюлей. Тут же вышел, плотно затворив за собой дверь.
– Фамилия как? – спросило зубное светило и придавило к столу левой рукой правую. В правой была ручка, кисть руки билась в тряске. Ручка то и дело выпадала из нее и отказывалась подчиняться. Наконец при помощи обеих рук он вывел в журнале мою фамилию, номер отряда и дату.
– Давай в кресло, быстрей!.. – лихорадочно суетясь и перебирая щипцы, скомандовал он.
– У меня сначала к вам вопрос и дело.
– Давай, давай садись. Потом твое дело.
Сидя в кресле, я не видел всех его приготовлений. Мог только слышать. Судя по звукам и матеркам, он никак не мог отвинтить крышку флакона. Да и руки его были так малы, что бутылка «Тройного» выглядела в них почти пол– литрой. Он захватил крышку фалдой пиджака, пытаясь свернуть ей голову. Все было тщетно.
– На… Открой эту ебаную бутылку. Запечатывают, суки… Итак из горла пить невозможно, так еще, блядь, крышки на клей сажают!.. Или давай зуб сначала?
Он отставил одеколон и схватился двумя руками за клещи.
– Показывай, какой?
– Да никакой. Я хотел поговорить насчет коронок.
Его лицо состроило вопросительную гримасу.
– За наличные, – добавил я.
На какой-то момент руки его перестали трястись и замерли с зажатыми в них клещами на уровне пояса.
– А сейчас что? Освобождение от работы?
– Было бы неплохо.
– Хорошо. Но давай все равно посмотрим, что у тебя с зубами.
Осмотрев, он сделал заключение.
– Зубы свои еще есть. Хоть не все, но жить можно. Однако есть коренной обломанный. Его лучше удалить.
– А может – пломбу? – осторожно поинтересовался я.
– Бормашина все равно не фурычит. Если сверлить или еще чего – это в первой колонии делают, записывайся туда. Раз в неделю отсюда водят. Дюжеву напиши заявление, если он разрешит, то на «однерке» сделают. А я – только рву. Вот тебе и освобождение от работы будет.
Он сунул клещи в кипяток и скомандовал:
– Открывай рот шире!
– А наркоз?.. Обезболивающее есть?
– С хуя ли? Со своим надо приходить, батенька. Я же спрашивал: «Принес?» Ты не принес. Значит – насухую. А хуля делать – тюрьма! А в тюрьме один наркоз – палкой между рог. Нашатырь подойдет?
Попрепиравшись некоторое время, я согласился.
– Так… рот пошире… думай о воле… о свободе…
Одной рукой он схватил меня за нижнюю челюсть, другой занес клещи и начал целить в зуб.
– Надо быстро, быстро… А то видишь, блядь, как колбас ит…
– А может, если принять – отпустит? – спросил перед экзекуцией я.
– Нет. Если принять – это уже не работа.
Он опять сунул клещи в рот. Те застучали у меня между зубами так, что, казалось, вот-вот лишусь еще и передних. Я отпрянул.
– Не ссы. Не первый раз дергаю!
Еще несколько попыток подцепить злополучный корень остались безуспешными – мешала тряска.
– Ладно, хуй с ним, с зубом. Правильно говоришь, надо раскумариться. Помоги-ка.
Он сдернул со стола флакон и протянул мне. Флакон был теплым на ощупь. Этикетки не было, и по виду он мог сойти за какую-нибудь микстуру.
Не вылезая из кресла, я попробовал театрально, двумя пальцами свернуть крышку. К удивлению, это не удалось.
– А, нет, дай-ка, – выхватил он у меня из рук, – сейчас по-другому попробуем!
Открыв дверцу шкафа и погремев его содержимым, извлек на свет огромные ржавые плоскогубцы и набросил на крышку. Раздался хруст стекла, пластмассы, горло вместе с крышкой отвалилось.
– Вот, ебаная расфасовка! – заверещал он и стал вытряхивать содержимое в фарфоровую кружку. Посудина эта, по всему видно, была широкого потребления – потемневшая от чифиря и немытых рук, она с трудом смахивала на питьевую.
– Глотнешь? – предложил он мне.
– Не-е…
– Ну и хорошо. У-у-ф…
Натужно глотая, он залпом осушил всю кружку.
– Фу-у, бля… Отпустило.
После этого начал ходить кругами по кабинету, шумно вдыхая и выдыхая. На десятом круге сел на стул и стал занюхивать кулаком.
– Какие зубы хочешь ставить? Золото нельзя. Могу только железные.
– А мне и надо железные.
– Тогда корни тем более надо удалять. Давай посмотрим этот.
Его действительно отпустило. Тряска рук ушла, движения приобрели плавный и осмысленный характер.
После нескольких попыток он все-таки подцепил мой злополучный зуб и, ворочая всем телом, потянул его враскачку. Боль была нестерпимая. На миг я открыл глаза. Прямо передо мной маячила физиономия с гримасой, точно определяющей всю гамму испытываемых мною чувств.
– Так… терпи… пошел, бля, пошел!.. А куда он денется!
Рванув напоследок по-борцовски, он издал победный звук.
– Есть, блядь!.. А хуля делать – тюрьма! Сиди, рот не закрывай.
Перед моим носом проплыл несчастный зуб. Он пихнул в челюсть кусок ваты и вытер пот со лба.
– Зуб вырвать – это как год от срока – долой. Срок – он, блядь, как зубы – все равно когда-нибудь кончится! А сейчас посиди пока… Знаю – тяжело. Знаю – больно. Терпи. Через полчаса пройдет, тогда и пойдешь.
С чувством выполненного долга он подошел к столу, сделал запись в журнал, несколько раз глянул в пустую кружку, затем на меня, мычащего и мотающего от боли головой, и стал давать советы.
– До вечера не есть, не пить, не курить. Чтобы полегче было – крой всех мысленно матом. Да-да, всех этих мусо– ров. Мне когда хуево, а хуево мне всегда, – я их всех крою. Не потому, что насолили мне сильно, а просто зэков за что крыть? Штабные мусора мне покою не дают, до всего до– ебываются: то одеколоном пахнет, то клеем, то стеклоочистителем. А с хуя ли я буду коньяком пахнуть, если у меня зарплата как у студента! Им бы мою работу хоть на неделю, посмотрел бы я, чем от них запахнет. Дергать зубы – это не то, что себя за хуй дергать. Они когда приходят со своими проблемами, не спрашивают: нравится мне работа или нет? Они только одно спрашивают: больно будет или нет? А как мне быть? Кресла нового нет, бормашина старая, инструменты дореволюционные… И вот, сделай им, блядям, «не больно». Да еще – «насухую». Вот доработаю до пенсии, брошу все, пойду в артель золото мыть. А хуля – руки вон ходуном ходят, хе-хе, – две нормы давать буду.
Я сидел в кресле, глядел в потолок, держась рукой за стреляющую нестерпимой болью челюсть, и думал о том, что сейчас надо идти в штаб и попытаться прорваться к начальнику колонии. Оправдание на всякий случай было неплохое. Чем не повод? Дескать, пошел в санчасть лечить зуб. А там только рвут. А мне бы коронки поставить, чтобы хоть сколько-нибудь зубов на свободу вынести. Врач посоветовал пойти к начальнику, потому что сам таких вопросов не решает. И так далее. А потом разговор куда-нибудь да и выведет.
– Садись вот здесь, у стола, жди, пока кровь остановится, – сказал он и принялся греметь инструментами возле плитки. Я сел и начал медленно оглядывать кабинет, пытаясь хоть чем-то себя занять.
Синие, крашенные масляной краской панели стен, голая лампочка, торчащая из потолка на забеленном известкой шнуре. Вышарканный сапогами пол отвратительно коричневого цвета. Шкаф, стол, стул, ведро. Пыточное кресло. Все битое, драное и древнее. Как тут не запьешь? Представить себе: каждый день ходить в эту конуру рвать зубы. «Насухую». Каждый день – вопли, боль, кровь. А еще эта проклятая тряска рук. Одна радость – зэки. Эти не пожалуются, не заскандалят. Довольны они или нет – никто их не спрашивает. Все довольны. А кому не нравится – забудь сюда дорогу. И тогда, случись что – сам себе рвать будешь. Зэки – радость. Нет-нет, да и одеколончик принесут или пятерочку. Тогда можно портвейна или водочки взять. И с зубом обойтись поделикатнее. А «насухую»?.. Насухую – «чертей» или тех, кто по незнанию пришел с пустыми руками. Раз плохо башкой соображаешь – страдай. Хоть раз – но отстрадай!
Он суетился в углу, низкорослый, согбенный человечек. В своем последнем, пожалуй, прибежище. Перекладывал трясущимися руками железки, именуемые «инструментом». Выхватывал их из кипятка, обжигался, дул на руки и тихо матерился. Он даже не надевал белый халат. Халат был – не было надобности. Его сирая, потрепанная одежонка говорила о многом. Маленький, потерпевший в жизни всевозможные крушения мужичок, скорее всего, одинокий, выдирающий своими жуткими клещами, нет, не зубы – крохи для существования, осколки радостей, оборачивающихся флаконами одеколона. Единственное, что меняется, – это мы. Приходящие в лагерь и уходящие из него. Кто на свободу, кто – за забор, под жестяную табличку. Проходящие перед его глазами как тени. Больные тени – здоровые сюда не ходят. Конвейер. Стонущий, охающий, орущий от боли.
Мне вдруг стало его так жалко и так стыдно, что пришел без «анестезии». Ведь я, оказывается, без нее могу. А он – уже нет. Ему, значит, больнее. И он прячет, прячет эту боль на дне грязной, залапанной кружки. Но кружка пустеет, и боль снова выглядывает наружу.
– Дневальный!..
В дверь просунулась голова.
– Здесь.
– Пусть следующий заходит, – сказал он, потер руки и скомандовал мне:
– Плюй в ведро.
Сунул вместо прежнего тампона новый и хлопнул на прощание по плечу.
– Ну, давай, будь здоров. Если что – заходи, дорогу знаешь.
Я вышел. Попавшийся навстречу шнырь сочувственно глянул на меня.
– Ну что, ништяк?
– Ништяк.
До штаба я брел как в тумане. Каждый шаг отдавался в голове, злил. Но и придавал решимости.
– Хозяин у себя? – спросил я штабного дневального и, не дожидаясь ответа, пошел в направлении кабинета начальника.
– Что, вызывал?
– Вызывал.
– Ни завхоз, ни отрядник ничего не говорили… Сейчас узнаю.
– Не хуя узнавать! – рявкнул я и постучал в дверь. Никто не ответил. Я прислушался. В кабинете было
тихо.
– Вроде у себя был… – виновато пробубнил дневальный.
Я отворил дверь и, насколько можно бодро и приветливо, произнес:
– Разрешите войти, гражданин полковник! Здравствуйте. Осужденный Новиков, по личному вопросу.
Дверь за спиной тихо затворилась.
Глава 11 Хозяин
Полковник сидел, склонившись над столом, через очки напряженно вглядываясь в какие-то таблицы, то и дело переводя взгляд с одних бумаг на другие.
По ходу что-то записывал и подчеркивал, не поднимая головы, не обращая на меня ни малейшего внимания. Прошла минута, показавшаяся мне вечностью. Я хотел было уже удалиться так же тихо и неожиданно, как вошел.
В этот момент он вскинул на меня глаза, снял очки и, быстро выпрямившись над столом, приветливо и очень по-доброму улыбнулся.
– Та-ак… вот так это дело… Здравствуй, здравствуй. А я уже сам хотел тебя вызвать, само дело ебиомать. Ну, садись, поговорим.
Я присел на тот же стул у стенки, на котором сидел при распределении.
– Ближе, ближе садись, вот сюда, к столу, вот так это дело… Поближе держись к начальнику колонии. Ты уже сколько у нас, два месяца? Значит, в лагере уже освоился? В отряде освоился? На работе? Вот давай и поговорим. Что за щеку держишься? Зуб?
– Вырвали… Ничего особенного. Завтра – на работу.
– Правильно. Это все мелочи. Главное – работа. Все через это проходят, вот так это дело… Самое главное – работа. Ни на какие глупости не поддаваться, жить своим умом. Давать план, а все остальное, ебиоть, надо заслужить. Тут многие артисты бывали. И известные, и не очень. Некоторые, например, вообще работать не хотели. Но коллектив всегда воспитывает. Раз, два, понимаешь, само дело, взялись… да и начал работать… и сверх плана давать начал, ебиомать. А потом уже и в клуб, и в самодеятельность. Я всегда – только «за». Трудно здесь, понимаю. Но лагерь– это не детский сад, не всем поначалу здесь нравится. Год, два – и привыкнешь, вот так это дело… Закаляться надо. Воздух свежий, бодрость, понимаешь. Есть надо все, что дают в столовой, само дело, а не бегать по бирже грев искать с червонцем, ебиоть, в руке. Деньги к добру не приведут. За деньги я сразу в карцер сажаю. Деньги – это первый шаг к падению. Сначала колбасы захочется, потом еще чего-нибудь. А потом – водки на праздник. А нужно работать, вот так это дело, трудом и поведением доказать… Освобождаться придется досрочно, может быть. А что? Можешь быть представлен к досрочному освобождению. У тебя статья-то какая? 93-я прим? По трем четвертям идет на досрочное? М-да… Ну, на поселение можно выйти по двум третям. Через пять лет можешь выйти на поселение. На расконвойное положение, ебиоть… Нужно выйти, понимаешь, вот так это дело, закаленным, здоровым. Чтобы там работать, само дело, как все. Чтобы не говорили, что колония ничему не научила… А песни петь успеешь – молодой еще. Тебе сколько сейчас? Тридцать три будет? Возраст Христа, вот так это дело, ебиомать. Я в твоем возрасте тоже пел. И сейчас люблю попеть. Вот, например, хорошая песня – «Распрягайте, хлопцы, кони»… Или эта, ебиоть, – «А ну-ка, раз-два-три-калина, чорнявая дивчина…» Вот что нужно, а не это… «обшманы– вать не надо…» Я иногда на праздники здесь в клубе тоже пою. Но никогда о работе не забываю. Сначала сделал свое дело, а потом уже, вот так это дело, ебиомать…
Дальше он перешел на обычные многолетние штампы о роли труда и примерного поведения. Запутался, понял, что несет ахинею по второму, а то и по третьему разу, осекся и неожиданно спросил:
– Стычки в отряде были? Только честно.
При этом подозрительно покосился на руку, потирающую щеку.
– Были.
– С кем? С Захаром были? С Мулицевым?
– С этими – нет. Хотя Захар ядом дышит. А так некоторым дал по рылу, за дело.
– Но-но, вот так это дело, поосторожней с рылом. Если за дело – тогда, конечно, ебиоть… Но лучше начальнику отряда сообщать.
Я усмехнулся так, что он расплылся в улыбке над очередной ахинеей – какой начальник отряда? Кто в лагере жалуется? Пидор разве что, и то – не каждый.
– М-да… В общем, поосторожней. Бить, вот так это дело, не надо. Надо, чтобы просто знали – что сила есть, ебиоть… Если что – постоять за себя можешь.
Я почувствовал, что он не может выпутаться из надзирательно-агитационного тона, но разговор заканчивать не хочет. Хочет еще о чем-то говорить. Понимает, что и я его представляю другим, не таким казенным.
– А вы в лагере давно? Вы не очень похожи на лагерное начальство.
– Давно. Очень давно. С молодости, вот так это дело… А чем не похож? – Он с любопытством взглянул на меня и улыбнулся. Улыбка его была совсем не лагерная.
– Ну-у, как-то более располагаете, – попытался польстить я, – не пытаетесь нагнать страху, что ли…
– Страху у нас Дюжев нагоняет. И сами на себя нагоняют. У меня профессия – Родине служить, ебиоть… И служить – хорошо там, куда поставили. Пока что – здесь. Поставят в другое место – буду служить не хуже.
Я ведь не просто так сюда попал. Учился, закончил несколько заведений… С отличием. И сейчас самообразованием занимаюсь, читаю много. Утром – пять километров кросс бегаю. Вечером – пять километров. Двадцать раз на перекладине, вот так это дело, каждый день, само дело, отжимаюсь, ебиомать.
Я молча кивал головой, понимая, что не являюсь первым слушателем его наставлений. Да и ему, пожалуй, за долгие годы службы надоело говорить одно и то же. Тем не менее мне казалось, что сейчас он говорит искренне. Я был не обычным заключенным, я был слишком известным и скандальным, чтобы ему не хотелось поговорить со мной хоть раз по душам. И он говорил.
Дружелюбно, иногда смешно закатывая под лоб глаза. В начале какой-нибудь важной фразы или предложения он глядел в потолок, высказывал ее, затем – в сторону, затем – на меня. Обычно с приговоркой – «вот так это дело». В конце он опускал взгляд на стол со словами – «само дело ебиомать». Таким образом, фраза делилась на три части, и никак нельзя было понять, какая из них главная. Например, обычный вопрос о самочувствии и выполнении плана звучал так:
«Та-а-к, само дело… Как здоровье, как самочувствие, как дома дела? (глаза в глаза) Чем на рабочем месте занимаешься?.. Бригада какая?.. На свиданье родственники приезжают, вот так это дело?., (глаза вверх)… Та-а-к… Руки покажи, мозоли… мозоли есть?.. Вижу. Ладно, давай, работай дальше, (глаза в сторону)… вот так это дело, ебиомать (глаза вниз)».
В сегодняшнем разговоре было важно понять: какой он, кто он?
В лагере говорили всякое. Мне же нужно было составить собственное мнение. А потому – больше слушать, чем говорить.
Я уже понял, что Нижников очень отличается от остальных. Несмотря на его смешные машинальные приговорки, он смекалист, не груб, не скучен. Очень энергичен и убежден в том, что говорит или делает.
Улыбается открыто, легко и по-доброму. И вероятно, только тем, кто ему симпатичен. Система, в которой он столько лет отработал, наложила свой отпечаток, но не искалечила его. Он был жестким и в то же время добрым. Властным, но не самодурным. Не мелочным. Не злопамятным. Опрятным, подтянутым и физически очень сильным. Он был настоящий «хозяин».
Не знаю, что уж ему во мне поглянулось – то ли схожесть характеров, то ли немалый наш рост, то ли мои песни? А может, просто захотелось выговориться. Не знаю. Но через несколько минут в нашей беседе исчезла настороженность. Затем потихоньку отступила казенщина, а еще через некоторое время – превосходство полковничьей формы над зэковской телогрейкой.
Он говорил про себя. Про то, чего обычный зэк знать не должен. Почти двадцать пять лет он врастал в эту систему. А может быть, не он «врастал», а система его засасывала, как болото. То самое болото, на котором лагерь и стоит. Увяз он, увяз. Но не до конца ведь. Вон, торчит не только папаха – голова, плечи… Это трудно, не увязнуть, не захлебнуться в топи. И ты терпи. Барахтайся, отбивайся, но иди к цели. Как я когда-то…
Он говорил, улыбался. Делал акценты, стучал в такт ладонью по столу. И я вдруг услышал и понял его: он выбрал меня. И говорил только для того, чтобы и я выбрал его.
Он произносил одно, а я слышал другое:
«Пощады, поблажки не жди. Буду испытывать тебя. Протащу через все муки ада. Буду смотреть за каждым шагом. Выживешь – не дам в обиду никому. Не сможешь – таков ты есть герой. Выживай. Чтобы тебя защищать, я должен тобой гордиться…»
Я почувствовал, что вот-вот на глаза начнут наворачиваться слезы. Медленно и горячо. А еще мелькнула мысль: я так давно не ронял их – забыл, что они вообще есть. А ведь без них человеку нельзя. Без них он – сухой и черствый. Как костыль. Хорошо было в детстве – поплакал и сразу легко. А здесь…
«Этого еще не хватало», – подумал я и начал усиленно рассматривать застрявшую в руках фуражку. Я крутил ее между колен, как колесо водяной мельницы, одновременно думая о своем теперешнем, о своем дальнем и домашнем и о том, что говорил Нижников. Мы встретились взглядами. Слезы мои еще не успели навернуться, но их приближение он, вероятно, уже почувствовал. Представляю, сколько их перед ним проливали, и каких.
Оборвав себя на полуслове и глянув прямо в мои зрачки, он сказал:
– «Александр, само дело… Хорошее имя, да… Имя такое никак нельзя позорить. Нельзя никак. Понял?
Встал из-за стола, вытянулся в рост, давая понять, что разговор окончен. Я поднялся так же быстро и нахлобучил фуражку.
– Все. Теперь иди в отряд.
– До свидания, гражданин полковник.
– До свидания. Имя у меня тоже, вот так это дело, – Александр. И давай, само дело… вот так это дело… не опозорь… наше имя, ебиомать.
Мою зубную боль как ветром сдуло.
Я не смог сдержать улыбки. Но он ее не увидел. Склонившись над столом, он уже снова перебирал бумаги.
Глава 12 Золотая лопата
Наступивший, наконец, июнь, совсем не похожий на летний месяц, разразился крупным и пушистым снегом. Сапоги хлюпали и вязли в снежно-грязевой каше, набирая в себя к концу дня воды по щиколотку. Ноги сводило от холода, и лужи были уже безразличны. Никто через них не перепрыгивал – все месили лагерную распутицу одинаково остервенело и обреченно.
После смены, тужась и матюгаясь, стягивали это подобие обуви и ставили в тепляке рядами вдоль печки. Переодевались в «жилзоновские» и по дощатым настилам и протоптанным дорожкам строем тащились в барак. Сухие сапоги и теплые портянки казались неземной обувью и окунали в райское блаженство.
В июне на свидание собиралась приехать Маша, и я по настоятельным советам своих лагерных дружков старался избегать конфликтных ситуаций с Грибановым и другим лагерным начальством. Свидания могли запросто лишить, хотя для этого нужна была более веская причина, чем «самовольный уход из отряда» или «пререкание с начальством». А кроме всего, нужно было соблюсти некую очередность. Сначала должен быть выговор с предупреждением. Потом – ларек. Потом – штрафной изолятор, суток, скажем, пять. И только после этого – лишение. Оставить без «свиданки» – самое серьезное наказание.
Ларька на июнь месяц Дюжев лишил меня условно. Выговоры я получал часто, но устно. Поэтому шансы на свидание с женой у меня были.
И хотя Грибанов каждый день грозился самолично написать ей о моем нерадивом отношении к труду и нежелании добровольно погашать иск, пугало это меня мало.
Мустафа на этот счет ободрял и успокаивал:
– Пошел он на хуй, этот Грибанов. Если он даже и лишит, Нижников все равно отменит. Свиданка – святое. Хозяин в этом отношении молодец. Если натворил чего, лучше пятнадцать суток без вывода даст. Будешь сидеть в изоляторе, но если жена приедет или мать, тебя вытащат оттуда, прогонят через баню и – давай на встречу. Может даже три дня дать. А потом – опять в трюм, прямо от жены, досиживать.
– Мужик, базара нет, – подтвердил Файзулла.
Точной даты приезда Маши я не знал, поэтому дни тянулись и тянулись как резиновые.
С одной стороны, в ожидании ее – мы не виделись с ней почти два года, если не считать тридцатиминутного разговора через толстенное стекло по телефону в следственном изоляторе города Свердловска.
С другой стороны – в ожидании подвоха или какой– нибудь гадости со стороны Грибанова, Захара или Дюжева. Правда, в последние дни они почему-то вдруг подобрели. Грибанов начал здороваться, перестал вертеться в моем проходе. Захар стал по-дружески похлопывать по плечу, перестал замечать, куда и зачем мы со Славкой убегаем с рабочего места. Дюжев, проходя по плацу мимо, только тихо хихикал. Медведь, более опытный и поболе отсидевший, видя такую перемену климата, в один из перекуров подсел ко мне и сказал:
– Заметил, как стелить начали? Чую, не к добру. Эти просто так ничего не делают.
– Заметил. Тоже, вот, думаю, с чего бы?
– Здесь две причины. Первая – это Нижников. Ты ведь у него был? Может, он указание насчет тебя дал. А может, они и сами догадались, что не надо до тебя доебываться, до особых распоряжений хозяина.
– А вторая?
– А вторая – это свиданка. Жена ведь приедет не с пустыми руками. Деньжонок, может, подвезет, грев какой-ни– будь. Надо его как-то будет завезти. У тебя дорог нет, а у Захара – зеленая дорога. Скоро он тебе это и предложит.
– Я и через Мустафу могу.
– Он это тоже знает, поэтому, чтоб мимо него не проплыло, будет сейчас тебе петь о том, что у Мустафы все каналы перекрыты. И что в клубе тебя кинут и так далее.
– У Захара все на роже написано.
– Правильно. Поэтому послабуха для тебя сейчас и создается. Кинут, на сто процентов. А потом, если вдруг начнешь предъявлять, – запустят под пресс. Грибанов найдет причину упрятать в изолятор суток на десять. А когда выйдешь – снова под пресс. Пока про все не забудешь – не до этого станет.
– Я, собственно, так и думаю.
– А если ты откажешься, начнут мстить. Сценарий у них один. Так что жди в ближайшее время предложений.
С силой метнул недокуренную папиросу в землю, задавил ее сапогом и пошел, не оглядываясь.
На следующий день, напялив, как обычно, рабочие обутки, мы со Славкой перебирали частокол из лопатных черенков. Лопаты наши были помечены, а потому никому другому брать их не полагалось. За этим занятием и застал нас Захар.
– Что, Санек, золотую ищешь, а-га-га?.. Так это не здесь– здесь все одинаковые. Правильно я говорю, Керин? На воле бабки, говорят, греб лопатой, а-га-га?.. Ты лучше понимаешь, которая золотая, а которая – могилу рыть, а-га-га!
– Если б греб лопатой – тут бы не сидел, – лениво огрызнулся Славка.
– Надо было со своей приезжать. Вон, Саньку на свиданку, может, жена подвезет. Надо ей черкнуть, пусть фильдеперсовую подыщет, а-га-га! Он, один хуй, работать не хочет. Будет хотя бы по зоне с красивой лопатой канать… Когда свиданка-то?
– Не знаю. На днях.
– У-у, тогда надо временно на дно прилечь, а то лишит Грибанов. А что? Он может. Ему когда баба евоная не дает, он со злости свиданки кого-нибудь да лишает, а-га-га!
Захар еще поострил, погоготал и исчез. Мы же, выдрав, наконец, из пачки лопат свои, нехотя двинулись в сторону мусорных куч.
Выпавший снег продержался недолго. В этот день появилось солнце и стало прожигать проталины. От них шел легкий парок, а валяющиеся вокруг бревна подсохли и нагрелись. На них, толстенных и пахнущих хвойной корой, приятно было посидеть в перекур, вытянув ноги и глядя в небо.
Куча опилок, которая была определена нам в качестве дневной нормы, к обеду неожиданно закончилась. Самосвал уехал, и все рухнули на бревна курить и говорить. Мы со Славкой сидели спиной ко всей бригаде и тихо обсуждали, как лучше протащить в зону деньги и мешок с продуктами. Вдруг что-то прилетело мне в спину. Я обернулся. Славка окинул народ подозрительным взглядом. Никто не отреагировал.
– Меж собой перебрасываются, черти. Промахнулся, что ли, кто-то, – засомневался он.
Позади на бревнах сидело врассыпную человек сорок. В основном простые мужички и несколько петухов. Все, кто поблатней, разбрелись по своим делам. Мы с Кериным тоже ловили момент, чтобы незаметно смыться в лесоцех к его подельнику. Тот был бригадиром и имел массу возможностей.
– Пойду гляну, где Захар, – выдохнул дым Славка, лениво поднялся и пошел в сторону тепляка.
Не успела за ним закрыться дверь, как в спину опять прилетело. На этот раз обрезок доски – с кусок хозяйственного мыла. Я резко вскочил.
– Кто?!. Кто бросил, твари?!
Все молчали, глядя на меня.
– Ты?
– Нет…
– Ты?
– Нет…
По траектории полета я пытался определить, откуда бросили. Никто не сознавался. Всем не предъявишь, хотя как минимум половина видела.
– Узнаю кто – лопату об башку сломаю! Поняли меня?
В ответ тишина и несколько ухмыляющихся рож.
Снял телогрейку, постелил на бревно и демонстративно
сел спиной. Фуражку положил рядом, полез в карман за сигаретами. На этот раз обрубок ветки прилетел мне точно в затылок. Удар был сильный, болезненный, а самое главное – уничижительный. Это был, как сказал бы Медведь, «натурально конкретный наезд».
Я молча поднялся, взял лопату и пошел навстречу. Ухмыляющиеся рожи превратились в тревожные. Все замерли.
– Кто?
Повисла пауза, и через мгновение – голос со стороны:
– Да хуй его знает… Тут за всем только менты следят.
Я надвигался, твердо решив бить всех, не разбирая.
Вопрос был лишь в том, с кого начать. Прощать такое в лагере нельзя.
– Кто?.. Отвечайте, суки!..
В этот момент один из сидевших сбоку мужичков тихо скосил глаза на одну из рож. Собственно, про эту я и подумал. Но никак не мог поверить, что у ее обладателя хватит наглости. Да и зачем? Мы никогда не общались. По положению он был гораздо ниже меня – нечто среднее между «чертом» и «ушаном». Да и лет ему было не больше двадцать пяти.
Поравнявшись, я вскинул лопату и плашмя, со всего размаху ударил его в лицо. Лицо с треском разлетелось. Бедолага упал навзничь. Сидевшие рядом бросились врассыпную. Я навис над ним и прорычал:
– Говори, тварь, кто научил? Говори, сука, или башку отрублю!..
Вдавив ему лопату в переносицу и размахнувшись рукой над черенком, добавил:
– До трех считать не буду…
Кровь хлестала у него из носа ручьем, заливала глаза и рот. Народ вокруг замер – вот это оборотка!
– Не могу, Александр, не могу, прости… не могу сказать…
Я отдернул лопату. Он обхватил лицо руками, рывком перевернулся на живот и остался лежать плашмя, сотрясаясь всем телом.
– Еще кто-нибудь желает бросить? – зловеще поинтересовался я и, получив в ответ гробовое молчание, вскинул лопату на плечо и пошел прочь. Навстречу мне, надевая на ходу рукавицы, бежал Славка.
– Хорошо ты этой крысе приложил! Пойдем дойдем до Медведя, – торопливо сказал он.
Через полчаса со стороны лесоцеха показался Захар.
– Давай быстро собирайтесь! Пошли в жилзону, работы на сегодня больше не будет – опилки кончились, а-га-га!..
Все потянулись в тепляк.
– Зря ты, Александр, ему по еблу лопатой, – сожалеющим тоном отчитыват меня Медведь, – надо было сапогом. На худой конец– кулаком. Сейчас побежит в оперчасть или Грибану пожалуется. Побои сниму!'– на раскрутку можешь угодить.
– Да мы его тогда под эстакадой удавим, – возражал Славка.
– Удавить-то удавим, да поздно будет. Помяни мое слово, они такую возможность не упустят.
– Я думаю так, – перебил Славка, – если он по этому делу подкатит, ты ему, не в кипиш, намекни, что этот черт признался, мол, будто бы Захар его и торпедировал. Но сам ты в это, конечно, не веришь. Тот – не дурак, быстро что-нибудь придумает.
В раздевалке обычного гвалта не было, все переговаривались тихо. Ждали, как отреагирует Захар, а значит, и начальство.
Он вышел на крыльцо, весело скалясь:
– Сегодня план по мусору дали, можно домой с чистой совестью, а-га-га!..
Строй двинулся. В средине, затесавшись в толпе, понуро брел тот, с разбитой мордой. Звали его Вовиком.
Наша компания, примерно из шести человек, сбившись в кучу, гоготала, всем видом давая понять, что ничего особенного не произошло. И если надо будет повторить номер с лопатой – в любой момент сделаем не задумываясь.
Захар тихо переговаривался с шедшими рядом. Изредка громко острил, тоже делая вид, что ничего не произошло. На половине дороги отряд остановился, пропуская группу идущего навстречу начальства.
– Новик, за тобой идут, а-га-га!.. Гасись в запретку! А-га-га! – заржал в спину Захар, и все следом засмеялись. Дальше был уже его репертуар. Это дело он обожал, а главное – умел. Глядя не на меня, не на Славку, а поверх голов в самое начало строя, он будто обращался к галерке:
– Санек-то Новиков, бля буду, серьезно решил досрочно освобождаться – два плана дать хотел, а-га-га!.. Так лопатой махал, что, вон, Вовику все ебло разворотил! А не хуя стоять с разинутым, да, Вовик?.. А-га-га!
– Да он замастыриться решил – сам под лопату морду сунул! – поддержал Медведь.
– А-га-га!..
– Что молчишь, Вовик? Сейчас тебе на свиданку свою бабу лучше не вызывать. Приедет, увидит – в обморок упадет. Подумает, что ты здесь не блатной, а-га-га! Наверно, бабе-то написал, что здесь сидишь на положении, а?.. Почти что вор в законе, а-га-га!
Захара было не остановить.
– А я-то думаю, что это Новик с Кериным с утра целый час лопаты выбирают, черенки щупают. Вот оно, бля, что, а-га-га! Ты, Вовик, эту сохрани – там с твоей хари барельеф остался. Если что – в санчасти по лопате восстановят!.. А-га-га!
Он закурил на ходу и продолжал:
– А тебя, Санек, если в трюм за евоную харю закроют, все равно на свиданку на пару дней выпустят. Вон, Петруха, если что, перед Дюжевым похлопочет, а-га-га! Они кенты по кумовской части!..
Петрухи рядом не было. Тем не менее Захар куражился так, будто тот шел рядом и поддакивал ему.
Наизгалявшись до всеобщего ржания, Захар придвинулся ко мне и уже серьезно сказал:
– Отрядник будет спрашивать, что было, скажешь, ничего не было. Я этот вопрос с потерпевшим, хе-хе, подработаю, – лукаво подмигнул он одним глазом. – После свиданки, надеюсь, не обделишь вниманием, а?.. Тут ведь как, Санек, в лагере: не все, что гребешь лопатой, надо грести под себя, хе-хе… Это – первое. Второе: не та лопата золотая, что из золота, а та, которую правильно употребляют. Да. А третье? А третье – если кто первые два правила не усвоил, может случиться, что в!сь срок будет на себе испытывать, что крепче: морда или лопата. А-га– га!.. – И уже в полный голос заорал: – Правильно я говорю, Вовик? А?.. Вовик-хуеголовик! А-га-га-га!..
Глава 13 Свидание
Утро разорвалось привычным воплем Лысого на подъем, грохотом сапог, беготней по лестнице и звоном банок с кипятком.
– Выходим, выходим, строиться!
Народ, кто бегом, кто с ленцой, потянулся к выходу.
Захар, проходя мимо моего шконаря, бросил на ходу:
– Новик, остаешься на выходной.
– С чего?
– Из нарядной позвонили, жена приехала. Остаешься на свидание.
Тут как тут нарисовался Лысый. Улыбался он так радостно и светло, будто приехали не ко мне, а к нему. И не на свидание, а забирать насовсем.
– В столовую сегодня можно не ходить, хе-хе, в такой день – западло. Как говорится, освобождай тару, хе-хе!..
– Как говорится, чем больше на свиданке съешь, тем меньше в зону завозить, а-га-га! – в тон Лысому добавил Захар.
Обернулся на петушатник и крикнул игриво:
– Правильно я говорю, граждане куры?! А?.. Чуча, крыса, все до последней корки спорол на прошлой свиданке. Обертки даже, говорят, падла, сожрал! А курятник ничем не подогрел. Лишить тебя, козла, свиданки, что ли?.. А-га-га!..
«Уголок Дурова» угодливо подхихикивал.
– Дурной пример – заразительный, – не унимался Захар, – ну, да у них тут в уголке свои законы. А настоящий мужик – он на свиданке есть не должен, а-га-га! – должен жратву в зону загнать, кентов подогреть. Хуля с петухов пример брать, правильно я говорю? Керин… Славка, правильно?
– Если б кентов, а то – ментов, – зловеще отшутился Славка, многозначительно поглядев в сторону Захара.
Его грев с прошедшего свидания спал ил ся. Как и по чьей вине – концов теперь не найти. Но он был твердо уверен, что без захаровской руки не обошлось.
После проверки я ходил кругами по двору, прикуривая одну сигарету от другой. Было над чем подумать. Свидание могло быть одни сутки, а могло быть и трое. На первый раз никому больше двух суток не давали. Да и то, чтобы получить их, нужно было ходатайство начальника отряда. А для меня какое могло быть ходатайство? Только в изолятор. Три дня – это для тех, кто «перевыполнял…», «зарекомендовал…» и «встал на путь исправления». То есть не для меня. Идти, по совету Захара, просить Грибанова? При этой мысли меня даже передернуло.
С такими думами я, улучив момент, незаметно двинул в клуб.
– Филаретов тебя сам вызовет, я так думаю, – успокоил Файзулла. – Наверняка сначала с женой побеседует, узнает – кто? что? откуда? Это его замполитская работа. А потом – с тобой.
Через пару часов запыхавшийся штабной шнырь, влетев в клуб как на крыльях, с порога выкрикнул:
– Новикова – к замполиту, срочно!
Кабинет Сан Саныча, в отличие от дюжевского, был светлым, просторным и обставлен резной мебелью местного ширпотребовского производства. На стене, над головой, висел портрет Горбачева. На противоположной –
Дзержинского. Сам хозяин кабинета был подчеркнуто радушным. Это был розовощекий, плотного телосложения, очень опрятный человек, одетый в белую рубашку с галстуком. Под кителем она особенно подчеркивала его причастность к политико-воспитательной работе.
– Разрешите?.. Здравствуйте. Осужд…
– Ладно, ладно, заходи, садись. Присаживайся, хе-хе. Сидеть – ты уже и так сидишь.
Я присел на свободный стул напротив, лихорадочно обдумывая свои шансы выпросить для свидания трое суток.
– Давно хотел вызвать тебя, но не стал этого делать в спешке – пусть сначала другие вдоволь набеседуются, – улыбаясь, сказал он, кивнув головой в сторону. Именно там, за стеной, находился кабинет Дюжева.
– Да я и сам к вам хотел напроситься, – поддержал я.
– В общем, так. Приехала к тебе на свидание жена. Я с ней беседовал сегодня в главном штабе, за забором. Рассказал, какие у нас правила, порядки – чтоб глупостей не наделала, деньги, там, в стельку не прятала или чтоб через забор не перекрикивалась, да в зону через кого попало не передавала. В общем, провел, так сказать, воспитательную работу. Она тут уже отличилась – сама тебе расскажет.
– Спасибо. Вроде бы за эти два года уже научилась…
– Ну, я на всякий случай. А насчет тебя – тут были всякие разговоры. И хорошие, и плохие. Короче говоря, чтоб долго не рассуждать, я подписал трое суток. Не потому, что Мустафа приходил, а просто так – авансом. Он, кстати, сам у меня вот-вот свидания лишится или в изолятор угодит – оборзел немного. Лично посажу, дождется…
Говорил он отрывисто, твердо, но абсолютно беззлобно. Ясно, что никуда он Мустафу не посадит и ничего его не лишит. Только, как говорится, – «чтобы жути нагнать».
– Грибанов приходил, жаловался на тебя. Но меня не сильно разжалобишь. В клуб ходить можешь, разрешаю. Но в сво-бод-но-е от работы время. И по выходным. Осенью будет смотр самодеятельности всех колоний управления. Там ближе к делу и видно будет. С Нижниковым я говорил. Он, правда, не очень со мной согласен. Короче говоря, пару лет тебе придется на разделке поработать, а там что-нибудь полегче найдем. А пока ходишь к Мустафе – вот и ходи. Грибанов будет интересоваться– скажешь, Филаретов поручил к Дню лесника концерт готовить. Все. Иди на свиданье, задерживать не буду.
– Спасибо. Александр Александрии.
– Ладно, ладно, давай…
Я вышел. Наверное, с улыбкой на лице.
Поезд Свердловск–Приобье, которым ехала Маша, прибыл рано утром. По дороге, разговорившись в купе с попутчиками, она познакомилась с семьей, жившей в том самом поселке, где стояла наша колония. До полудня, до того часа, когда начнут запускать приехавших на свидание, нужно было где-то переждать, и они очень любезно предложили остановиться у них. Семья оказалась действительно очень доброй и гостеприимной, впоследствии много нам помогавшей. Глава семьи работал вольнонаемным в каком-то управлении, его супруга – бухгалтером в конторе рядом с колонией.
Оставив вещи, Маша пошла в администрацию лагеря узнать распорядок и оформить соответствующие документы. Располагая запасом времени и движимая духом видавшей виды «декабристки», а может быть, из разведывательных целей, пошла Машенька по рельсам вдоль заколюченного забора туда, где, как ей казалось, мог находиться я.
Железнодорожный путь вел к участку, где я совсем недавно грузил березовыми плахами товарные вагоны. Их крыши выступали над кромкой ограды, увенчанной кольцами «колючки» и «путанки». На них стояло несколько парней, выглядывающих по всей вероятности кого-то из своих, приехавших также на свидание.
Залезать на крыши было строго запрещено, но что могли сделать часовые на вышках? Только накричать или звонить в штаб. К этому уже все привыкли, а потому считалось, если ненадолго – то можно. Это была почти полувековая традиция. Люди, приехавшие даже не на свидание, а просто так – матери, жены, отцы, братья, – приходили сюда. Кто– то кидал водку в грелке, кто-то связку сигарет, кто-то просил позвать «перебазарить». Иногда это удавалось. Стоящие на вагонах, завидя их с котомками, первыми орали:
– К кому?!. К кому?!.
– К Иванову!..
– Из какого отряда?!.
– Из девятого!.. Можете позвать сюда?!
Людям, которые приехали впервые, казалось, что «позвать сюда» – это все равно что вызвать ученика на минуту из класса, не дожидаясь перемены. И недоумевали или пугались, когда им в ответ кричали:
– Нет, не можем! Он очень далеко отсюда!
Биржа, или «промзона», была в длину более километра. Поэтому добежать из конца в конец было не так-то просто. А кроме всего, надо было знать куда бежать – вдруг по дороге нарвешься на начальство? По лагерному закону за добрую весть полагался магарыч со свидания, но при условии, что все прошло гладко. А если сдали? А если попался по дороге или хуже того – на крыше? Пиши пропало. Свидания лишали, невзирая на мольбы приехавших, а самого «соскучившегося» за уход с рабочего места и переговоры через запретку – в изолятор. Суток этак на десять–пятнадцать.
Разумеется, всего этого Маша не знала. Поэтому, проходя мимо забора, на окрик «Вы к кому?!» ответила честно и громко:
– К Новикову Александру!.. Десятый отряд!
Кто такой Новиков, в лагере дважды объяснять было не надо. На вагон полезли все, кто мог лазить. Желающих посмотреть, кто приехал, было больше, чем мест на крышах. Может быть, и побежали звать, но меня в тот день оставили на выходном, и я ходил вдоль барака, смоля сигарету за сигаретой.
Подельник же мой, Толя Собинов, работал как раз на этой территории. Помчали за ним. Через несколько минут, влетев на крышу вагона, Толя, еле переводя дух, махал руками и, прикладывая их рупором ко рту, выкрикивал Маше инструкции:
– Долго здесь не стой!.. Александр работает далеко отсюда, позвать его не удастся! Сколько суток дали?..
– Пока не знаю, с начальством не встречалась. Я тут кое-что хотела ему передать…
– Тихо!.. Не говори ни о чем! Не вздумай деньги проносить, вышмонают! Если есть у кого-то из местных оставить – оставь там, потом человека пришлем… А сейчас уходи, пока не засекли!
Гремели краны, пилорамы стоящих поодаль цехов, цепи, машины. Над всем висел гвалт и грохот. Поэтому кричали изо всех сил, пытаясь за несколько минут сказать друг другу, как можно больше. Но половина слов гасла и тонула в окружающих звуках, а риск быть уличенными в переговорах с заключенными возрастал с каждой минутой. Можно было остаться без свидания.
– Уходи, уходи, а то сейчас менты прибегут! – крикнул напоследок Толя и спрыгнул с вагона.
Его консультации оказались очень своевременными и полезными. Именно деньги на свидание Маша и собиралась пронести. Дружище юности Толя Щуров, узнав, что она поедет ко мне, принес двести рублей с просьбой «подогреть старого друга». В способе нелегальной передачи этой немалой по тем временам суммы их обоюдная фантазия дальше комнатных тапок не пошла.
– Под стельки засунуть и заклеить, – уверенно посоветовал никогда не сидевший Щуров. На том и порешили.
Тщательней всего в вещах приехавших досматривается обувь. Первыми отрываются стельки. Люди, годами работающие на «шмоне», ежедневно перетряхивающие десятки, сотни килограммов тряпья и продуктов, чуют деньги, письма, «малявы» даже не на ощупь – по глазам. Это в моих глазах, повидавших немало этапов, пересылок, шмонов и облав, ничего не углядеть. Но в ее, наивных и печальных…
Инструкции Толи Собинова Машенька выполнила в точности. И поэтому, когда на «шмоне» с треском разодрали тапки, она имела полное основание смотреть на шмонающих победоносно. А я получил эти 200 рэ – через несколько дней ко мне на бирже подошел незнакомый вольнонаемный и незаметно сунул в карман телогрейки плотно скрученные бумажки.
– Здесь – пятьдесят. Буду заносить частями. Приду через неделю, – сказал он и, не оборачиваясь, удалился.
Собрав в сумку распечатанные консервные банки, переломанные сигареты, порезанные на части конфеты, колбасу и тапки с отодранными стельками, Маша, наконец, вошла в «Дом свиданий». Именно так он здесь назывался. Однако он не вызывал в лагере такой улыбки, как его вольный и дальний родич. И если там были «нумера», то в этом – «комнаты личного свидания». Кухня, правда, была общей. И все же назвать его «домом» можно было с большой натяжкой.
Это был двухэтажный, вонючий, кишащий крысами барак, с окнами, слепо смотрящими в высоченный забор. Первый этаж занимали кабинеты досмотра, подсобные помещения, охрана и собачья лежанка.
Второй был отведен под комнаты свиданий. Здесь же находился сортир индивидуально-общего пользования, дырки этак на четыре, оповещающий о своем существовании не столько указательными знаками, сколько содержимым ямы. Поэтому слоняющихся по коридору не было. Все сидели по норам, плотно захлопнув двери.
Заведение находилось в непосредственном ведении подполковника Дюжева. На бесчисленные жалобы по поводу одолевающих крыс он неизменно, гадливо хихикая, отвечал:
– Ну что же я сделаю? Они тоже здесь, как и ваши родственники, в тюрьме сидят, хе-хе.
На вопросы о том, как быть, он так же невозмутимо советовал:
– За решетку не садиться. И еды возить поменьше, хе-хе.
Крыс бы давно переловили сами родственники и зэки,
да мышеловки и крысоловки проносить запрещали. А руками и ногами получалось неэффективно. Поэтому нет-нет да и раздавался из-за двери женский визг: «Мама– а… Она здесь сидит!» Или мужской вопль: «А-а-а, ебаные крысы!.. Козлячьи ментовские рожи!..»
А дальше стук, топот, лязг кочерги или грохот запущенной вдогонку казенной кастрюли.
Я вошел в комнату, отворив дверь без стука. Маша сидела на кровати и вытаскивала из сумки содержимое, укладывая рядом с собой. На мне шапка-ушанка на искусственном меху, как из далекого детства. Тапки-оборванцы, черный мелюстиновый костюм… В общем, моя новая одежда.
Она бросила что-то из тряпья на пол, опрокинула сумку, вспорхнула и повисла у меня на шее. Повисла и тихо заплакала. Я так и стоял: в телогрейке, в сапогах, с висящей ею. Потом поставил на пол, и мы еще какой-то миг цепенели, крепко обнявшись. Это была, наверное, самая радостная и самая больная для меня минута за последние два года. Мне было так жаль ее, маленькую, хрупкую и совершенно не изменившуюся. Я вдруг остро ощутил не эту минуту встречи, а миг расставания, который неминуемо настигнет нас через три дня. Три дня… Как это много. Как это много по лагерным меркам. Вечность… И как мало и скоротечно по меркам души. Это нельзя назвать – «свиданием». Это было воссоединением чего-то разорванного в клочья, чего соединить уж никто и не чаял. Снятым на кинопленку полетом хрустальной вазы, упавшей со стола и разлетевшейся от удара вдребезги. А потом прокрученным в замедленном изображении назад. Вот они, осколки, собираются, стягиваются по полу, льнут друг к другу и снова становятся вазой. В нее вперед ногами вползают цветы, верхом на водяных шарах. Отталкиваются от пола и летят вверх на стол. Встают в рост и замирают… Они снова – цветы в вазе. А через три дня пленка рванет вперед. Но это будет через три дня. А сегодня волшебный кинопроектор времени завертелся в обратную сторону, разогнался, визжа всеми шестеренками. И вдруг заклинил и встал как вкопанный. Включился свет, пленка замерла на самом первом кадре.
В каждую из этих трех ночей, просыпаясь и вспоминая все, что рассказывала мне днем она, я выкладывал из месива двух минувших лет дьявольскую мозаику известных нам по-разному одних и тех же событий. Она тихо и счастливо спала, забившись мне под мышку, а я, боясь спугнуть ее сон, прокручивал все с первого дня разлуки. С ней, с Игорем и Наташкой, с матерью, с друзьями, с волей… Как кино – то в красках, то в черно-белом цвете. То истошно кричащее, то оглушительно немое. То забредающее в сон, то выныривающее в явь.
Злое кино показывало, как это было.
Как это было…
Глава 14 Арест
Утро 5 октября 1984 года. Не по-осеннему ясно и солнечно. Встаю рано. Еду к школьному другу Сашке Давыдову прямо на его работу – в строительно-монтажную контору. Сашка – начальник отдела. Дома у меня ремонт. Стройматериалов в магазинах нет – только по блату, с заднего крыльца. Но – честные. Если блата нет – со стройки. Но – ворованные. Списанные, как брак, усушенные, утрясенные и оставшиеся от пересортицы.
Кому как удобнее и доступнее. С прилавка – плохие, но дешевые. С заднего хода – хорошие, но дорогие. Со стройки или склада стройуправления – хорошие и дешевые.
Давыдов посоветовал последние.
В 8 утра я у него.
– Что нужно? Есть все.
– Все и нужно.
Посылают за кладовщицей тетей Клавой. Сидим, пьем чай, обсуждаем масштабы ремонта, возможности стройконторы и, конечно, идиотизм мирового социалистического строительства, коммунистической системы, у которой все делается через задний ход. А потому – никаких угрызений совести. Мы – как все.
Входит тетя в мужской телогрейке, в ватных штанах, с огромной связкой ключей на железном кольце. Через кольцо легко пролезет голова.
– Звали, Александр Владимирович?
– Звали. Тут, вот, надо со стройматериалами порешать человеку, – обернувшись на меня, начинает Давыдов.
– Ясно. Чего? Сколько? Как будете вывозить? За какие?
– Потом объясню. Сейчас пойдите выберите.
– Ясно. Жду у себя в складу.
– Минут через пять, – удерживает меня Сашка.
– Деньги кому? Ей?
– Ты что! Начальнику участка.
– Я ж его не знаю.
– Меня знаешь? Чего еще надо? Сначала сходи, выбери. Она все посчитает, скажет. Я кое-что урежу, кое-что спишу. Потом вместе – к нему.
В «складу» было не все. Но было.
Выбранное вместе с тетей Клавой стаскивали в угол. Полчаса пыльных работ – и вопрос с моим ремонтом наполовину решен. Прощаемся до завтра. Завтра – расчет и самовывоз. Иду к своей новой «Волге», две недели назад купленной по счастливому случаю в Ижевске. Дядя моего ижевского знакомого Толи, высокая номенклатурная фигура, отказался от выделенной «Волги» – фургона, потому что хотел обычную. Правда, не совсем, а в пользу племянника. Фургон стоил восемнадцать тысяч рублей. У Толи денег на выкуп не было. На базаре такая тянула на тридцать тысяч, а разницу ему очень хотелось получить. Позвонил он ночью, полагая, что в это время телефоны не прослушиваются. Заблуждался. «Вези меня, извозчик» уже голосил по всей стране, и телефон мой круглые сутки стоял на прослушке. Узнал я об этом несколько позже. Сговорились на двадцати двух. Вылетаем в Ижевск с Сергеем Богдашовым. На торговой базе, на заднем дворе стоит новенькая, небесного цвета красавица. Вертимся вокруг нее втроем, ждем ключи. Открываем – сказка! Сегодняшний 600-й «Мерседес» – ничто по сравнению с «Волгой» – фургоном по тем временам. В частные руки их продавали только особенным людям, по особым распоряжениям. В Свердловске в частных руках их было всего две.
Прямо на меня оформить нельзя. Оформили на Толиного друга. Полдня – на доверенность, четыре дня – на обмывку, и вот мы с Богдашовым едем домой через Уфу, довольные и радостные. В Уфе живем пару дней, мотаясь по своим аппаратурным делам. Неожиданно замечаем слежку, но убеждаем себя в том, что следят не за нами, а за теми, с кем встречаемся. Слежка плотная, навязчивая и абсолютно бездарная. Настолько бездарная и неприкрытая, что кажется, будто бы делается это нашими башкирскими конкурентами по производству схожей аппаратуры с целью устрашения – дабы мы поскорее ретировались. Заблуждались мы крепко: следили за нами хоть и по-идиотски, но люди из органов.
Уходим из Уфы поздней ночью с погоней. Не успели отъехать от дома Андрея Березовского, у которого останавливались, на хвост садится шестерка «Жигули». Вскоре ее сменяет другая. Мы уходим на предельных скоростях, ныряя в проулки и подворотни вдоль реки, проселочными, давно известными тропами, выскакиваем на трассу далеко за постом ГАИ.
Хвост пропал. Ушли. Порешили на том, что это были уфимские, что более мы им не нужны и гнаться по трассе до Свердловска за нами не будут. Через сто километров бешеной гонки остановились. Уф-ф… пронесло.
К полудню были дома. Здесь нас встретили такой же круглосуточной слежкой и телефонной прослушкой. Следом за машиной – «хвост». Две недели я ездил, не веря, что этот – за мной. Он был еще более назойлив и повсеместен. Но хвост – хвостом, а ремонт – по расписанию.
От тети Клавы я выхожу, улыбаясь, с чувством выполненного долга, забыв о его постоянном присутствии.
Вставляю ключ в замок, открываю дверь. Пахнет новой машиной, свежей кожей, работает радио. Приятный женский голос диктора: «Московское время семь часов пять минут…»
Откуда они выскочили, я не заметил. На руках повисают двое. Третий тычет мне в лицо красной коркой: «ОБХСС Свердловской области! Капитан Ралдугин. Проедемте с нами».
Во двор задом влетает белая «Волга», выезд перегораживает другая – черная. Волокут в белую, на заднее сиденье. В руки вцепились насмерть. Садятся по бокам, не отпуская. Ралдугин – вперед справа. За руль моей машины прыгает опер в штатском. Черная срывается с места. Следом белая, в которой упакован я. Замыкает колонну мой фургон. Все ровно за тридцать секунд. Ралдугин поворачивается и ехидно хихикает:
' – Ремонт в квартире, я думаю, сделают без вас, Александр Васильевич.
Мчимся быстро. Рук не отпускают. Слева – с кривым носом, маленький, обвил мою руку, сцепив свои замком.
– Чего так держите-то? Я ни бежать, ни убирать никого не собираюсь. Закурить можно?
– Приедем, накуритесь.
Влетаем в ворота областного управления. Над воротами табличка с адресом: «Ленина, 17».
Вытаскивают из машины, окружают. Ведут в кольце наверх, на второй этаж. Радуются неимоверно. Запирают в каком-то казенном кабинете.
Проходит час. Отпирают, ведут в кабинет напротив. Там опер и две студентки-практикантки из юридического института. Опер, ухмыляясь:
– Вот, гражданин Новиков, знакомьтесь: девочки – будущие работники суда и прокуратуры, у нас на практике. Они вас и обыщут.
Повернувшись к девицам, добавляет:
– Обыщите, как положено, как учили. Составьте протокол по форме.
Тут же исчезает за дверью.
– Раздевайтесь, – абсолютно безразличным тоном молвит первая девица, – раздевайтесь… Плащ снимайте.
Ощущаю себя не на обыске, не в милиции, а в публичном доме.
Вторая, симпатичная, сидя за столом, загадочно улыбается.
Жамкают плащ. Лезут под стельки ботинок. Все выворачивают наизнанку. Руки – вверх. Первая щупает от подмышек до щиколоток. Командует повернуться кругом. Вторая встает, щупает от горла до живота. Далее пропускает, хихикая. Потом вдоль брюк, по коленям, до пола, i
– А теперь раздевайтесь полностью.
– Совсем?
– До нижнего белья.
Ощупали. Облапали. Садятся за протокол.
– Одевайтесь.
Смеюсь, натягивая штаны.
– А можно еще раз обыскаться, более тщательно?
– Можно… Через несколько лет, ха-ха! – прыскают девицы.
– Вечером в ИВС обыщут, очень тщательно, – в тон им добавляет заглянувший опер и исчезает, бросая: «Под ваш контроль».
Подписываю протокол.
– Сигареты можно забрать?
– Можно.
Закуриваю. Практикантки что-то пишут. Молчим. Ждут, когда за мной придут.
– В туалет тоже в вашем сопровождении?
– Исключительно. Сейчас пойдете?
Идем по коридору. Доходим до двери со знаком «Т».
– Сюда. Дверь в кабину не закрывать.
– Будете смотреть?
– Такая работа.
– Ну что ж, работайте.
Стоит прямо за спиной, чувствую взгляд. Слушает журчанье. После этого перестал воспринимать ее как женщину. Неужели и вторая, что посимпатичнее, такая же «туалетчица»? М-да, если тут дамы такие, то какие здесь мужики?
– Все?.. Пошли.
Курю еще одну сигарету. Приходит опер.
Опять запирают в кабинете напротив.
Минуты тянутся. Прислушиваюсь к шагам и обрывкам разговоров за дверью. На душе ни страха, ни тревоги, ни сожаления. Абсолютное спокойствие и уверенность в том, что это – надолго. Потом, в будущем, это помогало. Именно уверенность в том, что выхода нет. Мышеловку долго готовили, и вот она захлопнулась. Просить помощи с воли бесполезно, никакие связи не помогут – участь решена. Надежда только на себя и на силы небесные. От того так спокойно. Тревожно только за детей, за семью и за больную мать. Все остальное – как перед расстрелом после команды: «Цельсь!..»
Наконец в дверь вонзается ключ, и на пороге вырастает человек в форме.
– Пошли, Новиков.
Идем по коридорам, лестницам в другой конец здания. Снова пустой кабинет. На этот раз хорошо обставленный. Сижу, жду. Входит полковник в сопровождении какого– то младшего чина. Приветливый, улыбчивый и симпатичный. Садится напротив.
– Оставьте нас, мы поговорим.
Сопровождение скрывается за дверью. С любопытством и полуулыбкой смотрим друг на друга.
– Ну здравствуйте, Александр Новиков.
– Здравствуйте, не знаю, как вас?..
– Неважно. Считайте, что я не из этого ведомства.
– Из КГБ?
– Хм… Считайте, что это неважно.
– Курить можно?
– Кури. Чаю хочешь? С лимоном? Сейчас принесут.
Затягиваюсь и молча жду начала разговора.
Входит человек в штатском.
– Попроси, пусть чаю принесут. С лимоном.
– Один?
– Два.
Этот разговор помню очень хорошо.
– М-да… Попал ты крепко, честно говоря. Знаешь хоть за что?
– Догадываюсь. Скорее всего, за песни. За аппаратуру так не хватают и сюда не возят – райотдела было бы достаточно.
– Понимаешь правильно. Но судить будут за аппаратуру. Можешь говорить со мной откровенно – я не из этого ведомства и вряд ли мы с тобой когда-нибудь в ближайшие десять лет увидимся. Я посмотрел тут кое-какие бумаги, ознакомился, так сказать… Это не наша компетенция. Заниматься тобой будет ОБХСС.
Принесли чай. Он сделал несколько глотков, молча ожидая моего ответа.
– Не понимаю, что крамольного нашли в песнях? Вся страна слушает, значит, ей это нужно.
– Хочешь честно, как мужчина – мужчине? Не как арестованному, а как случайный сосед по купе?
– Хочу.
– Лично мне твои песни очень нравятся. Очень. И все эти пленки у меня есть, но…
После слова «но» он поднял к потолку указательный палец, а следом и глаза. – Сам понимаешь…
– Понимаю.
– Даю тебе слово, что когда ты выйдешь, я тебе их верну. Даже если во всей стране уничтожат – у тебя будут.
– И снова с ними в тюрьму, хе-хе?.. – пытаюсь шутить я.
– К тому времени, я думаю, многое поменяется. А пока… Буду, как обещал, с тобой откровенен: получишь десять лет.
– ?..
– Да. Десять лет. Вопрос об этом решен.
Он снова, глянув мне в глаза, ткнул пальцем в потолок, не отрывая локтя от стола.
– Выхода у тебя нет. Поэтому держись достойно.
Он встал, одернул китель, протянул мне руку и крепко пожал. В дверях обернулся и добавил:
– Все, что сказал – это для нас с тобой, не для протокола. До свидания, Александр.
Он тихо вышел. А я – держался.
В кабинете капитана Ралдугина это умение понадобилось уже через несколько минут. Посадили за край стола, предъявили увесистый и дикий документ под названием «Экспертиза по песням А. Новикова». Датирован третьим октября. Свеженький – состряпали только позавчера. Написанный в духе 37-го года, в оскорбительно-пасквильном тоне и представляющий собой следующее. Текст песни. Далее – рецензия по ней. Затем следующая песня. Снова рецензия. И так по всем восемнадцати песням альбома «Вези меня, извозчик». «Документ» насквозь пропитан злобой и ненавистью к автору, потому и сравнить не с чем. Обвиняюсь во всех известных белому свету грехах.
«…Песни А. Новикова пропагандируют аморализм, пошлость, насилие… наркоманию, проституцию, издевательство над национальными меньшинствами, алкоголизм… воровские традиции… глумление над социалистическим строем… подрыв основ идейно-коммунистического воспитания…» И прочее, прочее.
Такого идиотизма в официальных документах до сих пор не видал, потому смеюсь, не в силах сдержаться. Ралдугин молча ходит кругами, прикуривая одну сигарету от другой. Распечатывает блок «Родопи». Широким жестом кладет пачку передо мной.
– Курите, Александр Васильевич, угощаю… Смеяться потом будете.
Дочитываю до конца. Несмотря на кишащий орфографическими, стилистическими и прочими ошибками текст, смысл его вполне понятен. Впрочем, как и назначение. На последнем листе четыре подписи. Комсомольский активист Виктор Олюнин. Член Союза писателей СССР Вадим Очеретин. Композитор Евгений Родыгин. И еще какое-то культпартийное мурло, фамилию не помню.
Из подписантов знаком только Е. Родыгин. Этого пьянчужку с гармошкой несколько раз приводили к нам в школу. Прямо в учебный класс, перед какими-то революционными праздниками. Существо, дыша перегаром и брызжа слюной до последней парты, очень громко пело под собственный аккомпанемент собственные же сочинения. «Ой, рябина кудрявая», «Едут новоселы по земле целинной…» И еще что-то высокоидейное в юродивом исполнении. В заключение концерта было «Э-ге-гей, хали-гали…». Уже под нескрываемое ржание всего класса. Правда, исполнителя это не смущало. Кроме того, по городу ходила история о том, как когда-то, напившись до полусмерти и заснув за рулем, этот самый Родыгин, пробив ограждение, вылетел с моста и упал в железнодорожную угольную платформу проходящего внизу грузового состава. Уехал за тридевять земель и был отловлен чуть ли не в другой области. Не знаю, как в искусстве, а на земле след свой он, безусловно, оставил – мост с той поры называется не иначе как «родыгинский». А кроме всего, выступающий имел среди учеников школы многолетнюю кличку «Алкодрыгин».
В указанном документе он значился «основным экспертом» – это было ясно по орфографии и «доказательствам». Особенно покорила заключительная часть его душераздирающей рецензии: «…Автор вышеупомянутых песен нуждается если не в психиатрической, то в тюремной изоляции наверняка». Ни добавить, ни отнять.
– Ну что, прочитал, как о тебе творческие люди пишут?
Ралдугин затягивается, закатывает глаза и добавляет с
лукавым осклабом:
– Но это – так, пустяки. Песни нас, конечно, интересуют, но мало. За это статья до трех лет. Они – в качестве, так сказать, характеристики, хе-хе. Нас, Александр Васильевич, интересует ап-па-ра-тура. Вот о ней мы и будем долго говорить.
– Задавайте вопросы.
Глаза Ралдугина темные, злые. Улыбка злорадная. Речь нарочито спокойная и неспешная. Говорим без протокола. О семье, о музыке, о машинах, бог весть о чем. Он чего– то ждет. С каждой минутой убеждаюсь, что имею дело с опытным и махровым негодяем.
С грохотом открывается дверь, влетает упитанный полковник. Ралдугин вскакивает.
– Встать! – Полковник с налившейся кровью рожей нависает надо мной. Продолжаю сидеть.
– Вставай, вставай… – помогая словам ладонью, советует Ралдугин.
Внутри у меня все взорвалось. Треснуть бы сейчас эту харю. Нельзя…
– Я не арестованный. И в вашем ведомстве не служу.
– Ах, вот оно что… Хар-р-рош!.. Хар-р-рош, сукин сын!
Полковник – начальник следственного управления области. Очень похож на злую жабу. Фамилия – Семенов. Оборачивается к хозяину кабинета:
– Оформите как положено. И побеседуйте… как положено.
Выпрыгивает вон, громко хлопая дверью.
«Выхода у тебя нет. Держись достойно…».
На этом предварительную обработку посчитали законченной. Ралдугин берет лист бумаги, заполняет его моими данными.
Допрос начался. Суть вопросов: где, куда, кому и за сколько продавал аппаратуру? Как, с кем и из чего изготовлял?
Суть ответов: мало ли кому, мало ли из чего – все детали куплены в «Юном технике». Делал один. Отвечаю за все один.
Злые глаза кивают: протокол все стерпит.
После допроса – в пустой кабинет под запор. Приносят мешок с домашними вещами, сигаретами, тапками и прочим скарбом. Значит, жене уже сообщили. Как это было тогда наивно думать – «сообщили». Уже были с обыском. Отрывали плинтусы, отдирали обои, отбивали кафель, чтоб пролезть под ванну. Выгребли все магнитофонные кассеты, пластинки. Выгребли стихи, тетради, фотографии, даже школьные дневники. Все, на чем есть хоть слово, написанное моей рукой. Уволокли телевизор, проигрыватель. Даже два одинаковых мохеровых шарфа с вешалки – как важные вещественные доказательства «попытки спекуляции». Эту «попытку» на основе двух несчастных шарфов будут мне доказывать на протяжении всего следствия – двух одинаковых у советского человека быть не должно. Словом, выгребли квартиру почти до голых стен.
Все это я узнаю потом. А пока со слезами на глазах разбираю мешок – каково Маше было его собирать. Судя по его содержимому, она уже знает, что здесь я – надолго. Значит, вечером – в ИВС. В изолятор временного содержания. По-старому – в КПЗ.
До позднего вечера сижу в знакомом пустом кабинете. Шаги за дверями все реже. Наступает гулкая тишина. Жду конвой. К удивлению, вместо него является сам Ралдугин с кривоносым опером, утренним знакомым. Зовут его капитан Шистеров. Спускаемся под руки во двор, опять к той же белой «Волге».
– За что такая честь, Владимир Степанович? – осведомляюсь я у Ралдугина.
– Вы человек известный, знаменитый, не могу никому вас доверить. Хочу лично благоустроить на новое место жительства.
Едем в прежнем порядке. Ралдугин – спереди, я – сзади, под руку с кривоносым. Вцепился и держит так – любой удав позавидует. За окном центральная улица. Огни витрин, люди, машины…
Осень. Как, оказывается, красивы эти пожелтевшие деревья, эти растоптанные на асфальте листья. Как хочется выйти, даже на ходу, в эту осень. Разбиться не страшно – страшно этого долго не увидеть. Страшно встретить по дороге Машу. Или Игоря с Наташкой. Но они еще маленькие – вряд ли встретятся вечером.
Машина влетает в загороженный двор и останавливается прямо у дверей серого здания.
– Ну вот, приехали. Здесь пока и поживете, Александр Васильевич, – возвещает об окончании путешествия Ралдугин.
Заводят под руки внутрь. Порядок обычный для всех: сначала в дежурку, потом на шмон. После всех бумажнопротокольных процедур – в камеру.
– Завтра утром за вами приеду лично, – прощается он. Его напарник морщит кривой нос от тюремного запаха, брезгливо фыркает, и оба спешно уходят.
Тюремный запах – смесь дихлофоса, махорочного дыма, параши, сырой плесени и еще бог весть чего – первым возвещает о том, что ты уже – в тюрьме. Не дежурный, не конвой, не кандалы. Над всем – запах. Он – как яд. Вдохнул его – и почувствовал себя по-другому. Все, что будет дальше, – пойдет само собой.
Определили в камеру № 2. На втором этаже в самом конце коридора. Сопровождает улыбчивый мент – старшина предпенсионного возраста, пропахший тюрьмой насквозь и навечно.
– Здесь песни петь нельзя, здесь надо сидеть тихо. Орать можно, если звать дежурного. Остальное – только в письменном виде. Хе-хе-хе…
Коридор длинный, грязный и вонючий. Местами вдоль грязных синих стен тележки, бачки с баландой, с торчащими из них огромными черпаками и горы алюминиевых мисок. Каждой вещи здесь – свое название. Миска – «шлюмка». Бачок – «флотка». Черпак – «разводяга». Коридорный дежурный – «попкарь». Остальное еще проще. Камера – «хата». Мешок с вещами – «сидор».
Открывают камеру. Вхожу. Дверь с грохотом и лязгом захлопывается. Ни нар, ни «шконарей» нет. Прямо в двух метрах передо мной возвышение, что-то вроде дощатой метровой сцены. Ничем не отличается от домашнего пола. Прямо на голых досках, подложив телогрейку под голову, лежит парень. При виде меня вскакивает, сонно продирая глаза.
– Здорово, – приветствую обитателя и кидаю мешок на доски.
– Здорово… Курево есть?
– Есть.
– Слава богу. А то уже уши пухнут.
Достаю сигареты. Садимся под решетчатым окном, привалясь спиной к стене, знакомимся. Его зовут Пермяков Александр. С виду – ровесник. Причина пребывания – валютные операции и какое-то хищение. Говорим, находим общий язык и даже общих знакомых.
Открывается «кормушка» – приехала баланда. Просунувшаяся в амбразуру физиономия вопрошает:
– Есть будете? Пайки заберите.
Следом появляется рука с полбуханкой хлеба. Сокамерник вскакивает, берет. За ней – еще одна. Два «шлюмака» с кашей, два с теплой, ржавого вида водой, именуемой – «чай». Кормушка с пушечным грохотом захлопывается. Это вместо – «приятного аппетита».
Еще долго не спим. Сокамерник разговорчивый и с довольно странной биографией. Его несколько дней назад привезли сюда из следственного изолятора – СИЗО № 1, то есть из тюрьмы. Почему, он не знает. Скорее всего, всплыли какие-то новые обстоятельства из уголовного дела. Там он три месяца сидел в камере № 38 на спецпосту. По его описанию – это третий этаж отдельного здания внутри тюрьмы. Содержатся там особо важные подследственные. Камеры маленькие – двух-четырехместные. Почти в каждой – подсадная утка. Держат тех, кто в несознанке, кто под особым контролем областного управления или в оперативной разработке. Словом, есть очень непростые пассажиры. Вместе с ним сидел в двухместке только один человек, очень известный в городе. Фамилия его Терняк.
– Терняк? – переспрашиваю я, – Виктор Нахимович? Метрдотель из «Уральских пельменей»?
– Так точно. Ты же работал музыкантом в ресторане, должен его знать.
– Знаю, конечно. Я работал в «Пельменях».
– Да ты что? Вот это совпадение.
– А где он сейчас?
– Да там же и сидит. Меня увезли, он один остался. Наверняка ему уже кого-то подсадили. А может, и сам подсаженный был – тип-то довольно скользкий.
Пермяков подробно описывает самого Терняка, его жизнь в камере, привычки, речь, словно боится, что я ему не поверю.
Говорит и говорит. Я лежу на спине, руки за голову, вспоминаю весь прошедший день и оглядываю новое жилище. Недавно был капитальный ремонт – чисто, слегка пахнет краской. Если не брать во внимание кованую дверь и решетку, вполне можно принять за комнату в отремонтированном общежитии. Когда вели сюда, мельком заглянул в какую-то открытую камеру. По сравнению с этой – тихий ужас. Кажется, что наша – тоже маленький спецпост. Вполне может быть – личный каземат капитана Ралдугина. Высказываю сокамернику эту мысль вслух. Пермяков подскакивает.
– Ралдугин? Да он же у меня дознавателем был! А следователь – Онищенко. Они оба у Терняка тоже были.
Ну и совпадения, думаю я про себя. Хотя чего в тюрьме не бывает.
– Давай спать. Клопов много? – интересуюсь, сворачивая мешок под голову.
– Есть. Но терпимо. В других хатах – кишит, а эта – особая. Эта – не для простых смертных.
Пытаюсь уснуть. Сосед храпит, будто не в камере, а на даче. Мой сон тревожный, прерывистый и что удивительно – цветной.
В шесть утра орет встроенный в нишу над дверью репродуктор – Гимн Советского Союза. Затем – производственная гимнастика. По коридору грохают двери– утренняя проверка. Открывается наша. На пороге офицер с журналом, за его спиной черноглазая, очень симпатичная девушка, тоже в форме. Процедура проверки простая: выкрикивают фамилию, вскакиваешь с нар, называешь громко и отчетливо имя, отчество, год рождения, статью. Если статьи нет – прописку.
– Пермяков!
– Александр Юрьевич, 1959-й, 88-я, часть вторая…
Сосед не вскакивает, лишь приподнимает голову, всем видом показывая безразличие к заведенным порядкам. Я в этот момент уже стою перед проверяющим и, выглядывая за его спину, сталкиваюсь взглядом с ней. Глаза в глаза. Они красивые и очень тревожные. Смотрим долго, не отрываясь. Вдруг едва уловимо она качает головой – таким жестом люди молча говорят – «нет». Стреляет взглядом в сторону Пермякова. Затем снова – в меня. Резко отворачивается и отходит.
– Новиков!
– Александр Васильевич. 1953-й… Статьи нет.
– Будет, какие твои годы.
Дверь захлопывается, но в воздухе все еще висят ее глаза. Становится необъяснимо тревожно. Дальше – все как обычно. Грохот мисок, полбуханки хлеба и через час – Ралдугин с Шистеровым собственной персоной, ждут внизу. К ним ведут в сопровождении нового коридорного.
Ралдугин весел и еще более язвителен:
– Как спалось, Александр Васильевич, хе-хе?..
– Для такого места – неплохо. Можно даже сказать – отлично.
– Мне тоже. За последние две недели первый раз выспался. Догадываетесь, почему?
– Догадываюсь.
– Не скучно в камере? Потерпите, скоро у вас большая компания будет.
Опять та же белая «Волга», тот же маршрут по тому же адресу.
Допрос сегодня долгий, резиновый, с претензией на перекрестный, и с участием еще одного персонажа. На удивление, в доброго и злого следователя не играют. Оба– добрые. Не кричат, ногами не стучат, не грозят. Просто по очереди долдонят одни и те же вопросы. Ралдугин изо всех сил советует написать явку с повинной. Ассистент приводит душещипательные примеры скоще– ния срока и досрочного освобождения всем, кто их послушал. Вперемешку с ужасами пятнадцатилетних сроков, вплоть до расстрела для тех, кто упорствовал, за что и получил на всю катушку.
В конце дня обещают обвинение по статье 193 УК РСФСР – антиобщественная деятельность. Она до трех лет. Чтобы не успел обрадоваться, следом грозят 93-й, которая автоматически, по сумме якобы совершенного мной хищения у государства, переходит в 93-ю прим. А эта – уже до высшей меры.
– Статейка ваша, гражданин Новиков, будет – до расстрела, так что есть над чем подумать.
Ралдугин захлопывает папку с протоколом допроса. Впервые обращается – «гражданин». Значит, с санкцией на арест у них проблем не будет. Значит, в ближайшее время увезут в СИЗО.
– До завтра, – прощаются со мной оба.
– Опять сюда?
– Пока сюда. Нам еще много о чем надо поговорить.
– Ночевать туда же?
– Туда же. Это теперь ваша персональная камера. Как там, кстати? Говорят, только что после ремонта? Все для вас, все для вас, гражданин Новиков, хе-хе!..
Входит конвой. Защелкивают наручники. Обратно на этот раз не на «Волге» – уже на «воронке».
В камере все тот же Пермяков.
– Ну, расскажи, что сегодня было? Ко мне снова адвокат приходил.
Рассказываю о событиях дня подробно, но не все.
Из головы не выходит утренняя проверяющая. Что она хотела сказать? Что? Почему так настойчиво и тревожно глядела? Пермяков… Неужели это и есть тихарь? Неужели это – подсадной? Почему никого больше в камеру не приводят? Одни и те же дознаватели… Случайность ли – такой круг общих знакомых?
Не подавая виду, начинаю приглядываться. Жду завтрашней проверки – может, еще что-нибудь из красивых глаз узнаю? Только бы пришла.
Наставшее утро ничем не отличалось от вчерашнего, если не считать, что проверяющий был один. Темноглазой не было. И больше никогда я ее не видел.
Пермяков засобирался к адвокату. Эти встречи, с его слов, проходили в специально оборудованном кабинете с привинченным стулом и голым казенным столом.
– Могу передать через него маляву. Человек надежный, отнесет по адресу.
– Пока не о чем писать.
– Мало ли… Может, что-то спрятать подальше надо. Статья-то у тебя будет с конфискацией.
– Прятать нечего.
Внизу встречают те же. На допросе Ралдугин твердит о том, что мой одноделец Сергей Богдашов уже во всем сознался. И что все покупатели, которых успели опросить, в один голос твердят, будто я их обманул – продавая свою самодельную аппаратуру, выдавал за фирменную. Ралдугин врал. Богдашов ушел у них из-под самого носа, и несмотря на тотальную и круглосуточную слежку за его домом и родными, найти его не могли.
То, что он в бегах, я не знал. Но был уверен, что если даже его и возьмут – ничего не расскажет. Вернее, только то, из чего уголовного дела не получится. Впоследствии, когда все встало на свои места и мы смогли встретиться, процесс этой самой слежки нарисовался презабавной картиной.
Еще до нашего приезда на новой «Волге» из Ижевска у моих соседей по лестничной клетке была устроена засада. В глазок глядели круглосуточно. Фотографировали всех, кто приходил или звонил в дверь. Во дворе за помойкой, сменяя друг друга, дежурили машины – с этой точки дверь подъезда просматривается особенно хорошо. Огни погашены, стекла подняты. За нашим общим товарищем Сергеем Кисловым – хвост день и ночь. Он в трамвай – они следом. Он в магазин – они за спиной в очереди у кассы.
Одна знакомая поведала мне по страшному секрету, что на телефонном коммутаторе возле гостиницы «Свердловск» круглые сутки сидят люди и прослушивают мой телефон и телефоны еще кого-то из моих знакомых. Ей об этом по еще большему секрету рассказала начальница узла. То же самое делается и на центральной междугородней станции. Спрашиваю: можно ли на них поглядеть? Отвечает: можно, но только чтоб не заметили. Вместе с ней прихожу на телефонный узел. Крадемся с заднего хода, тихо, на цыпочках.
– Вот они… – шепчет знакомая.
Спиной к нам – два типа. Прослушивают и записывают на магнитофон. Поворачиваются, видят меня. Немая сцена – ребята просто охренели.
Вечером из Уфы звонит Сергей Киселев – «Кисель». Говорит, что за ним следят. Отвечаю, что у нас то же самое, и кладу трубку. Моментально – звонок. Низкий мужской голос: «Простите, это с телефонной станции беспокоят. С какого номера вам сейчас звонили?»
Отвечаю: «Слышишь, ты, телефонистка, у тебя что, контакты заржавели? Прослушивается плохо?..»
Трубку бросили. Больше не повторялось.
За Лехой Хоменко тоже хвост. Леха – клавишник, участник записи «Извозчика». Договорился о встрече со своим давним приятелем Ваней Флеком, с которым много лет играл в одном ансамбле. Ваня родом из репатриированных немцев – несколько лет назад уехал жить в Германию. В те дни он по каким-то делам находился в Сочи. Там условились встретиться и передать кассету с «Извозчиком». Ралдугинцы откуда-то об этом пронюхали и приставили за Хоменко слежку. Вели ее день и ночь. Наконец настал день отъезда. Леха едет домой собирать вещи. Следом – несколько филеров. Провожают до подъезда, ждут на лавочке напротив, чтоб взять с вещами, с кассетой, а может и еще с чем. Сидят час, сидят два. Леха живет на первом этаже. Половина окон выходит во двор, другая половина – на противоположную сторону. Туда через окно с чемоданом он и выходит. Группа захвата все сидит. К ночи стало понятно, что ждать некого. Через день кассета с оригиналом записи – в руках у Флека. А еще через некоторое время песни крутятся на радиостанции «Немецкая волна» с соответствующими комментариями. Но узнал я об этом гораздо позже.
Ралдугин продолжает брать на пушку. Беспрестанно курит и ходит кругами. В обед меня отводят в пустой кабинет. Приносят баланду, кашу – все согласно расписанию и рациону.
Оперативная группа мелькает перед глазами. Входят, тихо шепчутся, уходят. Ралдугин заметно нервничает: что– то не получается.
Вечером Пермяков взахлеб рассказывает о встрече с адвокатом – все идет к тому, что его выпустят под расписку.
– А напрасно ты не написал маляву – передали бы без проблем.
– А если вышмонают?
– Здесь адвокатов не шмонают. Это в СИЗО – могут.
– А если тебя обшмонают?
– Я что, первый день сижу, прятать не умею?
– Они тут тоже не первый день.
– Я насчет тебя говорил. О твоем деле он слышал, даже кое-что знает. Советует на всякий случай явку с повинной написать. На суде всегда отказаться можно. Сказать, что били, прессовали, пришлось писать, чтоб отстали. Атак, вдруг, если что – вот она в деле есть. Лично я – написал. Поэтому меня под расписку, скорее всего, и выгонят. Подумай.
После вечерней баланды Пермяков все больше говорит:
– Твои подельники уже наверняка где-то здесь сидят. На другом этаже, скорее всего. Надо как-то узнать. Завтра через адвоката попробую. Если их взяли, скорее всего, покололись – им зачем с тобой эту лямку тянуть? Ты – за песни, тебя КГБ посадил. А они что? Только аппаратуру помогали делать да иногда продавать. Их пугнут – они все что хочешь напишут. Лучше это сделать вперед них. Что с ними – не знаешь? И где – не знаешь?
Молчу. Слушаю. Если не тихарь – почему так живо интересуется, так настойчиво советует? Если тихарь, то вынюхивать нечего – Ралдугин и так много знает. Выемки документов в комиссионных магазинах всё равно произведут. Чего им еще нужно?
А нужен был Богдашов, без него ничего не получалось. Им нужен был Толя Собинов. А он ни в чем не сознавался. Толя был директором комиссионного магазина в Уфе. Через его магазин и продавали аппаратуру в башкирские дворцы культуры. Музыкантов в Башкирии – тьма. Играть не на чем.
Во всех ДК– не инструменты, а дрова. За нашими «Маршаллами» – очередь.
Толю Собинова не смогли взять ни уговорами, ни угрозами. Его просто обманули. Ему пытались вменить взятки от нас с Богдашовым. Но фактов не было. А раз не было, то и преступной группы не получалось. Схема Ралдугина была такова.
Новиков с Богдашовым привозят в комиссионный магазин свою аппаратуру. Собинов как директор оценивает по завышенной цене. (Как будто кто-то знал ее заниженную или реальную цену!) Смотрит на заявки, поступившие от дворцов культуры. Сам им звонит. Они перечисляют деньги по безналичному расчету. Новиков с Богдашовым в кассе магазина получают наличные. Схема, в общем-то, правильная, но за одним исключением – Собинов взяток не брал. Единственный раз мы ему подарили четыре колеса для «Жигулей», кажется, на день рождения. А потому у следствия ничего не получалось.
Обманула его прокурорша. Бездарная, профнепригодная и подлая.
Говорила о детях, о семье. О том, что Новикова все равно расстреляют. Что ей нет никакого смысла остальных сажать. Наоборот – она хочет из этого дела Собинова исключить. Тем более он не местный, не свердловский. В камере держать его тоже смысла нет. Достала из сейфа паспорт, бумажник, часы, деньги, положила перед ним. После нескольких суток изолятора на Толю хлынул запах свободы.
– Ну, все, собирай вещи, поезжай в свою Уфу, к жене, к ребенку. Больше никогда с такими, как Новиков, не связывайся.
Собинов надел часы. Паспорт – в карман. Деньги – в карман. Свобода!
– Спасибо… Спасибо вам большое.
– Да не за что. Я же вижу, что ты другой человек, не из этой компании. Ты только, пожалуйста, протокол подпиши. Он нужен мне, на всякий случай – вдруг начальство спросит, почему я тебя отпускаю. Что я скажу?..
И Толя купился. Подписал, встал и с легким сердцем – к выходу.
– Ты куда, Собинов? – остановил его холодный и злой окрик прокурорши.
– Как – куда? Домой…
– Не-ет, домой тебе рано. Ты взяточник, ты должен сидеть.
Вошел конвой. Щелкнули наручники, и Толя поехал прямиком в тюрьму.
Это было несколько позже моего пребывания в камере № 2. К тому времени я в этой тюрьме уже сидел.
Шел третий день предварительного заключения. Ничего нового, только Ралдугин с каждым днем все злее. Уже начинает грозить и шантажировать арестом жены– мол, она обо всем знала, а значит, была соучастницей. Что касается детей, остававшихся без матери в случае ее ареста, так он об этом думать не обязан – пусть думают в райсобесе. После каждой угрозы вглядывается мне в глаза – как подействовало? Желание было одно – плюнуть в эту образину. Разбить башку чернильным прибором, затушить окурок между глаз. Нельзя. «Держись достойно…»
В обеденный перерыв сижу взаперти за миской баланды. Входит молодой парень в штатском. Закрывает за собой дверь, тихо говорит:
– Я тоже из опергруппы, но это не важно. У нас есть общие знакомые, вчера встречался кое с кем из них. Дома у тебя был обыск. Остальное – более-менее. Жену никто не арестует.
Кладет на стол сигареты и фотографии.
– Это просили тебе передать.
– Кто?
– Неважно.
Говорим еще несколько минут. О Богдашове нет никаких сведений. Если будет возможность, зайдет завтра. Из разговора узнаю, что по моему «делу» создана большая группа. Работает в Свердловске, Москве и Уфе. В группу входит наружка, прослушка, провокаторы, подсадные и прочие. Задача – любой ценой собрать материал большой и громкий. Находится на контроле высшего руководства МВД и идеологического отдела ЦК КПСС.
Парень уходит. Ситуация понятна.
Поздним вечером рассказываю обо всем сокамернику.
– Как ты думаешь, зачем он приходил?
– Да это засланный! Не вздумай ничего от него брать и не верь ни одному слову. Ничего через него не передавай.
Пермяков горячится, убеждает в ментовском коварстве, приводит примеры. Засыпаю все-таки при своем мнении. Считаю парня порядочным, не желающим брать общий грех на душу.
– Может, все-таки попробовать через него маляву домой передать?
– Ты что? Только через меня!
– Давай, ты по своей линии, он – по своей.
– А как ты узнаешь, через кого дошла? Головой думаешь? Тебе мент предлагает, и ты согласен. А я предлагаю – ты не хочешь.
– Ладно, напишу.
– Не сейчас. Утром перед проверкой напишешь. Ночью может быть шмон.
Встаю рано. Беру тетрадь, отворачиваюсь спиной к двери. Мелко, на узенькой полоске вывожу приветствие. Успокаиваю, как могу. Вру, что все не так страшно, что все обойдется. Еще какие-то житейские мелочи, ласковые слова… Полоска кончилась. Сворачиваю в тонкую трубочку – получается что-то вроде спички.
– Заклей в полиэтилен, – сонно советует Пермяков, – я чужие малявы не читаю.
Заворачиваю в клочок от полиэтиленового мешка, оплавляю края спичкой, протягиваю ему.
– Отдашь перед самым уходом, мало ли чего… Чтоб мне крайним не быть.
Голос коридорного за дверью:
– Новиков, готовься, на выход!..
Привычно собираюсь. Сую в рукопожатии записку. Лязгают ключи, взвизгивает дверь.
– Новиков, на коридор! Руки за спину.
Целый день допрос. Трудный, настырный. Шантаж, угрозы, полив грязью. В отношении моих знакомых то же самое.
– Они тебя уже давно сдали! Раскололись, а ты их выгораживаешь. Расскажи, и нет смысла тебя держать – пойдешь под расписку. Будешь упорствовать – пеняй на себя. Будете все сидеть на одной лавке!
Весь день в этом духе. В минуты самых сладких обещаний вспоминаю безымянного полковника и выполняю его напутствие. Про себя же все чаще думаю: скорей бы уже в тюрьму. Там хоть все понятно будет.
Допрос заканчивается затемно. Прямо из кабинета ведут в «воронок». Один наручник защелкнут на моей руке, другой – на руке конвойного. Еще один идет спереди, держась за кобуру.
«Воронок» совсем пустой, но почему-то опять заталкивают в стакан. Руки застегивают за спиной.
– Начальник, сними браслеты, все равно в клетке сижу.
– Не положено.
– Я что, особо опасный?
– Говорят, хуже! А-га-га-га!…
На следующий день Ралдугин вне себя. Орет, стучит кулаками по столу. Понимаю, что дело идет к развязке. Жду не столько обеда и передышки, сколько вчерашнего парня. Но он больше не появляется. Над шлюмкой казенного обеда терзаюсь в догадках: кто это был? зачем? можно ли было верить? почему исчез?
После трапезы – снова на допрос. Пришел какой-то хмырь в кожаном плаще и кожаной шляпе. Ралдугин знакомит: «Онищенко Олег Андреевич. Это будет ваш следователь».
Теперь допрашивают хором. Онищенко – добрый, пишет. Остальные – злые, орут и грозят. Особо усердствует кривоносый Шистеров. Он ростом самый маленький, потому изо всех сил старается казаться самым злющим. Но человек он не злой. Актер – никудышный. А потому выходит больше смешно. Разговоры о песнях закончились. Теперь только об аппаратуре. В дымном воздухе кабинета эхом летает слово «хищение».
Вечером еду в «воронке», до треска набитом разношерстным людом. Это собранные по районным судам. Кто-то уже осужден, кому-то предстоит ехать завтра. Прямой рейс в тюрьму. Персонального транспорта для меня не нашлось, а потому по чьему-то приказу заскочили за мной и, делая крюк, следуют в ИВС. Еду не в общей «хате», а как всегда в отдельной клетке с застегнутыми за спиной руками. Все жилое пространство – полметра на полметра, потому ноги втискиваются только по диагонали. Машину болтает из стороны в сторону. Бьюсь о стены плечами, иногда лбом и затылком. Ничего не поделаешь – инструкция. Прямо над головой маленькая решетка. В нее периодически по очереди заглядывают конвойные – «хоть посмотреть на Новикова».
В дежурке – обыск догола. Опять грохочущий бачками, дымный, вонючий коридор с осклизлым полом. Иду в сопровождении коридорного старшины с нехорошим предчувствием. Навстречу ведут арестованных.
– Новиков, стой!
Останавливаюсь. Сопровождающий орет на группу:
– Стоять! Лицом к стене! Глаза вниз! Не смотреть по сторонам!..
Группа распластывается по борту.
– Новиков, пошли.
Прохожу мимо. Все косятся исподлобья. Кто-то из них шепчет:
– Здорово, Санек… У тебя хата стремная, имей в виду.
– Молчать! Сейчас покажу «нестремную»!
– Санек, слышь, хата – кумовская… – снова шепчет стоящий у стены.
– Понял, – бросаю на ходу.
Подходим к моему жилищу. Коридорный распахивает дверь – влетаю пулей. В камере пусто.
– А где этот?
Старшина вглядывается в дальний конец коридора, озирается назад и лениво бросает:
– Увезли, наверное…
– Что, больше не вернется?
Он медленно затворяет дверь и произносит в щель:
– А зачем ему? Он свое дело сделал.
Ни грохота двери, ни лязга ключей я уже не слышал. Это был урок. Хороший урок.
Ночь напролет лежу на спине с закинутыми за голову руками. Мысли вертятся бешеной каруселью.
«…Эта тварь придет ко мне домой. Записка написана моим почерком. Ему поверят. Расскажет кучу небылиц. Попросит ответ. Дома ни о чем не подозревают. Вотрется в доверие к друзьям. Эх, тварь, тварь…»
На допрос еду с желанием бросить в лицо Ралдугину свидетельства его топорной работы. Изменить ничего не удастся, но хотя бы в качестве облегчения. Посреди его очередной тирады вставляю:
– Вы говорите и агитируете теми же словами, что и подсаженный ко мне тихарь Пермяков. Грубо вы работаете – он мне уже надоел, дайте другого.
Ралдугина передергивает, на миг отводит взгляд, старается не подать вида. Но чувствую – попал.
– Это ваши личные фантазии. Мы такими глупостями не занимаемся, – врет Ралдугин, краснеет и добавляет: – Может, кто-то из оперативников… Или другое ведомство. Но это не я. Не мы.
Карты розданы, масти вскрыты. После недолгих препирательств предъявляют обвинение. Читаю, подписываю.
– Когда в тюрьму?
– Чего вы так спешите? Нужно еще санкцию прокурора получить. Может, он ее не подпишет, хе-хе… После обеда обещал, подождем. Может быть, вас свозить к нему придется.
Возить не пришлось – санкцию выдали заочно.
Вслух зачитывают состряпанное Ралдугиным и Онищенко обвинение. Расписываюсь в указанных местах.
– Когда в тюрьму?
– Думаю, сегодня вечером. Но мы с вами не прощаемся, хе-хе…
Сразу же после процедуры – конвой. Не медля ни минуты, в наручники и – в ИВС.
– Рановато что-то вы сегодня вернулись, прям до обеда управились, – склабится дежурный по изолятору.
Шмон на этот раз дикий. Раздеться догола, руки за голову, присесть три раза… рот открыть, язык высунуть… язык – к небу… Сесть на лавку.
Сижу голышом, жду, пока одежду прощупают и переломают пополам сигареты.
– Одевайся. В камеру его.
Прихожу, падаю на доски. Ну, вот и все, вечером поедем.
«На тюрьму» – как здесь говорят.
С этими мыслями забываюсь. Возвращает на землю крик коридорного, бьющего ключами по двери. Бац… бац… бац…
– Новиков!.. Ты что, окочурился? Готовься с вещами на выход!
– Всегда готов, сука…
Запихиваю скарб в мешок. Разломанные сигареты превратились в табачную труху вперемешку с обрывками бумаги. Кручу «козью ножку» из газеты. Все уже по-настоящему, по-арестантски. Курю, тушу об пол.
– Выходи на коридор!
Ну что ж, прощай, камера-«двойка», еду на новое постояльство.
Ведут вниз, в «этапку», или как будет на местном наречии – «отстойник». Душегубка, битком набитая людьми. Грязный сырой пол, в углу гальюн, железные нары. Запах махорки, пота, мочи и клопомора. Все это в непроглядном дыму. Вместо окна – зарешеченный квадрат, с наружной стороны наглухо закрытый зонтом. Роль солнца выполняет лампочка в глубокой нише над дверью. Никто не сидит, все тусуются, бросив вещи на нары. Стоит галдеж. Ждем конвой. Меня никто не знает в лицо, поэтому молча брожу от окна к двери в общей массе. Комок подкатывает к горлу: вот, наконец, и я среди этой толпы, безликой и уже почти бесправной. Теперь и мне придется жить по одним с ними законам. Драться за место, рвать глотки, начинать биографию с нуля. Так, как все ее здесь начинают. А за что я здесь, в этом гадком дыму, в исчадии параши и в набитой небритыми, грязными и злыми людьми душегубке? У каждого своя беда и звериная жажда выжить. В тюрьме нет мелочей – любое брошенное слово – камень. Любая уступка – слабость. Любой испуг – дорога вниз.
Дверь распахивается беззубой пастью. На пороге офицер с толстенной стопой картонных папок. Позади еще несколько конвойных с собакой.
– Та-ак… Все заткнулись быстро!.. Называю фамилию, отвечать имя, отчество, статью. Выходить – руки за спину, бегом к машине.
Машина стоит в большом отдельном боксе-тамбуре.
– Первый пошел… Второй пошел…
Доходит до меня.
– Новиков!
– Александр Васильевич, 93-я, часть вторая…
– Выходи.
В камере наступает мертвая тишина. Головы сворачиваются в мою сторону. Сдергиваю со шконки мешок, иду к двери.
– Саня… Новиков… Так это ты? – выкрикивает какой– то мужичок, бросая под ноги самокрутку. – Мужики, это же Саня Новиков, который «Извозчика» поет!..
Камера ахает.
– Ты что раньше не сказал?..
– Вот козлы ебаные, человека ни за что закрыли!..
– Гражданин начальник, погоди, дай с таким человеком хоть в два слова переброситься!
Офицер улыбается. Конвойные таращатся из-за его спины.
– Хорош болтать! Новиков, не мути воду, хе-хе… Выходи быстрей, а то за тобой сейчас весь изолятор выломится!..
Через пять минут я в набитом до отказа «воронке». На этот раз – в «общей хате».
– Слушай команду конвоя! По дороге не курить, не орать, с конвойными не разговаривать. При попытке бегства или нападения оружие применяется без предупреждения. Ясно?
– Ясно. Поехали, начальник.
В тишине чей-то голос грустно добавляет:
– Поехали… домой.
В кузове темно. Курим в рукав. Со всех сторон вопросы: за что? как? по чьему указанию? Общий настрой «воронка» – антикоммунистическая маевка. Отвечать не очень хочется, но отвечаю. Любой ответ сопровождается комментариями «салона», сдобренными отборным матом в адрес коммунистов, ментов и кагэбэшников.
До тюрьмы езды не больше четверти часа. Перед воротами «воронок» пронзительно сигналит. Слышится звук отворяющихся створок, и мы въезжаем в глухой бетонный бокс. Мотор глохнет, наступает тишина.
– Встречай, тюрьма, – давно не виделись! – острит кто-то из темноты.
Глава 15 Тюрьма
Процедура выгрузки здесь та же, что и в изоляторе, только в обратном порядке и построже. Выдергивают по одному, входишь в тесный тамбур, дверь следом захлопывается. В маленькое зарешеченное окошко громко и ясно докладываешь свои данные. Дежурный тщательно сверяет, ставит в деле какие-то пометки, пишет номер камеры. Распределение закончено. Сбоку открывается кованая глухая дверь.
– Пошел… Следующий!..
Выхожу в большое помещение. Люди в форме, но уже без оружия, с нескрываемым любопытством разглядывают с головы до ног.
– Ох, клопомором-то как пахнет, – для поддержания разговора начинаю я.
– Это не клопомором, это тюрьмой пахнет! – ржет в ответ какой-то прапорщик. – По первой ходке, что ли?
Всеми командует майор с красной повязкой на рукаве.
– Новиков?
-Я.
– Головка от хуя!.. Имя, отчество, статья?..
Ну вот, еще одна мразь. Громко выкрикиваю прямо в его кокарду имя, отчество и статью.
– Та-а-к… Новикова в отдельную.
Ведут в бетонный бокс, похожий на пенал, размером метр на метр. Напротив двери замурованная в стены лавка – засиженная до блеска доска. В углу пустой бачок «под воду». Стены – «под шубу», мазанные желтой известью. Толстенная дверь с глазком и «кормушкой». Ни окон, ни отдушин.
Майор за дверью командует:
– Новикова после проверки на первый пост.
Плюхаюсь на лавку, откидываюсь спиной к стене. Где-
то беспрестанно хлопают двери. А здесь – тишина. С прибытием, Александр Васильевич!
Проходит час, другой. Над головой слышится шорох. Оборачиваюсь. Под самым потолком по стене ползет черное, циклопическое насекомое. Нечто среднее между черепахой и тараканом. Длиной с пачку сигарет. Если бы на воле сказали, что в тюрьме живут такие звери, ни один ботаник или энтомолог не поверил. Хороший сокамерник, ничего не скажешь, главное, неторопливый. Сколько ты уже отмотал? Гляжу на него и улыбаюсь. Хочется пить. Стучу в дверь.
– Гражданин начальник, в бачке воды нет…
– Скоро в камеру пойдешь, там будешь пить, пока не обоссышься!
Таракан опускается все ниже и ниже. Не боится – в тюрьме живность убивать нельзя. За исключением вшей, клопов и тараканов.
Этого не пришибли, видно, только из-за размеров – сочли не за насекомое, а за животное. В этом тоже горькая тюремная правда – выживает большой и сильный.
Отпирают дверь.
– Выходи на коридор. Пошли на шмон.
Иду в пустое гулкое помещение. Вдоль стен – лавки.
– Раздеться догола. Одежу разложить. Сам отходи в сторону.
Сижу голышом на скамье, жду, пока собака обнюхает и ощупает зубами все мое имущество.
– Ступень есть?., колеса?., мойки?., стары?., бабки?.. – спрашивает сопровождающий.
– Что?
– Заточки, говорю, таблетки, бритвы, карты, деньги? Непонятно, что ли?
– Понятно. Ничего этого нет.
– Собирай шмотки, пошли.
Идем по коридорам, переходам, выходим во внутренний двор.
– Шагай вперед. Сейчас на стрижку и в прожарку. Потом в баню. Получишь матрасовку, одеяло, кружку и – в камеру. Все понял?
Баня в дальнем конце двора, в отдельном корпусе. Сбоку высоченный забор, черные ворота. За воротами – купола церкви, что стоит посреди кладбища. Я бывал в ней не раз. Теперь же ее купола кажутся родными и сказочными.
– Сначала – стричься, – командует старшина.
Цирюльня – маленькая каморка без зеркал и одеколонов. Бетонный пол, в углу метла, сметать волосы. Судя по копнам, лежащим вдоль стены, – стригут быстро, часто и наголо. Посреди каморки стул. Парикмахер – улыбчивая женщина, похожая на больничную сестру-хозяйку.
– Красивые волосы, но что поделаешь… Не расстраивайся, на свободе новые отрастут. Давай голову вниз наклоняй. Это недолго, хе-хе.
Сижу на табуретке, гляжу в пол между ног. Жужжит машинка. От затылка ко лбу… От лба – к затылку… От уха – до уха… Меж ботинок падают хлопья. Никогда не думал, что они такого цвета. Длинные, каштановые с отливом. Были модной прической и вот – на бетонном тюремном полу, сиротливой горкой. Как пакля.
– Красив? – криво улыбаясь, спрашиваю у тетки.
– А то!
В дверях сопит старшина. В «прожарочной» – опять догола. Тряпки – в железный короб и – в адскую машину. Старшина выдает четвертушку хозяйственного мыла с дустом, и я голышом зашагиваю через скользкий порог бани.
Железная дверь с потным глазком гулко хлопает и оставляет наедине с пачкой цинковых тазов. Осклизлый каменный пол, серые сопливые стены, тусклая лампочка в нише – тюремные «сандуны».
– На помывку – пятнадцать минут, – сквозь дверь командует начальник.
– А что так мало? Я в изоляторе пять дней валялся…
– Дома будешь кайфовать. А здесь слушай, что говорят! После водных процедур получаю из прожарки одежду.
Еще пышет и пахнет горелой шерстью, дымом пластмассы и жареными ботинками. Следом– обещанную матра– совку – ветхий тряпичный мешок. Затертое до состояния половой тряпки короткое, непонятного колера одеяло. Возможно, в него заворачивался сам Свердлов, до революции здесь бывавший. Алюминиевую кружку, прокопченную и гофрированную, будто ее погрыз бурый медведь. Штопанную, пропитанную хлоркой простыню размером с полотенце и наволочку свеже-земляного цвета. Закидываю мешок за спину. Пошли.
Спецкорпус– белое, старинной постройки здание в четыре этажа. Окна камер – внутрь двора. Почти все закрыты зонтами и заварены многослойными решетками. Поднимаемся по лестнице на третий этаж. Железная дверь. Охранник открывает.
– Налево. До конца коридора. У 38-й остановиться. Иду в самый конец, до тупика. В открытые кормушки
глазеет народ.
– Откуда, земляк?.. Из какого города?..
Несколько камер по правую сторону – женские. Иду медленно. В кормушках любопытные женские лица сменяют друг друга.
– Как зовут?.. В какую камеру?..
Охранник поспешает следом.
– А ну хорош базлать, крысы! Сейчас все захлопну, будете опять жабрами дышать!
В камерах душно. Открытая кормушка – привилегия и милость коридорного.
В самом тупике слева – моя, 38-я. Низенькая, синего цвета, облезлая дверь. Глазок, прикрытый шторкой, накладной замок и огромный засов.
Охранник распахивает ее настежь.
– Заходи быстро.
Передо мной тесная, дымная каморка. Напротив двери, под зарешеченным окном, двухъярусный шконарь, от стенки до стенки. Справа– еще один, одноярусный, обычный. Ширина жилища – ровно в длину шконаря. От двери до окна – четыре метра. Навстречу мне поднимаются двое. Втаскиваю мешок через порог.
– Здорово, мужики.
Поднимаю глаза. Передо мной стоит старый знакомый по ресторану Терняк Виктор Нахимович. Его глаза выкатываются от удивления.
– Здорово, Саня… Ты как здесь оказался?
– Почти так же, как и ты, благодаря тем же самым людям.
– Это Петруха, – знакомит меня с сокамерником.
Садимся говорить, курить и вспоминать. Оба здесь
давно, и любая новость с воли, любой рассказ о ней – глоток чистого воздуха. Поэтому говорю больше я. Про арест, про слежку, про Ралдугина и, конечно, про пять суток бок о бок с Пермяковым.
– Со мной в ИВСе был один, из вашей камеры. Рассказывал, будто бы здесь несколько месяцев сидел. Неделю назад его от вас забрали зачем-то.
– Да, точно, был. Только его не на днях, а уж месяц как забрали. И был он здесь всего недели две. Мы его, суку, выкупили с Петрухой, поздновато, правда. Тихарь был, гадюка подсадная, фамилия его – Яблонский. Вовремя его увезли, а то бы удавили!
– У того фамилия Пермяков была.
– Пермяков? Опиши его.
Описываю подробно. Вспоминаю его рассказы о тюрьме, о камере, о его валютной статье. Все приметы до мелочей. Оба молча слушают. Терняк беспрестанно курит, подпаливая новую сигарету от окурка.
– Вот что, Саня, никакой это не Пермяков. Это Яблонский Александр Юрьевич, 1959 года рождения, статья 88 УК РСФСР. Подсадная тварь. После него в этой камере никого, кроме нас с Петрухой, не было. Через него ничего не передавал?
– Маляву одну. Домой.
– Ой-ей… Твоя малява уже давно приобщена к делу. А Яблонский наверняка в той же камере со следующим пассажиром. Под новой фамилией. Сюда, в тюрьму, под чужой фамилией не заедешь. А туда, в ИВС – можно: там ралдугинское ведомство – что хотят, то и делают. Ну, ладно, располагайся. Ты длинный, ложись на одноярусную – на ней хоть ноги можно вытянуть. А эти что – от стенки до стенки.
Раскладываю мешок, оглядываю камеру. Как можно в таком маленьком каменном мешке жить по полгода, по году? Чуть больше кухоньки в «хрущевке».
Слева у двери гальюн образца 1917 года, завешанный грязной простыней, по-тюремному – «шторкой». По центру замурованная в стенку металлическая пластина на подпорках – стол, то есть – «платформа». Над столом две деревянные полки, что-то вроде продуктового шкафа. В нем кружки, ложки, хлеб, сигареты. Иногда, если случится передача, – сахар и конфеты. По-тюрем– ному – «телевизор». Кусок сала или колбасы, если таковые имеются, – в полиэтиленовом мешке, между решеток – в «холодильнике».
В камере – общак, все – поровну.
Болтаем до поздней ночи. Петруха в пустом углу, чтоб не увидели в глазок, кипятит воду в черной от сажи алюминиевой кружке. В качестве топлива– свернутая в длинный конус газета. Ручка кружки согнута так, чтобы можно было держать ее над огнем ложкой. Дым газеты выедает глаза. Решетка закрыта куском одеяла – тепла в камере немного, поэтому воздух с улицы пускают по надобности.
Стена толстая, больше метра. Решеток – четыре, поставлены вглубь с интервалом в двадцать–тридцать сантиметров.
Снаружи – под наклоном железный зонт. Но если лечь на верхний шконарь на бок и глядеть вверх через все решетки, виден квадратик неба. Верх зонта не заварен, для того чтобы поступал воздух. Стекол нет, вместо них – кусок старого одеяла – «форточка». Ниже, под окном, вровень с первым ярусом шконаря проходит чуть теплая труба. Она греет и создает хоть какой-то уют, поэтому первый ярус – самое козырное место. Там на правах старожила спит Виктор Нахимович. Петруха теперь над ним, прямо у «решки». Прохладней, но зато свежей.
Открываем «форточку». Газета догорает, больше газет нет. Вода все не кипит.
– Нахимыч, давай одеяло.
Терняк достает из-под матраса клок одеяла, с треском отрывает полоску и мигом сворачивает в конусную свечку– «факел». Свернутый в такую форму, он горит медленно, экономно и с максимальной отдачей. На воле ни за что бы не додумался.
– Все… Гаси.
Терняк выхватывает из рук Петрухи «факел» и гасит под краном. Сбивает отгоревшую, обугленную часть, разворачивает и кладет под матрас.
– Если менты на шмоне обгорелый край увидят, могут в трюм посадить. А так – портянки. Портянки не отнимают. А вот кружки надо сразу чистить, – поучает он меня.
– А когда эта тряпка кончится, тогда что жечь? – интересуюсь я на всякий случай. – Так ведь и до своего одеяла дойдешь…
– На то она и тюрьма, чтобы рогами шевелить. Петруха, расскажи новичку, где мы дрова берем, хе-хе.
– Раз в неделю водят в баню. Берем с собой все одеяла и эту драную половину. Сдаем в прожарку на пересчет. Обрывок тоже считается за единицу. На выходе получаем другие, тоже на пересчет, только целые. Одно одеяло в камере всегда есть лишнее. Им и топят. На неделю хватает.
– Откуда лишнее?
– Человек, когда на этап уходит, оставляет. Тебе тоже придется, это в тюрьме – закон.
Между чаем с пряником и сигаретами «Прима» знакомлюсь с особенностями местного быта. Почти как в фильме «Джентльмены удачи»: хороший коридорный – «попкарь». Плохой – «хуйло». Звонок – «фуганок». Фуганок, потому что по-тюремному сдающий, предающий или вопящий о помощи называется «фуцман». Броситься на звонок и в случае конфликта звать коридорного – «фугануть». Отсюда и название. Такой же глубинный смысл и у других. Швабра – «гитара». Заначка – «курок». Ложка – «весло». Решетка – «решка». Пол – «палуба». Унитаз – «светланка». На воле не запоминается, а в тюрьме – легко за один вечер.
…Ботинки – «коцы». Штаны – «шкеры». Рубашка – «шаронка». Пиджак – «лепень». Сапоги – «прохоря». Носовой платок – «марочка». Карты – «стиры». Грязный, неумытый, глупый мужичок – «черт». Место под шкона– рем – «шахта». Самая низшая градация «черта» – «шахтер». Ниже уже только «дырявый», «петух», «обиженник» или просто и ясно – «пидор».
Знакомство с языком проходит легко и естественно. Не в виде экзамена или урока, а просто потому, что Нахимыч с Петрухой говорят на нем уже давно и непринужденно. Оттого и мне все понятно.
…Пьяница – «кодцырь». Девушка – «бикса». Передача – «дачка». Нелегальная передача – «грев». Обман – «фуфло». Брага – «сапогуха». Лампочка – «солнце». Зубы – «цанги». Руки – «царги». 1лаза – «шнифты». Ноги – «ходули». Уши – «лопухи»…
Очень понятно и содержательно.
Рассказываю о вольной жизни, про общих знакомых, про ресторан, в котором ни я, ни Нахимыч уже давно не работаем. За последние годы он открыл в городе еще несколько. Все они считались лучшими и самыми модными. Рассказываю про них и еще про что-то, от чего у Нахимыча на глазах слезы. И ему, и Петрухе, и мне становится теплей. Стены тюрьмы расходятся, и мы вместе с дымом мыслями улетаем каждый к своему дому. А в нем так хорошо, так легко и не тревожно. Минует полночь. Расселяемся по шконарям: они – по привычке, с маленькой радостью еще одного перечеркнутого крестиком дня, я – с чувством грустного новоселья.
…Волосы – «грива». Голова – «жбан». Наколки – «пор– тачки». Симуляция – «мастырка». Сошел с ума– «погнал». Притворился – «закосил». Покончил с собой – «актировался». Умер – «крякнул»… И только мама везде, даже здесь, – «мама».
Утро возвестило о своем наступлении грохотом поочередно открывающихся дверей. Дошло до нашей.
– Стройся! Дежурный, докладывай.
Все трое встаем в ряд.
– Гражданин начальник! Камера в составе трех человек к вашему приходу построена. Дежурный по камере подследственный Терняк.
Майор с красной повязкой на рукаве переступает порог, окидывает глазами камеру, потолок, решетку и безразличным тоном повторяет:
– Тридцать восьмая… Трое.
Делает пометку в журнале и выходит. Сопровождающий старшина с силой захлопывает дверь.
– Это что, как в армии? – спрашиваю у Терняка.
– Хуже. Не дай бог не успел вскочить со шконаря. Могут запросто пять суток дать.
– А кто дежурного назначает?
– Сами. Здесь в маленьких камерах дежурным быть не западло.
– А в больших?
– В больших всегда – «черти». Или «петухи».
Через час завтрак. Открывается кормушка, просовывается рожа баландера. Драматично и спешно спрашивает:
– Новиков есть?
– Есть, есть…
– Ему малява.
На пол падает плотно скрученная, заплавленная в полиэтилен записка с надписью – «Х-38. Новикову».
– Эй, баланда, больше никому нет? – бросается к кормушке Петруха.
– Нет, нет… Держи шлюмак.
– Передай это в 26-ю хату, – сует что-то в руку баландера Петруха.
– Подожди, не сейчас… Возьму, когда посуду собирать буду.
Диалог прерывает крик «попкаря» из глубины коридора:
– Эй, чего там распизделись! Давай корми наскоряк, а то сейчас черпаком вдоль хребтины охуячу!
Содержание реплики понятно – «кормушка» с грохотом захлопывается.
Присланную маляву читаем вслух и вместе – послание из женской «хаты», веселое по содержанию, с предложением дальнейшей переписки.
– Здесь, если ни с кем не переписываться, с тоски сдохнешь. А так и время летит быстрее, и хоть ждешь чего-то. От завтрака до обеда. От обеда до ужина. Глядишь – и день прошел, – поясняет Терняк, – главное, по делу не писать – может спалиться или баландер сдать. А так, пургу мети… Их это не интересует. Но за тобой, Новик, будут глядеть во все шнифты, поэтому пиши про любовь, хе-хе. Бедным бабам здесь без этого – вообще тоска.
Над нами, этажом выше – тюремная больница. Палаты – камеры, набитые битком. Есть все – от симулянта до сифилитика. Нам повезло больше других: над нами – женская. Вечером, когда стихает шум, можно, ударив кружкой по толстенной канализационной трубе, пригласить даму для разговора. Говорить надо в кружку, припечатав дно к этой самой трубе. В нее же слушать, повернув обратной стороной, дном к уху. В общем, тюремный телефон. Главный телефонист – Петруха. Содержание разговора ни одному проводу не вынести – только этой, видавшей виды, бесстыжей черной трубе. Кроме всего, от нашей решетки наверх ходит «конь» – еще один вид почтовой связи и мелкой продуктовой доставки. Один «конь» – наверх. Другой – на соседний корпус. Третий – на камеры нашего этажа. Изобретение простое и по– своему гениальное.
«Конь» – это витая капроновая нить, закольцованная на прутьях решеток сообщающихся камер. Что-то вроде велосипедной цепи, только огромной длины. Капроновая нить – распущенные носки из синтетики. В нижнюю камеру «навести коня» довольно просто. Для этого опускаешь один конец, его подхватывают, перекидывают через прут. Опускаешь отдельную нить. Конец подвязывают к ней. Затягиваешь его наверх, перекидываешь так же через прут, связываешь. Получается кольцо. Привязываешь маляву, пачку сигарет, спички, что-то нетяжелое из еды. Перебираешь нить– «конь» поехал вниз. Внизу отвязывают, если понадобится, могут послать что-то взамен. Если руки до крайней решетки не достают, для этого есть «кочерга» – плотно свернутая в трубку газета, загнутая на конце как трость. Газету перед скруткой мажут разведенным в миске черным хлебом. Схватывается насмерть. Ею принимают, ею и выталкивают груз за решетку.
«Конь» на соседний корпус – это сложнее. Но в тюрьме ничего невозможного нет. Изобретение многовекового коллективного разума еще более гениально в своей простоте.
Из газеты по той же технологии скатывается плотная, очень ровная длинная трость толщиной с мизинец. Высушивается, мажется маргарином и закатывается в другую газету, каждый виток которой пропитывается хлебной болтушкой. После этого штырь вытаскивается, и получается трубка. Далее делается стрела – тонкий легкий конус. К нему привязывается конец аккуратно свернутой в бухту нити. Длина бухты – метров двадцать–тридцать. «Стрелок» садится на верхний ярус и попытка за попыткой стреляет в решетку камеры соседнего корпуса, о чем ее обитатели заранее оповещены и ждут точного попадания. Делается это ночью, когда по двору тюрьмы охрана уже не слоняется. Попавшая в цель стрела застревает в решетке. Ура! Первая часть выполнена. Нить затягивают в камеру, перехлестывают ее через прут решетки и «отстреливают» назад. Если попытка не удалась, терпеливо и аккуратно сматывают, и – все сначала. Иногда на это уходит целая ночь. Если в одну ночь не удалось, повторяют в следующую. Наконец «велосипед» готов. Днем его практически не видно. С наступлением сумерек по нему идет почта, сало, колбаса, табак. Простой обмен – кому что нужнее. Охрана периодически обрывает «дорогу» баграми, но через два-три дня все возвращается на круги своя. Раз в десять дней в камерах повальный шмон. Приходится, заслышав топот сапог и грохот дверей, рубить концы самостоятельно, «кочергу» и трубку ломать и топить в гальюне. А на следующий день поднимать базар о том, что, мол, получили не все положенные по конституции газеты, и грозить жалобами прокурору. Обычно после этого в обед открывается кормушка, и в камеру влетает пачка «Правды», «Известий» или «Советской России» с пожеланием:
– Нате, суки, зачитайтесь!..
После утренней каши за мной приходят.
– Новиков!.. Без вещей на выход.
На пороге улыбчивая, молодая женщина в погонах рядового.
– Валька. Хорошая тетка, – шепчет Терняк, – на отпечатки и на следствие водит.
Идем через коридоры, лестничные пролеты в другой корпус.
– Куда ведете, не на расстрел?
– Рано. Сначала сфотографируем.
Фотостудия – помещение камерного типа со стоящим в центре треногим аппаратом и кашляющим фотографом.
– Сидеть, не шевелиться, глядеть прямо в объектив. По команде повернуться в профиль.
Снимок, вероятно, очень удался. Судя по тому, сколько раз конвоиры и работники тюрьмы его обрывали с личного дела, фотограф уловил главное– великую разницу между внешностью вольного и подневольного. Перефотографироваться пришлось без счету раз, а растиражированные и увеличенные снимки моей лысой физиономии пользовались большим спросом на Арбате.
Вошел какой-то старшина.
– Ну что, Новиков, пойдем на пианино играть? На воле играл? У нас тут лучше, хе-хе… Такие пианисты бывают – у-ух… Пошли за мной.
Отпечатки пальцев снимают неторопливо и тщательно. Палец держат двумя руками, прижимают к доске, обмазанной черной липкой краской. Покатывают как сосиску, затем плотно прислоняют к бумажному листу, в место, очерченное квадратиком. Под каждым – наименование пальца и руки. Документ подписывают и подшивают к делу, после чего дают кусок мыла с дустом.
– Отмывай. На сегодня все.
На обратном пути пытаюсь что-то спросить у конвоира Вали.
– Не разговаривать, а то ключами как дам по башке!
Женщина, безусловно, добрая – только пообещала. А ключи – величиной с гаечные.
Наша камера по отношению к другим имеет очевидное географическое и техническое преимущество – находится в тупике, в самом конце коридора, а потому любые приближающиеся шаги слышно издалека. Внизу, во дворе – тоже тупик. Поэтому охрана под окнами показывается редко. Кроме того, не в каждой камере решетка и зонт позволяет «навести коня», основная задача которого – доставка переписки между подельниками, содержащимися в интересах следствия в строгой изоляции, в разных корпусах. Но почта и телеграф работали, и за несколько дней можно было отыскать друг друга. Через нашу камеру проходил «Великий почтовый путь» спецкорпуса. Первый почтальон – баланд ер. Второй – Петруха на «верхотуре». Потом через соседний корпус – в следующий. И так далее, пока не попадет к адресату или к операм. Часть маляв пропадала или падала подобно птицам, на дальнем перелете. Но что-то доходило, а потому всегда была надежда.
После обеда опять пришла добрая Валя. Улыбаясь и постукивая циклопическими ключами, возвестила:
– Новиков… Без вещей. В санчасть.
– Попроси колес, сонников попроси… Скажи, спать не можешь, – в самое ухо шепчет Нахимыч.
– Этаминалу натрия попроси, – шепчет в другое Петруха.
Врач – милый молодой дядя в белом халате поверх формы.
– Венерическими болезнями не болен?
– Нет.
– Какими болел? Жалобы на что-то есть?
– Есть. Сплю плохо…
– Туберкулезом не болел?
– Нет.
– Сифилисом, желтухой?
– Нет. Все нормально. Только спать не могу.
– Колес надо? Так и скажи, мол, надо колес, хотим в камере раскумариться. Правильно я говорю?
– Не совсем.
Доктор слушает сердце, легкие, смотрит в горло и делает заключение:
– Здоров. Раз хочется кайфовать – значит, здоров.
Склоняется над журналом и что-то размашисто пишет.
– За что попал-то?
– За песни.
– Погоди, так ты тот самый? Так остригли, что и не поймешь.
– Тот самый.
– А-а-а… А я-то думаю, чем на обычного не похож? Песни знаю, очень нравятся. Чай будешь?
– Ради такого случая.
Через полчаса беседы вызывает Валю.
– Что, говоришь, спишь плохо? На вот, никому не показывай, – сует мне в кулак упаковку из нескольких таблеток, – если вдруг заболеешь или мало ли чего – просись на прием в санчасть. Скажешь, доктор так велел.
Помня нрав конвоирши, обратно иду молча. Неожиданно в спину:
– Ну что, какую болезнь нашли?
– Сифилис и бешенство.
– Сейчас как дам ключами по башке!..
Вечером, после проверки, «раскумариваемся». Все трофейные таблетки – на полкружки кипятка. Пьем по кругу.
– Не-е, с шести таблеток приход не поймаешь, – глубокомысленно заключает с верхнего шконаря Петруха. И все проваливаемся в сон.
Утром из решеток соседнего корпуса крик:
– Эй, на спецу!.. У нас шмон! Сейчас к вам идут, «коня» рубите!
Рвем концы, ломаем кочергу. Ступень – в ножку кровати. Бритву – в хлеб. Иглу – в маргарин. Малявы, полученные с утренней баландой, – на огонь и – в раковину.
Грохот сапог приближается.
Распахивается дверь. Полный коридор людей в форме. Некоторые камеры открыты – шмонают по нескольку одновременно.
– Выходи на коридор! Лицом к стене! С собой ничего не брать!
Взвод врывается в нашу каморку и начинает, разбрасывая, переворачивая и распинывая ногами, «проводить плановый досмотр».
– Предлагается выдать запрещенные предметы добровольно. Если что-то найдем – все пойдете в карцер, – де– журно врет майор. Все знают, что коллективные наказания запрещены, а если чего и найдут – так это «осталось от прежних постояльцев».
Подушки рвут, вату вытряхивают на пол.
Матрасы протаптывают ногами так, будто в каком-то спрятан железный лом. Один запрыгивает на решетку, сдирает с нее кусок одеяла. Рвут занавески, выворачивают мешки с пожитками. А мы – лицом к стене, чтоб ничего этого не могли видеть.
– В камеру, быстро! – орет прапор.
Лязгают засовы. Вот мы и дома.
– Не, ну посмотри, какие пидорасы, – сокрушается, собирая вещи, Терняк, – мундштук спиздили!
– И три пачки «Опала».
– Хорошо, что ты, Александр, в кроссовках на коридор выпулился, а то бы больше их не увидел. Вот крысы! – продолжает Нахимыч.
Мои белые, супермодные кроссовки «Адидас», в которых я въехал в тюрьму, приковывали к себе взгляды охраны, заключенных и, кажется, даже собак. Это была несказанно крутая и дефицитная по тем временам вещь. Можно сказать – уровень жизни, достатка и положения. Как сегодня, например, – «Бентли».
– Эй, крысы, мундштук отдайте! – колотит в дверь Петруха. – Мундштук отдайте, сигареты, отдайте, крысы-ы!..
– Сейчас, бля, дам тебе кожаный мундштук, заебешься раскуривать! – отвечает голос из-за двери под ржание еще нескольких глоток.
Глава 16 Полосатики
Несколько дней проходит без допросов. Начинаю потихоньку приживаться на новом месте. Сообща обсуждаем неожиданное затишье. Терняк, как всегда, предполагает худшее:
– Скорее всего, подельников арестовали. Сейчас с ними возятся. А может, обыски, квартиры шмонают…
Допоздна не могу уснуть. Часов в камере иметь не положено. Но репродуктор затыкается в десять, значит, уже далеко за полночь. По коридору шаги в нашу сторону. Коридорный бьет ключом по двери:
– Новиков, без вещей!
– Раз без вещей, значит, на допрос, – сонно ворчит Петруха.
Вскакиваю, собираюсь. Сигареты, спички – в карман.
Отворяется дверь, на пороге – сонный «попкарь».
– Выходи. Руки за спину.
– Сколько времени?
– Полпятого.
– Куда в такую рань?
– На танцы. По коридору идти – не пиздеть. Пошли.
Идем по лестницам вниз, через двор, в другое здание. Место уже знакомое – сюда прибыл несколько дней назад. Большой, широкий коридор, по бокам – двери «боксов» и небольших камер–«отстойников». Непрерывно приводят арестантов и распихивают по ним. Стою у стены, жду своей очереди.
– Новикова отдельно, – командует майор с повязкой.
Ведут в такой же бокс, что и с тараканом.
Через два часа грохот баланды – завтрак. В кормушку рука просовывает полбуханки хлеба, миску перловой каши и маленький алюминиевый черпачок – подобие ложки. Следом – другая рука с мерником-наперстком.
– Подставляй пайку или шлюмак.
Подставляю шлюмак. Из наперстка плюхается чайная ложка сахара, и кормушка захлопывается.
Значит, время семь утра.
Каша – гадость редкая, но другой не будет. Ем, черпая казенным «веслом», ножка которого до того коротка, что пальцы окунаются в кашу. Через час опять грохот засовов – проверка. По гулкому коридору обрывки фраз и гавкающие голоса:
– Встаем, хорош кумарить!.. Отвечаем имя, фамилию, статью! Из камер не выходить!
Открывают мою. Выкрикивают фамилию.
Отвечаю, как положено.
– Нехуево ты здесь устроился, один сидишь, кайфуешь!.. – юродствует майор, рисуясь перед двумя рядовыми. – Может, песню какую про тюрьму сочинишь, а-га-га!
После этих двух часов относительной тишины слышится лай собак – прибыл конвой. Народ начинают выгонять на шмон. Меня – со всеми вместе. Начальник конвоя – злющий, орущий и дико матерящийся старший прапорщик по фамилии Зас. Шмонает лично, издеваясь и поминутно всех оскорбляя.
– Сегодня не повезло, сегодня этот пидор Зас, – тихо говорит кто-то рядом, – ничего обратно пронести не даст.
Тем, кто едет на суд, что-нибудь да и передадут родственники. Обычно конвойные закрывают на это глаза или за две-три пачки сигарет разрешают взять что-то из еды в камеру. Но только не при этом начальнике.
Народ нехотя скидывает одежду, выполняя команду: «Раздеться догола!» Влетает Зас.
– Хуля блядь, суки ебаные, ни хуя не шевелитесь?! Давай короче, а то собак сейчас натравлю, чтоб вам яйца поотгрызли! Не ясно, что ли, сказал?!
Процедура ускоряется не намного.
– По одному, блядь, ко мне! Приседаем, ебана в рот, три раза! Ягодицы раздвинуть! Пасть раскрыть, блядь, язык к небу! После этого быстро одеваться и – к другой стене! Пошли!
Я в середине очереди. Спешить на обыск к такому начальнику конвоя не очень хочется. Смотрю за процедурой. Арестантов много, времени в обрез, поэтому в стороне начинают шмонать еще двое конвойных. Эти – не так злобно и дотошно, поэтому пытаюсь попасть к ним.
– Эй, длинный, а ты хуля там, блядь, ебана в рот, мнешься, давай иди сюда!
– Я не мнусь, а дожидаюсь очереди, – зло огрызаюсь я.
– Ах, блядь, очереди?!. А ну давай в сторону, шмотье на отдельный стол! – заорал он диким голосом, посинев от натуги.
Все обернулись.
– Ты, Новиков, не выебывайся, делай, что говорят, – раздается из-за спины голос майора с повязкой.
Голышом иду к отдельной лавке. Бросаю вещи. Со злобной мордой подлетает Зас.
– Я сейчас, блядь, рапорт напишу, что шмон задерживаешь, получишь, ебана в глаз, пятнадцать суток! Присядай три раза!
Выполняю команду.
– Рот открыть!
Открываю рот.
– Хуля ты его там наверху открываешь, мне снизу ни хуя не видно! Присядь!
Вопящее существо ростом чуть выше моего пупа, поэтому ему не видно. Приседаю. Вокруг вертится собака.
– Кругом! Одевайся!
Грузят по воронкам, поехали. Слава богу, начальник конвоя в другой машине. Закуриваем сигарету, пускаем по кругу. В кузове темно.
– Ты смотри, сука, доебался как до человека… – начинает кто-то разговор.
– Этого пидора на воле сколько раз уже пытались замочить. Никак не могут – везучий, падла.
Обитателей и попутчиков сегодняшнего рейса развозят по судам. Меня – на допрос в управление. Целый день – для протокола. Обещают со следующей недели никуда не возить, допрашивать в тюрьме.
– Буду теперь часто ходить в гости, – прощается следователь Онищенко.
– Милости просим.
Весь день ничего нового. Вечером возвращаюсь в тюрьму уже в другой компании. Кому-то дали срок, у кого-то отложилось до завтра. Народ обсуждает приговоры и думает, как при таком конвое пронести в камеры еду и сигареты. У меня ничего нет, поэтому иду спокойно. Думаю о том, что пусть допросы хоть каждый день, но без таких вот выездов.
Опять сортируют по камерам. Стоим вдоль стены, ждем переклички. Вбегает майор.
– Всем в сторону! Отошли к стене!
Повернувшись, орет кому-то:
– Заносите!
В двери протискиваются двое рядовых с носилками. На них сидит, держась руками за коленки, мужик с «пересиженным лицом» в полосатой робе. Штаны высоко закатаны. От колен до щиколоток– бинты с кровавыми пятнами. Проносят мимо нас и ставят перед выходом из корпуса. «Полосатик», глядя перед собой, монотонно, хриплым голосом материт все на свете и качается взад– вперед, хватаясь за щиколотки.
– Прострелили копыта, суки ебаные… петухи кашкарские… м-м-м…
Конвойные молча стоят рядом.
Между стоящими у стенки шепот:
– В побег, что ли, шел?
– У нас подстрелили или привезли?
– Наверное, где-то на этапе.
Полосатик поворачивается к нам одной головой.
– Ну что, желторотики, смотрите, полосатой робы не видели? Подогрейте хоть децл – на больничку везут.
Народ зашарил по котомкам, доставая кто что может.
Конвойный останавливает:
– Белиско не падхады!
Полосатик задирает голову на конвоира.
– Хуля ты, чурка ебаный, – «не падхады!» Поднеси тогда сам к мужикам. Люди подогреть хотят, а ты… Ни хуя, что копыта заломаны, сейчас вскочу, нос тебе, сука, откушу! Поднеси, поднеси, пару пачек-то дам.
Конвойные озираются. Майора нет.
– Па аднаму падхады, толка быстра!
В носилки летят сигареты, конфеты, спички.
– Благодарю…
Полосатик выбирает несколько пачек с фильтром и сует солдатам. Те спешно прячут по карманам и за пазухой.
Любопытные пытаются задавать вопросы: откуда?., что случилось?., куда везут?.. Через длинную паузу всего один ответ:
– Эх, мужики… Зря вы, бля буду, сюда заехали. На хуй она вам эта тюрьма!
Выходят еще несколько солдат. Открывают дверь, конвойные хватают носилки. Пошли.
– Благодарю, мужики, – грустно и хрипло урчит полосатик. – Давай, начальник, кантуй, в натуре, помягче – не дрова везешь…
Всех быстро разводят по «отстойникам». Остаюсь один – мой «стакан» занят. Ищут куда меня определить. Сидеть придется до вечерней проверки – это часа четыре– пять.
Какой-то старшина спрашивает у майора:
– Куда этого?
Тот перебирает папки с личными делами.
– Закрой пока в «девятку». Сейчас этап отправим, что-нибудь освободится.
– Может, в общую?
– В общую нельзя – в деле предписание.
Ведут куда-то дальше. Коридорный с силой открывает дверь, хлопая ею себе по груди. Камеры ему не видно.
– Заходи быстро.
Шарахает дверью мне в спину, вбивая внутрь. От представшей картины на миг теряю дар речи. Вонючая, сырая, дымная душегубка. Напротив двери, на возвышении, гальюн. На полу не то вода, не то моча. В камере четыре полосатика. Двое сидят на лавке в глубине. Один стоит на четвереньках со спущенными штанами, упершись одной рукой в возвышение, другой рукой держит пол буханки хлеба и, отрывая кусками, жадно ест. Глотает, почти не жуя. Сзади к нему пристроился четвертый. Больше всего шокирует не это. А то, что ест, не обращая ни на что ни малейшего внимания. С хлопком двери он поднимает на меня глаза и задирает рожу мертвенно-бледного цвета, всю в синяках. Сам худой, как скелет. Тот, что сзади, бьет его по хребту. Опущенный вскакивает, натягивая полосатые штаны. Его качает, он неестественно оборачивается вокруг себя, падает и отползает под лавку.
– Здорово, мужики.
– Вот ни хуя себе!.. – ржут двое в углу. – Ты как сюда попал, парень?
Поворачивается к соседу и уже серьезно говорит:
– Нет, ты посмотри… В натуре, на этой тюрьме все перееблось – первоходов к полосатым сажают!
– В натуре, бля буду…
– Щас очухаются, прибегут за тобой – попкарь, по ходу, хаты перепутал. Присаживайся, покури. Ну-ка, Зинка, прижми копыта!
Присаживаюсь рядом. Прямо подо мной, под лавкой, опущенный «Зинка». Лежа на боку, доедает хлеб, держа крепко двумя руками. На вид ему лет пятьдесят.
– За пайку чего хошь изладит, – тычет пальцем вниз мой сосед по лавке и с силой бьет пяткой Зинку в лицо.
Закуриваю, пытаюсь понять, почему запихнули сюда. Выяснять нельзя, выходить нельзя, виду подавать тоже.
– Как зовут?
– Александр.
– Кем по жизни на воле был?
– Музыкант.
– За что попал?
– За песни.
– Ты не Новиков?
– Новиков.
– Вот, ни хуя себе! Вот, в натуре, земля – матушка тесная!
На душе становится легче.
– Ну-ка, пошла на хуй, крыса! – пинком выбивает из– под лавки Зинку третий. – Иди на парашу!
– Меня Колян зовут, – протягивает руку тот, что сидит рядом.
Двое садятся напротив на корточки.
– Макуха.
– Вовка Седой.
Коляну за пятьдесят. Эти двое чуть моложе. Все трое в новой полосатой форме.
– Этапом на Гари идем с Владимирской области. Здесь у вас пересылка, пару дней перекантуют и дальше.
Завязывается разговор. В камере несносный запах и ощущение обволакивающей мерзости. Кроме меня, на это никто не обращает внимания. Про себя жду, когда за мной придут. Мое пребывание вместе с полосатыми является грубейшим нарушением режима содержания: если высокое начальство узнает – дежурному за эту ошибку головы не сносить. Но в коридоре все тихо. Колян начинает разговор:
– У меня уже шестая ходка, а такого, как на Свердловской тюрьме, нигде не видал – все режимы в этапках перемешаны, чай – по четвертаку плита, когда везде по червонцу. Коридорные – одни чурки, хуй по-русски договоришься. Шмоны хуже, чем в концлагере – дубинвалами раскумаривают. Беспредел.
– В натуре, бля буду… – поддерживает разговор Макуха, затягиваясь самосадом.
Угощаю сигаретами.
– У, бля, фильдиперсовые куришь, – искренне удивляется Седой, затягиваясь на полный вдох.
– По первой ходке? – спрашивает Колян. – По первой – ништяк. Можно на этом затормозиться. А когда по шестой, хули тут уже менять. Седой, вон, уже по двенадцатой, и все – за карман. Троячок отмотает и опять в трамвай. Долго-то на воле не задерживается.
– Да нет, по полгода бывало…
Пошел разговор по душам.
– Ты, Александр, не смотри на полосы, под этой робой тоже люди есть. По жизни правильные – и по этой, и по той. А вот, затянуло в трясину, в натуре, хуй выберешься. Что такое шесть ходок? – четвертак почти безвылазно. Даже мать с отцом похоронить не смог – червонец чалился. Да все здесь – так. Идти после звонка не к кому. Хаты нет – коммунисты забрали. Родных нет.
Да если и есть – кому ты на хуй с такой судьбиной нужен? Только матери. А ее уж нет. Здесь еще хуже – надо выжить. Ни жены, ни биксы… Вот только такая, как эта крыса…
Он выдохнул дым и с силой швырнул окурок в сторону гальюна. Зинка поймал его на лету и стал жадно докуривать, обжигая разбитые губы и пальцы.
– Может, дать ему сигарету? – спрашиваю у Коляна.
– Пошла она на хуй! Все равно скоро крякнет – вишь, как встанет, так в штопор входит. Вальты уже разбегаются, а сроку еще впереди – пятера. Хоть бы на этапе хвост не отбросила – затаскают по операм.
Рассказываю про «полосатика» с простреленными ногами.
– A-а… Идет этапом такой. Не с нами, правда, но мы о нем знаем. Никто в него не стрелял, просто пургу первоходам гонит. Замастырился, под гангрену хотел закосить, чтоб на больничку съездить. Весь нарывами пошел, вот и привезли. А вы купились на эту хуйню? Поди, еще подогрели?
– Подогрели.
– Это туфтогон натуральный. Но развел красиво – ему считается, хе-хе… Их таких знаешь сколько по стране катается? Нам-то гриву сильно не причешешь, мы-то уже мурые. А вам, кто с мамкиными пирожками на тюрьму заехал, – проканает за будь здоров.
«Вот тебе и полосатый», – подумал я.
– Чем всяких фуфелов греть, лучше б нам чего подогнали. Нам еще по пересылкам толкаться и толкаться… Не в обиду, Александр, может, подогреешь? Рублем или шмоткой какой, если не жалко… Нет, ты не подумай, я макли не навожу, я так, чисто по-арестантски. Давай коцами махнемся, а? Тебе еще долго здесь торчать, а мне откидываться скоро. Хоть по-человечьи выпулиться отсюда.
– Твои мне размером не подойдут, хе-хе…
– Хуйня, разносятся.
– Давай эту тему закроем, – сухо обрываю его.
– Ты не подумай… я не по беспределу. Я чисто так, на желание.
«Еще один полосатый, но уже с другим подходом. А начинал красиво», – думаю с досадой.
Подключаются еще двое.
– Да сменяй, Саня, хуля тебе? А человек тебя помнить будет.
Отказываюсь наотрез, с угрозой в голосе. Все трое – шкеты малого роста, заморенные по казематам. Я – двухметровый и только что с воли. «Если что – перебью всех троих».
За дверью голоса и беспорядочный стук.
– Дежурный! Где у тебя Новиков сидит?
– В девятой.
– Как в девятой?! Ты что, охуел – там полосатые!
– Там нет никого!
– Открывай.
На пороге майор с папкой в руке.
– Как нет никого? У тебя что, глаза пиздой обшиты?!
– Так я думал… товарищ майор… я думал, пустая.
– Если, блядь, мне из-за этого попадет, я тебе пасть порву! – рявкает на коридорного майор и поворачивается ко мне. – А ну, бегом на коридор, с вещами! Сейчас разберусь, как ты сюда попал!
– Хуля ты микрофонишь, начальник, он же не сам, в натуре, забрел! Это твои овцы рамсы попутали, а на пацана жало точите…
Кидаю окурок Зинке и выхожу.
– Бывай здоров, Санек.
– Пока.
Меж охраной брань, крик – меня потеряли. В поисках обшарили все боксы, никто и подумать не мог, что я в «девятке».
– На шмоне был?
– Был, – спокойно вру дежурному.
– Он с полосатыми сидел, обшмонай еще раз! – ко мандует майор.
После утреннего обыска с Засом этот кажется пример кой у портного.
– В одиночку его.
Через два часа – баланда, проверка и – в 38-ю.
Глава 17 Со свиданьицем
К концу октября допросы неожиданно прекращаются. Повисает непонятная пауза. Целыми днями маюсь бездельем и нехорошими предчувствиями. Терняка, наоборот, днем таскают на допросы. Возвращается он мрачный, задумчивый и злой.
– Все, суки, меня сдали. Все, кого кормил-поил. А я их, блядей, покрываю. Нет, надо написать явку и всех их – под сплав!
Мысль о явке с повинной не покидает его ни на минуту.
Советует сделать это и мне. Вспоминаю Яблонского и начинаю настораживаться. Но камерка два на четыре – не уйти, не уединиться.
Ношу подозрения в себе, не подавая виду. У Терняка те же следователи, а значит, можно ждать всякого. Как бы то ни было – скука и тоска одна на всех. Разгоняем ее перепиской с женскими камерами. Пишу им какие-то слюнявые стихи, в полушутку. В ответ получаю залитые слезами малявы, полные больших и маленьких женских трагедий.
Иногда искренние и горькие до слез. «Разбитых пар и судеб месиво…» Из них потом и сложится песня «Женский этап». В тюремной романтике есть своя прелесть: она вся из нервов. Нервы болят, свербят, гудят… Но выйдешь на свободу – сразу проходят. И все становится похожим на просто страшный сон. Но мы пока еще в неволе, поэтому малявы к нам и от нас идут потоками. Интересно и по-ка– торжански романтично. До глубокой ночи – переписка, утром – сон вповалку. Одно такое утро взрывается ударом сапога в дверь и воплем:
– На коридор без вещей! Дезинфекция!..
Вскакиваем как один. Терняк бросается складывать
продукты в полиэтиленовые мешки.
– Давай, гаси все по мешкам. Сейчас опрыскают, суки, им по хую!
Заталкиваем сигареты и все съестное в сумки, выходим в рубахах и тапках. Запах клопомора – по всему корпусу. Выедает глаза и бросает в тошноту.
В камеру входят трое в респираторах. Один тащит бачок, постоянно подкачивая, второй льет из штуцера на стены, на железки кроватей. Третий отворачивает и швыряет на пол матрасы, подушки и одежду. Заливают добросовестно – ни одного сухого места.
Загоняют в камеру. В ней как в душегубке. Петруха кидается на верхний шконарь откупоривать окно.
– Так ведь и сдохнуть можно, – сетую я.
– Сдохнуть – нет. А вот башка три дня трещать будет – это да, – успокаивает Терняк.
– Надо в баню проситься.
– Да кто тебя вне очереди поведет? Сиди и охуевай до пятницы. Сегодня среда, терпеть два дня.
Клопов становится меньше, но ненамного. В этом яде тонут любые запахи, даже табачный дым пахнет по-другому. Единственная отдушина – положенная каждый день часовая прогулка. На нее – как на праздник. Проходит она в бетонном боксе, накрытом решеткой. Над решеткой – часовой с собакой. Над часовым – небо. Благодать…
– Начальник, давай еще полчаса погуляем – в камере душняк!
Часовой молчит. Просим еще и еще раз. Молчит.
На четвертый или пятый раз наконец отвечает со среднеазиатским акцентом:
– Щто до меня доебался? Гуляй, я тебе не вигоняю, за тобой другие началство придут. Хочешь, с моим собакой погуляй, хи-хи-хи…
Так проходит еще пара пропахших клопомором дней. Настает банная пятница. Привычный удар ключа о дверь, и голос коридорного:
– Терняк, готовься с вещами! Остальные – на прогулку.
– А в баню?
– В ебаню! – гавкают за дверью.
Терняк бледнеет, опускается на шконарь и, глядя в пол, вздыхает:
– Все. Переводят в другую камеру. Решили суки по тюрьме прогнать.
Ключ снова колотит в дверь.
– Ну что, готовы? Выходи.
– Давайте, мужики, хоть попрощаемся. Когда еще свидимся… – сдерживая слезы, бормочет он.
Обнимаемся, крепко пожимаем руки и выходим с Петрухой.
– Будьте здоровы, мужики! – кричит нам вдогонку Терняк, и коридорный с размаху захлопывает дверь.
Грустно и понуро идем гулять, понимая, что вернувшись, его уже не застанем.
Наступает тридцать первое октября – день моего рождения.
Сидим вдвоем, ждем «дачку» из дома. Но моя в октябре уже была, а Петрухе ждать не от кого. Может, вдруг случится чудо, и ко дню рождения разрешат внеочередную? Слышно, как по коридору хлопают кормушки, ходит «дачница» и разносит маленькие и большие тюремные радости. До нас не доходит, а значит, торт заменит одна оставшаяся стограммовая пачушка печенья. А вместо шампанского – черный, прокопченный, «покопанный» чифирьбак с чайным варевом, четыре куска проклопоморенного сахара и пачка маргарина с примесью того же аромата. Спасибо Виктор Нахимычу – не все съестное унес с собой.
Допоздна сидим, витая в воспоминаниях. От дыма и чифиря мутит.
– Загадывай желание.
– С чего?
– Сегодня тридцать первое число. Тебе тридцать один год исполнился. Да еще – среда.
– В тюрьме одно желание – свобода.
Петруха, помолчав, вздыхает:
– В общем, да. Хуля тут загадывать.
Перед сном зачеркиваю в настенном календаре последний квадратик октября – еще одна маленькая радость.
Ноябрь начинается с ежедневных допросов. Водят на «слежку» – специальный пост, занимающий целый этаж соседнего корпуса.
Длиннющий коридор с кучей комнат по обе стороны. Сюда приходят следователи, адвокаты и прокуроры. Вместо рьяного Онищенко неожиданно начинает приходить следователь по фамилии Глушанков. Этот интеллигентнее, спокойнее и, как кажется, без особого желания участвовать в фабрикации дела. Спрашиваю, куда делся тот. Отвечает:
– А я что, не нравлюсь?
– Нравитесь.
– Ну и чудесно.
– Что, прислали «доброго следователя»?
Усмехается, не отвечая.
С этим проще. Не грозит, не ловит на слове и не искажает показаний. Одна беда – допрашивает недолго, поэтому после недолгого допроса до обеда приходится сидеть в бетонном боксе-стакане, ждать, пока закончат со всеми и толпой поведут рассовывать по камерам. Но все равно, этот лучше, потому что с ним можно говорить не для протокола. Можно попросить коробку спичек или ручку – в тюрьме все дефицит. Если на обратном пути не будет шмона – в камере прибавка.
Через пару недель допросы неожиданно обрываются, Глушанков отчего-то не показывается.
Приближается декабрь. Санкция на арест выдана на два месяца, а значит, пятого декабря срок ее истекает. Если прокуратура не продлит – должны выпустить под расписку.
Вероятность нулевая, но надежда умирает последней.
Неожиданно к нам подселяют третьего – напуганного студента уральского Политеха, севшего за десяток квартирных краж. На тихаря не похож, но почему за такие мелочи на спецпост – непонятно. Кличку «Студент» даже и выдумывать не надо – просится сама собой.
Петруха преподает тонкости профессии «коневода-стрелка» и отправляет его жить на «верхотуру».
В камере новый человек, потому говорим меньше. Слушаем и дивимся воровской смекалке Студента. По идеям и задумкам вполне мог бы потянуть на «Профессора». Но исполнение задуманного – топорное, поэтому сидит здесь.
Вечером завариваем чифирьбак, пускаем по кругу.
Студент делает глоток, и лицо его перекашивается так, будто он проглотил ядовитую жабу.
– Привыкай, бродяга, тебе сидеть долго, – сочувствует Петруха, – к тюрьме отмычек не подберешь, хе-хе.
Проходит еще неделя. Прошусь на прием в санчасть. Пообщаться с доктором да таблеток раздобыть.
Опять ведет Валя.
– Что-то болеешь часто.
– Симулирую.
– Да это видно, идешь как на праздник.
– Это потому, что с тобой.
– Сейчас как дам ключами по башке!
– Ну, если дать больше нечего…
Незлобно бьет ключами по спине и прыскает в кулак:
– Все вы, мужики, в тюрьме одинаковые!
В кабинет врача зашагиваю с громким и бодрым: «Здравствуйте, я к вам опять!» На меня оборачивается через плечо совершенно незнакомый человек в белом халате.
– Фамилия?
– Новиков.
– Чем болен? На что жалуешься? Что-то на больного не похож.
Думаю о симптомах, вру про гастрит и бессонницу.
– Подследственный?
-Да.
– Лучшее средство от гастрита – карцер, а от бессонницы – явка с повинной.
Поход в медчасть явно не удался.
Обратно иду молча. Перед дверями ждет другая конвоирша с листком в руке.
– Пошли, следователь вызывает.
– Дайте хоть в камеру зайти.
– Не разговаривать. Руки – за спину.
Приводит в кабинет. Указывает пальцем в угол.
– Вон туда. И не вздумай курить, а то на шмон пойдешь.
Сижу на привинченном стуле, жду Глушанкова. Разглядываю щели в полу в плинтусах– может, малява где, спичка, бритва…
Взвизгивает дверь.
– Поди уж потеряли меня, Александр Васильевич?
На пороге стоит Онищенко.
– А где?..
– Думаю, больше с ним не увидитесь. А нам еще работать и работать. Санкцию продлили на полгода, поэтому времени – во-о…
В камеру иду со спокойствием и тоской уже приговоренного.
В первый день декабря – дикий мороз. Решетку спешно затыкаем тряпьем. На ночь укрываемся всем, чем можно. Мне в вещевой передаче присылают из дома пальто. Модное, финское, в котором, вероятно, полагают, я выйду под расписку. Хожу в нем день, другой, третий… Если санкцию продлили, должны принести ее с уведомлением под роспись. Если нет – выгнать.
Четвертое декабря, вечер. Никто не идет. Завтра тюрьма уже не имеет права меня держать. Неужели выпустят?
– Все, Санек, ничего у них нет. Завтра тебя нагонят, – ободряет Петруха.
Лежа на спине, прислушиваюсь к коридору. Тихо, ни звука. До утра не смыкаю глаз.
– На проверке выходи из камеры и говори, что санкция закончилась, не имеете права дальше держать. Вызывай прокурора! – горячится Петруха.
Подходит время проверки, хлопают двери. Смотрю в щель кормушки.
– ДПНК на коридоре.
– Значит, точно за тобой.
Входят трое. Петруха спрыгивает со шконаря.
– Гражданин начальник! У человека санкция кончилась, а его держат. Давайте прокурора!
– Дам пиздюлю, а не прокурора! Новиков, собирайся с вещами.
– За что, начальник? – радостно улыбается Петруха, – я же за то, чтоб все в натуре по закону…
Скидываю в мешок пожитки, сигареты. Надеваю пальто, шарф, белые кроссовки.
– Ну, ты в натуре прикинут как на волю!
Обнимаемся на прощание. Выхожу с грустной радостью.
– Куда меня, начальник?
– Пока – на шмон. А дальше – не знаю.
– Какой сегодня день?
– Тюремный.
Через пять минут я в уже знакомом боксе. Осматриваю стены. Таракана нет, воды в бачке нет. Да и хрен с ними, главное – санкции нет.
Шмон прохожу легко и бодро, как комиссию в военкомате. Думаю, куда повезут. К прокурору на продление? Но для этого я не нужен – все сделали бы без меня.
Выпускать под расписку? Если так, значит прямиком в управление.
Всех выгоняют из боксов в коридор. Стоим вдоль стены, упершись в нее лбами.
– Куда, мужики? – спрашиваю у соседей.
– А кто куда. В основном по судам.
Выкликивают по одному. Бегу к машине не оглядываясь.
Капитан с повязкой на руке кричит из-за моей спины начальнику конвоя:
– Новикова в отдельную посади! У него санкция кончилась, его первым завезешь!
– Понял.
– В стакан, быстро! – командует конвойный.
Забиваюсь в железную клетушку, мешок уминаю под
ноги. Двери больно бьют по коленям. Общий отсек набит до треска. Поехали.
По поворотам и остановкам на светофорах пытаюсь определить маршрут передвижения. Но из стакана не видно даже неба, поэтому путаюсь в направлении и молча жду конечной станции. Четверть часа «воронок» еще петляет по городу и наконец на полном ходу въезжает в гулкое замкнутое помещение.
– Где мы, начальник?
– Сейчас узнаешь.
Выпрыгиваю на бетонный уступ. В сопровождении конвойного иду внутрь. По коридору до конца, налево… Из-за решетки окна улыбается рожа дежурного:
– Что, опять к нам в ИВС? Чего не здороваешься?
– Со свиданьицем.
– Во, бля, как на тюрьме наблатовался.
После всех бумажных формальностей – шмон. Отбирают ремень, шнурки, спичечный коробок– спички только вроссыпь. Потрошат сигареты, и через пару минут я в ледяной, грязной и вонючей камере номер 6. Сокамерников нет, стекла за решеткой нет, батареи нет, а за окном мороз минус двадцать пять градусов. И выжить в такой камере возможности тоже нет.
Осклизлый пол, двухъярусные нары по обе стороны. В углу бачок с водой, увенчанный алюминиевой кружкой без ручки.
Чтобы не замерзнуть, начинаю ходить взад-вперед, застегнувшись на все пуговицы до горла. Шапки нет – втягиваю голову в поднятый воротник. Голова еще почти лысая, поэтому первой начинает замерзать она. Следом – ноги. Чтобы хоть немного согреться, курю, обнимая ладонями самокрутку: «Правду», «Известия» и прочую официальную макулатуру на шмонах не отбирают, поэтому польза от социалистических газет есть в этих самых самокрутках. Через пару часов начинают отмерзать уши. Повязываюсь шарфом через голову, как пленный француз в 1812 году. Пока еще смешно, и есть надежда, что на ночь переведут в другую камеру.
С каждым часом ходить все трудней – ноги начинает сводить. Внутри все дрожит, и курево уже не спасает. Во рту горько, хочется пить. Подставляю кружку под кран бачка – вода не течет. Открываю крышку – в бачке корка льда. Пробиваю, черпаю и боюсь пить. Да и как ее пить, если колотит от холода внутри и снаружи. Как влить в себя еще одну порцию нестерпимой ледяной дрожи?
Настает вечер. Приносят миску баланды, хлеб и шлю– мак кипятка. Надо выжить… Съедаю весь суп и хлеб. Надо выжить… Медленными глотками пью через край из миски горячую воду. Как, оказывается, это хорошо– горячая вода.
Снимаю пальто, стелю на эти жуткие нары, сворачиваюсь в комок и закатываюсь в него, как в кокон. Подбираю фалды так, чтоб не осталось ни одной щели. Дышу в колени, и кажется, внутри теплее.
Через час шлюмаки уносят, а с ними и надежду на перевод в другое место. Нужно прожить ночь.
Становится еще холоднее. Полчищами набрасываются клопы. Они голодные, замерзшие и тоже хотят жить. Начинает сводить судорогой ноги и нестерпимо болеть нутро. Нельзя ни раскрыться, ни вытянуться. Колотит, как в лихорадке. Понимаю: это – пресс по-настоящему, и никто уже больше не поможет.
Ночь проходит в полудреме, в полубреду. К утру ноги перестают слушаться и отказываются разгибаться. На проверку встаю, сползая с холодных нарных досок.
– Начальник, вы что, охуели?! Ты посмотри – вода в бачке застыла. Я что, в концлагере, что ли?
Дежурный не злобливый. Шарит по камере глазами и сочувственно обнадеживает:
– Потерпи, не сдыхай. Сейчас за тобой уже придут.
Потом – каша, черный хлеб и пайка кипятка. Кривая
разваливающаяся самокрутка, кое-как сляпанная посиневшими окостенелыми руками. Колобком – на первый ярус, в ракушку из пальто, и – ждать.
Наконец выволакивают из камеры и, подгоняя заплечными – «шустрей, шустрей…», выводят на улицу прямо на мороз. Люди в штатском ведут по двору в здание городской милиции. При чем здесь городская – непонятно. Идти сам могу с трудом, поэтому держат под локти. Входим внутрь. Вот оно, тепло! Голова кружится, под ложечкой сосет, и нестерпимо хочется есть. На четвертом этаже вталкивают в малюсенький кабинет.
– Принимайте. Доставили живого.
Захлопывают за спиной дверь, и я остаюсь один на один с вдвойне опротивевшим Онищенко. На столе термос, разложенные на бумажных листах бутерброды с колбасой и сыром, горка конфет и сигареты.
– Садись, поешь, попей чайку. Поговорить успеем.
– Пока санкцию не покажете, говорить не о чем. На каком основании я здесь?
– По телеграмме. В Генеральную прокуратуру отправили, ждем ответ.
– Это незаконно.
– В тюрьме держать – незаконно. А здесь – до десяти суток – законно. Если за это время не продлят – рад буду тебя выпустить.
– Там, где я сижу, больше трех не прожить. Вы специально издеваетесь?
– Это не мое ведомство. Ты кушай, кушай…
Эта мразь врала. Привезли меня сюда по его просьбе и указанию Ралдугина. Они прекрасно знали, что все, что они делают, – незаконно. Но силы, покровительствующие им, были огромны, и они не боялись. Допросы им тоже были не нужны. Но на случай какой-нибудь высокой прокурорской проверки им чем-то нужно было оправдать мое пребывание здесь. Потому Онищенко, разложив передо мной, голодным и полузамерзшим, колбасу и разлив по стаканам горячий сладкий чай, терпеливо ждал, заполняя анкетными данными бланк протокола допроса.
– Если ты есть не будешь, я тогда стол освобожу?
– Освобождайте.
– Хозяин – барин, – гадливо ухмыльнулся он.
Начинает в привычном русле. Вопросы те же: где?
когда? кому и за сколько продавал аппаратуру?
Тяну время – надо согреться. Онищенко злится и начинает грозить.
Время переваливает обеденное. Допрос можно давно окончить, но и он почему-то тянет время.
– Когда меня уведут обратно?
– Как обед закончится, так и поведут.
Вот оно что. Если до обеда меня не доставят, по распорядку опоздавшему его не полагается, и ждать придется только вечерней баланды. А значит, эту ночь прожить будет труднее вчерашней.
Но деваться некуда. Делаю вид, что мне безразлично. Отказываюсь от сигарет и кручу самокрутку.
– Не надо дымить здесь вонючей дрянью. Или кури, вот лежат сигареты, или выбрось это в ведро!
Выбрасываю в ведро.
– Может, пойдем уже?
– Раз тебе там больше нравится, не смею задерживать.
Обратно ведут те же люди, по тому же морозу, в ту же камеру. Но уже без надежды. От голода мутит, но горше всего от обиды. Привычно сворачиваюсь, зарываюсь в свое тряпье и, лежа на боку, жду вечера. Надо выжить.
Ни следующий день, ни еще два дня ничего нового не приносят. Онищенко больше не появляется. Сил остается все меньше. Внутренняя боль, судороги в ногах и кашель изводят, и держусь уже не знаю на чем. Живу уже не верой, не надеждой и даже не любовью. Держусь на одной злобе и желании дожить. Потому что здесь заканчивать нельзя.
Пять дней холодильного и зловонного ада проходят в зловещей тишине. Разрывает ее только собственный затяжной кашель.
На утреннюю проверку уже не встаю. Отвечаю, лежа на боку, сквозь пальто. Коридорные все понимают, а потому для них главное не – «встать», а – «живой».
И вдруг:
– Новиков, празднуй – на тюрьму сегодня едешь!
И вправду – праздную. Вылупляюсь из тряпья, отваливаюсь спиной к стене.
– Правда?..
– Правда, правда… Но я тебе ничего не говорил.
Грех вспоминать, но в тюрьму я ехал в тот день как на праздник.
В воронке совсем не одиноко и не жестко. А «Прима» – отличные сигареты. А начальник конвоя – совсем не злой, и собака его – умная и добрая. И лавка в бетонном боксе не узкая, и бачок в нем с водой свежей и не ржавой. А сама тюрьма – живая, теплая и не страшная.
– Ну что, опять к нам вернулся? Плохо на воле-то, ха– ха?.. Ну, со свиданьицем! – ржет знакомый дежурный, помечая что-то в моем личном деле.
Глава 18 Хата – 505
До вечера сижу взаперти, думаю только о бане. Все тело и руки от клоповых укусов покрыты сыпью и страшно зудят. С десяток еще засело под подкладом и приехало со мной. Вылезают по очереди. «С чувством глубокого удовлетворения» размазываю по полу.
Наконец ведут «на помывку». Получаю положенные по внутреннему распорядку, а может, и по Конституции – черт разберет, что здесь главнее, – матрасовку, одеяло, простыню и кружку, а также комплимент от тетки-парик– махерши:
– Ты прям как будто загорелый, с лица-то…
– Неделю кайфовал.
В предбаннике сыро, душно. Жду, когда поведут в камеру. Колочу в дверь:
– Начальник! Сколько можно тут сидеть?!
– Чего орешь? Сел в тюрьму – сиди!
Возразить нечего. Еще час ожидания, и наконец долгожданное – «Выходи!..»
Идем через весь подвал к лестнице. Дальше – наверх.
– Что-то не туда ведешь, начальник, мне на спецпост.
– Веду куда написано. В 505-ю.
– А это что?
– Общаковая хата. Сорок рыл на двадцать мест – чтоб не скучно было.
Камера на последнем, четвертом, этаже, в самом центре длинного коридора. Снуют коридорные, один из них быстрым шагом идет навстречу нам.
– Вот, Новиков к тебе, принимай, – хвастливым тоном говорит мой сопровождающий.
– Еб твою мать… – выпучивает глаза коридорный старшина. – А чего со спеца съехал?
– Скучно стало.
– Ничего, здесь весело.
В отворенную дверь камеры видно кое-как до середины, дальше – дымовая завеса.
Вхожу, бросаю на пол мешок с амуницией.
– Здорово, мужики.
В дальнем углу у стены кто-то нехотя поднимается с первого яруса.
– Откуда?
– Со спеца.
– Со спеца? Проходи сюда, к платформе.
Сажусь за стол. По одному присоединяются напротив еще трое. Поочередно мрачным тоном задают вопросы. Просто так с первого поста сюда не попадают, поэтому их интерес и подозрения понятны. Доходит до того, где жил, чем на воле занимался, за что сюда попал.
Отвечаю коротко: «За песни».
Тишина, и следом радостным тоном вопрос:
– Так ты – Новиков?
Дальше уже все по-другому.
Тот, что поднялся первым, – старший по камере – Серега.
– Будешь с нами, Санек, в старшей семейке.
С ним еще трое. Все на нижних шконарях возле окна. Над ними вторая семейка – шесть человек. Третья – самая большая, около двадцати. И ближе к двери, на полу возле параши – «петушатник». Здесь двое.
Мест на всех не хватает, поэтому верхние ярусы спят в две смены. Пока одни глядят тюремные сны, другие тусуются до утра взад-вперед «на терках». Утром сменяются и дрыхнут до обеда. Нижние этажи поблатней, их это не касается.
Народ в камере разношерстный – от убийц до грязных бомжей-вороваек. Тут же пара хозяйственников – «расхитителей социалистической собственности», дезертир, наркоман, насильник, спекулянт. Остальные– ворье, злостные хулиганы, разбойники и грабители.
Убийц трое. Двое из них сидят возле параши. Там же едят, пьют, спят и подают бумажку.
Первый – убил свою мать. Разумеется, по пьянке, разумеется, ничего не помнит. Мать– в тюрьме святое. Поэтому место ему определено вполне заслуженное.
Второй – за изнасилование и убийство малолетней. По приходу в камеру рассказывал сказки о каком-то разбое, в котором конечно же не участвовал, поэтому «менты шьют что ни попадя». Когда принесли обвинительное заключение, которое по традиции вслух читает вся камера, пытался выломиться в коридор. Бросился биться головой в дверь, но был отловлен, заткнут кляпом и подвергнут скорому и правому суду.
Жизнь этой пары похожа на ад. Пить полагается только из гальюна; выползать из-за шторки, ограждающей отхожее место, категорически запрещено. Курить – только окурки, брошенные в этот вонючий, обмоченный угол. Подниматься – не выше колен, на коленях же и ползти к кормушке за баландой. Вставать в рост – только на проверку. После нее – быстро нырком за штору.
Начальство давно ничему не удивляется, потому что в каждой камере такой братии завсегда найдется. Иногда в еще большем количестве.
Первый по кличке – Мухтар. Другой – Принцесса. Бьют обоих одинаково и по любому поводу. Индивидуальной дрессурой этой пары несчастных занимается дезертир– дисбатовец из второй семейки по фамилии Пиотровский, с явно выраженными режиссерскими способностями с садистским уклоном.
– Эй, крысы за шторой, а ну засветите хари!
Над веревкой показываются две физиономии, представляющие собой двухголовый синяк.
– Живы, твари, еще? Сейчас будем спектакль репетировать. Ну, суки, чему я вас учил? Давай начинай. Да с выражением, а то поубиваю!
Бьет каждому шваброй по голове, и «репетиция» начинается.
Первым читает пафосно, торжественно и громко свое обвинительное заключение Принцесса. Грязный, вонючий, замордованный, он уже мало походит на нормального. Особого пафоса сквозь выбитые зубы у него не выходит, поэтому Пиотровский бьет его после каждой оговорки щеткой по темени. После этого – развод. Принцесса – мыть гальюн, Мухтар – к двери, со шваброй на плече, в почетный караул. Стоять полагается не шевелясь и не моргая, несмотря на замахи и свист кулаков перед носом. За «моргалку» – тапком по лбу. За уклон – удар под дых. За присядку – затрещина по затылку. За «симуляцию и ко– силово» – пинками куда попало. После этого – «акклиматизация на скоряк» и строевой шаг в паре, в ногу и с песней под мотив «В траве сидел кузнечик». Текст сочинен Пиотровским самолично. Простой, незатейливый и, главное, легко запоминающийся.
Мы оба пидорасы, мы оба пидорасы,
Нам не нужны матрасы и шконка не нужна!
Представьте себе, представьте себе…
И так далее. Под общее ржание всей камеры.
– А ну, крысы, раз!., раз!., выше ногу, печатать шаг!.. Громче, веселей! Веселей, суки, а то сейчас все по новой!..
Перспектива начать все по новой не радует. Поэтому орут что есть мочи, печатают шаг, «изгоняя злого беса и каясь в натуре».
Жестоко, конечно, но отчасти справедливо.
Иногда, когда первой семейке это мешает, Пиотровского останавливают окриком:
– А ну, хорош! Затыкай свой крысиный театр.
Пиотровский выполняет.
– Так, заткнулись быстро! Занавес, мрази ебаные! Занавес!
В тот же миг все стихает и исчезает за шторой.
Третий насильник-убийца – долговязый детина лет двадцати, по кличке Удав. Живет в первой семейке, и судя по всему, давно. Весь в наколках и на дешевых понтах.
Каждый день его возят на суд, поэтому еще и весь на нервах. По возвращении он кидается за стол гадать на домино: сколько дадут? «Вышку» он отбрасывает как невозможное и, возюкая костяшками по столу, приговаривает:
– Не-е, вышку не должны… Десяточку– было бы ништяк.
Когда выпадает 15, он все бросает в кучу, лихорадочно мешает и гундосит:
– Не-е, пятнадцать до хуя, не-е… Лет пять-шесть – это в самый раз. Трояк отсижу, а там – на УДО. За эту бомжиху десять – до хуя…
Почему он не попал в компанию Мухтара и Принцессы – не понятно. То ли похитрее был, то ли поборзее, то ли пофартовей. Год назад вместе с компанией двух-трех таких же выродков убил несчастную бездомную тетку, отобрав у нее мелкие гроши и бутылку портвейна. Вино тут же вылакали, надругались над ней, а бутылку, отбив горло, пинками забили между ног. После этого еще били ножом. Один удар пришелся в сердце. По всему, он был редкая мразь и по справедливости должен был жить за шторой. Но сегодня живет в первой семейке и ведет себя довольно нагло. Ненавижу его с первой же минуты. Он это чувствует. Через несколько дней начинаю пользоваться взаимностью.
В пустопорожних разговорах и камерной мирской суете проходит неделя. После вечерней баланды стучим в домино. Удав ходит и ходит кругами, хрустя пальцами, будто что-то лихорадочно обдумывает. Наконец решается:
– Александр, мне завтра на суд. Срок запрашивать должны.
– Ну и что?
– Ты не против, если я в твоих кроссовках поеду? Подогнал бы, тебе все равно еще до суда далеко. А я чтобы перед родными не стремно было…
– Они тебе копыта жать будут.
– Ничего, растянем.
– Они ж белые, тебе нельзя. Белые тапки – верная примета к «вышаку», хе-хе… Да еще и жмут.
– А тебе зубы не жмут?! – истерично выкрикивает Удав и пихает меня из-за спины в плечо. Все молчат. Ну что ж, вот он, первый экзамен.
Удава бью громко и жестоко. Бью показательно. Загоняю в нишу двери, как в мясорубку. Стены в крови, дверь в крови.
– Харо-ош!.. харо-о-ош! – хлюпает разбитой мордой Удав, подставляя ладони под льющийся из носа ручей.
– Все! Стоп. Прекратили! – рявкает старший по камере Серега. – Садись, Саня. А ты рыло помой и тоже иди сюда.
Через пять минут сидим за столом напротив друг друга.
– Ну вы че, в натуре, мужики, из-за такой хуйни… – продолжает он, потому что надо что-то говорить. – А ты что, не знаешь, на кого можно макли наводить? Короче, я считаю, что Новик прав.
Удава списали во вторую семейку. Он сразу как-то стих, сник и исчез под одеялом. Утром его увезли на суд.
– Во змей, пиздюлей огреб полную кошелку!
– Чуть, в натуре, до суда в белы тапки не обулся, ха-ха-ха!
Весь день для разрядки напряженности Пиотровский
муштрует свой театр обновленным репертуаром. В программе: ползанье по-пластунски под шконарями наперегонки, чистка шваброй зубов друг дружке и строевое пение новых текстов. После этого– выяснение: нравятся ли обоим кликухи? Мухтару своя очень нравится. Принцессе – нет.
Первому дают жирный бычок, пилотку из газеты и ставят со шваброй в караул у двери. Второму, после недолгих разъяснений и физической обработки, засовывают морду в гальюн по уши и предлагают просить у тюрьмы новую.
– Тюрьма, тюрьма, дай кликуху!.. Тюрьма, тюрьма, дай кликуху!..
В ответ камера изгаляется в вариантах. После каждой просьбы – пинок под зад. Через пять минут кликуха Принцесса ему очень нравится. Счастливый обладатель на четвереньках ползет к двери оттирать удавову кровь.
– Смотри, кикимора, хоть одну каплю менты найдут…
– Понял, понял.
После вечерней проверки в камеру вбрасывают Удава. С потухшим взглядом, трясущимися губами и руками.
– Ну что? – спрашивает кто-то из угла.
– Вышку… вышку запросили… Не-е, за эту суку – вышку…
Всю ночь до утра он, как полоумный, бродит от стола к двери, курит одну за другой, бормочет и причитает:
– Вышку… Ни хуя себе – вышку…
А то бросается снова к домино – гадать. Выпадает по– разному: пять, восемь, пятнадцать…
– Не-е, ну это ж другое дело. Не-е, ну вот же… я же вижу…
– Удав, хорош костями греметь! Хуля ты кольца вьешь! Сколько дадут – столько и твое. Вышка так вышка!
– Не-е, ну не вышка же… За бомжиху-то. А, мужики?
Утром он – прямиком ко мне. Синяк под глазом, нос опух, губа висит. Но будто ничего и не было.
– Саня, ты с образованием… Скажи, могут дать, а? Могут?
Чтобы отвязался, отвечаю:
– Да нет, конечно. Пятнашку дадут, и все.
– Вот и я так думаю. Уф-ф… Пятнашку было бы ништяк.
На следующий день он ее получил и в нашу камеру уже
не вернулся.
Тем временем следствие идет своим чередом. Целые бригады выезжают в Уфу, в Ижевск, в Москву.
Онищенко грозит привезти из столицы, чуть не в клетке, Стаса Намина.
– Я знаю, что он был главным перекупщиком. Вы его не отмажете. Вот съезжу, повяжу и посажу в соседней камере.
– Когда вязать будете, не забудьте, что он по паспорту – Анастас Микоян.
– Его далекие предки меня мало интересуют. Вдвоем вам петь веселей будет.
Со Стасом мы были знакомы, но сам он с аппаратурой дел не имел. Всем этим занимались звукорежиссеры его группы Валера Спиртус и Женя Дроздов – наши добрые приятели и большие специалисты в этой области. Они брали ее у нас в приличных количествах в обмен на фирменные гитары, клавишные и прочее. Иногда просто за деньги. Как у жителей столицы у них были широкие возможности для ее реализации.
Но Онищенко несло, и ему хотелось в деле громких имен.
В Москву он съездил. Что уж там ему сказали и кто – неизвестно. Но приехал он тихий, смирный и задумчивый. Никогда больше про Стаса не вспоминал и фамилию его вслух не произносил.
В ближайшие дни по тюремной почте и перекличке нахожу Богдашова. Он сидит в соседнем корпусе. Налаживаем переписку.
Судя по настроению, держится молодцом. Онищенко бесится и на допросах грозит устроить ему такое, что запомнит до конца жизни. Оно и понятно – дело шьется туго, а начальство подгоняет и требует. А оно очень высокое.
Опросили больше сотни свидетелей – все утверждают, что знали о самодельном происхождении аппаратуры. Никто из нас троих ни в чем не признается, и потому Онищенко – ралдугинское детище – заходит в тупик. Угрозы не помогают, и следствие идет на повторный опрос свидетелей. Но уже не простой, а с запугиванием, шантажом и ложью. Суть новой акции такова: если не подпишешься под тем, что Новиков с Богдашовым тебя обманули, выдав ее за фирменную, сядешь с ними вместе как соучастник. Большая часть аппаратуры была продана через комиссионные магазины во дрорцы культуры, в профкомы заводов и институтов. Их директора и председатели перепугались насмерть. Через две недели все, кроме одного, меняют показания на противоположные. Этот один – мой хороший знакомый Владимир Тарасовский. Его стращают, обыскивают дом, музыкалку. Но он остается непреклонен – правда всего превыше. Остальное трусливое кодло, упав на колени, дает показания под диктовку. Онищенко вне себя от радости. Его ненависть к Богдашову переходит в разряд личной. На очередном допросе мне говорит:
– Вот морозы посильнее начнутся, отправим твоего подельничка в Нижний Тагил, пусть в тамошней тюряге посидит. По трескучему-то, на этапе, ох как будет ему весело!
Негодяй не соврал, вскоре так и сделал.
Пока же мы сидим в соседних корпусах и переписываемся регулярно. Каждая третья малява теряется, но это не страшно. Тексты мудреные, шифрованные и для оперчасти непонятные. Буквы печатные. Никаких имен, фамилий и подписей. Все просто – без хлебных чернильниц, молока, писанины меж газетных строк и прочего ленинско-конс– пиративного идиотизма. Но понятны или непонятны – в оперчасть некоторые все же попадают. А потому наши камеры ставятся на особый контроль. Нам об этом неизвестно, и мы все так же гоняем почту по несколько раз в день. Путей только два – через баландера и «конем». Первый – утром и в обед, второй – ночью.
Люди с черпаком боятся, и не каждый согласен взять маляву – их тоже обыскивают и в случае «палева» отправляют на более тяжелые работы или в зону. «Черпак» – место хлебное, и все, кто взял в руки, за него держатся. Крепче всех те, кто работает на оперов, то бишь на «кум– часть». Все просто: баланду раздал, почту со всего коридора собрал и – к «куму». Тот прочитал, нужное выписал или оставил и отправил по назначению. Выгода для баландера: не шмонают, не гоняют, и между делом можно чаем или шмотками торгануть. А кроме всего – положительная характеристика от начальства и досрочное освобождение.
Выгода для «кума»: ничего не делать, но быть в курсе дела. Предотвращать преступления в камере, помогать следствию и дознанию, за что опять же благодарность, повышение и внеочередное звание.
В какой-то момент малявы перестают пропадать по дороге и начинают доходить все. Тюремного опыта маловато – сидим по первой ходке, поэтому никого это не настораживает. Но со временем случайные совпадения, внезапные обыски и вновь открывающиеся факты из уголовных дел камерных постояльцев наводят на невеселые выводы: кто-то из баландеров работает на оперчасть.
Баландеров трое. Они чередуются и ведут себя по-разному. Первого, полуграмотного, с колхозной рожей, зовут Иван. Он почту берет охотно. Другой – кочевряжится, вымогает, «вымарщивает» сигареты или чай. Третий – не берет ни в какую. Камера постановляет: первый – кумовской, нужно наказать. Наутро через него посылается малява в соседний корпус, «на братву», следующего содержания: «Здорово, братва! Ни откажыте отнеситесь со внеманием. У нас человеку итти на суд. Нужен лепень или свитэр. Можно за шуршавые или за колеса. С ув. Братва Х-505».
На войне это называется «огонь на себя». Вечером – шмон.
Эх, Ваня, вот она и другая сторона прелестей черпачной профессии. Придется тебе за все рассчитаться.
С утра, как обычно, разбираем шлюмаки с кашей. Из двух сразу вываливаем и моем дочиста. На шконаре загибаем матрас, ставим один шлюмак на решетку. Из куска одеяла крутим факел. Пока все едят, разогреваем добела. Настает время сбора посуды. Через открытую кормушку монотонно просовывается рука баландера Вани, машинально выхватывая миски. Сдаем в темпе. Для отвлечения внимания одни просят принять почту, другие скандалят по поводу черствых паек. Специально обученный черт ставит раскаленный шлюмак в холодный и, держа нижний на ладони, быстро сует в кормушку. Рука из-за двери привычно хватает.
– А-а-а-а!!.
Дикий вопль, запах горелого мяса и грохот летящей по коридору посудины. Кормушка захлопывается.
– А-га-га-га!.. – хором отвечает камера. – Спалился, пидорас!
По сути, так оно и есть в прямом и переносном смысле. Даже если прибегут опера, виновных не найти – все спали, читали газеты или играли в домино. Никто ничего не слышал и не видел. А «баланда», разумеется, «замас– тырился, чтоб закосить на больничку». Заступаться и расследовать никто не будет – это обычный расходный материал. Назавтра пришлют нового.
Прислали. Новый оказался хитрей и осторожней. Принимает посуду, заставляя ставить на край кормушки. В остальном в отношениях с оперчастью повторяет первого. Этому просто плеснули в рожу кипятком.
– Эй, баланда, ты че, сука, оборзел? Ты чего мне суп с бычком налил?!
-Где?
– Вот, разуй шары!
Рожа баландера просовывается в камеру.
– Ну, давай заменю.
В этот момент с размаху выплескивается бурлящая миска.
– Ой-ей-ей-ей!.. А-а-а!..
– А-га-га-га! Сварилась, крыса!..
Нет, не сварился – тоже спалился. Наказание варварское, жестокое, но что поделать – тюрьма есть тюрьма. Глядя на этого, другой извлечет опыт, и почта снова пойдет куда надо.
Кто бы знал, но со следующим выходит еще хуже. Этот, по кличке Рябой, – бывший официант. Крученый, наглый и жадный. В один из дней он предлагает две плиты чая за тридцатку. Деньги сегодня – чай завтра. Собираем всей камерой, отдаем и день за днем ждем обещанного. Но Рябой как в воду канул. Вместо него – другой. Ждем еще две недели. Вдруг появляется как ни в чем не бывало.
– Где чай, гидра?
– Мужики, бабки спалились, десять суток за них в карцере отсидел. Только вышел, отработаю.
Начинаем «пробивать» по всему этажу. Выясняется: деньги взял не только у нас. Пишем маляву на хозобслугу. Оттуда – ответ: в карцере не сидел, просто упросил начальство перевести на другой пост. Недавно был на свиданке, скоро освобождается.
Камера рвет и мечет. «Канать за лохов» никто не хочет, поэтому решено «зафоршмачить».
Мухтару с Принцессой приказано обмазать швабру дерьмом, укутать полиэтиленовым мешком и ждать момента. По команде мешок – долой и щеткой – через кормушку в рыло.
Момент настал в ближайший же обед. Исполнили – не придраться.
За дверью вопли, плевки, рвота, стук удаляющихся сапог.
– Братва, баландер зафоршмачен, жратву не брать!
Колотится наша камера, за ней следующая и, наконец,
весь этаж.
– Начальник! Баландер – чухан! Убирай этого черта! Жратву брать отказываемся!
Через пять минут – опера. Через десять – старший дежурный. Через полчаса Мухтар с Принцессой на пинках шагают в «обиженку» – отдельную камеру, где все обитатели – такие же. А жизнь и вовсе сущий ад. Жилплощадь за шторой опустела.
– Пидоры уехали, цирк остался, – осклабился Пиотровский.
Через несколько месяцев его самого переведут в другую камеру. За прошлый ли беспредел, за новые ли грехи там его опустят, и он испытает уже на себе все особенности ужасного быта Мухтара и Принцессы.
Состав сокамерников постоянно обновляется, кого только не привозят. Иногда бывает очень даже весело.
Однажды вечером пулей влетает парень, по виду – студент. Бледный, напуганный и заикающийся.
– Здорово, пидорасы!
Всех подбрасывает – такого еще не случалось. По понятиям и традициям за такое приветствие его следует определить к тем, с кем поздоровался. Ясное дело, кто-то злорадно научил – «проехал первоходу по ушам». Скорее всего в воронке.
– Ты откуда такой?
– С воли…
– Давай поподробней.
Начинается опрос. Парень сбивается, заикается и, наконец, запутавшись совсем, заливается слезами. Камера наезжает. Больше всех – Пиотровский. Еще немного, и бедолагу загонят под шконарь. Обрываю базар и впрягаюсь – надо как-то спасать.
– Кто тебя научил?
– Со строгачами в боксе сидел.
– А до этого где?
– Под распиской. Днем арестовали, вечером – сюда.
– По жизни кто?
– Студент.
– А еще?
– Вор.
Все дико хохочут. С первых ярусов наперебой кричат:
– Там что, все такие воры учатся? По жизни кто? Мужик или пидор?
– Нет, нет, нет! – машет руками студент, утирая слезы. – Я не этот!..
– Ты по жизни не студент, а дурак, – заключает старший по камере. – Ну, что с ним делать будем? – обращается он ко мне.
– Пусть недельку сам по себе поживет, а там решим.
Студент оказался очень даже хорошим парнем и через неделю со всеми от души хохотал над своим приветствием и «воровской долей». Подначивали его еще долго. Особенно при обходе начальства или прокурорской проверке.
– Студент, поздоровайся с начальниками как надо! Строго по-воровски.
Через неделю доставили еще одного «учащегося». Андрюха, младший научный сотрудник УПИ, по совместительству – вор-домушник. Кроме всего прочего – легкий, романтический наркоман. Родом из Орска. Отец –директор крупного завода, поэтому обеспечен всем и о своей судьбине горько не тужит. Не знать, что «фомкой» вскрыл десяток квартир, – вполне приличный, симпатичный и даже остроумный.
С Андрюхой быстро сходимся. По делу он сознается только в том, на чем был пойман с поличным. Про остальное – в полном отказе.
На прогулке или ночью, когда нет лишних ушей, мне рассказывает все. Охотно советуется. Воровской послужной список его довольно интересный: профессура, партноменклатура, работники общепита. Сейчас озабочен только одним: где найти «колес» – раскумариться.
Рассказываю ему про доктора на первом посту. Узнаем, можно ли туда попасть. Оказывается – никак нет. В нашем корпусе есть свой доктор – женщина, говорят, очень даже симпатичная. Иногда бывает с обходом лично.
– Надо ей леща пульнуть да на прием напроситься. Мы для нее – никто, а тебя, может, и вызовет, – рассуждает Андрюха.
– А на что косить?
– Хоть на что, лишь бы вызвала.
Его иногда «подламывает», и он мается своей «колесной» идеей с утра до ночи.
Ждать пришлось недолго. На неделе коридорный возвестил об ее приходе ударами ключа по двери и монотонным: «Врач с обходом! Кто есть больные, подходи…»
Самые больные в любой камере – это старшая семейка и еще кто-нибудь из второй. Остальные – на усмотрение первых. Те, что за шторкой, – здоровы всегда. Оттуда на хворь много не пожалуешься.
К открытой кормушке склоняется женское лицо:
– Больные есть?
– Есть, есть.
Мы с Андрюхой – на корточках перед самой дверью.
– Здравствуйте! Никогда бы не подумал, что в тюрьме такие красивые врачи, – кондово заигрывает он. – Так и хочется песни петь.
– Хватит базлать! Больные, говорю, есть? Вот аспирин, возьмите на всех. И вот еще анальгин.
Она просовывает горсть упаковок.
– Скажите, а на прием к вам можно записаться? – подключаюсь я.
– А чем болен?
– Сплю плохо. Совсем спать не могу.
– Ну и не спи. Кишечные симптомы есть?
Окошко вот-вот захлопнется, и Андрюха идет ва-банк:
– Девушка, колес хоть каких-нибудь упаковочку хотя бы, а то уж очень плохо.
– Кому колес? – Лицо просовывается глубже, глаза шарят по камере и упираются в меня. – Тебе? А дурно не станет?
– Тихо, тихо… Не кричите так на весь коридор, – прикладывает Андрюха палец к губам.
– Ты что, мудак, еще командовать будешь?! – взвивается дама.
В этот момент из-за нашей спины кто-то громко орет:
– Да хуля эту крысу укатывать, ничего она не даст!
– Как не даст? Даст, еще как даст! Начальнику конвоя, а-га-га! – подхватывает другой.
Дверца хлопает нам с Андрюхой прямо по носу. В коридоре женский визг:
– Коридорный! Пиши рапорт, меня здесь обматерили!
В камеру влетают двое дежурных с разъяренной врачихой.
– Который?
– Вот этот! – тычет она мне прямо между глаз.
– Я вообще с вами не разговаривал.
Врачиха переходит на более удобный для нее язык:
– Что ты мне пиздишь, я же видела – это ты!
Поворачивается к дежурному и продолжает орать:
– Этот колес требовал, наркоман ебаный, а этот, – тычет опять мне в лоб, – ругал меня матом! Мудаки!
Через час в кабинете дежурного расписываюсь в постановлении на пять суток карцера и бреду под конвоем в отдельный корпус в дальний конец тюремного двора. На улице трескучий мороз, поэтому предчувствия нехорошие. По пути заходим в баню на шмон. Одежду сдаю. Взамен выдают казенную, карцерную. Вытертое, будто из простынной ткани нижнее белье – «тельник», на три размера меньше нужного, и верхнюю – «шаронку» и «шкеры» – ветхую, штопаную робу. Рукава – по локоть, штаны чуть ниже колен. На ноги – «чуни» – обрезанные по щиколотку вонючие солдатские валенки. Телогрейка, носки, ремень, сигареты в карцер не положены. Напяливаю, будто все это снял с убитого. Старшина оглядывает с головы до заголенных ног:
– Красив до охуения! Вперед.
Глава 19 Карцер
Карцер – вросшее в землю одноэтажное здание.
Караулка и за ней длинный коридор с дверями по обе стороны. Моя камерка под номером 6 – клетушка полтора на полтора. Бетонный выбитый пол, метровой толщины стена, оконце без стекла, с тройной решеткой. Холодный воздух льется из него по стене и застывает ледяной коркой, спадающей почти до пола. Под окном вместо плинтуса тоненькая горячая труба. Унитаз заменяет дырка в углу, ведущая вниз в никуда. Сбоку – пристегнутый к стене окованный железными обручами шконарь. В стене напротив в полуметре от пола – железная пластина – столик. На голом шконаре спать невозможно – ледяные железки врезаются в бока. Матрас и одеяло в карцере тоже не положены, поэтому единственное спальное место – пол. Но как спать, когда ты ростом – два метра, а ширина душегубки – полтора? Без всего и ни на чем. А очень просто: труба – спасение. Скорчившись, поджав колени, спиной – к ней. Голову втянуть в воротник, насколько возможно. Чуни – под голову.
Итак, пять суток пошло.
У потолка гул – камера кишит комарами. На дворе зима, но их – как на болоте. В свете тусклой лампочки, что утоплена в глубокой нише, этих тварей не видно. Зато хорошо слышно – их рой гудит, как высоковольтная вышка. Днем туча дислоцируется у потолка, и ее никак не достать. Ночью слетает и жалит, и сосет кровь с особой тюремной жадностью. Клопов – тоже полчища. Днем их также не видно – прячутся под «шубой», а ночью они с комарами заодно. В качестве подмоги клопам – вши. Эти жрут круглые сутки. На протяжении всего карцерного пребывания баня распорядком не предусмотрена, как, впрочем, и умывание. Положено полбуханки черного хлеба, горсть соли, два раза в день кипяток и вечерняя баланда – шлюмка жидкости с плавающим в ней капустным листом, куском луковой шелухи и одной малюсенькой соленой килькой. Если повезет, может попасться кусок гнилой картошины. Но если хочешь выжить – надо есть.
Живодерский каменный мешок. Бетонный корявый пол. Из дырки – вонь. Сверху, из окна, течет ледяной воздух. Одна радость и надежда – труба. Тонкая и очень горячая. Обжигает до волдырей, но сейчас не до этого. Бог с ними, с волдырями. Жмусь к ней то одним, то другим боком. Чунь врезается то в левую, то в правую щеку. Ночью пикируют комары и как горох сыплются клопы. Давлю их с треском на себе. Давлю и считаю. От клопового духа воротит и тошнит. Комарье визжит, лезет в уши, в нос, за шиворот. Бью, давлю… Когда-то же должны они кончиться. На третьей сотне понимаю, что никогда. В полубреду проваливаюсь в сон.
Просыпаюсь от непонятного прикосновения, переворачиваюсь на другой бок и придавливаю лбом к стене крысу. Она цыркает и с перепугу кусает меня под глаз. Вскакиваю как ошпаренный. В углу вижу – еще три. Хватаю впопыхах чунь. Вся стая ныряет в дырку. С размаху затыкаю ее им. Теперь в качестве подушки придется довольствоваться одним.
Опять пытаюсь заснуть. Каждые несколько минут открываю глаза: не ползут ли снова? Но усталость и холод сильнее – проваливаюсь в темноту.
Просыпаюсь рано. Первым делом гляжу в крысиный угол. Затычка выбита, значит, ночью опять выходили. От всего этого передергивает и осыпает мурашами.
Грядет проверка. Распорядок ее строгий и простой. Открывается дверь, выходишь голышом в коридор, спиной вперед. Одежду держишь на вытянутой руке. Вторая – за голову. Лицом – к стене, одежду – на пол. Дежурный и два рядовых осматривают камеру, с силой дергают решетку. По команде приседаешь три раза и – бегом в камеру. Следом летит шмотье.
– Гражданин начальник, здесь крыс полно, – говорю, стоя в чем мать родила.
Начальник – азербайджанец – весельчак.
– Крисов много? Так ляви! На кухня сдавать будешь, хи-хи-хи…
– Тут и клопов, и вшей…
– Ихний тоже ляви. Побистрей поймаешь – спать ки– репко будишь.
Решетчатая дверь захлопывается. Следом– кованая. Проверка окончена.
К вечеру усилился мороз. Холодный воздух с паром полился сквозь решетку еще быстрее. Сидеть на полу невозможно, начинаю ходить кругами. Свербит одна мысль: при таких климатических условиях пять суток не протянуть. Уже знаю, что это такое – недавние дни в ИВС свежи в памяти, но выхода нет. Пока кружу, отирая плечами шершавые стены, с горькой грустью вспоминаю дом, двор, сирень напротив балкона, школьных дружков из этого двора… И вдруг, как слезы, наворачиваются стихи:
На Восточной улице На карнизах узких
Сизари красуются В темно-серых блузках…
Повторяю вслух, чтоб не забыть. И дальше, дальше… По строчке, по куплету. Вот оно и сложилось, красивое стихотворение. И я со слезами на глазах, нарезая круги по камере, читаю его снова и снова – бумага и ручка в карцере запрещены.
Каждый день встаю с ним, будто боюсь потерять что– то дорогое. И опять– нараспев. Но одним стихотворением не наговоришься. Так уж человек устроен – нужно с кем-нибудь своими радостями и горестями поделиться. Особенно здесь, где все – поодиночке за двойными дверями.
Камеры изредка перекрикиваются меж собой. Когда это дежурному надоедает, он включает вентилятор, и уличный холодный воздух задувает по всему коридору.
– Начальник! Выключай, больше базарить не будем!
– Щто, яйца к решетку примерзла? Еще папробуй – в нулевка посажу!
«Нулевка» – отдельная камера, по сути своей и назначению – пыточная. Холодный бетонный мешок с вентилятором у потолка. Зимой за считаные минуты температуру в ней доводят до нуля. Но и без этого в его стенах долго не прокашляешь – неделю, не более. Из нулевки своими ногами выходят редко. Обычно выволакивают за шиворот, а иногда и вперед ногами.
Кипяток в карцере – особая благодать. Им греются изнутри, потому что снаружи тепла ждать не приходится. Благодаря ему держатся и выживают. Курить не положено. Есть – почти не положено. Поэтому от душевной хвори и от простуд одно лекарство – кипяток. Но он лишь ранним утром и поздним вечером, и тепло его ненадолго.
Снимаю тельник, затыкаю решетку – благо оконце маленькое. Становится чуть уютнее, уже жить можно.
Даже в этом скудном жестоком быте есть свои премудрости. Главное здесь – сон. Но чтобы уснуть, надо быть хоть немного сытым. Поэтому дневную пайку хлеба делю на три части. Утром – совсем чуть-чуть с солью и кипятком. В обед – одну треть, и постараться уснуть. Остальное – с баландой на ночь, чтобы дотянуть до утра. Когда ешь перед сном оставшийся кусок, макая в казенную грязно-се– рую соль, кажется, нет на свете ничего вкуснее. Голод – он хуже боли.
Затыкаю тельником квадраты решетки еще плотнее и радуюсь своей догадливости. Теперь можно и вздремнуть. Вытягиваюсь вдоль трубы и закрываю глаза. Вдруг рядом, прямо над ухом: дзинь!.. дзинь!.. Спросонок блуждаю взглядом по камере. Здоровенная крыса прыгает и пытается лапой сбить со столика остатки хлеба. Дотянуться не может, поэтому пробует снова и снова. По-боксерски, боковыми, то с правой, то с левой. Ничего не скажешь – умна тварь и изобретательна: тюрьма и для нее – тюрьма. Не успеваю замахнуться, как она ныряет в свой лаз. Мочусь ей вдогонку и затыкаю чунем. Теперь, чтобы не встречаться с ней еще и днем, ложусь к трубе, одной ногой придавливая затычку. Иногда чувствую, как снизу колотятся. Так и хочется отдернуть ногу, но нельзя: уснешь– сожрут пайку. Говорить кому-то и жаловаться бесполезно – коридорные поднимут на смех, поэтому – скрипя зубами терпеть.
Наконец настает последний пятый день. Считаю уже не часы, а минуты – в шесть вечера должны выпустить. После обеда привычно пытаюсь уснуть. Вдруг прямо на глазах медленно и бесшумно отворяется кормушка. Прямо на меня глядят большие женские глаза, и голос шепотом:
– Саша… Саша, ты меня узнаешь?
Лица в камерном полумраке не видно. Голос тоже не знаком.
– Нет.
– Подойди поближе. Я всего на секунду, нам сюда нельзя. Я с охраной договорилась. Меня зовут Вера. Помнишь, в «Малахит» тебя слушать ходила?
Подскакиваю на четвереньках к двери. За ней, присев на одно колено, красивая глазастая девушка в форме. Когда-то я видел ее в ресторане со сцены. Она изредка приходила, садилась за столик напротив и весь вечер глядела на меня. Мне она нравилась, но исчезала всегда до того, как мы закончим работу. Поэтому ни познакомиться, ни узнать, кто она, не удавалось. Вот здесь и познакомились.
– Я работаю в спецчасти. Найду тебя сама, когда выйдешь. Номер камеры знаю. Что тебе принести?
Она говорит быстро, отрывисто и, видно, очень спешит.
– Сигарет.
– Держи. Когда вернешься в камеру, я тебя найду.
В камеру влетает пачка «Космоса» и спичечный коробок. Дверца тихо захлопывается, и видение исчезает. Лихорадочно ищу объяснение: что это было? Очередная подстава? «Кумовка» или добрая фея?
В человеке все может врать – язык, одежда, прическа. Глаза – нет. Поэтому ей верю.
Приваливаюсь спиной к стене, закуриваю. Одна затяжка, другая, и – поплыл. Голова кружится как у пьяного. Встаю – падаю на стену. Никогда табак так не туманил мозги – вот что значит карцерный рацион. Ломаю сигареты, спички и прячу их в «шубе».
До освобождения– два часа. Доедаю хлеб и отмеряю шагами минуты. Прислушиваюсь к любому шороху. В конце коридора голоса и звон ключей. Сдергиваю с решетки тельник, одеваюсь по форме, жду. Судя по топоту, идут несколько человек. Распахивают настежь дверь, но только наружную, решетку не отпирают.
– Давай, начальник, выводи, время вышло.
– Какой вишла? На, распишись на новий постановлений…
– В каком?
– Десять суток еще.
– За что?!
– Читай, все написано. «За переговоры с соседними камерами».
– Я ни с кем не переговаривался.
– Да он еще и курит! – стоящий за спинами крысиного вида второй коридорный демонстративно выдыхает в камеру дым и забрасывает горящий окурок.
– Точно, курит, а-га-га! – гадко переглядывается меж собой охрана.
– Давай подпищи, а то еще за курений рапорт будет.
Расписываться отказываюсь.
– Тада собирайся на другой камера, – командует коридорный, и дверь захлопывается.
– Начальник, я лучше здесь отсижу! – кричу, упершись лбом в глазок.
В ответ – тишина.
В груди все разрывается от боли, обиды и бессилия. Сажусь на пол, обхватив голову коленями. Слезы капают в бетонную пыль.
Через пять минут обыскивают догола и ведут в другую – № 2. Жалко сигареты. Жалко покидать прежнюю – худо– бедно прижился.
– Эт не мой решений. Щто-то ты со следаком не наладил. А мине началство визвал, постановление на десять сутка давал, я тебе падписат принес. Ты отказаль.
– Поэтому в другую?
– Этот тоже началство приказал. Новый камера – хуже тот. Шестой камера – курорт бил!
По сравнению с новой прежняя действительно – курорт. Эта грязнее, вонючее и темнее. Но самое нехорошее – с большой решеткой, которую тельником не заткнешь. Значит, самое неприятное впереди. Еле высидел пять, а тут еще целых десять.
Мороз за окном не спадает. Затыкаю решетку всем нижним бельем. Его все равно не хватает. Холод рвется в щели, и изо рта идет пар.
Потянулись адские дни. С каждым днем все труднее вставать. В глазах темнеет, в голове шум. Утром, перед выходом на шмон, чтобы не упасть в коридоре, стою, прижавшись лбом к стене. Под самой решеткой она ледяная, и это помогает. Кости рук и ног все время ломит, и душит кашель. От круглосуточного холода нутро изводит боль. Потихоньку перестаю обращать внимание на клопов и прочую живность. Щетина на лице превращается в бороду. Руки и ноги чернеют от пыли. Грязный и обросший в этом смрадном бетонном коконе с каждым днем я все меньше похожу на человека.
Между тем скоро Новый год. По всему – проведу его в этих стенах. Одна радость – готовиться не надо – здесь на всем готовом. Утром спрашиваю начальника:
– На Новый год амнистии не бывает? Раньше могут выпустить?
– Если копита отбросишь, тот же день отсюда пай– дешь.
Ответ обнадеживающий.
Новогодняя ночь – как и все будничные. Карцер стоит на отшибе, поэтому тишина – звуки сюда не долетают.
Меж камерами ленивая перекличка.
– Начальник, когда 12 пробьет, крикни – хоть знать будем, что Новый год настал!..
– Начальник, подгони табачку в честь праздника!..
– Или заварочку!..
Из дежурки молчание.
– Начальник, амнистии уж не просим, так, по сигаретке на камеру раздай. Пачку всего, жалко, что ли?
Скрипит дверь дежурки, следом голос:
– На параша садись, кричи: тюрьма, тюрьма, дай сва– бода! Дай закурить, дай заварить! А-га-га!
И с грохотом захлопывается.
Боя курантов не будет. Запаха елки и апельсинов тоже.
– С Новым годом, братва!..
– В натуре, бля буду!..
Дежурный иногда в своей «козлодерке» громко говорит по телефону, и народ, видя, что тот занят, резко оживляется и начинает делиться новостями. Из них узнаю, что в камеру напротив поместили старого вора в законе по кличке Брильянт.
Пребывает он в таком же склепе, но на общем положении – с матрасом, одеялом и всем своим скарбом. По закону содержать его полагается в обычной камере, но ввиду «особой опасности и неблагоприятнго влияния на окружающих» держать будут здесь. Переговаривается он мало. Лишь коротко отвечает на приветствия и вопросы о состоянии здоровья.
– Эти суки-коммунисты держат меня в трюме, чтобы уморить. Эй, начальник, дай-ка кипяточку.
В ответ – тишина.
– Начальник, ты что там, в натуре, в уши долбишься? Кипятку дай!
– Щто стучишь? Два раз уже давал, лепнешь!
– Не лопну. А ты, если уже два раза давал, может, и мне подвернешь, хе-хе?
– Не блятуй давай, Брилянт, а то нулевка пасажу, – лениво врет коридорный и идет, гремя огромным железным чайником.
Через дверь слышны обрывки фраз их разговора.
– Слышь, начальник, Новиков, певец, в какой хате сидит?
– Не знаю. Гаварить не могу.
– Я здесь, напротив, – кричу я в щель кормушки, – здорово, Брильянт!
– Давай много не пиздите, – ворчит коридорный и уходит прочь.
– Здорово. Тебя за что сюда?
– Врач одна рапорт накатала, будто колес просил. Дали пять, потом десять добавили.
– Вот кумовка… А ты что, в несознанке?
-Да.
– Тогда понятно. Они, местные кумовья, со следствием так и работают. Несознанщиков – под пресс. Я вот тоже сижу здесь, жду этапа. Везут куда-то на восток, а куда – хуй знает. Приболел чутка, здоровье-то, сам понимаешь…
Так несколько дней переговариваемся от скуки. Потом его куда-то уводят с вещами, и сюда он больше не возвращается.
На пятнадцатые сутки пребывания чувства притупляются, и все тело – сплошная боль. Сквозь шум в голове слышу:
– Выходи.
Пытаюсь встать, ноги не слушаются. Ползу вверх по стене, царапая лоб. Вываливаюсь, держась за косяки.
Идти предстоит через двор. Коридорный подгоняет в спину.
– Давай, давай, шевели капитом…
Выходим на улицу. 1лаза режет нестерпимо яркий свет. После камерного полумрака солнце бьет по глазам, как ядерная вспышка. Ничего не успев разглядеть, слепну. Стою как вкопанный– куда идти? Все вокруг черно. Закрываю лицо ладонями, гляжу сквозь щелки. Из темноты потихоньку выплывают снег, стены и тропинка.
– Куда идти, начальник?
– В баня, потом в хата.
По дороге в камеру случается – по тюремным меркам – чудо: навстречу по коридору ведут Богдашова. Проходит мимо с безразличным лицом, не признав. Оборачиваюсь, кричу вслед:
– Серега!.. Куда ведут?
Его глаза оквадрачиваются.
– Еб твою ма-ать… – единственное, что может вымолвить он, узнав меня по голосу.
Его пихают в спину, не дают остановиться.
– Меня, наверное, на этап отправят. В Тагил или в Камышлов! – кричит он, удаляясь, не поворачивая головы.
– А я пятнашку сидел в трюме!
– Я знаю!
Его голос тонет в гулком коридоре.
В бане любезно дают поглядеться в зеркало. Из него красными глазами зыркает грязное бородатое чудище. Худющее, с впалыми щеками, покрытыми сыпью укусов.
– Красив до охуения! Вперед.
Возвращаюсь в свою 505-ю, как в родимый дом. В тюрьме закон: вернувшемуся из карцера– все лучшее на стол. Намазываю пряник маргарином. Эх, как я ел эти пряники!
Вечером половинкой тупущей бритвы «Нева», замотанной меж двух щепок, брею бороду. Вырвать ее – было бы не так больно. Жизнь наладилась.
Глава 20 Кум с ножиком
Очередной карцер получаю за «установление связи с подельниками». Причина – чистая формальность. На самом деле – за выломившегося Вову-второхода. В подобных случаях главных участников сажают в трюм, после этого разбрасывают по разным камерам. Пять суток – это не много и не страшно, если идешь в первый раз – еще не знаешь, что это, потому есть дух романтики. Отсидев разок, понимаешь, на что идешь, оттого на душе невесело. Опять та же камерка № 2. Вши, клопы и комары уже в новом поколении. Прежние – только надзиратели.
Вечером в коридоре беготня и шум. Кто-то «крякнул» в нулевке. Судя по звукам, труп багром тащат за ворот по коридору.
– Суки беспредельные!
– Козлы!.. В хату вернемся – прокурору напишем!
Весь пост бьет по дверям кулаками. Стоит грохот –
последний тюремный салют. Вместе со всеми что-то ору. Голос мой больше всех узнаваемый, поэтому через несколько минут в кормушку гнусавит коридорный:
– Давай, давай, пвець, ари! Скоро тебе так по коридору потащат. Один раз – два раз, и тоже на актировка пайдешь!
Делю все имеющиеся в организме силы на пять и вживаюсь в уже знакомый режим. На третий день врываются двое.
– На коридор! Руки за спину.
– Куда, начальник?
– В оперчасть. Кум вызывает.
– Что, в таком виде пойдем? Переодеться можно?
– Зачем переодеться? Сюда же и вернешься.
Предчувствия нехорошие. Почему к старшему оперу?
За прошлый шум? Тогда почему сегодня? Если хотят добавить, выводить совсем не обязательно.
Шагаю в этом рубище через всю тюрьму в главный корпус. Вид концлагерный, даже идти стыдно.
– Стой здесь! Лицом к стене.
Упираюсь носом в косяк двери. Сопровождающий приоткрывает ее и докладывает:
– Товарищ майор, подследственный Новиков по вашему приказанию доставлен.
– Заводи. Сам – свободен.
Вхожу, с порога здороваюсь.
– Вон туда, – тычет пальцем в угол майор.
В углу маленькая табуретка. Сажусь, разглядываю чуни, грязные ноги, торчащие из укороченных шкер, и грязь под ногтями.
– Куришь?
– Там нечего.
– Ну-ну, нечего. А прошлый раз десять суток за что?
Объяснять и доказывать нет желания. Исподлобья разглядываю кабинет и его хозяина. Из-за большого, высокого стола глядит неприветливый человек в форме. Моя табуретка мала и низка, отчего стол майора кажется еще выше. А сам он, со сверлящим взглядом, еще страшнее.
Долго молча смотрит на меня и наконец начинает:
– Моя фамилия Маленкович. Сиди там, еб твою мать, и не думай, что я пригласил тебя чайку попить или табачком побаловаться.
– Я и не думаю.
– Не догадываешься, зачем тебя из подвала достали?
– Нет.
– Сейчас узнаешь. И на всю жизнь запомнишь, – переходит он на повышенные тона. – Ты что, сука, не знаешь где сидишь? Живешь, как хочешь? Ты в тюрьме, блядь, находишься, понял, в тюрьме!
– Я не спорю. Вы объясните, в чем дело?
– У меня тут не такие, как ты, на корячках ползали. И ты, если надо, поползешь.
Звонит телефон, Маленкович хватает трубку.
– Да!.. Говори короче…
Голос в трубке сбивчиво докладывает что-то. Майор слушает, изредка повторяя:
– Так, бля… Дальше, бля… Охуеть, бля…
Лицо его с каждой фразой мрачнеет и наливается кровью. Не отрывая трубку от уха, он из бокового ящика стола вытаскивает огромный охотничий нож.
– Что, говоришь, на лбу выколото? «Раб КПСС»? Так вот, слушай меня внимательно и делай, что я сказал! – орет он в трубку. – Возьмите его, сука, привяжите к лавке и вырежьте ножом вместе с рогами! Если ножа нет – зайдите, я дам. Или чинариками выжгите, мне по хую! Но чтоб через час этой портачки не было! Все.
Маленкович откидывается в кресло и, постукивая лезвием по краю стола, поясняет мне:
– Еще один умник нашелся, законы свои устанавливать решил. Полосатик уже, а ума нет ни хуя! Выколол на лбу – «раб КПСС». У меня такое не канает. Сейчас вырежут, и – на этап.
Снова звонит телефон.
– Да… Я же сказал: вырезать и в карцер! А лучше башку замотать и на этап.
Человек на другом конце провода продолжает что-то кричать в трубку.
– Никакой больницы, я сказал! Пусть пишет прокурору, дайте ему бумагу и ручку. Жалобу потом ко мне. Я здесь и врач, и прокурор! Писатель, бля, нашелся…
Орет он, рисуясь передо мной и «нагоняя жути».
– Так, на чем остановились?
– Я и не понял.
– Сейчас поймешь. Это твое?
Он выкидывает вперед руку со сложенным меж пальцами письмом. Теперь понятно.
– Не знаешь, что переписка запрещена?
– Знаю. Но в нем ничего по делу нет. Просто письмо домой.
– Но отправил-то нелегально.
– Да. Отправил, чтоб дома меньше волновались.
– Ах вот как! А ты знаешь, сколько мне из-за него поволноваться пришлось, а? Оно где-то на этапе спалилось, попало в управление, а мне за это пизды получать!
– Вам-то за что?
– А за то, будто здесь оперчасть ни хуя не работает! Поэтому всякие Новиковы сидят и катают письма направо и налево. Хотя должны находиться под особым контролем! А Маленкович из-за них получает выговоров пачку и пиз– дюлей тачку!
Опять звонок. Хозяин кабинета слушает и на этот раз расплывается в улыбке.
– А у меня сейчас как раз один певец сидит… Не-е, хе– хе, у меня по-другому поют. Зайди, глянь.
Входит какой-то офицерик. Разглядывает как в зоопарке.
– Что натворил?
– Письма пишет домой.
– На жизнь жалуется? Или на нас?
– Да на нас кому отсюда пожалуешься, только Господу Богу, хе-хе.
– А чего в таком тряпье привели, не переодели?
– А хули ему переодеваться лишний раз – сейчас суток десять добавим и – обратно.
Офицерик, хихикая, уходит. Терпение лопается.
– Вы если хотите дать еще десять, так дайте и уведите. А не издевайтесь.
– Что, бля?.. Ты еще диктовать будешь? Сиди и слушай, что я тебе сейчас говорить буду!
Деваться некуда – мотаю на ус долгую матерную проповедь. Вспоминаю, через кого посылал. Писем было три. Все написаны разной пастой. Все отправлены по разным каналам. Чтобы понять, через какой спалилось, нужно увидеть цвет. Маленкович – опер опытный, читать вряд ли даст. Но – была не была.
– Вы меня наказывать собрались, а письма так и не показали.
Встаю с табуретки, делаю движение к столу.
– Сидеть! Сидеть на месте!
Он расправляет в руках конверт и вытягивает перед собой.
– Почерк узнаешь? Адрес узнаешь?
Вот теперь узнал. Написано и подписано зеленой пастой. Это отправляли вместе с Андрюхиным посланием через Вову-второхода. Теперь все ясно.
Этого самого Вову, угрюмого вида детину, забросили в нашу камеру с месяц назад. По всем признакам сидеть вместе с нами он не должен: вторая ходка, пребывание старшим по камере на посту у малолеток. Такое в то время бывало – второходов с «мутной биографией» иногда подсаживали в камеру к малолетним «смотреть за порядком». Кроме всего он уже осужденный.
Решаем основательно выяснить все подробности его пребывания. Андрюха задает вопросы, делает вид, что верит ответам. Из рассказа выходит, что посадили его к нам потому, что менты откуда-то узнали о первой ходке и «новой делюге».-. Поэтому сделали запрос, и пока документы ходят, он будет сидеть здесь. Но если нароют и все подтвердится – переведут к второходам в осужденку. А что часто вызывают к адвокату – так «делюга серьезная, но есть маза уйти под чистую». Сама собой вырисовывается кличка – «Вова-второход».
Через неделю подозрения немного утихают. Сидит себе, никуда не лезет. От адвоката приходит с чаем, с сигаретами. Неохотно, но делится. Кто-то из сокамерников просит отправить через его адвоката маляву домой. Кто-то – письмо. Малява доходит. Письмо тоже. По содержанию и в том и в другом – порожняки. Первый раз отправляют для проверки. К примеру, прислать в очередной передаче носовой платок с такими-то инициалами. Платок присылают. Потом кто-то отправляет еще. Кажется, дорога налажена.
Наконец один решается на серьезное послание. Его подельник в бегах, и от того, возьмут его или нет, зависит срок и статья. А кроме всего, просит прислать в «дачке» махорки напополам со «шмалью». Условный знак: если подельник в бегах – еще и общую тетрадь с зеленой обложкой. Если взяли – с красной. Вова-второход уносит его с собой на визит к адвокату. Скрученное в плотную трубочку, величиной с сигаретный фильтр, послание, заплав– ленное в полиэтилен. Запихивает глубоко под язык: если что – проглочу.
Через день автора послания выдергивают вместе с матрасом и уводят в другой корпус.
Дальше начинаются и вовсе странные вещи. Первая – вышманывают «ступень». Его прятали в трубе нарной стойки. Опускали на нитке, а конец ее крепили хлебным мякишем на глубину пальца. Ступень передавался из поколения в поколение. И вот, когда вся камера была на прогулке, прошел шмон и его нашли. У кого-то – заклеенные в обложку деньги. Разодранная тетрадь так и осталась валяться посреди камеры.
– Кто-то цинкует, – процедил мне в плечо Андрюха.
В камере поселился дух подозрения.
, Однажды утром отворяется дверь и на пороге возникает та самая Вера, что прорвалась в карцерное здание и бросила мне сигареты со спичками.
– Новиков, в медсанчасть.
Вскакиваю, на ходу продирая глаза. Камера удивленно затихает: какая еще медсанчасть? Никто никуда не просился.
Одеваюсь как в лихорадке и выхожу на коридор.
– Иди вперед до поворота, не оглядывайся.
Сворачиваем, оказываемся перед входом на лестницу.
Это место не просматривается. Если кто-то пойдет по ней – услышим шаги.
– Слушай меня быстро, у нас всего две минуты. Я не подосланная, верь мне, пожалуйста. Я не имею права никого выводить к врачу. Узнают – выгонят. Если надо письмо передать домой – подготовь, я завтра опять прийду. А сейчас пошли обратно. Скажешь, вызвали по ошибке.
Назавтра она пришла, как и обещала. Передаю маляву домой – была не была.
Жду Веру с ответом. Наконец свершается. Она появляется утром, улыбается в дверях.
– Новиков, в оперчасть.
На лестничном закутке передает мне письмо из дома и два червонца.
– Я была у вас дома. Там все в порядке. Вот, передали…
– Спасибо, Верочка.
– Давай повожу тебя по этажам, а то подозрительно будет, что опять так быстро вернулся.
Несколько раз проходим по корпусу и лестницам взад– вперед. Пока идем – переговариваемся. Вера тихо рассказывает мне в спину все новости из дома – они сейчас так нужны. А кроме этого узнаю самое главное – что происходит по делу. Кого вызывали, кого арестовали, что изъяли и чего ждать здесь в ближайшее время.
В камеру возвращаюсь в эйфорическом состоянии. Лежа на шконаре лицом к стене, украдкой читаю письмо из дома. Написано осторожно, на случай «палева». Но все равно тепло. Вот он в руках – кусочек дома, проделавший такой длинный и трудный путь. Слова, имеющие цвет, запах и голос.
Делюсь радостью с Андрюхой. Камера все понимает, но молчит. О таких вещах вслух не болтают.
По ночам готовлю ответ микроскопическим почерком. Жду Веру. Она приходит, и все остальное – как обычно.
– Я сегодня в последний раз. Кажется, меня сдали. Или из вашей камеры, или кто-то из коридорных. Такое чувство, что следят.
Быстро передаю трубочку-послание. Она прячет его глубоко за корсет. Делаем дежурный круг по коридорам и – обратно в «хату». Спасибо тебе, Вера, – эти два письма решили очень многое. А кое-кого и спасли от тюряги.
Больше она не появилась. Моя огромная нечаянная радость и огромная потеря.
По этому поводу решаем виду не показывать, но пасти Вову-второхода основательно.
Посылаем «конем» малявы о нашем «мутном пассажире» на другие корпуса. Из ответов складывается картина: половина его тюремной биографии – ложь.
Готовим предъяву. Вова это замечает или чувствует. Начинает вести себя злобно и агрессивно.
Вторая семейка, в которой жил не дождавшийся ни зеленой. ни красной тетради, шепчется в углу. Нас с Андрюхой посвящают в план: завтра на прогулке будет «предъява и массаж почек». Изъявляем желание составить компанию. Андрюха злится и уже еле сдерживается. «Второход» после обеда неожиданно начинает страдать сердечным приступом и срочно просится к врачу. Приходит, охая и сгибаясь. Падает на шконарь и укрывается с головой.
– На жалость давит, сука, – кивает в его сторону Андрюха.
На вечернем обходе остатки второй семейки вдруг выгоняют на коридор. Дверь камеры открыта, в дверях – дежурный и несколько коридорных.
– Вещи собрать. Матрасы – с собой!..
Выходя, оба оглядываются и красноречиво смотрят на нас: какие еще нужны доказательства?
В эту ночь собираемся в дальнем углу «помусолить стиры». Играем самодельными тюремными картами. Это – «для близира». На самом же деле решаем, что делать с этим «второходом».
– Скорее всего, он утром выломится.
– Нет. Скорее, выдернут нас. Эта крыса будет сидеть до конца. Он здесь для чего-то нужен.
Разговор идет оборванными фразами, шепотом, «маяками» и пальцовкой.
– Надо эту крысу давить. Ночью – на удавку, а утром бить в дверь: человек актировался! – внес предложение Андрюха. Все поддержали. Я тоже.
Согласно плану завтра, когда все идут на прогулку, двое остаются– по одному в камере не оставляют. За этот час распускают все капроновые носки и делают «кру– ченку» – тюремную веревку из скрученных нитей. При толщине с мизинец, на прочность может выдержать вес любого человека. Давить решено втроем. Андрюха – на петле, Серега – старший семейки – на руках, я – на ногах. Ночью, за пару часов до подъема, когда никто уже по камере не тусуется.
Андрюха объясняет процедуру:
– Эта мразь спит на брюхе. Я завожу удавку, а дальше… главное, чтоб не завопил. Потом подвешиваем к верхнему шконарю.
Честно говоря, я мало верил в то, что все окончится, как задумал Андрюха. Скорее всего, будет крик, шум-гам, подопытный выломится. Нас дернут в оперчасть, и все мы будем стоять на том, что «человек хотел повеситься, но мы не дали». Для начальства убийство и самоубийство в камере – почти одно и то же. Поэтому раздувать никто не станет. В худшем случае всех нас раскидают по разным «хатам». Вова-второход будет, конечно же, «втирать операм», что его хотели жизни лишить. Но он – один, а нас – трое. Нам веры больше. И потому начальство примет, конечно же, нашу сторону.
Но это были всего лишь предположения. А пока было решено – давить.
Настал вечер. По коридору – эхом шаги и голоса проверяющих. Вова лежит на шконаре, укрытый с головой.
– Вставай на проверку, – толкает его Андрюха.
– Не могу… Что-то с сердцем опять хуево, – цедит он сквозь одеяло.
Камера встает, строится. Распахивается дверь, коридорный привычно орет:
– Стройся! Дежурный по камере, докладывай…
В этот момент «второход» срывается с кровати и пулей вылетает в коридор.
– Гражданин начальник! В камеру больше не войду!.. Меня хотят убить!
Дверь захлопывается. Через полчаса – повальный шмон. Утром меня – в карцер, Андрюху – на другой корпус. А с ним до кучи еще несколько человек. Судьба «не– додавленного» так и осталась неизвестной.
Маленкович наваливается на стол, растопыривает локти, как паук, и орет мне прямо в лицо:
– Ты вернись, бля, на землю! Хуля сидишь мечтаешь? Слушай и запоминай! Мы тебя закопаем так, что никто не отроет. И даже если отроешься, мы тебя снова закопаем! И будем, блядь, закапывать до тех пор, пока не станут расти одуванчики! Понял, бля? Вот тебе постановление еще на десять суток. Расписывайся и пиздуй в свои хоромы!
Хотелось плюнуть и поскорее уйти. Но уходить, вернее, быть уведенным просто так не хотелось.
– Можно мне сказать, гражданин начальник?
– Тебе что-то неясно?
– Нет, все ясно. Просто хочу сказать, что все в этом мире относительно и не вечно. Сегодня я сижу перед вами на этом привинченном стуле, а завтра – вы можете сесть. Может так случиться, что жизнь поменяет местами.
– Ах, вот ты о чем!.. Тогда слушай меня еще раз. И запоминай каждую букву. То, что ты можешь сесть в мое кресло, я верю – такое может случиться. Но то, что я сяду на твое – не случится никогда! Никогда! Блядь буду, если хоть дэцл совру!..
Он все-таки соврал. Через несколько лет его посадили – то ли за взятки, то ли за превышение полномочий. Заключен был в эту же тюрьму, ходил – руки за спину – по тем же, что и я, коридорам. И сидел на точно таком же стуле. А может быть даже и на этом.
Глава 21 Камышловская пересылка
Начало лета ознаменовалось нежданным путешествием. Июньским утром в дверь камеры трижды шарахнули ключом, и голос следом пролаял:
– Новиков, готовься с вещами!..
Собираюсь мигом, на ходу прощаюсь. Ведут по коридорам незнакомой дорогой.
– Куда меня?
– На этап.
Этапка – грязное, зловонное помещение размером со школьный спортзал. В ней уже с десяток разношерстных персонажей – кому куда. У параши – пара опущенных, остальные по худости рода – кто где. Двухъярусные нары вдоль стен, вместимостью человек этак на сто, а то и более. Место на первом ярусе под оконной решеткой свободно. Занимаю его. «Сидор» – под голову, в телагу – с головой. С мыслями, куда и зачем везут, пытаюсь заснуть.
К обеду народу прибывает. У параши – аншлаг. Нары – кишмя.
Кому не досталось места – тусуются по камере.
Приходит офицер, выкрикивает фамилии.
– Кого назвал, выходим на коридор, быстро!
Доходит до меня, с ног до головы рассматривает, качает
головой и провожает взглядом.
– Куда этап, начальник?
– Тебе – в Камышлов.
Воронки набивают, как всегда, до треска. Меня по традиции – в «стакан». Едем на вокзал, в этапный двор на улицу Стрелочников.
На воле я часто ездил по ней и хорошо знал, где это. Однажды даже заглядывал в щель трехметрового забора и видел процедуру погрузки в «Столыпин». По иронии судьбы точно напротив этого двора через дорогу стояла пятиэтажка, в которой жил мой компаньон по изготовлению «Маршаллов» Юра Юнцевич. В этом доме мы с ним сделали не один комплект.
Воронки влетают один за другим в открытые ворота, становятся гуськом. Начинают выкрикивать по фамилиям. Все как обычно: быстро выскочить, пять шагов вперед, сесть на корточки, руки за голову, вещи рядом, смотреть в землю. Вокруг – собаки, русские и нерусские лица с автоматами. Мат, крики. Здесь понимаешь, что такое плен и окружение.
Меня выкрикивают последним. Вышагиваю из воронка. В одной руке телага, в другой – пожитки. Передо мной – по четыре в ряд, с обхваченными руками затылками, на корточках – попутчики. Стою в рост. Садиться в эту позу обидно и унизительно.
– Сесть! – орет какой-то сержант. – Сесть, говорят, чего вылупился, длинный?!
Хочется плюнуть в эту морду. Продолжаю стоять.
– Сесть, сука, сейчас собаку спущу!..
– Спускай, чего орешь?
– A-ну, в сторону! – орет сержант и толкает с разбегу меня в плечо.
Отлетаю на несколько шагов.
– Этап, встать, пошли вперед к вагону! Смотреть под ноги! Не озираться! Оружие применяем без предупреждения!
Строй молча поднимается и бредет в сторону путей.
В этот момент на спину мне прыгает здоровенная собака и сбивает с ног. Падаю и инстинктивно собираюсь в клубок. Пес рычит, хрипит, очень больно вцепляется в плечо и волочет по земле, мотая мордой. С каждой секундой становится все страшнее и больнее. Хватает за ноги, бьет лапами и наконец начинает рвать и таскать волоком. Между дворовой-сторожевой собакой и конвойной при одних и тех же размерах есть большая разница. Первая – лает, пугает и кусает, как повелела природа. Вторая – обучена: рвет молча и знает, как загрызть. Оттого и страшнее.
Челюсти животины наконец хватают мой шиворот вместе с кожей и захлопываются с хрустом. Зверюга тащит меня по пыльной земле к воронку, и вдруг крик:
– Отставить! Убрать собаку! Вы что, твари ебаные, делаете?!
Проводник дергает псину изо всех сил за поводок и оттаскивает на себя.
Со стороны путей бежит какой-то офицер в форме вэ– вэшника. На ходу орет диким матом:
– Вы что, чурки ебаные?! Кто приказал?!
Конвойные молчат, начинают рассредоточиваться.
Подбегает ко мне:
– Вставайте, Александр. Извините, что так…
И в сторону сержанта:
– Вы что, твари? Это же Александр Новиков, певец… Кто приказал собаку?..
Тишина. Стволы опускаются вниз.
– Пошли к вагону.
Отряхиваюсь, иду. Офицер шагает за спиной, бормочет матом под нос. Несколько конвойных – сбоку. Собака – позади. Боли не чувствую, как в лихорадке.
Клетка, в которой предстоит ехать, переполнена. Размер ее – обычное купе. Только вместо двери – решетка, а вместо четырех пассажиров– шестнадцать, не считая меня. Ехать всего полдня, потому не смертельно. Предстоящее путешествие– одно длинное интервью и знакомство артиста с истинными поклонниками. Между делом – общение с прогуливающимся по коридору узкоглазым конвоиром и его собакой. Правда, уже другой.
– Начальник, своди на оправку, – долетает голос из соседней клетки.
– Оправка дома делять будишь, – откусывается тот, не оглядываясь:
– Начальник, пить охота!
Конвоир несет чайник, просовывает через решетку. Подставляем по очереди кружки. На всех выходит по несколько глотков. В вагоне жара. Хочется пить и пить.
– Начальник, давай еще.
– Сам давай. У мене один место щекатливая.
– Так давай пощекочем. А-га-га!..
– Адын хахатал, его виебли, он перестал! – огрызается солдат и уходит в конец вагона.
– Начальник, а в туалет?..
– Не хуй било вода глатать. Три часа терпи.
Приходит начальник конвоя:
– Приготовились на шмон.
– Какой шмон, начальник? На тюрьме шмонали.
Начинают выводить по одному в пустую клетушку – последнюю в дальнем конце. Конвойные вытряхивают мешок, роются в вещах. Цель шмона понятна: отобрать что приглянется. Хоть и отбирать-то уже нечего. Я, как всегда, на процедуру – последний, и в скарбе моем копаются с особой тщательностью. Разбойничий интерес вызывают две упаковки мыла, сигареты с фильтром вроссыпь, новые носки и носовые платки. Чего еще солдату надо?
– Мыля целим куском не положена. Будем резать папалям. Сигареты тоже папалям.
Конвойные откладывают в сторону мыло, выгребают из мешка половину сигарет и какое-то тряпье, кажется, свитер.
– Это на дембель наш земляк пойдет, давай падгани и тогда тут адын паедешь.
В разгар дележа появляется начальник конвоя. Понимает, что изъятие незаконное, по «Столыпину» может подняться шум. Во избежание оставляет в клетке меня одного. Торговаться и взывать к совести бесполезно.
– Новиков, не жадничай, тебе еще сидеть долго.
Аргумент убедительный. Считаю обмен состоявшимся.
По вагону перекрикиваются. Где-то в начале – такое же
«купе» с девками, потому остроты в оба конца – в голос и под общий хохот. Тема одна: варианты единения полов в различных формах при полной невозможности такового в данных условиях. Пошлятина жуткая. Но здесь и сейчас – смешно.
Из «козлодерки» начальника конвоя потянуло тройным одеколоном и моими сигаретами. Несколько раз он проходит по вагону, с каждым разом все шатче. Каждый раз останавливается напротив и заговаривает. Наконец, изрядно поднабравшись то ли водки, то ли одеколона, прислонив лоб к решетке, шипит:
– Новиков, бабки есть?
– Чего?
– Червонец есть? Могу бухалово взять. Есть же бабки, я знаю, в тетрадке в обложку заклеены. На спор?
– Откуда бабки, начальник, твои вон даже мыло забрали.
– А ты че, блядь, пожалел? Тебе завтра в дачке еще пришлют, а мы тут месяцами катаемся, живем здесь. Нам еще хуевей, чем вам.
– Так не служи.
– Да не в этом дело. Ты известный, тебе с воли подгонят. Короче, бабки при себе есть? Или опять под шмон пустить? Ну, думай, думай. Я пойду пока. Но вернусь, понял?
Через час он вернулся. На решетку, вцепившись в нее руками, грудью плюхнулось невменяемое от водки существо в расстегнутом кителе, надетом поверх майки:
– Ты, бля, борзеешь, я смотрю, до хуя… Я, если захочу, знаешь, что могу здесь с любым сделать?..
Он висел на руках, упершись одной ногой в противоположную стену, и шмакодявил слюнявым ртом, тупо глядя перед собой:
– Я, между прочим, таких, как ты, до хуя видал. Как скажу, так и будет… Я тут командую, понял, бля?.. А не ты… Мне по хую, что ты известный… Хочешь, я тоже известным стану?
Он навалился плечом на решетку и стал расстегивать кобуру.
В этот момент я, наверное, в первый раз в жизни понял, что такое – «некуда деться».
Он вытащил пистолет, поставил ствол на решетку напротив моего лба й процедил:
– Вот застрелю тебя и тоже известным стану… Ссышь, бля?..
Я молча смотрел в ствол. Вагон качало. Палец он держал на крючке. И было только три надежды: что патрон не в патроннике, что пистолет на предохранителе, а третья – на Господа Бога.
Не было страха. Не было паники. На душе сделалось холодно и по-сиротски одиноко. Он с минуту молча переводил ствол с моего левого глаза на правый, тупо и зло глядя мне в переносицу. Сколько тянулась эта минута? Сейчас трудно вспомнить. Наконец он опустил пистолет и стал пихать его обратно в кобуру:
– Ладно… живи, бля. Я по беспределу не работаю… Я не чурка…
Отвалился от решетки, шарахнулся о соседнее окно и, качаясь, потащился к себе. Ни до конца пути, ни на выгрузке я его больше не видел. Но всю дорогу не мог оторвать глаз от пустой решетки.
Камышловский перрон встретил теплее. Не успел выпрыгнуть из вагона, четверо людей в форме подхватили на лету: двое – за пояс, двое – под мышки и понесли скорым шагом в ближайший «воронок». От земли отталкиваться ногами почти не пришлось.
Тащат, приговаривают. Забрасывают с размаху. Занимаю место в «стакане» – основная конура уже забита до отказа.
Тронулись. В кабине конвой включает магнитофон. Врывается «Помнишь, девочка…» Будто она вовсе не в тюрьме. Так и есть – она свободна, и это главное. Дальше еще что-то из «Извозчика», а потому ехать легче, ехать веселей. Даже в тюрьму.
На шмоне обслуга рассматривает как редкого заморского гостя.
На ночь определяют в сырую, холодную камеру, с потолком в виде церковного свода и сваренными из ржавой листовой стали нарами. Осматривать обитель никто не мешает – сижу один.
Стены больше метра толщиной, створ окна с четырьмя рядами решеток. Похож больше на лаз. Камера врыта в землю, решетки стоят на уровне глаз. Некоторые, видно, древние, кованные кузнецами вручную. Снаружи – зонт, так что ни неба, ни двора не видно. Вместо пола – огромный плоский камень, размером с половину камеры. Лежит наверняка со дня основания тюрьмы – двести с лишним лет. Лучшее средство от подкопа и соблазна на побег. Через этот каменный мешок кто только не прошел: и декабристы, и народовольцы, и даже зачинщики картофельных бунтов. Топтались по этому самому валуну. С теми же мыслями и тюремной тоской. Просовываю руку сквозь первую решетку, сжимаю в ладони вторую, кованую. Эта тоже со дня основания. Эту тоже, поди, испытывали на прочность декабристы, и тоже безуспешно. Много всякого народа побывало. Кирпичной кладке тоже лет двести. Сама камера похожа больше на пыточную, но другой не будет, и надо как-то спать. Сворачиваюсь на ржавой ледяной железяке и, стуча зубами, засыпаю.
Утро мудренее. Шлюмка жидкой овсянки, черпак рыжего теплого пойла в эту же посуду, полбуханки хлеба, и жизнь на новом месте началась.
Ведут в каптерку, сдавать вещи. Здесь уже полно народу, кое-кто со вчерашнего этапа.
Встречает, распределяет и командует прибывшими немолодой мужчина по кличке Пират – заместитель начальника по режиму, с удивительно тупым выражением лица. Изымать, отбирать, стричь налысо ему доставляет особое удовольствие. Говорит протяжно, то юродствуя, то хихикая, то переходя на крик. Вспоминаю опущенного с такой же кличкой из камеры 505, и на душе немного легче.
– Ну что, Новиков, стричься будем добровольно или через карцер?.. Гы-гы-гы…
– У меня скоро суд, лучше не надо.
– Не-е, здесь всем положено. Вдруг вы вшей мне сюда завезли. Мне чужих не надо, своих хватает. Или еще хуже – мандавошек, гы-гы-гы…
Народ тихо ржет и тихо ропщет.
– Гражданин начальник, может, стричь только, кто заехал надолго? А кто проездом, может, так проканает?
– В натуре, начальник, этапом дальше идем, хуля на пересылке стричь? Нигде же не стригли.
– А у меня, ебтыть, свои законы: всех – под ноль!
Через полчаса наблюдений видно, что это мелкий тюремный садист. К тому же еще и полный идиот. Особенно сладострастно употребляет эти качества, шмоная мои пожитки.
– Сигареты в целом виде не положены, – запускает лапу в мешок, гадливо ухмыляется, выгребает горстьми и давит в крошево, – вдруг там малявы, а?..
Вытаскивает тапки, выдирает стельки, отрывает до половины подошвы:
– А это тоже надо проверить… Вдруг там ступинаторы? Вдруг ты меня пырнуть задумал, гы-гы…
Пытаюсь вступиться за бедные свои шмотки. И зря – Пиратова морда наливается кровью, и он орет:
– Что-о?! Указывать будешь?! Сейчас пять суток выпишу.
Поворачивается к дежурному и, уже работая на публику:
– Новикова на стрижку! Остальные – в баню и не стригутся!
Ловлю сочувственные взгляды, собираю лохмотья. Через полчаса «обнуленный», с матрасовкой через плечо, шагаю в сопровождении коридорного в камеру № 10.
Вхожу. Конура на восемь мест. Проживают шестеро, два шконаря свободны. Народец сидит за столом, рубится в домино. Располагаюсь на первом ярусе. Играть прекращают, начинаем знакомиться. Состав без особого родового благородства: пара мелких воришек, бомж-потрошитель, мошенник, расхититель, кухонный боксер и дезертир. Даже обидно: ни одного убийцы, разбойника или, на худой конец, грабителя.
Один из «воровского» угла, по фамилии Заец, – почему– то с ударением на последний слог, – ботает не переставая. Смесь русской фени и украинской мовы дает неповторимый речевой эффект. «Незамовляемо» – как сказали бы в Украине.
Обитателям камеры он, видно, уже изрядно надоел. Или все, что знал, рассказал. Поэтому мой приход его оживил несказанно.
– Ну все, Александр, теперь к тебе с рассказами – нашел свободные уши. Ты-то первый день, а нам по новой эту херь слушать, – ворчит с верхнего шконаря бомж.
– Та ладно… Шо тоби у канализации много лапши по– навешалы? Кто на небо через люк дывився, тому зараз нормального чаловика слухать не в лом!.. – беззлобно парирует Заец.
После первого дня пребывания понятно, что тюрьма здешняя со свердловской сильно рознятся. Еда скудная – казалось, куда уж скуднее. Ай нет – может. Камерки маленькие, переполненных нет, а потому тихо и невесело. Никаких тебе сюрпризов и приключений. Ни драк, ни спецназа с дубинвалами, ни шмонов, ни камерных театров. В общем, по тюремным меркам – никакого удовольствия.
К вечеру все оживает. С темнотой начинают перекрикиваться. Здание представляет собой квадрат с решетками камер внутрь двора. Голоса летают от стены к стене, любой слышно отчетливо. Перекрикиваются подельники, земляки. «Дамы» с «кавалерами» перетявкиваются порнографическими остротами. Традиционно какой-нибудь дурачок из первоходов: «Тюрьма, тюрьма, дай кликуху!» Традиционно тюрьма предлагает: «козел!., петух!., дырявый!..» Ну, может быть, для разнообразия– «дунька… зинка… матильда».
И здесь в самый разгар вечернего гвалта врубают в качестве глушилок громкоговорители под крышей, по углам. Как издевку ли или чтоб сделать мне приятное – заводят «Извозчика». И так далее – весь альбом. Перекрик стихает. Музыка на полуслове обрывается.
– Давай дальше, начальник!..
– Врубай, в натуре, чего остановил!..
Начинается ор, стук по решеткам. Тюрьма злится.
Гнусавый голос в громкоговоритель:
– Отбой… Отбой…
Стуки и крики сильнее.
– Какой отбой, начальник!.. Не жлобись!
Постепенно все стихает. И уже в почти тишине чей-то крик:
– Тюрьма! Новиков, певец, в какой хате?
– В десятой! – отвечает соседняя с нами камера.
Ну вот, теперь как дома.
На следующий день ведут на беседу к начальнику изолятора. Майор Поляков – очень добродушный, вежливый и благообразный. Расспрашивает о деле, о семье и детях. Очень отличается от своих свердловских коллег. Дает какие-то бытовые советы, рассказывает что-то из истории самой «Камышловской пересылки». Обещает, в случае если жена привезет передачу весом более положенных пяти килограммов, возражать не станет и урезать не даст. Слово свое полностью сдержал. За все лето моего пребывания в этих стенах я получал их вдвое большего веса. К всеобщему ликованию сокамерных обитателей, часть которых копченую колбасу впервые попробовали только здесь.
В разговоре вспоминаю про Пирата:
– Это же настоящий идиот, взял – налысо остриг, изломал сигареты…
Поляков, улыбаясь, морщится. Пытается свести инцидент к общим для всех правилам. Получается это у него плохо, что, кажется, он и сам понимает:
– Ладно. Больше никто до тебя докапываться не будет. Ты только повода не давай.
Вероятно, у него с Пиратом разговор был или сделал замечание – Поляков и здесь свое слово сдержал. Только, вот Пират озлобился пуще прежнего.
Каждый четверг по дороге в баню он встречал нашу камеру особым матом и «вшивыми лекциями». Особенно любил держать подолгу в предбаннике и урезать пайку мыла вдвое, приговаривая:
– Кто, блядь, на два делить умеет, тот на два и помножит. А кто, блядь, самый умный здесь, тому с волосами не хуя в бане делать.
Мысли его были глубокими, но понимали мы его легко.
Медленно проползла неделя. Через тюремную почту и молву узнаю, что Богдашова увезли в Нижний Тагил, а Собинова оставили в Свердловске, и теперь нас будут держать по разным тюрьмам. Значит, что-то происходит. На носу Игры доброй воли, студенчество протестует, может быть, поэтому. А может, фабриковать дело оказалось не так-то просто и оно зашло в тупик. Но скорее всего, чтоб прекратить наше общение.
С такими мыслями валяюсь целыми днями на шконаре. По ночам иногда пытаюсь писать стихи. Кое-что получается.
В один из вечеров сразу после баланды в камеру вталкивают парня лет двадцати. Бледный, нервный, бормочет что-то невнятное. Садится прямо на пороге, спиной прислонившись к двери.
– Эй, ты опущенный, что ли? – спрашивает кто-то с верхнего шконаря. – Ты что, оглох? Или охуел, чего молчишь?!
Парень не обращает внимания, сидит, тупо глядя перед собой. Народ спускается к столу. Тип любопытный.
– Эй, ты гонишь, что ли? Как зовут? Откуда, за что?
Тип молчит, ложится на бок, стреляя ногами.
– Э-э, да это, по ходу, наркоман, – делает заключение Заец, – нажабився, падла.
– Эй, начальник! – бьет в дверь кто-то из недовольных, – убирай наркомана, у него ломки, он тут крякнет, а нам потом отвечать!
Голос из-за двери:
– Не крякнет. Он, сука, нам все мозги уже выеб. Такого нам менты привезли. Колес просит. До утра пусть сидит. Если что, пизды дайте, а утром врач придет – заберет.
Через час начинается невообразимое. Парень хрипит, бьется головой о дверь. Лицо, лоб в крови. И орет дико и истошно:
– Откро-о-ой!.. Начальник… подыха-а-ю! А-а-а-а!..
Так проходит еще час. Скрутить его трудно – рвется, кусается. Глаза стеклянные, безумные.
Полкамеры колотит в дверь изо всех сил.
– Начальник! Убирай его или зови прокурора! Вы что над человеком издеваетесь, его к врачу надо, а не в хату!
Коридор отвечает молчанием.
Все до утра в роли санитаров психушки. Бедолага корчится в ломках под дверью и, не переставая, стонет.
За восемь часов в качестве наглядного пособия этот парняга сделал для борьбы с наркоманией больше, чем любая телеагитация.
К утру его с искусанными в кровь губами и разбитой головой наконец выволакивают на коридор и тащат в мед– часть. Камера облегченно вздыхает.
– Я согласен, чтоб еще двух Зайцев посадили, пусть сутками пиздят, чем одного такого, – подводит итог один из нелюбителей украинского диалекта.
– А я согласен, шобы вместо твоего языка зараз долгий хуй вырос, шоб молча изо рта стояв.
Все ржут, эти двое тоже.
Хлопает кормушка, и рожа баландера возвещает о наступлении нового дня:
– Пайку разбираем.
Так, в темпе тихой растительной жизни, проходит лето. Без допросов, без угроз, по тюремному распорядку и инструкциям. Дело не закончено, а потому затянувшаяся пауза роит в голове тревожные мысли. Рано или поздно предстоит этап в Свердловск. Процедура, судя по прошлой, не из приятных, но никуда не деться. Неясно одно – когда? За забором – август. На душе – ноябрь.
Впереди – неизвестно, сколько их. Наконец вызывает Поляков.
– На тебя пришла разнарядка.
– Это что?
– Приказано этапировать обратно. Скорее всего, завтра.
Еще немного посидели, поговорили. Он – не помню, о чем. Я – о том, что все мне здесь понравилось. И если принять свердловскую тюрьму за дом родной, то здесь – выезд на лето в санаторий.
В камеру возвращаюсь с улыбкой:
– Все, мужики. Завтра – на этап.
Вечером забирают из камеры и ведут в ту самую холодную душегубку, с валуном на полу и сырым потрескавшимся куполом. На ржавом железе долго не усидишь. Хожу кругами, диагоналями и восьмерками – так теплее.
В дверь вонзается ключ, хрюкает засов, и на пороге возникает майор Поляков. Оглядывает камеру, спрашивает, все ли нормально. Неожиданно задает вопрос, обращаясь почему-то по фамилии:
– Скажи, Новиков, только честно…
– Я всегда говорю честно.
– Завтра не побежишь? Дай слово, что не побежишь.
– Никуда я не побегу. А что, на дело красную полосу повесили? Бумага, что ли, какая пришла?
– Нет. Просто спрашиваю, на всякий случай. Я завтра утром за тобой приду.
Поворачивается, уходит. Остаюсь в раздумье. Чтоб начальник за кем-то приходил – такого не припомню. Какая уж там разнарядка пришла – только гадать. Может, повезут не в «Столыпине», а в «воронке»? Может, вообще отдельно, спецэтапом? Хорошо бы. А может, вовсе и не в Свердловск, а в еще какую-нибудь тюрягу? Это плохо. Перемалываю сотню вариантов в голове и с последним, самым невероятным – «выпустят под расписку», – засыпаю.
Поляков, как всегда, держит слово. Утром входит в камеру бодрый и улыбчивый. Одет в тренировочный костюм – это сразу бросается в глаза.
– Ну что, как спалось? Все помнишь, о чем вчера договорились? Скоро поедем.
Дверь затворяется, по коридору тихие шаги. На душе волнение: что происходит?
Тюрьма от вокзала в двух кварталах. Езды – две минуты, ходьбы – десять. Сейчас уже не могу вспомнить, на чем туда прибыл. Не на «воронке», это точно. То ли на служебной машине, то ли пришел с начальником пешком. Но точно помню, как брел с ним по перрону в ожидании поезда. А еще помню, что в этот день был выходной. Тогда и понял, почему он так настойчиво спрашивал, не ударюсь ли в побег.
И вот мы двое без всякой охраны, без конвоя и собак. Со стороны – обычные пассажиры. Мимо ходят такие же, казалось, люди. Такие, да не совсем. И никому из них в голову не приходит, что вот этот длинный, с мешком через плечо – арестант, а этот – в кроссовках и спортивном – начальник тюрьмы. В стороне от основного перрона стоят «воронки». Ждут того же поезда. Подходим вплотную. Конвой сидит в кабинах и внутри машин. Наконец подходит поезд. Наш вагон – прямо напротив. Из двери, повисая на поручнях, выглядывает бравый кавказский горец в фуражке, заломленной на затылок, – начальник конвоя. Поляков и еще кто-то из сопровождающих идут к вагону. Хозяин фуражки уже издали кричит с сильным акцентом:
– Не адин мэста нет! Ни адин не пасажу, разворачивай «варанки» обратно!
Машет руками, показывая, что вагон переполнен.
Поляков подходит, показывает то ли корочки, то ли документы. Что-то говорит тому снизу вверх, кивая в мою сторону. Голова начальника конвоя резко поворачивается, рука прихватывает фуражку на затылке, и он орет на весь перрон:
– Новиков? Пвец? Если надо ради этот человек всех до один вигнать, всех вигоню! Новиков адин вазьму! Летальные – заварачивай!
Прощаемся с Поляковым у подножки:
– Ну что, счастливого пути. Желаю во всем тебе удачи.
– Спасибо вам за все, честное слово, Владимир Лифантьевич, – в первый раз называю его по имени-от– честву.
Взбираюсь по ступеням. Начальник конвоя подхватывает за руку. Начальник тюрьмы идет обратно к «воронкам». Они разворачиваются и уезжают, не высадив ни одного человека.
В тамбуре солдаты с собакой. Всматриваюсь – не та ли? Иду по проходу, следом – горец. Фуражка в руке, машет ею:
– В самый канэц прахады. Как тронэмся, переведу.
Клетка, в которую определяют меня, набита до отказа.
Народ на нижней лавке теснится. Втискиваюсь, мешок – на колени. Для обитателей я такой же, как все, только под два метра ростом. Поезд резко дергает и быстро набирает ход. Поехали домой.
Курить на станции запрещено, поэтому с первым стуком колес начинают набивать самокрутки. Сигареты – роскошь, в основном – самосад.
Лица утопают в ядовитом газетно-махорочном дыму. Затяжка, другая, и потянулся традиционный этапный базар: кто?., откуда?., куда?.. В тюрьме нет вопроса – за что? Все – ни за что. Вопрос – какая статья? Спрашивают, отвечаю. Никто понятия не имеет, кто я. Судя по статье, хозяйственник-расхититель в особо крупных размерах. В клетке ни одного коллеги. Все разбойники, убийцы, воры. Поддерживать разговор на эту тему некому. Еду молчком, лениво участвуя в общем базаре и ожидая, когда переведут. И куда?., весь вагон – битком.
– Новиков, виходи.
И, обращаясь к остальным:
– Что, белять, такой щалавек с вами едет, не нащли место хороший уступить?
Захлопывает решетку и уже сквозь нее:
– Это ж Новиков, который про извозчика пает. А вы сидищь тут, махоркам весь мазги пракурил.
Подталкивает меня в плечо:
– Давай за мной.
Дальше клеток нет, только служебный отсек. Вхожу за ним следом.
– Садысь. Со мной паедещь. Не возражаешь, хи-хи?
Опускаюсь на мягкую лавку.
– Ты распалагайся. Я пайду дела сделаю. Пасиды пока, газеты пачитай, вот. Сигареты, хочищь, кури. Зажигалка, вот.
Он уходит, и я оглядываю его жилище. На стенах – вырезки из журналов с девочками в купальниках и коротких юбках. Все как в обычной казарме. Закуриваю его сигареты с фильтром. Странный тип. Но добрый какой– то, веселый и рисковый. Если донесут о сегодняшнем – его или разжалуют, или отдадут под суд. А Поляков? Если на него донесут – уволят со службы без звания и пенсии, или тоже – под суд. Но ведь хорошие оба. Инструкции нарушают, закон нарушают. Но нравится Новиков – и плевать на все законы. Вот она – Россия. Хоть уралец, хоть горец: «нравится» – и закон не писан. И я, наверное, такой же. Оттого, видно, ее умом и не понять. Только сердцем. А если его нет, так и проживешь дурак-дураком, не поняв ни ее, ни граждан ее. Что по ту сторону клетки, что по эту.
Возвращается начальник. Снимает китель, принимается накрывать на стол:
– Сейчас пакушать будем. Тущенка есть, рыба кон– серва. Я тоже не ел с самый утра.
Открывает банки огромным ножом, пластает хлеб:
– Кущай, кущай. Сейчас чай заварю.
Вываливает горстями на стол конфеты:
– Ты не стесняйся. Каторый если скажет, что с начал– ник канвоя пить-кушать западло, таму пасылай на хуй. Ми все люди. А каторий не люди, таму объяснить беспалезна. Таму в рила нада дать, тагда панимает.
Поели, принялись за чай. Молча пить неудобно. Вкратце рассказываю свою историю. Больше всего его интересует, как подпольно записывали песни. Переходим на них. Он слушает, улыбается, кивает. Потом хитро сощуривается, сжимает руки под столом в кулак, выставляя большой палец и мизинец, и шепотом:
– А может, па сто грамм? У меня заначка есть.
– Нет, благодарю. Честное слово, не пью.
– Тогда адин маленький просьба… Можешь только для меня?.. Гитара нет, баян нет… Сейчас через минута приду.
Минут пять его нет. Гадаю, зачем ушел. И тут в дверь как по воздуху вплывает мандолина, а следом – сам начальник в улыбке:
– Гитара нет… Может, на этом.. Ну хоть один песня… Ну хоть один строчка… Вези меня, извозчик…
Мандолина иссохшая, обшарпанная, вдрызг расстроенная, в три струны. Настраиваю под три первые гитарные. Хозяин инструмента завороженно глядит мне на пальцы и молча ждет. Быстро подбираю по ладам мелодию «Извозчика». Так смешно, так трогательно и так слезно:
– Тай-дай-дай-дай-дай-дай-дай…
Больше похоже на балалайку. Брякаю трезвучиями виз– глявый аккомпанемент, и мы вместе поем: «Эй, налей-ка, милый, чтобы сняло блажь…»
– Можно, я дверь открою? Пусть все паслушать будут. Вагон уже все знает.
– Не надо.
– Харащо, харащо. Еще адин песня, очень прашу, про Вано, каторий по телефон домой звонил и «Волга» паку– пал за двадцать пять, хи-хи-хи…
Это был, наверное, самый благодарный слушатель. Так и запомнился: улыбчивый, с фуражкой на затылке. А еще больше запомнилась его мандолина: высохшая, горластая и безымянная. На которой я играю, как оказалось, лучше него.
– Я на нем брынчу мало-мало, когда чут-чут випью. Чтоб скушна в дороге не бил.
Несколько часов пролетели одним коротким мигом.
Колеса взвизгнули и встали. Вагон въехал в тот самый двор, из которого меня так любезно провожали с собаками.
Выкликнули первым меня – вероятно, тому поспособствовал мой конвойный начальник.
А дальше – как обычно: «стакан» в «воронке», тюремный предбанник, тюрьма, шмон, бетонный бокс и уже совсем другая камера под номером 526. В скором времени предстоял суд. Начиналась новая, самая зловещая часть истории.
Конец первой части
{продолжение следует)
Стихи
Ожерелья Магадана
Пробил час. К утру объявят глашатаи всенародно – С опозданием на полвека – лучше все ж, чем никогда! – «Арестованная память, ты свободна. Ты свободна!» Грусть валторновая, вздрогни и всплакни, как в день суда. Стой. Ни шагу в одиночку, ни по тропам, ни по шпалам. Нашу пуганую совесть захвати и поводи В край, где время уминало кости Беломорканала, Где на картах и планшетах обрываются пути. В пятна белые земли, В заколюченные страны, Где слоняются туманы, Словно трупы на мели. В пятна белые земли – Ожерелья Магадана, В край Великого Обмана Под созвездием Петли. Это муторно, но должно: приговор за приговором – С опозданьем на полвека – приведенный отменять. Похороненная вера, сдунь бумажек лживых горы – Их на страже век бумажный продолжает охранять. В них – как снег полки на муштре –топчут лист бумажный буквы, Выбивая каблуками бирки, клейма, ярлыки. А кораблики надежды в них беспомощны и утлы, Их кружит и тащит, тащит по волнам Колым-реки. В пятна белые земли, В заколюченные страны, Где слоняются туманы, Словно трупы на мели. В пятна белые земли – Ожерелья Магадана, В край Великого Обмана Под созвездием Петли.1986 г.
Жена
Эта женщина седая Мне не мать и не сестра. И глазами молодая, И душою не стара. Их, сединок этих частых, Не берет басма и хна, Не гадайте понапрасну: Эта женщина – жена. Из ее сединок тихо Каждый день не с той руки Жизнь кроила, как портниха, Да вязала узелки. Клок фаты на свадьбе майской Распустился в нитку-прядь… Век теперь со мною майся – На кого теперь пенять! Так и было. Ждали лета В тридцать первый майский день. На четыре части света Мир дурманила сирень. Мне тогда подумать можно ль, Что взамен ее любви Путь сибирский, путь острожный Втиснут под ноги мои? А беда-то вся до точки И известна, и стара: За мои куплеты-строчки Непродажного пера. Где от боли и от пота Я душой на части рвусь, Где хрипит надрывной нотой Измордованная Русь. Где сквозь слезы – смех до колик, Да облава – пес на псе, И куда ни ступишь, Новик, Ты – в запретной полосе! За полшага до крушенья – Здесь охотник глуп и слеп – По певцам, как по мишеням, Лупит сверху, влет и вслед. Увильнуть от мушки-злючки – Не стерпеть душе стыда. Мать-Россия – круг в колючке, Значит, верно, мне – сюда! Где земле огромной горло Давит «малая земля», И заздравят звуки горна Власть брякушек и рубля. Мне туда, где Честь и Веру Раздавил плакатный щит, Где в загонах и вольерах Совесть наша верещит. Где гуляет нынче плетка, Пряник завтрего сулит. Посбиваю ли подметки Иль с подметок буду сбит? Я не свят. И жизнь вторая Мне в кармане не дана. Но на эту я сыграю, Коль играется она. Коль целы и невредимы, И красивы до сих пор Этой женщины седины – Струн серебряных аккорд. 1984 г.Медсестричка
Медсестричка – украшенье лазарета – Пела песенки, иголками звеня. А моя, казалось, – всё. А моя, казалось, – спета. И она одна лишь верила в меня. И не хворь меня терзала, и не рана. Не проросшее на памяти былье. Не тюремная тоска. Не пропитая охрана. А глаза большие добрые ее. Завтра лето. Впрочем, то же, что и осень. Моет крышу лазаретного дворца. Мне до первого птенца дотянуть хотелось очень, Что, бескрылые, горланят без конца. И не повести мне в душу, не рассказы, И не байки про чужое и свое. Не гитарные лады, не приметы и не сглазы, А глаза большие добрые ее. Отлетает в небе пух – на синем белый. Помету его в оконцах, как малец. Мне на утро ни одна никогда еще не пела. Мне за всех отпел и вылетел птенец. Завтра лето, завтра гулкая карета Хлопнет дверью и меня уволочет. Медсестричка, ангел мой, украшенье лазарета, Спой мне песенку свою через плечо.Полудурок
Скорый поезд черной сажей Мажет небо, возит урок. «Ах-ха-ха!..» – им бодро машет Привокзальный полудурок. Он блаженный, он свободный, Машет бодро грязной лапой – «Ах-ха-ха-ха!…» – непригодный Для суда и для этапа. И меня когда-то так же Решеченная карета По бумажке с черной сажей Впопыхах везла из лета. По бумажке-приговору, Огоньки в окне свечные. Ах-ха-ха! Бежать бы в пору, Да собаки не ручные. И меня ждала в постели, Кудри белые просыпав, Но колеса вдоль свистели, Одурев от недосыпа. И, казалось, в сон сквозь сажу Кудри белые как ватман, – Ах-ха-ха! – войдут и скажут: «Выходи, тебе обратно». Но тонули в сером утре, Где рассвет совсем не розов, И желтели эти кудри На нечесаных березах. Сквозь вокзала закоптелость Полудурка взгляд кристальный. Ах-ха-ха! Как мне хотелось Поменяться с ним местами. 1998 г.Серые цветы
Нет ничего печальней воркотни Продрогших сизарей тюремных На крышах, на подворьях западни, Когда встречают день в заботах бренных. Нет ничего печальнее глядеть, Как прыгают над хлебной коркой. И долбят, долбят клювом эту твердь – Сухарь казенный, черный и прогорклый. Нет в мире сиротливее двора И вечней серых постояльцев, Носящих серость крыльев и пера За крохами на грязно-красных пальцах. Слоняясь по карнизам гулких стен То вверх, то вниз – и так стократно – Вам не понять, что дом ваш – это плен. И чей он плен – вам тоже не понятно. Летите прочь, чего ж, в конце концов, Вы медлите, сбиваясь в пары? И мир потом крадете у птенцов, Свивая им, о нет, не гнезда – нары! Как хочется рукой вам помахать. Летите, вам не надо визы. А я останусь время коротать, Слоняясь, как и вы, в одежде сизой. Нет ничего печальней суеты Продрогших сизарей тюремных. На белом снеге – серые цветы. В насиженных и самых прочных стенах. 1984 г.Это не лето
Время свое потихоньку берет Ловкой рукой. Птицам назавтра опять перелет – Небо черкнув серой строкой. Взмоют. Покружат. И вдруг на душе Как отлегло – Это мой срок на исходе уже, И в честь него с неба – тепло. Но это не лето. Это тепло, что вчера не убила зима. Вместо огня, по глотку, пусть достанется всем. Это не лето. И потому лист кружит и кружит без ума И не спешит с небом расстаться уже насовсем. Письма-заморыши издалека – Клочья тепла. Их на костер не отправит рука – Всё в них и так – в угли дотла. Их перечесть и вернуться назад – Мне не суметь. В каждом из них вместо точки слеза Колет и жжет, и пытается греть. Но это не лето. Это тепло, что вчера не убила зима. Вместо огня, по глотку, пусть достанется всем. Это не лето. И потому лист кружит и кружит без ума, И не спешит с небом расстаться уже насовсем. 1995 г.Об авторе
Автор книги «Записки уголовного барда» – поэт, певец, композитор Александр Новиков. Родился в 1953 году в поселке Буревестник на острове Итуруп (Курильские острова), в семье военного летчика.
В 1984 году записал свой знаменитый альбом «Вези меня, извозчик». Сразу после этого по сфабрикованному уголовному обвинению был осужден и приговорен к десяти годам лишения свободы.
Прежде чем приговор был отменен Верховным судом России, а обвинение признано незаконным, автору пришлось провести шесть лет в заключении. События, описанные в автобиографической книге, охватывают этот период жизни поэта.
Сегодня Александр Новиков – успешный, много гастролирующий артист. Любимый поэт и композитор, автор более трехсот песен и создатель выдающегося музыкального цикла на стихи Сергея Есенина и поэтов Серебряного века. Имеет собственную студию «Новик Рекорде», в которой записал и выпустил более тридцати пластинок.
Известен своей мужественной гражданской позицией. Кроме основного творчества много времени уделяет общественной деятельности. С 2006 года возглавляет благотворительный «Фонд “400-летия Дома Романовых” на Урале».
С 2010 года Александр Новиков – художественный руководитель Уральского Государственного театра эстрады.



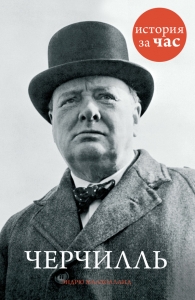
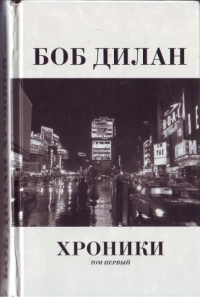

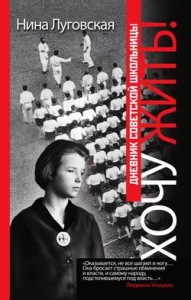
![Кормильцев. Космос как воспоминание [Главы из сети, 13 из 32]](https://www.4italka.su/images/articles/582915/primary-medium.jpg)


Комментарии к книге «Записки уголовного барда», Александр Васильевич Новиков
Всего 0 комментариев