Семен РЕЗНИК
"Выбранные места
из переписки с друзьями"
От автора
Книгу под таким гоголевским названием я хотел издать еще двадцать лет назад, сразу после эмиграции из СССР, да собрать ее не дошли руки. В последние годы моей жизни в Союзе я все больше углублялся в так называемую "еврейскую" тему. Сейчас об этом в России и в русском зарубежье не пишет только ленивый; и каждый второй с гордостью заявляет о своей невероятной отваге: он-де посягнул на самую запретную, самую табуированную тему. Как ни странно выглядят такие претензии, их заявляют снова и снова даже всемирно знаменитые авторы, от Игоря Шафаревича до Александра Солженицына.
Даже в то время, о котором я говорю, тема эта давно уже не была табуированной. Освещение ее не только дозволялось, но и всячески поощрялось властями, конечно, при одном условии: улица должна была быть с односторонним движением. Власть не случайно сделала на это ставку. Коммунистическая идеология, на которой базировалась тоталитарная система, стремительно коррозировала, рассыпалась на глазах. Система нуждалась в более прочных идеологических подпорках, а что может быть надежнее для таких целей, как "патриотическая" ненависть к чужакам. Я же пытался плыть против течения, и тут действительно вставала глухая стена. Железобетонная, но обложенная ватой. И от того особенно непроницаемая, гасящая всякий звук.
Иллюзий у меня не было. Я знал о тщетности моих усилий пробиться в подцензурную прессу, но продолжал их в течение нескольких лет. Это было необходимо для моего внутреннего самочувствия. К тому времени я опубликовал ряд книг об ученых, они принесли мне скромное, но прочное место в литературе. У меня был свой круг читателей - не многомиллионный, но зато из наиболее думающего слоя общества: интеллектуалы, студенты. Уехать из страны (а в то время это значило - исчезнуть навсегда), не исчерпав до конца всех возможностей в ней продолжать жить и работать, сохраняя профессиональное и человеческое достоинство, - для меня это было невозможно. Таким образом, зная теоретически, что "выхода нет, а есть исход", я относился к этому знанию как к рабочей гипотезе, которую еще надо было экспериментально подтвердить или опровергнуть. Об этих экспериментах я надеюсь рассказать в других публикациях из серии "Выбранные места". В них я расскажу о своих попытках противостоять официозной "науке" ненависти, что лезла со штыками на перевес из "антисионистских" брошюр, из "патриотических" журналов вроде "Нашего современника", "Молодой Гвардии", из многих статей критиков и публицистов, из книг большого числа журналистов, писателей, историков, издававшихся официальными издательствами; покажу, как обеспечивалось всему этому тыловое прикрытие со стороны тех, кто напрямую в этом грязном деле вроде бы не участвовал.
Однако открывается мои "Выбранные места..." сюжетом, повествующем о "патриотизме" иного рода, который гнездился по другую сторону баррикад.
* * *
сюжет первый
Году, кажется, в 1980-м из Союза Писателей был исключен Феликс Светов. Причиной (или последней каплей, переполнившей чашу терпения властей) стало его заявление в защиту академика А.Д. Сахарова.*
______________ * Согласно некрологам, опубликованным в сентября 2002 года, Феликс Светов был исключен из Союза писателей в 1982 году, но в том году я уже эмигрировал из СССР, а мои контакты с Ф. Световым, насколько я помню, были за год-два до этого. Приходится допустить, что поводом было не исключение его из СП, а что-то другое, но я пишу так, как сохранила память.
Лично пересекаться с Феликсом Световым мне прежде не доводилось, но кое-что я о нем знал. То, что в шестидесятые годы он слыл одним из ведущих литературных критиков либерального лагеря: его статьи печатались в "Новом мире" Твардовского, а одно это служило знаком качества. Знал почему-то, что Светов - это псевдоним, а настоящая его фамилия Фридлянд, и что он сын видного историка, расстрелянного в годы Большого Террора. Знал и о том, что он крестился в православную веру (говорили, что под влиянием жены Зои Крахмальниковой) и написал антисоветский роман - о том, как еврей-интеллигент, разочаровавшийся в коммунизме-атеизме, приходит к православию. Знал, что роман был опубликован в "тамиздате", но большого шума не вызвал.
Тема романа Светова была еще одним показателем того расползания по швам коммунистической идеологии, которая цементировала советское общество при Ленине, Сталине, отчасти и при Хрущеве, но затем испустила дух, как проколотый воздушный шар. Люди стали искать духовного прибежища в чем-то другом, в том числе и в религии. Для значительной части новообращенных в этом было больше игры, чем духовного перерождения. Посещение церковных служб, празднование религиозных праздников, нательные кресты, часто выставляемые напоказ, для многих были лишь демонстрацией своего нонконформизма. В Литве, где я обычно проводил отпускной месяц, этот процесс продвинулся гораздо дальше, чем в России. Католические храмы по воскресеньям были набиты до отказа. Суть происходящего мне не без иронии объяснил один местный интеллигент:
- У нас в Литве неверующих очень мало. Верующих еще меньше. Все остальные - это верующие назло!
Лично мне в этом виделся род нового, так сказать, нонконформистского конформизма. Не меркантильного (как у тех, кто вступал в партию из соображений карьеры и других выгод, с этим сопряженных), а духовного, но, на мой взгляд, это было не лучше. Однако - не судите да не судимы будете. Принимать веру, или не принимать, и если принимать, то какую и по какому побуждению, - этот вопрос я считал слишком интимным, слишком личный для каждого человека. Я не из тех, кто готов осуждать каждого, кто шагает не в ногу со мной.
Большинство, естественно, возвращалось к вере отцов: литовцы - к католичеству, русские - к православию, евреи - к иудаизму. Однако для заметной части евреев синагога оказалась намного дальше, чем православная церковь.
Что ими двигало, мне трудно было понять; так что, если бы мне попался добротный роман, раскрывающий внутренние побуждения еврея-интеллигента, которого духовные искания приводят к христианству в православно-церковной версии, я не прочь был бы его прочитать. Но роман Светова мне не попадался, а особых побуждений его активно искать у меня не было. Все, что я знал об авторе, сводилось к тому, что это писатель-диссидент, который не боится высказывать независимые убеждения и подвергается преследованиям. Этого было достаточно, чтобы заочно проникнуться к нему симпатией.
Случилось так, что как раз в это время я возобновил общение со старым институтским товарищем М. И-ным, которого почти потерял из виду в суете жизни, но вдруг столкнулся с ним случайно на улице. В разговоре всплыло имя исключенного из ССП Феликса Светова. "А я его знаю, - сказал М. И-н, - он мой сосед по даче".
В ближайшую субботу я приехал к М. на дачу, куда он и без того меня звал, и мы с ним наудачу зашли к Феликсу Светову. Застали. М. нас познакомил. Плотный, хорошо сложенный, серьезный человек, Феликс выглядел спокойным, уравновешенным, сдержанным. В его обстоятельствах не каждый способен был так держаться. Я выразил ему свое сочувствие, он тихо поблагодарил. Узнав, что я написал исторический роман, который уже отвергнут в ряде печатных органов, он изъявил готовность его прочитать.
Не помню, была ли у меня с собой рукопись или я затем передал ее через М. Неделю или две спустя я снова был у Светова на добротной, но неухоженной даче. Чувствовалось, что ее хозяева заняты чем-то более важным, нежели устройством мещанского уюта.
Феликс усадил меня в старое кресло, сам сел напротив в такое же, но не откинулся на спинку, а подался вперед, так что маленький золотой крестик, намеренно или ненамеренно оказавшийся поверх выцветшей футболки, раскачивался на длинной цепочке. Я приготовился к обстоятельному разговору, рассчитывая услышать профессиональный разбор моего романа с точки зрения его содержания и формы, то есть разговор с литературным критиком - о прорисовке характеров, композиции, стиле и тому подобном. Но услышал иное.
- Я православный христианин, - прямо глядя мне в глаза, сказал Феликс, - и поэтому Ваш роман мне не понравился. Он написан талантливо, читается с интересом, но, как для православного христианина, он для меня неприемлем.
Сказанное было столь неожиданным, что я не нашелся, что ответить. В романе рассказывалось о грандиозном процессе эпохи Николая I по обвинению большой группы евреев в ритуальных убийствах христианских детей, то есть о произволе власти, о национальных и религиозных предрассудках того (а в подтексте, и нашего) времени, позволявших списывать на евреев все неурядицы жизни и лишения обездоленного народа.* В какой мере мне это удалось, а в какой нет, - суждение об этом профессионального критика мне было интересно услышать. Но хозяин дачи об этом говорить не собирался. Да и то, почему мое произведение не устраивает его как православного христианина, он тоже объяснять не стал. По тону сказанного надо было заключить, что это и так ясно.
______________ * Семен Резник. Хаим-да-Марья, Вашингтон, "Вызов", 1986.
Мне ясно не было, но пускаться в объяснения было бессмысленно.
Я взял рукопись и собрался уходить, но Феликс пригласил меня на веранду, где на рассохшемся дачном столе уже стояла водка и кое-какая закуска. Жена Феликса Зоя колдовала над яичницей, которая шипела в углу на керогазе (а, может быть, на электроплитке - за давностью лет не припомню). Она была высокой, стройной, еще красивой женщиной. Держалась она ровно, но как-то очень уж была поглощена яичницей, уделяя ей явно больше внимания, чем гостю.
После двух-трех рюмок разговор между мной и Феликсом (Зоя в него не вступала) стал оживленнее, и я, в пику каким-то его словам, привел известное высказывание Вольтера: "Я ненавижу Ваши идеи, но готов умереть за то, чтобы Вы имели право их высказывать". Но Феликс резко парировал: "Никто не идет на гибель за чужие идеи. Это пустая фраза, абсурд!"
А ведь я бы убежден, что Вольтер только сформулировал то, что должно быть азбучной истиной для каждого, кто верит в демократию, в свободу слова и выражения мнений. Мы говорили на разных языках. Я ушел, сознавая, что наше едва завязавшееся знакомство не продлится.
Прошло еще несколько месяцев, и кто-то принес мне роман Феликса Светова под названием: "Отверзи ми двери". Прочитав увесистый фолиант, я убедился, что передо мной сильное художественное произведение, но то, что раньше мне говорили о его содержании, не совсем верно. Роман был вовсе не о том, как интеллигентный еврей приходит к православию. Крещение героя происходит в самом начале повествования. Та трудная духовная работа, которая должна была предшествовать этому шагу, оставлена за его пределами. Герой романа не ищет пути в православную церковь (он его уже нашел), а употребляет всю свою энергию на то, чтобы доказывать каждому встречному и поперечному, что избранный им путь - единственно верный, и каждый, кто с этим не согласен, подлежит если не физическому уничтожению, то моральному посрамлению.
Позиция автора показалась мне настолько ущербной, а фанатизм, с каким она отстаивалась, настолько опасным, что я написал ему большое письмо. Когда закончил, стал думать о том, как ему его переправить. Посылать по почте было нельзя - почтовый ящик Светова явно был под колпаком ГБ, а я вовсе не хотел, чтобы мое письмо превратилось в донос на него (да и на себя). Я ознакомил с текстом М. И-на, но от передачи письма он уклонился, в чем я не мог его упрекать: миссия для мягкого интеллигента была не из приятных. Показывал я его еще нескольким знакомым, знавшим и Светова, надеясь, что кто-то из них согласится его передать. Но желающих не нашлось. Письмо осталось не отправленным.
Когда я решил переправить на Запад хотя бы небольшую часть моего архива, я отснял и переслал друзьям около двух тысяч страниц. Все пленки дошли, однако потом, уже в Америке, разбираясь в этом материале, письма Феликсу Светову я не нашел. Я был уверен, что на пленку его снимал; эта мистика так и осталась для меня загадкой.
То была не единственная и не самая большая потеря, но за два десятка лет жизни в Америке я вспоминал о ней с особым сожалением. Что-то для меня важное было сказано в этом письме, чего заново на бумагу не положишь - это так же невозможно, как остановить мгновение.
Дальнейшие сведения о Феликсе Светове до меня почти не доходили, если не считать того, что попадало в широкую печать. В 1985 году, на самом излете застойных лет, он был арестован, затем судим, приговорен к пяти годам ссылки и отправлен навстречу потоку возвращавшихся из ссылок и лагерей диссидентов, освобождавшихся при горбачевском либерализме. (Его тоже скоро вернули - в 1987-м). Такого поворота событий можно было ожидать, ибо Феликс явно стремился "пострадал за веру", чего, в конце концов, и добился. Более неожиданным было известие о том, что он развелся с Зоей Крахмальниковой, которая, кстати сказать, показала, что готова постоять и за чужие идеи: ее выступления и публикации против антисемитизма, в том числе и церковного, привлекли некоторое внимание. Возможно, ее влияние на Феликса было не столь сильным, как о том говорили.
Я снова пожалел об утерянном письме, когда прочитал в "Новом мире" восторженную статью А.И. Солженицына о романе Феликса Светова.* Оказалось, что литературные достоинства романа он оценивает почти также как я, но идейное, нравственное содержание - прямо противоположно.
______________ * А.И. Солженицын. Феликс Светов - "Отверзи ми двери". Из литературной коллекции. "Новый мир", 1999, № 1.
А совсем недавно о Феликсе Светове и Зое Крахмальниковой очень интересно и остроумно написал Бенедикт Сарнов, который близко знал обоих на протяжении многих лет. Он обрисовывает Светова добрым, мягкотелым выпивохой, которого волевая супруга затащила в церковь, "как бычка на веревочке".*
______________ * "Лехаим", май 2002.
А вслед за тем произошло маленькое чудо.
Уезжая в 1982 году из Союза "навсегда", как тогда представлялось, я раздал папки со своими бумагами некоторым друзьям, а в один из позднейших приездов в Москву, забрал одну из них, после чего она пролежала на полке не тронутой несколько лет. Только недавно я в нее заглянул и тотчас наткнулся на машинописную копию того самого письма!
Солженицын пишет в своей статье: "Тогда она [книга Ф. Светова] приходилась остро ко времени, но в отечественную печатность вернулась лишь через полтора десятка лет и уже по сильно остывшим страстям". Остывшим? Ни в коей мере! Злободневность романа не только не ослабла, но сильно возросла. Об этом говорят те страсти, что разгорелись вокруг последней книги самого Солженицына, со сходных позиций освещающая те же проблемы. Поэтому, как мне кажется, продолжает быть злободневным и мое не отправленное письмо автору романа. Но об этом я представляю судить читателям.
1.
Писателю Феликсу Светову,
автору романа "Отверзи ми двери", Париж, 1978.
Уважаемый Феликс Григорьевич!
Попался мне в руки Ваш роман, прочел я его не отрываясь, и считаю своим долгом высказать Вам откровенно все то, что думаю о произведении, в которое Вы вложили столько страсти, ума и таланта.
О том, что это произведение талантливое, я распространяться не буду, полагаю, что это Вы знаете сами. О том, что его можно было бы считать очень своеобразным явлением литературы, если бы не слишком откровенное следование за Достоевским, думаю, Вы тоже знаете. Однако использование манеры Достоевского у Вас, конечно, не от профессиональной инфантильности. Оно часть замысла, в нем заключена определенная идея. Достоевский для Вас больше чем мастер - он Учитель, Пророк. Это не эпигонство, а открыто провозглашаемая позиция, поэтому и судить о Вашем произведении как о подражательном было бы слишком близоруко. Но не о чисто художественных достижениях и просчетах Ваших я хочу Вам сказать - ради этого не стоило бы браться за перо. Да и Вам, полагаю, не это важно и интересно. Содержание Вашего романа столь значительно, обсуждаемые в нем проблемы столь серьезны, что литературная форма просто отступает на третий-четвертый план. Роман Ваш насквозь полемичен. Он не только весь полон споров, но он сам есть жажда спора. Вы бросаете вызов и потому не должны удивляться, что среди Ваших читателей находятся такие, кто готов этот вызов принять. Давайте же объяснимся начистоту.
Главный герой вашего романа Лев Ильич - последовательный и убежденный антисемит, а антисемитизм во всех проявлениях отвратителен, и не только для евреев; у нас в России он отвратителен для каждого человека, не утопившего совести в откровенных или от самого себя маскируемых подлостях. Такова, кстати сказать, одна из стойких российских традиций, о которой Ваш герой упорно не желает вспоминать, хотя неустанно ратует за национальные русские традиции. Антисемитизм, повторяю, отвратителен в любых проявлениях, но он вдвойне отвратителен в кающемся, обретшем Бога и рассуждающем о любви интеллигенте, и втройне, если этот интеллигент сам является евреем. Полагая, что что-то меняется оттого, что он однажды дал в морду еще более ярому антисемиту, Саше, Вы заблуждаетесь. Тем более что этот ярый антисемит, как ясно говорится в Вашем романе, его давний, всей жизни, друг; именно к нему Лев Ильич несет свои сомнения. Ведь если говорить о "запахе" (а Вы и этого не обошли), то в действительности пахнет не от евреев, а от антисемитов, и каждый порядочный человек, а тем более еврей, этот запах чувствует и шарахается от него. До последней встречи с Сашей Лев Ильич не чуял, как разит от его давнего друга. Это могло быть только оттого, что он сам этим запахом давно провонял.
И из чего, собственно, он так взъелся? Ведь когда кто-либо высказывал при нем естественное возмущение тем, что евреям чинят препятствия, допустим при поступлении в ВУЗы или на работу, у Льва Ильича вспыхивало раздражение не против тех, кто чинит эти препятствия, а против тех, кто ими возмущается. Он тотчас начинал уличать возмущавшихся в том, что им якобы только и надо свою порцию черной икры урвать (хотя - в чем тут уличать? почему еврей должен радоваться дискриминации хотя бы и в такой не первостепенной области, как дележка черной икры?). А вот когда Саша самому Льву Ильичу попытался его черной икры недодать, заявив без обиняков, что жиду пархатому нечего делать в православном храме (и вообще всех их надо стерилизовать, дабы не разносили по свету пагубное свое семя), - тут Лев Ильич пустил в ход кулаки. То есть когда самого за яйца схватили! Если же другого еврея хватают за горло, Лев Ильич не на его стороне - он на стороне хватающих.
Как Вы не стараетесь окарикатурить, выставить отвратительными других евреев - их ведь целая вереница в романе проходит - они все же во сто крат привлекательнее главного героя, который опускается до того, что, задыхаясь от злобы, произносит погромные речи в еврейском доме, за что его и выставляют с позором за дверь. Вы, однако, заставляете при этом присутствовать его дочку и "освящаете" его низость одобрением невинного ребенка!
И все это на фоне поношения всего еврейского - еврейской истории, культуры, религии, обычаев. И Христа-то они распяли, и Россию ненавидят, и высокомерны они, и заносчивы, и меркантильны, и пьянствуют беспробудно, и чванятся своей "богоизбранностью", и... Да каких только гнусностей, извлеченных из самых зловонных антисемитских помоек, не вкладываете Вы в уста Ваших героев - не только крайнего антисемита Саши, но и многих других, которым Лев Ильич морду не бьет и не спорит с ними ни внешне, ни внутренне. По очевидному Вашему замыслу, они вовсе не являются антисемитами, но, напротив, им приписываются даже юдофильские подвиги: отец Кирилл когда-то за еврейскую могилку вступился, уж он зря не скажет!.. Да что отец Кирилл, когда даже "сионистский агитатор" Володя (тип совершенно надуманный) вдруг заявляет, что евреи ничего не дали русской культуре и тем развеяли миф о поголовной талантливости евреев! Ведь миф о "поголовной талантливости" приписывают евреям антисемиты; ни один здравомыслящий еврей, как бы он ни был пристрастен, никогда не скажет и не подумает о "поголовной талантливости" целого народа (хотя бы и своего). Но одно дело - поголовная талантливость и другое просто талантливость того или иного народа, которая выражается через выдающихся его представителей. В течение двух последних столетий огромные массы еврейства жили в России, многие евреи более или менее активно участвовали в культурной и духовной жизни страны; зная это, утверждать, что они ничего не дали русской культуре, это не развеивание мифа о поголовной талантливости, а созидание мифа о поголовной бездарности целого народа (в данном случае, русского еврейства), что, конечно же, есть дикая, до абсурда доходящая ложь. Конечно, сионист Володя всеми помыслами далек от России, он, может быть, и не слыхивал никогда (хотя, признайтесь, трудно поверить!) о певце русской природы Левитане, певце русской истории Антокольском, о братьях Рубинштейнах, создавших русскую пианистическую школу, о блестящем этнографе Шейне, открывшем перед Россией ее собственные национальные богатства... Не слышал никогда Володя и о Пастернаке, Мандельштаме, Бабеле, Эренбурге, Василии Гроссмане, братьях Маршаках, без чьих имен немыслима русская литература советского периода. Допустим. Но, во-первых, невежество - не лучший материал для обобщений, а, во-вторых, если сионист Володя в помыслах далек от России, то Лев Ильич как раз страстный ревнитель всего русского и особенно русской культуры. Но он ни словом не возражает Володе в этом конкретном пункте. Он, очевидно, готов уполовинить богатства русской культуры, лишь бы сохранить в ней "чистоту крови" от пагубного еврейского засорения.
Что ж, главный герой Вашего романа только последователен. Ведь он отмахивается с раздражением от всего положительного, что можно сказать о евреях: великие еврейские имена (даже те, что известны персонажам романа) для него чепуха - подумаешь, Эйнштейн, Спиноза! - чего, однако, никак нельзя сказать об именах великих антисемитов. Когда крайний антисемит Саша, блистая сомнительной эрудицией, перечисляет эти имена, Лев Ильич воспринимает их как солидный аргумент, как своего рода теоретическую базу, обосновывающую вредоносность еврейского племени. Даже имя Вольтера, названное в этом ряду, звучит весомо для Льва Ильича, хотя на того же Вольтера он обрушивается с презрением и негодованием по другому поводу. Это очень показательно! Двойной счет, двойная бухгалтерия есть коренная особенность антисемитского мышления, которым Вы так щедро наделили Вашего героя; о чем бы ни думал, ни говорил Лев Ильич, у него всегда приготовлена одна мерка для евреев и всего еврейского и совсем другая для остальных, потому так легко он приходит к нужным ему заключениям.
Возьмем хотя бы такой немаловажный вопрос, как религиозные гонения. Какой потрясающей экспрессивной силы достигаете Вы вместе с Вашим героем, когда заставляете его пересказывать апостольскую легенду об убиении фанатичными иудеями христианского проповедника Стефана! И хотя Стефан, как истинный христианин, перед тем, как испустить дух, воскликнул: "Господи! Да не вменится им грех сей!", Ваш христианин вменяет этот грех не только тем, кто совершил его, но и всем их потомкам. Ладно, пусть так, религиозные гонения отвратительны, как и всякие гонения за взгляды, согласен. Но почему же тогда о гонениях на иудеев на протяжении столетий со стороны христиан у Вас нет ни слова? То есть, простите, есть! О том, как сожгли на костре Возницына за то, что он принял иудейскую веру (вместе с евреем, который якобы его "совратил"),* у Вас говорится. Но как? Без всякой экспрессии, с безусловным пониманием и одобрением. Правда, об этом в романе говорит не Лев Ильич, а Саша. Но ведь Лев Ильич, выслушивая его, не только не набрасывается на него с кулаками, но и в душе своей не обнаруживает ни малейшего протестующего движения. Ну, можно ли, в самом деле, позволить, чтобы какой-то еврей свою веру проповедовал на святой Руси да в жидовскую ересь обращал православный народ! Вот евреев обращать в православие - это святое дело, к этому призываете Вы примером Вашего героя... Неужели Вы не понимаете, что под именем христианской проповедуете мораль того дикаря, для которого зло - это когда его ограбили, а добро - когда он ограбил.
______________ * Александр Возницын, капитан-поручик флота, дворянин, племянник крупного дипломата, "был совращен иудеем Лейбою в иудейство, за что, вместе с совратителем, сожжен, по высочайше утвержденной резолюции сената, в 1738 г.". ("Энциклопедический словарь" Брокгауза и Эфрона, Спб., 1892, т. VI, стр. 901, автор статьи В. Руммель).
Остановлюсь еще на одном конкретном моменте - на цареубийстве, как о нем размышляет ваш герой. Для него это еврейское дело: приказал еврей Свердлов, исполнил еврей Юровский - куда убедительнее! О том, что Свердлов не единолично же принимал решение, Лев Ильич не вспоминает, а то, что кроме Юровского были и другие исполнители - русские, латыши, Лев Ильич с неохотой цедит сквозь зубы. Он ставит акцент на Юровском, то есть на его еврейском происхождении,* да и на этом не останавливается, а делает обобщение: "Такого рода акции, а я убежден, что она стала пророчеством для всей нашей жизни, и делаются чужими руками, руками самых грязных наемников, для которых страна, по которой они гуляют, всего лишь территория и идеальное место для реализации своего честолюбия".
______________ * Нелишне в этом контексте напомнить, что Я. М. Юровский был крещен в лютеранскую веру еще в 1904 году (за 14 лет до расстрела царской семьи), так что обличение его как еврея со стороны новообращенного Льва Ильича выглядит особенно одиозно.
Какой же злобой надо проникнуться к целому народу (своему народу!), чтобы носить в душе такие представления! Тем более что они принадлежат человеку хоть и полуобразованному (что, вообще говоря, хуже полной безграмотности), но все же достаточно интересующемуся русской историей, чтобы знать, как дешево на Руси всегда стоила царская кровь.
Конечно, и тут Льва Ильича выручает его двойная бухгалтерия, позволяющая в дореволюционном прошлом России видеть только подвижничество отдельных православных святых; всякое же упоминание негативных фактов русской истории вызывает с его стороны только яростное негодование, тут же перерастающее в обвинение в "ненависти к России" в адрес тех, кто осмеливается об этих фактах напомнить.
Рискуя навлечь на себя гнев Вашего героя, я все же осмелюсь напомнить, что через всю русскую историю проходит кровавая цепь цареубийств. Чтобы не закапываться в седую древность, во времена княжеских междоусобий (хотя эта древность на тысячу лет моложе, чем убийство иудеями Стефана), упомяну лишь о царевиче Димитрии, Шуйском, царевиче Алексее, заживо погребенном Иване V, напомню о том, что и в последние полтора века царизма, в самое, так сказать, просвещенное время, почти каждый второй русский царь становился жертвой убийства: Петр III, Павел I, Александр II.
В этих цареубийствах Лев Ильич не видит пророчества "для всей нашей жизни", не задается вопросом, чьими руками они были совершены, и это понятно: ведь они не укладываются в антисемитское "понимание" исторического процесса. Судьбу Николая II Ваш герой предпочитает сравнивать с судьбой монархов, казненных в ходе Английской и Французской революций, но не для того, чтобы показать, что эти явления одного порядка, а чтобы противопоставить: там королей всенародно судили, а в России все тайно исполнили "грязные евреи", совершавшие революцию "не на русские деньги". Противопоставление, конечно, надуманное. Лев Ильич забывает (или не знает) о Божественном праве монархов, делающим их неподсудными людскому суду, из чего ясно, что в расправе над Карлом I и Людовиком XVI было ничуть не больше законности, чем в тайном убийстве Николая II. Разница лишь в том, что в сознании французов и англичан было глубоко укорено представление о неприкосновенности особы государя, потому те, кто считал нужным физически устранить свергнутого короля, старались заблаговременно снять с себя ответственность, замешав в дело всю нацию. Для этого и была устроена комедия "революционного суда" в Англии, а во Франции еще и поименное голосование членов Конвента, как представителей нации. В России можно было обойтись без этих формальностей, потому что убийство царя в русской истории было ординарным событием. Это типично для деспотии, где произвол, беззаконие, постоянная борьба за власть, заговоры, дворцовые перевороты, цареубийства являются нормой политической жизни.
Кажется, не такие это сложные вещи, чтобы их понимать.
Вместо того, чтобы с шокирующей неумеренностью кричать о любви к России, как это делает Лев Ильич, надо действительно любить Россию, любить ее такою, какая она есть, не приукрашивая и не сваливая вину за ее беды на "инородцев-наемников". Надо понимать, что если инородцы и играли в какие-то периоды русской истории более активную роль, чем хотелось бы поборникам чистоты крови, то причина этому - в особенностях российских порядков и, в частности, в политике, проводимой государственной властью по отношению к инородцам. Россию следует объяснять Россией или вовсе не объяснять - хотя бы потому, что всякое иное объяснение оскорбительно для России. Надо уметь смотреть правде в глаза. Но для Льва Ильича не существует правды (он это не раз подчеркивает), а истина, чем-то от правды отличная, пребывает, по его убеждению, лишь в горних высях, в мире ином; в сем мире нет ни правды, ни истины, есть одна только ложь. И он лжет, нахально и беззастенчиво, и договаривается до такой чудовищной идеи, как коллективная вина народа (еврейского; о русской вине он не упоминает). Желаете Вы того или нет, но это есть не что иное, как косвенное оправдание газовых камер Освенцима.
Однако самое отталкивающее в Льве Ильиче - даже не эти его странные (скажем так) воззрения; гораздо хуже то, что он абсолютно убежден в их непогрешимости и непримирим ко всякому мнению, не согласному с его собственным. Поэтому гражданские свободы, человеческие права для него тождественны черной икре, то есть какому-то ненужному и даже вредному деликатесу. Он не в состоянии понять замечательного высказывания Вольтера: "Я ненавижу ваши идеи, но готов умереть за то, чтобы вы имели право их свободно высказывать".* Для Льва Ильича эта великая мысль всего лишь проявление "галльского" остроумия (как последовательный антисемит, он шовинист, презирающий все нерусское, а, значит, и "галльское"). Поистине, трудно было бы оказать большую услугу России, чем избавить ее от таких друзей, как Лев Ильич, - ведь какой дорогой ценой платила Россия до революции, во время революции и после нее как раз за то, что в ней находилось множество желающих погибать (и еще больше - губить!) за свое право свободно высказывать свои идеи и очень мало было готовности постоять за принцип, то есть за право другого на то же самое.
______________ * Когда я привел это высказывание в личном разговоре с Ф. Световым, я, естественно, понятия не имел, что оно обсуждается, вернее, предается поношению в его романе.
В революцию было пролито много крови. В страшной драке участвовали все, били правых и виноватых. Среди бивших были и евреи - никто не отрицает этого. Да ведь среди погибших без вины евреев, как всегда, было куда больше, много больше, чем всех остальных - на душу то населения. Загляните в данные переписей: все народы бывшей Российской империи, несмотря на войны и революции, продолжали увеличивать свою численность, только еврейское население сократилось за те самые годы, когда, по версии Вашего героя, евреи в кожанках расправлялись с русским народом!.. Да разве только в количественных показателях дело! Вы ведь отлично знаете, что как бы ни свирепствовали в то время иные дорвавшиеся до маузеров комиссары (евреи и не евреи), ни один русский человек не пострадал просто за то, что он русский, тогда как двести тысяч евреев - не комиссаров в кожанках, а беззащитных стариков, женщин, детей - погибло от рук махновцев, петлюровцев, а больше всего - от "благородных" добровольцев Деникина, причем погибли они именно и только за то, что евреи. Но Лев Ильич не понимает, не чувствует этой, повторяю, отнюдь не только количественной разницы. Сколько слез проливает он над несчастной русской культурой, загубленной якобы тоже евреями. Ну а с еврейской культурой - как? Ее ведь не как русскую, ее всю с корнем выкорчевали. Да не о 49-м годе я говорю, тогда уж от всей еврейской культуры и оставался почти один ГОСЕТ.* Я о двадцатых годах, когда синагоги реквизировались под склады, раввинов арестовывали, ликвидировали хедеры (сначала легальные, а затем и нелегальные); когда запретили иврит, а идиш сохранили на время только для того, чтобы прославлять еврейское равноправие. Ни о чем таком ваш Лев Ильич не вспоминает ни разу, хотя бы мимоходом, зато, по его злостному утверждению, религиозные еврейские семьи благословляли своих сынков-комиссаров на вероотступничество, и не возникало при этом никаких проблем.
______________ * Государственный еврейский театр, руководимый С. Михоэлсом, а после его убийства в 1948 году - его другом В. Зускиным (в 1949 г. Арестован, в 1952-м расстрелян вместе с другими ведущими деятелями еврейской культуры).
Да откуда это известно Вашему герою, если сам он происходит из такой странной еврейской семьи, что почти единственное воспоминание, какое он вынес из детства, состоит в том, что его мать, увидев "вещий сон", побежала в церковь, купила иконку и сунула ее под подушку заболевшему сыну. Помилуйте, разве возможно подобное для еврейки? Конечно, нет! Тут одно из двух: либо она не была еврейкой, либо Лев Ильич оговорил собственную мать, имея столь дикие представления о еврейском религиозном сознании. И после этого Вы вкладываете в уста своего героя разглагольствования о том, что евреи-де потому сохранили Слово Божие, что его не понимали. Не говоря уже о нелепости этого диалектического парадокса (подобных в романе много) - откуда Льву Ильичу знать, как религиозные евреи понимали и понимают Слово Божие, чтобы позволять себе подобные высказывания. Неужели он не сознает, что рассуждать о таких предметах, ничего в них не смысля, - это верх безнравственности! Да нет, потрепаться по пьяному делу - ведь Лев Ильич только и делает, что пьет и треплется - куда ни шло. Но фиксировать этот треп на бумаге, делать из него большой религиозно-философский роман - тут, знаете, никакое уважение к инакомыслию не устоит, невольно придешь к выводу, что не доросла еще Россия-матушка до вольного слова!
А, может быть, у нее действительно какой-то особый путь - без всякой там демократии, без уважения к человеческой личности и ее суверенитету, дружно, рядами - кто там шагает правой? - под мудрым руководством святой православной церкви, с песней, прямехонько в Царство Божие - шагом марш? Нет, не поверю, это клевета на Россию.
Да, Лев Ильич оговаривает не только евреев, начиная с собственной матери. Он оговаривает Россию, русскую интеллигенцию, само православие, наконец, потому что надо быть ослепленным этим якобы божественным светом, чтобы не видеть, что православие, как оно представлено в Вашем романе, никого к себе привлечь не может, разве что таких нравственных уродов, как Лев Ильич, и уж, конечно, не затем, чтобы выправить эти уродства, но, напротив, чтобы их усугубить и "освятить".
"Особа народа царственна и не подлежит ответственности". Так еще в начале века сказал один из ведущих российских идеологов сионизма,* да не о еврейском, о русском народе сказал - в связи, кстати, с Кишиневским погромом, о котором у Вас несколько раз упоминается вскользь. Мысль его в том состояла, что народ не несет ответственности за преступления отдельных своих представителей, хотя бы и многих, хотя бы и массовые преступления. И тот же автор, считая ниже своего достоинства оправдываться за действительные или мнимые преступления отдельных евреев, заявлял: "В качестве первого условия равноправия мы требуем права иметь своих мерзавцев".
______________ * Владимир (Зеев) Жаботинский.
Лев Ильич отказывает в этом праве евреям. Всякого мерзавца с еврейской фамилией он ставит в вину всему народу. Кому, например, неизвестно, что во главе ЧК-ГПУ-МВД стояли сначала Дзержинский, затем Менжинский, Ягода, Ежов, Берия, Меркулов, Абакумов... За исключением Дзержинского, которому принадлежит честь создания органов, все они были лишь пешками в руках Сталина. Все же эти люди более чем другие в разные годы разделяли со Сталиным личную ответственность за творимые в стране беззакония. Но для Льва Ильича существует только один злодей - Ягода, и только потому, что он еврей, о чем Лев Ильич говорит прямо и откровенно. Удивительно ли после этого его безапелляционное утверждение, что списки работников ЧК "пестрят еврейскими фамилиями", за что он опять же призывает к ответу все еврейство. Как будто эти списки публиковались и с ними можно ознакомиться! И что такое "пестрят"? Одна фамилия на шесть, двенадцать, сто двадцать, это ведь все "пестрят"!
Но хорошо, допустим, что евреи действительно слишком усердствовали в карательных органах, хотя, повторяю, цифры никому не известны, а если бы и были известны, то как определить степень усердия каждого? * Почему Лев Ильич забывает осведомиться, какими фамилиями "пестрят" другие списки, по-видимому, более доступные? Медицинских работников, например. Тех, кто в тяжелые двадцатые годы, порой рискуя жизнями, на необъятных просторах бездорожной России вводил поголовное оспопрививание, боролся с тифом, холерой, дифтерией, сифилисом, детской смертностью, и проч., и проч.
______________ * Теперь эти данные частично опубликованы. В 1930-е годы в местных органах госбезопасности служило 1776 евреев, что составляло 7,4 % всего личного состава. (Кукарин. А., Петров Н., НКВД: структура, функции, кадры. "Свободная мысль", 1997, № 6, стр. 118. Цит. по: А.И. Солженицын. Двести лет вместе, т. 2, 2002, стр. 293). Эти данные прокомментированы в моей книге "Вместе или врозь?", Москва, "Захаров", 2003, стр. 407.
Но я повторяюсь, потому что здесь обнаруживается уже отмеченная избирательность, позволяющая Льву Ильичу "обосновывать" свою чисто физиологическую (а потому в обоснованиях вовсе не нуждающуюся) ненависть к породившему его племени.
Лев Ильич вырос в России, для него она родина, а для прочих евреев, выросших в России, но не желающих кощунственно крестить лба над гробом отца или дяди, она, по убеждению Льва Ильича, всего лишь территория - не из Вашего ли романа списал эту идейку официозный пиит, использовавший ее, чтобы бросить ком грязи вдогонку тем, кто желает покинуть СССР?* Ведь то же самое делает и Лев Ильич, обрушивающийся на всех уезжающих без всякого интереса к их мотивам, ибо для него мотив один: он сводится к той же "икре". Как, однако, тупеет в подобных случаях Лев Ильич, наделенный Вами столь обостренной чувствительностью и богатым воображением. Он решительно не способен понять, какие страшные драмы разыгрываются в душах людей, решающихся на такой шаг, какие конфликты - личные, семейные и т.п. при этом разыгрываются.
______________ * К сожалению, не могу вспомнить, о чьих стихах здесь упомянуто.
Но оставим евреев, я уже показал, что не в них только дело. Загляните в любого честного русского писателя конца прошлого - начала этого века. Не в Гоголя или Пушкина, которые никогда не интересовались евреями, ничего не знали об их внутренней жизни и перенесли в свои произведения пошлые стереотипы, не украсившие их творений. Загляните, я говорю, в писателей, живших тогда, когда так называемый еврейский вопрос со всей остротой обнажился в России - от Владимира Соловьева до Короленко. У всех Вы найдете один и тот же мотив: они не только протестуют против антисемитизма, но и подчеркивают, что делают это не ради евреев, а ради русского народа, ибо распространение в нем антисемитских настроений пагубно для него, ведет к его нравственному одичанию. Вот пророчество, которого Ваш герой не желает слышать.
А надо бы.
Неуважение к праву, к человеческому достоинству (еще в 20-м веке в России практиковались узаконенные телесные наказания), неуважение к человеческой жизни (вспомните статью Короленко о смертных казнях, над которой плакал Толстой),* ритуальные наветы и разгул черносотенных еврейских погромов - вот что было прелюдией и породило в известной мере ужасы гражданской войны, чрезвычайки и ГУЛАГа. Если Вы не хотите повторения всего этого, а я верю, что Вы этого не хотите, то Вы должны понять, что ни православие, ни антисемитизм, ни уличение "либеральной интеллигенции" в том, будто ей только и нужно побольше икры да масла, а лишь гарантия человеческих прав, а вместе с этой гарантией - уважение к личности каждого человека, вот та первейшая насущная "икра" (да не икра, а краюха хлеба), которая необходима России. В Вашем романе появляется один персонаж, который вроде бы это понимает, но высказаться Вы ему не даете, вернее, оглупляете его высказывания, дабы Льву Ильичу легче было расправиться с ним, как и со всеми несогласными признать его "богоносность".
______________ * Статья В.Г. Короленко "Бытовое явление" была впервые опубликована в 1910 году в журнале "Русское богатство".
Подумайте, что ждет многострадальную Россию, если однажды в ней - чем черт не шутит! - восторжествует такое вот православие. Не Вашего ли Льва Ильича отец Кирилл (он, вероятно, достигнет высокого сана) поставит во главе новой чрезвычайки, с тем, чтобы потом, лет через шестьдесят, какой-нибудь кающийся еврей, обретя новую веру (ну, скажем, баптистскую), заявил, что все ужасы православного правления происходят от еврейских фамилий, которыми пестрят списки иерархов церкви.
И еще одно хочу я Вам сказать в заключение. Как ни силится Ваш герой откреститься от всего еврейского, ему это не удается. Весь склад его личности, весь его темперамент, та страсть и прямолинейность, с какими он проповедует свой дурно пахнущий русский патриотизм, все это носит на себе неизгладимую печать еврейского характера (хотя и в крайне уродливом его проявлении). Это православным можно стать или не стать, как можно стать или не стать коммунистом, баптистом, мусульманином... Национальность человек не выбирает и не формирует, как мировоззрение, - он ее получает при рождении. Сколь ни мала в нас, советских евреях, в силу известных обстоятельств, доля еврейского, она все-таки больше, чем мы сами подозреваем; оставаться евреями мы обречены независимо от того, хотим мы этого или нет; и если в ком-то появляется стремление выпрыгнуть из своего еврейства, оно может привести лишь к тому результату, к какому и приходит Ваш герой: он остается евреем, только с непоправимо изуродованным сознанием, погибающим от собственной закомплексованности, обреченным не жить, а ежечасно и ежеминутно доказывать, что он живет. В этом, может быть, самая важная особенность Вашего романа: помимо Вашего желания Вы показали путь не спасения Израиля, а, напротив, путь его умственной и нравственной деградации, путь, ведущий к маразму и самоуничтожению.
С уважением
Семен Резник
сюжет второй
Дмитрий Анатольевич Жуков, весьма плодовитый и не лишенный способностей литератор, был высоким стройным брюнетом с аккуратными усиками, приятной улыбкой и темным прошлым. В "долитературный" период своей биографии он ряд лет провел в Югославии, где кроме официальной должности занимал какую-то неофициальную, но проштрафился, был возвращен в СССР и отчислен из органов. Говорили, что в подпитии Дмитрий Анатольевич любил рассказывать о былых подвигах и, расчувствовавшись, извлекал из шкафа и ностальгически оглаживал бережно хранимый мундир с голубыми майорскими погонами. Но сам я этому свидетелем не был, так как никогда с ним не пил и дома у него не бывал.
Свою литературную деятельность Д. Жуков начал как переводчик классика сербской литературы Бранислава Нушича, а позднее написал его биографию, что было логично. Однако он быстро усвоил, что на сербской литературе далеко не уедешь, да и вообще, если глубоко вгрызаться в "свою" тему, то больших денег не заработаешь и заметного имени не создашь - для этого надо писать много, быстро и поверхностно, а главное, то, на что есть спрос. За ним числятся книги под таинственными названиями: "Загадочные письмена (1962), "На руинах Вавилона" (1965), "В опасной зоне" (1965) "Огнепальный" (1969), биографическая повесть о протопопе Аввакума, книга о Козьме Пруткове, очерк о знаменитом борце Иване Поддубном, масса всякой всячины.
Это был типичный литературным халтурщик с бойким пером и с готовностью писать обо всем, толком не зная ничего. Но с годами - то ли в силу внутренней склонности, то ли потому, что учуял, в какие паруса дует ветер, то ли в силу сочетания этих двух факторов - он из обычного халтурщика стал превращаться в идейного. Постепенно он занял видное место в ряду наиболее активных разоблачителей "сионизма и масонства". Фильм по его сценарию на эту крайне нужную тему, оказался таким оголтелым, что его даже не решились выпустить на широкий экран, ограничившись закрытыми просмотрами в особо доверенных аудиториях.* Жуков стал желанным автором во всех национал-патриотических изданиях, которые с методичной настойчивостью расширяли свое жизненное пространство.
______________ * Дополнительные подробности о Д. Жукове читатель может найти в моей книге "Красное и коричневое", Вашингтон, "Вызов", 1991, глава вторая "Дело Емельянова", стр. 57-58, 66-67, 79-80.
Вслед за софроновским "Огоньком" и такими литературными журналами, как "Молодая гвардия", "Наш современник", "Москва" перед их натиском пало (вернее, преимущественно для них и было создано) крупное издательство "Современник". Они контролировали ряд редакций "Московского рабочего" и других издательств. Я был свидетелем того, как в издательстве "Молодая гвардия" под их контроль постепенно переходили ключевые редакции поэзии (Ю. Кузнецов), фантастики (Ю. Медведев), а затем и "моя" редакция серии "Жизнь замечательных людей" (С. Семанов).
Особенно долгой многоэтапной осаде подвергся журнал "Новый мир". В конце шестидесятых национал-патриотам удалось свалить А.Т. Твардовского и добиться разгона редколлегии и всего состава редакции. Но во главе журнала был поставлен В.А. Косолапов - тот, кто в 1961 году, будучи главным редактором "Литературной газеты", дал добро на публикацию евтушенковского "Бабьего яра", после чего был "сослан" на относительно тихую должность директора Гослитиздата. "Новый мир" при Косолапове хотя и поблек, но на милость национал-патриотов не сдался.* К концу семидесятых годов в кресло главного редактора сел С.С. Наровчатов. До войны он учился в ИФЛИ, из которого вышли многие яркие фигуры литераторов фронтового поколения, в том числе погибшие поэты Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров авторы ярких, конечно, патриотических, но не национал-патриотических стихов. Наровчатов немало сделал для того, чтобы утвердить имена этих поэтов в литературе, на чем преимущественно сделал имя и себе. С годами он выродился в заурядного литературного бюрократа. Но заподозрить его в склонности к нацизму оснований вроде бы не было. Однако при Наровчатове граница, отделявшая "Новый мир" от таких журналов, как "Наш современник", стала все более размываться - как по составу авторов, так и по идейной ориентации.
______________ * Хотя именно такую линию пытался насаждать поставленный от ЦК партийным надсмотрщиком заместитель главного редактора Большов. О внутренней борьбе в тогдашней редакции "Нового мира" я знал от сотрудника отдела публицистики Игоря Дуэля, который, кстати сказать, и меня привлекал в качестве автора. Столкновения с Большовым привели к тому, что И. Дуэлю пришлось уйти из редакции.
Когда в "Новом мире" появилась откровенно нацистская и к тому же вопиюще безграмотная статья-рецензия Д. Жукова "Из глубины тысячелетий", я понял, что процесс нацификации журнала зашел гораздо дальше, чем можно было предполагать. Но "отдать" без боя и "Новый мир" я считал невозможным.
1.
Главному редактору ж-ла "Новый мир"
С.С. Наровчатову.
Глубокоуважаемый Сергей Сергеевич!
Прилагаю "Открытое письмо" на Ваше имя для публикации его в журнале. Это отклик на рецензию Д. Жукова на книгу Н.Р. Гусевой "Индуизм" (№ 4 за этот год). Мне пришлось прибегнуть к иронической форме, так как было бы неумно всерьез обсуждать специальные вопросы индуизма, которые мало интересуют меня и совсем не интересуют Д. Жукова. Его рецензия имеет мало общего с книгой Н.Р. Гусевой и вообще с индуизмом. Все старания автора сводятся к тому, чтобы "удлинить" культуру славян и натянуть на них хоть краешек арийского одеяла. Обо всем этом не стоило бы говорить, но "наивность" Д. Жукова не безобидна: за нею проглядывает оскал шовинистических расистских теорий.
Хочу подчеркнуть, уважаемый Сергей Сергеевич, что к "Новому миру" и лично к Вам я питаю глубокое уважение. Я очень сожалею, что рецензия Д. Жукова появилась на страницах лучшего из толстых журналов. Я знаю, что идеалы справедливости, добра, равенства всех людей Вы защищаете в Ваших стихах и публицистических выступлениях, а в годы Великой отечественной войны Вы защищали их с оружием в руках. Публикацию рецензии Д. Жукова я рассматриваю не как отражение определенной линии журнала, а как случайную, хотя и серьезную ошибку. Убежден, что Вы захотите ее исправить.
Самый простой путь к этому - напечатать мое Открытое письмо в ближайшем номере. Конечно, редакция для этого должна стать выше чести мундира, выше личных амбиций тех сотрудников, которые непосредственно готовили материал Д. Жукова к печати. Понимаю, что психологически это нелегко; возможно Вы натолкнетесь на сопротивление некоторых работников редакции. Я уверен, что у Вас достанет мужества и принципиальности это сопротивление преодолеть. Не скрою, что мне было бы очень горько убедиться в противном.
С уважением
Семен Резник, член Союза Писателей СССР.
12.5.1979 Москва.
2.
КОЕ-ЧТО О СВЯЩЕННОЙ КОРОВЕ
Открытое письмо главному редактору журнала "Новый мир" С.С.Наровчатову по поводу рецензии Д. Жукова на книгу Н.Р. Гусевой "Индуизм" ("Новый мир", № 4, 1979).
Глубокоуважаемый Сергей Сергеевич!
Только не будьте строги. Извините, если не так скажу. Сделайте, пожалуйста, снисхождение. Я ведь не спец. Не индуист и не индолог. Ни санскрита, ни хинди, ни пали не изучал; в сказочной Индии никогда не был и даже на голове по системе йогов стоять не умею. Так что не обессудьте, каждому ведь свое. Вот Дмитрий Жуков - это другое дело. Он - знаток! Говорят, когда-то он с сербского что-то переводил, а сербский и хинди языки близкие, а там и до санскрита недалеко. И вот результат: до индуизма человек добрался. На месте Д. Жуков не стоит, работает над собой, расширяет кругозор. Что может быть похвальнее?
Я-то с детства разузнать мечтаю: отчего это в Индии так почитают коров? Ну и схватился я за этот самый "Индуизм". Полистал и - отложил со вздохом. Трудноватое для меня чтение. Не по зубам!
Не осилил я "Индуизма" Н. Гусевой и думал наивно, что в книге ее об Индии сказочной толк. Спасибо Д. Жукову - он разъяснил. Индия-то вовсе и не при чем. Загадка священной коровы "к северу от Черного и Каспийского морей, в междуречье Днепра-Дона и Дона-Волги" зарыта!
Д. Жукову очень нравится "древнеславянский бог Святовит", который, "властвовал над другими богами". Властвовал, значит властвовал. В древности такое бывало. Люди верили во всяких богов и одного из них назначали главным. Этого небесного начальника принято называть Верховным божеством. Вы об этом, безусловно, знаете.
Вы знаете, я знаю, даже школьники знают. Так неужели Д. Жуков не знает? Знает, конечно! Но у него маленький каприз. Ему приятно именовать Святовита не Верховным, а Единым богом. То есть другие боги, над которыми Святовит властвовал, вроде бы были, но в то же время их вроде бы не было. Да ведь с богами всегда так: то ли есть они, то ли их нет - поди разбери! Так что если Д. Жукову хочется, пусть будет Единый бог Святовит. А других богов, над которыми он властвовал, пусть не будет. На здоровье! Неужели я буду перечить Д. Жукову?
Или человеческие жертвоприношения. Все народы земли когда-то приносили пленников, а то и детей своих в жертву богам. Прошли народы через такой мрачный период на своем историческом пути. Было такое - ничего не поделаешь!
Ан, было, да не совсем. Лично Д. Жукову не хочется, чтобы древние славяне приносили человеческие жертвы. Неприятно ему это. Детки кровавые снятся. Поэтому "сведения христианских хронистов" на этот счет Д. Жукову нравится называть "непроверенными", они у Д. Жукова "вызывают сомнения". Так Вы думаете, я стану возражать? Ни в коем случае! Подвергать все сомнению очень даже похвально. И уж, конечно, Д. Жукову не возбраняется подвергать сомнению предположение Н. Р. Гусевой, будто древние славяне не строили каменных храмов. Почему же я должен с ним спорить? Мне это надо? Пусть спорит с ним Н. Р. Гусева, она специалист, ей и карты в руки. Я же так считаю: если Д. Жукову хочется, пусть будут каменные храмы.
Хотите знать, за что Д. Жуков любит древних славян? За то, что они почти что арьи. Ну, самую малость не дотягивают до чистокровных арьев! Жукову жаль, что они не дотягивают. Но не очень. Ведь и среди немцев чистокровных арьев не сыщешь: каждый ариец, оказывается, хоть чуточку да славянин. Д. Жуков так старательно сливает славян с арьями, что ни водой, ни чернилами, ни типографской краской их не разольешь. По "комплексу антропологических признаков", сообщает Д. Жуков данные, почерпнутые у крупного антрополога Т.И. Алексеевой, "германцы и восточные славяне занимают диаметрально противоположное положение". Противоположное! Но и эти данные говорят Д. Жукову не о значительной обособленности славян от арьев, а о "различных сношениях".
Ну вот, Вы, вероятно, решили, что теперь-то уж я стану метать в Д. Жукова критические стрелы. Ни за что на свете! Здоровье прежде всего. Откуда мне знать: может быть, сознание того, что он тоже немножко ариец, лично Д. Жукову улучшает пищеварение.
Сказанное относится и к "чрезвычайно древним сюжетам" Махабхараты и Библии. Д. Жукову очень хочется, чтобы к их созданию "возможно имели отношение наши предки, жившие в Северном Причерноморье". Вы, вероятно, знаете, что некоторые из наиболее древних библейских легенд действительно не вполне оригинальны. Но восходят они не к индийскому эпосу "Махабхарата" и уж, разумеется, не к Северному Причерноморью, а к эпосу о Гильгамеше, созданному шумерами, обитавшими в Месопотамии. Об этом знает всякий культурный человек.
А вот я не знаю. Если знал, то забыл. И вспоминать не желаю. Ведь лично Д. Жукову хочется, чтобы Библию, хотя бы частично, создали арьи, которые немного славяне, вместе со славянами, которые капельку арьи, и чтобы легенда о Вавилонском столпотворении исходила из Северного Причерноморья. Так неужели я стану ему поперек? Если завтра Д. Жуков скажет, что древние славяне строили египетские пирамиды, иерусалимский храм и храм Солнца в Мексике; если он скажет, что они "участвовали" в создании письменности майя, в сооружении Великой китайской стены и марсианских каналов, я тоже с ним соглашусь.
А почему, скажите, я должен с ним спорить? Не ради же Истины и тому подобных пустяков. Это древние греки, говорили, что истина им дороже друга. Так ведь у греков-то ни капли арийской крови не было! Вот они и дорожили такой ерундовиной, как Истина. А у славян, то есть не у всех славян, а у тех, что тают от восторга, сознавая себя чуть-чуть арьями, - иные ценности. "Вот граница! - сказал Ноздрев. - Все что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и все что за лесом, все мое".
Правда, иной славянин, которому вовсе не хочется быть арийцем, мог бы возразить устами ноздревского зятя: "Да когда же это лес сделался твоим? Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой". Иной славянин мог бы заметить, что откровенные приписки, которыми Д. Жуков пытается удлинить древнюю историю славян, на самом деле укорачивают ее, ибо лишают древнеславянские племена их этнической самобытности. Славянин может также сказать, что ноздревское обращение с историей славян демонстрирует глубочайшее презрение Д. Жукова к этой истории; что непременное желание слить славян с арьями лишь показывает то раболепие перед "немцем", которое высмеял в свое время, к примеру, А.С. Грибоедов.
Все это мог бы сказать Д. Жукову иной дотошный славянин - из тех, кто не испытывает ликования от того, что он немого ариец. Но я не скажу. Я даже не пикну. Во-первых, я не славянин, следовательно, не имею оснований быть причисленным к тем счастливцам, чьи предки создали Библию. А во-вторых, Д. Жуков - не легкомысленный Ноздрев. Приписки он делает не ради забавы или пустого фанфаронства. У него сверхзадача. Он "наносит удар нынешним неонацистам", а это искупило бы многое. Только вот удар у Д. Жукова получается странный. Не в глаз и не в бровь, а так, легкое скольжение по волосам. На поглаживание по головке похоже.
Неонацисты, по Д. Жукову, "повторяют басни о превосходстве немцев над славянскими соседями". Вот, стало быть, в чем их основной грех! Не тем, значит, порочны расистские теории, что они делят народы на высшие и низшие, а тем лишь, что ошибочка-с вышла на счет славян-с!
Потому что славяне-с - почти что арийцы-с, а арийцы-с - почти что славяне-с, так что подвиньтесь, господа неонацисты, придется-с вам малость потесниться-с, мы тоже-с в высший хотим разряд-с.
Ну, что ж! Если очень их попросить, они подвинутся. Ведь даже сам фюрер охотно переводил в ранг высших то "черненьких" итальянцев, то "желтеньких" японцев. Так неужели его наследники не уважат просьбу Д. Жукова.
Только как быть казаху? Или грузину? Или якуту? Как быть представителям сотен других народов нашей и не нашей страны? Как, скажите на милость, быть мне? Что делать бедному еврею? Вот если бы Д. Жуков и о евреях похлопотал, тогда другое дело! Тогда и я был бы доволен. Это, знаете ли, как-то немножко щекочет. Согревает как-то. Приятно ощущать, что и ты тоже причислен к "высшим".
...Но я пристальнее вглядываюсь в себя и убеждаюсь, что нет! Совсем даже и не приятно. Отчего это - не могу взять в толк. Воспитан я что ли не так, или арийской крови не достает. Только мне почему-то уютно чувствовать себя равным среди равных. Кого относить к высшим - арьев или славян, китайцев или евреев, негров или янки, - мне совершенно неважно; всякое деление людей на высших и низших, на белую и черную кость мне отвратительно, ибо именно из-за такого деления гигантские жертвы понесли не только славяне, евреи и прочие "низшие", но и сами арийцы.
Заглядывать в глубину тысячелетий, разумеется, очень любопытно. Но не следует забывать того, что происходило на нашей собственной памяти. Или кровавый бог расизма еще не насытился человеческими жертвоприношениями?
С уважением
Семен Резник,
член Союза писателей СССР.
P.S. С нетерпением буду ждать очередную рецензию Д. Жукова. Например, на книгу группы авторов "Наземная фототопографическая съемка при инженерных изысканиях". Может быть, в ней он разъяснит, почему в Индии так почитают коров.
3.
Коктебель
Дом творчества писателей
С.С. Наровчатову.
Глубокоуважаемый Сергей Сергеевич!
Прошу извинить меня за то, что причиняю Вам беспокойство и отрываю от творческой работы. Дело в том, что больше месяца назад я направил Вам в адрес "Нового мира" заказное письмо (написано 12 мая, но, судя по сохранившейся у меня почтовой квитанции, отослано 15 мая). Собственно в конверт я вложил два письма: одно лично Вам, а второе - ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО для публикации в журнале.
До вчерашнего дня я не получал никакого ответа, вчера же мне позвонил тов. Резниченко* и сообщил, что Вы взяли творческий отпуск и уехали в Коктебель до конца августа и что вопрос о публикации моего ОТКРЫТОГО ПИСЬМА может быть решен только Вами, то есть после Вашего возвращения. Поскольку мое письмо - это отклик на рецензию Д. Жукова, помещенную в № 4 за этот год, то я сказал тов. Резниченко, что ждать до конца августа нельзя, но он повторил, что решить вопрос можете только Вы. Вот причина, по которой я решаюсь беспокоить Вас во время творческого отпуска. Поверьте, что делаю это с тяжелым сердцем, ибо хорошо понимаю, как Вы сейчас дорожите каждым часом.** Однако "спасибо" за это Вы должны сказать тем Вашим сотрудникам, которые в течение месяца скрывали от Вас мое письмо, дотянули до Вашего отъезда, а теперь ссылаются на ваше отсутствие. Судя по всему, сбывается предположение, высказанное мною в личном письме к Вам - о том, что, если Вы сочтете нужным опубликовать мое ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО, то натолкнетесь на сопротивление тех, кто готовил рецензию Д. Жукова к печати. Я, правда, не мог предвидеть, что это сопротивление примет столь своеобразную форму.
______________ * Член редколлегии "Нового мира". ** Творческий отпуск - это обычный отпуск за свой счет: считалось, что творческий работник, занимающий редакторскую или какую-то еще должность, слишком занят и для собственного творчества ему нужны такие отпуска без содержания.
Копию писем, посланных вам 15 мая, прилагаю. Убедительно прошу ответить мне по существу: считаете ли Вы возможным и нужным опубликовать мой материал в журнале или нет? Если да, то как двинуть это дело до Вашего возвращения из отпуска? Со своей стороны, я продолжаю надеяться на ваше положительное решение.
Желаю Вам успеха в творческой работе.
С искренним уважением
С. Резник
20.6.1979
4.
Уважаемый Семен Ефимович!
Сергей Сергеевич поручил мне заниматься его корреспонденцией. Никакими служебными делами во время отпуска он заниматься не будет. Это его неоспоримое право.
Возвращаю Вам присланное письмо.
С уважением. Его жена
Г.Н. Наровчатова.
25 июня 1979 года.
5.
Глубокоуважаемая Г.Н. Наровчатова!
Извините, что обращаюсь к Вам так, но Вы не сообщили Ваше имя-отчество. Благодарю за скорый ответ и спешу уведомить, что он мною получен. Вижу, что неоспоримое право Сергея Сергеевича не заниматься моим письмом во время отпуска охраняется Вами так же бдительно, как оно охранялось в редакции журнала до его ухода в отпуск.
О моих правах я не говорю. Вы знаете, что всякий советский гражданин имеет неоспоримое право не более чем через месяц получить от официального учреждения или лица, к которому обратился, ясный и четкий ответ по существу своего письма. Я такого ответа не получил, но качать права не в моей привычке. Если я позволил себе обратиться к Сергею Сергеевичу в Коктебель, то только потому, что не увидел другого пути к выполнению своей обязанности. Выступать против расизма и шовинизма я считаю не столько правом, сколько своей обязанностью как писателя.
Желаю Вам счастливого отдыха, а Сергею Сергеевичу плодотворной работы.
Уважающий Вас
С. Резник
4.7. 1979 Москва
Ответа не последовало.
6.
В редакцию "Литературной газеты".
Уважаемая редакция!
Прилагаю Открытое письмо главному редактору журнала "Новый мир" С.С. Наровчатову, которое прошу опубликовать в газете. Письмо является откликом на помещенную в "Новом мире" (№ 4, 1979) рецензию Д. Жукова на книгу Н.Р. Гусевой "Индуизм". Заставило меня взяться за перо то, что сквозь "наивное" невежество рецензента явственно проглядывает оскал расистских теорий. Я полагал, что допущенную ошибку захочет исправить сам "Новый мир", в который я первоначально направил мое письмо. Однако честь мундира мешает редакции подойти к делу принципиально. Не получив до сих пор ответа по сути моего письма, я считаю своим правом и, больше того, обязанностью обратиться в ЛГ.
С искренним уважением
Семен Резник
Член ССП
3.7.1997.
7.
При ответе ссылаться на наш № 041732
20 июля 1979 года.
Уважаемый Семен Ефимович!
Опубликовать Ваше письмо в "Литературной газете" не считаем возможным.
Мы направили его главному редактору "Нового мира" С.С. Наровчатову и попросили ответить Вам по существу высказанной критики в адрес рецензии Д. Жукова".
Всего доброго
В. Помазнева
Отдел литературоведения "Литературной газеты".
8.
Литературная газета
Отдел литературоведения
В. Помазневой.
Уважаемая тов. В. Помазнева!
Ваше письмо № 041732 от 20 июля сего года повергло меня, мягко говоря, в изумление.
Вы пишете: "Опубликовать Ваше письмо в "Литературной газете" не считаем возможным". Согласитесь: ответ более чем лаконичен. Что значит "не считаем"? Это ваше личное решение или всего вашего отдела, или Вы выполняете поручение главного редактора, редколлегии? Обо всем этом в Вашем письме нет ни слова, как не указаны причины отказа.
Если редакцию не удовлетворяет литературная форма, то я охотно поработал бы по конкретным замечаниям.* Если не устраивает антифашистская направленность моей статьи, то это в высшей мере странно, тем более что Ваше письмо я получило одновременно с № 30 ЛГ от 25 июля, где на второй странице обнаружил большую редакционную статью под названием "Чувство семьи единой". В статье говорится о большом числе произведений, воспевающих дружбу и братство народов. Если газета отстаивает принципы интернационализма на положительных примерах, то ей тем более следует выступить против тех случаев, когда злонамеренные люди пропагандируют шовинизм и расизм. Ведь в том же номере ЛГ помещена статья Н. Барабановой "Мода на "высшую расу"", высмеивающая западногерманских единомышленников Д. Жукова. В том, что западных шовинистов следует критиковать, никто не сомневается, однако честно ли замалчивать, что та же плесень завелась в нашем собственном доме?
______________ * Из более позднего моего письма главному редактору Литгазеты А.Б. Чаковскому следует, что у меня был долгий телефонный разговор с В. Помазневой, в котором "она выражала неудовольствие формой моего письма, уверяя, что в нем "нельзя ничего понять", на что я отвечал готовностью переделать письмо в статью, фельетон и т.п., но она возражала и против этого".
Но, может быть, редакция не согласна с моей оценкой рецензии Д. Жукова? Тогда возражайте по существу. Вместо этого Вы сообщаете, что для ответа по существу направили мое письмо главному редактору "Нового мира" С.С. Наровчатову, то есть в тот самый журнал, который я подвергаю критике. Зачем? Разве я сам не знаю адреса "Нового мира"?
Не мне Вам объяснять, что я прислал в ЛГ не "письмо в редакцию", какие приходят тысячами по поводу поломанных унитазов или отсутствия пива в ближайшем ларьке и которые вы рассылаете в соответствующие организации. Я направил в газету литературное произведение, написанное в форме Открытого письма. Поэтому я прошу редакцию не отфутболивать мое, повторяю, литературное произведение, а рассмотреть его с точки зрения содержания и формы, после чего дать мне ясный и мотивированный ответ, как автору кстати, члену Союза Писателей, чьим органом является ЛГ.
С уважением
С. Резник.
27.7.79
9.
При ответе ссылаться на наш № 41732
18 октября 1979 года.
Уважаемый Семен Ефимович!
Мы получили Ваше письмо и внимательно с ним ознакомились.
Вы просите дать оценку Вашего "литературного произведения, написанного в форме открытого письма" главному редактору журнала "Новый мир". Вы профессиональный литератор, поэтому очевидно, понимаете, что у редакции не может быть никаких претензий к Вам со стороны именно "формы" Вашего материала. Дело как раз в ином - в содержании спора, который Вы затеяли с "Новым миром".
Выступать в роли третейского судьи в затеянной Вами полемике редакция "Литературной газеты" не будет. Полагаем, журнал, напечатавший рецензию Д. Жукова, в состоянии дать вам все необходимые разъяснения на этот счет.
С этой целью Ваш материал мы сочли целесообразным направить С.С. Наровчатову.
С уважением
Ф. Чапчахов
Член редколлегии, редактор
Отдела русской литературы.
10.
Новый мир
Ежемесячный литературно-художественный
Общественно-политический журнал
Главный редактор Телефон 294-57-01
30 августа 1979 г.
Уважаемый товарищ Резник!
Проблема, затронутая Вами в отношении рецензии Д. Жукова "Индуизм" (книга Н. Гусевой "Индуизм. История формирования. Культовая практика"), не находит подтверждения среди ученых, к которым мы обратились за консультацией. В связи с этим редакция не находит возможным ставить вопрос о публикации Вашего письма.
С уважением
С. Наровчатов.
11.
Главному редактору журнала "Новый мир".
Уважаемый Сергей Сергеевич!
Почти через четыре месяца после моего первого обращения к Вам я получил, наконец, ответ за Вашей собственноручной подписью. Чрезвычайно благодарен Вам за факт присылки ответа, которого я уже не чаял дождаться.
Что же касается содержания Вашего ответа, то за него, к сожалению, благодарить Вас я не могу. И не потому, что "редакция не находит возможным ставить вопрос" (перед кем?) и т.д. Я успел утратить все иллюзии на счет публикации моего Открытого письма в "Новом мире". Однако я вправе был ожидать, что Ваш ответ - коль скоро Вы все-таки ответили - хотя бы отчасти осветит то, что затронуто мною.
Между тем, в вашем письме из шести строк я не нашел ничего, кроме шедевров бюрократического стиля и весьма важной для нашей темы фактической ошибки, ибо рецензия Д. Жукова вовсе не носит названия "Индуизм".* Консультация ученых, к которым Вы обратились за помощью, не сделала Ваш ответ ни содержательным, ни даже элементарно точным. Мне же она дает повод заметить следующее.
______________ * Как помнит читатель, статья Д. Жукова называлась "Из глубины тысячелетий".
Ни в коей мере не претендуя на звание ученого, я, однако, около двадцати лет работаю в области научно-художественной литературы, что обязывает меня постоянно общаться с учеными, бывать в лабораториях, на научных симпозиумах и конференциях (иногда на них выступать), знакомиться с научными трудами в ряде областей науки. Все это дает мне некоторые основания полагать, что я немного разбираюсь в том, что такое научный метод и чем он отличается от лженауки. В последнем вопросе я даже могу считать себя отчасти специалистом, так как основательно изучал его на примере лысенковщины. Работая над книгой о Н.И. Вавилове (в свое время она удостоилась высокой оценки, в частности, в "Новом мире"*), я не мог не задуматься над вопросом, каким образом невежественному фальсификатору и демагогу удалось взять верх над классической генетикой и ее лидером Н.И. Вавиловым. Чтобы разобраться в этом, я должен был проанализировать немало трудов Лысенко и его сподвижников. Читая рецензию Д. Жукова, я ощутил такое знакомое благоухание, что должен был прерваться, чтобы взглянуть на обложку журнала и убедиться, что у меня в руках "Новый мир" 1979 года, а не "Яровизация"** 1939-го. Сногсшибательные открытия, какими Д. Жуков "удлиняет" историю славян на два тысячелетия, испечены по тому же рецепту, каким пользовался Т. Д. Лысенко, когда выдавал за новое слово науки глупые выдумки, которые "подтверждались" ссылками на авторитеты, чьи взгляды извращались и выворачивались наизнанку (Так же поступает Д. Жуков, цитируя, например, антрополога Т.И. Алексееву).
______________ * Но тогда главным редактором был не Наровчатов, а А. Т. Твардовский. ** Журнал "Яровизация" выходил под редакцией Т.Д. Лысенок и был его основной трибуной.
Все это я говорю к тому, что консультироваться с учеными следовало не по поводу моего Открытого письма, в котором, как Вы знаете, не обсуждалось ни одного специального вопроса, а по поводу рецензии Д. Жукова. Если бы это было сделано, то страницы "Нового мира" не осквернились бы ею, ибо ни один уважающий себя и науку ученый не рекомендовал бы к печати произведение, где "Верховный бог" намеренно спутан с "Единым", библейские сюжеты сочиняются в Северном Причерноморье и славянские племена создают "мощную культуру" за тысячи лет до того, как славяне (по данным современной науки!!) появились на исторической сцене.*
______________ * Здесь нелишне добавить, что сногсшибательные "открытия", удлинившие историю славян на два тысячелетия и породнившие их с арийцами, Д. Жуков в значительной мере почерпнул из так называемой "Влесовой книги" и публикаций вокруг нее. Легенды о "Влесовой книге", распространявшиеся в самиздате и спорадически прорывавшиеся в подцензурную прессу, поначалу походили на относительно невинную псевдонаучную сенсацию, раздуваемую журналистами определенного сорта для возбуждения любопытства легковерных людей - вроде сенсаций о НЛО, каких-то супер-экстросенсах или девушках, умеющих "видеть" пальцами. Но постепенно легенды о "Влесовой книге" все более идеологизировались, становясь "историческим" обоснованием притязаний российских национал-патриотов на подавляющее превосходство славяно-арийского этноса, создавшего высочайшую культуру раньше и "лучше" всех других племен и народов. Соответственно, все, кто сомневался в подлинности "Влесовой книги" третировались как русофобы и тайные сионисты. Стала распространяться теория - в подцензурной печати намеками, в самиздате более прямо и откровенно, - по которой первую успешную диверсию против русского народа "сионисты" совершили в X веке, коварно навязав ему христианство и вытравив из его памяти двухтысячелетнее наследие предков (Скурлатов, Емельянов и др.). Даже Великий князь Владимир, при котором произошло крещение Руси, третировался как "полуеврей". Согласно этим "теоретикам", чтобы вернуть русский народ на "национальный" путь, надо вернуться к язычеству, которое русичи исповедовали до принятия христианства. О двухтысячелетней языческой истории Руси якобы и повествовала "Влесова книга". При этом фактические сведения о "Влесовой книге" очень туманны и скудны. Легенда гласит, что "Влесова книга" -- это собрание деревянных дощечек, исписанных "руническими" письменами. Дощечки якобы нашел в 1919 году в каком-то разоренном имении под Харьковом (точнее место находки не обозначается) полковник Белой армии А.Ф. Изенбек. После разгрома Белых он бежал на Запад, жил в Бельгии, где и хранил мешочек с дощечками, как величайшую драгоценность, никому не позволяя их выносить. В его квартире с дощечками стал работать другой эмигрант, Ю. П. Миролюбов, химик по образованию и любитель славянских древностей. По его уверению, он в течение пятнадцати лет копировал и расшифровывал текст, однако сами дощечки не уберег: они исчезли после смерти А.Ф. Изенбека (в годы Второй Мировой Войны). В обстоятельной работе О. В. Творогова ("Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ)", XLIII, Л., 1990, стр. 170-254) показан генезис создания "Влесовой книги", не оставляющий никаких сомнений в том, что это фальшивка. Достаточно сказать, что во "Влесовой книге" О.В. Творогов обнаружил описание тех же событий, которые Ю.П. Миролюбов излагал в своих сочинениях, написанных до расшифровки им "Влесовой книги", причем в этих сочинениях он ссылался преимущественно на... сказки, слышанные им в детстве от нянчившей его бабки. Эти же бабушкины сказки он потом и "прочитал" на таинственно найденных и столь же таинственно исчезнувших дощечках Изенбека! Несмотря на эти и многие другие разоблачения фальшивки, в России "Влесова книга" продолжает издаваться и обрастать все новыми "патриотическими" комментариями. Последнее из известных изданий появилось в 2003 году. В библиографию, систематизирующую литературу, посвященную "Влесовой книге", включен и упоминаемый мною опус Д. Жукова, ошибочно названного В. Жуковым, members.cox.net/veles/Publicat/bibl_vel.htm.
Обратив Ваше внимание на рецензию Д. Жукова, я полагал, что она увидела свет исключительно по вашему редакторскому недосмотру. На самом деле Вы это и подтвердили - сначала долгим молчанием, а затем заведомо отписочным ответом. Тем не менее, Вы берете под свое покровительство произведение, содержащее заведомую фальсификацию науки и шовинистические амбиции, а раз так, то Вы заявляете себя единомышленником автора рецензии. По поводу последнего обстоятельства выражаю Вам мое искреннее соболезнование.
С уважением
С. Резник 19.9. 1979.
12.
Ответа не последовало, зато через несколько дней газеты сообщили о присвоении С.С. Наровчатову звания Героя Социалистического Труда.
Из книги историка Николая Митрохина "Русская партия: движение русских националистов в СССР, 1953-1985)" ("Новое литературное обозрение", Москва, 2003,стр. 539) я, не без удивления, узнал, что один из наиболее ретивых "сионологов" того времени, Е. Евсеев, в изданной в 1978 году "монографии" "Сионизм в системе антикоммунизма" обвинял С. Наровчатова в том, что он "союзник сионистов".
Видимо, из страха перед подобными обвинениями С. Наровчатов и стал публиковать шовинистические опусы Д. Жукова - единомышленника и друга Е. Евсеева.
О скандале вокруг антисемитской книги Е. Евсеева мне было известно тогда же, однако с самой книгой я познакомиться не мог, так как она не поступила в широкую продажу, а рассылалась по обкомам и райкомам КПСС и другим идеологическим учреждениям, как своего рода инструкция или учебное пособие для сети политпросвещения.
С.С. Наровчатов умер в 1982 году. Жив ли Дмитрий Анатольевич Жуков, мне неизвестно: сообщений о его смерти я не встречал, но и его новых публикаций мне давно не попадалось. Что касается Ф.А. Чапчахова, то моя переписка с ним на этом не завершилась, но в дальнейшем касалась уже других сюжетов.
Сюжет третий
Профессионально проработав в советской литературе более двадцати лет, я эпизодически должен был иметь дело с высокопоставленными литературными начальниками. К счастью, такие контакты были нечастыми и недолгими, ибо по возможности я их избегал и, во всяком случае, на них не напрашивался. Потому похвастаться близким знакомством с этой публикой я не могу. Но в той мере, в какой мне приходилось их знать, люди эти были неинтересные и мало отличались друг от друга. Однако, все-таки в каждом было что-то свое, непохожее. Один, например, надувался, стараясь казаться особенно важным и неприступным. Другой, напротив, держался запанибрата, демонстрируя доброжелательность и демократизм. Кто-то снисходил до шуток, а кто-то другой всегда был насуплен.
Феликс Феодосьевич Кузнецов - ныне "всего лишь" директор Института мировой литературы, а в позднесоветские времена Первый секретарь правления Московский писательской организации - отличался от других литературных бонз полным отсутствием чего-либо отличительного. Если бы кто-то, стремясь создать образ среднестатистического литературного бюрократа, сложил бы их всех и разделил на число слагаемых, получился бы Феликс Кузнецов. Среднестатистичность проявлялась у него во всем: в одежде, в его дородной фигуре, в прическе, в манере двигаться, говорить, писать, даже в аккуратной бородке, которая, казалось бы, должна придавать ему какую-то особинку. Все у него было серое, безликое, среднее.
Пару лет назад, газета "Российский писатель" (есть и такая!) опубликовала панегирик Феликсу Кузнецову по случаю его семидесятилетия. Автор юбилейного тоста - бывший студент Феликса Кузнецова в Литературном институте Николай Дорошенко, - захлебываясь от восторга, поведал миру о том, чему и как учил студентов профессор Кузнецов. Вот как:
"Начал он занятия так, как большой чиновник начинает прием посетителей. Заглядывал в список, называл фамилию, просил рассказать о себе. А затем спрашивал: "Стало быть, какие у вас проблемы?". "Да вот в 'Юности' рассказы уже два года лежат..." растерянно бормотал студент. "Хорошо... я сделаю звонок".".*
______________ * Николай Дорошенко. Критик в роли политика, политик в роли критика. К 70-летию Феликса Кузнецова. "Российский писатель", 2001, № 3, стр. 8.
И звонил. И устраивал на работу (в том числе, и благодарного автора панегирика), и пробивал рукописи в издательствах. Ну, как не восхищаться таким профессором? Как не носить на руках! Сер? Скудоумен? Что за беда! Никакой, даже самый выдающийся преподаватель никого еще не сделал писателем. Для этого нужен талант - он либо есть, либо его нет. А рукопись, гулявшая несколько лет по издательствам и вдруг по волшебному звонку превратившаяся в книгу, а заодно и в круглую сумму в платежной ведомости, а позднее и в членское удостоверение Союза писателей со всеми, так сказать, вытекающими... Эта "штука" -- не нечто эфемерное, именуемое талантом! Она, по бессмертному выражению вождя всех народов, посильнее "Фауста" Гете.
Ну, а если он так старался ради студентов, от которых прямой корысти ему не было (просто чтобы не роптали, не злословили по издательским коридорам - как не вспомнить Молчалина, угодничавшего перед дворником и его собакой), то можно только вообразить, на какие ухищрения он пускался, ублажая тех, от кого что-то зависело в его судьбе! Таков нехитрый секрет успеха. Если не литературного, то административно-карьерного...
С Феликсом Кузнецовым я был отдаленно знаком с тех времен, когда он еще не занимал никаких постов, -- примерно с 1967 года. В серии "Жизнь замечательных людей" готовилась его книга "Публицисты 1860-х годов", и он часто бывал в редакции.
Книга состояла из трех биографий: Григория Благосветлова, Варфоломея Зайцева и Николая Соколова. Надо ли было включать книгу об этих талантливых, но все-таки не первостепенных литераторах в серию ЖЗЛ?
Для меня и для других сотрудников редакции было очевидно, что нет. Но такова была причуда нашего шефа, Юрия Николаевича Короткова, питавшего особую слабость к шестидесятникам.
Сам Коротков много лет писал книгу о Дмитрии Писареве. Как ни относись к прямолинейному утилитаризму Писарева, но то была фигура первой величины. Яркая одаренность, несгибаемость и трагическая судьба главного героя давали материал для увлекательного повествования.
Коротков много работал в архивах, но в исследовательском азарте никак не мог остановиться. По характеру он был максималистом, да и положение заведующего редакцией обязывало. Короткова никак не устраивала роль простого чиновника. Он считал себя - и действительно был! - творческой личностью. В своей критике рукописей, поступавших в редакцию, он был строг и нелицеприятен. Даже лучшие книги серии его всегда чем-то не устраивали. Один автор, по его мнению, глубоко владел материалом, но писал скучно. Другая книга была написана лихо, но поверхностно. Третья страдала еще какими-то изъянами...
Помню, когда я еще только начинал работать в серии, меня сильно озадачивал его нигилизм. Однажды я его спросил, почему он так негативно оценивает даже лучшие наши книги, тогда как в магазинах их расхватывают, всюду о них говорят, в ведущих изданиях публикуются хвалебные рецензии. Он взглянул на меня удивленно, подумал минуту, потом сказал:
-- Знаешь что! В тот день, когда я успокоюсь и стану говорить, что мы издаем отличные книги, меня надо будет отсюда гнать метлой!
В том, что серия ЖЗЛ в 1960-е годы достигла огромного престижа и популярности среди интеллигенции, стала составной частью того лучшего, что было создано в советской культуре послесталинского периода, заслуга Короткова была колоссальной. Но, высоко ставя планку для других авторов, он еще выше ставил ее для себя, и в этом таилась его личная трагедия как писателя. Представить заурядную рукопись он не хотел и не мог, а чтобы написать незаурядную, одного желания мало. Он нервничал. Каждый год, уходя в отпуск, он предполагал вернуться с оконченной рукописью, но в отпуске заболевал. Он страдал гипертонией, и - то ли от умственного напряжения, то ли от излишней нервозности - кровяное давление выходило из-под контроля как раз тогда, когда он готовился сделать решительный рывок. Он продлевал отпуск по болезни, прихватывал месяц-другой за свой счет, а, вернувшись, сообщал, что окончание рукописи откладывается еще на год. Закончил он ее много лет спустя, уже после того, как его "ушли" из редакции. И, должен сказать, что биография Писарева (так и оставшаяся его единственной книгой), хотя не стала эталоном, о котором он мечтал (да это и не возможно), но заняла достойное место среди лучшего, что было наработано серией ЖЗЛ.
Понятно, что "писаревцы", то есть круг журнала "Русское слово", незаслуженно "обиженного" историками литературы по сравнению с "Современником", были Короткову особенно близки. И потому, когда Феликс Кузнецов - тогда молодой, подающий надежды критик пришел со своим предложением, Коротков тотчас же заключил с ним договор, не потребовав пробных глав. Не исключаю, что Коротков поспешил еще и потому, что не хотел давать пищу для пересудов, будто он "перекрывает кислород" конкуренту по теме. Просчет оказался двойным.
Мало того, что главные герои книги Кузнецова были не ЖЗЛовского калибра, -- рукопись оказалась совершенно беспомощной. Коротков жалел, что поддался собственной слабости, но было поздно: для расторжения договора требовалось ЧП, а серость - ненаказуема.
Коротков сам редактировал рукопись Ф. Кузнецова и провозился с ней года два. Он требовал от автора доработки, на которую тот был неспособен. Коротков был человеком вспыльчивым, взрывного темперамента; и, судя по тому, в каком жалком виде иной раз вышмыгивал из его кабинета вальяжный, с неторопливыми, почти барскими (уже тогда!) повадками Феликс, было видно, что Коротков разве что стулья не ломал о его ребра.
Когда книга вышла, я в нее не стал даже заглядывать, зная, что она бездарна. Но степень убогости этого сочинения я не представлял. Она открылась мне годы спустя, когда пришлось-таки в него заглянуть.
Во второй половине 1970-х годов я писал книгу о Владимире Онуфриевиче Ковалевском, "гениальном и несчастном" основателе эволюционной палеонтологии. В молодости Ковалевский был близок к революционным кружкам и занимался издательской деятельностью. То и другое сблизило его с Варфоломеем Зайцевым, с которым он затем крупно поссорился. Зайцев в отместку пустил злой слух, будто Ковалевский - агент Третьего отделения. Так что конфликт был острый. Чтобы зримо и интересно о нем написать, мне нужно было обрисовать личность Зайцева. Но, обратившись к книге Феликса Кузнецова, я не нашел в ней ни одного живого штриха, ни малейшей зацепки. То был унылый доклад о жизни и деятельности - без вкуса, цвета и запаха.
Не найдя того, что меня интересовало в опубликованном тексте, я решил позвонить автору: ведь в книгу обычно входит лишь небольшая часть собранного материала - гораздо больше остается в подводной части айсберга.
Феликс Кузнецов к тому времени уже был главой Московской писательской организации, то есть был обложен толстым слоем секретарш и референтов, но дозвониться до него оказалось просто. В разговоре Феликс был предупредителен и приветлив, но, к моему удивлению, о конфликте своего героя с Владимиром Ковалевским он впервые услышал от меня. Ни на один мой вопрос, касавшийся личности Зайцева, он ответить не смог; о том, в каких архивах можно найти материалы о нем, не знал; даже литературных источников, которыми сам пользовался, не помнил. Это был своего рода рекорд. С такой степенью некомпетентности автора биографической книги ни до, ни после этого мне сталкиваться не приходилось.
На том мои "творческие" контакты с Феликсом Кузнецовым закончились. Никаких его произведений я больше не читал, да он, похоже, уже ничего и не писал кроме унылых докладов для писательских конференций и съездов.
О моих с ним контактах иного рода рассказывает публикуемая переписка.
1.
Первому секретарю Правления Московской писательской организации Ф.Ф. Кузнецову.
Глубокоуважаемый Феликс Феодосьевич!
31 октября сего года в Гостиной ЦДЛ должно было состояться обсуждение книги И. Золотусского "Гоголь" (серия ЖЗЛ).* Об этом обсуждении я узнал заранее из "Календарного плана" работы ЦДЛ и подготовился к нему. В начале заседания я подал председательствовавшему на нем В. И. Гусеву** записку, в которой написал: "Прошу слова. Семен Резник". Примерно в середине вечера я подошел в к В.И. Гусеву и спросил, когда я получу слово. Он ответил, что-то неопределенное - в том смысле, что очередь еще не подошла. Однако слово мне дано так и не было. После закрытия заседания я спросил В. И. Гусева, почему он не предоставил мне возможности высказаться. Он ответил:
______________ * Золотусский И.П. Гоголь, М., "Молодая гвардия", 1979, 511 стр. ** Владимир Иванович Гусев был главой секции критики и литературоведения Московского отделения СП СССР. Сейчас один из главарей СП России и главный редактор газеты "Московский литератор".
-- Потому что я вас не знаю.
Таким образом, В.И. Гусев не только нарушил элементарные демократические нормы ведения творческих дискуссий, но не счел нужным хоть как-то это замаскировать - ссылкой, например, на недостаток времени.
Всякому ясно, что дискуссия перестает быть таковой, если на ней дозволяется выступать только тем, кто лично известен председателю. Дискуссии для того и устраиваются, чтобы на них мог высказаться каждый читатель, вплоть до случайного человека с улицы. Что же касается меня, то помимо того, что я член Союза писателей, я имею основания полагать, что на обсуждении биографической книги я человек не случайный. Как Вы знаете, более десяти лет я работал редактором серии ЖЗЛ. Под моей редакцией вышло около семидесяти биографических книг. Я являюсь автором четырех биографий - три из них вышли в серии ЖЗЛ отдельными книгами и одна - в сборнике, составителем которого я тоже являюсь. (Не говорю о двух других моих книгах). Я неоднократно участвовал в дискуссиях о биографическом жанре, выступал в самых разных аудиториях, в том числе, конечно, и в ЦДЛ; мои статьи о теории жанра, рецензии на отдельные биографические книги не раз появлялись в печати (как и рецензии на мои книги). Я являюсь одним из редакторов-составителей "Каталога" серии ЖЗЛ; в "Каталоге" помещена справка обо мне как об авторе серии.* Короче говоря, я 18 лет профессионально работаю в биографическом жанре, поэтому те, кто связан с этим жанром, знают меня - одни лично, другие по литературе. Если для председателя собрания, на котором обсуждалась биографическая книга, мое имя оказалось неизвестным, то это факт его биографии, а не моей.
______________ * При переиздании "Каталога" серии ЖЗЛ в период горбачевской гласности (1987 год) библиографические данные о моих книгах были сохранены, а вот биографическая справка - изъята: автору, покинувшему страну, иметь биографию не дозволялось.
Я говорю: книга Золотусского "должна была обсуждаться", а не "обсуждалась", потому что делового обсуждения не было. Многие из выступавших говорили в адрес автора ни к чему не обязывающие комплементы, а затем пускались в рассуждения о посторонних предметах. Так, один из ораторов долго растолковывал, что следует разуметь под понятием "национальный гений", а другой - с горячностью, достойной лучшего употребления, -- объяснял, что Николай Первый был врагом крепостного права и не покончил с ним только потому, что русский мужик не мог обойтись без отеческой опеки помещика, ибо он (мужик) не дурак выпить, подраться и пустить красного петуха.
Книгу Золотусского наперебой называли "яркой", "талантливой", "новым словом", "открытием", даже - неоднократно! - "подвигом". Николай Васильевич Гоголь не удостаивался при жизни таких похвал. В своем заключительном слове И. Золотусский благодарил всех пришедших на обсуждение и особенно выступивших. Он сказал, что всех их много лет знает, тронут вниманием и т.п. Словом, вместо творческой дискуссии состоялся банкет с пышными тостами в честь виновника торжества. Остается недоумевать, зачем о нем было объявлено как о творческой дискуссии и почему он состоялся в гостиной, а не этажом ниже - в ресторане.
Нечего и говорить о том, что за весь вечер ни разу не прозвучало то критическое отношение к книге И. Золотусского, которое выявилось в ряде выступлений в журнале "Вопросы литературы" (№ 9, 1980), хотя это мнение, конечно, не является мнением только тех, кто выступил на страницах журнала.* Я, в частности, намеревался поддержать и развить некоторые положения, выдвинутые А. Дементьевым, П. Мовчаном и другими.
______________ * Подоплека "дискуссии" в журнале "Вопросы литературы" была такова. Павло Мовчан, талантливый критик, знаток украинской культуры и литературы, предложил журналу статью, в которой показал полную несостоятельность книги Золотусского - в основном на примере украинского периода жизни и творчества Гоголя. Отклонить ее редакция не решилась, но и бросить открытый вызов Золотусскому и тому направлению, которое он представлял, опасалась, зная, что за ним стоят влиятельные силы литературного начальства и агитпропа. Редакция приняла соломоново решение: организовать "круглый стол", то есть рядом со статьей Павло Мовчана поместить хвалебные мнения, и не только о книге Золотусского, но и о ряде других биографий писателей, изданных в серии ЖЗЛ.
Один ли я не получил возможности высказаться, или были и другие "пострадавшие", мне неизвестно, но ясно одно: В.И. Гусев блестяще справился с ролью тамады на банкете, но не с ролью председательствующего на творческой дискуссии. Если бы на вечере отчетливо прозвучала критика в адрес И. Золотусского, то то обстоятельство, что мне не дали высказаться, свелось бы к личному недоразумению между В. Гусевым и мной. Однако, в связи со сказанным выше, я принужден считать мое несостоявшееся выступление принципиально важным и полагаю необходимым довести его содержание до сведения писательской общественности. Думаю, что это будет особенно полезно для И. Золотусского, а, может быть, и для других авторов, пробующих свои силы в биографическом жанре.
Я не могу здесь воспроизвести текст моего подготовленного выступления это заняло бы слишком много места - но кратко, тезисно укажу, что, дополняя положения П. Мовчана, я намеревался аргументировать ту мысль, что Гоголь в книге Золотусского является не предметом пристального исследования, а лишь внешним поводом сказать "то" и "то". П. Мовчан считает (и убедительно показывает), что Золотусский, в сущности, не любит Гоголя и потому "снижает" его образ. С моей точки зрения, гораздо хуже то, что автор книги не любит истину, не ищет ее. Важна не истина, не литература, не личность и творчество Гоголя, а собственная драгоценная "мысль". И потому книга Золотусского - это не документальная биография Гоголя, а, в лучшем случае, миф о Гоголе, выдаваемый за документальную биографию.
В обосновании этого положения я мог бы привести много убедительных доводов, но здесь вынужден остановиться только на интерпретации "Выбранных мест...", как главном пункте спора вокруг книги И. Золотусского в "Вопросах литературы".
Как известно, Белинский считал эту книгу сознательной подлостью со стороны Гоголя. Если современный биограф, в результате тщательного изучения материала, пришел к выводу, что Белинский был несправедлив в столь резкой оценке, то есть что субъективно для Гоголя "Выбранные места..." были такой же честной книгой, как и другие его произведения, он не только имеет право, но и обязан снять с Гоголя клеймо подлеца. Однако убедительной такая переоценка может быть только в том случае, если биограф ответит на неизбежный вопрос: почему честная книга произвела впечатление подлой, так что от Гоголя отвернулись не только сторонники того лагеря, который представлял Белинский, но и противоположного лагеря (Аксаков и другие). И главное, беря под защиту Гоголя, как честного человека, несправедливо обвиненного в подлости, автор биографии не может брать под защиту идейные позиции, выраженные в "Выбранных местах...". * Это невозможно сделать, прежде всего, из уважения к Гоголю, который очень скоро сам признал свою книгу заблуждением. Но И. Золотусский защищает не Гоголя, а его заблуждение! "Диалог" между Гоголем и Белинским он интерпретирует таким образом, будто спорили "две России" и будто спор этот не разрешен до настоящего времени.
______________ * Напомню читателям, что знаменитое письмо Бенинского Гоголю было написано по поводу книги "Выбранные места из переписки с друзьями". Белинский увидел в ней попытку морального оправдания кнута и деспотизма.
Путь, который указывал России Белинский, -- путь борьбы с крепостничеством, невежеством, полицейским произволом, бесправием народа, телесными наказаниями, а для начала за "по возможности строгое выполнение хотя тех законов, которые уже есть", и путь "самовоспитания" в духе покорности и пресмыкательства перед сильными мира сего, что предлагал Гоголь в "Выбранных местах...", ставятся И. Золотусским на одну доску, как две точки зрения, заслуживающие не только равного внимания, но и равного уважения. Вносить такой релятивизм в сознание читателей значит не только искажать историческую правду, но и подрывать основы нравственности.
Появление в серии ЖЗЛ таких книг, в которых историческая правда подменяется мифами (в этом отношении рядом и даже впереди книги И. Золотусского стоят "Гончаров" Ю. Лощица* и Островский М. Лобанова**), не может не вселять тревогу. Однако еще большую тревогу вызывает та искусственная атмосфера, какая создается вокруг этих книг. Нам усиленно твердят: "Эти книги спорные!" Но спорность создана искусственно. Материалы дискуссии в "Вопросах литературы" показывают: все, кто выступал против, выставили веские аргументы; все кто за, не оспорили их, но противопоставили голословное "несогласие". Какая же это "спорность"?
______________ * Лощиц, Ю.М. Гончаров, М., "Молодая гвардия", 1977, 351 стр. ** Лобанов, М. П. Островский. М., "Молодая гвардия", 1979, 382 стр.
Критик Ю. Селезнев (он же заведующий редакцией ЖЗЛ)* активно выступает в печати как защитник "незыблемости" классического наследия. Он мечет громы и молнии в так называемых модернистов, то есть в тех, кто пытается как-то по-своему, нетрадиционно истолковать некоторые страницы великой русской литературы. А вот в дискуссии на страницах "Вопросов литературы" Селезнев вдруг заявил себя сторонником "нового", "современного", "нетрадиционного" прочтения классики. Именно за такое прочтение он превозносит книги Ю. Лощица, М. Лобанова и И. Зотусского, изображая дело так, словно эти авторы стараются по-современному подойти к классике, а отсталые ортодоксы "побивают" их цитатами из Белинского и Добролюбова, словно после них и сказать ничего нельзя.
______________ * После Ю. Н. Короткова, которого изгнали из ЖЗЛ за идеологически "вредную" линию, серию возглавил Сергей Семанов, а после того, как его назначили главным редактором журнала "Человек и закон" (в карьерном отношении это был подскок на несколько ступеней), серию ЖЗЛ возглавил Юрий Селезнев.
Не могу пройти мимо еще вот какого обстоятельства. "Вопросы литературы" вынесли на обсуждение не только "Гоголя", "Гончарова", "Островского", но и другие книги о писателях, вышедшие в серии ЖЗЛ в последние годы, среди них "Герцен" В. Прокофьева* и "Писарев" Ю. Короткова.** В. Жданов *** сказал несколько добрых слов в адрес этих книг, но его никто не поддержал. Никто и не оспорил. О чем спорить, если это бесспорно хорошие книги. В литературном отношении они нисколько не уступают трем "спорным" (на мой взгляд, превосходят их), а в научном отношении тут и сравнивать нечего: книга Ю. Короткова, например, это подлинное открытие Писарева. Писатель-исследователь больше двадцати лет отдал этой работе, почти вся книга основана на новых, найденных самим автором архивных материалах. Подробной биографии Писарева не было - теперь она есть. Капитальное приобретение для критики, литературоведения, истории русской общественной мысли, для биографической литературы. Может быть, книга Ю. Короткова "ортодоксальна"? Нет! Многие из тех ходячих ярлыков, какие были наклеены на Писарева, соскоблены автором. Но сделано это аккуратно, тонко, с любовью к исторической правде как она есть, а не к "мифологии", не к сенсационной "спорности". Но никто не называет этот труд подвигом - книгу почти не замечают.
______________ * Прокофьев В.А. Герцен, М. "Молодая гвардия", 1979, 400 стр. ** Коротков Ю.Н. Писарев, М. "Молодая гвардия", 1976, 368 стр. *** В.В. Жданов был видным литературоведом, автором многих книг, в том числе биографий Добролюбова и Некрасова в серии ЖЗЛ.
Все это не так парадоксально, как кажется с первого взгляда, ибо, в ущерб книгам подлинно талантливым и добросовестным, критики определенной ориентации целенаправленно поднимают шумиху вокруг недоброкачественных произведений тоже строго определенной ориентации. Делается это не из-за литературных или научных достоинств, не из-за "незыблемой" или, напротив, "новой" трактовки классики, а потому что в указанных произведениях проводятся идеи, направленные на подрыв нравственных ориентиров, на которых базируется общественное сознание. Стремясь дезориентировать читателей в указанном отношении, авторы и идут на мифологизирование исторической правды и классической русской литературы. Не случайно Ю. Лощиц объявляет Гончарова создателем "мифологического реализма". Это понадобилось биографу для того, чтобы перетолковать в обратном истинному смысле идейно-художественное содержание великих творений писателя. Когда Обломова, олицетворяющего физическую и моральную деградацию уходящего с исторической сцены крепостничества, объявляют "положительным героем мира Гончарова", а действительно положительный герой его мира Штольц возводится в ранг дьявола, "князя тьмы" (Ю. Лощиц); когда Кабаниха, олицетворяющая самодурство темного буржуазного быта, становится чуть ли ни положительным героем мира Островского, а Катерина - отрицательным (М. Лобанов); когда освободительное движение в России XIX века объявляется бесовщиной, тайно направляемой из зарубежных масонских центров (Ю. Лощиц), а борьба лучших людей России за женское равноправие трактуется как половая распущенность (М. Лобанов); и, наконец, когда апология лакейства и крепостничества в "Выбранных местах..." Гоголя объявляется "путем исторического развития", равно пригодным для России, как и борьба с крепостничеством (И. Золотусский), -- то "спор" выходит далеко за рамки академических проблем литературоведения и биографического жанра.
Нарушение демократических норм проведения творческих дискуссий, допущенное В.И. Гусевым, а также те соображения, которые из-за этого нарушения я не мог высказать, считаю необходимым сделать известными (хотя бы в том кратком и фрагментарном виде, как они здесь изложены), по крайней мере, в нашем узком писательском кругу. Не являясь делегатом Конференции Московской писательской организации, которая должна состояться в ближайшие дни, прошу Вас, как Первого секретаря правления, зачитать это письмо перед делегатами Конференции.
Параллельно посылаю копию этого письма в редакцию газеты "Московский литератор" и прошу Вашего содействия в опубликовании его в нашей многотиражке, чему, как не трудно предвидеть, могут встретиться препятствия.
С уважением
Семен Резник
5.11.1980
(адрес).
2.
СП РСФСР
ПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСТКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
121069 Москва Г-69, ул. Герцена, 53
№ 242 31 марта 1981 г.
Уважаемый Семен Ефимович!
В свое время я внимательно прочел Ваше письмо и думаю, что по истечении времени мы с вами можем взглянуть на ситуацию более спокойно. Тот факт, что Вы не смогли принять участие в обсуждении книги И. Золотусского "Гоголь" в творческом объединении критики, ни в коей мере не мешает вам высказать свой взгляд на эту книгу в печати. Газета "Московский литератор" не вела дискуссию по книге И. Золотусского, так же, как не вела и по другим книгам, поэтому Вам сообразней всего обратиться в любой из соответствующих органов центральной печати.
С уважением
Ф. Кузнецов Первый секретарь Правления Московской писательской организации
СП РСФСР
3.
14.4.1981
Уважаемый Феликс Феодосьевич!
Давайте посмотрим на ситуацию спокойно.
В письме от 5.11.80 я сообщил Вам о факте нарушения демократическим норм проведения творческих дискуссий, в результате чего "дискуссия" по книге И. Золотусского "Гоголь" вылилась в пустое славословие автора, я же, как потенциально неудобный оратор, вообще не получил слова. Наиболее эффективной мерой к недопущению таких "обсуждений" в будущем может быть, конечно, предание подобных фактов огласке, поэтому я просил Вас зачитать мое письмо на Конференции и содействовать его опубликованию в "Московском литераторе".
В ответе Вашем от 31 марта с.г. суть вопроса полностью обойдена. Почему? Ведь Вы отлично понимаете, что, как член Московской писательской организации, я обратился к Вам, как к руководителю этой организации, не для того, чтобы получить совет высказаться где-то в другом месте.
Вынужденный вторично беспокоить Вас по тому же вопросу, я исхожу из убеждения, что В.И. Гусев (как и другие руководители) избран на ответственный пост, чтобы служить интересам литературы, а не отдельной группке литераторов, которые, скверно делая литературное дело, отлично обделывают свои литературные дела, используя для этого беспринципное восхваление друг друга, запугивание несогласных и прямое затыкание рта тем, кого не удается запугать.
Именно потому, что в моей письме шла речь о внутренней жизни Московской писательской организации, я направил его копию в "Московский литератор", а не в какой-либо иной орган. Однако ответа еще нет (чтобы посмотреть на ситуацию спокойно, редакции, видимо, нужно еще больше времени, чем нам с Вами).
С уважением
С. Резник
Член СП СССР
P.S. Надеюсь, что на этот раз Вы ответите по существу, и не через пять месяцев, а хотя бы в срок, установленный законом.
4.
СП РСФСР
ПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСТКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
121069 Москва Г-69, ул. Герцена, 53
№ 307 " "* апреля 1981 г.
______________ * В оригинале число не проставлено.
Уважаемый тов. Резник!
Благодарю Вас за письмо. Спешу ответить "в срок, установленный законом": зачитать Ваше письмо в своем докладе на конференции я не мог, поскольку в час, отведенный мне для доклада, я должен был охватить работу Московской писательской организации в течение четырех лет; требовать оглашения Вашего пространного письма, просто нескромно.
С уважением
Ф. Кузнецов
Первый секретарь Правления
Московской писательской организации
СП РСФСР
5.
Уважаемый Феликс Феодосьевич!
Благодарю Вас за скорый ответ и прошу извинить меня, что по некоторым обстоятельствам не смог ответить так же быстро.
Чтобы не отвлекаться от дела, я не стану возражать против Вашего более чем странного упрека в нескромности. Замечу лишь, что я не просил включать мое письмо в текст Вашего доклада. Письмо можно было огласить в ходе прений, еще логичнее - при обсуждении кандидатур в новый состав Правления, в которое ведь избирался и Гусев, так что узнать о том, как он использует свое начальственное положение, делегатам Конференции было отнюдь нелишне.
Однако Конференция далеко позади и суть вопроса, который я ставлю перед вами, состоит в следующем. Намерены ли вы способствовать оглашению сообщенных мною фактов антидемократических действий В.И. Гусева через газету "Московский литератор" или иным способом или нет? Так как Вы дважды уклонялись от этого вопроса, то я подчеркиваю его и прошу ответить четко и определенно - хотя бы для того, чтобы закончить эту переписку, ибо она надоела Вам, я думаю, так же, как и мне. Поскольку напоминание о необходимости соблюдать закон, который регламентирует не только сроки, но и требует отвечать на письма по существу, рассердило Вас настолько, что Вы забыли мое имя-отчество, то на закон я больше не ссылаюсь.
Желаю Вам всего наилучшего
С. Резник
31.5.1981.
6.
СП РСФСР
ПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСТКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
121069 Москва Г-69, ул. Герцена, 53
№ 425 " 8 " июня 1981 г.
Уважаемый тов. Резник!
В третий раз со всей четкостью и определенностью сообщаю Вам свою точку зрения: на мой взгляд, публиковать вашу статью нецелесообразно.
В принципе же, вопрос о публикации статьи решает коллегия "Московского литератора", куда вам и следует обратиться.
На этом считаю предмет нашей с Вами переписки исчерпанным.
С уважением
Ф. Кузнецов
Секретарь Правления
МО СП РСФСР
7.
Главному редактору "Литературной газеты"
А.Б. Чаковскому
Уважаемый Александр Борисович!
Среди опубликованных в "Литературной газете" материалов VII съезда Союза писателей СССР мое внимание привлекла та часть выступления Ф.Ф. Кузнецова, в которой он остановился на недостатках литературной критики. По мнению Ф.Ф. Кузнецова, нашей критике "не хватает наступательности и принципиальности, идейно-этической зоркости и требовательности в борьбе с недостатками в литературе".
"Уровень глубины, серьезности и основательности критики в литературе, -- сказал далее Ф. Кузнецов, -- заметно отстает от уровня развития общественной критики в стране".
Положение, как видим, серьезное, и о нем заявил, не "рядовой" писатель, а Первый секретарь правления крупнейшей писательской организации. Последнее обстоятельство заставляет думать, что руководство данной организации с отставанием критики ведет последовательную борьбу.
К сожалению, мне довелось столкнуться с фактами, говорящими о противоположном.
31 октября 1980 года я присутствовал в Центральном Доме Литераторов на обсуждении книги И. Золотусского "Гоголь", которое проводилось творческим объединением критиков и литературоведов. Я хотел принять участие в обсуждении, причем в своем выступлении я намеревался показать идейно-этическую несостоятельность книги И. Золотусского. Однако председательствовавший на собрании В.И. Гусев позволил высказаться только апологетам И. Золотусского; потенциально нежелательным ораторам, в том числе и мне, он просто не предоставил слова...
О случившемся я сообщил Первому секретарю Московской писательской организации Ф.Ф. Кузнецову. Так как через несколько дней должна была состояться Конференция Московской писательской организации, то я просил зачитать мое письмо перед делегатами. Кроме того, я просил способствовать опубликованию моего письма в газете "Московский литератор", куда направил его копию.
Ф.Ф. Кузнецов не только не выполнил моей просьбы, но и ответить удосужился лишь через пять месяцев, причем полностью обошел существо поставленного мною вопроса (редакция "Московского литератора" не ответила до сих пор). Я вынужден был вновь обратиться к Ф. Кузнецову, но и на второе письмо он не ответил по существу. Не оспаривая приводимых мною фактов (их достоверность, очевидно, не вызывала у него сомнений), он, тем не менее, ни единым словом не осудил действий В.И. Гусева, зато мое желание обратиться к делегатам Конференции квалифицировал как "нескромное", словно Конференция это не деловое совещание представителей московских писателей, а некое священнодействие, на котором одним положено вещать, а другим - благоговейно внимать.
Я в третий раз обратился к Ф.Ф. Кузнецову, прося дать четкий и ясный ответ: намерен ли он предать гласности приведенные мною факты антидемократических действий В.И. Гусева или нет. На это Ф.Ф. Кузнецов сообщил, что предмет переписки считает исчерпанным.
Хорошо известно, что закон обязывает отвечать на письма в строго обусловленные сроки и по существу поднимаемого вопроса, так что Ф.Ф. Кузнецов пошел на неоднократное нарушение закона только ради того, чтобы оградить В.И. Гусева и И. Золотусского от публичной критики.
Главную причину недостатков современной критики Ф.Ф. Кузнецов видит в отсутствии "гражданского мужества", которого "как раз и не хватает многим нашим критикам, равно как и отделам критики литературных журналов и газет". Это указание явно страдает неполнотой. Ибо среди тех, кому не хватает гражданского мужества, не названы руководители некоторых творческих организаций Союза Писателей, и, прежде всего, Московской писательской организации.
Прошу Вас опубликовать это письмо. Пусть его появление на страницах "Литературной газеты" станет маленьким шагом на пути преодоления того отставания критики, на которое указал Ф.Ф. Кузнецов.
С уважением
Семен Резник
Член Союза писателей СССР.
17 июля 1981 г.
8.
На сохранившейся у меня копии этого письма имеется моя же приписка от руки, сделанная по свежим следам событий:
"Отвечено по телефону членом редколлегии ЛГ Ф.А. Чапчаховым. Смысл ответа: печатать письмо ЛГ не будет, так как не может вмешиваться в организационную сторону работы Московской писательской организации.
Разговор с Чапчаховым - 2 сентября 1981 г.".
сюжет четвертый
Валентин Саввич Пикуль был самым "макулатурным" советским писателем. Под его романы любители собирали мешки с бумажной макулатурой, выстаивали долгие очереди, чтобы заполучить в обмен заветный талончик, позволявший приобрести супердефицитный роман этого суперпопулярного автора. Пек он свои романы с невероятной быстротой, выходили они часто, новыми и новыми изданиями, массовыми тиражами, но их молниеносно сметало с книжных прилавков, словно проносился по ним тайфун. И достать их после этого можно было только по очень большому блату или - по "макулатурному" талону.
Валентин Пикуль был, безусловно, человеком незаурядным. Из тех, кто сам себя породил. В тринадцать лет он сбежал из дому, поступил в военно-морское училище, а с пятнадцати уже плавал на кораблях, начав службу юнгой. Тем и окончилось его систематическое образование. С таким интеллектуальным багажом выбиться в люди мало кому удавалось, а стать знаменитым писателем...
Пикуль добирал недополученное в школьные годы чтением несметного количества исторических мемуаров, описаний, писем, документов. Из них он черпал сюжеты для своих будущих романов - не столько исторических, сколько приключенческих, хотя и "опрокинутых" в прошлое. То, что он поставлял на рынок, не было литературой. Это было чтиво, - и в таком качестве его произведения выполняли свою общественно полезную функцию, заполняя досуг того весьма широкого слоя читающей публики, чьи духовные и эстетические запросы как раз и соответствовали поставлявшемуся Пикулем товару.
Как выяснилось из откровений его жены, Валентин Саввич был тяжелым алкоголиком и еще более тяжелым воркоголиком. Если он не пребывал в пьяном угаре, он писал. Много, торопливо, азартно, не заботясь о том, чтобы правильно расставлять запятые, не говоря уже о более тонких материях.
Публика более образованная Валентина Пикуля не читала, не знала, и знать не хотела. Критика - тем более. При баснословной популярности он оставался за бортом литературного процесса. До тех пор, пока в журнале "Наш современник" не стал печататься его роман "У последней черты...", посвященный Гришке Распутину (апрель-июль, 1979), в котором эта "Нечистая сила" (таково было изначальное, авторское, название романа) изображена игрушкой в руках евреев, осуществляющих дьявольской заговор против России.
Роман вполне ложился в русло той линии, которую особенно настойчиво проводил журнал "Наш современник". Однако бесшабашный разнузданный стиль Пикуля обнажал то, что менее примитивные авторы убирали в подтекст или как-то припудривали, подретушевывали, подкрашивали "правильной" риторикой. Пикуль отбросил эзоповские хитроумности и в своем антисемитском рвении настолько переступил черту дозволенного, что уже в ходе публикации романа "наверх" посыпались письма и телефонные звонки с требованием остановить это позорище. Однако публикация продолжалась и была доведена до конца, хотя, как доходили слухи, в урезанном виде. Как открылось уже в наши дни, "Е. Тяжельников и В.Шауро*, а также руководители СП СССР Г. Марков и Ю. Верченко защитили "Наш современник", ограничившись лишь более строгой цензурой романа".**
______________ * Тяжельников и Шауро - заведующие отделом пропаганды и отделом культуры ЦК КПСС. ** См.: Николай Митрохин. Русская партия. Движение русских националистов в СССР 1953-1985, "Новое литературное обозрение", М., 2003, стр. 541.
В печати роман "У последней черты" подвергся критике, но строго дозированной. Критические статьи, очевидно, тоже подвергались жесткой цензуре, а, возможно, и самоцензуре авторов. Я помню, как на каком-то многолюдном писательском сборище в ЦДЛ известный писатель-деревенщик Борис Можаев - человек талантливый, острый и неуступчивый - темпераментно и хлестко обрушился на Пикуля. Под неудержимый хохот зала он зачитывал "перлы" из его романа, показывая, насколько примитивно, неряшливо и просто безграмотно он написан. Можаева возмущал непрофессионализм автора и редакторов, пропустивших такой убогий текст на страницы одного из ведущих органов Союза писателей. Но о том, что роман грешит куда более глубокими изъянами, что он возбуждает ненависть к целому народу, Борис Можаев не сказал ни слова.
Видя, как мои коллеги всплескивают руками и заходятся от хохота, услышав очередной зачитанный с трибуны "перл", я испытывал все большее чувство неловкости - за них, да и за густобородого оратора. В по-своему блестящей речи Можаева Пикуль выставлялся эдаким мещанином во дворянстве, который не подозревает, что говорит прозой. "Смотрите, как он сморкается в рукав, не умея пользоваться батистовым платочком"; "смотрите, как мешковато сидит на нем фрак - просто умора!"; "да он же не умеет раскланиваться с дамами и пляшет гопака вместо мазурки!" Все это, конечно, было достойно осмеяния. Но о том, что было совсем не смешно, то есть что роман Пикуля и его публикация в журнале - это обыкновенный фашизма, - об этом не было сказано ни слова.
Не думаю, что Борис Можаев сознательно хотел потрафить партийным надсмотрщикам над литературой (он их глубоко презирал), но именно такая критика их устраивала. Им надо было одернуть переступившего черту шалуна, но так, чтобы самим не переступить "черту". Обыкновенный фашизм должен был и дальше струиться по руслу литературного процесса, ему только не следовало выходить из берегов.
Таковы были соображения, побудившие меня отозваться на одну из рецензий на роман В. Пикуля.
1.
"Литературная Россия" Отдел критики
Уважаемые товарищи!
Будучи в отъезде в течение месяца, я только сейчас прочел в номере от 29 июля "Литературной России" рецензию доктора исторических наук И. Пушкаревой на роман В. Пикуля "У последней черты". Соглашаясь в основном с оценкой романа, даваемой И. Пушкаревой, я в то же время не могу пройти мимо слишком "деликатных" умолчаний и оговорок рецензента. Из рецензии можно сделать вывод, будто Пикуль что-то "не доработал", в чем-то "сместил акценты", где-то потерял "классовый критерий", словом, что-то где-то неправильно понял, недопроверил и т.п., тогда как на самом деле в его романе все понято и продумано до конца. Весьма слабый в художественном отношении, роман строго логичен концептуально. Все описываемые события и факты излагаются Пикулем с позиций определенной идеологии, а именно, идеологии черносотенной. Пример этот не единственный для исторических (вернее, псевдоисторических) произведений литературы последних лет. Роман В. Пикуля отличается, пожалуй, лишь тем, что в нем эта идеология проводится с большей прямотой. Сказать об этом я считаю своим долгом писателя и гражданина.
С уважением Семен Резник Член ССП. 28.8.1979
2.
Семен Резник
Полуправда о чувстве меры.
Статья доктора исторических наук Ирины Пушкаревой "Когда утрачено чувство меры..." ("Литературная Россия", 29 июля 1979 г.) вызвала у меня и, полагаю, не только у меня, смешанное чувство удовлетворения и разочарования. С негативной оценкой, какую И. Пушкарева дает роману-хронике В. Пикуля "У последней черты", согласится всякий, кто знаком с историческими фактами описываемой эпохи. Однако мотивировки критических оценок И. Пушкаревой и некоторые ее выводы озадачивают. Важным недостатком романа И. Пушкарева считает язык, который "крайне упрощен, перенасыщен грубыми фактами, анекдотами, а то и непристойной бранью". В то же время рецензент отмечает, что "на язык романа сильное влияние, видимо, оказала литература, которую использовал автор", а использовал он "писания великого князя Николая Михайловича", иеромонаха Илиодора, сфабрикованные воспоминания Распутина, мемуары Вырубовой, давно разоблаченные советскими историками как поддельные, * и многое другое". Но ведь Вырубова, Распутин, Илиодор - главные действующие лица романа. Если они говорят языком, каким написаны их мемуары, то выходит, что В. Пикуль хотя бы отчасти сумел заставить своих героев изъясняться их собственным языком! Недостаток, таким образом, оборачивается достоинством.
______________ * Попутно замечу характерную "оговорку" автора рецензии. Поддельные мемуары наперсницы императрицы А. И. Вырубовой были сфабрикованы как раз советскими авторами А.Н. Толстым и П.Е. Щеголевым, а опротестована фальшивка была самой А.А. Вырубовой, жившей в эмиграции в Нью-Йорке. Подробнее об этом "шалости" см. в кн.: Семен Резник. Вместе или врозь? Заметки на полях книги А.И. Солженицына. М., "Захаров", 2003, стр. 293.
И. Пушкарева утверждает, что в романе почти полностью "отсутствует исторический фон", и она же считает, что "роман засорен излишними подробностями, всем тем, что прежде составляло в печати великосветскую хронику (сообщения о болезнях царей, рождении их детей, царских вояжах, описание одежд Распутина, царицы и пр.). Выходит, исторический фон все же присутствует: не только ведь "стачечники" и "фабричные трубы" характеризуют время. Как видим, некоторые из критических замечаний И. Пушкаревой спорны, хотя высказаны с излишней категоричностью.
Совсем иначе выглядят те места рецензии, где И. Пушкарева как ученый-историк сопоставляет фактическое и идейное содержание романа с его исторической основой. Здесь специалист аргументирует фактами, все сказанное весомо и совершенно неоспоримо. Тем более странно, что при этом рецензент обнаруживает непонятную робость, прибегает к оговоркам и недоговоренностям. Так, И. Пушкарева, хорошо зная источники, которыми пользовался В. Пикуль, сообщает, что он "страница за страницей" переписал в свой роман большие куски из мемуаров, весьма сомнительных с точки зрения их исторической достоверности; что при этом в роман перекочевали не только выдуманные мемуаристами эпизоды и факты, но также "просочились" (по деликатному выражению рецензента) их "ошибочные идеи и взгляды". Что из этого следует? Да то, что "роман" В. Пикуля - это дешевая компиляция, а местами прямой плагиат; квалифицировать такое произведение можно лишь как прямую халтуру. Но этого-то И. Пушкарева как раз и не говорит. Основную "ошибку" автора она видит в том, что он "выпустил в свет сырую, еще не проработанную вещь, страдающую идейно-художественными изъянами и недоговоренностями". Иначе говоря, посиди В. Пикуль еще полгодика-год, и "вещь" стала бы проработанной! И. Пушкарева называет роман "граничащим с бульварной литературой", хотя из всего содержания рецензии (как, конечно, и из самого романа) видно, что границу В. Пикуль смело переступил. Его произведение создано по нехитрым канонам бульварного жанра: буквально все в нем - и использованные источники, и отбор материала из этих источников, и смакование всевозможной "клубнички", и похабно-разнузданный стиль - служат одной и той же "художественной" задаче: потрафить самым низменным вкусам самых невзыскательных читателей. "Внеклассовым подходом отличается и назойливое акцентирование автором национальной принадлежности того или иного персонажа, связанного с Распутиным и царской кликой", -- пишет И. Пушкарева, опять деликатно не договаривая то, что ясно каждому, кто прочитал роман. Многие из выведенных В. Пикулем персонажей по национальности евреи. Автор не упускает случая сообщить об этом, опасаясь, видимо, оставить читателей в неведении на сей счет. Однако - почему такое "акцентирование" следует считать "внеклассовым подходом"? И. Пушкарева этого не объясняет, и вряд ли здесь можно что-либо объяснить. И. Пушкарева, разумеется, понимает, что "ошибка" В. Пикуля вовсе не в том, что он евреев называет евреями, а совершенно в другом. Евреям в романе приписывается огромная, чуть ли не решающая роль во влиянии на Распутина и, через него, на судьбы российского государства. Конечно, в действительности ничего подобного не было. В. Пикуль, пользуясь деликатным выражением И. Пушкаревой, "смещает акценты в оценке исторического процесса", а, говоря, проще, расставляет акценты в полном соответствии с тем, как это делала (именно в то время, когда происходили описываемые в романе события) черносотенная печать. Будучи противниками не только надвигавшейся революции, но всякого, даже незначительного прогресса, идеологи "Союза русского народа" и других черносотенных организаций пытались "сплотить" народ (то есть подчинить его царизму) на основе самого беспардонного шовинизма и национализма. Основным объектом травли были избраны евреи. Черносотенная печать подхватила "идею" всемирного еврейского заговора, широко пропагандировала версию о том, будто "евреи поджигают Россию с двух сторон: с одной стороны - социализмом, а с другой - капиталом". (Так "объяснялось" расслоение среди евреев, якобы маскирующих свое полное единство и сплоченность). Борясь одновременно против революции и против буржуазно-либеральных реформ, черносотенцы выражали интересы крайней дворянской реакции, мечтавшей о добром старом времени, когда общественное мнение было парализовано немотой, над страной раздавался свист розги, и крестьяне томились в крепостной неволе. Даже такие деятели, как С.Ю. Витте, даже сам "мягкотелый" царь представлялись правым если не красными, то попавшими под влияние красных. Или евреев: для Пуришкевичей, Марковых, Замысловских эти понятия равнозначны. Именно такая концепция истории предреволюционной России последовательно проводится в романе-хронике В. Пикуля. (Из газет определенного толка он заимствовал не только великосветскую хронику). Такую позицию никак не назовешь внеклассовой. Автор романа занял именно классовую позицию крайней дворянской реакции и выразил ее так, как она выражалась ее идеологами в последние предреволюционные годы. Кто хотя бы бегло просматривал, например, "Протоколы чрезвычайно следственной комиссии Временного правительства", изданные в двадцатые годы видным историком П.Е. Щеголевым,* тот не может не испытывать брезгливого отвращения к высшим царским сановникам предреволюционной поры: ко всем этим Хвостовым, Протопоповым, Белецким и прочей преступной дряни. Но никто не станет отрицать, что даже наиболее интенсивно разлагавшаяся верхушка правительственного аппарата состояла все же из людей, хотя и мерзких, имевших свои представления о добре и зле, о честности, подлости, долге и т.п.
______________ * См.: Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Редакция П.Е. Щеголева, Л. Госиздат, тт. I-VII, 1923-1927.
В романе В. Пикуля людей нет. Его герои - это уныло похожие друг на друга монстры. Каждый из них - целое скопище всех возможных и невозможных пороков; упоминаемый И. Пушкаревой "свальный грех" -- один из самых невинных. Исключение Пикуль делает только для П.А. Столыпина: ему одному дозволено автором иметь человеческие стремления и чувства, то есть жаждать не только наполнения кармана и брюха, заботиться не только об удовлетворении своей похоти (в самых извращенных формах). На фоне питекантропов, которыми населен роман, Столыпин выглядит даже благородным героем-мучеником. Россия же предстает перед читателем не как великая страна, переживающая сложный, остродраматический этап своей истории, а как смердящий труп, жадно пожираемый русским и инородным вороньем, среди которого наиболее алчными и "хитроумными" пожирателями оказываются евреи. Весьма характерна обрисовка автором Д. Б. Богрова - одной из крайне сложных и противоречивых фигур сложнейшей исторической эпохи. Участник революционного движения, он вступил в сношения с охранкой и стал выдавать товарищей, но потом ввел в заблуждение своих полицейских начальников и, взявшись обезвредить несуществующих террористов, проник в театр, где присутствовали царь и его свита, и выстрелил в упор в премьера Столыпина. Богров действовал один, по тщательно продуманному плану, в котором, однако, отсутствовало последнее звено: возможные пути бегства с места преступления. Отправляясь убивать Столыпина, Богров в то же самое время совершал преднамеренное самоубийство. Каковы мотивы столь отчаянного поступка?
В личности Богрова многое остается неясным. Какой простор для творческого воображения писателя, стремящегося проникнуть в глубины человеческой психологии! Но, увы, для Пикуля нет вопросов и загадок, а, значит, нет и не может быть подлинных художественных открытий. Его Богров, как и остальные герои, начисто лишен всего человеческого, им движут лишь чисто животные страстишки, самое же важное то, что он еврей, а Столыпин противник Распутина, которым, по В. Пикулю, вертят те же евреи. То есть убийство Столыпина трактуется в романе в духе все того же мифа о еврейском заговоре.*
______________ * Увы, вскоре аналогичная трактовка коллизии Столыпин-Богров появилась во второй редакции романа А.И. Солженицын "Август 1914".
Смакование гнусностей, замешанных на черносотенной идеологии и антисемитизме, -- такова "распутинщина", состряпанная В. Пикулем. Поскольку в рецензии И. Пушкаревой об этом сказано лишь намеками, вскользь, с излишней деликатностью, я считаю своим правом и обязанностью назвать вещи своими именами.
3.
Литературная Россия Орган Союза писателей РСФСР И правления Московской писательской организации.
18.10.79
Адрес редакции: Москва, Цветной бульвар, 30, Тел. 2000-40-50
Уважаемый Семен Ефимович!
Благодарим вас за внимание к нашему еженедельнику и за отклик на статью доктора исторических наук И. Пушкаревой. Опубликовать Вашу статью не можем, так как редакция возвращаться к обсуждению романа В. Пикуля не будет.
С уважением Редактор отдела критики О. Добровольский.
4.
Валентин Пикуль умер в 1990 году, то есть он дожил до того времени, когда его полуопальный роман "У последней черты" смог быть переиздан отдельной книгой, причем в полном объеме и под первоначальным названием: "Нечистая сила". Роман, конечно, имел огромный читательский успех. В интервью, которые раздавал автор, он представал неустрашимым диссидентом, подвергавшимся гонениям со стороны властей и "сионистов". "Сионисты", по его словам, однажды его даже сильно побили, грозились убить, но его "взял под защиту флот".
Флот не только защитил писателя-макулатурщика при жизни, но и позаботился об увековечении его памяти. Минимум два корабля, бороздящие ныне морские волны, названы его именем. Сторожевой катер "Валентин Пикуль" несет службу на Каспийском море, где "выполняет задачи по охране Государственной границы и морских биоресурсов".* А МТЩ (видимо, морской тральщик) "Валентин Пикуль", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, был перегнан в Черное море и приписан к Новороссийской военно-морской базе.
______________ * Информационное агентство Росбалт, . html
Правда, у экипажа тральщика далеко не сладкая жизнь. "Проблем накопилось много, начиная с выплаты денежного довольствия и заканчивая бытовой неустроенностью абсолютного большинства офицеров и мичманов корабля", -- сетует газета "Красная звезда", и продолжает: "На МТЩ "Валентин Пикуль" до 60 процентов мичманских должностей вакантны. Из-за бытовой неустроенности, постоянных мытарств по различным местам базирования, длительного отрыва от семей эта категория военнослужащих не стремится на "чужой" корабль".*
______________ * "Красная звезда", 12 ноября 2003.
Но почему тральщик "Валентин Пикуль" назван чужим? Тут какая-то неувязка! Пикуль-корабль такой же свой в нынешней России, как Пикуль-писатель, как его макулатурные романы, а в особенности как самый популярный из них, "Нечистая сила". Не зря же Валентин Саввич без пощады сжигал себя с двух концов - алкоголем и воркоголем. Губил свою молодую жизнь, чтобы (по слову лучшего талантливейшего поэта) "воплотиться в пароходы, строчки и другие долгие дела". И воплотился. Бессмертие ему обеспечено до тех пор, пока (говоря словами других поэтов, тоже не самых бездарных) "на всей Руси Великой жив будет хоть один антисемит".
А он будет жив. Будет жив. Долго.
сюжет пятый
Большинство героев пятого сюжета моей "переписки с друзьями" уже известны читателю, включая главного героя Дмитрия Жукова (см. сюжет второй). Теперь в центре внимания его размышления о биографическом жанре, опубликованные в двух номерах "Нашего современника" за 1979 г.* Судя по дате и по содержанию моей реплики, я ее написал после прочтения первой половины статьи Д. Жукова, не дожидаясь продолжения. Но, прежде чем знакомить читателей с этой репликой, я должен представить персонажей, появляющихся впервые.
______________ * Д. Жуков. Биография биографии. "Наш современник", 1979, №№ 9, 11.
Юрий Лощиц пришел в серию ЖЗЛ году примерно в 1969 с предложением написать биографию Григория Сковороды, украинского философа, педагога и поэта, сатирика и мыслителя, странника и моралиста XVIII века. Ничем заметным Лощиц до этого себя не проявил: работал в каком-то музее рядовым сотрудником и изредка публиковал "идейные" стихи в "Пионерской правде" и журнале "Костер". Тем не менее, его заявка была принята, книга написана и издана.*
______________ * Лощиц, Ю. М. Григорий Сковорода, серия ЖЗЛ, М., "Молодая Гвардия", 1972.
Невысокий, коренастый, с красивой окладистой бородой и выразительными глазами, Лощиц чем-то неотразимо к себе располагал. Держался он несуетно, говорил тихим ровным голосом, а больше молчал, и за этим чувствовалась уверенность человека, знающего себе цену, но не склонного ее завышать. Вскоре после выхода его книги в серии ЖЗЛ открылось штатное место редактора, и кто-то порекомендовал на него Лощица. Но вместе мы поработали очень недолго: мои дни в редакции были сочтены. Однако, и после моего ухода я продолжал в ней бывать - в качестве автора и на правах недавнего сослуживца большинства сотрудников, с которыми у меня сохранились дружеские отношения. Что касается моих отношений с Лощицем, то они были отстраненными и благодаря этому - ровными. Мы оба чувствовали, что лучше сохранять дистанцию. Это и длилось несколько лет - до нашего первого и последнего "крупного" разговора.
К изданию готовилась моя последняя книга в ЖЗЛ.* Редактором был Андрей Ефимов, мой давний друг, пришедший в серию совсем молодым и сильно привязавшийся ко мне. После того, как из редакции был изгнан Юрий Коротков и его место занял Сергей Семанов, взгляды и идейная ориентация Андрея стали меняться, а наши отношения - портиться. Мне претило его усердное стремление угождать начальству, подлаживаясь под него не только внешне, но и внутренне; ему же было непонятно и, я думаю, в глубине души завидно, что я оставался самим собой.
______________ * Резник, С.Е. Владимир Ковалевский: Трагедия нигилиста, М., "Молодая гвардия", 1978.
К указанному времени редакцию уже возглавлял ставленник Семанова Юрий Селезнев. Он писал книгу о Достоевском и пытался даже внешне походить на своего героя, что выглядело комично. В его простецком моложавом лице конфетного красавца не было и тени той углубленной мыслительной работы, с налетом трагизма, что так характерна для облика великого писателя на всех его известных портретах. Борода a la Достоевский делала Селезнева комичным вдвойне, так как выглядела бутафорской, словно приклеенной.
У Андрея Ефимова завязался тайный роман с женой Селезнева; когда это открылось, Андрей должен был уйти из редакции. Но пока тайное не сделалось явным, он из кожи лез, угождая вкусам и "патриотическим" прихотям шефа, что прямо отразилось в его замечаниях по моей рукописи.
В чем-то я шел на уступки, но короткий абзац о еврейском погроме 1881 года в Одессе решил не "отдавать". Я приводил найденное мною в архиве письмо Александра Ковалевского (известного зоолога, профессора Новороссийского университета) брату Владимиру, в котором он с возмущением сообщал о погромных бесчинствах, чему был свидетель. Ефимов хотел снять этот абзац, я отказывался. Он настаивал, ссылаясь на то, что Селезнев все равно "это" снимет. Стараясь сдерживаться, я, по старой дружбе, советовал ему не лезть поперек батьки в пекло: если Селезнев потребует этот абзац убрать, я буду объясняться с Селезневым.
Разговор становился все более напряженным. Наши давние отношения накладывали на него особый отпечаток: главное не говорилось вслух, но было понятно обоим. Андрея уязвляло мое упрямство (из-за одного абзаца ставлю под удар всю книгу), я же давал понять, что презираю его лакейство. И в этот момент в комнату вошел Лощиц (его рабочее место было в соседней комнате) и вмешался в разговор, переведя его на "еврейский вопрос" вообще - в том аспекте, как его понимали "патриоты".
-- Ну, хорошо, Юра, -- возразил я по поводу какого-то его замечания, -допустим, что евреи играли "слишком большую" роль в революции и творили больше безобразий, чем другие головорезы. Но тот период длился недолго. К 27-му году их всех из Политбюро вычистили. Ни одного не осталось...
Тут Лощиц, набычив шею и раскачивая крупной тяжелой головой вправо и влево, сорвался в фальцет:
--- А Ка-га-но-вич!!
...Я перечитал эти строки и вижу - не то, не то! Это надо было видеть и слышать. Невозможно на письме передать ту упругую силу ненависти, что прорвалась в этих пяти слогах и пять качков головы.
-- Подожди, -- пытался я его урезонить.
Я как раз и хотел сказать, что единственный Каганович был введен в Политбюро уже в тридцатом, но самостоятельной роли не играл, будучи верным сатрапом Сталина, и оставался единственным евреев в высшем эшелоне власти, пока его не вышвырнул Хрущев.
Но Лощиц не дал договорить. Он явно жалел о своей вспышке, столь не свойственной ему при обычной сдержанности. Быстро поднявшись, он вышел из комнаты. Повернувшись к Ефимову, я сказал, что ни на какие уступки не пойду. Было в моем тоне что-то такое, что заставило его тотчас согласиться оставить "крамольный" абзац.*
______________ * Однако за моей спиной он его снял, и мне стоило немалых трудов и нервов добиться его восстановления в корректуре. Но этот эпизод к данному сюжету не относится.
После этого столкновения я с Лощицем не общался. Однако с книгами его, особенно с его "Гончаровым" общаться пришлось, о чем читатель узнает из этого сюжета моей "переписки".
Другой новый персонаж - Олег Михайлов.
Еще при Короткове мне довелось редактировать две книги Льва Гумилевского: биографию выдающегося химика XIX века Н.Н. Зинина* и второе издание биографии академика В.И. Вернадского.** Усталый понурый человек с печальными очень серьезными глазами, смотревшими сквозь большие очки в роговой оправе, Лев Иванович был уже в очень преклонном возрасте. Он был слаб, нездоров, жил в старом доме без лифта на каком-то очень высоком этаже и почти не покидал квартиры. Для работы над рукописью я приезжал к нему домой, и это нас сблизило. Для Льва Ивановича мои приезды были приятны, так как вносили разнообразие в его замкнутое существование. Убедившись, что со мной можно говорить без опаски, он, хотя и был скуп на слова, порой вдавался в воспоминания. Неизгладимо поразило меня - еще очень наивного, со школы впитавшего представления о "преимуществах" социализма - его замечание о том, что всякий раз, когда советская власть разрешала в ограниченном виде частное предпринимательство (нэп, торгсин), исчезали очереди, карточки и прочие "временные трудности". Но они возникали вновь, как только начинали прижимать частника. Еще запомнился мне рассказ о семнадцатом годе, когда Лев Гумилевский, молодой журналист, работал в какой-то меньшевистской газете. Сотрудники пребывали в эйфории в связи с только что свершившейся революцией, были полны ожиданий, надежд на грядущее "царство свободы". Но как-то в редакцию зашел один из главных вождей меньшевизма Павел Аксельрод и - вылил на сотрудников ушат холодной воды. Обведя печальными глазами обступившую его молодежь, он заговорил о том, что Россию ждут тяжкие испытания, жестокая борьба, кровь. "Будут у нас и свои Робеспьеры, и свои Бонапарты!"
______________ * Гумилевский, Л.И. Зинин, ЖЗЛ, М., "Молодая гвардия", 1965. ** Гумилекский, Л.И. Вернадский, 2-е издание, ЖЗЛ, М., "Молодая гвардия", 1967.
У Льва Гумилевского я однажды и застал Олега Михайлова - молодого литературного критика, энергичного, эрудированного, много и интересно говорившего. Он занимался литературой 20-х годов, а Гумилевский был одним из видных участников литературных баталий тех лет. Его книга "В Собачьем переулке", показавшая быт нэпмановской России, выдвинула его в число ведущих прозаиков. А затем он попал под каток партийных разносов. Его обвиняли в буржуазном перерождении, чуть ли не в антисоветчине и контрреволюции, перестали печатать. И потому, когда Горький затеял серию "Жизнь замечательных людей", для него она стала спасением. Его перу принадлежала книга "Рудольф Дизель", изданная в серии в 1933 году под номером три. С тех пор вся его жизнь была связана с серией ЖЗЛ, биографиями деятелей науки и техники. Это была сравнительно тихая гавань, позволявшая достойно существовать в литературе, но - во втором ее эшелоне. Ранние же его произведения забылись, и ему были лестны неожиданные восторги молодого критика, намеревавшегося привлечь внимание к его "Собачьему переулку" и другим ранним произведениям.
Пару раз мы уходили от Льва Ивановича вместе с О. Михайловым и подолгу разговаривали. Его суждения были смелыми, неортодоксальными, и я проникся к нему еще большей симпатией.
В серии ЖЗЛ Олег Михайлов появился уже при Сергее Семанове. Поворачивая серию на "патриотический" курс, Семанов срочно нуждался в книгах о великих русских полководцах и военачальниках. О. Михайлов и выполнил такой социальный заказ, наскоро накропав биографию А.В. Суворова.* Отдавая рукопись редактору, Андрею Ефимову, он царственно разрешил ему делать с ней все, что угодно: у него самого нет времени доводить ее до кондиции. Разговор был в моем присутствии; помню, как я опешил от такой циничной наглости профессионального литературного халтурщика. Углубившись в рукопись, Андрей стал жаловаться на то, как слабо она написана. Я советовал вернуть ее автору на доработку, как это нередко у нас практиковалось и с куда более благополучными рукописями. Но Ефимов тыкал пальцем в стену, за которой был кабинет заведующего редакцией. Смысл этого жеста состоял в том, что Семанов хочет издать эту книгу как можно скорее, ибо с Михайловым они кореша, да и Суворов ему нужен. Я отвечал, что Семанов сам рукописи не читал; если ему объяснить, что она нуждается в доработке, он должен будет согласиться. Но Андрея такая логика не устраивала. Перед начальством он стоял по стойке смирно, причем, не из трусости, а, так сказать, из принципа: "Ты начальник я дурак!"
______________ * Михайлов, О.Н. Суворов, ЖЗЛ, М., "Молодая гвардия", 1973.
Надо сказать, что Семанов с самого начала заметил эту слабину Ефимова и наиболее скользкие, слабые, рискованные рукописи, которые он, по своим соображениям, торопился протолкнуть, спихивал на него. Андрей нервничал, понимая, что в случае чего Сережа умоет руки. Но когда я ему говорил, что он должен руководствоваться своим профессиональным долгом, а не тем, что угодно начальству, он меня не понимал. Свое кредо он излагал просто:
-- Надо делать то, что он хочет, или уходить.
-- Ну, так уходи, -- говорил я ему. - Ты первоклассный редактор, с пятым пунктом проблем у тебя нет. Подыщи подходящее место и уходи!
Но он отвечал, что это бессмысленно: в любой редакции есть начальник, и надо будет делать то, что тот хочет.
"Патриотическая" книга Олега Михайлова вышла без промедлений. А затем он написал еще одну, о Г. Р. Державине - еще более халтурную и откровенно антисемитскую.* Ее тоже редактировал Андрей Ефимов, но это уже было после моего ухода из ЖЗЛ.
______________ * Михайлов, О.Н. Державин, ЖЗЛ, М., "Молодая гвардия", 1977.
(Я снова столкнулся с Олегом Михайловым уже в 1990 году в Вашингтоне, куда он приехал в составе делегации "русских писателей" - вместе со Станиславом Куняевым и другими "патриотами" *).
______________ * Этому скандальному турне советских нацистов по Америке за счет американских налогоплательщиков рассказано в моей книге "Красное и коричневое" (Вашингтон, "Вызов", 1991; глава десятая "Патриоты со взломом", стр. 272-299).
Надо сказать, что ситуация в серии ЖЗЛ после изгнания Юрия Короткова и прихода Сергея Семанова, становилась все более парадоксальной. Биографическая книга - если ее писать серьезно и добросовестно - очень трудоемка. Даже у плодовитого автора работа, как правило, занимает несколько лет. Халтурщик же может сварганить книгу за несколько месяцев: достаточно взять три-четыре ранее написанные биографии данного персонажа и слегка их перелопатить, дабы не могли уличить в прямом плагиате. А если еще в книгу внести "патриотическую" струю, то ее уже и компилятивной не назовешь: ведь автором предложена "новая" трактовка!
Именно такими "новаторами" и были те авторы, перед которыми Семанов распахнул двери редакции. Но продолжали поступать и рукописи, заказанные еще при Короткове. Да и от новых предложений солидных авторов не всегда можно было отмахнуться. Такая двойственность сохранялась и после того, как Семанов посадил на свое место Юрия Селезнева. Только удельный вес "патриотической" халтуры с годами становился все большим, а талантливых и высоко профессиональных книг - меньшим. Серия мельчала, вырождалась, и вместо того, чтобы "сеять разумное, доброе, вечное" (как, вопреки давлению цензуры и высших инстанций, мы пытались делать при Короткове), все активнее отравляла читателей ядом национальной фанаберии и ксенофобии. Таков был фон, на котором в "Нашем современнике" появилась статья Д. Жукова "Биография биографии", вызвавшая мою реплику.
2.
Семен Резник
Остановите музыку!
Реплика
"Эрудиция, изящество слога и, главное, умение увлечь своими мыслями читателя отличают..."
"Доскональное знание реалий и событий прошедшей эпохи нисколько не затемняют современности мышления..."
"Избавленный от заблуждений прошлого века, вооруженный знанием исторического процесса, Имярек раздвигает рамки повествования во времени и пространстве..."
"Завороженный читатель открывает для себя все новые и новые материки мысли, вспоминает полузабытое, додумывает недодуманное..."
О ком это? О Пушкине? Достоевском? Толстом? Или о ком-то из классиков не самого высокого "ранга", но все же навечно вписанных в золотой фонд отечественной литературы? Или об одной из фигур первой величины в советской классике: Алексее Толстом, Пришвине, Андрее Платонове? Ведь даже о наиболее признанных мастерах современной прозы, таких как Ю. Трифонов, С. Залыгин, В. Распутин, в таких возвышенных тонах говорить не принято - просто потому, что это активно работающие писатели; торжественно-надгробные восхваления по отношению к ним были бы просто бестактными.
Так вот, дорогой читатель, речь идет не о Л. Толстом и даже не о В. Распутине, а о... Ю. Лощице.
"Материки мысли" в его книге "Гончаров" (серия ЖЗЛ, 1977) открыл Д. Жуков, размышляя о жанре биографии ("Наш Современник", № 9, 1979). Впрочем, Д. Жуков не видит в этом особой своей заслуги, ибо невероятные достоинства, по его убеждению, откроются "всякому, прочитавшему триста пятьдесят страниц" этой книги. "Ищите и читайте ее, она того стоит", заявляет критик, не сознавая, видимо, что то, что уместно намалевать аршинными буквами на рекламном щите, не всегда удобно даже петитом печатать в "толстом" журнале.
Но, может быть, это от доброты? Может быть, Д. Жуков такой человек: рад хвалить собратьев по перу и не считает грехом перебрать через край? Нет, этого никак не скажешь. Д. Жуков крайне недоволен, что "в статьях о биографическом жанре" положительно оцениваются произведения Юрия Тынянова. "Его творчество, -- пишет Д. Жуков, -- характеризующееся как "высокохудожественное" и в то же время "строго научное", ставят в пример пишущим биографии".
Жуков с этим категорически не согласен. Не только что материков, но и крохотных островков мысли в книгах Тынянова он не обнаруживает. Равно как чувств и художественных образов. Что с того, что на "Кюхле" и "Смерти Визир-Мухтара" воспитано несколько поколений читателей, что эти книги десятилетиями остаются любимыми книгами миллионов, нисколько не тускнея и не утрачивая своей прозрачной свежести и эмоциональной насыщенности, потому что кроме определенной суммы знаний о царской России пушкинской эпохи Тынянов сумел внести в них живой темперамент, свою любовь и боль, свое понимание добра и зла, свое чувство истории; он сумел заставить читателей сопереживать героям, вместе с ними отстаивать справедливость и честь, вместе с ними бороться с произволом и гнетом царизма, с крепостным состоянием народа, со всякой неправдой, фамусовщиной, репетиловским пустозвонством. Всего этого Д. Жуков в книгах Тынянова не находит, зато ему "известно, что на творчество Тынянова большое влияние оказал формализм" и потому ничего, кроме бессмысленной игры словами и фактических ошибок, которые насчитываются сотнями (это "открытие" мы должны принять на веру, ибо приведены лишь две очень мелкие неточности), у Тынянова нет.
Можно подумать, что Д. Жуков просто слеп к художественному слову (встречается такая аномалия у некоторых людей, к счастью, их очень немного), но критик вновь прозревает, когда переходит к книгам... О. Михайлова.
"Этот известный критик", сообщает Д. Жуков, теперь "выступает в роли романиста и рассказчика". "Беллетристика его... насыщена фактами, ярка по своему образному строю". Таков аванс. О прозе О. Михайлова Д. Жуков собирается вести "разговор особый" -- в будущем. Пока же он размышляет только над его биографическими книгами. В чем же их выдающиеся достоинства?
"Книга о Суворове насыщена событиями и характерами до предела. Но в густом лесу не теряются и деревья. В стремительности развивающегося действия слышна и скороговорка, но это суворовская сжатость речи искупается ее точностью и емкостью. Характер Суворова окрашивает и сам стиль книги".
И так далее в том же незатейливо рекламном ключе выдержаны все шесть абзацев псевдокритического псевдоанализа этой не самой худшей, но весьма далекой от лучших книг серии ЖЗЛ. Впрочем, Д. Жуков не останавливается на этом - аппетит приходит во время еды:
"Если Олег Михайлов написал прекрасную биографию Суворова, следуя в общем-то проторенным путем, то его следующая книга являла собой смелый эксперимент, необычный в рамках "ЖЗЛ". Об этом заявлено уже в самом подзаголовке: "Романизированное описание исторических происшествий и подлинных событий, заключающих в себе жизнь Гавриила Романовича Державина"".
В чем же смелый эксперимент О. Михайлова? Ведь подзаголовок свидетельствует лишь о том, что автор нетверд в русском словоупотреблении, ибо "исторические происшествия" у него одно, а "подлинные события" -другое; иначе говоря, исторические происшествия - это события не подлинные. Процитировав кокетливый подзаголовок, Д. Жуков оказал медвежью услугу О. Михайлову. "Избирательная" слепота критика распространяется, как видим, не только на достоинства художественных текстов, но и на недостатки. В "Кюхле" Д. Жуков обнаружил слишком частое употребление эпитета "бледный". Зорким оком выискал-таки стилистический сучок в глазу Ю. Тынянова. А вот тяжеленного полена, вынесенного в подзаголовок, у О. Михайлова не углядел!
У Д. Жукова разные мерки для критической оценки разных авторов. К Тынянову он прикладывает одну мерку, к О. Михайлову - совсем иную. Ну а если одно измерять в метрах, а другое в микронах и не указывать единицу измерения, то великан может оказаться меньше ячменного зерна, а карлик выше Эвереста.
Так и выходит у Д. Жукова.
"Смелый эксперимент" О. Михайлова состоит в том, что его книга о Державине "написана как роман". Вот что "необычно в рамках ЖЗЛ", то есть в той серии, где выходили переводные книги Ирвина Стоуна о Джеке Лондоне, "Эварист Галуа" Л. Инфельда и много десятков, если не сотни романов-биографий советских авторов, из которых назову книги В. Прибыткова об Андрее Рублеве и Иване Федорове, "Черский" и "Семенов-Тяншанский" А. Алдана-Семенова, несколько книг В. Прокофьева, "Гаршин" В. Порудоминского, целый ряд биографических книг Льва Гумилевского - одного из зачинателей серии ЖЗЛ, связанного с ней на протяжении десятилетий. Я уж не говорю о замечательном романе-биографии М. Булгакова "Жизнь господина де Мольера". Написанная еще в тридцатые годы, эта книга не сразу нашла дорогу к читателю, но все-таки она вышла в свет в серии ЖЗЛ почти за пятнадцать лет до "смелого эксперимента" О. Михайлова. Д. Жуков высоко оценивает книгу Булгакова, "побивая" ею Тынянова, однако затем она исчезает из размышлений критика, открывая дорогу "смелому эксперименту" О. Михайлова.
Д. Жуков восхищается тем, как "стремительно вводит Михайлов читателя в обстоятельства жизни своего героя с первых строк первой главы". Вот как он это делает:
"О, бедность, проклятая бедность!.. Когда ни семитки в кошельке и надеяться не на кого - боярина близкого, ни благодетеля какого нет. И вот сидит он, запершись в светелке, на хлебе и воде, по нескольку суток марает стихи, -- при слабом свете полушечной сальной свечки или при сиянии солнечном сквозь щели затворенных ставен. Перекладывает с немецкого вирши Фридриха Великого и сочиняет шутки всякие, хотя на душе кошки скребут...
Ах, маменька, маменька, ненаглядная Фекла Андреевна! Ежели бы ведала ты, что понаделал-понатворил сынок твой, сержант лейб-гвардии Преображенского полка Гаврило, сын Романов Державин! И наследственное именьице, и купленную у господ Таптыковых небольшую деревушку душ в тридцать - все как есть заложил, а деньги до трынки просадил в фараон! Да еще неизвестно, не разжалуют ли его в Санкт-Петербурхе в армейские солдаты за то, что он в сей распутной жизни, будучи послан с командой в Москву, полгода уже просрочил..."
Итак, величайшей заслугой О. Михайлова перед отечественной словесностью объявляется изобретение широко практикуемого приема, когда автор начинает повествование не с даты рождения своего героя, а прямо с остродраматического эпизода. Д. Жуков забывает об опыте сотен авторов, его опять выручает избирательное зрение-слепота. Тех же, кто не одарен такой избирательностью, процитированный отрывок может ввергнуть только в недоумение. За что О. Михайлов так ополчился на "фараон"? Сперва лишил его законного окончания в винительном падеже, а затем и вовсе превратил в "козел" отпущения, пригрозив разжаловать в солдаты за заведомо чужие грехи. И все это не в темном закоулке, а при "сиянии солнечном", что, впрочем, переводит повествование в условно-сказочный мир, ибо в обыденной жизни "сквозь щели закрытых ставен" свет не сияет, а едва пробивается.
Я вовсе не выискивал стилистических "перлов" в объемистой книге О. Михайлова - подобное занятие не считаю ни интересным, ни полезным. Я указываю только на то, что режет глаз и ухо в тех строчках, какие сам Д. Жуков привел в качестве образца новаторства и блестящего литературного слога (слов "стиль", как иноземное, Д. Жуков не одобряет, хотя и пользуется им).
Но, может быть, все это род тонкой издевки? Уж не смеется ли Д. Жуков над О. Михайловым? О, нет, в его обширной статье нет и тени иронии. Д. Жуков все пишет всерьез. Он даже обуздывает свое восхищение "смелым экспериментатором": высказаться во весь голос ему "мешает довольно близкое знакомство с самим автором". Выручает Ю. Лощиц. С ним Д. Жуков, надо полагать, не связан близкими отношениями и потому может не сдерживать своих восторгов.
Когда Ю. Лощиц писал книгу о Григории Сковороде, сообщает Д. Жуков, он был "примерно в таком же положении, что и Булгаков" при работе над биографией Мольера. И справился Ю. Лощиц с задачей не хуже Булгакова. Явления, стало быть, одного порядка. Ну, а когда Ю. Лощиц написал "Гончарова"*...
______________ * Лощиц, Ю.М. Гончаров, ЖЗЛ., "Молодая гвардия", 1977.
"В отношении девятнадцатого века автор в "Гончарове" играет ту же роль, какую играл Вяземский в "Фонвизине", говоря о восемнадцатом".
Это говорится в статье, где больше всего места уделено именно книге Вяземского о Фонвизине. Д. Жуков подробно рассказывает о том, как работал Вяземский над книгой, какое пристальное внимание оказывал этой работе Пушкин и как высоко оценивал ее. Ну, а Лощиц - Вяземский нашего времени! Тут уж не Булгаков ему чета, тут выше надо брать! Правда, не дотягивает до одобрения самого Пушкина, но Д. Жуков с лихвой восполняет этот пробел -- с той только разницей, что Пушкин находил все же кое-какие недостатки у Вяземского, Жуков же у Лощица видит одни достоинства:
"Он весьма ядовито расскажет о масонстве или фрейдизме, и это будет к месту, и это нисколько не нарушит ткань повествования, потому что органично и обращено к нам, лишенным разрушительных иллюзий и тлетворных завиральных идей, способным отличить здоровые корни от гнилых".
Увы, именно отличать здоровое от гнилого Д. Жуков не умеет, как лишен этой способности и Ю. Лощиц. Оба они находятся в плену разрушительных иллюзий и если не завиральных, то несомненно тлетворных идей.
При всей неумеренности похвал в адрес Ю. Лощица Д. Жуков умолчал о самом главном его "открытии": Гончарову в книге приписано изобретение особого творческого метода - мифологического реализма. Сам Гончаров в этом, конечно, никак не повинен: все мы знаем его как одного из величайших русских писателей-реалистов, чуждавшихся всякой мифологии. Зато биограф владеет "мифологическим" методом превосходно. Говоря об одном, он, как правило, имеет в виду другое. Почти на каждой странице его книги мы встречаем умолчания, намеки, недоговоренности, точно автор нам с таинственным видом подмигивает. Вот, например, две страницы грозного негодования на фрейдизм, которые особенно восхищают Д. Жукова. Но не думайте, что Ю. Лощиц что-нибудь понимает во фрейдизме и действительно критикует его. Это всего лишь маска. Или, если хотите, фиговый листок, которым автор прикрывает срам обскурантистского наскока на научные методы познания. "Фрейдизм, как известно, любит разоблачать "высокое". Само понятие чуда глубоко враждебно этой вульгарно-материалистической доктрине", возмущается Ю. Лощиц (с. 162), не зная, что фрейдизм обычно упрекают в идеализме, а "понятие чуда" враждебно науке, всякому истинно научному стремлению что-либо понять и объяснить. Мифологический реалист только поднимает дубинку на Фрейда. Опускает он ее на Сеченова, который как раз во времена Гончарова пытался объяснить с научных позиций (то есть без "понятия чуда") механизмы творческой деятельности, о чем и говорится с неодобрением в другом месте книги Ю. Лощица.
Все мы знаем о декабристах как о людях высоких идеалов, благородных стремлений и беспримерного мужества. Они пошли на великий подвиг самопожертвования ради освобождения России от крепостничества и деспотического произвола. А вот Ю. Лощиц, столь негодующий против "принижения высокого", изображает декабристов как... агентов зарубежных масонских "центров".
Масонство, как известно, было популярно среди передовых людей России в конце XVIII - начале XIX века. Масоны проповедовали нравственное преображение общества на основах любви и гуманности. Многие декабристы прошли через увлечение масонством, но, убедившись в том, что это пустая говорильня, охладели к нему, после чего приступили к активным действиям, которые и привели их на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года. О том, как увлекся и как постепенно разочаровывался в масонстве будущий декабрист Пьер Безухов, гениально показано в "Войне и мире".
Но, может быть, Ю. Лощиц открыл неизвестные ранее материалы, потребовавшие пересмотра установившихся трактовок?
В его книге рассказано, как молодой Гончаров, вернувшись в родной Симбирск и встретившись со своим крестным, отставным моряком Трегубовым, узнает, что тот состоял членом масонской лижи и что главу их ложи Баратаева привлекли по делу декабристов. Из рассказа Трегубова выясняется, что масоны "наряжались в особые костюмы, на руки длинные белые перчатки надевали, говорили разные речи, все больше о благотворительности, о защите слабых и сирот, о религии разума и всеобщем братстве, зачитывали какие-то протоколы. Даже деньги собирали для нужд милосердия. Но на самих, признаться, денег еще больше уходило, потому что после бесед частенько устраивались вечеринки, тоже тайные, с шампанским. Пили чуть не ведрами, так что многих развозили по домам" (с. 19-20).
Если подходить к этому отрывку с позиций обычного гончаровского реализма, то остается посочувствовать невинно пострадавшему Баратаеву, а заодно и натерпевшемуся страха Трегубову. А вот мифологический реализм приводит к совсем иным выводам:
"Судя по всему, -- глубокомысленно пишет Ю. Лощиц, -- Баратаева не зря продержали в Петербурге около полугода, и он был в масонском мире не такой мелкой пешкой, как отставной моряк. Скорее всего, Баратаев имел прямые связи с зарубежными ложами, но нижних чинов своего воинства в международные цели не посвящал" (с. 20; курсив мой, -- С.Р.)
Откуда же взялась столь кощунственная версия декабристского движения? Может быть, Ю. Лощиц сам ее изобрел?
Нет, дорогой читатель. Опорочить декабристов как "врагов России", служивших "зарубежным центрам" и "международным целям", давным-давно пытались официальные идеологи царизма. Разумеется, эксплуатировалось и то обстоятельство, что многие декабристы были связаны с масонством, хотя на Сенатскую площадь они вышли не благодаря, а вопреки этому. Особенно усердствовали в "переосмыслении" чуть ли ни всей истории с точки зрения масонского, точнее, иудо-масонского "заговора" те, кто уже в XX веке пытался любой ценой спасти от надвигавшейся революции царское самодержавие. Достаточно с полчаса в библиотеке им. В. И. Ленина полистать любой журнал или газету, издававшиеся до революции правыми организациями, чтобы увидеть истоки лощицевской мифологии. Для примера приведу выдержки из "Речи по еврейскому вопросу", произнесенной 12 и 13 февраля 1911 года на VIII съезде дворянских обществ А.С. Шмаковым - весьма плодовитым теоретиком "Союза Русского народа".
"Иудейская политика состоит в шахматной игре кагала с правительствами и народами. Главным же орудием евреев на этой почве и организациею их соглядатаев является масонство".
"Масонство есть тайное сообщество, которое скрывает не свое бытие, а цель. Основная его задача - разрушение тронов и алтарей".
"Представляя же своему "пушечному мясу" мистические аллегории и волшебство ритуала, блеск церемоний и напыщенность титулов, хранение пустопорожних тайн и бутафорскую иллюзию величия, -- вообще, всякую мишуру, действительные повелители масонов и их ближайшие сподвижники остаются неведомыми, и потому недосягаемыми". (А. Шмаков. Речь по еврейскому вопросу, 1911, с. 31-32, курсив везде автора - С.Р.).
Вот те "новые" материалы, на которых Лощиц, скорее всего и судя по всему, основал свою концепцию опасного для тронов и алтарей декабристского заговора. Д. Жуков, как помним, находит ее весьма современной и "органичной". В последнем он совершенно прав: той же идеей проникнута вся книга Ю. Лощица. Все передовое, прогрессивное, революционное в России XIX века предается им поруганию, а все реакционное и лакейское - превозносится. Идеалом Ю. Лощица является "добрый барин" Илья Ильич Обломов. Мифологический реализм позволяет превратить ленивого лежебоку, у которого даже книга годами лежала открытой на одной и той же странице, в мудрого философа, и с большим сочувствием изложить "философию" обломовского паразитизма. С тем, что именно таково идейное содержание книги Лощица, согласен и Д. Жуков.
"Не монологически ли выглядит такая интерпретация знаменитого спора Обломова со Штольцем, когда последний иронически предлагает подать проект, "чтобы остановились в страхе перед издержками технического прогресса", -спрашивает Д. Жуков и приводит цитату из Лощица:
"Почему бы и не подать такой проект! Тогда, глядишь, и угомонятся народы, и отдохнут по-настоящему: если упразднить пароходы с паровозами, то выйдут рабы на волю из шахт и штолен, перестанут ранить землю в поисках угля и руды, бросят свои лачуги и грязных городах; замрет буйная торговля, отощают кошельки у ротшильдов, закроются водочные монополии, угаснут страсти к приобретению новых земель, повыведутся наполеоны, поубавится туристов охотников глазеть на заморские дива, а с ними и болезней поубавиться; оживут нивы, восстанут леса, выхлестанные на шпалы и на топку паровых котлов... Словом, по Обломову, нужно не строить, а потихонечку размонтировать уже построенное, притормаживать механический разгон, осаживать железного зверя..."
Это цитирует сам Д. Жуков, так что комментарии излишни. Замечу только, что Ю. Лощиц "останавливается в страхе" не перед издержками технического прогресса - он против самого его существа. Какие издержки, когда со всеми бедами человечества предлагается бороться "упразднением" пароходов и паровозов, а, в частности, против болезней - не развитием медицины и гигиены, а уменьшением числа "шастающих" по свету туристов.
(В связи с этим достойно упоминания, что в книге Ю. Лощица "Земля-именинница" с восторгом и умилением пишется о стародавних российских паломниках, чьи "хождения" восхищают Ю. Лощица, потому что они "никоим образом не напоминали прогулку за небывальщиной, развлекательное турне в экзотические края".* Что и говорить, паломничество в святые места - дело серьезное, не то что современный туризм. Только как быть с болезнями? Ведь именно паломники в прошлом очень часто разносили по свету чуму, холеру, оспу и другие болезни, опустошительные эпидемии которых благодаря "издержкам" столь ненавистного Ю. Лощицу и Д. Жукову прогресса в наши дни стали всего лишь страшным преданием. Но в связи с хождениями паломников Ю. Лощиц о болезнях не вспоминает!)
______________ * Ю. Лощиц. Земля-именинница. М., "Современник", 1979, стр. 25.
Но, может быть, я путаю точку зрения Лощица с позицией Обломова? Нет. Это Штольц иронически предлагал проект, чтобы показать всю абсурдность слабых попыток Ильи Ильича как-то обосновать свою непробиваемую лень. Вместе со Штольцем смеялся над ним и Гончаров. Зато Ю. Лощиц с Обломовым полностью солидарен. А точнее, Ю. Лощиц и изобретает философию Обломова, ибо у Ильи Ильича никакой философии, разумеется, не было.* Ю. Лощиц, правда, понимает, что его "утопия вообще лишена будущего", но это-то и возмущает его больше всего. С негодованием, смешанным с недоумением, он восклицает: "Зачем она [история] вообще движется!"
______________ * Нелишне отметить, что лощицевская трактовка образа Обломова легла позднее в основу фильма Н. Михалкова "Обломов".
Нет, выше, выше надо поднимать автора столь изумительной "биографии". Куда до него Вяземскому, у которого "было достаточно иронии, чтобы не обижаться на историю" (См.: В. Каверин. Барон Брамбеус, М., "Наука", 1966, с. 67). Ю. Лощиц на историю сильно обижен, в этой обиде источник его "вдохновения".
Д. Жуков совершенно прав, подчеркивая "монологический", то есть исходящий от автора, характер процитированного отрывка. Мифологически препарируя одно из величайших произведений русской классики, Ю. Лощиц превращает Штольца в "библейского князя тьмы - родоначальника греха (с. 180). "Со времен совращения Евы, -- поясняет автор свою "современную" мысль, -- нечистый всегда успешней всего действовал через женщину"; "тем же самым "сценарием" пользуется в "Обломове" и Штольц. Он ведь тоже - не постесняемся этого слова - буквально подсовывает Обломову Ольгу" (с. 180, курсив мой - С.Р.).
Это утверждает биограф Гончарова, который знает, что не только читатели вот уже более ста лет, но и сам автор знаменитого романа, хотя и считал образ Штольца не вполне удавшимся, все-таки видел в нем положительного героя, противопоставленного Обломову. Гончаров даже опасался гнева славянофилов за то, что его положительный герой - немец. (См. письмо А. И. Гончарова И.И. Льховскому в кн.: Л. С. Утевский. Жизнь Гончарова, М. 1931, с. 121.)
Это высказывание, столь важное для понимания отношения Гончарова к героям своего романа, Лощицем не приводится и смысл его игнорируется; "положительный немец" Штольц превращается в князя тьмы. Что же касается собственно мифологии, то кому неведомо, что женщину подсунул Адаму вовсе не "князь тьмы", а, напротив, князь света, сам Господь Бог! Так ведь на то и мифологический реализм, чтобы расправляться, как заблагорассудится, с историческими фактами, литературными героями и самими древними мифами.
Затеянную Гончаровым некрасивую тяжбу по поводу якобы украденных у него Тургеневым сюжетов мифологический реализм позволяет объяснить... "горьким вкладом возрожденческого гуманизма" (с. 224), а русского попа конца николаевской эпохи, который, по свидетельству Белинского, "для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонства, бесстыдства", "опора кнута и деспотизма" -- этого самого попа мифологический реалист называет "извечным милитвенником и утешителем вседержавной паствы" (с. 235).
Книга Лощица "шикарно" разукрашена колокольным звоном, описанием православных праздников и обрядов. Д. Жуков, видимо, считает его большим знатоком этих "реалий". Между тем, Ю. Лорщиц не знает, что молитвенником в русском языке именуется книга, сборник молитвенных текстов. Тот же, кто читает молитвы, -- молельщик, молебщик, в крайнем случае, молебник, но никак не молитвенник. (См. "Словарь Живого Великорусского языка" В.И. Даля).
Извратив в одном месте движение декабристов, Ю. Лощиц в других местах извращает суть освободительного движения 1860-х годов. Он по существу повторяет клеветническое полицейское обвинение против студенчества в том, что оно жгло Петербург в 1862 году. Впрочем, всякая оппозиция царскому произволу, по мнению Лощица, "попахивает гарью" (с. 235 и др.). Зато он одобряет вызвавшее негодование всей передовой России поступление Гончарова на службу в Цензурный комитет, а Герцену, гневно осудившему этот поступок, делает начальственный выговор. Заодно Ю. Лощиц, отличающийся "доскональным знанием событий прошедшей эпохи" -- не то что какой-то Тынянов! - хоронит Герцена в Лондоне, тогда как тот умер и был похоронен в Париже, а позднее прах его был перенесен в Ниццу.
Закрытие Гончаровым-цензором журнала "Русское слово" не вызывает порицания со стороны Ю. Лощица. Больше того, на том основании, что Салтыков-Щедрин полемизировал с "Русским словом", мифологический реалист записал великого сатирика, люто ненавидевшего цензуру, в соучастники Гончарова по этому славному деянию (с. 262). О других действиях Гончарова-цензора подобного же характера Ю. Лощиц просто не упоминает.
Зато в Обломовке (разоренной и обнищавшей благодаря мошенничеству старосты и полной беспомощности барина), по уверению "знатока реалий", крестьяне без всякой там передовой агротехники и "агрономических брошюр" (с. 179) собирали богатейшие урожаи. Это неподалеку от семи смежных деревень: Заплатова, Дырявина, Разуева, Знобишина, Горелова, Неелова, Неурожайки тож!.. В них, если верить мифологическому реалисту, крестьяне, видимо, тщательно штудировали агрономические брошюры.
Все, как видим, в высшей мере мифологично, хотя и вполне логично. Социальные, политические и идеологические перемены, происходившие в России 1860-70 годов прошлого века и явившиеся прямым следствием отмены крепостного права, для Ю. Лощица сплошная "бесовщина", направляемая "коварством" зарубежных "центров". Ему импонирует то, что было до этих перемен, то есть полицейский режим Николая Первого. Вот когда и масоны были посрамлены, и история России, замороженная на целое тридцатилетие, почти не двигалась! Таково весьма нехитрое "знание исторического процесса", которым, по мнению Д. Жукова, до зубов "вооружен" Ю. Лощиц.
Особенно забавен тот мифологический прием, с помощью которого Ю. Лощиц обрушивается на крупных денежным тузов Исаака Утина и Горация Гинцбурга за то, что они "на медные гроши крестьянской да фабричной России" организовали "литературно-художественный салон", в котором бывали многие видные деятели русской культуры, в том числе Гончаров (с. 268-269). Может быть, Ю. Лощиц выступает против буржуазной филантропии, против меценатства богачей, щедрых благодаря эксплуатации бедняков? Но если бы так, то ничего "мифологического" в его реализме не было бы. Все проясняется, когда Ю. Лощиц грудью встает на защиту "таких вот, как этот Третьяков, обзываемый на каждом шагу в прессе лабазниками, самоварниками да кабацкими гуляками" (чисто мифологические "реалии"; никто в прессе, а тем более на каждом шагу, Третьякова такими словами не обзывал), которые "копят, копят, тянут с мира по пятаку, а потом - когда надоест им тянуть и копить, возьмут да тряхнут всенародно тугим мешочком: то целую дивизию ополченцев обмундируют, то храм в каком-нибудь торговом селе поставят с колокольней, на два метра выше Ивана Великого. А то... затеют с царским Эрмитажем тягаться" (с. 293-294).
Негодование на богачей оказывается снова фиговым листочком. Все дело в фамилиях. Меценатство "тянущих с мира" Третьяковых очень даже нравится Ю. Лощицу, а меценатство Гинцбургов вызывает у него ярость. Ведь Гинцбурги они такие! Скорее всего и судя по всему, они меценатствуют не иначе, как по заданию неведомых и невидимых, но заведомо злокозненных "центров"! Таковы высокие, прямо таки чудесные особенности мифологического реализма, и принижать их Ю. Лощиц не позволяет ни еврею Фрейду, ни (вероятно масону) Сеченову!
Итак, тот же избирательный метод. Для Ю. Лощица он так же органичен, как и для Д. Жукова. Если некоторые мифологические места в его книге о Гончарове не всегда удается однозначно истолковать, то прекрасным подспорьем может служить статья Ю. Лощица "О сивиллах, философах и древнерусских книжниках" ("Прометей", № 11, 1997). Из нее, например можно уяснить, чем так сильно провинился перед Лощицем "возрожденческий гуманизм", которому автор отвешивает изрядную порцию горячих. Еще более любопытно то, что автор сообщает о литературе псевдосивилл, которая, оказывается, тяготеет к двум традициям: иудейской и христианской. Ю. Лощиц сообщает, что между этими традициями есть кое-что общее, "но есть и различия, причем достаточно характерные. Касаясь фрагментов иудейского происхождения, исследователь (кто именно? - С.Р.) замечает: "Кажется сивиллисты не оставили без угроз ни одного сколько-нибудь известного им народа. Здесь то и дело слышны проклятия Риму, Египту, ассирийцам, грекам, а ожидание Мессии "выражено в грубо-чувственной форме", как будто речь идет о политическом вожде, который утвердит земное всемогущество избранного народа". ("Прометей", № 11, с. 145-146, курсив мой-С.Р.).*
______________ * Напомню, что альманах "Прометей" издавался той же редакцией серии ЖЗЛ.
В книгу "Земля-именинница" Ю. Лощиц также включил эту статью - только под другим названием и в переработанном виде. Однако процитированные мною строки перенесены в книгу в полной неприкосновенности (с. 52). В обоих случаях Ю. Лощиц не называет исследователя, у которого почерпнул антисемитскую трактовку мессианских чаяний иудейской религии, и это, конечно, не случайно. Очевидно, цитируется "исследователь", чье имя лучше не называть. Нам, однако, не трудно указать, к каким истокам ведет дорожка. У того же черносотенного "теоретика" А.С. Шмакова можно найти и "прорицания иудейской Сивиллы" (См. "Мирный труд", Харьков, 1907, № 10, с. 151), и неотличимую от лощицевской интерпретацию мессианской идеи: "Еврейство ожидало и ожидает встретить в своем мессии именно могущественного завоевателя и неумолимого врага всего нееврейского" ("Мирный труд", 1907, № 6-7, с. 110).
Гинцбургам и Исаакам Утиным показной своей благотворительностью ни Ю. Лощица, ни Д. Жукова надуть не удастся, как в свое время им не давалось надуть А. Шмакова!
В статье Д. Жукова рассказывается о его давнем "сумбурном споре" с М.М. Бахтиным* "о полной этнической несовместимости Нового и Ветхого Заветов, о роли масонства в истории". Соседство столь, казалось бы, разных вопросов в споре в свете сказанного выше нисколько не удивляет. Не надо быть ясновидцем, чтобы догадаться, что М.М. Бахтин, как человек образованный, пытался втолковать Д. Жукову, что ни о какой "этической несовместимости" двух частей христианской Библии говорить нельзя, ибо моральное учение Нового Завета целиком основано на Ветхом Завете. Обратное могут утверждать или невежды, или люди злонамеренные. Если при этом речь зашла и о мессианской идее, как она изложена в Ветхом Завете, то М.М. Бахтин должен был объяснить Д. Жукову, что эта идея четко и ясно выражена в книге пророка Исайи, который учил, что Мессия явится тогда, когда люди перестанут грешить, откажутся от идолопоклонства, зла, всякой неправды, "перекуют мечи на орала, и копья свои на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать" (Исайя, II, 4). Еще М.М. Бахтин мог объяснить, что Иисус Христос, каким он представлен в Новом Завете, вылеплен евангелистами по образу и подобию того Мессии, приход которого в Ветхом Завете пророчил тот же Исайя.
______________ * М.М. Бахтин - крупнейший литературовед, был объектом особенно пристального внимания "патриотов", стремившихся втянуть его в свою орбиту.
Увы! "Исторический" спор Д. Жукова с Бахтиным "был прерван приходом окололитературных молодцов, которые бесцеремонно предъявили свои права на внимание маститого старца". Правда, позднее, как сообщает Д. Жуков, он еще не раз бывал у Бахтина (в своих правах на его внимание критик, не сомневался). Однако имеющий уши да слышит, тогда как Д. Жуков обладает не только избирательной слепотой, но и избирательной глухотой. В то время он отличался "категоричностью суждений и неумением слушать собеседника", так что от общения со "старцем" он приобрел немного. Вот и получилось, что и ныне Д. Жуков остался при прежних "ядовитых взглядах" на "полную этическую несовместимость" Ветхого и Нового Заветов, так же как и на "роль масонства в истории". Разница лишь в том, что тогда Д. Жуков решался высказывать свои категорические суждения лишь наедине и даже при появлении нескольких окололитературных молодцов стушевывался, теперь же он проповедует эти взгляды со страниц массового журнала, всячески превознося своего единомышленника Ю. Лощица.
Да, книга Ю. Лощица о Гончарове - не рядовое явление. Насчет материков мысли Д. Жуков перехватил, но две-три мыслишки, позаимствованные у черносотенных "спасателей" тронов и алтарей, Ю. Лощиц проводит с редкой настойчивостью и изощренностью, безжалостно искажая и извращая в угоду предвзятой концепции биографию А.И. Гончарова и его творчество. Это своего рода образец произведения антибиографического жанра.
Во всем этом О. Михайлов сильно уступает Ю. Лощицу. Однако тот, кто прочтет его книгу о Державине, встретится с тем же кругом идей, только выраженных в беллетристической форме, а потому не столь четко и однозначно.
Д. Жукова связывает с авторами восхваляемых им книг не личная дружба, на что он намекает с "наивной" псевдооткровенностью, а именно идейное единство. Вот тот магический кристалл, сквозь который он рассматривает литературный процесс, становясь то по орлиному зорким, то совершенно слепым. В качестве примера удачных Д. Жуков перечисляет некоторые книги серии ЖЗЛ: А.Н. Сахарова о Степане Разине, Д.М. Урнова о Дефо, Н.Н. Яковлева о Вашингтоне, А. В. Булыги (!) о Канте*, Н.И. Павленко о Петре I, М. П. Лобанова о А.Н. Островском. А вот В. Жданов, по его утверждению, в "Некрасове" "совершенно обесцветил и бурные события прошлого столетия, и ярчайшую личность гениального поэта, энергичного предпринимателя, человека необычайного ума". Что же касается "достойных художественных биографий Пушкина и Достоевского, Льва Толстого и Тютчева", то их, оказывается, "у нас еще нет". Словно не существует капитальных произведений В. Шкловского о Толстом, Л. Гроссмана о Пушкине и Достоевском, а так же выходивших вне серии ЖЗЛ превосходных книг Б. Бурсова о Достоевском, К. Пигарева о Тютчеве. Или все они настолько малохудожественны, что их можно считать несуществующими?
______________ * Арсений Владимирович Гулыга (а не Булыга), видный философ и талантливый писатель, специалист по немецкой классической философии, имел репутацию леволиберального мыслителя. В серии ЖЗЛ он издал превосходную биографию Гегеля (1970), которую я имел удовольствие редактировать. В ходе работы мы стали друзьями (так я считал) и, живя по соседству, не раз по воскресеньям отправлялись вместе кататься на лыжах. После выхода "Гегеля" Гулыга предложил серии ЖЗЛ книгу о Канте, но Семанов, намеренно затягивал заключение договора, о чем я - после ухода из редакции - счел нужным по-дружески сказать Гулыге, пояснив, что причина тому - его репутация "еврействующего" либерала. Гулыга сделал надлежащий вывод и в книгу о Канте (ЖЗЛ, 1977) включил несколько антисемитских пассажей, что, очевидно, и вызвало одобрение Д. Жукова. К тому времени Гулыга полностью переключился на философское обслуживание "патриотической" литературы, в частности, творчества В. Пикуля, -- печальная эволюция, характерная, однако, для многих тогдашних да и более поздних интеллектуалов. "Процесс пошел" с конца 1960-х годов и продолжается по сегодня.
Дело не в художественности, а в принципиальной беспринципности критика. Сквозь магический кристалл он видит только те произведения, в которых в той или иной мере проводится столь милый его сердцу "современный" взгляд на "роль масонства в истории" и т.п. или, по крайней мере, не говорится ничего, идущего в разрез с этим взглядом. Книги же, написанные с "устаревших" позиций, в которых Некрасов, например, показан не столько как "энергичный предприниматель", сколько как оппозиционер, демократ, редактор самых передовых для своего времени журналов,*-- такие книги для Д. Жукова либо "бесцветны", либо вовсе не существуют.
______________ * Не могу не сообщить характерную подробность об издании книги В.В. Жданова, которая живо характеризует непростую обстановку того времени. Договор на книгу о Некрасове был заключен еще при Короткове, но автор затянул работу и представил рукопись с большим опозданием, уже при Семанове, который намеренно тормозил ее издание. Жданов имел влиятельных друзей, и вдруг в Союзе Писателей, на заседании Комиссии по подготовке юбилея Некрасова, глава Комиссии А.А. Сурков сказал как бы между прочим, что к юбилею следовало бы издать биографию Некрасова, что Жданов ее написал, но издательство "Молодая гвардия" не любит революционных демократов, и готовая рукопись лежит без движения. В тот же день директор "Молодой гвардии" В.Н. Ганичев, член той же Комиссии, велел книгу немедленно выпустить. До юбилейного вечера оставалось несколько дней, и тогда я оказался свидетелем и участником настоящего чуда. Вся остальная работа была остановлена. Четыре дня мы всей редакцией по частям правили рукопись, вычитывали первую и вторую корректуры; книга в пожарном порядке была проштампована цензурой, и на юбилейном вечере Ганичев торжественно вручил Суркову сигнальный экземпляр.
Узкое доктринерство и секстантско-корпоративный дух - вот что отличает "размышления" Д. Жукова. И не только о биографическом жанре.
Сравнительно недавно Д. Жуков опубликовал рецензию на научный труд Н. Р. Гусевой "Индуизм" ("Новый мир", № 4, 1979). Критик, как видим, и швец, и жнец, и в дуду игрец. Правда, об индуизме из его рецензии читатели узнали немного, зато Д. Жуков обрушил на них целый каскад "современных" сведений из древней истории славян. Обнаружить их позволил все тот же магический кристалл, который помогает видеть то, что хочется, независимо оттого, есть оно на самом деле или нет. Д. Жуков разглядел великолепные каменные храмы, якобы воздвигнутые древними славянами, и смело вступил в спор с Н.Р. Гусевой, которая, проанализировав научные данные, осмелилась высказать предположение, что древние славяне каменных храмов не строили. То же по части человеческих жертвоприношений древнеславянским богам. Д. Жукову такие жертвы определенно не нравятся. И потому не было такого нехорошего обычая у древних славян, и баста! Свидетельства миссионеров, проповедовавших христианство в славянских землях в языческие времена, Д. Жуков объявляет "непроверенными". И так далее.
Славянские народы - одни из древнейших из ныне обитающих на Земле. Они появились на исторической сцене в первые века нашей эры. Об этом можно узнать из любой солидной монографии, справочника, энциклопедии. За две тысячи лет активной исторической жизни славянские народы создали самобытные и непреходящие духовные ценности, обогатив ими мировую культуру. Славянским народам есть чем гордиться в своем прошлом, как и в настоящем.
А вот Д. Жукову этого мало! Он смело запускает длань "наших предков" в чужие карманы. "Магический кристалл" позволяет Жукову заглянуть туда, куда бессильна заглянуть наука со всем арсеналом ее могучих методов. Д. Жуков углубляет историю славян еще на два-три тысячелетия; и там, в бездонной глубине времени, наводит свой собственный порядок, который, правда, мало отличим от "нового порядка", что устанавливали там же идеологи Третьего Рейха.
Фашистские ученые, преследуя отнюдь не научные цели, пытались "доказать", что только арийская (индогерманская) раса одарена способностью к творческой деятельности, а все остальные, "неполноценные", расы могут лишь подражать и перенимать. Арийцам с этой целью приписывалось создание чуть ли ни всех крупных духовных ценностей человечества.
"Оригинальность" Д. Жукова состоит в том, что он объявляет арийцев (арьев) славянским племенем и переприписывает действительные и мнимые достижения арийцев славянам, которые не откуда-нибудь, а из Северного Причерноморья (науке неизвестно, откуда арийцы пришли в Индию, но Д. Жуков знает все!) принесли в Индию "мощную культуру", а оттуда забросили ее и на Ближний Восток. Именно в Северном Причерноморье арийские предки Жукова создали основу великого индийского эпоса Махабхараты и древнееврейской Библии. Так хочется Д. Жукову.
Насчет Махабхараты все понятно. Очень уж дразнит, соблазняет Д. Жукова россыпь алмазов национального индийского гения! И с арьями, к коим Д. Жуков так упорно набивается в родственники, сближает... Но Библия - она-то Д. Жукову для какой надобности? Сам же донимал М.М. Бахтина "категорическим суждением", что памятник этот ущербный, "этически несовместимый", сам же вместе с Ю. Лощицем убежден, что ветхозаветная мудрость сводится к проклятиям всех народов и ожиданию "политического вождя" для утверждения земного всемогущества коварных Гинцбургов и Исааков Утиных. Ан не побрезговал Д. Жуков, позарился таки с высоты своего арийского величия на "гнилое" достояние маленького семитского племени! Объяснить столь изумительный случай духовной клептомании я не берусь.
Предметы "размышлений" Д. Жукова в разных журналах разные, да вот метод один. И там, и здесь избирательная слепота к тому, что не хочется видеть, и избирательная зоркость на то, что видеть хочется, -- неважно, реалии ли это или миражи. Однако, справедливости ради, мы должны сказать словами Ю. Лощица: между журналами "есть различия, причем достаточно характерные". "Новый мир" представил Д. Жукову всего лишь пять журнальных страниц, а вот "Наш современник" отвалил 21 (двадцать одну) страницу и еще обещал продолжение. Кажется, это становится традицией журнала - печатать с продолжением самые убогие в литературном и идейном отношении произведения. Ведь совсем недавно мы читали в "Нашем современнике" растянутый на четыре (четыре) номера псевдоисторический роман-хронику В. Пикуля, изумляясь тому, как из номера в номер усиливается бесшабашная разнузданность автора, подменившего историческую правду о сложнейшей эпохе похабщиной и антисемитизмом. Не успели опомниться, и уже откровения Д. Жукова идут с продолжением.
А, может быть, пора остановить эту музыку?
Семен Резник
29 сентября 1979 г.
3.
Статья отклонена двумя журналами: "Вопросы литературы" и "Литературное обозрение". В другой версии статья была направлена в журнал "Октябрь" (в то время наиболее либеральный) и тоже отклонена. Зато статья Д. Жукова "Биография биографии" после публикации в "Нашем современники" была издана отдельной книжкой в библиотечке "Огонька".
4.
Читатели старшего поколения знают, какое огромное значение в советской жизни эпохи "застоя" играла "Литературная газета". Она ставила острейшие общественные и государственные вопросы: писала о развале в сельском хозяйстве; о неэффективной работе промышленности; поднимала тревогу по поводу безответственных и авантюрных проектов вроде поворота северных рек; разоблачала высокопоставленных бюрократов, зажимавших новаторство в науке и технике, медицине; о коррупции в судебной и правоохранительной системе; о деградации морали; о многом другом. Ни в каком ином органе печати ничего подобного не появлялось, по крайней мере, в такой острой и бескомпромиссной форме. Почти каждый номер газеты был событием. Имена ведущих публицистов ЛГ - Александра Левикова, Евгения Богата, Аркадия Ваксберга, Анатолия Рубинова, Александра Борина, Капиталины Кожевниковой знала вся страна. Однако те, кто ближе приглядывался к ЛГ, не могли не видеть, что этот "советский гайд-парк" (как ее часто и вполне заслуженно на-зывали) был локализован во второй половине еженедельника. В первой половине, посвященной собственно литературе, царили казенщина и словоблудие, тщательно сглаживались все углы.
Главным редактором газеты был, как многие помнят, Александр Борисович Чаковский - малоталантливый писатель, наделенный самыми высокими чинами и известный как автор скучнейшего, но зато безупречно "правильного" романа "Блокада", переиздававшегося огромными тиражами бесконечное число раз.
Чаковский был фантастически ловким литературно-партий-ным функционером и обладал какой-то сверхъестественной непотопляемостью. Публикуя острейшие материалы во второй половине газеты, он наживал очень могущественных врагов - ведь газета разносила министров, высокопоставленных чиновников, руководителей прокуратуры, директоров крупнейших заводов, академических институтов, а у каждого из таких людей были покровители в еще более высоких сферах, так что атаки на ЛГ накатывали волна за волной. Но Чаковский имел "руку" еще выше, да не одну, и неустанно заботился о том, чтобы расширять сеть своих покровителей в партийных верхах. Ходили слухи, что именно он возглавлял таинственную бригаду литераторов, сочинявших "Малую землю" и другие "мемуары" Брежнева. Но для обеспечения прочности своего положения он, видимо, считал всего этого недостаточным. Ему еще надо было иметь надежный тыл в руководстве Союза Писателей, чьим органом была ЛГ. Именно этим я объясняю то обстоятельство, что, проводя "гайдпарковскую" линию во второй половине газеты, он не допускал никакого своеволия в первой половине.
Разумеется, и в собственно литературной части "Литературной газеты" публиковались критические материалы, устраивались творческие дискуссии. Но все это было беззубо, сглажено, неинтересно, "для галочки", так, чтобы никак не задеть и не обидеть никого из коллег, пользовавшихся хоть каким-нибудь влиянием. Однажды я послал в ЛГ коротенькую (странички на полторы) реплику на какую-то глупость, опубликованную Станиславом Куняевым, а затем позвонил в редакцию. Сотрудница отдела литературы мне сказала, что мою заметку опубликовать невозможно, так как у них правило: не критиковать произведений секретарей Союза писателей. Секретарей к тому времени в СП развелось очень много. Кроме первого секретаря Георгия Маркова, оргсекретаря (партийного комиссара) Юрия Верченко были еще несколько секретарей СП СССР, затем шли секретари СП РСФСР, затем секретари Московского отделения - в сумме чуть ли не целая сотня. Одну из малозначительных должностей секретаря Московского отделения занимал Станислав Куняев, удостоившийся ее отнюдь не за выдающиеся успехи в поэзии, а за примерное партийно-патриотическое поведение.
В качестве отступления должен заметить, что к концу 1970-х годов исписавшийся поэт стал специализироваться на писании доносов. В произведениях более даровитых собратьев по перу он выискивал якобы "антисоветские", "сионистские", "русофобские" вылазки и строчил доносы в инстанции. Некоторую известность получило его письмо в ЦК КПСС по поводу альманаха "Метрополь". Невозможность опубликовать альманах на родине побудила составителей и авторов перекинуть его "за бугор", где он и был издан. Эта дерзать дорого обошлась участникам сборника: пошли проработки, исключения из Союза Писателей, расторжение издательских договоров... Однако Куняеву этого показалось мало. "Разоблачая" сионистскую сущность альманаха, он требовал от партийных держиморд еще более суровых кар. Теперь С. Куняев выдает эту свою деятельность чуть ли не за диссидентскую, за которую он якобы "пострадал". Об этом выспренно и лживо написано в его "мемуарах" под пышным названием: "Поэзия. Судьба. Россия". * "Пострадал" же он так сильно, что вскоре был назначен главным редактором журнала "Наш современник" (взамен Сергея Викулова, слишком топорно проводившего "патриотическую" линию), в каковой должности и пребывает до сих пор.
______________ * Москва, изд-во "Наш современник", 2001, т.1-2.
Так вот, в "Литературной газете", не боявшейся разносить в пух и прах министров, академиков, функционеров самых высоких рангов, Станислав Куняев был неприкасаем. Такую линию проводил возглавлявший газету Двуликий Янус. По-видимому, собственное еврейское происхождение, отягощаемое заметным сгущением евреев в составе редакции, заставляло его быть особенно чувствительным к обвинениям в "сионизме".
Суть проводимой им линии мне была ясна не только теоретически, но и проверена на практике. Мои предыдущие попытки заинтересовать ЛГ и самого А.Б. Чаковского критическими материалами не сводились только к иронической реплике о Куняеве.
И вдруг в этом мутном царстве блеснул тусклый лучик света. В ЛГ (в первой половине!) появилась вполне казенная, но примечательная в данном контексте статья, которая давала зацепку. Она и побудила меня снова обратиться к А.Б. Чаковскому.
5.
Главному редактору "Литературной газеты" А.Б. Чаковскому.
Уважаемый Александр Борисович!
Я с удовлетворением прочитал в "Литературной газете" от 5 декабря сего года статью за подписью Литератор * "Критика: своеволие и своеобразие", а точнее, ту часть ее, в которой рассматривается статья Д. Жукова "Биография биографии" ("Наш современник", №№ 9, 11, 1979).
______________ * За подписью Литератор в ЛГ публиковались статьи "установочного" характера. Надо полагать, они до последней запятой согласовывались в высших партийных инстанциях, а, возможно, оттуда и поступали.
Мне, правда, не совсем ясно, почему критикуемый "мотив" этой статьи Литератор называет "побочным". Именно этот мотив и является главным в статье Д. Жукова, ибо он воплощает в себе те идейные позиции, на каких стоит автор. Литератор обращает внимание на содержащиеся в критикуемой статье "намеки на некие "силы", якобы поощряющие "использование... замечательных творений прошлого в своих разрушительных целях", намеки, которые призваны, естественно, создать у читателей впечатление, что именно Д. Жуков, и только он один, отважно выходит в бой за попранное классическое наследие". Литератор правильно указывает на бездоказательное третирование Д. Жуковым некоторых видных писателей, чьим творчеством наша литература по праву гордится. В первую очередь это относится к историческим романам Ю. Тынянова, давно ставшим классикой. Однако в этом третировании есть своя логика. Чтобы понять ее, надо об-ратить внимание и на то, что осталось вне поля зрения Литератора, а именно, на те произведения, которые Д. Жуков превозносит в противовес Тынянову. Восхваление книг Ю. Лощица ["Гончаров"] и О. Михайлова ["Суворов", "Державин"] - неотъемлемое звено той логической цепи, которой Д. Жуков пытается полностью изничтожить Ю. Тынянова и частично - С. Аверинцева. "Идея" Д. Жукова состоит в том, чтобы сбить устоявшиеся критерии оценок: лучшие произведения сбросить с пьедестала, на который их поставил самый строгий и беспристрастный судья - время, а на их место поставить скороспелые поделки, авторы которых отстаивают идейные позиции, чуждые не только советской, но и русской классической, и мировой литературе, но зато идентичные с позициями самого Д. Жукова. Надо не пожалеть времени и прочитать малоинтересные книги "Гончаров" Ю. Лощица и "Державин" О. Михайлова, чтобы увидеть, что они пропитаны дремучим национализмом (с акцентом в антисемитизм) и замешаны на патологическом страхе перед прогрессом, будь то социальный или научно-технический прогресс. Авторы обеих книг, особенно Ю. Лощиц, с "пониманием" относятся к беззаконию и произволу царизма, восхищаются обломовщиной, поносят железные дроги, в освободительном движении им мерещатся "масонские заговоры" и прочая "бесовщина", а Д. Жуков именует все это "знанием исторического процесса, избавленным от заблуждений прошлого века". Стоя на подобных позициях, нельзя не признать заблуждением исторический оптимизм Ю. Тынянова, отдававшего свои симпатии борцам за свободу, против крепостничества и произвола. Еще более откровенно крайне шовинистические взгляды Д. Жукова выражены в его статье "Из глубины тысячелетий" (рецензия на научный труд Н.Р. Гусевой "Индуизм", "Новый мир", № 4, 1979). В этой рецензии Д. Жуков выдает за последнее слово науки фашистскую теорию превосходства арийцев, якобы создавших основные культурные ценности человечества, над всеми другими народами и расами. Единственная поправка, которую Д. Жуков вносит в эту теорию, состоит в том, что он объявляет арийцев... славянским (!) племенем. Вряд ли надо объяснять, что эта поправка наполнена чудовищными искажениями научных данных и о славянах, и об арийцах, и о многом другом. По поводу указанной статьи Д. Жукова еще в мае этого года я послал в "Новый мир", на имя главного редактора С.С. Наровчатова, ироничное Открытое письмо, а, убедившись, что против своей же публикации журнал выступать не желает, переадресовал его в Вашу газету. Однако редакция переслала мое Открытое письмо в ... "Новый мир". После вторичного обращения в редакцию с настойчивой просьбой не отфутболивать мою рукопись, а рассмотреть ее с точки зрения содержания и формы, после долгого телефонного разговора с работником редакции В. Помазневой (она выражала неудовольствие формой моего Письма, уверяя, что в нем "нельзя ничего понять", на что я отвечал готовностью переделать Открытое письмо в статью, фельетон и т.п., но она возражала и против этого) я получил, наконец, ответ за подписью члена редколлегии Ф. Чапчахова.
"Вы профессиональный литератор, -- писал мне т. Чапчахов, -- поэтому, очевидно, понимаете, что у редакции не может быть никаких претензий к Вам со стороны именно "формы" Вашего материала. Дело как раз в ином - в содержании спора, который Вы ведете с "Новым миром".".
После этого, казалось бы, должен был следовать разбор содержания моего Открытого письма, но Ф. Чапчахов ограничился лишь уведомлением, что "выступать в роли третейского судьи в затеянной Вами полемике редакция "Литературной газеты" не будет".
Так я имел удовольствие узнать, что выступать против фашистской идеологии значит - "затеять полемику" и что отказ опубликовать мои возражения диктуется нежеланием быть третейским судьей. А я-то полагал, что такой отказ свидетельствует как раз о том, что т. Чапчахов именно взял на себя роль такого судьи, причем осудил меня и встал на сторону Д. Жукова.
Менее всего я хотел бы, чтобы это мое письмо рассматривалось как "жалоба" на кого бы то ни было. Я далек от того, чтобы сводить личные счеты, тем более с таким симпатичным человеком, как Ф. Чапчахов. Если я затронул историю нашего небольшого конфликта, то лишь затем, чтобы показать, что я давно уже бью тревогу по поводу некоторых идей, публикуемых Д. Жуковым, но до сих пор мой голос не был услышан, в частности, и "Литературной газетой". Ведь если бы мое Открытое письмо объемом шесть машинописных страниц было опубликовано, то "обширная", как выражается Литератор (я бы сказал - более чем обширная) статья Д. Жукова "Биография биографии" вряд ли могла бы увидеть свет в таком виде, в каком она написана.
Когда появилась в печати первая половина этой статьи, я написал реплику, в которой аргументировано показал, что Д. Жуков совершенно не считается с фактами литературного процесса и стоит на порочных идейных позициях. Свою статью я предлагал журналам "Вопросы литературы" и "Книжное обозрение", но оба печатать ее отказались, хотя на словах мне было выражено полное понимание и сочувствие.
В связи со сказанным хочу поделиться тревожащими меня мыслями о некоторых тенденциях в современной литературе, тенденциях тем более опасных, что уже сложилась традиция их как бы не замечать.
Суть в том, что небольшая, но очень активная группа мало талантливых и крайне невежественных литераторов почти открыто взяла на вооружение идеологию национализма, шовинизма и антисемитизма. Шумно восхваляя друг друга и создавая себе таким образом литературные имена, эта группа быстро завоевывает позиции в некоторых издательствах и журналах. Достаточно полистать вышедшую в этом году книгу того же Ю. Лощица "Земля-именинница" ("Современник", 1979), основным стержнем которой является воспевание и идеализация самой дремучей патриархальщины (уже на первой странице мы находим символическое описание того, как "хозяйки постоянно ссыпают золу из печей в одном и том же углу двора", куда "и прабабушки их выносили такую же золу"); или брошюру Ю. Селезнева "Созидающая память" (библиотека "Огонька", № 21, 1978), в которой автор с не меньшей яростью, нежели Д. Жуков, бросается спасать не только классическое наследие прошлого века, а всю русскую культуру от посягательств каких-то интриганов и злодеев, которые успели создать "традицию обрезания (!) нашей древней культуры"* (стр. 15); достаточно, говорю, полистать эти и некоторые другие произведения последних лет, чтобы убедиться, что мы имеем дело не с отдельными ошибками и заблуждениями (для литературы естественными и почти неизбежными, так как она является слишком живым, творческим делом), а с идейным течением, адепты которого, будучи малы числом, сильны своей взаимной поддержкой, а так же тем, что их с изумительным гостеприимством встречают в целом ряде редакций.
______________ * Ю. Селезнев явно имел в виду "Влесову книгу": сомнения в ее подлинности это "обрезание" русской культуры.
В связи с последним обстоятельством особого внимания заслуживают уже объемы их публикаций. Зная, как тесно во всех литературных журналах, как буквально по строчкам сокращаются в них даже небольшие заметки, а романы часто публикуются в сокращенных "журнальных" вариантах, нельзя не изумиться той щедрости, с какой "Наш современник", только что четыре номера подряд потчевавший читателей антиисторической и антихудожественной стряпней В. Пикуля, отвалил Д. Жукову по двадцати журнальных страниц в двух номерах! Это под статью, большая часть которой представляет собой беспардонное самовосхваление (такая автокртика поистине беспрецедентна в нашей литературе), а значительная часть остального текста - восхваление идейно порочных, научно несостоятельных и литературно посредственных произведений Ю. Лощица и О. Михайлова.
Почти такой же щедростью к авторам определенной ориентации отличается журнал "Москва".* В № 7 за этот год в нем опубликована псевдорецензия В. Бушина на исторический роман Б. Окуджавы "Путешествие дилетантов". Из рецензии ничего нельзя узнать о содержании романа, о его сюжете, композиции, характерах действующих лиц. Весь критический "анализ" сводится к произвольному надергиванию обрывков фраз, которые оглупляются и предаются осмеянию. Прокурорским тоном В. Бушин "уличает" автора в незнании русского языка, в пристрастии к альковным сценам (в романе их нет) и, конечно, в антипатриотизме. Тот, кто не читал произведения Окуджавы, но ознакомился с рецензией В. Бушина, неизбежно должен заключить, что действие романа наполовину разворачивается на Западе, причем все западное в романе превозносится, а все русское - охаивается. Так рецензируется произведение, в котором вообще ничего не говорится о Западе, если не считать восьми-десяти реплик действующих лиц, которые, задыхаясь "в стране рабов, стране господ" или просто страдая от чахотки, говорят, что хорошо бы уехать куда-нибудь в солнечную Италию.
______________ * Моей переписке с журналом "Москва" и беседе с ее главным редактором М.Н. Алексеевым, будет посвящен один из будущих сюжетов "Выбранных мест".
На этом десятке фраз В. Бушин и строит обвинительный акт против писателя, не брезгуя грязными намеками (да и не намеками только, а прямыми указаниями) на якобы существующую связь между национальной принадлежностью Б. Окуджавы и его мнимым антипатриотизмом: грузину-де наплевать на Россию.
Зато сам В. Бушин демонстрирует истовую любовь, но не к России, а к деспотическому режиму Николая Палкина. Уличая Окуджаву в мелких неточностях исторического характера (не в том году изобретен лефоше!), знаток истории В. Бушин утверждает, что Николаевская Россия была чуть ли не самой прогрессивной страной того времени. Таково "знание исторического процесса", которое соответствует представлениям В. Бушина и его единомышленников о том, что значит - "любить Россию"!
И вот под такую рецензию журнал "Москва" отвел 15 страниц петитом, что соответствует 2-2,5 авторским листам!
Подводя итог, хочу сказать, что появление статьи Литератора с критикой в адрес Д. Жукова - явление отрадное. В то же время эта критика представляется мне недостаточной, так как Литератор рассматривает некоторые "ошибки" одного автора в отрыве от того идейного направления, какое он представляет.
Обращаясь к Вам, уважаемый Александр Борисович, с этим письмом, я хотел бы сделать высказанные в нем мысли достоянием нашей литературной общественности. При этом я никого не прошу быть третейским судьей или брать меня под защиту. Если редакция не согласна с частью или даже со всеми моими положениями, то это письмо или написанная на его основе статья могла бы быть опубликована в порядке обсуждения или с редакционным комментарием, в котором редакция может отмежеваться от всего, что ей покажется спорным или неверным. На такой комментарий я заранее согласен, каким бы ни оказалось его содержание.
Собственно говоря, меня тревожит не то, что Д. Жуков и его единомышленники беспрепятственно печатаются в некоторых изданиях. Коль скоро такие взгляды имеются у некоторого круга литераторов, то лучше дать им возможность свободно излагать эти взгляды, нежели шептать по углам, что их "зажимают".* Однако надо дать высказаться и другой стороне.
______________ * Именно это, они и утверждали, выдавая себя чуть ли не за диссидентов, что, к сожалению, нашло отражение в трудах некоторых историков и политологов.
С уважением
Семен Резник
Член СП СССР
Декабрь 1979 г.
5.
В течение трех месяцев на это письмо не было никакой реакции, но затем мне неожиданно позвонил редактор отдела литературы ЛГ Ф. А. Чапчахов и пригласил в редакцию для беседы. В назначенный день и час я пришел в отдел литературы и не успел назвать себя, как Ф.А. Чапчахов - человек не молодой и солидный, торопливо вынырнул из своего кабинетика и направился ко мне навстречу с радостной улыбкой, обнажившей черные, прокуренные зубы, и с широко раскинутыми, словно для объятий, руками. Он усадил меня в мягкое кресло перед низким журнальным столиком. Был подан хорошо приготовленный черный кофе в маленьких чашечках. Предложен был и коньяк, от которого я отказался. Беседа велась доверительно и задушевно. На сохранившейся у меня копии письма она оставила следующую (к сожалению, не датированную) запись:
"В середине марта 1980 г. Ф.А. Чапчахов пригласил меня в редакцию для беседы. Беседа длилась более часа. Чапчахов уверял, что сам ведет борьбу с "русофильской бандой", но предлагаемый мной материал он напечатать не может в виду слишком широкой постановки вопроса. На предложение подготовить другой, более узкий материал на ту же тему Чапчахов ответил, что должен согласовать этот вопрос с руководством. Договорились, что о решении он мне сообщит на следующей неделе по телефону. Выждав две недели, я сам позвонил Ф.А. Чапчахову.
-- Я сейчас занят и говорить с вами не могу, -- сказал он, когда я назвал себя. - Я позвоню вам завтра.
Этого звонка я жду до сих пор".
Конец первой части.



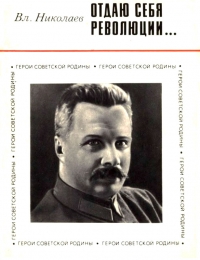

Комментарии к книге «Выбранные места из переписки с друзьями (Часть 1)», Семен Ефимович Резник
Всего 0 комментариев