Введение
Вячеслав Михайлович Молотов принципиально не писал воспоминаний. Поэту Феликсу Чуеву, добровольно взявшему на себя роль его Эккермана, Молотов говорил:
«Мне неинтересно, где, кто и что сказал, кто куда плюнул... Ленин не писал мемуаров, Сталин — тоже... Есть люди, которые говорят, что видели мою книгу. Я пишу не мемуары, я пишу о социализме — что это такое и, как говорят кресть-• яне, “на кой он нам нужен”».
Вячеслав Михайлович не сомневался, что социализм народу ох как нужен, и собственной жизни без социализма не мыслил. Ему повезло — он не дожил пяти лет до крушения советского государства, в котором когда-то был вторым лицом, оставшись в памяти народа также вторым после Сталина палачом по числу невинно убиенных жертв. Когда-то пионеры пели:
И помнит каждый час
Любимый Молотов о нас.
Как много сделал этот человек!
Но о Вячеславе Михайловиче не поют уже много десятилетий, а если вспоминают, то как о фигуре мрачной, настоящем рекордсмене по части расстрельных списков. Для искренних же сталинистов Молотов все же остается далеко на втором плане, ибо для них главное — сам Сталин.
Наиболее восторженный из молотовских биографов Феликс Чуев утверждал:
«За семнадцать лет постоянного общения я имел возможность в какой-то мере изучить этого человека, целиком, с юности отдавшего себя идее».
Согласимся с тем, что Молотов был человеком идейным. Раз так, при рассказе о его жизни нам никак не уйти от оценки коммунистических постулатов, которым он следовал. Наверное, никто не скажет, что стремление к равенству, на которое опираются коммунисты, порочно, преступно или опасно для самого существования человечества. Стремление к равенству с себе подобными, вырвавшимися вперед в экономической, политической, культурной или научной областях благодаря собственным талантам или по обстоятельствам рождения, является мощным стимулом к прогрессу человечества. Но именно стремление, поскольку само равенство, как показывает опыт развития мировой цивилизации, достижимо только в формальных правах, а не в фактическом положении общества, ибо люди от рождения не равны ни по богатству, ни по талантам, ни по силе воли. Человек одновременно стремится и к равенству и к неравенству, ибо, достигнув в чем-то определенного уровня, сразу же мечтает выделиться из ряда себе подобных. Потому-то и приходилось загонять человечество в коммунистический рай железной рукой, что принципы коммунизма противоречили человеческой природе. Очень скоро в стране выстроилась новая иерархия — по степени приверженности коммунистической идеологии. При этом в основании пирамиды были изгои — представители прежних эксплуататорских классов и бывшие белогвардейцы, а на самом верху — Ленин, Сталин и их преемники по руководству партией и страной. А для того чтобы заставить народ с песнями шагать в светлое коммунистическое будущее, необходимы репрессии, по части проведения и обоснования которых Вячеслав Михайлович был настоящим мастером. В отличие от некоторых других уцелевших членов сталинского Политбюро, Молотов никогда задним числом не осуждал репрессии, считая, что они необходимы, хотя и допускал, что кого-то могли расстрелять или посадить по ошибке. Например, его собственную жену.
В своей книге я попытаюсь дать портрет Молотова максимально объективно и постараться понять, в чем заключалась его роль в советской истории. Главной жизненной удачей Молотова, что, вероятно, понимал и сам Вячеслав Михайлович, было то, что его все-таки не расстреляли.
Хотя могли. И не раз. Но Сталин не успел, а Хрущев не захотел. Испугался, видно, что если он рарстреляет своих оппонентов, то и его в случае падения ожидает та же участь.
В целом Молотов представляется человеком, лишенным каких-либо страстей, этаким сухарем-бюрократом. Кажется, у Вячеслава Михайловича никогда не было любовниц, он никогда ни с кем всерьез не ссорился, хотя искренне ненавидел своих политических противников — Троцкого, Бухарина, а позже Хрущева, с которыми никогда дружен не был. Молотов не отличался решительностью и самостоятельностью в своих решениях и действиях. Решительным он был, лишь претворяя в жизнь сталинские указания.
Впрочем, другим и не мог быть верный сподвижник Сталина. Сколько-нибудь самостоятельных и харизматических личностей генералиссимус рядом с собой не терпел. Вместе с Иосифом Виссарионовичем Вячеслав Михайлович делал историю. И далеко не всегда — чистыми руками и в белых перчатках. Впрочем, мало найдется таких, кто творил ее иначе.
\
Детство и юность
В отличие от многих других исторических персонажей, с временем и местом рождения нашего героя, равно как и с его социальным происхождением никаких неясностей нет. Вячеслав Михайлович Молотов родился 25 февраля (9 марта) 1890 года в слободе Кукарка Нолинского уезда Вятской губернии в семье приказчика Михаила Прохоровича Скрябина. Любопытно, что из того же села был родом предшественник Молотова на посту председателя Совнаркома Алексей Иванович Рыков, решение о расстреле которого впоследствии пришлось принимать Молотову вместе со Сталиным. Мать Вячеслава, Анна Яковлевна Небогата -кова, была дочерью купца. В купеческих семьях молодые и бойкие приказчики частенько крутили любовь с хозяйскими дочерьми, рассчитывая на капитал будущего тестя.
В семье Скрябиных родилось десять детей, трое из которых умерли в раннем возрасте. Тогда Вячеслав носил еще свою родовую фамилию Скрябин, в дальнейшем благополучно забытую почти всем населением страны, знавшим главу советского правительства под громким и тяжеловесным псевдонимом Молотов. Позже он в беседах с Феликсом Чуевым вспоминал не без гордости:
«Мы, вятские, ребята хватские, семеро одного не боятся! Отец у меня был приказчиком, конторщиком (то есть не в лавке сидел, а в конторе работал, стоял ступенью выше обычного приказчика и наверняка пользовался доверием хозяина. — Б. С.). А мать — из богатой семьи, из купеческой. Ее братьев я знал — тоже богатые были... Деда по отцу помню. А по матери очень слабо помню. Братьев матери тоже хорошо не помню. Мне было лет семь. На лето мы уезжали к дедушке со старшим братом. По отцу дед был из крепостных, Прохор Наумович Скрябин. Старые
имена. А братья матери имели “ТсфгрШ бр&^в.Ш^ богатиковых”. Семья у них большаяЧэШа. Отё^ 'слУжкл у матери приказчиком».
Интересно, что племянник матери Молотова был отцом знаменитого актера Бориса Чиркова. Молотов потом сетовал, что родственник захаживал к нему, когда он был у власти, а в опале навещать перестал. Хотя в свое время в знаменитой кинотрилогии о Максиме ему довелось сыграть революционера, прототипом которого во многом был сам Вячеслав Михайлович.
Дед Молотова по материнской линии, Яков Евсеевич Небогатиков, скончавшийся 8 июля ,1895 года в возрасте 72 лет, был купцом первой гильдии, владел пароходами на реке Вятке. Приказчик Михаил Скрябин, отец Молотова, был его поверенным в Кукарке. Судя по имени и отчеству, Яков Евсеевич происходил из евреев, а затем крестился. Пришел он в Нолинск мелким коробейником, в одних лаптях, занимался скупкой поношенной одежды у населения, а затем внезапно разбогател. Семейная легенда гласит, что он нашел зашитую в старом сюртуке или перине большую сумму денег. Более вероятно, что первоначальный капитал принесла ему в качестве приданого одна из жен или он был получен в результате каких-то темных операций. Его первая жена, Ефросинья Ипатьевна, подарила ему девять детей и скончалась в 1862 году. Вторая жена, Анна Трофимовна, успела родить двух дочерей — Анну, мать Молотова, и Ольгу, чьими внуками являются актер Б.П. Чирков и композитор Н.М. Нолинский. Она умерла в 1866 году в возрасте 35 лет. В 1873 году Яков Евсеевич женился в третий раз^ на 16-летней дочке лесничего. Скорее всего, состояние Якову Евсеевичу принесла вторая жена, Анна Трофимовна, или в период брака с ней Небогатиков быстро разбогател и вошел в купеческое сословие. В доме была большая библиотека, и, как можно предположить, его дочери получили приличное домашнее образование.
Молотов так вспоминал о своем родителе:
«Отец... приезжал ко мне, когда я уже работал в ЦК. По церквам ходил. Он религиозный был. Не антисоветский, но старых взглядов (сам Молотов всю сознательную жизнь был убежденным атеистом. — Б. С).
В детстве отец меня лупил, как сивого мерина. И в чулан сажал, и плеткой — все, как полагается. Когда первый раз меня арестовали, пришел на свидание».
К сожалению, Вячеслав Михайлович не уточняет, за что именно наказывал его отец в детстве. Но вполне возможно, что побои часто были без какого-либо серьезного повода. Дело в том, что Михаил Прохорович крепко дружил с «зеленым змием».
Молотов вспоминал:
«Отец здорово пил. “Питух” был. Купцы пьют, ну и он с ними. Везли его как-то на санях домой, и на повороте его выбросило из саней. Отец упал и сломал ногу о столб. Только в России такое может быть. С клюшкой ходил. А выпьет: “Все ваши Марксы, Шопенгауэры, Ницше — что они знают?” Особенно ему “Шопенгауэры” нравилось произносить! Громко. Лет шестьдесят пять прожил».
И еще Вячеслав Михайлович говорил об отце Феликсу Чуеву:
«Он бывалый человек. Он бывал на разных ярмарках, в Нижнем Новгороде и других местах, а там у него была вольная жизнь. Родители жили в Вятке, а “Торговый дом братьев Небогатиковых” был в Нолинске. Их трое — братьев Небогатиковых, они нам помогали. Николай, старший мой брат, окончил гимназию, поступил в университет».
Умер отец, по словам Вячеслава Михайловича, примерно в 1923 году, а мать — в 1920-м. В семье было десять детей, но выжили шесть братьев и старшая сестра. Отец говорил о них: «Шесть сыновей и сам соловей». Молотов был предпоследним ребенком. Надо сказать, что в дальнейшем, занимая важнейшие государственные посты, он никак не покровительствовал своим родственникам, да и те, в свою очередь, не искали его помощи. Замечу также, что совсем не пролетарское происхождение ни в коей мере не помешало партийной карьере Молотова. Для так называемых «старых большевиков» даже потомственное дворянство никогда не было лыком в строку. Вот для партийных рядовых социальное происхождение играло роль
отнюдь не последнюю, и сам Молотов впоследствии не раз вычищал из партии детей дворян, купцов и даже приказчиков.
В школьные годы Вячеслав играл на скрипке, пел, писал стихи. Молотов вспоминал, что в Политбюро трое в прошлом были певчими в церкви — он, Сталин и Ворошилов:
«В разных местах, конечно. Сталин — в Тбилиси, Ворошилов — в Луганске, я — в своем Нолинске... Сталин неплохо пел... Ворошилов пел. У него хороший слух. Вот мы трое пели. “Да исправится молитва моя...” — и так далее. Очень хорошая музыка, пение церковное».
Выходит, эта троица спелась в Политбюро не только в переносном, но и в прямом смысле. И благодаря чему — любви к церковному пению!
Семья переехала в Вятку, и в 1897 году Вячеслав поступил в городское училище, откуда его вскоре выгнали за плохое поведение. Потом перебрались в Нолинск, где он окончил чегаре класса городского училища. Последовавшая за тем попытка поступления в Вятскую гимназию не увенчалась успехом. Пришлось довольствоваться 1-м Казанским реальным училищем, из которого его исключили в 1908 году накануне экзаменов за революционную деятельность. Позже Молотов с гордостью говорил, что его исключали из всех учебных заведений.
В Казани Молотов жил в одной комнате с тремя своими братьями. Один из них учился в гимназии, другой — в художественном училище, третий — в реальном, вместе с Вячеславом. Все оничиграли на скрипках и обучались в бесплатной музыкальной школе, созданной стараниями казанского мецената.
На склоне лет Вячеслав Михайлович вспоминал в беседе с Феликсом Чуевым:
«Ешьте щи с кусками! Старорусская пища. Помню с детских лет. Куски черного хлеба настрогаешь в щи и кушаешь».
И еще он повторял в конце жизни, не без некоторой, как кажется, гордости:
«Я человек девятнадцатого века. С каким суеверием люди вступали в новый век, боялись всего!»
Но сам Вячеслав, кажется, в тот момент еще ничего не боялся. Бояться он начал значительно позже.
Вообще, о детстве и ранней, дореволюционной юности Молотова мы знаем очень мало и главным образом с его собственных слов. Но, судя по всему, ничем выдающимся в то время Вячеслав не отличался и никак не выделялся из среды своих сверстников. Хотя много читал, в том числе и работы философов. И похоже, довольно рано пристрастился к Марксу, что и определило его дальнейшую судьбу.
Начало революционной деятельности
Летом 1906 года Вячеслав Михайлович вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию, сразу же примкнув к фракции большевиков. Он участвовал в создании нелегальной революционной организации учащихся. Позднее Молотов утверждал, что к революционной деятельности его толкнуло увлечение русской литературой:
«Я все читал. Чехова — с начала до конца. Григоровича — от начала до конца, он ведь хороший русский писатель. “Антон Горемыка” — я зачитывался. Я еще учился в такое время, когда мне, мальчишке, не давали читать Майн Рида, Купера... Школа запрещала. Таскал тайком Купера и прочих. Майн Рида очень мало читал».
Вероятно, в душе юного ученика реального училища слились воедино сочувствие к обездоленному народу, к которому призывали русские писатели, и жажда приключений и революционной романтики, навеянная иностранными романами.
Тогда, в начале XX века, учащаяся молодежь, и школьная и студенческая, поставляла значительную часть кадров для революционных партий и организаций. Молодым людям, уже немало узнавшим из книжек о стране и мире, хотелось быстрых перемен, хотелось, чтобы народ жил не хуже, чем в развитых странах Запада. Препятствие к прогрессу видели в самодержавии. А тут как раз в ходе революции 1905 года, после издания Октябрьского манифеста и создания Думы оно пошатнулось. Это толкнуло новые тысячи и тысячи молодых людей в ряды антиправительственных партий. Молотов оказался среди них.
Но не только литература, в том числе и марксистская, предлагавшая простые ответы на сложные вопросы,
и общий революционный подъем толкнули Вячеслава в революцию. Были и некоторые специфические обстоятельства, связанные с его тогдашним местом жительства. Молотов вспоминал:
«Я был в городе Нолинске. А город Нолинск был местом ссылки, и в числе ссыльных оказался один видный большевик казанский, студент, украинец Кулеш Андрей Степанович. Он женился на моей двоюродной сестре. В Казани он был наиболее видный большевик в 1905—1906 годах... А потом он пошел в ссылку в Сибирь, что-то там у него с женщиной вышло, и, кажется, кончилось дуэлью. Одним словом, он был застрелен. Видный был очень... для моего кругозора.
Лет пятнадцать мне было. Учился в реальном училище. В пятом классе я уже в нелегальных организациях состоял, а в седьмом классе перед выпускными экзаменами — а я шел на золотую медаль — меня арестовали. Видимо, сыграло роль то, что в 1906 году я вступил в партию. Я приехал на каникулы в Нолинск. Там было много ссыльных, в том числе грузины. Я вот с ними путался. Особенно был один, более... интеллигентный человек, я к нему по вечерам заходил. По-моему, из Баку. Я у него спрашиваю: “Что такое детерминизм?” Читал марксистскую литературу, не все было понятно, он мне объяснял. Я тогда увлекался Плехановым, а Ленина еще не читал. Но он, по-моему, был меньшевистского толка. Но против царской власти. Это 1906-й. У меня еще четкого представления не было о большевиках и меньшевиках».
Фамилия этого грузина, правда, как помнит Молотов, была совсем не грузинской, — Марков.
Позднее Молотов гордился, что к большевизму пришел своим умом. А ведь мог избрать и другую стезю — служить приказчиком, а со временем, получив кое-какой капитал от родни по матери, сделаться купцом. Вполне возможно, что в бизнесе Вячеслав Михайлович был бы успешен, практическая сметка у него была. Только на ход истории это бы все равно никак не повлияло и революцию 1917 года не предотвратило. Просто у Сталина в премьерах состоял бы кто-нибудь другой, а Вячеслав Михайлович так бы и остался навсегда Скрябиным, и судьба его вряд ли оказалась бы завидной. Если бы и разжился к тому времени,
то после революции наверняка бы всего лишился. Если бы не эмигрировал вовремя, то мог бы вновь подняться во времена нэпа, а затем — опять крах. В дальнейшем Вячеслав Михайлович имел бы все шансы попасть под маховик репрессий 30-х годов. Если бы не расстреляли и не отправили в ГУЛАГ, то сослали бы, как пить дать. И уж большой карьеры сын приказчика и купеческой дочки в советской стране ни за что не сделал бы. Так что, примкнув к большевикам, будущий Молотов не прогадал.
Еще он мог, кинувшись в революцию, ошибиться с партией и примкнуть не к большевикам, а к меньшевикам или эсерам (вот только анархистом представить себе солидного, государственно мыслящего Вячеслава Михайловича решительно невозможно). И в этом случае его судьба была бы незавидной, даже если после 1917 года он бы переметнулся к большевикам. В 30-х бывшим рядовым членам так называемых «мелкобуржуазных партий» всерьез грозили ссылка и ГУЛАГ, а бывшим руководителям — расстрел. Молотов при его колоссальной работоспособности и исполнительности имел все возможности оказаться среди руководящих работников, а значит, разделил бы, скорее всего, их печальную участь.
Кстати, хотя официально в анкетах Молотов писал, что вступил в РСДРП(б) в Казани, в беседах с Чуевым он настаивал, что впервые собрание социал-демократического кружка посетил в лесу в Нолинске летом 1906 года, причем там же была его двоюродная сестра-большевичка — Лидия Петровна Чиркова, жена Кулеша. На собрании Молотову поручили печатать листовку по поводу выборов в Государственную думу. Он ее отпечатал и сам же распространял. В Казани же Молотов два года вел кружок и создал беспартийную организацию, объединившую несколько школ города. Молотов стал председателем комитета этой организации. Он возглавлял также социал-демократическую группу школьников и, по его утверждению, обратил в социал-демократическую веру немало эсеров.
В группе социал-демократов, кроме Молотова, основную роль играли еще три человека. Вот как он вспоминал о них:
«В нашей подпольной группе главную роль играли четыре человека, в их числе был и я, потом был такой Аросев,
писатель. Мой близкий друг. Попал под обстрел в тридцатые годы. Послом в Чехословакии был. (Вячеслав Михайлович не смог спасти близкого друга от расстрела. Или не захотел... — Б. С.).
Наиболее твердыми были я и Тихомирнов Виктор Александрович, сын домовладельца казанского. Большевикам были нужны деньги. Мы внесли три тысячи рублей... У Виктора Тихомирнова отец умер, дом его продали, приличный... Тогда это были большие деньги. Тогда больше двадцати пяти рублей в кармане и не бывало...
Четвертым у нас был Мальцев. Он стал врачом, но медициной почти не занимался. Довольно способный, но ничего особенного не сделал. Он погиб в первые же дни обороны Москвы. Пошел добровольцем. Пожилой был. Где он погиб, бедняга, даже не знаю.
В 1909 году почти всю нашу группу забрали, вся наша четверка была арестована. Провокатор один был...
Тихомирнов из богатой семьи, он уехал за границу и установил связь с Лениным. Одно время он был в роли секретаря у Ленина, перед войной... С началом революции он был назначен членом коллегии Наркомата внутренних дел. А в 1919 году умер от гриппа (иначе бы, боюсь, разделил судьбу Александра Яковлевича Аросева. — Б. С.)... Очень хороший товарищ, замечательный. Большевик преданный... В ссылку я попал вместе с Аросевым. Мальцев тоже в этой ссылке был, в другом городе жил, рядом, в Вологодской губернии».
В апреле 1909 года Молотова арестовали и сослали в Вологду. Под арестом он провел три месяца. Бежать из ссылки не представляло труда, но тогда нужны были бы средства на нелегальное существование. Одиннадцати рублей в месяц, которые платили ссыльным, вполне хватало для жизни в захолустном Соль-Вычегодоке, но отнюдь не в столицах, а накопить значительную сумму не представлялось возможным. Вячеслав решил полностью отбыть положенный срок ссылки, чтобы иметь возможность закончить среднее образование. Он рассказывал Феликсу Чуеву:
«После первого ареста меня сослали в Вологодскую губернию, в Соль-Вычегодск. Поселился в комнате с ссыльным эсером Суриным. Ничего парень был. Правда, потом оказался провокатором, и в 1917-м его убили. Мы с ним мирно сосущество-
вали днем, а по вечерам забивались по углам и штудировали каждый свою литературу. Когда моя ссылка подходила к концу, он прислал письмо: “Сюда приехал Сталин. Знаешь, кто это? Кавказский Ленин!” Но я уехал раньше, и познакомились мы уже в Питере».
В ссылке Молотову удавалось подрабатывать. В 1910 году в Вологде он играл в ресторане на мандолине в ансамбле из четырех человек, получая за это рубль в день, а потом перешел играть в кино во время демонстрации фильмов.
В 1911 году Молотова освободили, и он отправился в Петербург. Вячеслав Михайлович сразу же сдал экстерном экзамены за реальное училище и поступил на кораблестроительный факультет Политехнического института. Как говорил Молотов, этот факультет был «самым аристократическим и самым трудным». Однако практически сразу же он был переведен на экономическое отделение, очевидно по его просьбе. Вячеслав Михайлович учел, что на таком сложном факультете слишком трудно будет сочетать учебу с партийной работой, да и концентрироваться на узкой кораблестроительной отрасли он не хотел, а знание экономики могло пригодиться после победы революции, на которую он надеялся. Позднее он так рассказывал Чуеву об университетских годах:
«Я ни одного месяца не учился на кораблестроительном. С 1911-го до 1916-го я учился на экономическом, дошел до четвертого курса. Я очень мало занимался, но личная работа моя, внутри меня, значила много. Приходилось иметь дело с.очень крупными профессорами. Максим Ковалевский переписывался с таким человеком, как Петр Бернгардович Струве, потом, там были еще крупные профессора, теперь более-менее забытые, — Дьяконов, Чупров — крупный статистик, курс которого я прослушал полностью. Статистика меня очень интересовала — и для марксиста, и для экономиста это очень важно. Это был очень хороший, квалифицированный лектор... И еще ряд довольно крупных... Я этому не особенно большое значение придаю, потому что, конечно, главное все-таки — самообразование. Лекции я посещал мало. По статистике, по экономической географии... Сдавал. Профессорам сдавал. И серьезные работы писал. Года полтора оставалось доучиться. Я, как человек, занятый нелегальной большевистской работой, добивался
только того, чтобы перейти с курса на курс или, по крайней мере, сдать те экзамены, без которых отчисляли. Мне важно было не попасть на воинскую службу. Стипендии не было, но мне платило вятское земство 25 рублей... Там было несколько эсеров в земстве, они поддерживали демократов. Они демократы, эсеры. Но мелкобуржуазные...»
Университетского курса Молотов так и не кончил. Он стал членом Петербургского комитета партии, сотрудничал с большевистскими газетами. 22 апреля 1912 года Вячеслав Михайлович участвовал в выпуске первого номера газеты «Правда». Позднее он с гордостью вспоминал об этом:
«В то время в Питере шла острая борьба между большевиками и меньшевиками. Меньшевики выдвинули идею построить так называемый “Рабочий дворец” — центр пропаганды культуры среди рабочего класса, а большевики предложили не дворец создать, а ежедневную рабочую газету. Мы своего добились, и наша “Правда” сразу стала популярной среди рабочих. До приезда Сталина мне пришлось организовывать “Правду”, выход первых ее номеров».
В «Правде» Молотов в 1912—1913 годах трудился секретарем редакции. В списке сотрудников он значился под псевдонимом А. Рябин. По утверждению Молотова, «редактор Егоров — это подставная фигура. Находили рабочего, который соглашался отсидеть пол года в царской тюрьме». Так что на практике Вячеслав Михайлович во многом заправлял делами редакции и в 1912 году стал членом Русского бюро ЦК РСДРП(б). Он гордился, что всегда был практическим работником, а не теоретиком, никогда не эмигрировал, не боялся рисковать, побывал в тюрьмах и ссылках. На склоне лет Молотов говорил Чуеву:
«Вот я “Правду” выпускал, мне 22 года было, какая у меня подготовка? Поверхностная, конечно, юношеская. Ну что я понимал? Хоть и два раза уже в ссылке был. Приходилось работать. А эти большевики старые, где они были? Никто не хотел особенно рисковать. Кржижановский служил, Красин — тоже, оба хорошие инженеры, Цюрупа был управляющим поместьем. Киров — где-то журналистом в маленькой провинциальной газете, не участвовал в реальной борьбе. Я уже не говорю о Хрущеве — такой актив-
ньтй всегда, а в партию вступил только в 1918 году, когда все стало ясно. Кого только не было в ту пору... Вот иду по Новодевичьему кладбищу — там на одной могиле есть такая надпись: “Боец из старой ленинской гвардии Иванов”. А в скобках — Канительщик. Это у него кличка такая. Прозвали по какому-то случаю, может, и случайно, но надо же так влепить ему на могиле! Да еще написали: “От друзей”... Я, между прочим, никогда не считал себя старым большевиком — до последнего времени. Почему? Старые большевики были в 1905 году, большевики сложились до пятого года... Ну, я уже, конечно, в период революции, после революции мог считать себя старым большевиком, но рядом сидели бородачи, которые в 1905-м уже командовали, возглавляли... Вполне в отцы годились, вполне, конечно. Я прислушивался к ним, правда, хотя я вместе с тем довольно высоко наверху стоял, а перед Февральской революцией был в Бюро ЦК, один из трех, и в революции участвовал активно, и все-таки я еще не из старой ленинской партии 1903-1904 годов. Но я очень близко к этому примыкаю, очень близко. Это факт. Но по молодости лет не мог я быть в 1903 году. А в шестнадцать успел уже. Успел, да».
Среди отцов-основателей российской социал-демократии, а потом и партии большевиков Молотов не был по молодости. Но к большевикам он примкнул вполне вовремя, чтобы к революции 1917 года считаться старым, проверенным, испытанным в подполье и ссылках членом партии. К тому же многие «старые большевики» после поражения революции 1905—1907 годов отошли от революционной борьбы, спрятали свои партбилеты подальше и нашли себе недурную службу в различных частных компаниях, которые на волне промышленного подъема росли как грибы после дождя. На смену им и пришли новобранцы поколения Молотова, которые как раз и присоединились к большевикам в разгар первой русской революции. Вячеслав Михайлович, побывав в двух ссылках, уже не мыслил себя вне партии и никакой другой работы, кроме партийной, знать не хотел. На скрипке, что ли, в ресторане пиликать? Гораздо интереснее печатать антиправительственные статьи, звать народ к революции и вообще руководить людьми.
К тому же заниматься конспирацией ему нравилось. Тут была своя романтика. Молотов вспоминал:
«В годы подполья пришлось быть и Михайловым, и Ряби-ным, и Самуилом Марковичем Брауде, и Яковом Каракур-чи. Осенью 1916 года в Озерках, около Питера есть район такой, снимаю квартиру, даю задаток.
— А как ваша фамилия?
— Моя фамилия Каракурчи.
— Не грузин будете?
— Я немного греческой крови.
Поселился. Иду как-то по Литейному мосту, навстречу Демьян Бедный, старый знакомый по “Правде”, стал печататься в других изданиях — там побольше гонорар был. Мы пришли к нему в кабинет, он работал в каком-то общественном кадетском комитете, барином выглядел в кабинете.
— Как живешь? — спрашивает Демьян.
— На нелегальном положении. По паспорту я теперь Яков Михайлович Каракурчи.
Демьян хохотал до слез. А мне этот Каракурчи был нужен потому, что он студент и, стало быть, может жить без паспорта, поскольку у него есть студенческий вид на жительство. К тому ж он горбун и не подлежал призыву в армию, что для меня было важно, ибо шла война (интересно, изображал ли Молотов горбуна, или приходилось давать взятки полицейским, чтобы его таковым считали? — Б. С.). На чью фамилию достану паспорт, тем и был... Февральская революция застала меня как Александра Степановича Потехина...»
До этого, в 1915 году, Молотов основал московскую парторганизацию. Вообще, он был неплохим организатором. Но вскоре Вячеслава Михайловича в Москве арестовали.
Затем была ссылка в Иркутскую губернию, побег оттуда. Молотов вспоминал:
«Мне, как и Максиму (герою кинотрилогии “Юность Максима”, “Возвращение Максима” и “Выборгская сторона”, которого сыграл молотовский племянник Борис Чирков. — Б. С.), запретили жить сначала в 49 городах империи, потом в 63. Напали на след в Москве, арестовали и отправили в Сибирь. Это уже 1915 год.
Поезд привез в Иркутск, а потом 200 километров пешком, по этапу, до Верхоленска, по 25 километров в день, вместе с уголовниками. Хорошо, что не заболел в пути, не заразился, только ноги сильно сбил. Оставили в селе Манзурка, где и встретил новый, 1916 год. В просторной избе собрались ссыльные, в одной половине — большевики, в другой — эсеры. И запели — одни “Интернационал”, другие “Марсельезу”. Мы этих эсеров в конце концов выгнали из избы, — смеется Молотов, — а я перезимовал и удрал в Питер. Снова на нелегальное положение...»
Во многом арест Молотова спровоцировало предательство главы большевистской фракции в Государственной думе Р.Ф. Малиновского. Молотов вспоминал:
«Пока есть империализм, пока существуют классы, на подрыв нашего общества денег не пожалеют. Да и не все люди неподкупны. Когда был разоблачен провокатор царской охранки Малиновский — депутат Государственной думы, большевик, член ЦК РСДРП(б), лучший наш оратор, — Ленин не поверил. Живой такой человек, оборотистый, умел держаться, когда нужно — с гонором, когда надо — молчаливый. Рабочий-металлист, депутат от Москвы. Я его хорошо помню, не раз встречался с ним. Внешне немножко на Тито похож. Красивый, довольно симпатичный, особенно если ему посочувствуешь. А как узнаешь, что это сволочь, — так неприятный тип! (Мышление у Вячеслава Михайловича, как и у других тоталитарных вождей, было вполне мифологичным. — Б. С.) Меньшевики сообщили нам, что он провокатор. Мы не поверили, решили: позорят большевика. Но это была правда. После революции Малиновского расстреляли».
На нелегальном положении Молотов оставался вплоть до Февральской революции, которую он встретил в Петрограде.
На заседании Петроградского Совета в ночь на 27 февраля 1917 года он впервые выступал как Молотов. На эту же фамилию он получил первый послереволюционный паспорт. Большевики любили звучные псевдонимы, выражавшие непреклонность и твердость... Сталин, Каменев, Молотов...
А революцию Молотов встретил как Александр Степанович Потехин, освобожденный от военной службы из-за
туберкулеза. Вячеслав Михайлович подбирал для себя такие паспорта, чтобы его настоящие владельцы имели белый билет — горбуна, туберкулезника.
Молотов не без гордости говорил: «Я только в последние три месяца перед Февральской революцией перешел на партийные деньги. А то жил на свой заработок. Перед революцией я был секретарем редакции и бухгалтером журнала «Современный мир». Устроил меня туда Аросев, которого взяли в армию, это было уже в 1916 году, он там был бухгалтером, а потом в банке работал. Он меня и порекомендовал. Получал сто рублей, начиная с ноября — декабря 1916 года. Не много. Тогда были очень дутые цены».
Феликс Чуев, чтобы польстить, сказал Молотову: «Про вас, про Сталина говорят, что вас столько раз арестовывали, что вы все выходы, все лазейки знали, а потом так советскую тюрьму прижали — никуда!»
«Это да. Конечно», — радостно согласился Вячеслав Михайлович.
Молотов считал себя одним из творцов Февральской революции:
«В ту февральскую ночь, 26-го числа, я был в Питере. Мы трое: Шляпников, Залуцкий и я, члены Русского бюро ЦК, жили на нелегальном положении. Прячешься, многого не знаешь, уцелеть бы. Когда развернулись события, мы ночью с Залуцким пошли на явку на Выборгскую сторону встретиться со Шляпниковым и узнать, как обстоят дела. Там нам сообщили, что Шляпников, возможно, у Горького. Отправились к Горькому. Он говорит:
— Сейчас в Таврическом дворце начинается заседание Петроградского Совета, и Шляпников, скорей всего, там.
И мы пошли в Таврический. Ночь. Стрельба со всех сторон. Во дворец не пускают. Вызвали Керенского:
— Мы от имени большевиков!
Тот провел нас в президиум и посадил меня рядом с Иорданским, редактором “Современного мира”, где я работал бухгалтером».
Можно представить, какими глазами смотрел редактор на своего бухгалтера Потехина, который под фамилией Молотов взял слово сразу же после Керенского и стал крыть и Александра Федоровича, и новое правительство. Однако предложение большевиков — разрешить выпуск
только тех газет, которые поддерживают революцию, — не прошло.
На другой день Молотов редактировал большевистский манифест и всю ночь провел в типографии, пока печатались «Известия рабочих депутатов». Ленин потом одобрил этот документ. А в пять утра Молотов мчался на машине в Таврический, разбрасывая из кузова направо и налево газеты с манифестом.
«Машин своих не было, но мы сами захватывали — уже чувствовали себя командирами. Народ активный был. Питер бурлил. Выступаешь на улице — группа собирается, потом толпа. Впервые свободу получили! Каких только партий не было... Даже “партия умеренных прогрессистов” существовала — за прогресс, но умеренный. Плеханов выпустил антиленинский сборник. Алексеенко, один из лидеров большевиков в Государственной думе, тоже выступил против Ленина. Как непросто было Ильичу из-за границы бороться с ними, и как трудно было нам без него! По поручению ЦК я делал доклад на заседании Петроградского комитета партии большевиков о том, чтобы не оказывать содействия Временному правительству. Меня поддержал Калинин, еще кое-кто из товарищей, но нас было меньшинство, и резолюция наша не прошла. Русскому бюро ЦК помогали такие товарищи, как Стасова (со Стасовой, кстати сказать, Молотов порвал отношения после 1957 года, после того как она подписалась под письмом с осуждением «антипартийной группы». — Б. С.), Калинин, и после Февральской революции мы пополнили наше бюро. Но все мы, вместе взятые, пока не приехал Ленин, не видели, что надо поворачивать к социализму. Мы думали, что дальше последует демократическая революции Я впервые увидел Ленина в апреле 1917 года на Финляндском вокзале, там и познакомился с ним. Вместе с ним был Сталин, который встретил его за несколько станций до Петрограда. Ленин поднялся на броневик: “Да здравствует социалистическая революция!”
Как — социалистическая? Мы говорили о демократической революции. Для большевиков это была уже другая ориентация. Даже такие видные члены партии, как Каменев, Рыков, в своих выступлениях говорили о том, что социалистическая революция — дело далекого будущего,
а Ленин: нет, надо готовиться к социалистической, а о демократической говорят старые большевики, они нам сейчас мешают, и не потому, что они плохие, а потому, что цели и задачи изменились и не так-то просто перестроиться. Ленин нам всем открыл глаза. Я-то был помоложе и сразу пошел за ним. Даже Сталин мне потом говорил:
— В апрельские дни в этом вопросе ты был ближе всех к Ильичу.
Мы долго обсуждали: что имел в виду Ленин под социалистической революцией? Мы тогда жили со Сталиным на Васильевском острове, в одной квартире. Оба холостяками былй. За одной девушкой ухаживали. Но он, грузин, отбил у меня эту Марусю... В той же квартире жили еще Смилга с женой и Залуцкий — мы впятером образовали нечто вроде коммуны. Старые большевики... Правда, потом и старые меньшевики, и кадеты, и даже черносотенцы стали выдавать себя за старых большевиков».
Кстати, Молотов подтвердил Чуеву, что в 1918 году в Петрограде Сталин подхватил венерическую болезнь. На любовном фронте Вячеслав Михайлович явно уступал Кобе. Да и вообще, как лидер и стратег он ни тогда, ни в дальнейшем никак себя не проявил. Молотову нужен был вождь, который знает, как надо действовать, предвидит будущее, дает стратегическую установку. А вот в качестве ведомого Вячеслав Михайлович был незаменим, беспрекословно, быстро, с душой исполняя все поручения, в том числе самые деликатные и неприятные. Сначала вождем для Молотова был Ленин, потом Сталин. А вот когда Вячеслав Михайлович однажды возжелал сам стать вождем, то потерпел позорное фиаско. Для этой роли у него не хватало боевого задора, харизмы, самостоятельности.
Решением Русского бюро ЦК РСДРП 4 марта Молотов был вновь введен в редакцию «Правды». С марта 1917 года Вячеслав Михайлович также являлся депутатом и членом исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. На Всероссийском совещании партийных работников РСДРП(б) в Петрограде (27 марта — 2 апреля) по вопросу об отношении к Временному правительству левое крыло во главе с Молотовым настаи-
вало на том, что «Временное правительство с первого момента своего возникновения является не чем иным, как организацией контрреволюционных сил. Поэтому никакого доверия, никакой поддержки этому правительству оказывать нельзя, наоборот, с ним необходима самая решительная борьба».
В статье «В партию!», опубликованной в «Правде» 28 марта 1917 года, Молотов призвал к сплочению и объединению «всех революционных рабочих под знаменем революционной социал-демократии»; указывал, что РСДРП «должна дать свои ответы, свои решения поставленных задач в том числе о созыве Учредительного собрания и установлении государственного устройства, решение вопроса о земле; общее улучшение положения рабочих, вопрос о прекращении войны и мире». При этом он подчеркнул, что «самостоятельная работа партии имела бы огромное значение для дела революции, для объединяющих всю демократию революционных организаций, как Советы Рабочих и Солдатских Депутатов».
Молотов был делегатом 7-й (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б), состоявшейся в Петрограде 2-29 апреля. На ней он выдвигался в состав ЦК, но избран не был. Зато с мая Молотов стал членом Исполнительной комиссии ЦК. На 6-м съезде РСДРП(б) (26 июля — 3 августа) он высказался за необходимость вооруженного восстания:
«В изменении мирного характера революции и есть переломный момент. Власть можно получить только силой... До 3—5 июля лозунг “Вся власть Советам!” означал мирное, безболезненное развитие революции и был большим шагом вперед для всей демократии, которая в таком случае порывала бы с буржуазией и на опыте училась бы изживать иллюзии. При этом мы могли надеяться, что мелкая буржуазия, учась вместе с пролетариатом государственной власти, пошла бы за ним и далее, окончательно разорвав с крупной буржуазией. Но революция не окончена, так как крестьяне не получили земли и мира, и этих вопросов теперь мирно разрешить невозможно... Нам наделе надо указать единственный выход из создавшегося положения — диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства».
В дни Октябрьского вооруженного восстания Вячеслав Михайлович являлся членом Петроградского ВРК, хотя и не играл в нем ведущей роли. Сам день (точнее, ночь) Октябрьской революции в конце жизни помнился Молотову уже не слишком отчетливо:
«Я входил в Вбенно-Революционный комитет, который был создан Петроградским Советом. Председателем Петроградского Совета был Троцкий, он тогда хорошо себя вел... День 25 октября 1917 года отдельно не запомнился, потому что был предельно насыщен. Но осталось ощущение того, что сделано большое, важное дело».
После революции: вместе с Лениным
В первые послереволюционные дни Молотов занимался поиском союзников для большевиков. На заседании ПК РСДРП(б) 2 ноября 1917 года он доложил о ходе переговоров с социалистическими партиями:
«Из партий за нами идут только левые социалисты-революционеры, определенно против нас меньшевики-интернационалисты, враждебно настроены против нас меньшевики-оборонцы и правые социалисты-революционеры, Викжель1 занимает нейтральную позицию. Он предлагает кончить кризис соглашением. Он предлагает, чтобы в новое правительство вошли представители всех социалистических партий, начиная народными социалистами и кончая большевиками. Сочувствием широких масс Викжель не пользуется. Во время переговоров выяснилось, что народные социалисты даже не могут вести переговоры с большевиками, а меньшевики-оборонцы и правые социалисты-революционеры не соглашаются на министерство, в котором будут принимать участие большевики... Всем этим переговорам придавался вид, что мы, большевики, не сможем удержать власть. Переговоры в их глазах имели большое значение. У нас этим переговорам придавала значение только уасть товарищей. От уступок представители ЦК не отказывались. Они ничего не имели против, чтобы в министерство вошли представители других социалистических партий, но при непременном соблюдении и признании уже опубликованных декретов и законов, при соблюдении трех условий: 1) признание декретов о земле и мире; 2) новое правительство должно быть ответственно перед ЦИК и 3) беспощадная борьба против
буржуазных контрреволюционеров — Корнилова, Керенского, Каледина. С самого начала было очевидно, что эти условия неприемлемы для большинства соглашающихся сторон. Было ясно, что с нами пойдут, может быть, левые социалисты-интернационалисты».
Прогноз Молотова оказался точен. Так и вышло. Подчеркну, что Молотов всегда был на стороне Ленина и не поддерживал колебания Каменева и Зиновьева и некоторых других большевиков, выступавших за коалиционное правительство с социалистическими партиями. Он считал необходимым вооруженный захват власти большевиками. В чем, в чем, а в соглашательстве его никто не мог заподозрить...
Все послереволюционные дни Молотов ночевал в Смольном, жил там в одной комнате с рабочим Бакаевым. Учились стрелять из револьвера. Выбрали комнату побольше и палили в нарисованную на стене мишень. Молотов был членом Петроградского комитета партии. В Смольный приходило много народу — рабочие, солдаты, матросы, интеллигенция... Появился даже служащий Святейшего Синода:
— В здании Синода собирается нечто вроде стачечного комитета правительственных учреждений.
Ленин направил Молотова с отрядом рабочей гвардии разобраться, что это за комитет, и арестовать его.
«Указание было правильным и своевременным, — рассказывал Молотов Чуеву, — ибо это оказался не столько стачечный, сколько контрреволюционный комитет всех правительственных учреждений — человек 40—50 там заседало. Ну, я с красногвардейцами появился среди заседания: “Руки вверх!” — и всех этих “комитетчиков” мы отправили в Смольный. Точно так же по поручению Ленина мне в эти дни пришлось закрывать эсеровскую крестьянскую газету. А перед открытием II съезда Советов Ленин собрал членов ВРК в своей комнате обсудить, как открыть съезд и, в частности, как назвать наше первое правительство. Министры — это казалось тогда слишком по-буржуазному, только прогнали министров, и снова министры? Остановились на народных комиссарах, переняв это название от Французской революции. (Вячеслав Михайлович не стал уточнять, что название «народные комиссары» предложил «иуда» Троцкий. — Б. С).
На съезде Советов, когда Ленин выступал, провозглашая Советскую власть, я стоял за ним и почему-то смотрел на его ботинок. У Ленина была привычка: во время выступления приподнимать ногу на носке, он как бы весь тянулся ввысь. И я отчетливо видел протертую насквозь подошву его ботинка. На всю жизнь врезалось в память...»
По утверждению Молотова, Ленин тогда полагал, что в первую очередь будут уничтожены три основных врага: гнет денег, гнет эксплуатации и гнет капитала. Первоначально с деньгами собирались покончить в несколько лет, если не месяцев. На самом деле они сохранились до смерти Молотова, всего лишь 14 лет не дожившего до начала XXI века. Но он и на старости лет мечтал о постепенной отмене товарно-денежных отношений.
В 1918 году Молотов недолгое время занимал пост председателя Совета народного хозяйства Северной области, включавшей Петроград и прилегающие губернии. Здесь он близко сошелся с главой местных коммунистов Г.Е. Зиновьевым, под началом которого работал. Это не помешало Молотову вместе со Сталиным отправить на смерть «дорогого Григория Евсеевича» в 1936 году.
В 1919 году комиссаром парохода «Красная звезда» Молотов отправился восстанавливать советскую власть вдоль Волги и Камы. Инструктором по народному образованию на этом пароходе была Надежда Константиновна Крупская. Уезжали поездом из Москвы до Нижнего Новгорода. Провожал Ленин. По словам Молотова, во время поездки «мы работали здорово, с утра до ночи».
Молотов вспоминал:
«Ленин в 1919 году говорил, что революция была рабочая, а выиграли от нее больше крестьяне. Но полная победа — если у нас в деревне все в порядке. Сознательный рабочий идет на это, а несознательного надо убедить, и рабочий выиграет только тогда, когда поведет за собой крестьянство».
После завершения миссии «Красной звезды» Молотов был назначен председателем Нижегородского губиспол-кома, но уже в 1920 году его перебросили в Донбасс руководить местными коммунистами. На IX Всероссийской
партконференции Молотов впервые встретился с А.И. Микояном, ехавшим в Нижний Новгород в местный губком. Он говорил Микояну:
«Там крупная партийная организация в основном из рабочих. Но обстановка там сложная, резко проявляются местнические настроения: работников из других губерний принимать не желают. Среди партийцев немало случаев морального разложения, злоупотребления спиртными напитками. Некоторые из членов партии, поселившись в квартирах, отнятых у буржуазии, женились на дочерях купцов. Борьба с остатками буржуазии почти не ведется. Работать в Нижнем вам будет очень трудно, так как там всем заправляет спевшаяся местническая группировка».
Молотов вступил в острую борьбу с нижегородскими коммунистами. Позднее он назвал своих противников «группой правых, но еще не раскрытой». Конфликт с руководителями Нижегородского губкома стал причиной отзыва Молотова и его переброски в Донбасс. На бюро Нижегородского губкома Молотову было вынесено партийное порицание за интриганство. По этому поводу Вячеслав Михайлович говорил Феликсу Чуеву:
«Нет, не за интриганство они меня, а они хотели утвердить свою линию обывательского типа, ничего не трогать, нико го не задевать... Я попросился сам. ЦК отозвал... Я этого и добивался, так как отношения у меня были... довольно острые. Я просил перевести меня на партийную работу. Крес-тинский тогда был первым секретарем ЦК, еще Преображенский и Серебряков — все троцкисты, все секретаре ЦК. Вот Ленин на них должен был опираться. И они тогда мне предложили:
— Так, а мы вас направим в Башкирию.
— А по какому случаю в Башкирию? Я бы не хотел, там рабочих мало. Дайте мне промышленный район какой-нибудь...
— Вот Донбасс, пожалуйста, в Донбасс...
Я тогда перешел секретарем губкома в Донбасс. Врангель еще был в Донбассе. Война... Это было осенью 1920 года. Потом губернская конференция меня выбрала на общеукраинский партийный съезд, и там я стал первым секретарем Украинского ЦК. В конце 1920 года».
Столь резкий скачок в своей карьере Молотов связывал с покровительством Ленина и особенно Сталина. Но во главе украинских коммунистов он пробыл недолго — с октября 1920 года по март 1921-го. Партия позвала в Москву. Вот что Вячеслав Михайлович рассказал Чуеву об обстоятельствах этого перевода:
«В марте 1921 года я приехал на съезд в Москву, й меня оставили здесь. Уверен, что Сталин меня поддерживал. Меня там не могли так поддерживать. Ленин знал меня через Крупскую. Немного через переписку, когда я был в “Правде”. Думаю, что это Сталин. Он знал меня с 1912 года, мы жили с ним на одной квартире в 1917 году...»
Думаю, и Ленин и Сталин ценили Молотова прежде всего как толкового и беспрекословного исполнителя, лично преданного им.
Получается, что во главе крупных партийных организаций — Донбасской и Украинской — Молотов пробыл всего лишь считаные месяцы. В Нижегородской же губернии он отнюдь не был первым лицом. Вообще, Вячеслав Михайлович практически никогда не отвечал за полностью самостоятельный участок работы. Пост Председателя Совнаркома, который он занимал десять лет, в 30-х годах уже не имел прежнего значения. На этой должности Молотов был лишь проводником идей и решений, которые принимал Сталин. Так же дела обстояли и когда Молотов возглавлял Наркомат иностранных дел. Он привык быть вторым, и только вторым, поэтому, когда единственный раз в жизни попытался стать первым, потерпел сокрушительное поражение.
Уже кандидатом в члены Политбюро Молотов проявил свою кровожадность. В мае 1922 года, замещая отсутствовавшего члена Политбюро Зиновьева, он проголосовал за расстрел двух православных священников, осужденных Ревтрибуналом в Иваново-Вознесенске. За расстрел были также Ленин, Сталин и Троцкий, против — Калинин, Каменев, Рыков и Томский. Таким образом, для отмены расстрельного приговора трибунала не хватило одного голоса. Голос Молотова оказался решающим.
Весной 1921 года произошло знакомство Молотова с женщиной, которая на всю жизнь стала его верной спутницей и самым любимым человеком. Они познакомились
на совещании делегатов международного женского конгресса в Петрограде, а летом уже поженились. Пора представить возлюбленную Молотова. Перл (впоследствии Полина) Семеновна Карповская (партийная кличка Жемчужина является переводом с идиш ее имени Перл) родилась в 1896 году на станции Пологи Гуляйпольского района нынешней Днепропетровской области. От первого брака у нее была дочь — Рита Ароновна Жемчужина. В 23-летнем возрасте, став членом РКП(б), заведовала отделом Запорожского губкома партии. В связи с наступлением Деникина партийцев из Запорожья эвакуировали в Киев. Оттуда Жемчужина была направлена политработником в 9-ю армию, дислоцировавшуюся в районе станции Дарница. Затем ей пришлось бежать в Харьков, а потом в Москву.
Влияние Жемчужиной на Молотова было огромным. Среди номенклатуры ходил анекдот, относящийся, правда, к более позднему периоду, когда Молотов был уже главой внешнеполитического ведомства. Вызывает Вячеслав Михайлович некоего партийного работника и предлагает ему должность посла в одной небольшой стране. Партработник просит день, чтобы посоветоваться с женой. Молотов соглашается. На следующий день партработник приходит к Молотову и говорит, что с женой посоветовался и они согласны ехать. Но Молотов отвечает, что он тоже посоветовался с женой и пришел к выводу, что этого партийца за кордон посылать не стоит.
Молотов, несомненно, не был яркой личностью. Заикание не позволило ему стать хорошим оратором и призывать массы на баррикады, на трудовой или боевой подвиг. Вот какие впечатления остались от Молотова у бывшего секретаря Политбюро Бориса Бажанова, благополучно ушедшего на Запад в конце 20-х годов:
«В истории сталинского восхождения к вершинам власти он сыграл очень крупную роль. Но сам он на амплуа первой скрипки никогда не претендовал. Между тем он прошел очень близко. В марте 1921 года он избирается ответственным секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. В течение года у него в руках будет весь аппарат ЦК. Но в марте 1922 года Зиновьев, организуя свою тройку, захочет посадить на аппарат ЦК Сталина, сделав его генеральным секретарем и отодвинув Молотова на второе мес-
то — второго секретаря ЦК. Расчет Зиновьева: нужно сбросить Троцкого, а Сталин — явный и жестокий враг Троцкого. Зиновьев и Каменев предпочитают Сталина. И Молотов не только подчиняется, но и становится верным лейтенантом Сталина, из-под которого он никогда не пытается выбраться; Зиновьеву же и Каменеву он мстит потом с удовольствием, а также Троцкому, который почему-то Молотова невзлюбил (впрочем, не “почему-то”: Троцкий живет абстракциями — из Молотова он создал воплощение “бюрократического перерождения партии”)...
Молотов всегда и постоянно идет за Сталиным; он проводит всю самую серьезную работу по подбору людей партийного аппарата — секретарей крайкомов и губкомов — и созданию сталинского большинства в ЦК. Он десять лет будет вторым секретарем ЦК. Когда Сталину нужно, он будет председателем Совнаркома и СТО; когда нужно, будет стоять во главе Коминтерна; когда нужно, будет министром иностранных дел...
Молотов... представляет удивительный пример того, что делает из человека коммунизм. Я много работал с Молотовым. Это очень добросовестный, не блестящий, но чрезвычайно работоспособный бюрократ. Он очень спокоен, выдержан. Ко мне он был всегда крайне благожелателен и любезен и в личных отношениях со мной очень мил. Да и со всеми, кто к нему приближается, он корректен, человек вполне приемлемый, никакой грубости, никакой заносчивости, никакой кровожадности, никакого стремления кого-либо унизить или раздавить».
Сохранился и отзыв Молотова о Бажанове. В беседе с Чуевым он так охарактеризовал бывшего сталинского секретаря:
«Большой жулик. Я его помню. Красивый мальчик такой. Он сбежал в ИрДн. Я все удивлялся, как он к Сталину попал... Четыре года Бажанов был у Сталина. Вероятно, был агентом. На десятых ролях был. Только в конце приблизился к Сталину».
В марте 1921 года на X съезде РКП(б), по предложению Ленина, Молотова избрали членом ЦК, первым кандидатом в члены Политбюро и секретарем ЦК партии. Фактически Вячеслав Михайлович занял тот же пост, который потом три с лишним десятилетия занимал Сталин. Но по своим качествам Молотов никак не мог придать этому
посту то значение, которое придал ему Сталин, даже еще не став единоличным правителем.
Вячеслав Михайлович позже так оценивал роль своей тогдашней должности:
«При Ленине так было. Он являлся фактическим лидером партии и Председателем Совнаркома. А я — вроде Первого Секретаря, но совсем не в том положении, какое потом приобрел Первый».
После того как Ленин отошел от дел из-за тяжелой болезни, Молотов занял при Сталине то же положение, какое прежде занимал при Ильиче.
Свою позицию относительно отказа от военного коммунизма, ему внутренне близкого, Молотов сформулировал следующим образом: «Я считал, что отказаться от нэпа никак нельзя и плыть по течению нэпа никак нельзя».
Вячеслав Михайлович так вспоминал о первом годе работы в секретариате ЦК партии:
«Ярославский и Михайлов стали секретарями. Михайлов был такой середнячок областного масштаба, не выше. Даже как областной работник он был не выше среднего уровня, правда, его почему-то выдвинули председателем Московского совета профсоюзов. Ярославский приноровился выполнять всякие просьбы: кому штаны надо, кому ботинки, — мелочи. Правда, время было такое, что люди нуждались во всем. Но надо же на главных вопросах сосредоточить внимание. Ленин мне так и говорил, как-то мы беседовали... гуляли по Кремлю: “Вы не занимайтесь мелкими вопросами, перекладывайте их на помощников, вы занимайтесь политическими вопросами, а другие — старайтесь их отдать другим! Вы секретарь ЦК, не занимайтесь ерундой, как Ярославский и Крестинский!”
А тут просьбы всякие — кому-нибудь продукты нужны, не могут достать. И вот мы сидим, обсуждаем, кому дать, кому не дать, — чепухой занимаемся. Я говорю: “Невозможно работать, Владимир Ильич, время уходит на ерунду”.
Ленин помолчал, ничего определенного мне не сказал.
Я через некоторое время прямо взмолился: надо с вами поговорить по некоторым вопросам. Согласился, назначил день».
— АЛенина Как называли? «Владимир Ильич»? —- поинтересовался Чуев.
— Нет. «Товарищ Ленин», — ответил Молотов. — Владимир Ильич — очень редко называли. Это только его близкие друзья по молодым годам, такие, как Кржижановский, называли его «Владимир Ильич», а так все — Ленин, Ленин... Может быть, Цюрупа называл его «Владимир Ильич».
— А потом и Иосиф Виссарионович стал «товарищ Сталин»?
— Да, это было узаконено: товарищ Ленин, товарищ Сталин. Имя-отчество не принято было называть в партийных кругах. Владимир Ильич, Иосиф Виссарионович — это им не соответствовало. Теперешним настроениям и правилам обращения соответствует, а тогдашним — не соответствовало.
А в августе на пленуме, после доклада Ярославского, когда пленум закончился, Ленин вдруг говорит:
«Вот у меня есть вопрос. — И неожиданно заявляет: — Я насчет товарища Ярославского. Предлагаю его послать в Сиббюро. Здесь мы найдем вместо него человека, члена ЦК, а в Сибири — там не хватает людей, надо подсобить. Кто против? Никого нет. Значит, решение принято».
Но когда я после пленума пошел на работу в свой кабинет — мы размещались тогда напротив Центрального военторга, — иду в свой кабинет, вдруг за мной влетает Ярославский и набрасывается на меня: «Вы карьерист! Это все ваших рук дело! Вы интриган!» — и прочее. А куда мне деваться? «Вы карьерист! Вы добиваетесь чего-то!» Я даже вспылил: «Да что вы ругаетесь? Я просто хочу, чтобы вы работали где-нибудь в другом месте». Так он меня изругал, но уже поздно. Лений сразу провел постановление, пленум утвердил. Конечно, все это было мое дело, я и не жалею...
Главной чертой Ленина Молотов в беседе с Чуевым называл «целеустремленность». А затем добавил: «И умение бороться за свое дело. Ведь в Политбюро он был в меньшинстве. Очень часто только Сталин и я его поддерживали. Как-то Ленин не пригласил Троцкого и Сталин заметил, что у нас получается фракция. Ленин улыбнулся: “Товарищ Сталин, вам-то, старому фракционеру...” С 1921 года на заседаниях Политбюро я обычно сидел рядом с Лениным.
Однажды во время выступления Троцкого Ленин незаметно передал мне записку: “Выступайте против него как можно резче. Записку порвите”. Я так и сделал. А после меня встал Ленин и окончательно добил Троцкого. Правда, тот понял, в чем дело, и сказал потом: “На всякое дело есть свой Молотов”. Троцкий считал, что мы должны вести курс на социализм постольку, поскольку нас может поддержать рабочий класс. А так как Россия состоит в основном из не понимающего социализм крестьянства, то в такой обстановке мы победить сможем лишь в том случае, если нас поддержат западные рабочие, а мы пойдем за ними. Тогда нам надо закричать: “Да здравствует социализм!” — а самим удрать в кусты. А мы начали и повели Запад за собой».
Молотов, как и Ленин, был человеком целеустремленным. А вот за свою точку зрения Вячеслав Михайлович боролся лишь до тех пор, пока она не противоречила точке зрения Сталина. Иначе он, кстати сказать, не уцелел бы в многочисленных чистках. Хотя, по иронии судьбы, от гибели его спасла все-таки смерть диктатора, который собирался репрессировать его не за строптивый нрав, а, наоборот, за отсутствие настоящей строптивости и харизматичности, делавшей его неспособным стать сталинским преемником.
В беседах с Чуевым Молотов всячески противопоставлял Ленина Троцкому, которого искренне ненавидел всю жизнь:
«Ленин понимал, что с точки зрения осложнения дел в партии и государстве очень разлагающе действовал Троцкий. Опасная фигура. Чувствовалось, что Ленин рад бы от него избавиться, да не может. У него не было еще такой мощной поддержки, какая потом появилась у Сталина. А у Троцкого хватало сильных прямых сторонников, были и ни то ни се, но признающие его большой авторитет. Троцкий человек достаточно умный, способный и пользовался огромным влиянием. Даже Ленин, который вел с ним непримиримую борьбу, вынужден был опубликовать в “Правде”, что у него нет разногласий с Троцким по крестьянскому вопросу. Помню, это возмутило Сталина, как не соответствующее действительности, и он пришел к Ленину. Ленин отвечает:
— А что я могу сделать? У Троцкого в руках армия, которая сплошь из крестьян. У нас в стране разруха, а мы покажем народу, что еще и наверху грыземся!»
Очень любопытны рассуждения Молотова по поводу еврейского происхождения большинства сторонников Троцкого:
«Троцкий всюду насаждал свои кадры, особенно в армии. Гамарник, начальник Политуправления. Склянский был у него первым замом. Я его знал. Откуда он взялся — черт его знает! Откуда Троцкий его взял, я не слыхал никогда. Эта нация, она столько пережила, и тогда вышколенных людей было очень много. Это городские люди, которые веками жили в городах, из поколения в поколение, не то что наши, пока обнюхаются».
Выходит, что определенное предубеждение против евреев у Молотова все-таки было*, хотя жена его и относилась к «нации вышколенных людей».
Вячеслав Михайлович признавался:
«Фактически всегда за спиной члена Политбюро была своя группа сторонников. И при Ленине. Ленин предложил собираться на заседания Политбюро без Троцкого. Мы сговорились против него. А через год-два — без Зиновьева и Каменева. А потом без Бухарина, Томского, Рыкова. Хотя они еще оставались в Политбюро, но им, конечно, не сообщали».
На льстивые слова Чуева: «Но вас нельзя упрекнуть, что вы плохо укрепляли социалистический строй» — Вячеслав Михайлович иронически ответил: «Не то что укрепляли, даже по головам иногда били».
Что ж, здесь Молотов вполне откровенно рассказал о механизме изгнания неугодных из Политбюро. Но когда он сам с товарищами сговорился против Хрущева, номер не прошел, и в результате изгнали его самого. А уж бить по голове бывших оппозиционеров, да и просто всех подозрительных и ненадежных Вячеслав Михайлович считал святым делом.
Молотов оставил зарисовку того, как они общались с Лениным в неформальной обстановке:
«Мне доводилось не раз беседовать с Лениным и в неофициальной обстановке.
4 Соколои
— Зайдем ко мне, товарищ Молотов.
Пили чай с черносмородиновым вареньем.
— У нас такой народный характер, — в тот вечер говорил Ленин, — что для того, чтобы провести что-то в жизнь, надо сперва сильно перегнуть в одну сторону, а потом постепенно выправлять. А чтобы сразу все правильно было — мы еще долго так не научимся».
Ленинские слова Молотов прокомментировал так: «Пока у нас государство, а оно еще долго будет жить, пока у нас деньги, а они еще тоже поживут, будут и такие отрицательные явления, как бюрократизм, карьеризм, стяжательство. Ну и жестокость».
Собственные деяния, равно как и деяния Ленина и Сталина, он за жестокость, разумеется, не считал.
Рядом со Сталиным: «тонкошеий вождь »
Ленина Вячеслав Михайлович ценил очень высоко. Но Сталин был ему внутренне ближе, и за три десятилетия совместной работы Молотов с ним почти сроднился. Вячеслав Михайлович в конце своего жизненного пути говорил Чуеву:
«Конечно, Ленин выше Сталина. Я всегда был такого мнения. Выше в теоретическом отношении, выше по своим личным данным. Но как практика Сталина никто не превзошел».
Одной из сфер практической деятельности стал снос исторических памятников, связанных с религией. Молотов входил в число активных сторонников ликвидации храма Христа Спасителя в Москве. Он так объяснял необходимость его сноса:
«Церковное совсем нехорошо — в самом центре России... Недодумали. Оставить было нельзя, а взрывать тоже не стоило... Много прошло лет, конечно, были и неудачные начинания. Теперь они кажутся чудачествами, явной ошибкой, но не всегда так казалось».
N
В Кремле Молотов жил рядом со Сталиным. Он вспоминал:
«Мы жили со Сталиным в одном коридоре в Кремле, в здании, где сейчас Дворец Съездов построен новый. По вечерам друг к другу заходили. Были годы, когда довольно часто это было. У него на даче обыкновенно общались: либо на одной, либо на другой. На ближней больше. А дальняя — это в районе Домодедова».
В 20-х годах партийные вожди жили довольно скромно. Никита Сергеевич Хрущев так поведал о том времени в своих мемуарах:
«Мы помнили слова Ленина, что через 10 лет существования советской власти страна станет неприступной, жили одной этой мыслью и ради нее. То время, о котором я вспоминаю, было временем революционных романтиков. Сейчас, к сожалению, не то. В ту пору никто и мысли не допускал, чтобы иметь личную дачу: мы же коммунисты! Ходили мы в скромной одежде, и я не знаю, имел ли кто-нибудь из нас две пары ботинок. А костюма, в современном его понимании, не имели: гимнастерка, брюки, пояс, кепка, косоворотка — вот, собственно, и вся наша одежда. Сталин служил и в этом хорошим примером. Он носил летом белые брюки и белую косоворотку с расстегнутым воротником. Сапоги у него были простые.
Каганович ходил в военной гимнастерке, Молотов — во френче. Внешне члены Политбюро вели себя скромно и, как это виделось, все свои силы отдавали делу партии, страны, народа. Некогда даже было читать художественную литературу. Помню, как-то Молотов спросил меня:
— Товарищ Хрущев, вам удается читать?
Я ответил:
— Товарищ Молотов, очень мало.
— У меня тоже так получается. Все засасывают неотложные дела, а ведь читать надо. Понимаю, что надо, но возможности нет.
И я тоже понимал его».
Постепенно жизненный уровень вождей повышался. Молотов признавался Чуеву, что уже в 30-х годах пайки и зарплата членов Политбюро позволяли им ни в чем себе не отказывать, не только есть, пить и одеваться в свое удовольствие, но и отдыхать с комфортом на правительственных дачах на юге и в Подмосковье.
Во время борьбы с разного рода оппозициями Молотов неизменно был на стороне Сталина. В борьбе с оппозиционерами Вячеслав Михайлович в выражениях не стеснялся. Так, 15 января 1926 года во время партсобрания на ленинградском заводе «Красный треугольник», где были сильны позиции зиновьевцев, Молотов заявил оппозиционеру — председателю собрания: «Сволочь, саботажник,
контрреволюционер, сотру тебя в порошок, привлеку тебя в ЦКК, я тебя знаю». И предупредил: «Мы уходим и поместим в печати нашу резолюцию».
Другие члены Политбюро, пришедшие на собрание, но не сумевшие добиться принятия резолюции поддержки сталинского большинства, от него не отставали. Ворошилов угрожал присутствовавшим на собрании комсомольцам: «Я вас сотру в порошок». И пообещал: «Я вас возьму в Красную Армию, и там мы поговорим», на что кто-то из молодых людей заметил: «Вот хорошая агитация за Красную Армию». Климент Ефремович обозвал оппозиционеров «бузотерами» и посулил: «Вы добиваетесь демократии, мы вам дадим такую демократию, что вы через три дня своих родных не узнаете». А Калинин задушевно обратился к женщинам-оппозиционеркам: «Ну, вы полоумные, с вами мы меньше всего будем считаться».
«Всесоюзный староста», как известно, предпочитал балерин, а не работниц, несмотря на свое рабоче-крестьянское прошлое. Комсомольцев же Михаил Иванович называл «сопляками».
Молотов, безгранично преданный Сталину, спокойно относился к тому, что Коба и в период борьбы с оппозицией, и позже, в бытность Вячеслава Михайловича главой внешнеполитического ведомства, не раз заставлял его выступать в роли «злого следователя», чтобы тем самым оттенить собственную широту души и готовность идти на уступки и проявлять милость к падшим. Однажды Феликс Чуев сказал Молотову:
— Мне кажется, иногда Сталин вынужден был подставлять вас под удар.
— Бывало и такое, — охотно согласился Вячеслав Михайлович. — Он занимал главное место и должен был, так сказать, нащупать дело, чтобы двигать его дальше. Это неизбежно, и тут ничего особого нет.
Молотов говорил Чуеву о Сталине: «Простой, очень, очень хороший, компанейский человек. Был хороший товарищ». Замечу, что хорошим товарищем считал Сталина до поры до времени и Бухарин. И вообще числиться другом Сталина было привилегией не только сомнительной, но и чрезвычайно опасной. Почти никто, кого Сталин называл своим другом, не уцелел. Вячеславу Михайловичу
пришлось в полной мере испытать это в последние годы жизни диктатора, когда только его смерть избавила Молотова от уже предрешенного расстрела, на технико-юридическое оформление которого оставалось от силы год-полтора.
Пока же, как в 20-х, так и в 30-х годах, Сталин вполне доверял Молотову и порой считал его незаменимым. Например, 1 сентября 1933 года он с некоторым раздражением писал Вячеславу Михайловичу:
«Признаться, мне (и Ворошилову также) не понравилось, что ты уезжаешь на 1 1/2 месяца, а не на две недели, как было условлено, когда мы составляли план отпусков. Если бы я знал, что ты хочешь уехать на 1 {/2 месяца, я предложил бы другой план отпусков. Почему ты изменил план — не могу понять. Бегство от Серго? Разве трудно понять, что нельзя надолго оставлять ПБ и СНК на Куйбышева (он может запить) и Кагановича...»
Вячеслав Михайлович выгодно отличался своей трезвостью от некоторых других соратников по Политбюро, вроде Куйбышева, Жданова или Щербакова, хотя при необходимости во время застолья у Сталина мог выпить изрядное количество водки и коньяка. На тех из соратников, кто на дружеском ужине в его присутствии «половинил» рюмки и пропускал тосты, Иосиф Виссарионович смотрел с подозрением: если человек боится напиться, значит, ему есть что скрывать.
В 20-х годах Молотов был в неплохих отношениях со всеми членами Политбюро, в том числе и с теми, кто впоследствии оказался в оппозиции к Сталину. Так, Микоян 8 июня 1928 года писал жене Ашхен из Мухалатки (Крым):
«Завтра выезжает отсюда Рыков. Врачи потребовали его отъезда в Москву. Он уже полтора месяца лежит в кровати. Дрянная затяжнай болезнь — ревматизм. Температура все время немного повышается. Мы с Молотовым ездим верхом, играем в теннис, в кегельбан, катаемся на лодке, стреляем, словом, отдыхаем прекрасно. Комната очень хорошая. Остаемся здесь после отъезда Рыкова — Молотов (с женой), Петровский (старик), Угланов, Товстуха, Ефимов и я».
Спорт Молотов любил, охотно играл и в теннис, и в городки, регулярно занимался гимнастикой, совершал пе-
шие прогулки. Все это помогло ему дожить до глубокой старости.
Рыкова и Угланова Молотов десять лет спустя не колеблясь отправит на смерть. А сменив в ноябре 1928 года Н.А. Угланова во главе Московской парторганизации, Вячеслав Михайлович провел ее основательную чистку от «углановцев» (правых).
На этом посту Вячеслав Михайлович пробыл недолго — только до апреля 1929 года. Как раз этого времени и должно было хватить, чтобы «перебрать людишек». Молотова прислали в Москву как опытного «чистильщика», поднаторевшего еще в борьбе с троцкистами. И с правыми он тоже не церемонился. Своих постов лишились 4 из 6 заведующих отделами Московского горкома, 4 из 6 секретарей райкомов, 99 из 157 членов Московского комитета. Подавляющее большинство из отправленных в отставку были в последующем расстреляны.
Любопытно, что на склоне лет Молотов нашел силы воздать должное Троцкому (но не Бухарину которого считал даже более опасным для дела социализма, чем Троцкий):
«У меня осталось до сих пор чувство такое, что первые месяцы Октябрьской революции Троцкий был хорош. Он выступал крепко, работал хорошо. Внутренне он и тогда, вероятно, был неустойчив, но подъем был такой большой... Он способный человек. И потом, карьера — это, так сказать, настраивало. И трибуна — он поднимается, так сказать, впервые. Немецкий знал, английский, и вообще язык был подвешен. Начитанный. Не случайно же Ленин сказал: наиболее выдающиеся — Троцкий и Сталин».
В беседах с Чуевым Молотов рассказал, как ему виделось отношение Ленина к другим членам Политбюро:
— У Ленина не было друзей в Политбюро. Но он нас всех сохранил — и тех и этих. Многие качались от него в разные стороны, а других-то не было. И другие еще неизвестно когда придут. Но в этом-то и сила Ленина, иначе он бы сам не удержался, и все дело рухнуло бы. Время было совсем другое. А мы нередко переносим наше время в ту эпоху или в 30—40-е годы и меряем сегодняшними мерками. Близкие отношения у Ленина были с Бухариным.
— В последние годы?
— Нет, пожалуй, в первые годы ближе были. Но он часто и запросто бывал на квартире Ленина и в Горках, обедал в семье. Наиболее квалифицированный теоретически, выше Зиновьева: тот больше оратор-журналист, а этот теоретик. Но оба с гонором были. Бухарин — очень самоуверенно себя вел, да и был крайне неустойчивым политически. Ленин назвал его «любимцем всей партии», но тут же сказал, что его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Вот вам и любимец! Да и до того Ленин его бил нещадно. А так Бухарин — добродушный, приятный человек. Со Сталиным у Ленина отношения были тесные, но в основном на деловой основе. Но Сталина он куда выше поднял, чем Бухарина! Да и не просто поднял — сделал своей опорой в ЦК. И доверял ему. Бухарин — ученый, литератор, по любым вопросам он выступал с большей или меньшей уверенностью, ну и авторитет был, нельзя отрицать.
— И сейчас популярен!
— И сейчас, конечно...
— Так вы из всей плеяды оппозиционеров выше всех Бухарина ставите?
— По теоретическому уровню — да.
— А Зиновьев, значит, ниже?
— Ниже, да. Бухарин более знающий. Зиновьев пытался теоретизировать, но — поверхностно. И с ним Сталин так обращался: «Я не знаю, читал ли товарищ Зиновьев Энгельса». Когда Зиновьев был уже в оппозиции, в 1925—1926 годах, он говорил: «Я стою на принципах коммунизма Энгельса». — «Я не знаю, — говорит Сталин, — читал ли эти принципы товарищ Зиновьев, я боюсь, что не читал, а если и читал, то, видимо, не понял»...
— Хитер был?
— Очень хитер, да... О Бухарине Ленин говорил: «Дьявольски неустойчив в политике». Дьявольски, да. Видно, что он любил Бухарина, хорошо к нему относился, но — «дьявольски неустойчив».
— Но ведь он, еше раз вспомним, его называл «любимцем партии»...
— Да, да. Бухарин по характеру был очень общительный человек и интересный, но вот — «дьявольски
неустойчив». Это видел не только Ленин, многие другие. Чувствуется, что Ленин его жалеет, а не может ничего ему уступить в идейной области. Бухарин действительно по характеру был очень мягкий, общительный, но старался в идейных вопросах держаться довольно последовательно, оппортунистически.
— В своем «завещании» Ленин каждого приложил сильно...
— Это точно. Но он не мог так просто, обывательски такие выводы давать, а связывал очень точно с содержанием, ненавязчиво, но связывал каждого. Каждый должен быть интересен по-своему.
Наверное, Молотов в душе радовался, что такие яркие личности, как Троцкий, Бухарин, Зиновьев, сломали себе шеи, а он сам, трудолюбивый бюрократ, которого вожди оппозиции держали за эталон серости, не только уцелел, но и стал вторым человеком в государстве. Бухарина же он не любил еще и потому, что тот развивал в народе потребительские инстинкты, с которыми невозможно строить социализм и неизбежно «буржуазное перерождение» партии. Неудивительно, что Молотов был решительным сторонником быстрой и насильственной коллективизации крестьянства, чтобы экспроприированный у крестьян хлеб пустить на нужды развития промышленности, прежде всего военной, а Бухарин был против такого рода коллективизации.
Вячеслав Михайлович до конца своих дней был убежден в необходимости коллективизации именно в том виде, в каком она была проведена в начале 30-х годов. Непосредственно перед коллективизацией и в первые годы ее осуществления Молотов выезжал на места — в Сибирь, на Украину, на Северный Кавказ, обеспечивал хлебозаготовки, следил за колхозным строительством. Даже на склоне лет он без тени сожаления вспоминал, как в конце 20-х годов выколачивал на Украине хлеб из крестьян:
«1 января 1928 года мне пришлось быть в Мелитополе по хлебозаготовкам. На Украине. Выкачивать хлеб... У всех, у кого есть хлеб. Очень нуждались — для рабочих и для армии. Все-таки тогда все это было еще частное. Поэтому надо было у частников взять... Собрался актив к вечеру, часов в пять. Я их накачиваю: «Давай хлеб! Сейчас такое время,
что надо нажать на кулака!» — речь как положено. Принимают резолюцию — обязать, выполнить план, направить... Крестьянский район, все они живут своим хозяйством... Хлеб отбирали, платили им деньги, но, конечно, по невысоким ценам. Им, конечно, невыгодно. Я им так и говорил, что пока нам крестьянин должен дать взаймы. Надо восстанавливать промышленность и армию не распускать... Вернулся в Москву. Совещание у Сталина наиболее активных деятелей. Я рассказал, как нажимал и прочее... После этого сам Сталин захотел поехать в Сибирь на хлебозаготовки».
Вячеслав Михайлович даже в конце жизни отрицал, что в период коллективизации был массовый голод: «Я считаю, что эти факты не доказаны». Хотя и заметил вскользь: «Нет, это преувеличение, но такие факты, конечно, в некоторых местах были. Тяжкий был год».
Интересно, что всего за каких-нибудь три недели до поездки на Украину Молотов, выступая на XV съезде партии 11 декабря 1927 года, заявил:
«Тот, кто теперь предлагает нам политику принудительного займа, принудительного изъятия 150—200 миллионов пудов хлеба хотя бы у десяти процентов крестьянских хозяйств, то есть не только у кулацкого, но и у части середняцкого слоя деревни, то, каким бы добрым желанием ни было это предложение проникнуто, тот враг рабочих и крестьян, враг союза рабочих и крестьян».
Сталин поддержал Молотова репликой с места: «Правильно!» Скорее всего, этот спектакль был предназначен для усыпления бдительности Бухарина и его сторонников, тогда как на самом деле Сталин уже принял решение перейти к принудительному отчуждению излишков хлеба и последующей коллективизации.
В 70-х годах Вячеслав Михайлович с гордостью говорил:
«Коллективизацию мы неплохо провели. Я считаю успех коллективизации значительней победы в Великой Отечественной войне. Но если б мы ее не провели, войну бы не выиграли. К началу войны у нас уже было могучее социалистическое государство со своей экономикой, промышленностью... Я сам лично размечал районы выселения кулаков... Выселили четыреста тысяч кулаков. Моя комиссия работала... Сталин говорил, что мы выселили 10 миллионов. На самом деле
мы выселили двадцать миллионов. Я считаю, что коллективизацию мы провели очень успешно».
В последние годы жизни Молотов считал, что колхозы надо постепенно превращать в совхозы, создавать крупные агропромышленные предприятия. Интересно, что у самого Сталина в последние годы жизни было прямо противоположное намерение. По свидетельству Хрущева, Иосиф Виссарионович заявил членам Политбюро, что убыточные совхозы (а таких было большинство) надо преобразовать в колхозы, поскольку колхозная форма хозяйствования, мол, эффективнее. Но никаких преобразований в этой сфере так и не осуществил.
Вячеслав Михайлович говорил Чуеву:
«Социализм есть уничтожение классов... А у нас — уничтожение эксплуататорских классов. Вот этого крестьянина берегут, колхозника. А его беречь нельзя, если хочешь счастья этому крестьянину. Его надо освободить от этих колхозов. И сделать его тружеником социалистической деревни. Вот эти сторонники крестьянского, демократии, они-то как раз реакционеры, они крестьянина этого в том виде, в каком он есть, хотят заморозить. Отупели в своем мелкобуржуазном мещанстве».
В принципе, если бы молотовская идея о превращении всех колхозов в совхозы осуществилась, ничего бы принципиально не изменилось. Рабочие совхозов, как прежде колхозники, трудились бы за гроши, да еще им бы грозило лишение приусадебных участков — ведь подавляющее большинство городских рабочих их не имело! В идеале Вячеслав Михайлович хотел видеть всех граждан, кроме узкого номенклатурного слоя, беззаветными социалистическими тружениками, чуждыми всяких «мелкобуржуазных» и «мещанских» предрассудков насчет материального благосостояния.
Он настойчиво повторял:
«Потребительство — это самое опасное. Если мы не разберемся в этом деле, попадем в очень трудное положение. И Сталин допустил ошибку в экономическом законе — о максимальном удовлетворении потребностей».
Зато сам Вячеслав Михайлович, как и другие члены Политбюро, по крайней мере в плане еды и напитков, ни в чем себе не отказывал, даже в то время, когда от голода умирали миллионы крестьян. О сталинских застольях Молотов с удовольствием вспоминал в беседах с Чуевым:
— Сталин много не пил, но в компании... Конечно, выпивал, как и все мы.
— Наверное, мог много выпить?
— Грузин. Он себя сдерживал, но все-таки пил иногда по-настоящему. Редко, редко. Я тоже мог...
— Сталин шампанское любил?
— Да, он шампанское любил. Его любимое вино. Он с шампанского начинал...
— Какие вина вы со Сталиным пили? Киндзмараули?
— Киндзмараули — мало. Вот тогда было...
— Цинандали?
— Не-е-ет, красные вина. Я пил цигистави, того района. А когда я недоливал, Берия говорил: «Как ты пьешь?» Пью, как все... Это кисленькое вино, а все пили сладкое... Как это называется... Ну, черт...
— Хванчкара?
— Нет. Хванчкару редко. Оджалеши тоже пили. Очень много. До войны.
— Цоликаури? — спрашивает Шота Иванович (Кванта-лиани, историк, друг Молотова. — Б. С.).
— Цоликаури! — вспомнив, восклицает Молотов... — Мы у Сталина не раз ели сибирскую рыбу — нельму. Как сыр, кусочками нарежут — хорошая, очень приятная рыба. Вкусная. В Сталине от Сибири кое-что осталось. Когда он жил в Сибири, был рыбаком, а так — не увлекался. Незаметно было, да и некогда.
Рыбу ели по-сибирски, мороженую, сырую, — с чесноком, с водкой, ничего, хорошо получалось. С удовольствием ели. Налимов часто ели. Берия привозил...
Берия часто приносил с собой мамалыгу, кукурузу. И особенно вот эти самые сыры. Сыр очень хороший. Ну, все мы набрасывались, нарасхват, голодные... Когда там обед, некогда, пообедаешь или нет...
Как утверждает Молотов, Берия, вопреки распространенному мнению, во время сталинских застолий пил водку наравне со всеми, чтобы не вызвать неудовольствия
Хозяина. О самом Лаврентии Павловиче Вячеслав Михайлович отозвался следующим образом:
«Талантливый организатор, но жестокий человек, беспощадный. Его другом был Маленков, а потом Хрущев к ним примазался. Разные, а есть кое-что и общее. Мне кажется, выпивать Берия не любил, хотя приходилось часто. Маленков тоже не любил. Вот Ворошилов — да. Ворошилов всегда угощал перцовкой.
Сталин много не пил, а других втягивал здорово. Видимо, считал нужным проверить людей, чтоб немножко свободней говорили. А сам он любил выпить, но умеренно. Редко напивался, но бывало. Бывало, бывало. Выпивши, был веселый, обязательно заводил патефон. Ставил всякие штуки. Много пластинок было... Русские народные песни очень любил, потом некоторые комические вещи ставил, грузинские песни... Очень хорошие пластинки... Жданов играл на рояле. Барабанил ничего. По-настоящему он не играл. Но способный. Видно, что на рояле он чувствовал себя свободно. Умел подобрать вещь...
Молотова можно было бы охарактеризовать теми же словами, что он сказал о Берии, — жестокий, беспощадный человек. А вот был ли Вячеслав Михайлович талантливым организатором — большой вопрос. Скорее — только талантливым и очень трудолюбивым исполнителем сталинской воли, а как организатор тому же Лаврентию Павловичу уступал на голову. Характерный пример — советский атомный проект, который в период, когда им руководил Молотов, стоял на мертвой точке, получил заметное ускорение лишь тогда, когда его возглавил Берия.
Молотов до конца своих дней любил хорошо поесть и выпить марочного вина. Чуев оставил нам меню одного обеда у Молотова: закуски — холодец, селедка, лук, масло. Первое блюдо — суп харчо. Второе блюдо — мясо с картошкой. Напитки — бутылка гурджаани, за которой 87-летний Молотов сам спустился в подвал.
Не только экспорт хлеба и другой сельхозпродукции был призван финансировать милитаризацию страны. 1 сентября 1930 года Сталин, указывая на необходимость увеличения численности Красной армии с 640 до 700 тыс. человек под тем предлогом, будто «поляки наверняка
создадут» антисоветский блок с Эстонией, Латвией и Финляндией, утверждал, что дополнительные средства на финансирование планируемого прироста вооруженных сил можно получить, если увеличить насколько возможно производство водки.
«Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и серьезной обороны страны (При этом Сталин не задумывался о том, что развитие массового пьянства явно понизит боевые качества армии и флота. — Б. С.). Стало быть, надо учесть это дело сейчас же, отложив соответствующее сырье для производства водки, и официально закрепить его в госбюджете 30—31 года... Серьезное развитие гражданской авиации тоже потребует уйму денег, для чего опять же придется апеллировать к водке».
Сказано — сделано. Уже 15 сентября 1930 года Политбюро постановило:
«Ввиду явного недостатка водки в городе и в деревне, роста в связи с этим очередей и спекуляции, предложить СНК СССР принять необходимые меры к скорейшему увеличению выпуска водки. Возложить нат. Рыкова личное наблюдение за выполнением настоящего постановления (для тяжелого алкоголика Рыкова это поручение, возможно, подсластило последовавшую вскоре отставку. — Б. С.). Принять программу выкурки спирта в 90 млн ведер в 1930/31 году».
К тому времени смещение Рыкова с поста главы правительства было уже предрешено. Еще 13 сентября Сталин писал Молотову о необходимости перемен в правительстве, а 22 сентября уже прямо предложил ему пост председателя Совнаркома:
«Вячеслав!
Мне кажется, что нужно к осени разрешить окончательно вопрос о советской верхушке. Это будет вместе с тем разрешением вопроса о руководстве вообще, так как партийное и советское переплетены, неотделимы друг от друга. Мое мнение на этот счет:
А) нужно освободить Рыкова и Шмидта (заместителя Рыкова. — Б. С.) и разогнать весь их бюрократический консультантско-секретарский аппарат;
Б) тебе придется заменить Рыкова на посту Председателя СНК и Председателя СТО. Это необходимо. Иначе — разрыв между советским и партийным руководством. При такой комбинации мы будем иметь полное единство советской и партийной верхушек, что, несомненно, удвоит наши силы...
Все это пока между нами. Подробно поговорим осенью. А пока обдумай это дело в тесном кругу близких друзей и сообщи возражения».
Предложение Сталина было сформулировано в директивной форме, и, естественно, никаких возражений со стороны Молотова не последовало.
Уже 8 октября 1930 года Ворошилов сообщил Сталину, что члены Политбюро единодушно решили сместить Рыкова и высказали пожелание: в целях «унифицирования руководства» «на СНК должен сидеть человек, обладающий даром стратега». В том же письме Климент Ефремович писал:
«Итак, я за то, чтобы тебе браться за всю “совокупность руководства” открыто, организованно. Все равно это руководство находится в твоих руках, с той лишь разницей, что в таком положении и руководить чрезвычайно трудно, и полной отдачи в работе нет».
Однако Иосиф Виссарионович не собирался пока становиться Председателем Совнаркома, хотя и не думал делиться властью с номинальным главой правительства, которого можно было снять в случае каких-либо провалов, возложив на него всю ответственность. В этих условиях Молотов мог быть только «техническим», но никак не политическим премьером.
На декабрьском пленуме 1930 года Рыкова вывели из Политбюро и освободили от должности Председателя Совнаркома, на которую 19 декабря был назначен Молотов.
Накануне пленума Сталин писал Горькому:
«15-го созываем пленум ЦК. Думаем сменить т. Рыкова. Неприятное дело, но ничего не поделаешь: не поспевает за движением, отстает чертовски (несмотря на желание поспеть), путается в ногах. Думаем заменить его Молотовым. Смелый, умный, вполне современный руководитель. Его настоящая фамилия не Молотов, а Скрябин. Он из Вятки. ЦК полностью за него».
Иосиф Виссарионович лукавил: он прекрасно знал, что как раз смелостью сын бывшего вятского приказчика никогда не отличался. Но в массах следовало создавать образ решительного руководителя, не боящегося ни трудностей, ни самого Сталина. На самом деле Коба больше всего ценил в нем трудолюбие, исполнительность и покорность его, Сталина, воле.
На посту председателя Совнаркома Молотов уделял особое внимание развитию военной промышленности. В начале 1930-х годов при СНК СССР была создана постоянная Комиссия обороны (с 1937 года — Комитет обороны) во главе с Молотовым. «Шла упорная подготовка к войне, но все учесть и успеть было просто невозможно, а страна работала без выходных, и струна напряжения и терпения у нашего народа была натянута до предела», — вспоминал Молотов.
В 1931 году возник конфликт ряда хозяйственников с председателем Госплана Куйбышевым, который пришлось, по поручению Сталина, гасить новому Председателю Совнаркома. 10 августа 1931 года Куйбышев подал на имя Кагановича, замещавшего Сталина в период отпуска, письмо с просьбой об отставке. Он ссылался на трудности, связанные с составлением планов на 1932 год и на вторую пятилетку, и, ссылаясь на болезнь, просил о полуторамесячном отпуске и переводе на менее сложную работу:
«Ввиду того что я явно не справляюсь с обязанностями руководителя Госплана, прошу освободить меня от этой работы, предоставив мне работу по моим силам (лучше было бы, если бы в области или районе)».
Сталин, до которого Каганович довел содержание куйбышевского письма, возмутился. «Тяжелое впечатление производит записка т. Куйбышева и вообще все его поведение. Похоже, что убегает от работы», — писал он Кагановичу. Иосиф Виссарионович не без оснований подозревал, что отпуск Куйбышев просит из-за очередного запоя и вообще писал письмо с тяжелого похмелья, когда не то что работать, но и жить не хочется. Вождь поручил Молотову разобраться с Куйбышевым.
14 августа 1931 года Вячеслав Михайлович писал Валериану Владимировичу:
«Т. Каганович прислал Кобе твое письмо в ЦК, и я читал его. Вижу, что с планами будущего года и будущей пятилетки дело идет медленнее, чем хотелось бы. Однако время, небольшое, мы еще имеем и, по-моему, то, что мы наметили, в частности, для работы комиссии по 1932 году, мы должны и можем сделать... Насчет твоего ухода из Госплана не может быть и речи. Уверен, что все будут решительно против. Этот хозяйственный год, год перестройки, имеет дополнительные трудности, но путь к их преодолению нащупан, и дело должно пойти вперед... Что тебе нужно, так это передышка. Это, по-моему, можно скоро осуществить, с первых чисел сентября. Итак, очень советую снять вопрос об уходе из Госплана и больше его вообще не подымать. Не такое сейчас время — надо вплотную взяться за улучшение Госплана. Мы должны тут тебе помочь, и я думаю, что дело с осени пойдет лучше, успешно».
Молотов писал языком вполне казенным, бюрократическим, хотя должен был подбодрить захандрившего товарища, а для этого стоило поискать какие-то человеческие слова. Впрочем, на этот раз все обошлось благополучно. Проспавшись и прочтя письмо Молотова, явно писавшего по поручению Сталина, Куйбышев передумал подавать в отставку, предпочтя уйти в отпуск, который и был предоставлен, как обещал Молотов, в сентябре. Кроме того, Молотов встал на его сторону в полемике с различными ведомствами по поводу контрольных плановых цифр.
Еще до убийства Кирова 1 декабря 1934 года в стране практиковались массовые репрессии во внесудебном порядке. Например, из-за неурожая на Украине были увеличены планы хлебозаготовок для Западной Сибири. В связи с этим по телеграмме Молотова из Новосибирска от 19 сентября 1934 года Политбюро предоставило секретарю Западносибирского крайкома Эйхе «право давать санкцию на высшую меру наказания в Западной Сибири в течение сентября и октября месяцев». Затем эти полномочия были продлены до 15 ноября.
Молотов стал одним из инициаторов постановления ЦИК и Совнаркома от 7 апреля 1935 года «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних». Еще 19 марта Ворошилов направил Сталину, Молотову и Калинину письмо, приложив к нему заметку из «Рабочей Москвы»
от 15 марта 1935 года, где, по словам Климента Ефремовича, иллюстрируются «те чудовищные факты, в которые у нас в Москве выливается хулиганство подростков», и «почти благодушное отношение судебных органов к этим фактам (смягчение приговоров наполовину и т. д.)». В заметке рассказывалось, как двое 16-летних подростков совершили два убийства, ранили еще трех человек, совершили несколько грабежей и за все свои преступления были осуждены на 10 лет заключения, причем срок из-за несовершеннолетия подсудимых был сокращен наполовину Ворошилов утверждал:
«Тов. Буль (начальник московской милиции, кончивший плохо, как и почти все чиновники НКВД его уровня. — Б. С.), с которым я разговаривал по телефону по этому поводу, сообщил, что случай этот не только не единичен, но что у него зарегистрировано до 3000 злостных хулиганов-подро-стков, из которых около 800 бесспорных бандитов, способных на все. В среднем он арестовывает до 100 хулиганствующих и беспризорных в день* которых не знает, куда девать (никто их не хочет принимать). Не далее как вчера 9-летним мальчиком ножом ранен 13-ти летний сын зам. прокурора Москвы т. Кобленца... Не только Буль, но также Хрущев, Булганин и Ягода заявляют, что они не имеют никакой возможности размещать беспризорных из-за отсутствия детдомов, а следовательно, и бороться с этой болячкой.
Думаю, что ЦК должен обязать НКВД организовать размещение не только беспризорных, но и безнадзорных детей немедленно и тем обезопасить столицу от все возрастающего «детского» хулиганства. Что касается данного случая, то я не понимаю, почему этих мерзавцев не расстрелять. Неужели нужно ждать, пока они вырастут еще в больших разбойников?»
Молотов поручил прокурору СССР А.Я. Вышинскому подготовить проект соответствующего постановления для обсуждения на Политбюро. 29 марта прокурор прислал Молотову текст проекта, первый пункт которого гласил: «К несовершеннолетним, уличенным в совершении систематических краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий и т. п., применять, по усмотрению суда, как меры медико-педагогического воздействия, так и меры уголовного наказания».
Сталину подобная умеренность не понравилась, и он поправил Вышинского и Молотова. В окончательном виде первый пункт приобрел следующий вид: «Несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, уличенных в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве и попытке к убийству, привлекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного воздействия». А уже 20 апреля Политбюро разослало секретное разъяснение органам суда и прокуратуры о том, что к несовершеннолетним начиная с 12-летнего возраста можно применять высшую меру наказания — смертную казнь.
Сталин и его коллеги по Политбюро знали, что скоро предстоит Великая Чистка, в ходе которой число безнадзорных и беспризорных сирот за счет детей, чьи родители окажутся в лагерях, возрастет на порядок. Надо будет их куда-то убирать с городских, и особенно столичных, улиц. Детских домов уже сегодня не хватает, а что же будет завтра? Зато есть НКВД с тюрьмами и лагерями, или, на крайний случай, колониями-поселениями. Вот и надо будет помещать туда новых беспризорников, а убийц и злостных хулиганов можно и расстрелять. Поскольку дети, оставшиеся без средств к существованию, наверняка будут воровать, всегда появится повод упрятать их в ГУЛАГ.
После убийства Кирова масштабное уничтожение «врагов народа» развернулось не сразу. Важным подготовительным этапом к началу Великой Чистки стали решения Политбюро от 13 мая 1935 года. В этот день были образованы две комиссии Политбюро. Оборонная комиссия должна была руководить подготовкой страны к будущей войне. Первоочередными противниками признавались Германия и Японця, второочередными — Англия и Франция. В состав комиссии вошли Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович и Орджоникидзе. А для подготовки ликвидации «врагов народа» была создана Особая комиссия безопасности в составе Сталина, Жданова, Ежова, Шки-рятова, Маленкова и Вышинского.
Впрочем, состав комиссий был достаточно условным. То, что Вячеслав Михайлович не вошел в состав комиссии по безопасности, нисколько не умалило его роль в развертывании репрессий и не помешало ему стать настоящим
чемпионом среди членов Политбюро по числу завизированных расстрельных списков.
На том же заседании 13 мая 1935 года Политбюро решило провести две проверки членов партии. Гласную — парт-документов через парткомы, а негласную — политического лица каждого члена партии через органы НКВД. Политбюро обратилось с закрытым письмом к членам партии с призывом «повышать большевистскую бдительность» и «беспощадно разоблачать и ликвидировать врагов народа».
На февральско-мартовском пленуме 1937 года, на котором был дан старт Великой Чистке, Сталин заявил: «Старые вредители — это открытые классовые враги, а нынешние вредители — это большей частью люди партийные, с партбилетами в кармане, стало быть, люди формально не чужие». Он потребовал искать врагов народа среди «своих». И утверждал: «Вредительская и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств задела в той или иной степени все или почти все наши организации, как хозяйственные, так и административные, и партийные».
Молотов выступил на пленуме с докладом, имевшим весьма выразительное название — «Уроки вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецких, троцкистских агентов». В нем он призвал людей... к радости:
«Мы должны радоваться тому, что разоблачили врага в момент, когда идет подготовка к новым боям, еще до начала этих боев. Мы должны торопиться доделать это дело, не откладывая его и не проявляя колебаний. Мы обязаны ответить ударом на удар, громить везде на своем пути отряды этих лазутчиков». И подчеркнул: «Особенность разоблаченного ныне вредительства заключается в том, что здесь использованы были наши партийные органы, использован был партийный билет для того, чтобы организовать вредительские дела в нашем государственном аппарате, в нашей промышленности... Нечего искать обвиняемых, товарищи. Если хотите, мы все здесь обвиняемые, начиная с центральных учреждений партии и кончая низовыми организациями... Особая опасность теперешних диверсионно-вредительских организаций заключается в том, что эти вредители, диверсанты и шпионы прикрываются партийными билетами».
Из доклада Молотова следовало, что вредительством были вызваны аварии на заводах и фабриках, взрывы цехов, агрегатов и коллекторов, обвалы газопроводов, массовая порча механизмов, подземные обвалы в рудниках, дискредитация стахановского движения, массовый выпуск бракованной продукции, создание тяжелых бытовых условий для рабочих, задержка выплаты зарплаты и даже массовое отравление рабочих газами. По словам Молотова, «нередко эти инциденты рассматривались судами как нарушения правил техники безопасности или как должностные преступления, хотя за подобными фактами могли скрываться намного более серьезные преступления. И это в то время, когда нельзя было терпеть даже незначительные нарушения, ибо они часто служили подготовкой для более крупных вредительских и иных акций».
Молотов утверждал:
«Шахтинское дело сыграло исключительно положительную роль, когда партия взялась выправлять недостатки, вскрытые Шахтинским делом, и развернула более широкую борьбу за дальнейшие успехи нашего строительства».
В 1928 году Молотов входил в состав комиссии Политбюро, которая определила, как будет проходить процесс по «шахтинскому делу», кто будет на скамье подсудимых и кто какой приговор получит. В ходе процесса, проходившего в мае — июле 1928 года, 53 инженера были ложно обвинены в организации взрывов и других вредительских актов на шахтах Донбасса. Пятерых из подсудимых расстреляли. Вскоре после процесса арестовали около двух тысяч «буржуазных спецов».
Молотов указывал в докладе, что во главе Уралвагон-строя стоял «активнейший вредитель Марьясин, который потом признался во всех этих делах, и в течение длительного периода секретарем партийного комитета на Уралва-гонстрое был вредитель троцкист Шалико Окуджава (отец поэта. — Б. С). Это была сбитая группа. Явно, что они сделали немало вредительских актов против нашего государства. Но как понять в свете всего этого такой факт, что уже в феврале месяце этого года по поручению Наркомтяжпро-ма выезжала комиссия для проверки вредительских дел на Уралвагонстрой, которая... констатирует: “Вредительская
работа на стройке не получила большого развития...” И они указывают, почему они приходят к этому выводу. Но пока они ездили в феврале месяце туда, Марьясин тут дал новые показания, более конкретные, и они не совпадают с этими выводами. Как же тут понять?.. Нельзя ли, товарищи из Наркомтяжпрома, еще раз проверить и Марья-сина, и комиссию, которая ездила на место?»
Молотовский пассаж служил недвусмысленным предупреждением партийным и хозяйственным руководителям о недопустимости ставить под малейшее сомнение правдивость самооговоров, полученных в застенках НКВД.
Комментируя это место в докладе Молотова, Троцкий писал:
«Читая, не веришь глазам! Эти люди утратили не только стыд, но и осторожность... Доследование “фактов вредительства” понадобилось, очевидно, потому, что общественное мнение не верило ни обвинениям, выдвинутым ГПУ, ни исторгнутым им показаниям. Однако комиссия под руководством Павлуновского, бывшего долголетнего работника ГПУ, не обнаружила ни одного факта саботажа».
Павлуновскому жить оставалось совсем немного. Близкий соратник опального Орджоникидзе, заместитель наркома тяжелой промышленности, бывший чекист Иван Петрович Павлуновский был расстреляй 30 октября 1937 года.
10 сентября 1937 года Сталин и Молотов направили секретарям компартий республик, обкомов и крайкомов, а также председателям республиканских совнаркомов, крайисполкомов и облисполкомов шифротелеграмму о вредительстве в зерновом хозяйстве. Она предписывала организовать в каждой области по районам два-три показательных процесса над вредителями в этой сфере, «приговорить виновных к расстрелу, расстрелять их и опубликовать об этом в местной печати».
Уже 2 октября 1937 года Сталин и Молотов направили новую шифровку, предписывавшую провести «по каждой республике, краю, области от 3 до 6 показательных процессов с привлечением крестьянских масс и широким освещением процесса в печати, приговорив осужденных к высшей мере наказания в связи с вредительством и бак-
териологическими диверсиями в животноводстве, приведшими к массовому падежу скота». То, что сокращение поголовья стало следствием коллективизации, власть признать не могла.
Вот что говорил Молотов по поводу женщины, которой он предлагавшиеся десять лет заключения заменил расстрелом:
— Такой случай был... Я имел этот список и поправлял его. Внес поправку.
— А что за женщина, кто она такая? — осведомился Чуев.
— Это не имеет значения, — отмахнулся Молотов.
— Почему репрессии распространялись на жен, детей? — интересовался поэт.
— Что значит — почему? Они должны были быть в какой-то мере изолированы. А так, конечно, они были бы распространителями жалоб всяких...
Из 1 600 000 человек, арестованных в 1937—1938 годах по политическим обвинениям, коммунистов, считая и вычищенных к тому времени из партии, было лишь 130 тысяч.
По поводу истребления кадров коммунистической эмиграции в СССР в 30-х годах Молотов на склоне лет рассуждал с удивительным спокойствием:
«Бела Кун едва ли был троцкист. Что послужило причиной его гибели? Думаю, он был не совсем устойчивый. В период революционного подъема он очень хорош. А уже в 30-х годах... Его компания... Был представителем Венгерской компартии в Москве. Многих тогда убрали. Много было таких, конечно, старые социал-демократы. Польских много было убрано...»
N
В общем, подписал в свое время расстрельный список на представителей братских компартий, а за что их убрали, толком и не помнит. Хотя Молотов и признавал, что «и ошибки были, и жертвы были», но, если бы Сталин не победил во внутрипартийной борьбе, жертв было бы больше. Он прямо признавался в беседах с Чуевым, что подписывал расстрельные списки большей частью на «крупных лиц» (как правило, номенклатуру Политбюро и ЦК).
В 1970 году Молотов говорил:
«1937 год был необходим. Если учесть, что мы после революции рубили направо-налево, одержали победу, но остатки врагов разных направлений существовали, и перед лицом грозящей опасности фашистской агрессии они могли объединиться. Мы обязаны тридцать седьмому году тем, что у нас во время войны не было «пятой колонны». Ведь даже среди большевиков были и есть такие, которые хороши и преданны, когда все хорошо, когда стране и партии не грозит опасность. Но если начнется что-нибудь, они дрогнут, переметнутся. Я не считаю, что реабилитация многих военных, репрессированных в тридцать седьмом, была правильной. Документы скрыты пока, со временем ясность будет внесена. Вряд ли эти люди были шпионами, но с разведками связаны были, а самое главное, что в решающий момент на них надежды не было».
Чуев заметил: «обидно, что погибли хорошие». Молотов хладнокровно парировал:
«Такое острое дело... В острой такой борьбе, в такой сложной, которая проводилась руками не всегда проверенных лиц, иногда, может быть, злостно помогавших уничтожению хороших людей, и такие были, безусловно.
Это, знаете ли, очень сложно проверить. В этом опасность государства, особенно государства диктатуры пролетариата, всякой диктатуры — она требует жесткой дисциплины, непримиримой. А через кого проводили мы это? Через людей, которые не всегда этого хотят, а в душе даже очень противятся этому, а если почувствуют опасность, они перегнут палку, чтобы выслужиться и карьеру сохранить. И через таких людей очень и очень многие дела делаются, потому что нет готовых, чистеньких таких, очищенных от всех грехов людей, которые бы проводили политику очень сложную, трудную, сопряженную со всякими неясными моментами. Проверят — не проверят, а сама проверка не всегда подходяща бывает... Устроить чистку партии — это опасно очень. И начнут чистить лучших. Вычистят многих, которые честно, прямо говорят, а те, которые все шито-крыто держат, за начальством готовы выслуживаться, те сохранят свои позиции...
Социализм требует огромного напряжения сил, в том числе и жертв. Здесь и ошибки. Но мы могли бы иметь гораздо больше жертв во время войны и даже дойти до пора-
жения, если бы задрожало руководство, если бы в нем, как трещины и щели, появились разногласия. Если бы сломили верхушку в тридцатых годах, мы были бы в труднейшем положении, во много раз более трудном, чем оказались.
Я несу ответственность за эту политику и считаю ее правильной. Я признаю, я всегда говорил и буду говорить, что были допущены крупные ошибки и перегибы, но в целом политика была правильной. Все члены Политбюро, в том числе и я, за ошибки несут ответственность. Но есть тенденция, что большинство осужденных невинно пострадало. В основном пострадали виновные, которых нужно было в разной степени репрессировать».
Трудно сказать, каким образом можно было бы потерять в войне больше. По моим оценкам, общие потери населения СССР в Великой Отечественной войне составили более 43 миллионов человек, в том числе армия лишилась свыше половины всех мобилизованных.
Вячеслав Михайлович сетовал, что приходилось работать «с такими гадами, как Ягода», которые «нарочно нам подсовывали, и невинные попадались. Девять там, восемь, скажем, правильно, а два или один — явно неправильно. Ну, разберись во всем этом! А откладывать было нельзя. Война готовится. Вот ведь как». Себя самого он конечно же гадом не считал.
О Ежове Вячеслав Михайлович отзывался мягче, чем о Ягоде:
«Ежов — дореволюционный большевик, рабочий. Ни в каких оппозициях не был. Несколько лет был секретарем ЦК. Работал в аппарате ЦК довольно долго. Первым секретарем Казахстанского обкома. Хорошая репутация. Что он мог подразложиться, это я не исключаю... Наломал дров и перестарался... Когда человек держится за место и старается... Вот это и называется карьеризм».
А на слова Чуева: «Говорят, такие, как Сталин, Молотов, только себя считали ленинцами, а других — нет» — Вячеслав Михайлович заявил: «Но выхода другого не было. Если бы мы не считали себя ленинцами и не нападали бы на тех, которые колебались, тогда могли бы ослабиться...»
Молотов утверждал:
«Я отвечаю за все репрессии, как Председатель Совмина... Я отвечаю за всех. Поскольку я подписывал под большинством, почти под всеми... Конечно, принимали решение. Ну а в конце концов по доверию ГПУ, конечно. Спешка была. Разве всех узнаешь? Надо помнить о том, что в аппарате того же НКВД было немало правых. Ягода правый насквозь. Ежов другого типа. Ежова я знал очень хорошо, лучше Ягоды. Ягода тоже дореволюционный большевик, но не из рабочего класса... Политическая есть разница. Что касается Ягоды, он был враждебным по отношению к политике партии. Ежов не был враждебным, он перестарался — Сталин требует усилить нажим... Он не из подлых чувств. И остановить невозможно. Где тут остановить? Разобраться. А разбирались зачастую те же правые или троцкисты».
Рудзутака, по мнению Молотова, расстреляли за то, что он больше любил отдыхать, чем работать, и на отдыхе, вероятно, водил неподходящую компанию:
«Я думаю, что он не был сознательным участником (заговора. — Б. С.)... Бывший каторжник, четыре года на каторге был... Но к концу жизни — у меня такое впечатление сложилось, когда он был у меня уже замом, он немного уже занимался самоублаготворением... Вот эта склонность немножко к отдыху и занятиям, которые связаны с отдыхом... обывательщиной такой увлекался — посидеть, закусить с приятелями, побыть в компании — неплохой компаньон... Трудно сказать, на чем он погорел, но я думаю, на том, что вот компания у него была такая, где беспартийные концы были бог знает какие... А Сталин хорошо относился к Рудзутаку... И расстрелял... Но я за него не мог вполне поручиться, что он честно вел себя. Дружил с Антиповым, Чубарем».
Кстати, одним из поводов для расправы с Рудзутаком и рядом других высокопоставленных номенклатурщиков могло послужить их неумеренное, по мнению Сталина, стремление к материальным благам. Так, 3 февраля 1938 года Политбюро утвердило совместное постановление ЦК и Совнаркома об ограничении размеров дач ответственных работников, поскольку «ряд арестованных заговорщиков (Рудзутак, Розенгольц, Антипов, Межлаук, Карахан, Ягода идр.) построили себе грандиозные дачи-дворцы в 15—20
и больше комнат, где они роскошествовали и тратили народные деньги, демонстрируя этим свое полное бытовое разложение и перерождение».
Насчет политических процессов Молотов утверждал: «Что-то правильно, что-то неправильно. Конечно, разобраться в этом невозможно. Я не мог сказать ни за, ни против, хотя никого не обвинял. Чекисты такой материал имели, они и расследовали... Было и явное преувеличение. А кое-что было и серьезно, но недостаточно разобрано и гораздо хуже можно предполагать».
По поводу своего друга Аросева заметил: «Пропал в 1937-м. Преданнейший человек. Видимо, неразборчивый в знакомствах. Запутать его в антисоветских делах было невозможно. А вот связи... Трудность революции».
На вопрос Чуева:
— Вы не знали об этом?
Молотов ответил:
— Как не знал, знал!
— А нельзя было вытащить его? — осведомился Чуев.
— А вытащить невозможно, — сказал, как отрезал, Вячеслав Михайлович.
— Почему?
Молотов наставительно пояснил:
— Показания. Как же я скажу? Мне давайте, я буду допрос, что ли, вести? Невозможно.
— А кто добыл показания? — спросил Чуев.
— Черт его знает! — в сердцах ответил Молотов.
— Может, сфабриковано все это было? Враги-то тоже работали, — ухватился за спасительную версию о происках врагов Чуев.
— Безусловно, — радостно подтвердил Молотов. — Работали, безусловно работали. И хотели нас подорвать.
Но тут Феликс задал бестактный вопрос:
— Вы Аросева хорошо знали, преданный человек. Такие вещи не совсем понятны.
Молотов почувствовал здесь намек: «Хорошо, мол, знал друга, считал его человеком преданным партии, а не заступился за него». И Вячеслав Михайлович поспешил перевести стрелки:
— Вот непонятно, а это очень сложное дело, очень. Мою жену арестовали, а я был член Политбюро.
— Выходит, тогда Сталин виноват в таких вещах? — настаивал Чуев.
— Нет, нельзя сказать, что Сталин... — промямлил Молотов.
— Ну а кто же? — продолжал напирать Чуев.
— Без него, конечно, не могли, — сдался Молотов. — У него было сложное положение, и столько вокруг него было людей, которые менялись...
— Вы знали, Сталин знал с положительной стороны, а человек пропал... — продолжал сокрушаться Чуев.
— В этом смысле была очень жесткая линия, — только и нашел что сказать Вячеслав Михайлович.
— А в чем Аросев провинился?
— Он мог провиниться только в одном: где-нибудь какую-нибудь либеральную фразу бросил, — неуверенно предположил Молотов.
— Мало ли что мы говорим, — заметил Чуев, который и сам в беседах с Молотовым в выражениях не стеснялся.
— Мог за бабой какой-нибудь, а та... Шла борьба.
Молотов не захотел признаться в том, что попросту струсил. Боялся последовать вслед за другими, собственную жизнь выкупал головами тех, кого включал в списки на расстрел. Кстати, многочисленные письма к Молотову с просьбой защитить от репрессий, как правило, оставались без ответа. Вернее, Вячеслав Михайлович мог порой по доброте душевной как-то облегчить участь родственников репрессированных — например, распорядиться вернуть конфискованное пианино девочке, чей отец был отправлен в ГУЛАГ. Но вот чтобы вытащить кого-то из ГУЛАГа или из внутренней тюрьмы на Лубянке (если человек еще только был под следствием) — такого за Вячеславом Михайловичем не числится. Это значило — поставить под сомнение деятельность органов НКВД, а Молотов смертельно боялся, что при случае ему могут припомнить поддержку «врагов народа» — со всеми вытекающими для Председателя Совнаркома пренеприятнейшими последствиями. Потому и за соратника по первым годам подполья не заступился, и жену не стал защищать, а послушно развелся с ней.
Насчет такой линии поведения он однажды проговорился Чуеву:
«Ленин тоже допускал ошибки и признавал. Сталин сказал, что можно построить коммунизм в одной стране. Это, конечно, противоречит марксизму-ленинизму. На XVIII съезде. Я и тогда был против этого, но промолчал. А как сделать? Просто меня бы как пушинку вышибли, все — ура, ура! — всем хочется коммунизма. Сталин хотел показать, что он шаг вперед делает».
Что и говорить, Вячеславу Михайловичу очень не хотелось сгинуть на Лубянке. Вот он и подписывал безропотно тысячи и тысячи смертных приговоров и до конца жизни уверял себя и окружающих, что Тухачевский, Ягода, Бухарин и другие жертвы политических процессов были настоящими заговорщиками. Может, и сам верил в это. А может, просто прятал свой страх.
А в беседе с внуком Сталина Евгением Джугашвили Молотов заметил:
«1937 год — без него бы мы тоже не могли обойтись. Поставьте у власти самых святых людей, и пусть бы они прошли так, одними разговорами мимо этих периодов, ничего бы у них не вышло, развалилось бы все. Тут без жестких мер против ярых врагов не обойтись. Но попало и не врагам».
Вячеслав Михайлович в одной из бесед с Чуевым честно признался:
«Нет, я никогда не считал Берию главным ответственным (за репрессии, как и Ежова. — Б. С.), а считал всегда ответственным главным Сталина и нас, которые одобряли, которые были активными, а я все время был активным, стоял за принятие мер. Никогда не жалел и никогда не пожалею, что действовал очень круто».
Молотову претила трусливая тактика валить все на Ежова и Берию, которой придерживался ранний Хрущев — не только до «секретной речи» на XX съезде, но, в какой-то степени, по крайней мере на публике, — вплоть до XXII съезда партии. Он всегда утверждал, что инициатором репрессий был Сталин, сам он играл вторую по значению роль, а репрессии эти были справедливы и необходимы, хотя иной р£з и страдали невиновные. Но... лес рубят, щепки летят. Вот только -сам Вячеслав Михайлович никак не хотел превращаться в щепку.
Великая Чистка не обошла стороной и окружение Молотова. 17 августа 1937 года был снят с работы заведующий секретариатом Молотова А.М. Могильный. Вскоре он погиб в лифте при до конца не выясненных обстоятельствах. А 28 августа был смещен помощник Молотова М.Р. Хлускер.
Два года спустя Сталин посадил Молотова на еще более прочный крючок. 10 августа 1939 года Политбюро приняло секретное постановление (под грифом «особая папка») о том, что нарком рыбной промышленности П.С. Жемчужина «проявила неосмотрительность и неразборчивость в отношении своих связей, в силу чего в окружении тов. Жемчужиной оказалось немало враждебных шпионских элементов, чем невольно облегчалась их шпионская работа». Политбюро потребовало «провести тщательную проверку всех материалов, касающихся т. Жемчужиной» и «в порядке постепенности» отрешить ее от должности наркома. Между тем Жемчужина возглавила Наркомат рыбной промышленности только в начале 1939 года (до этого она руководила Наркоматом пищевой промышленности), а совсем недавно, в марте 39-го, была избрана на XVIII съезде партии кандидатом в члены ЦК. В результате проверки в НКВД были получены показания о причастности Жемчужиной к «вредительской и шпионской работе».
24 октября 1939 года вопрос о Жемчужиной вновь рассматривался на Политбюро. По инициативе Сталина было принято постановление, в котором наиболее опасные обвинения с жены Молотова были сняты и названы «клеветническими». Полине Семеновне инкриминировали только «неосмотрительность и неразборчивость» в связях. На основании этого 21 ноября 1939 года она была освобождена от поста наркома рыбной промышленности и назначена начальником Главного управления текстильно-галантерейной промышленности Наркомата легкой промышленности РСФСР.
В феврале 1941 года на XVIII конференции ВКП(б) Жемчужина была выведена из числа кандидатов в члены ЦК. Само по себе это не было наказанием — просто начальнику главка Наркомата легкой промышленности состоять в ЦК было не по чину. Но Молотов демонстративно воздержался при голосовании по этому вопросу. Тем более
что в свое время возражал против назначения Полины наркомом — опасался, что с большой высоты будет больнее падать, и догадывался, что друг Коба, да и просто недоброжелатели поспешат в случае чего использовать любую ее оплошность против него. Жемчужина же, услышав о своем исключении из кандидатов в члены ЦК, прямо в зале заседаний забилась в нервном припадке, и Молотову пришлось силой разжимать зубы жены, чтобы влить ей в рот лекарство.
Сталин несколько раз демонстративно отвергал на Политбюро некоторые предложения Молотова по хозяйственным вопросам, чтобы показать, что лиц, не подлежащих критике, в Политбюро нет. А по поводу доклада Вячеслава Михайловича на XVIII съезде партии 14 марта 1939 года о третьем пятилетием плане Политбюро на следующий день по инициативе Сталина приняло специальное постановление. В нем говорилось:
«Признать неправильным, что т. Молотов в своем докладе... не остановился на итогах дискуссии и на анализе основных поправок и дополнений к тезисам. Предложить т. Молотову исправить это положение».
В заключительном слове на съезде Молотов вынужден был изложить основное содержание предсъездовской дискуссии по пятилетнему плану. Подобного рода публичные порки (пусть и для узкого круга соратников) Иосиф Виссарионович устраивал Вячеславу Михайловичу неоднократно, чтобы тому служба медом не казалась. И чтобы Молотов и все остальные помнили, что расстрелять их можно в любой момент.
Жемчужина, возможно, уже тогда навлекла на себя гнев вождя тем, что покровительствовала еврейской интеллигенции. Говорили, что не без ее содействия Соломон Михоэлс в 1939 году был удостоен звания народного артиста СССР. Она не раз бывала по служебным делам за границей и, почти как всякая другая еврейка, имела там родственников. Так, осенью 1936 года она побывала в США, где, согласно некоторым предположениям, будто бы выполняла личное поручение Сталина пролоббировать с помощью своего брата Сэма Карпа, жителя Нью-Йорка, заказ на строительство для СССР двух линкоров стоимостью 200 миллионов долларов.
При- желании сфабриковать шпионское дело с участием Жемчужиной можно было проще простого.
То, что сажали и расстреливали оппозиционеров, кулаков, бывших белогвардейцев, такой убежденный сталинист, как Феликс Чуев, еще мог понять и принять. Готов он был поверить и в какой-то заговор Тухачевского и других военных. Но репрессии против выдающихся ученых, конструкторов вооружения и боевой техники ставили его в тупик. На вопрос Чуева: «Почему сидели Туполев, Стечкин, Королев?» — Молотов ответил:
«Много болтали лишнего. И круг их знакомств, как и следовало ожидать... Они ведь не поддерживали нас... В значительной части наша русская интеллигенция была тесно связана с зажиточным крестьянством, у которого проку-лацкие настроения, страна-то крестьянская. Тот же Туполев мог бы стать и опасным врагом. У него большие связи с враждебной нам интеллигенцией. И если он помогает врагу и еще благодаря своему авторитету втягивает других, которые не хотят разбираться, хотя и думает, что это полезно русскому народу... А люди попадают в фальшивое положение. Туполевы — они были в свое время очень серьезным вопросом для нас. Некоторое время они были противниками, и нужно было еще время, чтобы их приблизить к советской власти. Иван Петрович Павлов говорил студентам: “Вот из-за кого нам плохо живется!” — и указывал на портреты Ленина и Сталина. Этого открытого противника легко понять. С такими, как Туполев, сложнее было. Туполев из той категории интеллигенции, которая очень нужна Советскому государству, но в душе они — против, и по линии личных связей они опасную и разлагающую работу вели, и даже если не вели, то дышали этим. Да они и не могли иначе!
Что Туполев! Из ближайших друзей Ленина ни одного в конце концов не осталось достаточно преданного Ленину и партии, кроме Сталина. И Сталина Ленин критиковал. Теперь, когда Туполев в славе, — это одно, а тогда ведь интеллигенция отрицательно относилась к советской власти! Вот тут надо найти способ, как этим делом овладеть. Туполевых посадили за решетку, чекистам приказали: обеспечивайте их самыми лучшими условиями, кормите пирожными, всем, чем только можно, но не выпускайте! Пускай работают, конструируют нужные стране военные вещи. Это нужнейшие люди. Не пропагандой, а своим личным влия-
нием они опасны. И не считаться с тем, что в трудный момент они могли стать особенно опасны, тоже нельзя. Без этого в политике не обойдешься. Своими руками они коммунизм не смогут построить».
Туполева Молотов подозревал в том, что он был связан с эмигрантскими комитетами во Франции и Германии.
Надо признать, что Сталин и Молотов блестяще справились с этой непростой задачей — запугиванием и приручением интеллигенции. Тех из интеллигентов, которых сочли особо опасными, расстреляли, менее опасных отправили в лагеря, а тех, которым не доверяли, но от услуг которых нельзя было отказаться, в частности конструкторов вооружений и военной техники, посадили в «шарашки» — специальные тюремные НИИ и КБ в системе НКВД, где ученые и конструкторы ударным трудом могли заслужить себе прощение и возвращение утраченных материальных благ и публичной славы. Кроме того, отрыв от семьи и полная закрытость «шарашек» гарантировали секретность военных разработок.
Касаясь в беседе с Феликсом Чуевым культа личности Сталина (не в хрущевском понимании, как эвфемизма репрессий, а в общепринятом — как возвеличивания фигуры вождя), Молотов заявил, что Иосиф Виссарионович сначала «боролся со своим культом, а потом понравилось немножко...». Со своим же собственным культом, разумеется гораздо меньшего размера, Молотов даже не пробовал бороться, поскольку этот культ исходил от Сталина, строго дозировавшего уровень славословий в адрес всех членов Политбюро. Спорить же с вождем Молотов опасался — вдруг за этой скромностью Молотова Сталин заподозрит скрытое неодобрение своего, сталинского, культа.
Во время Великой Чистки Молотов удостоился и своего покушения, будто бы совершенного на него «врагами народа». В сентябре 1934 года он предпринял поездку по промышленным и горнорудным районам Сибири. Вот что пишет об этом случае историк Николай Зенькович:
«Передвигался Молотов из города в город в основном на автомобильном транспорте. Конечно, на самолете было бы быстрее. Но после гибели видного партийного деятеля Мясникова в авиационной катастрофе в середине двадцатых годов Сталин провел через Политбюро строгое
5 Соколов
решение, запрещавшее членам ЦК и другим крупным руководителям пользоваться самолетами. В те годы это был ненадежный вид транспорта, аэропланы часто падали, пассажиры гибли...
При выездах на приличное расстояние от Москвы кремлевский транспорт, как правило, к месту командировки высоких лиц заранее не доставлялся. Это правило появилось значительно позже — при Хрущеве. Обычно кремлевские начальники,, даже такого высокого ранга, как Молотов, пользовались тем транспортом, который предоставлялся им на месте. Безусловно, подавались машины самого лучшего класса, на которых ездили первые лица областей и городов.
Водители были тоже местные, возившие своих начальников. С точки зрения обеспечения безопасности прибывших представителей Центра это был не лучший вариант, но других возможностей в ту пору не было. Да и гонять за тридевять земель бронированные «паккарды» со своими водителями еще не осмеливались по причине боязни прослыть буржуазными перерожденцами.
Вот и двинулся товарищ Молотов на предоставленной ему радушными хозяевами кузбасского города Прокопьевска порядком изношенной машине на встречу с тружениками одной из шахт. Сибирские горняки хорошо приняли столичного гостя — внимательно слушали, расспрашивали о положении в стране и мире. Им импонировало, что к ним, на отдаленную шахту, приехал сам Председатель Совета народных комиссаров.
После окончания встречи шахтеры тепло проводили Молотова к машине. Он тоже уезжал довольный — люди понимали, что от них требуется, и не просили сверх того, чего власть пока им не могла дать.
А на обратном пути в Прокопьевск едва не случилось непоправимое.
Автомобиль с Молотовым внезапно свернул с дороги и покатился с насыпи. Она была довольно высокая. Автомобиль потерял устойчивость и опрокинулся.
Молотов почувствовал, что их неудержимо тянет вниз. Он обреченно закрыл глаза. Сзади послышались крики и ругань. Это сопровождавшие его лица выражали свое отношение к водителю.
Когда спустя какое-то мгновение Молотов открыл глаза и выглянул из машины сквозь лобовое стекло, он похолодел от ужаса — автомобиль висел над самым краем глубокого придорожного оврага. Почему он замер и не скатился в пропасть — одному Богу известно. Впрочем, член Политбюро Молотов был атеистом.
Опрокинувшуюся машину с помощью шахтеров, разъезжавшихся на грузовиках после встречи по домам, кое-как оттащили от опасного места и вновь поставили на колеса. От сильного удара начальственное транспортное средство имело весьма удручающий вид и не заводилось. Молотова пересадили в фанерную кабину грузовой полуторки и доставили в Прокопьевск. Председатель Совнаркома чудом избежал смерти. Свались машина в пропасть — все, пиши пропало. Глубина оврага такая, что хоть в кино снимай».
Шофер, Валентин Арнольд, заведовавший гаражом «Кузбасстроя», получил выговор за халатность, но потом обратился с письмом к Молотову, и по ходатайству Вячеслава Михайловича взыскание было снято. А в 1938 году Арнольда вместе с другими троцкистами благополучно расстреляли.
Молотов же и на склоне лет убеждал Чуева, что покушение действительно замышлялось, просто шофер в последний момент дрогнул.
Одно из первых осуждений «врагов народа» списком Политбюро предприняло вскоре после убийства Кирова во время так называемого «кремлевского дела» 1935 года, когда были осуждены по обвинению в заговоре сотрудники кремлевских служб, а А.С. Енукидзе, в чьем ведении они находились, был исключен из партии за «политическое и бытовое разложение» и отправлен в ссылку в Харьков директором областного автотреста.
4 октября 1936 года список на 585 «участников контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации» по представлению Ежова был одобрен Молотовым, Кагановичем, Постышевым, Андреевым и самим Ежовым (Сталин в тот момент отдыхал в Сочи). С этого момента и вплоть до конца 1938 года расстрелы списком стали для Политбюро обыденным, повседневным делом.
Больше всего списков — 372 — подписал Вячеслав Молотов, на втором месте — Сталин. Его собственноручные
резолюции «за» и подписи сохранились на 357 списках. Лазарь Каганович подписал 188 списков, Климент Ворошилов — 185, Андрей Жданов —176, Анастас Микоян — 8. А член Политбюро ЦК ВКП (б), заместитель Председателя Совета народных комиссаров СССР Станислав Косиор, сам впоследствии попавший в расстрельный список, таких списков успел подписать только 5. Так же как и «стальной нарком» Ежов, успевший подписать 8 списков на 416 человек. У Микояна же в таком же количестве списков — 1035 фамилий.
Молотовская подпись стоит на списках Политбюро, содержащих 43 908 фамилий. В подавляющем большинстве случаев люди были приговорены к расстрелу. Среди членов Политбюро он достоин «золота». «Серебряный медалист» Сталин расписался на судьбе 41 169 человек. Подпись Кагановича стоит на списках с 16 839 фамилиями.
Кроме того, Молотов, как второй человек в стране, безусловно, в наибольшей мере, после Сталина, должен нести политическую и юридическую ответственность за все репрессии 30-х — первой половины 40-х годов, за гибель миллионов людей в коллективизацию, за депортацию «наказанных народов», за 682 тысячи расстрелянных только в 1937—1938 годах, причем основная масса — по приговорам «троек», а не в судебном порядке.
Эти «тройки» были созданы согласно печально знаменитому приказу НКВД № 0047 от 30 июля 1937 года. Он предусматривал проведение операции «по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников».
Для ее осуществления создавались «тройки» на местах в составе секретаря обкома или республики, главы областного или республиканского НКВД, главы областного исполкома или республиканского ЦИК или прокурора. Действовали также и «двойки» в составе главы НКВД и прокурора или первого секретаря обкома партии и главы НКВД.
Инициатором этого приказа было Политбюро, и в первую очередь — Сталин и Молотов. Вячеслав Михайлович прекрасно понимал: не подписать расстрельный список — значит завтра же самому разделить участь обреченных.
А ведь очень многие жертвы, расстрелянные с непосредственной санкции Политбюро, в указанные списки не входят, например, почти 22 тысячи польских офицеров, а также представителей польской интеллигенции и имущих классов, расстрелянных весной 1940 года по решению Политбюро от 5 марта 1940 года. Под этим решением, среди прочих, стоит и молотовская подпись.
Несамостоятельность, подчиненную роль Молотова во всем, в том числе и в проведении репрессий, очень точно подметил Осип Мандельштам в своем знаменитом стихотворении о «кремлевском горце» — Сталине:
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей,
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
По свидетельству вдовы поэта Надежды Яковлевны Мандельштам, «тонкую шею О. М. приметил у Молотова — она торчала из воротничка, увенчанная маленькой головкой. “Как у кота”, — сказал О. М., показывая мне портрет».
Вячеслав Михайлович почти никогда не возражал Иосифу Виссарионовичу. Это его свойство отразилось в устном шуточном рассказе Булгакова, записанном Еленой Сергеевной. Речь в нем идет о воображаемом посещении Сталиным и другими членами Политбюро оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», вызвавшем статью «Сумбур вместо музыки» в «Правде» с резкой критикой творчества композитора. В этой фантастической сценке Молотов представлен в довольно жалком ви- . де, о чем свидетельствует следующий диалог:
«Сталин. Я не люблю давить на чужие мнения, я не буду говорить, что, по-моему, это какофония, сумбур в музыке, а попрошу товарищей высказать совершенно самостоятельно свои мнения. Ворошилов, ты самый старший, говори, что ты думаешь про эту музыку?
Ворошилов. Так что, вашество, я думаю, что это сумбур.
Сталин. Садись со мной рядом, Клим, садись. Ну а ты, Молотов, что ты думаешь?
Молотов. Я, в-ваше в-величество, д-думаю, что это к-какофония.
Сталин. Ну, ладно, ладно, пошел уж заикаться, слышу! Садись здесь около Клима. Ну а что думает наш сионист по этому поводу?
Каганович. Я так считаю, ваше величество, что это и какофония и сумбур вместе!»
Молотов Шостаковича ценил не слишком высоко и говорил Чуеву о Дмитрии Дмитриевиче: «Он человек небольшого калибра... Его можно считать крупным в своей области... А что у него хорошего? По-моему, только песня “Нас утро встречает прохладой...”. Хорошая. Слава богу, слова тоже хорошие (автор этих «хороших слов» Борис Корнилов был расстрелян в 1938 году. — Б. С), мотив хороший, бодрый... А большие вещи... Мы со Сталиным смотрели его оперу “Катерина Измайлова” (так позднее назвали оперу «Леди Макбет Мценского уезда». — Б. С.). Плохая. Лет десять назад (разговор происходил в 1980 году. — Б. С.) ее снова стали поднимать, раздувать — гениально и прочее, куски показывать по телевидению. Чепуха какая-то! Хотя и не очень деградировали музыкальные критики... Запоминающегося чего-то — нет. Ну какая-то торжественная увертюра... Не оставляет выдающегося впечатления. Бетховена я признаю. Боевая, поднимающая дух музыка... Чайковского я не люблю, сказать точно».
В разгар террора, 6 ноября 1937 года, в докладе на торжественном собрании в Большом театре Молотов с удовлетворением заявил:
«Уже стало привычным, что врагов коммунистической партии и советской власти считают врагами народа... Это означает, что в нашей стране создалось невиданное раньше внутреннее моральное и политическое единство народа... Морально-политическое единство народа в нашей стране имеет и свое живое воплощение. У нас есть имя, которое стало символом победы социализма. Это имя вместе с тем символ морального и политического единства советского народа. Вы знаете, что это имя — Сталин!»
О репрессиях Молотов говорил Чуеву:
— В 20—30-е годы партия вела жесточайшую борьбу с левым и правым уклонами. Сначала шла борьба пером, но без конца так вести борьбу — это за счет государства, за счет рабочего класса. Люди трудятся и хотят жить
лучше, а мы продолжаем борьбу наверху — этц опаснейшее дело. В какой-то мере и 1937 год был продолжением... После революции мы рубили направо-налево, одержали победу, но оставили врагов разных направлений, которые могли объединиться перед лицом грозящей опасности фашистской агрессии. В этом надо разобраться. Кого обидели, кого понизили. Все эти разные мотивы толкали на критические позиции, а это были такие критики, которые не способны понять новое и готовы на плохие дела. Многие кричали «ура!» за партию и за Сталина, а на деле колебались. Разобраться во многом сейчас трудно, но тогда нужно было быть очень начеку. Ведь даже среди членов партии были, есть и такие, которые хороши и преданны, когда все хорошо, когда стране и партии не грозит опасность. Но, если что-то серьезное начнется, они могут дрогнуть, переметнуться, надежды на них мало. 1937 год лишил нас пятой колонны. Конечно, были допущены ошибки, погибло много честных коммунистов. И чекисты перестарались. Им дали задание, они и рады стараться. У многих были колебания, из-за этого гибли честные люди.
— Как же вы допустили гибель многих известных людей, не говоря уже о тех, что пострадали на местах? — поинтересовался Чуев.
— Посмотрел бы я на вас на нашем месте, как бы вы справились. Это сейчас мы умные. Были разные периоды, а мы сжимаем время в одну точку. Надо разобраться и с каждым периодом, и с каждым действующим лицом отдельно. Скажем, если из 80 человек 50 оказались не правы и их репрессировали, то это не сразу. 80 исключили из своих рядов 10, 70 еще 10, и пошло постепенно... Социализм требует огромного напряжения сил. Здесь и ошибки. Но, повторяю, мы мойш бы иметь гораздо больше жертв во время войны и даже дойти до поражения, если бы задрожало руководство, если бы в нем, как трещины, появились разногласия. Я не уверен, что такой человек, как, скажем, Тухачевский, которого мы очень хорошо знали, не зашатался бы. Не думайте, что Сталин поверил какой-то фальшивке, якобы переданной через Бенеша. Тухачевский был расстрелян, потому что был военной силой правых — Рыкова и Бухарина. А государственные перевороты без военных не обходятся. Я не понимаю, почему реабилитировали
Тухачевского. Да не только я. Ворошилов, например, сказал после его реабилитации: «Я этому барину не верил и не верю. Он на сторону революции перешел, чтоб сделать карьеру». (Можно подумать, что Вячеслав Михайлович с Климентом Ефремовичем о карьере не думали! — Б. С.) Я признаю, что были допущены крупные ошибки и перегибы, но в целом политика была правильной. Я и все члены Политбюро несем ответственность за ошибки. Но поставьте вы самых святых людей управлять государством, пусть бы они попробовали пройти одними разговорами мимо этих периодов, — ничего бы у них не вышло! Развалили бы все. Но одно дело — политика, другое — проводить ее в жизнь. Мы не могли отказаться от жестоких мер из-за опасности раскола. А при Ленине разве этого не было? Не надо представлять Ленина гладящим сопливых ребятишек! Без крайностей не только Ленина и Сталина представить нельзя, но и жить невозможно.
На склоне лет Молотов высказался и насчет запущенной в хрущевские времена версии о том, что Сталин организовал убийство Кирова, чтобы избавиться от потенциально опасного соперника в борьбе за власть:
«Я и сам мог бы не уцелеть, если бы Сталин еще пожил, это другой разговор, но, несмотря на это, я его считаю величайшим человеком, выполнившим такие колоссальные и трудные задачи, которые не мог бы осуществить ни один из нас, никто из тех, кто был тогда в партии. Говорить о Кирове как о его заместителе — абсурд, который ясен для каждого грамотного, знающего коммуниста, и это настолько противоречило отношениям Сталина и Кирова и, прежде всего, мнению самого Кирова. Это мог только Хрущев придумать. Другие-то были посильнее Кирова, и он бы никого не смог разбить — ни Зиновьева, ни Каменева, ни Бухарина. Почитайте все речи Кирова, назовите хоть одно расхождение Кирова со Сталиным, назовите хоть один теоретический труд Кирова! А в ту пору Генеральный секретарь должен был быть теоретиком, ибо на эту роль претендовали такие, как Зиновьев, Бухарин, а до этого и Троцкий. Они-то посильнее Кирова.
В тот декабрьский вечер 1934 года я был в кабинете Сталина и помню, как позвонил начальник ОГПУ Ленинграда Медведь и сообщил, что сегодня в Смольном убит товарищ
Сергей. Сталин сказал: “Шляпы”. Мы срочно поехали в Ленинград. Допрашивали Николаева, убийцу Кирова. Мелкий человек, подставное лицо в руках зиновьевцев. Говорить о том, что Сталин организовал убийство Кирова, — чудовищно и кощунственно! Сталин любил Кирова, растил его. Киров был его идейной опорой в Ленинграде. Сталин звал его в Москву, тот отказывался. На моей памяти так же тепло в Политбюро Сталин относился только, пожалуй, к Жданову. После XX съезда по делу Кирова была создана комиссия, в которую вошли видные юристы. Возглавлял ее Н.С. Хрущев,, как известно, в ту пору уже не пылавший любовью к Сталину. И тем не менее, комиссия пришла к выводу, что И.В. Сталин к убийству С.М. Кирова непричастен. Когда я предложил это опубликовать, Хрущев отказался...
Конечно, мы наломали дров (не в том смысле, что расстре1 ляли сотни тысяч человек, а только в том, что под маховик репрессий попало также меньшинство преданных советской власти людей. — Б. С.). Сказать, что Сталин об этом ничего не знал, — абсурд, сказать, что он один за это отвечает, — неверно. Если обвинять во всем одного Сталина, то тогда он один и социализм построил, и войну выиграл. А вы назовите того, кто меньше, чем Сталин, ошибался? Сыграл свою роль наш партийный карьеризм — каждый держится за свое место. И потом, у нас если уж проводится какая-то кампания, то проводится упорно, до конца. И масштабы, и возможности большие. Контроль над органами был недостаточным».
В другой раз Молотов признался Чуеву:
«В ряде республик нашлись большие группы противников Советского государства. Беспощадность ради общей победы и сокращения жертв тех народов, которые и так несли колоссальные потери, диктовалась необходимостью. Противоречия тут никакого нет».
13 марта 1938 года Молотов вместе со Сталиным подписал постановление о введении с 1 сентября преподавания русского языка в национальных школах, начиная со 2—3-го классов. Постановление призывало пресекать «буржуазно-националистические тенденции к подрыву русского языка в школах», хотя национальные языки и оставались основными языками преподавания. Так начался процесс
русификации, особенно сильно развившийся после войны и приведший к почти полному исчезновению национальных языков в Белоруссии и Восточной Украине, к переходу кубанских казаков с украинского на русский язык.
Хотя Молотов и был женат на еврейке, а в годы войны и сразу после ее окончания поддерживал идею о создании еврейского национального очага в Крыму, он беспрекословно выполнял все указания Сталина об удалении евреев из важнейших правительственных учреждений в рамках начавшейся еще в 30-х годах скрытой борьбы с так называемым «еврейским засильем».
Вячеслав Михайлович вспоминал:
«В 1939 году, когда сняли Литвинова и я пришел на иностранные дела, Сталин сказал мне: “Убери из наркомата евреев”. Слава богу, что сказал! Дело в том, что евреи составляли там абсолютное большинство в руководстве и среди послов. Это, конечно, неправильно. Латыши и евреи... И каждый за собой целый хвост тащил. Причем свысока смотрели, когда я пришел, издевались над теми мерами, которые я начал проводить».
Меры были приняты специфические — неугодных наркоминдельцев отправили прямиком на Лубянку, как, например, сына Парвуса Евгения Гнедина.
По утверждению Молотова, «Сталин не был антисемитом, как его порой пытаются изобразить. Он отмечал в еврейском народе многие качества: работоспособность, спаянность, политическую активность. У них активность выше средней, безусловно. Поэтому есть очень горячие в одну сторону и очень горячие в другую. В условиях хрущевского периода эти, вторые, подняли голову, они к Сталину относятся с лютой ненавистью. Однако в царских тюрьмах и ссылках их не так много было, а когда взяли власть, многие сразу стали большевиками, хотя большинство из них были меньшевиками. А все-таки в России были большевики, которых в других местах не было. Ими можно гордиться. Можно плеваться на русских, когда они плохо ведут себя. Но есть чем гордиться».
Правда, Молотов рискнул взять своим заместителем в НКИД еврея Соломона Лозовского, которого хорошо знал по совместной дореволюционной подпольной работе
в Казани. Потом, в эпоху борьбы с космополитами, это назначение ему вышло боком.
Очевидно, Вячеслав Михайлович считал меньшевистским еврейский «Бунд». Но при этом он прекрасно помнил, что среди полноправных членов ленинского Политбюро евреи преобладали над русскими: трое (Троцкий, Зиновьев, Каменев) против двух (Ленин и Рыков). Только с добавлением еще двух кандидатов (Молотов, Бухарин) русские получили, наконец, численный перевес.
Назначение Молотова на пост наркома иностранных дел было впрямую связано с приближавшейся новой мировой войной. Еще в 1938 году, вскоре после аншлюса Австрии, Сталин решил, что для провокации новой мировой войны между «империалистическими державами» СССР необходимо временно сблизиться с нацистской Германией. Вскоре после аншлюса были остановлены съемки антигерманского фильма «Мы, русский народ». В связи с этим 3 апреля 1938 года режиссер Ефим Дзиган и драматург Всеволод Вишневский направили Молотову прелюбопытнейшее письмо:
«Дорогой Вячеслав Михайлович.
После нашего фильма “Мы из Кронштадта ” мы приступили к работе над новым фильмом “Мы, русский народ ”.
По нашему замыслу, эта вещь (на материале войны с Германией 1916—18 гг.) должна стать острополитическим произведением, направленным с точки зрения сегодняшнего дня против империалистической фашистской Германии, и показать готовность советского народа к борьбе за свою землю, свою рабоче-крестьянскую власть, за права трудового народа, за его свободную счастливую жизнь.
По сравнению напечатанным литературным вариантом постановочный сценарий еще больше заостряется нами по линии антифашистской, антигерманской темы, по линии мобилизационной.
Однако Нго апреля с. г., в самый разгар работы, Председатель Комитета по делам Кино тов. С. Дукельский известил нас, что эта постановка прекращается, по причине ее тематической неактуальности.
Мы глубочайше уверены, что так же, как и в “Мы из Кронштадта ”, мы сумеем на материале прошлой борьбы с немцами создать живое, красочное, широкое народное произведение,
полное юмора и драматизма. Это произведение именно в плане задач сегодняшнего дня и общего международного политического положения. Оно прозвучит особенно остро, особенно злободневно.
В этой уверенности нас укрепляет прежний опыт нашей работы, весь наш предыдущий творческий путь и ясное представление о том, какой получится фильм.
Обращаясь за помощью к Вам и к Иосифу Виссарионовичу (очевидно, такое же письмо одновременно было направлено Вишневским и Дзиганом Сталину. — Б. С.), мы просим разрешить нам сделать эту вещь, которой мы отдали уже 2 года (слова «мы отдали уже два года» авторы письма подчеркнули фиолетовыми чернилами. — Б. С.), которой так горим и в которую глубоко верим, как в нужную и полезную для нашей родины работу».
Письмо осталось без ответа, поскольку перемена внешнеполитического курса была уже предрешена. Фильм «Мы, русский народ» был поставлен только в 1958 году, уже после смерти Вишневского. Показательно, что вместо «Русского народа» Дзиган снял фильм «Если завтра война», в марте 1941 года удостоенный Сталинской премии, а после 22 июня стыдливо убранный из публиковавшихся списков лауреатов, поскольку настоящая война оказалась совсем не такой, какой виделась в кино.
Но главное в этом письме — дата, когда был закрыт фильм «Мы, русский народ», имевший ярко выраженную антигерманскую направленность. Только что, в марте 1938 года, Гитлер осуществил аншлюс Австрии, что еще раз подтвердило агрессивность германской политики. Однако Сталин (вопрос с «Русским народом», конечно, решал он, а не Дукельский) уже тогда, задолго до Мюнхенского соглашения и краха англо-французской политики «умиротворения», считал антигерманскую тему «неактуальной». Вероятно, захват Австрии убедил его в том, что Гитлер неуклонно движется к новой мировой войне. Иосиф Виссарионович уже начал готовиться к тому договору, который Молотов и Риббентроп подписали 23 августа 1939 года и который гарантировал столкновение Германии с Англией и Францией. Перед этим Литвинов должен был быть заменен Молотовым на посту главы внешнеполитического ведомства.
В дипломатическом плане поворот в советской внешней политике Сталин стал готовить загодя. 10 марта 1939 года, выступая с отчетным докладом на XVIII съезде партии, он, в частности, заявил:
«Первая мировая война дала победу революции в одной из самых больших стран мира. Они (империалисты. — Б. С.) боятся, что вторая мировая война может также повести к победе революции в одной или нескольких странах... Политика невмешательства означает попустительство агрессии, развязывание войны — следовательно, превращение ее в мировую войну. В политике невмешательства сквозит стремление, желание — не мешать агрессорам творить свое черное дело, не мешать, скажем, Японии впутываться в войну с Китаем, а еще лучше с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко в тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут, — выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, “в интересах мира”, и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия. И дешево, и мило».
А вскоре, в конце апреля 1939 года, Литвинова вызвали к Сталину. Колоритную зарисовку этой беседы оставил советский посол в Англии Иван Михайлович Майский:
«Впервые я увидел, как сложились отношения между Литвиновым, Сталиным и Молотовым. Обстановка на заседании была накалена до предела. Хотя Сталин выглядел внешне спокойным, попыхивал трубкой, чувствовалось, что он настроен к Литвинову чрезвычайно недружелюбно. А Молотов буйствовал, непрерывно наскакивал на Литвинова, обвиняя его во всех смертных грехах».
Молотов толком не знал ни одного иностранного языка, потому что, в отличие от многих других старых большевиков, никогда не был в эмиграции. Но это обстоятельство нисколько не помешало его назначению в НКИД. Своему старому другу, писателю Сергею Малашкину (они дружили с 1919 года), Молотов признавался, уже будучи в отставке:
— Какой я дипломат? Я не владею ни одним языком иностранным.
— Но ты же языки знаешь, по-французски свободно читаешь, я видел, да и по-английски, по-немецки.
— Немного я могу на основных языках, — согласился Молотов, — но не по-настоящему. В ООН всегда с переводчиком. Ни один язык я не довел до конца. Поэтому и дипломат я не настоящий... Я вот был министром — ведь не владел иностранными языками. Прочитать по-немецки, по-французски и кое-что понять в разговоре я мог, но самому отвечать уже трудно. А английский только в последние десятилетия стали пускать в ход. Это был мой главный недостаток для дипломатии... Я считаю себя политиком, а не дипломатом, прежде всего.
В другой раз Молотов рассказывал Чуеву, что не понимал Риббентропа, когда тот говорил по-немецки. И признавался: «Подходят ко мне и говорят: “На скольких языках вы говорите?” Я всем отвечаю: “На русском”. Немного знаю французский, еще меньше — немецкий и совсем плохо — английский».
Но в сталинском Политбюро никто, включая самого Иосифа Виссарионовича, вообще не владел иностранными языками. Так что выбирать не приходилось...
Уинстон Черчилль так охарактеризовал назначение Молотова в своих мемуарах:
«3 мая в официальном коммюнике из Москвы сообщалось, что “Литвинов освобожден от обязанностей народного комиссара по иностранным делам по его собственной просьбе и что его обязанности будет выполнять премьер Молотов”. Германский поверенный в делах в Москве сообщил 4 мая следующее: “Поскольку Литвинов еще 2 мая принял английского посла и поскольку его фамилия была упомянута вчера в печати в числе почетных гостей на параде, его смещение, по-видимому, результат непосредственного решения Сталина... На последнем съезде партии Сталин призывал проявлять осторожность, чтобы не допустить вовлечения Советского Союза в конфликт. Считают, что Молотов (не еврей) “самый близкий друг и соратник Сталина”. Его назначение, видимо, гарантирует, что внешняя политика будет дальше проводиться в строгом соответствии с идеями Сталина”. Советские дипломатические представители за границей получили указания уведомить правительства, при которых они были аккредитованы, что эта перемена не означает
изменения во внешней политике России. Московское радио объявило 4 мая, что Молотов будет продолжать политику обеспечения безопасности на Западе, которая в течение многих лет была целью Литвинова. Малоизвестный за пределами России, Молотов стал комиссаром по иностранным делам и действовал в самом тесном согласии со Сталиным. Он был свободен от всяких помех в виде прежних заявлений, свободен от атмосферы Лиги Наций, способен двигаться в любом направлении, которого, как могло казаться, требовало само сохранение России. Был, собственно говоря, только один путь, по которому он мог, вероятно, пойти теперь. Он всегда благосклонно относился к достижению договоренности с Гитлером. Мюнхен и многое другое убедили советское правительство, что ни Англия, ни Франция не станут сражаться, пока на них не нападут, и что даже в таком случае от них будет мало проку. Надвигавшаяся буря была готова вот-вот разразиться. Россия должна была позаботиться о себе. Смещение Литвинова ознаменовало конец целой эпохи. Оно означало отказ Кремля от всякой веры в пакт безопасности с западными державами и возможность создания Восточного фронта против Германии.
Еврей Литвинов ушел, и было устранено главное предубеждение Гитлера. С этого момента германское правительство перестало называть свою политику антибольшевистской и обратило всю свою брань в адрес “плутодемократий”. Статьи в газетах заверяли Советы, что германское “жизненное пространство” не распространяется на русскую территорию, что оно фактически оканчивается повсюду на русской границе. Следовательно, не могло быть причин для конфликта между Россией и Германией, если Советы не вступят с Англией и Францией в соглашения об “окружении”. Германский посол граф Шуленбург, который был вызван в Берлйн для длительных консультаций, вернулся в Москву с предложением о выгодных товарных кредитах на долгосрочной основе. Обе стороны двигались по направлению к заключению договора».
Таким образом, и в Лондоне, и в Берлине сигнал поняли правильно — как отказ советской стороны от попытки создать систему коллективной безопасности в Европе совместно с Францией и Англией.
Главным же сигналом для Гитлера стало смещение Литвинова. Гитлер, накануне заключения договора
о ненападении, прямо признал: «Решающее значение имело смещение Литвинова». Не то чтобы Сталин не доверял Литвинову или тот был органически не способен отстаивать иную политику, кроме сближения с Англией и Францией. В советской системе власти пост главы внешнеполитического ведомства всегда был чисто техническим. Решения все равно принимал не нарком и не Председатель Совнаркома, а первое лицо государства. Но Литвинов не подходил для переговоров с Гитлером прежде всего из-за того, что был евреем. Кроме того, в преддверии войны важно было, чтобы НКИД возглавил член Политбюро — это ускоряло процесс принятия решений. А изо всех членов Политбюро Сталин предпочел видеть наркомом иностранных дел того, кому в тот момент больше всего доверял.
Бывший переводчик Сталина и Молотова Валентин Бережков так оценивал в мемуарах смещение Литвинова и назначение Молотова:
«Именно тогда Сталин, видимо, задумался над тем, нельзя ли полюбовно договориться с фюрером. Литвинов, который из-за своего еврейского происхождения и страстных антифашистских выступлений в Лиге Наций никак не подходил для оформления сделки с нацистской Германией, был устранен. Наркомом иностранных дел стал Молотов, самый близкий к Сталину человек».
На самом деле Сталин принял решение о крутом повороте в советской внешней политике еще раньше — по всей вероятности, не позднее марта 1938 года.
Для западных держав замена Литвинова Молотовым оказалась полной неожиданностью. Как вспоминал позднее посол США в Москве Болен, «мы в посольстве плохо понимали, что происходит, британский посол Вильям Сиде рассказывал нам, что разговаривал с Литвиновым за несколько часов до сообщения о его смещении и не заметил никаких намеков на предстоящую перестановку. Такого же мнения были и другие работники дипкорпуса».
Вскоре после назначения главой НКИД Молотов был освобожден от обязанностей председателя Экономического совета, созданного в октябре 1937 года. В связи с этим Анастас Микоян вспоминал:
«В сентябре 1939 года по предложению Сталина было принято решение освободить Молотова от обязанностей председателя Экономсовета. Сталин считал, что Молотов с этой работой не справляется. Я не хочу плохо говорить о Молотове. Но вообще-то он был негибким, неоперативным, любил длительные совещания, где сам мало говорил, думаю, потому, что он заикался, а это его угнетало, но он любил всех выслушать. Кроме того, Сталин занимал Молотова на всяких совещаниях, часто вызывал к себе, одним словом — держал около себя. Поэтому Молотов и не мог более оперативно работать в Экономсовете».
Хотя Анастас Иванович больших симпатий к Вячеславу Михайловичу не питал, вполне возможно, что его характеристика Молотова как бюрократа близка к истине. Но причины отставки Молотова с поста председателя эфемерного Экономического совета, фактически дублировавшего Госплан, очевидно, заключались в том, что с началом Второй мировой войны у него значительно прибавилось работы по ведомству иностранных дел. Правда, в марте 1940 года, после окончания войны с Финляндией, Молотов был вновь возвращен на пост главы Экономсовета, к тому времени ставшего чисто декоративной организацией. Выяснилось, что если Экономсовет не подчинен напрямую главе правительства, то этот орган вообще обречен на паралич и бездействие. Год спустя, в марте 1941 года, Экономсовет был окончательно упразднен, зато создано Бюро Совнаркома — для оперативного руководства экономикой. В него вошли Молотов, Вознесенский, Микоян, Булганин, Берия, Каганович и Андреев. А когда Сталин сделался председателем Совнаркома, замещать его по экономическим вопросам стал Вознесенский, Молотов же сконцентрировался'на внешнеполитических вопросах. С образованием же с началом Великой Отечественной войны Государственного Комитета Обороны Молотов, как единственный заместитель Сталина в ГКО, стал опять курировать также и экономические вопросы.
20 мая 1939 года, на своей первой встрече с германским послом в Москве Ф. Шуленбургом, Молотов заявил:
«Мы пришли к выводу, что для успеха экономических переговоров должна быть создана соответствующая политическая
база. Без такой политической базы, как показал опыт переговоров с Германией, нельзя разрешить экономические вопросы».
4 августа 1939 года германский посол Шуленбург телеграфировал из Москвы:
«Из всего отношения Молотова было видно, что советское правительство фактически более склонно к улучшению германо-советских отношений, но что прежнее недоверие к Германии еще не изжито. Мое общее впечатление таково, что советское правительство в настоящее время полно решимости подписать соглашение с Англией и Францией, если они выполнят все советские пожелания. Переговоры, конечно, могли бы продолжаться еще долго, в особенности потому, что недоверие к Англии также сильно... С нашей стороны потребуются значительные усилия, чтобы заставить советское правительство совершить поворот».
И в Германии решились на соглашение с СССР. Риббентроп, сидя в нюрнбергской камере в ожидании неизбежного смертного приговора, вспоминал:
«Я ознакомил фюрера с этой речью Сталина (на XVIII съезде ВКП(б). — Б. С.) и настоятельно просил его дать мне полномочия для необходимых шагов, чтобы выяснить, действительно ли за нею скрывается серьезное желание Сталина. Сначала Адольф Гитлер занял выжидательную позицию и колебался. Но когда находившиеся на точке замерзания переговоры о заключении советско-германского торгового договора возобновились, я все-таки предпринял в Москве зондаж насчет того, нет ли возможности преодоления политических разногласий и урегулирования вопросов, существующих между Берлином и Москвой. Переговоры о торговом договоре, которые очень умело вел посланник Шнурре, за сравнительно короткий период продвинулись вперед.
Взаимные дипломатические беседы становились все более содержательными. В конечном счете я дипломатическим путем подготовил заключение пакта о ненападении между Германией и Россией. В ответ на телеграмму Адольфа Гитлера Сталин пригласил полномочного представителя Германии в Москву».
Риббентропу, конечно, хотелось утешить себя мыслью, что именно он подготовил знаменитый пакт, который позволил Германии добиться впечатляющих успехов в первые два года войны. На самом же деле успех его переговоров с советскими представителями был всецело предопределен тем обстоятельством, что Сталин еще задолго до марта 39-го принял решение о временном сближении с Германией с целью провокации Второй мировой войны.
14 августа Риббентроп отправил германскому послу в Москве графу фон Шуленбургу следующую телеграмму:
«Прошу Вас посетить г-на Молотова и сообщить ему следующее:
1. Противостояние мировоззрений национал-социалистической Германии и СССР было в последние годы единственной причиной, по которой Германия и СССР противостояли друг другу в двух раздельных и борющихся между собой лагерях. Ход развития событий в последнее время, как кажется, показывает, что различные мировоззрения не исключают разумных отношений между обоими государствами и восстановления их сотрудничества. Тем самым можно было бы закончить период внешнеполитической враждебности и открыть путь к новому будущему обоих государств.
2. Реальных противоречий интересов Германии и СССР не имеется, жизненные пространства Германии и СССР хотя и соприкасаются, но в Своих естественных потребностях не пересекаются. Тем самым какая-либо причина агрессивной тенденции одного государства против другого априори отсутствует. Германия никаких агрессивных намерений против СССР не имеет. Имперское правительство придерживается взгляда, что в пространстве между Балтийским морем и Черным мррем нет такого вопроса, который не мог бы быть урегулирован к полному удовлетворению обеих стран. К ним относятся такие вопросы, как Балтийское море, Прибалтика, Польша, вопросы Юго-Востока и т. д. Более того, политическое сотрудничество обеих стран могло бы принести только пользу и германской, и советской экономике, которые во всех направлениях дополняют друг друга.
3. Не подлежит никакому сомнению, что германо-советская политика достигла своего исторического поворотного пункта. Подлежащие принятию в ближайшее время между
Берлином и Москвой политические решения будут иметь определяющее значение для многих поколений в деле формирования отношений между немецким народом и народами СССР. От них будет зависеть, скрестят ли однажды оба народа снова и без какой-либо серьезной причины свое оружие или придут к дружественным отношениям. Обоим государствам всегда было хорошо, когда они были друзьями, и плохо, когда они были врагами.
4. В результате ряда лет идеологической вражды Германия и СССР сегодня действительно испытывают друг к другу недоверие. Еще предстоит убрать много накопившегося мусора. Но можно констатировать, что и за это время естественная симпатия немцев ко всему истинно русскому никогда не исчезала. На этом можно вновь строить политику обоих государств.
5. Имперское правительство и советское правительство должны на основании всего имеющегося опыта считаться с тем, что капиталистические западные демократии являются непримиримыми врагами как национал-социалистической Германии, так и СССР Сегодня они пытаются заключением военного союза натравить СССР на Германию. В 1914 г. эта политика возымела для России плохие последствия (тут г-н рейхсминистр глупость сморозил. Для кого-нибудь, для того же царя Николая II и его семьи, для миллионов россиян, погибших в Первую мировую и Гражданскую войну, Первая мировая действительно имела самые печальные последствия. Но только не для Молотова и Сталина. Не будь войны, черта с два большевики пришли бы к власти! Так что пугать Молотова ужасами Первой мировой войны было абсолютно бессмысленно. — Б. С.). Интересы обеих стран настоятельно требуют не допустить, чтобы когда-либо в истории Германию и СССР растерзали западные демократии.
6. Вызванное английской политикой обострение германопольских отношений, а также английское подстрекательство к войне и связанные с этим стремления к созданию соответствующего союза требуют быстрого выяснения советско-германских отношений. Иначе события могут без германского участия принять такой оборот, что лишат оба правительства возможности вновь установить германо-советскую дружбу и при необходимости совместно выяснить также территориальные вопросы Восточной Европы.
Поэтому руководству обеих стран не следовало бы пускать дело на самотек: было бы роковым, если из-за взаимного незнания взглядов и намерений оба народа окончательно разошлись в разные стороны. У советского правительства, как нам было сообщено, тоже имеется желание выяснить германо-советские отношения. Но поскольку, как свидетельствует имеющийся опыт, это выяснение по обычным дипломатическим каналам займет много времени, г-н имперский министр иностранных дел фон Риббентроп готов прибыть в Москву с кратким визитом, чтобы от имени фюрера изложить г-ну Сталину взгляды фюрера. Только такой непосредственный обмен мнениями может, как считает г-н фон Риббентроп, изменить положение, и при этом не исключается возможность заложить фундамент окончательного урегулирования германо-советских отношений.
Дополнение: прошу не передавать эти инструкции г-ну Молотову в письменном виде, а лишь зачитать ему дословно. Я придаю значение тому, чтобы вышеуказанное было как можно точнее доложено г-ну Сталину, и уполномочиваю Вас в данном случае по моему поручению просить г-на Молотова о предоставлении Вам аудиенции у г-на Сталина, чтобы Вы смогли сделать ему это важное сообщение также и лично. Наряду с обменом мнениями с Молотовым предпосылкой моего визита явилась бы подробная беседа со Сталиным».
На следующий день Шуленбург сообщил Риббентропу, что Молотов предложил заключить пакт о ненападении. При этом Вячеслав Михайлович заметил, что «советское правительство тепло приветствует германские намерения улучшить отношения с Советским Союзом и теперь... верит в искренность этих намерений».
21 августа 1939 года после ознакомления с проектом советско-германского пакта о ненападении Гитлер направил Сталину телеграмму, в которой сообщал, что его правительство согласно на пакт в целях «установления мира и сотрудничества между нашими народами».
В мемуарах Риббентроп утверждал, что предлагал послать в Москву вместо себя Геринга, поскольку за время пребывания на посту посла в Англии сам он приобрел слишком стойкую антисоветскую репутацию. Но Гитлер
будто бы настоял на кандидатуре Риббентропа, который «понимает это дело лучше других».
Однако определенная логика в том, чтобы послать в Москву на переговоры с Молотовым Геринга, все же была. И тот и другой занимали вторые по значению должности в СССР и Германии. Правда, Молотов выполнял функции, которые в гитлеровском рейхе были возложены на нескольких человек. Как и Геринг, он курировал экономику, особенно военную (Геринг возглавлял ведомство по Четырехлетнему плану и крупнейший государственный концерн своего имени), как Риббентроп, занимался иностранными делами, одно время был заместителем Сталина по партии — по отношению к Гитлеру ту же роль играли сначала Гесс, а потом Борман. Когда-то, как Геббельс в Германии, он был не последним лицом в редакции оппозиционной газеты. И наконец, даже в роли Гиммлера Вячеславу Михайловичу довелось побыть — когда он подписывал расстрельные приговоры и определял вместе со Сталиным, кого отправить в расход, а кому дать «всего лишь» 15 лет лагерей.
Но надо признать, Молотов был куда менее колоритной, да и самостоятельной фигурой, чем любой из приближенных Гитлера. Геринг, герой-ас Первой мировой войны, все-таки внес большой личный вклад в создание люфтваффе, был популярен у масс, неплохо выступал, мог даже порой спорить с Гитлером по вопросам ведения войны. Риббентроп как-никак вел во многом самостоятельную линию на сближение с Россией, полагая ее, в отличие от Гитлера, стратегической, а не тактической союзницей. Молотов же был лишь бледной тенью Сталина, никудышным оратором, человеком, самостоятельных идей не имевшим. Как журналист он в подметки не годился Геббельсу и никакой харизмой, в отличие от Геринга, не обладал. Скорее уж его можно уподобить гитлеровским канцеляристам — Борману и Ламмерсу.
Вячеслав Михайлович был выдающимся, трудолюбивым бюрократом, и не более того. Он даже не вел никаких интриг — боялся. Ведь если его интрига не придется по вкусу Кобе — тогда верная смерть. Замечу, что ни Геринг, ни Геббельс, ни Борман, ни Гиммлер никогда не испытывали страха, что Гитлер их ни с того ни с сего вдруг расстреляет или повесит. А вот Молотов и другие сталинские
соратники ох как брялись этого! Гитлеру приходилось завоевывать власть в относительно честной борьбе в условиях демократического общества, и в качестве соратников он нуждался не в бездумных исполнителях, а в людях инициативных и идейных, способных работать с массами, привлекая их на свою сторону. Причем в условиях, когда контроль над средствами массовой информации был в руках враждебного НСДАП государства, и никакого «культа» в общенациональном масштабе до 1933 года создать при всем желании было невозможно. Сталин же победил в подковерной борьбе, и ему нужны были только тонкошеие вожди, а не самостоятельные личности.
В Кремле Риббентропа приняли Сталин и Молотов. Риббентроп вспоминал:
«После краткого официального приветствия мы вчетвером — Сталин, Молотов, граф Шуленбург и я — уселись за стол. Кроме нас присутствовал наш переводчик — советник посольства Хильгер, прекрасный знаток русской жизни, и молодой светловолосый русский переводчик Павлов, который явно пользовался особым доверием Сталина.
В начале беседы я сказал о желании Германии поставить германо-советские отношения на новую основу и прийти к компромиссу наших интересов во всех областях. Мы хотим договориться с Россией на самый долгий срок. При этом я сослался на весеннюю речь Сталина, в которой он, по нашему мнению, высказал подобные мысли. Сталин обратился к Молотову и спросил, не хочет ли тот ответить мне. Но Молотов попросил Сталина сделать это самому, так как только он может сделать это».
Показательно, что именно Сталин играл главную роль в переговорах с Риббёнтропом, а Молотов присутствовал на них скорее по протоколу.
Удалось быстро согласовать линию разграничения сфер советских и германских интересов и получить по телефону одобрение фюрера. В полночь 23 августа был подписан печально знаменитый договор о ненападении, вошедший в историю как пакт Риббентропа—Молотова. После подписания документов, по свидетельству Риббентропа, «в том же самом помещении (это был служебный кабинет Молотова) был сервирован небольшой ужин на четыре
персоны. В самом начале его произошло неожиданное событие: Сталин встал и произнес короткий тост, в котором сказал об Адольфе Гитлере как о человеке, которого он всегда чрезвычайно почитал. В подчеркнуто дружеских словах Сталин выразил надежду, что подписанные сейчас договоры кладут начало новой фазе германо-советских отношений. Молотов тоже встал и высказался подобным образом. Я ответил нашим русским хозяевам в таких же дружеских выражениях. Таким образом, за немногие часы моего пребывания в Москве было достигнуто такое соглашение, о котором я при своем отъезде из Берлина и помыслить не мог и которое наполняло меня теперь величайшими надеждами насчет будущего развития германо-советских отношений».
В официальной немецкой записи беседы, в которую из осторожности не было включено упоминание о секретном дополнительном протоколе, тосты, произнесенные на импровизированном банкете, изложены следующим образом:
«Господин Сталин неожиданно предложил тост за фюрера: “Я знаю, как сильно германская нация любит своего фюрера, и поэтому мне хочется выпить за его здоровье”. Господин Молотов выпил за здоровье имперского министра иностранных дел и посла графа фон Шуленбурга. Господин Молотов поднял бокал за Сталина, заявив при этом, что тот своей речью 10 марта, хорошо принятой в Германии, положил начало повороту в советско-германских отношениях. Господин Молотов и Сталин повторно выпили за пакт о ненападении, за новую эру в германо-русских отношениях и за германскую нацию. Имперский министр иностранных дел, в свою очередь, предложил тост за господина Сталина, за советское правительство и за благоприятное развитие отношений между Германией и Советским Союзом».
Когда 24 августа Риббентроп покидал Москву, ему казалось, как сам он утверждал в предсмертных записках, что «желание Сталина и Молотова прийти к взаимопониманию с Германией в тот момент было искренним. Когда я докладывал Адольфу Гитлеру о московских переговорах, у меня сложилось впечатление, что и он, безусловно, воспринял этот компромисс с- Россией всерьез».
Может быть, Риббентроп действительно тогда так думал. А может, просто хотел продемонстрировать свое миролюбие. Но ни Сталин с Молотовым, ни Гитлер ни тогда, ни позже не помышляли о сколько-нибудь длительной дружбе друг с другом. Они лишь собирались овладеть наиболее выгодными позициями для грядущего столкновения.
Секретные протоколы к пакту Молотова — Риббентропа и последующему советско-германскому договору о дружбе и границе стали одним из самых тщательно охраняемых секретов советской власти. Ведь само их наличие компрометировало Сталина и Молотова как поджигателей Второй мировой войны, наряду с Гитлером и Риббентропом. Правда, секрет удалось сохранить недолго. В 1945 году микрофильм с протоколами был захвачен западными союзниками, а затем опубликован в сборнике «Нацистско-советские отношения». Москва объявила немецкий текст протоколов фальшивкой, но на Западе ей никто не поверил. Тем не менее и после этого советские оригиналы секретных протоколов оставались тайной за семью печатями, причем особенно волновался Молотов, возможно опасаясь, что кто-нибудь из коллег по Политбюро использует протоколы как компромат против него лично, заявив, например, что протокол он подписал самовольно, без санкции Политбюро и Сталина. Тем самым Вячеслава Михайловича могли сделать «козлом отпущения» в щекотливом деле о секретных протоколах, чтобы хоть частично реабилитировать советское государство в глазах западных партнеров.
Как вспоминал бывший помощник Михаила Горбачева Валерий Болдин, возглавлявший Общий отдел ЦК КПСС, «смерть Сталина сняла ограничения на доступ членов Президиума ЦК к документам его архива. Еще не состоялись похороны вождя, а Хрущев, Маленков, Берия, Молотов и другие помчались в кремлевский кабинет и вскрыли его личный сейф. В этом сейфе было, как мне рассказывали, много любопытного. Члены Президиума ЦК быстро разобрали бумаги, которые имели отношение лично к ним. Молотов среди прочего изъял и подлинники секретного протокола. С 1953 года они находились в его личном сейфе. И только после освобождения от должности министра иностранных дел он переправил их в ЦК КПСС, и они попали во второй сектор Общего отдела».
В конце сентября 1939 года Риббентроп вновь посетил Москву — чтобы заключить договор о дружбе и границе, секретные протоколы к которому устанавливали новую линию разграничения двух стран в Польше и содержали обязательство не допускать на своей территории агитации за воссоздание польского государства. Опять переговоры с ним вел главным образом Сталин, сопровождаемый Молотовым. Риббентроп хорошо запомнил банкет, более пышный, чем ночью 23 августа:
«Члены Политбюро... меня приятно обескуражили... я и мои сотрудники провели с ними вечер в весьма гармоничной обстановке. Данцигский гауляйтер, сопровождавший меня в этой поездке... даже сказал: порой он чувствовал себя просто среди своих старых партийных товарищей. Во время банкета, по русскому обычаю, произносилось множество речей и тостов за каждого присутствующего вплоть до секретарей. Больше остальных говорил Молотов, которого Сталин (я сидел рядом с ним) подбивал на все новые и новые речи... На столе стояла отличавшаяся особенной крепостью коричневая водка. Этот напиток был таким крепким, что от него дух захватывало. Но на Сталина коричневая водка словно не действовала. Когда по этому случаю я высказал ему восхищение превосходством русских глоток над немецкими, Сталин рассмеялся и, подмигнув, выдал мне «тайну»: сам он пил на банкете только крымское Вино, но оно имело такой же цвет, как и эта дьявольская водка.
В течение этого вечера я не раз дружески беседовал с членами Политбюро, которые подходили, чтобы чокнуться со мной».
Все это должно было продемонстрировать рейхсминистру советско-германскую дружбу, которой оставалось жить чуть больше полутора лет.
Когда немцы вторглись в Данию и в Норвегию, Молотов сообщил Шуленбургу:
«Советское правительство понимает, какие меры были навязаны Германии. Англичане, безусловно, зашли слишком далеко. Они совершенно не посчитались с правами нейтральных стран... Мы желаем Германии полного успеха в ее оборонительных мероприятиях».
А 10 мая 1940 года, когда немцы вторглись во Францию, Вячеслав Михайлович, заранее извещенный об этом германским послом, заявил Шуленбургу: «Германия должна была защитить себя от англо-французского нападения».
Главной своей задачей на посту руководителя внешнеполитического ведомства Молотов считал максимальное расширение советской территории и сферы влияния. Он говорил по этому поводу Чуеву:
«Хорошо, что русские цари навоевали нам столько земли. И нам теперь легче с капитализмом бороться... Свою задачу как министр иностранных дел я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества. И кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей».
В разговоре с Феликсом Чуевым Молотов вспоминал, как выламывали руки прибалтийским политикам:
«Коммунисты и народы Прибалтийских государств высказались за присоединение к Советскому Союзу. Их буржуазные лидеры приехали в Москву для переговоров, но подписать. присоединение к СССР отказывались. Что нам было делать? Я вам должен сказать по секрету, что я выполнял очень твердый курс. Министр иностранных дел Латвии приехал к нам в 1939 году, я ему сказал: “Обратно вы уж не вернетесь, пока не подпишете присоединение”. Из Эстонии к нам приехал военный министр, я уж забыл его фамилию, популярный был, мы ему то же сказали. На эту крайность мы должны были пойти. И выполнили, по-моему, неплохо... А им деваться было некуда. Надо же как-то обезопасить себя. Когда мы предъявили требования... Надо принимать меры вовремя, иначе будет поздно. Они жались туда-сюда, буржуазные правительства, конечно, не могли войти в социалистическое государство с большой охотой. А с другой стороны, международная обстановка была такова, что они должны были решать. Находились между двумя большими государствами — фашистской Германией и Советской Россией. Обстановка сложная. Поэтому они колебались, но решились. А нам нужна была Прибалтика. (Вячеслав Михайлович не стал уточнять, что летом 1940 года прибалтийские министры
и президенты после переговоров отправились в тюрьмы и лагеря. — Б. С.)...
С Польшей мы так не смогли поступить. Поляки непримиримо себя вели. Мы вели переговоры с англичанами и французами до разговора с немцами: если они не будут мешать нашим войскам в Чехословакии и Польше, тогда, конечно, у нас дела пойдут лучше. Они отказались, поэтому нам нужно было принимать меры, хоть частичные, мы должны были отдалить германские войска...»
Если это не ошибка записи Чуева, то перед нами — очень важная проговорка. Дело в том, что во время англо-франко-советских переговоров летом 1939 года в Москве речь шла о пропуске советских войск в Польшу и Румынию, а отнюдь не в Чехословакию, которая в то время была оккупирована немцами.
Раз Молотов действительно имел в виду Чехословакию, а не Румынию, то, очевидно, речь шла о каких-то переговорах с Англией и Францией во время Судетского кризиса летом и осенью 1938 года, когда Советский Союз, по всей вероятности, настаивал на том, чтобы в обмен на свое военное выступление против Германии получить право советизировать Чехословакию и Польшу. Если требования действительно были таковы, то неудивительно, что Даладье и Чемберлен посчитали, что им дешевле будет уступить Гитлеру Судеты.
Из признания Молотова также следует, что сразу же после Мюнхенского соглашения советское руководство взяло курс на сговор с Гитлером.
Оправдывая советско-германский пакт о ненападении, Молотов заявил в беседе с Чуевым:
«Если бы мы не вышли навстречу немцам в 1939 году, они заняли бы всю Польшу до границ. Поэтому мы с ними договорились. Они должны были согласиться. Это их инициатива — Пакт о ненападении. Мы не могли защищать Польшу, поскольку она не хотела с нами иметь дело. Ну и поскольку Польша не хочет, а война на носу, давайте нам хоть ту часть Польши, которая, мы считаем, безусловно принадлежит Советскому Союзу».
Точно так же Вячеслав Михайлович мотивировал советское нападение на Финляндию:
«И Ленинград надо было защищать. Финнам мы так не ставили вопрос, как прибалтам. Мы только говорили о том, чтобы они нам часть территории возле Ленинграда отдали. От Выборга. Они очень упорно себя вели... Хрущев отдал финнам Порккала-Удд. Мы едва ли отдали бы».
При этом Молотов до конца жизни даже в самых доверительных беседах отрицал существование секретных протоколов к советско-германским договорам 1939 года.
Он также настаивал, что советская сторона не расстреливала поляков в Катыни, но делал это не слишком уверено. На реплику Чуева о том, что Запад утверждает, что поляков расстреляли красные, Молотов возразил: «Не так», а затем добавил загадочную фразу: «Возможно, что и было что-то, но уже...» И внезапно замолчал, не докончив фразы, видно, боясь проговориться до конца. А в другой раз на реплику Чуева: «Поляки интересуются судьбой польских офицеров в нашем плену, это больное место... Они говорят, что наши расстреляли...» — Молотов раздраженно ответил: «Они могут. Есть специальное заявление советского правительства. Этого я и придерживаюсь. Была же потом комиссия. Руденко входил». И тут же заметил: «Националисты все — польские, русские, украинские, румынские, они на все, на все пойдут, самые отчаянные». Даже в сугубо доверительных разговорах с надежными людьми Вячеслав Михайлович не спешил признаваться в собственных преступлениях. Ведь его подпись стояла под печально знаменитым решением Политбюро от 5 марта 1940 года о казни поляков.
Поляков Вячеслав Михайлович, чувствуется, очень не любил. В декабре 1972 года, после очередных антикоммунистических волнений он говорил Чуеву: «Поляки никогда не утихают и никогда не успокоятся. И без толку. Все на свою шею. Очевидно, будут еще серьезные события». До краха социализма в Польше Молотов не дожил двух лет.
По поводу пакта Молотова — Риббентропа бард Александр Городницкий сочинил песню «Вальс тридцать девятого года»:
Полыхает кремлевское золото, Дует с Волги степной суховей. Вячеслав наш Михайлович Молотов Принимает берлинских друзей.
Карта мира меняется наново,
Челядь пышный готовит банкет.
Риббентроп преподносит Улановой Хризантем необъятный букет.
И не знает закройщик из Люблина,
Что сукна не кроить ему впредь,
Что семья его будет загублена,
Что в печи ему завтра гореть.
И не знают студенты из Таллина И литовский седой садовод,
Что сгниют они волею Сталина Посреди туруханских болот.
Акт подписан о ненападении -Можно вина в бокалы разлить.
Вся Европа сегодня поделена —
Завтра Азию будем делить!
Смотрят гости на Кобу с опаскою.
За стеною ликует народ.
Вождь великий сухое шампанское За немецкого фюрера пьет.
Вячеславу Михайловичу еще раз довелось попить шампанское со своим другом Риббентропом в Берлине. Но этому предшествовал целый год, насыщенный событиями, к которым Молотов имел самое непосредственное отношение. В конце сентября — начале октября 1939 года Литва, Латвия и Эстония под прямым военным нажимом подписали договоры с СССР о взаимопомощи и предоставлении баз. Молотов вел себя с прибалтийскими коллегами очень грубо, без церемоний. Так, он прямо сказал министру иностранных дел Латвии Вилхелму Мунтерсу, что не выпустит его из своего кабинета, пока тот не подпишет договор о предоставлении Советскому Союзу военных баз в Латвии, а также незамерзающих портов Лиепая и Вентс-пилс: «Выбирайте: либо базы, либо война». Во время переговоров в кабинет заглянул Сталин. Он почему-то поинтересовался у Мунтерса, много ли в Двинске евреев. Проживавшие в городах Латвии евреи и многие русские думали: «Лучше Советы, чем немцы». За полтора года советской оккупации значительная часть русских, родные и близкие которых были депортированы в Сибирь, решили, что немцы, пожалуй, все же лучше.
Точно так же Молотов вел себя и с эстонцами. 24 сентября для подписания договора о торговле эстонский министр иностранных дел К. Сельтер выехал в Москву.
От обсуждения экономики Вячеслав Михайлович перешел к проблемам взаимной безопасности и предложил «заключить военный союз или договор о взаимной помощи, который вместе с тем обеспечивал бы Советскому Союзу права иметь на территории Эстонии опорные пункты или базы для флота и авиации». Сельтер пытался уклониться от обсуждения договора, ссылаясь на государственный нейтралитет, но Молотов заявил о том, что «Советскому Союзу требуется расширение системы своей безопасности, для чего ему необходим выход в Балтийское море. Если вы не пожелаете заключить с нами пакт о взаимопомощи, то нам придется искать для гарантирования своей безопасности другие пути, может быть, более крутые, может быть, более сложные».
В ответ на замечание Сельтера о том, что возможно недовольство Германии и ему необходимо информировать правительство и парламент, Молотов заявил, что «это дело срочное. Советую вам пойти навстречу пожеланиям Советского Союза, чтобы избежать худшего. Не принуждайте Советский Союз применять силу для того, чтобы достичь своих целей. Рассматривая наши предложения, не возлагайте надежд на Англию и Германию. Англия не в состоянии что-либо предпринять на Балтийском море, а Германия связана войной на Западе. Сейчас все надежды на внешнюю помощь были бы иллюзиями. Так что вы можете быть уверены, что Советский Союз, так или иначе, обеспечит свою безопасность». Таллину пришлось уступить.
31 октября 1939 года нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, подводя итоги первой кампании Второй
мировой войны, объявил Верховному Совету СССР:
\
«Оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора».
И добавил:
«Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это — дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней
войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за “уничтожение гитлеризма”...»
Подобные пассажи были призваны усыпить бдительность Гитлера, доказать, что Сталин — его преданный союзник, а тем временем подготовить германскому другу сильнейший удар в спину.
Ранее в октябре, по свидетельству финского политического деятеля Вяйне Таннера, на переговорах в Кремле с ним и тогдашним финским послом в Швеции Юхо Паа-сикиви Сталин и Молотов «несколько раз называли Англию и Францию в качестве возможных агрессоров». А когда финская делегация, отказавшаяся удовлетворить советские требования об уступке части Карельского перешейка, прервала переговоры, Молотов зловеще заметил: «Так вы намерены спровоцировать конфликт?» На этот выпад Паасикиви ответил: «Мы не хотим ничего подобного, но вы, кажется, этого желаете». Сталин во время этой словесной перепалки лишь загадочно улыбался.
Через несколько часов Сталин и Молотов попросили финнов возобновить переговоры. Советская сторона согласилась на некоторые несущественные уступки, вроде уменьшения численности будущего советского гарнизона Ханко на тысячу человек и незначительное уменьшение территориальных требований на Карельском перешейке. Показательно, что в мемуарах Таннера неизменно фигурирует формула «Сталин и Молотов считают», но ни разу не говорится о какой-либо самостоятельной позиции Молотова.
Вернувшись в Хельсинки 26 октября, Таннер сразу же отправил письмо премьер-министру Швеции П.А. Ханссону, в котором утверждал:
«Господа из Кремля непреклонны и заявляют, что их требования минимальны и не могут обсуждаться. Таким образом, существует вероятность, что последствием может быть война».
А когда и ноябрьские переговоры закончились ничем, Молотов мрачно констатировал:
«Мы, штатские, не можем продвинуться дальше в этом вопросе, теперь свое слово должны сказать военные».
29 ноября 1939 года Молотов выступил с обращением к советскому народу, из которого стало ясно, что война с Финляндией начнется в ближайшие часы:
«Граждане и гражданки СССР!
Враждебная в отношении нашей страны политика Финляндии вынуждает нас принять меры по обеспечению внешней государственной безопасности. Советское правительство вело переговоры с финляндским правительством об обеспечении безопасности Ленинграда, но оно заняло непримиримую, враждебную позицию, и переговоры окончились безрезультатно.
В последние дни происходили провокации на советско-финской границе. Советское правительство послало финскому правительству ноту, но оно ответило враждебным отказом и нахальным отрицанием фактов провокации.
28 ноября 1939 года советское правительство вынуждено было заявить, что считает себя свободным от обязательств, взятых на себя в силу “Пакта о ненападении”, нарушаемого правительством Финляндии.
Ответственность за создавшееся положение должна быть возложена на правительство Финляндии.
СССР считает необходимым отозвать своих политических и хозяйственных представителей.
Главное командование Красной Армии и Военно-морского флота издало распоряжение о подготовке к неожиданным вторжениям финских войск и о пресечении провокаций.
Заявления иностранной прессы о том, что СССР ставит перед собой цель захватить финляндскую территорию, являются заведомо ложными, так как СССР с самого начала переговоров выступал за мирное разрешение конфликта, готов был предоставить Финляндии территорию в Карелии в обмен на значительно меньшую территорию на Карельском перешейке и всегда ратовал за воссоединение карельского и финского народов.
СССР не имеет намерений ущемить интересы других государств в Финляндии или вмешиваться во внутренние дела Финляндии и ее независимость.
Основная задача переговоров с финским правительством — обеспечение безопасности Ленинграда».
30 ноября 1939 года в беседе с германским послом в Москве Шуленбургом Молотов заявил:
6 Соколон
«Не исключено, что в Финляндии будет создано другое правительство — дружественное Советскому Союзу, а также Германии. Это правительство будет не советским, а типа демократической республики. Советы там никто не будет создавать, но мы надеемся, что это будет правительство, с которым мы сможем договориться и обеспечить безопасность Ленинграда».
Точно такие же марионеточные правительства были созданы в государствах Прибалтики после их оккупации Красной армией в июне 1940 года. Они сразу же попросили принять их страны в состав СССР. Та же участь была уготована Финляндии, но мужественное сопротивление финской армии и народа сорвало сталинские планы.
Тогда, во время «зимней войны», родился знаменитый «коктейль Молотова». Вот что писал журналист Алексей Терентьев в березниковской «Городской газете» 7 декабря 2001 года:
«Когда войска Красной армии в восьми местах переходили границу Финляндии, впереди наступающих войск мощным тараном двигалось большое количество танков. У финнов практически не было противотанковой артиллерии для борьбы с ними. Но они нашли выход из, казалось бы, безвыходного положения: были сформированы группы истребителей танков, вооруженные бутылками с горючей смесью. Смесь создали на спиртовом заводе в Хельсинки. Она представляла собой смесь керосина, смолы и бензина, которую разливали в обычные водочные бутылки. Первоначально к ним привязывали фитили, которые поджигались перед броском, а потом в горлышко начали вставлять ампулу с серной кислотой, воспламенявшей смесь при ударе. Спиртовые заводы Финляндии произвели 70 тысяч бутылок с зажигательной смесью. Это “оружие” получило название “коктейль для Молотова”, потому что именно Молотов олицетворял тогда внешнюю политику Советского Союза, который развязал войну с Финляндией».
29 марта 1940 года Вячеслав Молотов так изложил причины и итоги войны с Финляндией на заседании Верховного Совета СССР:
«Поскольку Советский Союз не захотел стать пособником Англии и Франции в проведении империалистической
политики против Германии, враждебность их позиций в отношении Советского Союза еще больше усилилась».
В этой же речи он утверждал:
«Советский Союз, разбивший финскую армию и имевший полную возможность занять всю Финляндию, не пошел на это... Никаких других целей, кроме обеспечения безопасности Ленинграда, Мурманска и Мурманской железной дороги, мы не ставили...»
Это был тот случай, когда делают хорошую мину при плохой игре.
Вообще, 1940 год стал апогеем карьеры Молотова. Именно тогда к Советскому Союзу были присоединены те территории, которые были выторгованы у Германии в пакте, носящем имя Молотова. В марте этого года 50-летний юбилей Молотова был отмечен наградами, Пермь была переименована в Молотов, имя Председателя Совнаркома стали присваивать колхозам и предприятиям. Вячеслав Михайлович чувствовал себя на вершине славы. И потом, до конца жизни, главным своим достижением Молотов считал то, что он добился максимально возможного территориального расширения Советского Союза в период Второй мировой войны и превращения Восточной Европы в сферу советского влияния.
18 июня 1940» года, когда определился полный разгром Франции, Шуленбург сообщал Риббентропу:
«Молотов пригласил меня сегодня вечером в свой кабинет и передал мне горячие поздравления советского правительства по случаю блестящего успеха германских вооруженных сил».
)
Ни рейхсминистр, ни германский посол не знали, что пятью днями ранее, 13 июня, Молотов встретился с только что прибывшим в Москву послом Франции Эриком Ла-бонном. Тот передал пожелание Парижа «обменяться мнениями о средствах поддержания равновесия сил», нарушенного германским наступлением. Иными словами, Франция просила советской поддержки. Молотов в ответ осведомился, готов ли Париж обсудить бессарабскую проблему, но у Лабонна не было инструкций на сей счет.
Не исключено, что Сталин готов был договориться с Парижем о союзе на условиях признания советской сферы влияния в Восточной Европе, выторгованной по договору Риббентропа — Молотова, чтобы ударить Гитлеру в спину, в почти неприкрытый Восточный фронт. Но быстрое и неожиданное поражение Франции летом 1940 года явил ось для Молотова ударом и сделало немедленный удар по Германии неактуальным. Поражение Франции полностью изменило политическую ситуацию на Европейском континенте.
12—14 ноября 1940 года Молотов побывал в Германии, где вел переговоры с Риббентропом и Гитлером об урегулировании спорных проблем в отношениях между двумя странами и возможности заключения союза. В первый день переговоров Молотова в Берлине произошел любопытный казус. Вот что вспоминает Валентин Бережков, впервые работавший тогда в качестве молотовского переводчика:
«На переговорах в имперской канцелярии с германской стороны участвовали Гитлер и Риббентроп, а также два переводчика — Шмидт и Хильгер. С советской стороны — Молотов и Деканозов и тоже два переводчика — Павлов и автор этих строк. В первый день переговоров, после второй беседы с Гитлером, в имперской канцелярии был устроен прием. Молотов взял с собой Павлова, а мне поручил подготовить проект телеграммы в Москву. В то время не было магнитофонов, стенографистов на переговоры вообще не приглашали, и переводчику надо было по ходу беседы делать в свой блокнот пометки.
С расшифровки этих пометок я и начал работу, расположившись в кабинете, примыкавшем к спальне Молотова во дворце Бельвю, предназначенном для высокопоставленных гостей германского правительства. Провозившись довольно долго с этим делом, я вызвал машинистку из наркомовского секретариата, который в несколько сокращенном составе прибыл с нами в Берлин. Едва машинистка вставила в пишущую машинку лист бумаги, как дверь распахнулась и на пороге появился Молотов. Взглянув на нас, он вдруг рассвирепел:
— Вы что, н-н-ничего не соображаете? Сколько страниц в-в-вы уже продиктовали? — Он особенно сильно заикался, когда нервничал.
Еще не поняв причины его гнева, я поспешил ответить:
— Только собираюсь диктовать.
— Прекратите немедленно, — выкрикнул нарком.
Потом подошел поближе, выдернул страницу, на которой не было ни одной строки, посмотрел на стопку лежавшей рядом чистой бумаги и продолжал уже более спокойно:
— Ваше счастье. Представляете, сколько ушей хотело бы услышать, о чем мы с Гитлером говорили с глазу на глаз? Он обвел взглядом стены, потолок, задержался на огромной китайской вазе со свежесрезанными благоухающими розами. И я все понял. Тут в любом месте могли быть микрофоны с проводами, ведущими к английским, американским агентам или к тем немцам, которым также было бы интересно узнать, о чем Гитлер говорил с Молотовым. На спине у меня выступил холодный пот.
Мне снова повезло. Но я понял: нельзя полагаться только на удачу, надо самому иметь голову на плечах. Молотов, заметив мою растерянность, перешел на спокойный деловой тон:
— Берите ваши записи, идемте со мной...
Машинистка, сидевшая все это время как окаменевшая, стремительно шмыгнула из кабинета, а мы перешли в спальню. Сели рядом у небольшого столика.
— Я начну составлять телеграмму и передавать вам листки для сверки с вашим текстом. Если будут замечания, прямо вносите в листки или пишите мне записку. Работать будем молча. Понятно?
— Ясно, Вячеслав Михайлович, прошу прощения...
— Не теряйте времени...»
Бдительности Модотов никогда не терял, а в особенности тогда, когда находился в самом сердце фашистского логова. Вячеслав Михайлович прекрасно понимал, что в случае необходимости не только Бережкова могут обвинить в шпионаже, но и его самого — в том, что переводчик на самом деле действовал по тайному указанию наркома, вздумавшего сговориться с Гитлером.
Информируя о существе состоявшихся переговоров советского полпреда в Лондоне И.М. Майского 17 ноября 1940 года, нарком писал в шифрованной телеграмме:
«Как выяснилось из бесед, немцы хотят прибрать к рукам Турцию под видом гарантий ее безопасности на манер Румынии, а нам хотят смазать губы обещанием пересмотра конвенции в Монтре в нашу пользу, причем предлагают нам помочь и в этом деле. Мы не дали на это согласия, так как считаем, что, во-первых, Турция должна остаться независимой и, во-вторых, режим в проливах может быть улучшен в результате наших переговоров с Турцией, но не за ее спиной. Немцы и японцы, как видно, очень хотели бы толкнуть нас в сторону Персидского залива и Индии. Мы отклонили обсуждение этого вопроса, так как считаем такие советы со стороны Германии неуместными».
Позже Сталин поведал Черчиллю некоторые любопытные подробности берлинского визита Молотова. Британский премьер свидетельствует:
«Когда в августе 1942 года я впервые посетил Москву, я услышал от Сталина более краткий отчет об этих переговорах, который в основных чертах не отличался от германского отчета, но, пожалуй, был более красочным.
“Некоторое время назад, — сказал Сталин, — Молотова обвиняли в том, что он настроен слишком прогермански. Теперь все говорят, что он настроен слишком проанглийски. Но никто из нас никогда не доверял немцам. Для нас с ними всегда был связан вопрос жизни или смерти”.
Я заметил, что мы сами это пережили и поэтому понимаем, что они чувствуют.
“Когда Молотов, — сказал маршал, — отправился в Берлин повидаться с Риббентропом в ноябре 1940 года, вы пронюхали об этом и устроили воздушный налет”.
Я кивнул.
Когда раздались звуки воздушной тревоги, Риббентроп повел его по длинным лестницам в глубокое, пышно обставленное бомбоубежище. Когда они спустились, уже начался налет.
Риббентроп закрыл дверь и сказал Молотову:
“Ну вот мы и одни здесь. Почему бы нам сейчас не заняться дележом?”
Молотов спросил:
“А что скажет Англия?”
“С Англией покончено, — ответил Риббентроп. -=- Она больше не является великой державой”.
“А в таком случае, — сказал Молотов, — зачем мы сидим в этом убежище и чьи это бомбы падают?”»
Перед этим Риббентроп от имени Гитлера просил Молотова передать Сталину предложение о присоединении СССР к Тройственному союзу Германии, Японии и Италии, предлагая поучаствовать в разделе Британской империи. Советскую сферу влияния предполагалось выделить от южных советских границ и вплоть до Индийского океана.
При расставании Гитлер сказал Молотову:
«Я считаю Сталина выдающейся исторической личностью. Да и сам льщу себя мыслью, что войду в историю. И естественно, что два таких политических деятеля, как мы, должны встретиться. Я прошу вас, господин Молотов, передать господину Сталину мой привет и мое предложение о такой встрече в недалеком будущем...»
Уже 25 ноября 1940 года, выполняя замысел Сталина, Молотов заявил германскому послу в Москве Шуленбур-гу, что советское руководство готово принять предлагавшийся немцами проект пакта четырех, но это согласие оговорил рядом цеприемлемых для Гитлера условий, включавших вывод германских войск из Финляндии и Румынии, присоединение к СССР Финляндии и румынской Южной Буковины и установление советского контроля над Болгарией и черноморскими проливами. Гитлер решил, что допускать так глубоко в Европу Красную армию не стоит.
В январе 1941 года Молотов в беседе с Шуленбургом затронул в числе некоторых других и этот вопрос, однако определенного ответа не последовало. В той же беседе нарком недвусмысленно предупредил, что советское правительство «считает территорию Болгарии и проливов зоной безопасности СССР».
Гитлер к тому времени уже санкционировал начало подготовки операции «Барбаросса», о чем германский посол в Москве знать не мог.
Молотов до конца жизни отстаивал сталинскую версию неготовности СССР к войне. Он говорил Феликсу Чуеву:
«Как можно узнать, когда нападет противник? Мы знали, что с ним придется иметь дело, но в какой день и даже месяц... Нас упрекают, что не обратили внимания на разведку. Предупреждали, да. Но если бы мы пошли за разведкой, дали малейший повод, он бы раньше напал... Мы знали, что война не за горами, что мы слабей Германии, что нам придется отступать. Весь вопрос был в том, докуда нам придется отступать — до Смоленска или до Москвы, это перед войной мы обсуждали. Мы знали, что придется отступать, и нам нужно иметь как можно больше территории... Мы делали все, чтобы оттянуть войну. И нам это удалось — на год и десять месяцев. Хотелось бы, конечно, больше. Сталин еще перед войной считал, что только в 1943 году мы сможем встретить немца на равных... Когда я был Предсовнаркома, у меня полдня ежедневно уходило на чтение донесений разведки. Чего там только не было, какие только сроки не назывались! И если бы мы поддались, война могла начаться гораздо раньше».
Молотов также утверждал, что Сталин «очень не хотел войны» и рассчитывал, что Гитлер будет достаточно умен, чтобы не нападать на СССР, не завершив войны с Англией. Хотя Вячеслав Михайлович тут же оговорился:
«Но с другой стороны, Гитлеру ничего не оставалось делать, кроме как напасть на нас, хоть и не кончена война с Англией, да он бы никогда ее не закончил — попробуй закончи войну с Англией!»
О том, что сам Сталин готовил нападение на Германию, Молотов в беседах с Чуевым не обмолвился ни словом.
Молотов верил (или убеждал собеседников, будто верит), что Сталин переиграл Гитлера:
«Сталин очень хорошо и правильно понимал это дело. Сталин поверил Гитлеру? Он своим-то далеко не всем доверял! И были на го основания. Гитлер обманул Сталина? Но в результате этого обмана он вынужден был отравиться, а Сталин стал во главе половины земного шара!»
Вячеслав Михайлович утверждал, что Гитлер «уже в 1939 году был настроен» развязать войну против СССР, и то, что войну удалось оттянуть, ставил себе и Сталину в заслугу. Однако на самом деле нет никаких данных, что
Гитлер собирался вторгнуться в Россию в 39-м или в 40-м. Фактически фюрер начал операцию «Барбаросса» тогда, когда и планировал. Отсрочка вторжения на шесть недель была связана с Балканской кампанией, а отнюдь не с успехами советской дипломатии.
Молотов убеждал своих собеседников-литераторов Феликса Чуева и Ивана Стаднюка в том, что «к войне мы были готовы в главном. Пятилетки, промышленный потенциал, который был создан, он и помог выстоять. Иначе бы у нас ничего не вышло. Прирост военной промышленности в предвоенные годы у нас был такой, что больше было невозможно!».
При этом он признавал, что «перед войной народ был в колоссальном напряжении. “Давай, давай!”. А если нет — из партии гонят, арестовывают. Можно ли народ, или партию, или армию, или даже своих близких держать так год или два в напряжении? Нет. И, несмотря на это, есть такие вещи, которые оправдывать нельзя. Ошибки были, но все дело в том, как эти ошибки понять. Во-первых, чьи это ошибки, во-вторых, как их можно было избежать».
Это еще одна примечательная проговорка Вячеслава Михайловича. Он невольно признался, что больше двух лет держать народ и армию в состоянии мобилизационного напряжения было нельзя. А в таком состоянии СССР фактически пребывал с осени 39-го. Следовательно, Сталин и Молотов на самом деле были уверены, что в 41-м война начнется, но рассчитывали они на то, что начнется она совсем не по плану «Барбаросса», а мощным броском Красной армии в Западную Европу.
Чуев, по прочтении мемуаров Черчилля, заметил Молотову, что бывший британский премьер сетует на то, что «вы помогали Гитлеру в сороковом году, когда Франция воевала. Поздравили Гитлера с победой над Францией... Знали бы Сталин и Молотов, что через год им придется воевать с Гитлером!».
«Знали, прекрасно знали, — заверил собеседника Вячеслав Михайлович. — А Черчилль провалился. Он не видел перспективу. Не хотел, вернее, видеть. Он человек с большим характером, упорством. Но характера мало, надо понимание иметь».
Молотов не сомневался, что у него самого такое верное понимание мировой политики присутствовало, и оно полностью совпадало со сталинским.
И еще Молотов признался Чуеву:
«Мы ни на кого не надеялись. Что касается могущества державы, повышения ее оборонной мощи, Сталин стремился не только не отставать, но быть впереди, несмотря на то что понимал, что мы вышли на самые передовые рубежи при колоссальной внутренней отсталости — страна-то крестьянская!»
Когда Молотов говорил об ошибках, он явно имел в виду не только просчеты в подготовке к войне в части допущения внезапного германского нападения, но и ошибки в проведении массовых репрессий, когда порой репрессировали тех, кого репрессировать не стоило бы. В необходимости массовых репрессий Молотов был убежден до конца жизни, но допускал, что могли быть и отдельные ошибки. В данном контексте репрессии воспринимаются как необходимый элемент подготовки к войне, — не только для ликвидации потенциально нелояльных к советской власти людей, но и для запугивания остальных, чтобы они безропотно сносили все тяготы сверхмилитаризации экономики и последующей войны.
Репрессии против военных Молотов объяснял следующим образом:
«Такой, как Тухачевский, если бы заварилась какая-нибудь каша, неизвестно, на чьей стороне был бы. Он был довольно опасный человек. Я не уверен, что в трудный момент он целиком остался бы на нашей стороне, потому что он был правым».
В другой раз в беседе с Чуевым он отозвался о Тухачевском совсем презрительно:
«Какой он Бонапарт? Он не смог стать, он был изменником, гнуснейшим изменником, опаснейшим».
Вячеслав Михайлович убеждал Феликса Чуева, что правые еще хуже троцкистов:
«Правая опасность была главной в то время. И очень многие правые не знают, что они правые, и не хотят быть
правыми. Троцкисты, те крикуны: “Не выдержим! Нас победят!” Они, так сказать, себя выдали. А эти кулацкие защитники, эти глубже сидят. И они осторожнее. И у них сочувствующих кругом очень много — крестьянская, мещанская масса. У нас в 20-е годы был тончайший слой партийного руководства, а в этом тончайшем слое все время были трещины: то правые, то национализм, то рабочая оппозиция... Как выдержал Ленин, можно поражаться. Ленин умер, они все остались, и Сталину пришлось очень туго. Одно из доказательств этому — Хрущев. Он попал из правых, а выдавал себя за сталинца, за ленинца: «Батько Сталин! Мы готовы жизнь отдать за тебя, всех уничтожим!» А как только ослаб обруч, в нем заговорило...
Перед войной мы требовали колоссальных жертв — от рабочих и от крестьян. Крестьянам мало платили за хлеб, за хлопок и за труды — да нечем платить-то было! Из чего платить? Нас упрекают: не учитывали материальные интересы крестьян. Ну, мы бы стали учитывать и, конечно, зашли бы в тупик. На пушек денег не хватало!»
По Молотову получалось, что «правым» при желании можно объявить любого — раз обвиняемые могут даже не знать, что они правые. Главное, чтобы самого Вячеслава Михайловича правым не объявили. А, как мы убедимся дальше, такая угроза в последние годы жизни Сталина стала вполне реальной.
Пока же вернемся в последние предвоенные месяцы. Бережков свидетельствует:
«Начальник имперской канцелярии Отто Мейснер сразу же после прибытия в Берлин в декабре 1940 года нового советского посла Владимира Георгиевича Деканозова завел с ним дружбу. Ясно, что она была санкционирована самим Гитлером, который познакомился с посланцем Сталина, когда тот сопровождал Молотова в его поездке в столицу рейха и присутствовал при переговорах в кабинете фюрера... Регулярно, два раза в месяц, приходя к послу на ланч, Мейснер, такой же низкорослый и грузный, развалясь в кресле, за коньяком и кофе “конфиденциально” сообщал, что в имперской канцелярии разрабатываются важные предложения к предстоящей встрече между Гитлером и Сталиным. Эти предложения, дескать, направлены на расширение германо-советского сотрудничества
и во многом учитывают пожелания, высказанные Молотовым в беседе с Шуленбургом в ноябре. То была чистейшей воды дезинформация. Но Деканозов, естественно, доносил о беседах с Мейснером в Москву, и Сталин, который все больше опасался столкновения с Германией и очень хотел сохранить с Гитлером “дружеские” отношения, верил им больше, чем поступавшим со всех сторон предостережениям о скором и неминуемом вторжении».
Надо полагать, что и Молотов верил в возможность встречи лидеров Германии и Советского Союза.
Вот что пишет Бережков насчет степени самостоятельности Молотова в качестве наркома иностранных дел:
«Мне приходилось не раз наблюдать, как Молотов нервничал, если какое-то его предложение не встречал (^одобрения Сталина. Он несколько дней ходил мрачный, раздражительный, и тогда лучше было не попадаться ему под руку.
Распространенное на Западе мнение о том, будто Молотов не проявлял никакой инициативы и действовал исключительно по подсказке Сталина, представляется неправомерным, так же как и версия о том, что Литвинов вел свою «самостоятельную» политику, которая исчезла после его отстранения. Конечно, были нюансы, своя специфика. Но, просматривая в секретариате наркома иностранных дел досье прошлых лет, я убедился, что Литвинов по самому малейшему поводу обращался за санкцией в ЦК ВКП(б), то есть фактически к Молотову, курировавшему внешнюю политику. Как нарком иностранных дел Молотов пользовался большей самостоятельностью, быть может, и потому, что постоянно общался со Сталиным, имея, таким образом, возможность как бы между делом согласовать с ним тот или иной вопрос.
Обычно важные предложения готовил аппарат Наркомин-дела. Соответствующую бумагу визировал заместитель наркома, занимающийся данной проблемой или страной, после чего она докладывалась наркому. И в большинстве случаев Молотов принимал окончательное решение. Не исключено, конечно, что и здесь он заранее получал добро “хозяина” либо по телефону, либо накануне на даче. Но все же, по моим наблюдениям, Молотов во многих случаях брал на себя ответственность.
По особо важным делам подготовленные документы, конечно, пересылались Сталину. Обычно через короткое время они возвращались в секретариат наркома с размашисто выведенными буквами “ИС” толстым синим карандашом. На столе у Сталина рядом с массивным письменным прибором в бронзовом стакане всегда торчало множество двухцветных сине-красных больших восьмигранных карандашей. Он брал их в ладонь и перебирал пальцами, как бы тренируя полупарализованную руку. Его виза безотказно приводила в действие весь административный аппарат».
Замечу, что Литвинов, не имевший свободного доступа к Сталину, был вынужден решать многие вопросы по телефону, что не могло быть тайной для работников его секретариата. Молотов же, как второй человек в стране, чуть ли не ежедневно встречался с хозяином, и о чем именно они говорили, в НКИДе, разумеется, не знали. Так создавалась иллюзия, будто Молотов сам принимает решения. На самом деле Вячеслав Михайлович был ничуть не самостоятельнее Литвинова.
Бережков продолжает:
«Тогда, пятьдесят лет назад, инициалы вождя внушали всем трепет и послушание. Бывало, что бумага возвращалась без визы, перечеркнутая крест-накрест, но уже красным, а не синим карандашом: Сталин не утвердил посланный ему документ. Такое чрезвычайное происшествие — ЧП — потрясало Молотова. Он очень болезненно переживал “проколы”. Не думаю, что то была боязнь возможных последствий. Ведь тогда Молотов являлся, пожалуй, самым близким к “хозяину” человеком.
Впрочем, и он, видимо, понимал: слишком частые повторения подобных ситуаций могли вызвать гнев и даже подозрения в том, что нарком, который должен одинаково с ним мыслить, чуть ли не преднамеренно подкапывается под его, Сталина, позицию. Думаю, однако, что Молотов, скорее всего, сокрушался из-за того, что, располагая теми же фактами и информацией, пришел к выводам, отличным от мнения “хозяина”. Он, конечно, не мог допустить и мысли, что прав, а заблуждается Сталин. К тому времени уже все в окружении вождя были готовы безоговорочно признать его правоту, даже порой не вникнув в существо вопроса. Возможно, они
действительно верили в Сталина. А скорее, помнили, что произошло с теми, кто осмеливался высказать сомнение.
Со своими непосредственными подчиненными Молотов был ровен, холодно вежлив, почти никогда не повышал голоса и не употреблял нецензурных слов, что было тогда обычным в кругу “вождей”. Но он порой мог так отчитать какого-нибудь молодого дипломата, неспособного толково доложить о положении в стране своего пребывания, что тот терял сознание. И тогда Молотов, обрызгав беднягу холодной водой из графина, вызывал охрану, чтобы вынести его в секретариат, где мы общими усилиями приводили его в чувство. Впрочем, обычно этим все и ограничивалось, и виновник, проведя несколько тревожных дней в Москве, возвращался на свой пост, а в дальнейшем нередко получал и повышение по службе. Думаю, что Молотов проявлял известную терпимость в подобных случаях, поскольку речь шла о малоопытных работниках, в подборе которых он сам участвовал, и потому в какой-то мере нес за них ответственность. Снятие их с поста после совсем недавнего назначения могло быть истолковано “хозяином” как серьезный недостаток в работе с кадрами в Наркоминделе.
Впрочем, бывали случаи, когда Молотов считал нужным принять очень крутые, жесткие меры. Так, после подписания с Германией в августе 1939 года Пакта о ненападении туда был назначен новым послом Шкварцев, работавший ранее директором текстильного института и пришедший в Наркоминдел по райкомовской путевке. Когда в ноябре 1940 года Молотов прибыл в Берлин на переговоры с Гитлером, он, прежде всего, вызвал Шкварцева, чтобы ознакомиться с политической ситуацией. Но его доклад оказался настолько беспомощным, что нарком после десятиминутного разговора предложил ему упаковать чемоданы и возвращаться домой. Вскоре послом СССР в Германии был назначен Деканозов, сохранивший также и пост заместителя наркома иностранных дел. А Шкварцев, вкусив соблазны заграничной жизни и тяготясь текстильной прозой, бомбардировал в годы войны Молотова записками, предлагая использовать “в трудное для Родины время” его “дипломатический опыт”. Записки эти, разумеется, летели прямо в корзину.
Если в связи с допущенной в административном механизме оплошностью или недоработкой от Сталина поступало ука-
зание “найти й наказать виновного”, то жертву следовало обнаружить немедленно, даже не занимаясь длительными расследованиями. Тем более беспощадно расправлялись с каждым, кто вызывал малейшее недовольство вождя. Вспоминается такой эпизод. Как-то Сталин отправил Рузвельту телеграмму, на которую ждал скорого ответа. Но прот шел день, второй, третий, а от американцев ничего не поступало. Молотов поручил мне выяснить, не задержалась ли телеграмма по пути. Отвечал за прохождение правительственных посланий начальник шифровального отдела Нар-коминдела, к которому я и обратился. Он навел справки и сообщил, что телеграмма без помех прошла к пункту, до которого простиралась наша ответственность. Дальше следили американцы, и, поскольку от них не поступало никакого сигнала, надо полагать, что все в порядке. Я все же предложил запросить американцев. Оказалось, что на их стороне произошла какая-то помеха, в связи с чем послание пришло в Вашингтон с двухдневным опозданием. Учитывая условия войны, когда всякое могло случиться, я пришел к выводу, что никакого ЧП не произошло. Так и доложил Молотову.
— Кто же виноват? — спросил он строго.
— По-видимому, никто, по крайней мере, на нашей стороне...
— То есть как это — никто не виноват? Что же я скажу товарищу Сталину? Он очень недоволен и распорядился найти и наказать виновных. А вы мне говорите, что виновных нет! Вы гнилой интеллигент!
Я стоял, опустив голову, не зная, что ответить.
— Что вы стоите как истукан! — раздраженно выкрикнул Молотов. — Позовите Вышинского!
Я пулей вылетел из кабинета.
Вышинский был т^огда первым заместителем наркома иностранных дел, но все мы помнили его как генерального прокурора, получившего зловещую славу во время политических процессов 30-х годов. Он-то найдет виновного, думал я, набирая по кремлевскому аппарату его номер».
С Вышинским Молотов дружно работал еще в период Великой Чистки, но вряд ли предполагал, что со временем Андрей Януарьевич сменит его во главе МИДа.
Поручив Вышинскому разобраться, Молотов уже спокойным тоном принялся втолковывать Бережкову:
— В каждом промахе обязательно кто-то виноват. Что из того, что всегда проверяли прохождение телеграмм только на нашей стороне! А кто завел такой порядок? Надо было проверять всю линию. Кто-то же этот несовершенный порядок установил? А вы говорите — нет виноватого...
Вскоре стало известно, что начальник шифровального отдела исключен из партии и снят с работы. По свидетельству Бережкова, «Молотов долго помнил этот инцидент. Заходя в нашу с Павловым комнату по какому-то делу, а это случалось нередко, он, видя мой приоткрытый сейф, шутливым тоном говорил:
— Ну вот, опять у этого гнилого интеллигента душа нараспашку, сейф не заперт, на столе разбросаны бумаги, входи и смотри. Ох уж эти мне русские интеллигенты!..»
Если проанализировать рассказ бывшего молотовского переводчика, то напрашивается вывод, что никакой самостоятельностью в проведении внешней политики Вячеслав Михайлович не обладал. Он мог лишь советовать Сталину предпринять тот или иной дипломатический шаг, но при этом больше всего боялся, что предложение, не дай бог, вызовет гнев вождя.
Свою роль в НКИДе Молотов видел в доведении до сотрудников сталинских директив и их реализации в ходе переговоров с иностранными партнерами. Он так понимал задачи дипломатии:
«В большинстве случаев послы — передатчики, что им ска-' жут, они только в этих пределах действуют. Я видел, когда мне приходилось действовать в качестве министра иностранных дел, особенно после Сталина, многие удивлялись, что я так самостоятельно веду себя, но я — самостоятельно только в пределах моих директив и стараюсь это подать в таком виде, будто бы обо всем мы договорились. Так дипломат и должен поступать».
Из этого признания подчиненная роль Молотова в осуществлении внешней политики видна особенно явно.
Очень точно роль Молотова в сталинской дипломатии охарактеризовал известный историк и журналист Леонид Млечин:
«Молотов не был дипломатом в традиционном понимании этого слова. Он не был дипломатом, который должен очаровывать партнеров на переговорах, завоевывать друзей и союзников. Этим занимался Сталин, прирожденный актер. У них со Сталиным программа переговоров была расписана наперед. Сталин его выпускал первым, и Молотов доводил партнера до белого каления своим упорством. Тот был в отчаянии, считал, что все сорвалось, а это была лишь разведка боем. После такой подготовки высокопоставленных гостей везли к Сталину... Во время бесед Сталина с иностранцами Молотов молчал, иногда Сталин обращался к нему, называя его «Вячеслав», предлагал высказаться. Тот неизменно отвечал, что Сталин сделает это лучше. Иностранцы фактически жаловались на Молотова. И добродушный Сталин вроде бы шел им на уступки».
В общем, старая игра в злого и доброго следователя.
Иногда говорят, что Молотов, дескать, был «гениальным менеджером — великим дипломатом». На самом деле и во внешней политике, как и во всем другом, Вячеслав Михайлович был всего лишь сталинским приказчиком. Он скорее изображал главу внешнеполитического ведомства, прекрасно сознавая, что реальным главой был Сталин. Молотов занимался, по сути, техническими вопросами — инструктировал послов, поручал своим сотрудникам готовить меморандумы, материалы для переговоров. А на переговорах с союзниками он демонстрировал поразительную жесткость — чтобы партнеры в полной мере оценили уступчивость и доброжелательность Сталина. Правда, когда действовать следовало быстро, как при заключении пакта Молотова — Риббентропа, или когда слабых партнеров, вроде министров государств Прибалтики, надо было принудить к капитуляции, игра в доброго и злого следователя отбрасывалась. Молотов в этих случаях лишь исполнял приказы Сталина, и они или вдвоем разрабатывали текст договора (как в случае с Риббентропом), или Молотов один вынуждал своих партнеров согласиться на ввод советских войск в Литву, Латвию и Эстонию.
4 мая 1941 годах Политбюро приняло постановление о назначении Сталина председателем Совнаркома, а Молотова — его заместителем по Совнаркому, Жданов стал заместителем Сталина как секретаря ЦК ВКП(б). Это
было сделано «в целях повышения координации работы советских и партийных организаций и безусловного обеспечения единства в их руководящей работе, а также для того, чтобы еще больше поднять авторитет советских органов в современной напряженной международной обстановке, требующей всемерного усиления работы советских органов в деле обороны страны».
На практике начавшаяся спустя всего полтора месяца война не позволила Жданову стать реальным заместителем Сталина в текущих партийных делах. Жданов всю войну почти безвылазно провел в осажденном Ленинграде, и в действительности ту роль, которую постановление от 4 мая 1941 года предназначало Жданову, всю войну и первые послевоенные месяцы выполнял Маленков.
14 июня 1941 года в газетах было опубликовано заявление ТАСС, утверждавшее, что Германия столь же скрупулезно соблюдает Пакт о ненападении, как и Советский Союз. Об обстоятельствах появления этого документа Вячеслав Михайлович вспоминал много лет спустя:
«За неделю-полторы до начала войны было объявлено в сообщении ТАСС, что немцы против нас ничего не предпринимают, у нас сохраняются нормальные отношения. Это было придумано, по-моему, Сталиным... Это дипломатическая игра. Игра, конечно. Не вышло. Не всякая попытка дает хорошие результаты, но сама попытка ничего плохого не предвидела... Сообщение ТАСС нужно было как последнее средство. Если бы мы на лето оттянули войну, с осени было бы очень трудно ее начать».
На самом деле заявление ТАСС призвано было проверить, действительно ли концентрация немецких войск на Востоке призвана прикрыть подготовку к высадке в Англии. Но поскольку немцы не отреагировали на это заявление, Сталин и Молотов решили, что Гитлер продолжает прежнюю игру и в действительности в самое ближайшее время вермахт высадится на Британских островах. Тем более что заявление ТАСС было реакцией на дезинформационную статью Геббельса «Уроки Крита», из которой можно было понять, что осуществление десанта в Англию — не за горами. За десять дней до этого, 4 июня, Политбюро приняло постановление о формировании к 1 ию-
ля 1941 года 238-й польской стрелковой дивизии Красной армии, предназначавшейся для участия в нападении на Германию.
На вопрос Чуева, как Сталин относился к Гитлеру, Молотов ответил так:
«Сказать — недооценивал, это было бы неправильно. Он видел, что все-таки Гитлер организовал немецкий народ за короткое время. Была большая коммунистическая партия, и ее не стало — смылись! А Гитлер вел за собой народ, ну и дрались немцы во время войны так, что это чувствовалось».
Когда 22 июня 1941 года Риббентроп сообщил об объявлении войны советскому послу в Берлине Деканозову, по словам присутствовавшего при этом в качестве переводчика Бережкова, «произошло неожиданное: Риббентроп поспешил за нами, стал шепотом уверять, будто лично был против решения фюрера о войне с Россией, даже отговаривал Гитлера от этого безумия, но тот.не хотел слушать.
“Передайте в Москве, что я был против нападения”, — донеслись до меня последние слова Риббентропа, когда, миновав коридор, я уже спускался вслед за послом с лестницы».
Говорят, что в начале 60-х годов пенсионера Молотова встретил на Тверском бульваре один из репрессированных, вернувшийся из ГУЛАГА. Он поинтересовался у Вячеслава Михайловича: «Как поживает твой друг Риббентроп?» Молотов ничего не ответил. Но, наверное, ухмыльнулся про себя: он-то уцелел...
N
В годы Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года в 12 часов дня, выступая по радио, Молотов первым сообщил советскому народу о германском нападении:
«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города... Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером...»
Молотов призвал к «отечественной войне за Родину, за честь, за свободу». Свое обращение он завершил знаменитыми словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Мало кто знает, что это была цитата из одного из первых военных воззваний Гитлера.
Выступление 22 июня 1941 года — это, без сомнения, одна из лучших речей Вячеслава Михайловича. Это был один из редких случаев, когда он говорил совершенно искренне. К тому же был по-настоящему потрясен внезапным германским нападением, и в экстремальной ситуации нашел нужные слова, чтобы, сообщив о начавшейся войне как о серьезнейшем трагическом испытании, воодушевить народ на победу.
В первый день войны Молотов, несмотря на бессонную ночь, читал донесения послов. 26 июня он инструктировал посла в США К. А. Уманского:
«Вам следует немедленно пойти к Рузвельту или Хэллу и запросить, каково отношение американского правительства к этой войне и к СССР. Вопросов о помощи сейчас не следует ставить».
К счастью, Англия устами Черчилля сразу заявила о поддержке всеми силами борьбы Красной армии с Гитлером. Рузвельт также заверил посла, что Соединенные Штаты всецело на советской стороне, хотя в войну пока и не вступают.
В первые дни войны, собираясь с дочерью Светланой в эвакуацию, Полина Жемчужина писала мужу:
«Вяченька, родной, любимый! Уезжаем, не повидав тебя. Очень тяжело. Но что делать, другого выхода нет. Желаю вам всем много сил и бодрости, чтобы помогли вашими решениями и советами победить врага. Береги себя, береги нашего дорогого нам всем т. Сталина. Рука дрожит. О нас не думай. Думай только о нашей родине и ее жизни. Всей душой всегда и всюду с тобой, любимым, родным. Целую бесконечно много раз».
12 июля 1941 года В. М. Молотов и посол С. Криппс подписали Соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии. Налаживалось сотрудничество со странами антигитлеровской коалиции, восстанавливались дипломатические отношения с находившимися в изгнании в Лондоне правительствами европейских государств, оккупированных фашистской Германией (Бельгия, Норвегия, Польша, Чехословакия и др.). 14 августа Молотов сообщил послу СССР в Турции С. Виноградову, что советское правительство согласно установить официальные отношения с де Голлем как руководителем французов-антифашистов.
В октябре 1941 года' в связи с разгромом трех советских фронтов на подступах к Москве и созданием непосредственной угрозы столице, Наркомат иностранных дел СССР вместе с дипкорпусом был эвакуирован в Куйбышев. Молотов, как и Сталин, оставался в Москве. Главное внимание он уделял военным поставкам из Великобритании и США и открытию второго фронта в Европе.
Вячеслав Михайлович пару раз побывал на фронте в качестве «толкача» и «карающей секиры» Сталина. В конце августа и в самом начале сентября 1941 года,
перед установлением блокады Ленинграда, Молотов посетил осажденный город. Туда он еще смог добраться поездом, а обратно пришлось лететь над Ладожским озером, поскольку кольцо блокады уже сомкнулось. После этой поездки по рекомендации Молотова с командования Ленинградским фронтом был снят Ворошилов, которого сменил Жуков.
В октябре 41-го Молотов во главе комиссии ГКО выехал на Западный фронт, чтобы разобраться в причинах постигшей советские войска катастрофы. Много лет спустя Молотов так рассказывал об обстоятельствах этой поездки Феликсу Чуеву:
«Я поехал на фронт снимать Конева. У него не выходило. Пришлось объяснять Коневу, почему он должен быть заменен Жуковым. Жуков поправил дело».
В конце мая — начале июня 1942 года Молотов впервые посетил Великобританию и США. На четырехмоторном бомбардировщике «Пе-8» на десятикилометровой высоте Вячеслав Михайлович пролетел над оккупированной Европой. 20 мая 1942 года Молотов прибыл в Лондон. 26 мая он подписал здесь вместе с главой Форин Оффис Энтони Иденом договор «О союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны». Черчилль высоко оценил «государственную мудрость и понимание», проявленные наркомом во время переговоров. На британского премьера глава советской дипломатии произвел в целом благоприятное впечатление.
Черчилль охарактеризовал Молотова следующим образом:
«Человек, которого Сталин тогда выдвинул на трибуну советской внешней политики, заслуживает описания, которым в то время не располагали английское и французское правительства. Вячеслав Молотов — человек выдающихся способностей и хладнокровно беспощадный.
Он благополучно пережил все страшные случайности и испытания, которым все большевистские вожди подвергались в годы торжества революции. Он жил и процветал в обществе, где постоянно меняющиеся интриги сопровождались постоянной угрозой личной ликвидации. Его черные усы
и проницательные глаза, плоское лицо, словесная ловкость и невозмутимость хорошо отражали его достоинства и искусство. Он стоял выше всех среди людей, пригодных быть агентами и орудием политики машины, действие которой невозможно было предсказать. Я встречался с ним только на равной ноге, в переговорах, где порой мелькала тень юмора, или на банкетах, где он любезно предлагал многочисленные формальные и бессодержательные тосты. Я никогда не видел человеческого существа, которое больше подходило бы под современное представление об автомате. И все же при этом он был, очевидно, разумным и тщательно отшлифованным дипломатом. Щекотливые, испытующие, затруднительные разговоры проводились с совершенной выдержкой, непроницаемостью и вежливой официальной корректностью. Ни разу не обнаружилась какая-нибудь щель. Ни разу не была допущена ненужная полуоткровенность... Как он относился к людям, стоявшим ниже его, сказать не могу. То, как он вел себя по отношению к японскому послу в течение тех лет, когда в результате Тегеранской конференции Сталин обещал атаковать Японию после разгрома германской армии, можно представить себе по записям их бесед. Одно за другим щекотливые, зондирующие и затруднительные свидания проводились с полным хладнокровием, с непроницаемой скрытностью и вежливой официальной корректностью. Завеса не приоткрывалась ни на мгновение. Ни разу не было ни одной ненужной резкой ноты. Его улыбка, дышавшая сибирским холодом, его тщательно взвешенные и часто мудрые слова, его любезные манеры делали из него идеального выразителя советской политики в мировой ситуации, грозившей смертельной опасностью.
Переписка с ним по спорным вопросам всегда была бесполезной, и если в ней упорствовали, она заканчивалась ложью и оскорблениями. Лишь однажды я как будто добился от него естественной, челЪвеческой реакции. Это было весной 1942 года, когда он остановился в Англии на обратном пути из Соединенных Штатов, мы подписали англо-советский договор, и ему предстоял опасный перелет на родину. У садовой калитки на Даунинг-стрит, которой мы пользовались в целях сохранения тайны, я крепко пожал ему руку, и мы взглянули друг другу в глаза. Внезапно он показался мне глубоко тронутым. Под маской стал виден человек. Он ответил мне таким же крепким пожатием. Мы молча сжимали друг другу руки. Однако тогда мы были прочно объединены,
и речь шла о том, чтобы выжить или погибнуть вместе. Вся его жизнь прошла среди гибельных опасностей, которые либо угрожали ему самому, либо навлекались им на других. Нет сомнений, что в Молотове советская машина нашла способного и во многих отношениях типичного представителя — всегда верного члена партии и последователя коммунизма. Дожив до старости, я радуюсь, что мне не пришлось пережить того напряжения, какому он подвергался, — я предпочел бы вовсе не родиться. Что же касается руководства внешней политикой, то Сюлли, Талейран и Меттерних с радостью примут его в свою компанию, если только есть такой загробный мир, куда большевики разрешают себе доступ».
Британский премьер также особо отмечал:
«Для того чтобы выторговать более выгодные условия в переговорах, Сталин и Молотов считали необходимым скрывать свои истинные намерения до самой последней минуты. Молотов и его подчиненные проявили изумительные образцы двуличия во всех сношениях с обеими сторонами».
Что ж, это нормальный дипломатический прием, обычный для дипломатов всех стран мира. Наверняка Черчилль и Иден не раз действовали точно так же. И уподобление Молотова Талейрану и Меттерниху — все-таки перебор. Те, по крайней мере, сами формировали внешнюю политику, убеждали императоров и королей принять выбранный ими курс. Вячеслав Михайлович же был только послушным исполнителем сталинской воли. Талейран и Меттерних умели добиться положительного дипломатического результата в условиях, когда их страны находились в критическом, казавшемся безнадежным положении. Успехи Молотова были лишь переводом в дипломатические формулы людского, военного и экономического потенциала СССР (в период короткой советско-германской дружбы), острой нужды Англии и США в СССР как своем главном союзнике (в 1941 — 1942 годах) и военных успехов Красной армии (начиная с 1943 года). И это при том, что основные переговоры с союзными лидерами вел не Молотов, а Сталин и он же решал главные вопросы межсоюзнических отношений.
Вячеслав Михайлович негативно относился к своим западным партнерам по переговорам, хотя, естественно,
старался не показывать этого. Особенно худого мнения он был о президенте Трумэне. В 1971 году он вспоминал в беседе с Чуевым:
«Умер Рузвельт. Первая встреча с Трумэном. Он начинает со мной таким приказным тоном говорить! А перед этим у меня в Москве был разговор с Гарриманом и английским послом Керром по польскому вопросу — как формировать правительство. Мы за то, чтоб формировал его Польский национальный комитет, а они нам всячески Миколайчика этого подсовывают. И Трумэн: «Что же вы ставите так вопрос, что с вами нельзя согласиться; ведь это недопустимо!» Я думаю, что это за президент? Говорю: «В таком тоне я не могу с вами разговаривать». Он осекся немного... Туповатый, по-моему. И очень антисоветски настроенный. Поэтому начал в таком тоне, хотел показать свое «я»... Пришлось говорить с нами более солидно и спокойно. Потом он сказал о себе, что он себя скромно оценивает: «Таких, как я, в Америке — миллионы, но я — президент». На рояле играл. Неплохо, но ничего особенного, конечно. До интеллекта Рузвельта далеко. Большая разница. Одно общее: Рузвельт тоже был матерым империалистом».
Кстати сказать, Черчилля Молотов также именовал «насквозь империалистом».
Черчилль так изложил ход своих первых переговоров с Молотовым в Лондоне:
«Молотов начал с сообщения о том, что советское правительство поручило ему поехать в Лондон для обсуждения вопроса о создании второго фронта. Это не было новой проблемой. Впервые она была поставлена около десяти месяцев назад, а затем сравнительно недавно толчок этому был дан президентом Рузвельтом, который предложил г-ну Сталину, чтобы он \т-н Молотов) отправился в Соединенные Штаты обсудить этот вопрос. Хотя в данном случае инициатива исходила от Соединенных Штатов, советское правительство сочло целесообразным, чтобы он поехал в Соединенные Штаты через Лондон, поскольку именно на Великобританию должна выпасть первоначально главная задача по организации второго фронта.
Цель его визита — выяснить, как рассматривает английское правительство перспективу отвлечения в 1942 году по <мень-шей мере 40 германских дивизий из СССР, где в данный
момент перевес в вооруженных силах принадлежит, по-видимому, немцам.
Отвечая Молотову, я изложил ему суть наших общих взглядов по поводу будущих операций на континенте. Во всех предыдущих войнах контроль на море давал державе, обладавшей им, великое преимущество — возможность высадиться по желанию на неприятельском побережье, поскольку противник был не в состоянии подготовиться во всех пунктах к отражению вторжения с моря. Появление авиации изменило все положение. Например, во Франции, Бельгии и Голландии противник может за несколько часов перебросить свою авиацию к угрожаемы^ пунктам в любой части побережья, а горький опыт показал, что высадка десанта при наличии сильного неприятельского сопротивления в воздухе не является разумным военным предприятием.
Неизбежным последствием этого является то, что значительные участки побережья континента не могут быть использованы нами в качестве мест для высадки войск и судов. Поэтому мы вынуждены изучать свои шансы на высадку в тех районах побережья, где наше превосходство в истребительной авиации дало бы нам контроль в воздухе. По сути дела, наш выбор сводится к Па-де-Кале, оконечности Шербурского полуострова и части района Бреста. Проблема высадки войск в этом году в одном или нескольких из этих районов изучается и подготовка ведется. В своих планах мы исходим из предположения, что высадка последовательными эшелонами штурмовых войск вызовет воздушные бои, которые, в случае если они продолжатся неделю или десять дней, приведут к фактическому уничтожению неприятельской авиации на континенте. Когда это будет достигнуто и сопротивление в воздухе ликвидировано, в других пунктах побережья смогут быть высажены десанты под прикрытием нашего превосходящего по силе морского флота.
Критическим моментом в разработке наших планов и в приготовлениях является вопрос о специальных десантных судах, необходимых для осуществления первоначального десанта на весьма сильно обороняемом неприятельском побережье. К несчастью, наши ресурсы в отношении этого специального типа судов в данный момент строго ограничены. Я сказал, что уже в августе прошлого года, во время встречи в Атлантическом океане,
я доказал президенту Рузвельту неотложную необходимость постройки Соединенными Штатами как можно большего числа танкодесантных и других десантных судов. Позднее, в январе этого года, президент согласился на то, чтобы Соединенные Штаты предприняли еще большие усилия в деле строительства этих судов. Мы, со своей стороны, на протяжении более чем года выпускаем столько десантных судов, сколько это допускает наша потребность в строительстве судов для военного и торгового флотов, понесших тяжелые потери.
Однако следует иметь в виду два момента. Во-первых, при всем желании и несмотря на все старания, маловероятно, чтобы любой шаг, который мы смогли бы предпринять в 1942 году, будь он даже успешным, отвлек с Восточного фронта крупные контингенты неприятельских сухопутных сил. В воздухе, однако, положение другое: на различных театрах военных действий мы уже сковываем около половины истребительной и одну треть германской бомбардировочной авиации. Если наш план навязывания воздушных сражений над континентом окажется успешным, немцы, возможно, столкнутся с необходимостью выбирать между уничтожением в боях всей их истребительной авиации на Западе и отвлечением части своих военно-воздушных сил с Востока.
Второй момент касается предложения г-на Молотова о том, что нашей целью должно быть отвлечение из России не менее 40 германских дивизий (включая те, которые сейчас находятся на Западе). Следует отметить, что в настоящий момент перед нами в Ливии стоят 11 дивизий оси, из которых 3 — германские, в Норвегии — эквивалент 8 германских дивизий и во Франции, Голландии и Бельгии — 25 германских дивизий. Это составляет в общей сложности 44 дивизии. N
Но мы этим не удовлетворяемся, и, если можно будет предпринять какие-то дальнейшие усилия или разработать план облегчения в этом году бремени, лежащего на России, мы не поколеблемся сделать это при условии, что этот план будет здравым и разумным. Ясно, что ни делу русских, ни делу союзников в целом не принесло бы пользы, если бы, действуя любой ценой только для того, чтобы действовать, мы предприняли операцию, которая кончилась бы катастрофой и дала бы противнику повод для похвальбы, а нас ввергла бы в замешательство.
Молотов сказал, что он не сомневается в том, что Англия искренне желает успеха советской армии в боях против немцев этим летом. Каковы же, с точки зрения английского правительства, перспективы на советский успех? Каковы бы ни были его взгляды, он будет рад услышать откровенное выражение мнения — будь то хорошее или плохое.
Я сказал, что без детального знания ресурсов и резервов обеих сторон трудно составить твердое суждение по этому вопросу. В прошлом году военные эксперты, включая германских, думали, что советскую армию можно подавить и одолеть. Оказалось, что они полностью ошиблись. В конечном результате советские силы нанесли поражение Гитлеру и чуть не привели его армию к катастрофе. Поэтому союзники России глубоко верят в силу и способности советской армии. Данные разведки, которыми располагает английское правительство, не указывают на то, что немцы сосредоточивают огромные силы на каком-то отдельном участке Восточного фронта. Кроме того, сейчас представляется маловероятным, чтобы широкое наступление, возвещенное на май, произошло раньше июня. Во всяком случае, не похоже на то, чтобы гитлеровское наступление в этом году могло быть таким сильным и таким угрожающим, как наступление 1941 года.
Тогда Молотов спросил, каково будет положение и позиция английского правительства в случае, если советская армия не выдержит в течение 1942 года.
Я сказал, что, если бы советская военная мощь серьезно сократилась в результате германского натиска, Гитлер, по всей вероятности, перебросил бы как можно больше войск и авиации на Запад с целью вторжения в Великобританию. Он может также нанести удар на юг через Баку по Кавказу и Персии. Это последнее наступление подвергло бы нас величайшим опасностям, и мы отнюдь не должны быть уверены, что у нас достаточно сил, чтобы его отразить. Поэтому наша судьба связана с сопротивлением советской армии. Тем не менее, если вопреки ожиданиям она будет разбита и если наступит самое худшее, мы будем продолжать борьбу дальше. В конечном счете силы Великобритании и Соединенных Штатов взяли бы верх. Но какой трагедией для человечества явилось бы такое затягивание войны! Какие серьезные надежды возлагаются на русскую победу и как горячо стремление к тому, чтобы мы сыграли свою роль в победе над злобным врагом!
Под конец нашего разговора я попросил г-на Молотова помнить о трудностях вторжения через море. После того как Франция выпала из войны, Великобритания осталась почти оголенной, имея несколько плохо снаряженных дивизий, менее сотни танков и менее 20 полевых орудий. И все же Гитлер не попытался предпринять вторжение в силу того, что он не мог добиться господства в воздухе. Те же трудности стоят перед нами в настоящее время».
Добиться открытия второго фронта в 1942 году в Европе Молотову не удалось — для десанта через Ла-Манш у союзников не было необходимых средств, прежде всего транспортных. А вот союзный договор с Англией был подписан сроком на 20 лет. Но он не содержал признания границ Советского Союза, обретенных в'результате пакта Молотова — Риббентропа, хотя Сталин и настаивал на этом. После Лондона Молотов отправился в США, чтобы обсудить проблему второго фронта с президентом Рузвельтом.
По возвращении Молотова из Вашингтона в Лондон они вместе с Иденом обнародовали 11 июня 1942 года коммюнике, в котором сообщалось, что «во время переговоров была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году». Но это коммюнике призвано было только дезориентировать немцев. И Молотов и Черчилль уже знали в тот момент, что в 1942 году второго фронта в Европе не будет. Союзники ограничились высадкой в Северной Африке. Перед публикацией коммюнике британский премьер вручил советскому наркому памятную записку, где говорилось:
«Мы ведем подготовку к высадке на континенте в августе или сентябре 1942 года. Как уже объяснялось, основным фактором, ограничивающим размеры десантных сил, является наличие специальных десантных судов. Между тем ясно, что ни для дела русских, ни для дела союзников в целом не было бы полезно, если бы мы, ради действий любой ценой, предприняли какую-либо операцию, которая закончилась бы катастрофой и дала бы противнику удобный случай для похвальбы, а нас ввергла бы в замешательство. Невозможно сказать заранее, будет ли положение таково, чтобы сделать эту операцию осуществимой, когда наступит время. Следовательно, мы не можем дать обещание в этом
отношении, но, если это окажется здравым и разумным, мы не поколеблемся претворить свои планы в жизнь».
В Англии Молотову была предоставлена загородная резиденция в Чекерсе. С ней были связаны курьезы, вызванные повышенной бдительностью советского гостя, возможно, полагавшего, что по Лондону и его окрестностям бродят толпы германских шпионов и диверсантов. Черчилль следующим образом описал ее в мемуарах:
«Глубоко укоренившаяся подозрительность, с которой русские относились к иностранцам, проявилась в ряде замечательных инцидентов во время пребывания Молотова в Чекерсе. По прибытии русские немедленно попросили ключи от всех спален. С некоторым трудом эти ключи раздобыли, и в дальнейшем гости все время держали свои двери на запоре. Когда обслуживающему персоналу Чекерса удалось забраться в спальни, чтобы убрать постели, люди были смущены, обнаружив под подушками пистолеты. Трех главных членов миссии сопровождали не только их собственные полицейские, но также две женщины, которые заботились об их одежде и убирали их комнаты. Когда советские представители уезжали в Лондон, эти женщины все время сторожили комнаты своих хозяев, спускаясь вниз поодиночке, чтобы поесть. Мы можем, однако, утверждать, что затем они несколько оттаяли и даже болтали с прислугой на ломаном французском языке и при помощи жестов.
Чрезвычайные меры предосторожности принимались для обеспечения личной безопасности Молотова. Его комната была тщательно обыскана его полицейскими, опытные глаза которых самым внимательным образом осматривали до мелочей каждый шкаф, каждый предмет меблировки, стены и полы. Объектом особенного внимания была кровать; все матрацы были прощупаны на тот случай, не окажется ли там адских машин, а простыни и одеяла были перестланы русскими так,' чтобы ее обитатель мог выскочить в одну секунду, а не оказаться закутанным наглухо. На ночь револьвер клали рядом с его халатом и портфелем. Принимать меры предосторожности на случай опасности всегда правильно, в особенности во время войны, но каждое усилие должно соответствовать реальности этой опасности. Простейший метод проверки — это спросить себя, заинтересована ли другая сторона в убийстве данного лица. Что каса-
ется меня, то при моих посещениях Москвы я полностью доверял русскому гостеприимству».
В августе 1942 года Черчилль побывал в Москве и остался доволен роскошным приемом. Его хорошо описал Валентин Бережков:
«С аэродрома Черчилля доставили в отведенную ему резиденцию в Кунцеве. Гарриману был предоставлен особняк на улице Островского. Остальные члены делегации разместились в гостинице “Националь”. Черчилля поразили удобства этой виллы, чего он никак не ожидал в осажденной Москве. Ему сразу же приготовили горячую ванну, в которой он долго нежился после длительного и утомительного перелета. В столовой был сервирован изысканный ланч. Вышколенные официанты, разнообразные закуски, красная и черная икра, холодный поросенок, блюда кавказской, русской и французской кухни, вина, крепкие и прохладительные напитки, дорогая сервировка — всего этого лидер тори не рассчитывал встретить в стране большевиков (особенно в период, когда страна вела тяжелейшую войну, а в блокадном Ленинграде люди поедали трупы и друг друга. — Б. С.). Он на всякий случай даже захватил с собой из Лондона сандвичи, полагая, что в Кремле живут впроголодь. Позже, сказав об этом Сталину, он признался, что не надеялся на столь обильное угощение, съел в самолете несколько бутербродов, испортив себе аппетит. А Сталин впоследствии, в узком кругу, рассказывал об этом, приговаривая:
— Что за лицемер Черчилль! Хотел меня убедить, будто с такой комплекцией сидит в Лондоне только на сандвичах...
Молотов заметил, что когда весной 1942 года в английской столице Черчилль пригласил его на ланч, то, кроме овсяной каши и ячменного эрзац-кофе, ничего не подавали.
— Все это дешевая игра в демократию, Вячеслав. Он тебя просто дурачил, — убежденно сказал Сталин. Он не мог себе представить, чтобы где-то руководители делили тяготы со своим народом».
Иосиф Виссарионович и Вячеслав Михайлович делить военные тяготы с народом отнюдь не собирались.
Перед отлетом Черчилля состоялся примечательный обед со Сталиным и Иденом, на котором окончательно
утрясался текст коммюнике. Он проходил в ночь с 15 на 16 августа. Британский премьер вспоминал:
«Наша беседа, длившаяся час, подходила к концу, и я поднялся и начал прощаться. Сталин вдруг, казалось, пришел в замешательство и сказал особенно сердечным тоном, каким он еще не говорил со мной: “Вы уезжаете на рассвете. Почему бы нам не отправиться ко мне домой и не выпить немного?”
Я сказал, что в принципе я всегда за такую политику. Он повел меня через многочисленные коридоры и комнаты до тех пор, пока мы не вышли на безлюдную мостовую внутри Кремля и через несколько сот шагов пришли в квартиру, в которой он жил. Он показал мне свои личные комнаты, которые были среднего размера и обставлены просто и достойно. Их было четыре — столовая, кабинет, спальня и большая ванная. Вскоре появилась сначала очень старая экономка, а затем красивая рыжеволосая девушка, которая покорно поцеловала своего отца.
Он взглянул на меня с усмешкой в глазах, и мне показалось, что он хотел сказать: “Видите, мы, большевики, тоже живем семейной жизнью”.
Дочь Сталина начала накрывать на стол, и вскоре экономка появилась с несколькими блюдами. Тем временем Сталин раскупоривал разные бутылки, которые вскоре составили внушительную батарею.
Затем он сказал: “Не позвать ли нам Молотова? Он беспокоится о коммюнике. Мы могли бы договориться о нем здесь. У Молотова есть одно особенное качество — он может пить”.
Тогда я понял, что предстоит обед. Я собирался обедать на государственной даче номер 7, где меня ждал польский командующий генерал Андерс, но я попросил моего нового и превосходного переводчика майора Бирса позвонить и передать, что я вернусь после полуночи. Вскоре прибыл Молотов. Мы сели за стол, и с двумя переводчиками нас было пятеро. Майор Бирс жил в Москве 20 лет и отлично понимал Сталина, с которым он в течение некоторого времени вел довольно живой разговор, в котором я не мог принять участия...
Обед был, очевидно, импровизированным и неожиданным, но постепенно приносили все больше и больше еды. Мы отведывали всего понемногу, по русскому обычаю,
пробуя многочисленные и разнообразные блюда, и потягивали различные превосходные вина. Молотов принял свой самый приветливый вид, а Сталин, чтобы еще больше улучшить атмосферу, немилосердно подшучивал над ним.
Вскоре мы заговорили о конвоях судов, направляемых в Россию. В этой связи он сделал грубое замечание о почти полном уничтожении арктического конвоя в июне... В то время мне не были известны многие подробности, которые я знаю сейчас.
“Г-н Сталин спрашивает, — сказал Павлов несколько нерешительно, — разве у английского флота нет чувства гордости?”
Я ответил:
“Вы должны верить мне, что то, что было сделано, было правильно. Я действительно знаю много о флоте и морской войне”.
“Это означает, — вмешался Сталин, — что я ничего не знаю”.
“Россия сухопутный зверь, — сказал я, — а англичане морские звери”.
Он замолчал и вновь обрел свое благодушное настроение.
Я перевел разговор на Молотова:
“Известно ли маршалу, что его министр иностранных дел во время своей недавней поездки в Вашингтон заявил, что он решил посетить Нью-Йорк исключительно по своей инициативе и что его задержка на обратном пути объяснялась не какими-нибудь неполадками с самолетом, а была преднамеренной? ”
Хотя на русском обеде в шутку можно сказать почти все, что угодно, Молотов отнесся к этому довольно серьезно.
Но лицо Сталина просияло весельем, когда он сказал:
“Он отправился не в Нью-Йорк. Он отправился в Чикаго, где живут другие гангстеры”.
Когда отношения были, таким образом, полностью восстановлены, беседа продолжалась. Я заговорил о высадке англичан в Норвегии при поддержке русских и объяснил, что, если бы нам удалось захватить Нордкап зимой и уничтожить там немцев, это открыло бы путь для наших конвоев. Этот план... всегда был одним из моих излюбленных планов. Казалось, Сталину он понравился, и, обсудив средства его осуществления, мы договорились, что нам следует выполнить его по мере возможности.
Было уже за полночь, а Кадоган все не: появлялся с проектом коммюнике.
“Скажите мне, — спросил я, — на вас лично так же тяжело сказываются тяготы этой войны, как проведение политики коллективизации?”
Эта тема сейчас же оживила маршала.
“Ну нет, — сказал он, — политика коллективизации была страшной борьбой”.
“Я так и думал, что вы считаете ее тяжелой, — сказал я, — ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей”.
“С десятью миллионами, — сказал он, подняв руки. — Это было что-то страшное, это длилось четыре года, но для того, чтобы избавиться от периодических голодовок, России было абсолютно необходимо пахать землю тракторами. Мы должны механизировать наше сельское хозяйство. Когда мы давали трактора крестьянам, то они приходили в негодность через несколько месяцев. Только колхозы, имеющие мастерские, могут обращаться с тракторами. Мы всеми силами старались объяснить это крестьянам. Но с ними было бесполезно спорить. После того как вы изложите все крестьянину, он говорит вам, что он должен пойти домой и посоветоваться с женой, посоветоваться со своим подпаском”.
Это последнее выражение было новым для меня в этой связи.
“Обсудив с ними это дело, он всегда отвечает, что не хочет колхоза и лучше обойдется без тракторов”.
“Это были люди, которых вы называли кулаками?”
“Да, — ответил он, не повторив этого слова. После паузы он заметил: — Все это было очень скверно и трудно, но необходимо”.
“Что же произошло?” — спросил я.
“Многие из них согласились пойти с нами, — ответил он. — Некоторым из них дали землю для индивидуальной обработки в Томской области, или в Иркутской, или еще дальше на север, но основная их часть была весьма непопулярна, и они были уничтожены своими батраками”.
Наступила довольно длительная пауза. Затем Сталин продолжал:
“Мы не только в огромной степени увеличили снабжение продовольствием, но и неизмеримо улучшили качество зер-
на. Раньше выращивались всевозможные сорта зерна. Сейчас во всей нашей стране никому не разрешается сеять какие бы то ни было другие сорта, помимо стандартного советского зерна. В противном случае с ними обходятся сурово. Это означает еще большее увеличение снабжения продовольствием ”.
Я воспроизвожу эти воспоминания по мере того, как они приходят мне на память, и помню, какое сильное впечатление на меня в то время произвело сообщение о том, что миллионы мужчин и женщин уничтожаются или навсегда переселяются. Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина. Я не повторил афоризм Берка: “Если я не могу провести реформы без несправедливости, то не надо мне реформ”. В условиях, когда вокруг нас свирепствовала мировая война, казалось бесполезным морализировать вслух.
К часу ночи прибыл Кадоган с проектом коммюнике, и мы занялись его окончательным редактированием. На стол подали молочного поросенка довольно крупных размеров. До сих пор Сталин только пробовал отдельные блюда, но время близилось уже к 3 часам ночи, и это был его обычный обеденный час. Он предложил Кадогану вместе с ним атаковать жертву, а когда мой друг отказался, хозяин обрушился на жертву в одиночку. Закончив, он поспешно вышел в соседнюю комнату, чтобы выслушать доклады со всех участков фронта, которые начинали поступать к нему после 2 часов утра. Он возвратился минут через 20, и к тому времени мы согласовали коммюнике.
Наконец в 2 часа 30 минут утра я сказал, что должен ехать. Мне нужно было полчаса добираться до дачи и столько же ехать до аэродрома. Голова моя раскалывалась от боли, что было для меня весьма необычным. А, мне еще нужно было повидаться с генералом Андерсом. Я просил Молотова не провожать меня на рассвете, так как он явно был очень утомлен. Он посмотрел на меня укоризненно, как бы говоря: “Вы действительно думаете, что я не провожу вас?”»
В коммюнике говорилось, что «был принят ряд решений, охватывающих область войны против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе. Эту справедливую
освободительную войну оба правительства исполнены решимости вести со всей силой и энергией до полного уничтожения гитлеризма и всякой подобной тирании.
Беседы, происходившие в атмосфере сердечности и полной откровенности, дали возможность еще раз констатировать наличие тесного содружества и взаимопонимания между Советским Союзом, Великобританией и США в полном соответствии с существующими между ними союзными отношениями».
Показательно, что Черчилль, хотя и ужаснулся гибели 10 миллионов человек во время насильственной коллективизации, похоже, поверил сталинским сказкам о том, что коллективизация имела благую цель — утвердить научно-технический прогресс в сельском хозяйстве и избавить народ от периодических массовых голодовок. Тогда как в действительности единственными целями этой «реформы» были получение дополнительных средств для милитаризации экономики и ликвидация последнего еще остававшегося в СССР класса собственников. Сталин, естественно, ничего не сказал и о том, что большинство из 10 миллионов крестьян погибло в ходе вызванного коллективизацией голода. И разумеется, тогда, в августе 1942 года, ни Сталин, ни Молотов, ни Черчилль не могли предвидеть, что советскому народу предстоит еще испытать послевоенный голод 1946—1947 годов.
На первой встрече трех лидеров стран антигитлеровской коалиции, состоявшейся в Тегеране в конце ноября — начале декабря 1943 года, Молотов активно агитировал Рузвельта из-за угрозы германского теракта поселиться в советском посольстве, чтобы избежать поездок по городу. На самом деле вся история с якобы готовившимся покушением на «Большую тройку» была выдумана Сталиным, вероятно по подсказке Берии, во-первых, для того, чтобы иметь возможность прослушивать переговоры Рузвельта с членами своей делегации, и, во-вторых, с целью оказывать на него дополнительное воздействие в ходе неформальных бесед «один на один».
Черчилль вспоминал:
«Молотов, прибывший в Тегеран за 24 часа до нашего приезда, выступил с рассказом о том, что советская разведка
раскрыла заговор, имевший целью убийство одного или более членов “Большой тройки”, как нас называли, и поэтому мысль о том, что кто-то из нас должен постоянно разъезжать туда и обратно, вызывала у него глубокую тревогу.
“Если что-нибудь подобное случится, — сказал он, — это может создать самое неблагоприятное впечатление”.
Этого нельзя было отрицать. Я всячески поддерживал просьбу Молотова к президенту переехать в здание советского посольства, которое было в три или четыре раза больше, чем остальные, и занимало большую территорию, окруженную теперь советскими войсками и полицией. Мы уговорили Рузвельта принять этот разумный совет, и на следующий день он со всем своим штатом, включая и превосходных филиппинских поваров с его яхты, переехал в русское владение, где ему было отведено обширное и удобное помещение. Таким образом, мы все оказались внутри одного круга и могли спокойно, без помех, обсуждать проблемы мировой войны. Я очень удобно устроился в английской миссии, и мне нужно было пройти всего лишь несколько сот ярдов до здания советского посольства, крторое на время превратилось, можно сказать, в центр всего мира».
Как мы убедились, Черчилль так же легко, как и Рузвельт, купился на советскую выдумку.
Во время одного из совместных обедов в Тегеране произошел замечательный инцидент. Его хорошо описал в своих мемуарах Черчилль:
«Обедали мы у Сталина, в узкой компании: Сталин и Молотов, президент, Гопкинс, Гарриман, Кларк Керр, я, Иден и наши переводчики. Усталости от трудов заседания как не бывало, было довольно весело, предлагалось много тостов. Как раз в это время в дверях появился Элиот Рузвельт, который прилетел, чтобы присоединиться к своему отцу; кто-то жестом пригласил его войти. Поэтому он вошел и занял место за столом. Он даже вмешивался в разговор и впоследствии дал весьма пристрастный и крайне неверный отчет о том, что он слышал. Сталин, как рассказывает Гопкинс, сильно меня “поддразнивал”, но я принимал это спокойно до тех пор, пока маршал в шутливом тоне не затронул серьезного и даже жуткого вопроса наказания
немцев. Германский генеральный штаб, сказал он, должен быть ликвидирован.
Вся сила могущественных армий Гитлера зависит примерно от 50 тысяч офицеров и специалистов. Если этих людей выловить и расстрелять после войны, военная мощь Германии будет уничтожена с корнем.
Здесь я счел нужным сказать:
“Английский парламент и общественное мнение никогда не потерпят массовых казней. Даже если в период военного возбуждения и будет дозволено начать их, английский парламент и общественное мнение после первой же массовой бойни решительно выступят против тех, кто несет за это ответственность. Советские представители не должны заблуждаться на этот счет”.
Однако Сталин, быть может, только шутки ради продолжал говорить на эту тему.
“50 тысяч, — сказал он, — должны быть расстреляны”.
Я очень рассердился.
“Я предпочел бы, — сказал я, — чтобы меня тут же вывели в этот сад и самого расстреляли, чем согласиться запятнать свою честь и честь своей страны подобным позором”.
Здесь вмешался президент. Он внес компромиссное предложение. Надо расстрелять не 50 тысяч, а только 49 тысяч человек. Этим он, несомненно, рассчитывал свести все к шутке. Иден тоже делал мне знаки и жесты, чтобы успокоить меня и показать, что это шутка. Однако в этот момент Элиот Рузвельт поднялся со своего места в конце стола и произнес речь, в которой выразил свое полное согласие с планом маршала Сталина и свою полную уверенность в том, что американская армия поддержит его. Здесь я не выдержал, встал из-за стола и ушел в соседнюю комнату, где царил полумрак. Я не пробыл там и минуты, как почувствовал, что кто-то хлопнул меня сзади руками по плечам. Это были Сталин и Молотов; оба они широко улыбались и с живостью заявили, что они просто шутили и что ничего серьезного они и не думали. Сталин бывает обаятелен, когда он того хочет, и мне никогда не приходилось видеть, чтобы он проявлял это в такой степени, как в этот момент.
Хотя в то время — как и сейчас — я не вполне был уверен, что все это была шутка и что за ней не скрывалось серьезно-
го намерения, я согласился вернуться к-столу,: и остальная часть вечера прошла очень приятно».
Сейчас не приходится сомневаться, что Сталин и Молотов были вполне серьезны и в тот вечер прощупывали реакцию союзников на свое людоедское предложение. И в дальнейшем они максимально задерживали возвращение из плена германских офицеров и генералов. А нескольких, вроде коменданта Берлина Вейдлинга и фельдмаршала фон Клейста, возможно, даже отравили. И это при том, что подобные меры были абсолютно бесполезны в качестве попытки воспрепятствовать возрождению германских вооруженных сил, поскольку подавляющее большинство офицеров и генералов вермахта оказались в плену у западных союзников и сравнительно быстро обрели свободу. Если бы случилось иначе и большинство немецких генералов и старших офицеров оказалось в советском плену, Сталин и Молотов, скорее всего, осуществили бы свою идею и поступили бы с ними так же, как с польскими офицерами и генералами в Катыни. Кстати, вскоре после окончания войны на Западе стали все больше склоняться к выводу, что Катынь — советских рук дело. В этих условиях уничтожать большинство из оказавшихся в советском плену немецких военных было слишком рискованно. Резонанс в Германии и во всем мире мог быть непредсказуем по своим последствиям.
В переговорах Сталина с Рузвельтом и Черчиллем Молотов играл роль «злого следователя», аппетиты которого якобы вынужден был умерять Сталин, в результате добивавшийся принятия союзниками своих требований. Не знаю, действительно ли Черчилль и Рузвельт не разгадали тактику этой игры или только делали вид, что верят в большую умеренность Сталина по сравнению с Молотовым. Вряд ли они недооценивали степень централизации власти в Москве и не понимали, что какие-либо разногласия между Сталиным и Молотовым во внешнеполитических вопросах, да еще демонстрируемые публично, на международных конференциях и в посланиях зарубежным лидерам, в принципе невозможны.
В то время и британский министр иностранных дел, и американский государственный секретарь никакой
самостоятельной роли в определении и осуществлении внешней политики не играли. Все основные вопросы решали непосредственно Рузвельт и Черчилль, в переговорах и переписке друг с другом и со Сталиным. А британский премьер и американский президент, что ни говори, были искушенными политиками и должны были понимать на самом деле, что в «столь абсолютной диктатуре» (как назвал сталинский режим Рузвельт после советского нападения на Финляндию) глава внешнеполитического ведомства тем более не может играть самостоятельной роли, особенно в условиях жесточайшей централизации военного времени. Скорее всего, Черчиллю просто выгодно было представить в мемуарах дело таким образом, что ему удалось добиться от Сталина хоть каких-то уступок и преодолеть жесткую позицию Молотова. Тем самым британский премьер как бы оправдывал те реальные компромиссы, на которые они с Рузвельтом вынуждены были пойти, фактически согласившись с господством Сталина в Восточной Европе.
С Тегеранской конференцией связана и оценка Молотова в книге сына президента Франклина Рузвельта Элиота Рузвельта «Его глазами». В качестве адъютанта отца он присутствовал в Тегеране. Вот как описан соответствующий эпизод в русском переводе, изданном в Москве в 1947 году:
«...Я направился к отцу, ожидая с некоторым волнением условленного визита Сталина и Молотова. Они прибыли точно в назначенное время в сопровождении худощавого Павлова. Меня представили. Мы пододвинули кресла к кушетке отца; я уселся, собираясь с мыслями. Я был удивлен тем, что Сталин ниже среднего роста, хотя мне и раньше рассказывали об этом. К моему большому удовольствию, он весьма приветливо поздоровался со мной и так весело взглянул на меня, что и мне захотелось улыбнуться.
Когда Сталин заговорил, предложив предварительно мне и отцу по русской папиросе с двухдюймовым картонным мундштуком, которая содержит на две-три затяжки крепкого темного табаку, я понял и другое: несмотря на его спокойный низкий голос, размеренную речь и невысокий рост, в нем сосредоточена огромная энергия; он, по-видимому, обладает колоссальным запасом уверенности и выдержки.
Слушая спокойную речь Сталина, наблюдая его быструю ослепительную улыбку, я ощущал решимость, которая заключена в самом его имени: Сталь».
В этом тексте сделана весьма показательная купюра. После слов «колоссальным запасом уверенности и выдержки» в английском оригинале было:
«Рядом с ним его министр иностранных дел Молотов был серым и бесцветным, вроде бледной машинописной копии моего дяди Теодора Рузвельта, как я его помнил».
Неизвестный цензор убрал из русского перевода обидную для Вячеслава Михайловича, но в целом весьма справедливую характеристику. Однако, скорее всего, Сталин был знаком с переводом этой книги без купюр. Цензором мог выступить здесь либо он, либо сам Молотов, так как именно МИД цензурировал такого рода литературу. Если дело действительно обстояло так, то Сталин мог только укрепиться в своем недоверии к Молотову, который не захотел выступать в роли тени, лишь подчеркивающей величие вождя. Если же цензуру осуществил сам Сталин, то это могло быть вызвано желанием продемонстрировать Молотову, что он не желает его публично унижать столь нелестной характеристикой, хотя сам в душе уже поставил, вероятно, к тому времени на Вячеславе Михайловиче жирный крест.
6 января 1942 года Молотов подписал первую и единственную ноту НКИД, где прямо говорилось о массовом истреблении нацистами евреев в Бабьем Яре под Киевом, во Львове, Одессе и других украинских городах. Но уже в следующей ноте на эту тему, датированной 28 апреля 1942 года, он, явно по указанию Сталина, вынужден был говорить только о намерении гитлеровцев истребить советское население, независимо от национальности, и о том, что они уничтожили «мирное население» Таганрога, Керчи, Минска, Пинска, Витебска, никак не упоминая, что жертвы были евреями. А ведь сам Вячеслав Михайлович сочувствовал советским евреям, вместе с женой интересовался возможностями сохранения их языка и культуры, но ослушаться Сталина не смел и не мог упомянуть о холокосте.
А в феврале 1943 года Молотов направил союзникам ноту в ответ на их призывы освободить из тюрьмы лидеров Бунда Генриха Эрлиха и Виктора Альтера. В ноте говорилось: «В октябре и ноябре 1941 года Эрлих и Альтер систематически вели предательскую деятельность, призывая войска прекратить кровопролитие и немедленно заключить мир с фашистской Германией». За это они по приговору Военной коллегии Верховного суда будто бы были расстреляны 23 декабря 1941 года. На самом деле Эрлих покончил с собой в Лубянской тюрьме, а Альтера расстреляли лишь 17 февраля 1943 года, чтобы задним числом привести реальность в соответствие с содержанием ноты.
Тремя днями ранее Молотов направил ее текст на согласование Берии, подчеркнув, что он одобрен Сталиным. Очевидно, Лаврентий Павлович получил и прямое указание Иосифа Виссарионовича о расстреле Альтера.
Разумеется, союзники ахинее, содержавшейся в моло-товской ноте, не поверили ни на минуту, но ссориться со столь ценным союзником по антигитлеровской коалиции, как дядюшка Джо, из-за двух несчастных евреев не стали, а пару месяцев спустя простили ему и расстрел тысяч поляков в Катыни.
А Вячеславу Михайловичу врать было не привыкать. В апреле 43-го он бодро возлагал в своцх нотах вину за Катынь на немцев и метал громы и молнии в адрес польского правительства, посмевшего требовать расследования этого преступления. Хотя сам же поставил подпись под решением Политбюро от 5 марта 1940 года о расстреле польских офицеров. Что ж, «в номерах служить, подол задрать»... С такой химерой, как совесть, милейший Вячеслав Михайлович, как и остальные члены Политбюро, давным-давно распрощался. Только положение Молотова было в каком-то смысле даже хуже, чем, например, у того же Берии — тому хотя бы не приходилось выкручиваться перед союзниками, не моргнув глазом отрицая неисчислимые советские преступления.
Летом 1943 года руководители Еврейского антифашистского комитета Михоэлс и Фефер, будучи в США, с санкции Молотова вели переговоры с американскими сионистскими организациями о финансировании проекта по переселению после войны советских евреев в Крым. Похо-
же, Вячеслав Михайлович относился к «Калифорнии в Крыму» вполне серьезно, не разгадав вовремя, что для Сталина это был лишь тактический ход, призванный побудить американское еврейство щедрее жертвовать деньги Советам. Позже, на пленуме ЦК, состоявшемся после XIX съезда партии, Молотову припомнили поддержку идеи образования еврейской республики в Крыму.
Вернувшись из США, Михоэлс и Фефер вместе с Эпштейном повидались с Молотовым, который их радушно встретил. Фефер показывал на следствии, что на встрече «мы поставили вопрос о создании еврейской республики в Крыму или на территории, где была республика немцев Поволжья. Тогда нам это нравилось и красиво звучало: где раньше была республика немцев, должна стать еврейская республика. Молотов сказал, что это демагогически хорошо звучит, но не стоит ставить этого вопроса и создавать еврейскую республику на этой территории, так как евреи — народ городской, и нельзя сажать евреев за трактор. Далее Молотов сказал: “Что касается Крыма, то пишите письмо, и мы его посмотрим”».
Так родилось роковое письмо о еврейской республике в Крыму, которое потом стало главным пунктом обвинения руководителей ЕАК. 15 февраля 1944 года оно было направлено Сталину, а 21 февраля и Молотову, причем Михоэлс молотовский экземпляр передал Жемчужиной. В письме предлагалось создать Еврейскую Советскую Социалистическую Республику в Крыму и еще до освобождения Крыма организовать правительственную комиссию для решения этого вопроса.
Позиция Молотова осталась неизвестной, а вот Сталин пришел в ярость, и смертный приговор ЕАК был предрешен, хотя и отсрочен4 на несколько лет.
Четыре года спустя Абакумов доносил Сталину данные осведомителей о том, как руководители ЕАК обсуждали письмо о Крыме тогда, в 44-м. Не исключено, что эта информация была известна Сталину и в момент получения письма. Писатель Давид Бергельсон утверждал:
«Надо решительно действовать, потом будет поздно. Надо иметь смелость брать на себя ответственность и прокладывать пути. Такой момент больше не повторится... Не сомневаюсь, что мы превратим Крым в жемчужину».
Ему вторил другой писатель, Перец Маркиш:
«Нужно создать республику для сохранения еврейской культуры, с тем чтобы эта республика являлась духовным центром всего мирового еврейства».
Критик Илья Нусинов заявил:
«Судьба еврейского народа во всех странах одинакова. Мы должны приветствовать создание еврейского государства в Палестине, и если у нас будет своя республика, то между ними будет установлена самая тесная духовная связь».
Михоэлс же прямо признавался:
«Мы не делаем секрета из письма, его многие читают и еще больше о нем знают».
Такая еврейская республика Сталину была совершенно не нужна. А Молотов, по мнению вождя, проявил в этом вопросе политическую близорукость. Так постепенно истощался сталинский кредит доверия к Вячеславу Михайловичу.
В 1944 году Молотов закатил хорошо отрепетированную истерику на приеме в честь шведской делегации, прибывшей для посредничества в советско-финских переговорах о заключении перемирия. Вот как этот эпизод запомнился Бережкову:
«К нам из Красной залы донесся какой-то необычный шум, послышались громкие возгласы, среди которых выделялся голос Молотова. Он сильно заикался — значит, был чем-то крайне раздражен.
Я поспешил к нему и, войдя в залу, увидел собравшихся вокруг наркома послов США, Англии, Японии, Китая и других стран, а также весь состав шведской миссии. Резко жестикулируя, что он делал очень редко, Молотов выкрикивал:
— Мы больше не намерены терпеть упрямство финнов! Если эти засранцы и дальше будут упорствовать, мы их сотрем в порошок! Мы не оставим камня на камне! Пусть не считают нас простаками. Мы знаем об их шашнях с гитлеровцами. Нас не п-п-проведешь! Если они хотят продолжать войну, они ее п-п-получат. Нет такой силы, чтобы остановить Красную армию...
Помощники и ребята из охраны пытались успокоить разбушевавшегося наркома. Кто-то его увещевал:
— Вячеслав Михайлович, уже поздно, вам надо возвращаться в Кремль...
Охранники осторожно взяли его под руки, подталкивая к выходу. Но он всякий раз вырывался:
— Оставьте м-м-меня, я сам знаю, что делать! Эти упрямые ослы еще пожалеют о своем глупом упорстве! Мы им п-п-по-кажем...
Гости, пожалуй ни разу не присутствовавшие при такой сцене, с удивлением и опаской поглядывали на всегда казавшегося лишенным эмоций Молотова. Поначалу и мне подумалось, что он, быть может, выпил лишнего и потерял контроль над собой. Все это было так странно. Наконец нам удалось оттеснить его от публики, вывести в коридор и дальше к выходу. По пути он продолжал выкрикивать ругательства в адрес финнов, а когда его усадили в машину, пытался выбраться из нее.
В конце концов он уехал, сопровождаемый двумя лимузинами с охраной. И сразу же особняк покинули все послы. Они явно спешили отправить своим правительствам депеши о столь сенсационном инциденте и об угрозах Молотова уничтожить Финляндию.
На следующее утро Молотов вызвал меня в свой кабинет. Он был в хорошем расположении духа, лукаво усмехался.
— Вы ведь были вчера на приеме? — спросил он и, не дожидаясь моего ответа, продолжал: — Расскажите подробно, что там произошло.
Я стал воспроизводить в общих чертах то, чему был свидетелем.
— Нет, — перебил он. — Говорите все, как было, без купюр. Что я сказал, как отнеслась публика?
Мне было неловко воспроизводить его ругательства, но пришлось все повторить, почти слово в слово.
— Мне кажется, что гости были очень шокированы, даже испуганы, — закончил я свой отчет.
Молотов остался явно доволен. Он отпустил меня со словами: “Очень хорошо, прекрасно”. И я понял, что вчерашняя сцена была им специально разыграна, скорее всего, даже согласована со Сталиным, а может быть, была и задумана самим “хозяином”. И Молотов радовался тому, что хорошо выполнил задание вождя. Шведов, а через них и финнов он
изрядно напугал. Всполошились также американцы и англичане. Теперь и они нажмут на Хельсинки. Ведь никто сейчас не может сомневаться в способности советских войск быстро разделаться с финнами и даже оккупировать всю страну. И если его вчерашний “взрыв” приняли за чистую монету, тем лучше. Теперь финны будут сговорчивее.
И действительно, вскоре шведы сообщили, что Хельсинки готов к серьезным переговорам, а спустя некоторое время в Москву прибыла и финская делегация. Было, наконец, заключено перемирие».
В Ялте в феврале 45-го Рузвельт настаивал на выделении Франции оккупационной зоны в Германии. «Вы считаете, что Франция должна иметь оккупационную зону?» — спросил Сталин. «Это было бы неплохой идеей, — ответил Рузвельт и добавил: — Но только из чувства доброты».
«Это может быть единственной причиной для выделения иц зоны», — иронически заметил Сталин. Молотов, который до этого момента молчал, вторил Сталину с такой же твердостью. Как справедливо отмечает британский историк Джон Толанд, Молотов «был бесстрастным, флегматичным дипломатом, которому Рузвельт дал кличку “каменная задница”, поскольку тот мог сидеть за столом переговоров сколько угодно времени, снова и снова возвращаясь к одному вопросу».
Молотов в 1943—1945 годах возглавлял советский атомный проект, но лавров на этом поприще не снискал. Позже он вспоминал в беседе с Феликсом Чуевым, как начинал делать советскую атомную бомбу:
«У нас по этой теме работы велись с 1943 года, мне было поручено за них отвечать, найти такого человека, который бы мог осуществить создание атомной бомбы. Чекисты дали мне список надежных физиков, на которых можно было положиться, и я выбирал. Вызвал Капицу к себе, академика. Он сказал, что мы к этому не готовы и что атомная бомба — оружие не этой войны, дело будущего. Спрашивали Иоффе — он тоже как-то неясно к этому отнесся. Короче, был у меня самый молодой и никому еще не известный Курчатов, ему не давали хода. Я его вызвал, поговорили, он произвел на меня хорошее впечатление. Но он сказал, что у него еще много неясностей. Тогда я решил дать ему мате-
риалы нашей разведки — разведчики сделали очень важное дело. Курчатов несколько дней сидел в Кремле, у меня, над этими материалами. Где-то после Сталинградской битвы, в 1943 году. Я его спросил: “Ну, как материалы?” Я-то в них не понимал ничего, но знал, что они из хороших, надежных источников взяты. Он говорит: “Замечательные материалы, как раз то, чего у нас нет, они добавляют”. Это очень хорошая операция наших чекистов. Очень хорошо вытащили то, что нам нужно было. В самый подходящий момент, когда мы только начали этим заниматься... Разведка наша перед войной и в войну работала неплохо. В Америке были подходящие кадры. Еще старые кадры... Берия после войны уже начал».
Замечу, что пальму первенства в деле привлечения Курчатова к руководству научной стороной атомного проекта у Молотова не без оснований оспаривал Берия. Он не без гордости говорил А.Д. Сахарову о И.В. Курчатове: «Мы его сделали академиком!» И именно по инициативе Берии в марте 1943 года советских ученых ознакомили с добытыми разведкой данными об исследованиях в разработке атомного оружия в Англии и США. Кстати сказать, агентура в Америке и в Англии, связанная с атомным проектом, была завербована в период, когда Лаврентий Павлович, как шеф НКВД, руководил советской разведкой, а основная информация была получена, когда он после войны руководил советским атомным проектом.
Молотов курировал также танковую отрасль военной промышленности. Здесь ему удалось добиться гораздо большего, нежели в атомном проекте. За успехи в развитии отрасли он в 1943 году, как и другие члены ГКО, был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Был Вячеслав Михайлович причастен и к переселению «наказанных народов». Массовые депортации в годы войны немцев, чеченцев, ингушей, карачаевцев, калмыков, крымских татар и прочих Молотов оправдывал следующим образом:
«Это сейчас мы стали умные, все-то мы знаем и все перемешиваем во времени, сжимаем годы в одну точку. Во всем были разные периоды. Так вот, во время войны к нам поступали сведения о массовых предательствах. Батальоны кавказцев стояли против нас на фронтах, били нас в спину.
Речь шла о жизни и смерти, разбираться было некогда. Конечно, попали и многие невиновные».
Сразу же после окончания Второй мировой войны Советский Союз попытался осуществить давнюю мечту русских царей и установить контроль над Турцией и черноморскими проливами. На Потсдамской конференции глав трех держав, продолжавшейся с 17 июля по 2 августа 1945 года, Молотов, в частности, заявил своему британскому коллеге Энтони Идену:
«В 1921 году турки воспользовались слабостью Советского грсударства и отняли у него часть Советской Армении. Армяне в Советском Союзе чувствовали себя обиженными. В силу этих причин Советское правительство и подняло вопрос о возвращении законно принадлежащих Советскому Союзу территорий. Что касается вопроса о проливах, то Советское правительство давно уже говорит о том, что конвенция в Монтре его не устраивает».
Тут Иден заметил, что в Лондоне раньше ничего не слышали о советских территориальных претензиях к Турции. Молотов ответил, что турки запросили Москву о возможности заключения союзного договора и тогда получили разъяснение, что союз возможен только на основе территориальных уступок и изменения статуса проливов. Иден резонно возразил, что турки никогда не согласятся на удовлетворение советских претензий.
Молотов не обратил на это внимания и продолжал:
«Территории, о которых идет речь, не принадлежат туркам. Они поступили несправедливо, отняв их у Советского Союза. Поляки тоже поступили несправедливо, захватив часть советской территории в 1921 году. Однако поляки решили пересмотреть свою позицию и согласились теперь возвратить эту территорию Советскому Союзу. Я приводил этот пример туркам».
Иден указал, что в Турции, в отличие от Польши, не было линии Керзона — признанной Англией и другими западными державами этнографической границы Польши, и нынешняя граница Турции является международно признанной.
Молотов возразил, что, тем не менее, «ранее английское правительство не раз выступало в защиту армянского населения, находящегося под турецким владычеством. Совсем недавно армян поддержал в этом вопросе д-р Хьюлетт Джонсон».
Иден несколько ехидно уточнил, что архиепископ Кентерберийский «целиком советский человек» и что его аргументы на удивление точно совпадают с аргументами советского правительства, за что в Англии его с иронией называют «красным настоятелем».
Молотов не согласился с Иденом: «Джонсон — вовсе не советский человек». Диалог приобретал все более юмористический характер: два дипломата отчаянно спорили, советский ли человек архиепископ Кентерберийский или нет.
Наконец Иден поинтересовался, сколько армян проживает в Турции. Молотов ответил, что армян там 400—500 тысяч, тогда как в Советской Армении живет почти миллион, а за границами Советской Армении в мире проживает еще более 1 миллиона армян. Если территория Армении расширится, то многие армяне вернутся на родину. Он добавил:
«Армяне очень способные и энергичные люди, особенно в хозяйственных вопросах (наверное, в этот момент Вячеслав Михайлович вспомнил о Микояне. — Б. С). Пусть турки отдадут Советскому Союзу армян, это будет справедливо».
*
Иден на патетический призыв не отреагировал, а лишь вежливо поблагодарил за приятную беседу.
Англичане и американцы турецкую Армению и проливы не отдали. Напрасно Сталин и Молотов убеждали Черчилля и Трумэна в необходимости разрешить СССР заключить с Турцией договор о размещении в проливах советских военных баз, подобно российско-турецкому договору 1833 года. Западные лидеры выразили уверенность, что Турция на такие условия никогда не пойдет, а в дальнейшем поддержали ее в этом вопросе. Они также отметили, что одно дело пересматривать конвенцию в Монтре в плане разрешения прохода через проливы советских военных судов и совсем другое — согласиться
на размещение там советских войШ* и флота: Равным образом не удалось заполучить Сталину й Северный Иран, откуда советские войска в 1946 году были выведены после настоятельных требований со стороны США. А вот Польшу, равно как и Прибалтику и страны Восточной Европы, США и Англия Сталину отдали, не пытаясь отбить территорию, где уже стояла большая масса советских войск. Уступили американцы Советам и Китай, посчитав для себя слишком дорогим удовольствием поддерживать на плаву режим Чан Кайши. И в долгосрочном плане не прогадали, ибо даже коммунистический Китай после смерти Сталина все равно превратился в опасного геополитического соперника Советского Союза.
Начало падения
Свой первый послевоенный тост на приеме в честь Победы Сталин провозгласил «За нашего Вячеслава». Но уже не за горами была его опала.
В октябре 1945 года Сталин неожиданно ушел в длительный отпуск — вплоть до середины декабря. Вероятно, на Иосифа Виссарионовича большое впечатление произвел фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», где болезнь царя выявляет подлинное лицо «реакционного боярства». После того как Сталин надолго пропал из Москвы, в мировой прессе стали циркулировать слухи о его болезни и даже смерти и стал серьезно обсуждаться вопрос о возможных преемниках. На хозяйстве в Политбюро Иосиф Виссарионович оставил четверку, состоявшую из Молотова, Маленкова, Берии и Микояна. Именно в таком порядке убывал их рейтинг. Молотов был поставлен старшим, далее следовал заместитель Сталина по партии Маленков, затем — Берия, еще остававшийся наркомом внутренних дел и уже возглавивший атомный проект, а замыкал список Микоян, нарком внешней торговли, курировавший гражданские отрасли народного хозяйства. Когда Сталин обращался не к Молотову, а к остальным членам правящей четверки, то на первом месте в шифрограммах ставил Маленкова, за ним Берию, а в конце,— Микояна. Как раз в это время происходили вооруженные выступления в иранском Азербайджане. Телеграммы о положении здесь глава Компартии Азербайджана Багиров и командующий Закавказским военным округом генерал Масленников адресовали Молотову, Маленкову и Берии, Микоян же в число адресатов не входил.
Главной целью эксперимента было проверить, годится ли Молотов на роль преемника. Сталин, которому вот-вот
должно было стукнуть 67 (или 66, как считалось официально), все больше задумывался над тем, что он не вечен и уже не за горами время, когда после его смерти власть должен будет взять на себя кто-то другой. Трагический парадокс стареющего вождя заключался в том, что политического наследника он хотел бы иметь немногим хуже себя самого. Чтобы был умный, решительный, преданный безраздельно делу коммунизма, способный противостоять проклятым империалистам и если не сокрушить их, то, по крайней мере, еще дальше раздвинуть пределы советской империи. Но сам же Сталин, заботясь о сохранении собственной безраздельной власти, сделал все, чтобы людей с такими качествами в его окружении не осталось. Все соратники были тонкошеие и несамостоятельные, привыкшие ловить каждое сталинское слово. Да что слово — даже вздох или кашель. А уж если вождь хмурил брови...
Между прочим, Молотов хорошо относился к творчеству Эйзенштейна. Именно по его инициативе после запрета «Бежина луга», 9 мая 1937 года было принято постановление Политбюро, предлагавшее главе комитета по кинематографии Б.З. Шумяцкому «использовать т. Эйзенштейна, дав ему задание (тему), предварительно утвердив его сценарий, текст и прочее». А во время памятного разбора Сталиным на встрече 26 февраля 1947 года с Эйзенштейном и Черкасовым второй серии фильма «Иван Грозный», вызвавшей гнев генералиссимуса, Молотов ограничился довольно умеренными замечаниями. Он подчеркнул, что сделан упор на психологизм, на чрезмерное подчеркивание внутренних противоречий и личных переживаний царя. Молотов также вспомнил Демьяна Бедного, отметив, что «исторические события надо показывать в правильном осмыслении. Вот, например, был случай с пьесой Демьяна Бедного “Богатыри”. Демьян Бедный там издевался над крещением Руси, а дело в том, что принятие христианства для своего исторического этапа было явлением прогрессивным».
Покойному Демьяну уже не повредишь, тем более что после «Богатырей» он исправился и с началом Великой Отечественной войны вернул себе благосклонность вождя, посмертно почтившего его выпуском собрания сочине-
ний. А потому Вячеслав Михайлович предпочитал критиковать его, а не Эйзенштейна. Еще Молотов пожалел детей русских эмигрантов в Праге, о которых вдруг завел разговор Черкасов, заметив, что они никогда не были на родине. Вячеслав Михайлович бодро отрапортовал по должности: «Мы сейчас даем широкую возможность возвращения детей в России» (притом что кое-кто из их родителей отправился прямиком в ГУЛАГ — но об этом Молотов, естественно, умолчал).
Словом, Молотов, чувствуется, искал любую возможность, чтобы не критиковать фильм Эйзенштейна, увести разговор на посторонние темы, хотя против сталинских оценок не возражал и поддакивал Иосифу Виссарионовичу, но очень в меру. И отказался читать сценарий на предмет поправок, заметив с улыбкой: «Нет, я работаю несколько по другой специальности. Пускай читает Большаков» (глава Комитета по кинематографии). И еще пошутил по поводу исполнения Черкасовым роли режиссера в новом фильме «Весна»: «И вот тут Черкасов сведет счеты со всеми режиссерами!»
Один раз Молотов все-таки рискнул поправить Сталина, но поправил так, что лишь усилил аргумент Кобы. Сталин, чтобы доказать, что не надо торопиться с завершением «Ивана Грозного», привел в пример Эйзенштейну Репина, который работал над своими «Запорожцами» одиннадцать лет. Вячеслав Михайлович поправил — тринадцать лет. Но Иосиф Виссарионович упрямо повторил: одиннадцать. Возражений даже в таких мелких вопросах он не терпел, по крайней мере, в присутствии беспартийной публики.
После этого Молотов на всякий случай повторил, вслед за Ждановым, что «злоупотребление религиозными обрядами» в фильме «дает налет мистики, которую не нужно так сильно подчеркивать». Но в целом на обсуждении картины он был наименее кровожадным, хотя и защищать Эйзенштейна, пытаться доказать, что ряд претензий, предъявляемых картине, на самом деле беспочвенны, не рискнул.
Вячеслав Михайлович наверняка чувствовал, что эпоху Грозного режиссер во многом спйсал с эпохи Сталина. Возможно, Молотов понял, что вождь устраивает ему и соратникам по Политбюро проверку в стиле Грозного. Но даже
это понимание не уберегло человека №2 в советском руководстве от ряда роковых ошибок. Вячеслав Михайлович уже отвык действовать самостоятельно и в отсутствие прямых указаний Сталина не смог найти правильную линию во внешнеполитических делах, отвечавшую желанию генералиссимуса.
Все усиливавшиеся слухи о болезни и даже смерти советского вождя в конце концов начали сильно раздражать Сталина. Игра зашла слишком далеко и стала угрожать сталинскому престижу. Молотова же он стал подозревать в излишней уступчивости англичанам и американцам с тем, чтобы им понравиться и тем увеличить шансы на признание в качестве сталинского наследника.
5 декабря Иосиф Виссарионович в шифровке, адресованной Молотову, Маленкову, Кагановичу и Берии, обрушился на Вячеслава Михайловича:
«Дня три тому назад я предупредил Молотова по телефону, что отдел печати НКИД допустил ошибку, пропустив корреспонденцию газеты “Дейли геральд” из Москвы, где излагаются всякие небылицы и клеветнические измышления насчет нашего правительства, насчет взаимоотношений членов правительства и насчет Сталина. Молотов мне ответил, что он считал, что следует относиться к иностранным корреспондентам более либерально и можно было бы пропускать корреспонденцию без особых строгостей. Я ответил, что это вредно для нашего государства. Молотов сказал, что он немедленно даст распоряжение восстановить строгую цензуру. Сегодня, однако, я читал в телеграммах ТАСС корреспонденцию московского корреспондента “Нью-Йорк тайме”, пропущенную отделом печати НКИД, где излагаются всякие клеветнические штуки насчет членов нашего правительства в более грубой форме, чем это имело место одно время во французской бульварной печати. На запрос Молотову по этому поводу Молотов ответил, что допущена ошибка. Я не знаю, однако, кто именно допустил ошибку. Если Молотов распорядился дня три назад навести строгую цензуру а отдел печати НКИД не выполнил этого распоряжения, то надо привлечь к ответу отдел печати НКИД. Если же Молотов забыл распорядиться, то отдел печати НКИД ни при чем, и надо привлечь к ответу Молотова. Я прошу Вас заняться этим делом, так как нет гарантии, что
не будет вновь пропущен отделом печати НКИД новый пасквиль на советское правительство. Я думаю, что нечего нам через ТАСС опровергать пасквили, публикуемые во французской печати, если отдел печати НКИД будет сам пропускать подобные пасквили из Москвы за границу».
На следующий день с подачи Молотова четверка отрапортовала, что во всем виноват стрелочник — заместитель заведующего отделом печати Горохов, не придавший должного значения злополучной телеграмме. Тут Сталина прорвало. 6 декабря Сталин обратился уже только к Маленкову, Берии и Микояну, игнорируя Молотова:
«Вашу шифрограмму получил. Считаю ее совершенно неудовлетворительной. Она является результатом пассивности трех, с одной стороны, ловкости рук четвертого члена, т. е. Молотова, с другой стороны. Что бы вы там ни писали, вы не можете отрицать, что Молотов читал в телеграммах ТАССа и корреспонденцию “Дейли геральд”, и сообщение “Нью-Йорк тайме”, и сообщение Рейтера. Молотов читал их раньше меня и не мог не заметить, что пасквили на советское правительство, содержащиеся в этих сообщениях, вредно отразятся на престиже и интересах нашего государства. Однако он не принял никаких мер, чтобы положить конец безобразию, пока я не вмешался в это дело. Почему он не принял мер? Не потому ли, что Молотов считает в порядке вещей фигурирование таких пасквилей, особенно после того, как он дал обещание иностранным корреспондентам насчет либерального отношения к их корреспонденциям? Никто из нас не вправе единолично распоряжаться в деле изменения курса нашей политики. А Молотов присвоил себе это право. Почему, на каком основании? Не потому ли, что пасквили входят в план его работы?
Присылая мне шифровку, вы рассчитывали, должно быть, замазать вопрос, дать по щекам стрелочнику Горохову и на этом кончить дело. Но вы ошиблись так же, как в истории всегда ошибались люди, старавшиеся замазать вопрос и добивавшиеся обычно обратных результатов. До вашей шифровки я думал, что можно ограничиться выговором в отношении Молотова. Теперь этого уже недостаточно. Я убедился в том, что Молотов не очень дорожит интересами нашего государства и престижем нашего правительства, лишь бы добиться популярности среди некоторых иностранных кругов.
Я не могу больше считать такого товарища своим первым заместителем.
Эту шифровку я посылаю только вам трем. Я ее не послал Молотову, так как не верю в добросовестность некоторых близких ему людей. Я вас прошу вызвать к себе Молотова, прочесть ему эту мою телеграмму полностью, копии ему не передавать».
После такой телеграммы вполне мог последовать арест. Все участники драмы это понимали. Маленков, Берия и Микоян уже предвкушали, что четверка превратится в тройку, а главный из потенциальных наследников разделит судьбу Зиновьева и Бухарина. 7 декабря тройка телеграфировала Сталину:
«Вызвали Молотова к себе, прочли ему телеграмму полностью. Молотов, после некоторого раздумья, сказал, что он допустил кучу ошибок, но считает несправедливым недоверие к нему, прослезился.
Мы, со своей стороны, сказали Молотову об его ошибках:
1. Мы напомнили Молотову о его крупной ошибке в Лондоне, когда он на Совете министров (иностранных дел. — Б. С.) сдал позиции, отвоеванные Советским Союзом в Потсдаме, и уступил нажиму англо-американцев, согласившись на обсуждение всех мирных договоров в составе 5 министров (с участием Франции и Китая. — Б. С.). Когда же ЦК ВКП(б) обязал Молотова исправить эту ошибку, то он, сославшись без всякой нужды на указания правительства, повел себя так, что в глазах иностранцев получилось, что Молотов за уступчивую политику, а советское правительство и Сталин неуступчивы (такая самовольная попытка Вячеслава Михайловича предстать в глазах западных партнеров добрым следователем, передав Сталину роль следователя злого, Иосифу Виссарионовичу ох как не понравилась! — Б. С.).
2. Мы привели Молотову другой пример, когда он противопоставил себя советскому правительству, высказав Гар-риману свою личную уступчивую и невыгодную для нас позицию по вопросу голосования в Дальневосточной комиссии...
3. Мы сказали Молотову, что понадобилось вмешательство Сталина, чтобы он, Молотов, обратил внимание и реагировал на гнусные измышления, распускаемые о советском
правительстве Рейтером, со ссылкой на парижское агентство и его московского корреспондента, и что даже после этого указания Молотов прошел мимо клеветнических телеграмм московских корреспондентов. “Дейли геральд” и “Нью-Йорк тайме”. Понадобилось снова вмешательство Сталина, хотя Молотов мог и должен был сам своевременно реагировать.
4. Мы указали Молотову, что он неправильно поступил, дав 7-го ноября на банкете согласие на прием сыну Черчилля, который в это время находился в Москве, как корреспондент газеты, и хотел получить интервью у Молотова. Прием сына Черчилля не состоялся, так как мы высказались против.
5. Наконец, мы сказали Молотову, что все сделанные им ошибки за последний период, в том числе и ошибки в вопросах цензуры, идут в одном плане политики уступок англо-американцам и что в глазах иностранцев складывается мнение, что у Молотова своя политика, отличная от политики правительства и Сталина, и что с ним, Молотовым, можно сработаться.
Молотов заявил нам, что он допустил много ошибок, что он читал раньше Сталина гнусные измышления о советском правительстве, обязан был реагировать на них, но не сделал этого, что свои лондонские ошибки он осознал только в Москве.
Что же касается Вашего упрека в отношении нас троих, считаем необходимым сказать, что мы в своем вчерашнем ответе исходили из Вашего поручения в шифровке от 5 декабря выяснить, кто именно допустил ошибку по конкретному факту с пропуском телеграмм московского корреспондента “Нью-Йорк тайме”, а также проверить правильность сообщения Рейтер от 3 декабря. Это нами было сделано и Вам сообщено. Может быть, нами не все было сделано, но не может быть и речи о замазывании вопроса с нашей стороны».
Вячеслав Михайлович почувствовал, что его вот-вот могут объявить матерым английским шпионом, и бросился каяться по полной программе. Он пустил скупую наркомовскую слезу перед коллегами по коллективному руководству и отправил 7 декабря красноречивую телеграмму Сталину:
«Познакомился с твоей шифровкой на имя Маленкова, Берия, Микояна. Считаю, что мною допущены серьезные
политические ошибки в работе. К чадслу тдких ошибок относится проявление в последнее время фальшивого либеральничанья в отношении московских инкоров. Сводки телеграмм инкоров, а также ТАСС я читаю и, конечно, обязан был понять недопустимость телеграмм, вроде телеграммы корреспондента “Дейли геральд” и др., но до твоего звонка об этом не принял мер, так как поддался настроению, что это не опасно для государства. Вижу, что это моя грубая, оппортунистическая ошибка, нанесшая вред государству. Признаю также недопустимость того, что я смазал свою вину за пропуск враждебных инкоровских телеграмм, переложив эту вину на второстепенных работников.
Твоя шифровка проникнута глубоким недоверием ко мне, как большевику и человеку, что принимаю как самое серьезное партийное предостережение для всей моей дальнейшей работы, где бы я ни работал. Постараюсь делом заслужить твое доверие, в котором каждый честный большевик видит не просто личное доверие, а доверие партии, которое дороже моей жизни».
Вслед за покаянной телеграммой пришло сообщение, что Молотов добился успеха, убедив западных партнеров провести очередную встречу министров иностранных дел в Москве 15 декабря в составе тройки, то есть без участия не только Китая, но и Франции, для обсуждения вопросов, имевших актуальное значение для США, Великобритании и СССР. Сталин сразу смягчился. Его успокоило также то, что Молотов прослезился, а в покаянной телеграмме прямо дал понять,, что его жизнь — в руках вождя, и не пытался оправдаться. Значит, нет у него в душе стержня, сломался соратник и никогда впредь не рискнет выступить против вождя, чтобы приблизить свое вступление в наследство. А вот тройка Маленков, Берия, Микоян, напротив, Сталина разочаровала. Они готовы огульно охаять чуть ли не все внешнеполитические достижения СССР, забывая, что к ним причастен не только глава НКИД, но, в первую очередь, сам Иосиф Виссарионович. И отказывались признавать свои ошибки.
8 декабря Сталин ответил тройке короткой раздраженной шифрограммой:
«Вашу шифровку от 7-го декабря получил. Шифровка производит неприятное впечатление ввиду наличия в ней ряда явно фальшивых положений. Кроме того, я не согласен с Вашей трактовкой вопроса по существу. Подробности потом в Москве».
Но генсек не стал дожидаться возвращения в столицу и в ночь на 9 декабря отправил длинную шифрограмму, первоначально озаглавленную «Для четверки». Но затем заголовок был исправлен на «Молотову для четверки». Доверие к Вячеславу Михайловичу как будто было частично восстановлено. Великое дело — вовремя поплакать...
Впрочем, вряд ли слезы Вячеслава Михайловича в чем-либо разубедили Сталина. Он-то знал, что Молотов — превосходный артист, не хуже своего племянника Бориса Чиркова, и, если надо, великолепно сыграет и слезы, и истерику. Ведь упомянутый выше нервный припадок перед финской делегацией Вячеслав Михайлович устроил явно с ведома Сталина, если не по его прямому поручению.
Не то чтобы Сталин утратил доверие к Молотову. Просто тогда, осенью победного 45-го, Иосиф Виссарионович решил, что в долгосрочной перспективе Молотов ему уже не нужен. Как преемник он явно не годился: не сумеет вести дела с Западом так, как надо, да и внутри страны может наломать дров. Но в народе он по-прежнему имеет авторитет (об этом позаботился в свое время сам Сталин), а значит, будет только мешать после его, Сталина, смерти законному сталинскому наследнику. Остается лишь правильно выбрать время, когда можно будет поставить к стенке «нашего Вячеслава». Просто так расстрелять его втихую, как какого-нибудь Рудзутака или Чубаря, не годится. Как-никак, Моло1юв в партии и народе считается вождем №2 после Сталина, и для его расстрела необходим полноценный судебный процесс, с заговором, соучастниками и очередной кампанией против врагов народа.
Правда, суд придется делать закрытым. Опыт процессов 30-х годов научил уцелевших деятелей партийной верхушки, что даже полное признание своей мнимой вины все равно не позволяет сохранить жизнь. Ведь даже те, кто, подобно Раде-ку, отделался тюрьмой, все равно были вскоре уничтожены. Слишком мало было шансов на то, что удастся убедить
«друга Вячеслава» ради партии, ради торжества дела социализма и коммунизма добровольно и с радостью положить голову на плаху. К тому же и знает Молотов слишком много, и на открытом процессе язык у него может весьма некстати развязаться. То ли дело закрытый процесс, где внимать подсудимым будут только проверенные члены Военной коллегии Верховного суда да конвоиры, которые чего только не наслушались! А потом нужно опубликовать приговор в газетах, чтобы трудящиеся знали, какого змия в течение добрых трех десятков лет пригрел у себя на груди Иосиф Виссарионович! Но спешить с этим не стоит. Процесс и кампания должны быть хорошо подготовлены и проведены в самый политически подходящий момент, когда уже твердо определится сталинский преемник.
Кстати сказать, в беседе с американским журналистом .Станнесом, состоявшейся 9 апреля 1947 года и опубликованной в «Правде» 8 мая, Сталин притворно посетовал:
«В СССР трудно будет обойтись без цензуры (сообщений иностранных корреспондентов. — Б. С). Молотов несколько раз пробовал это сделать, но ничего не получилось. Всякий раз, когда советское правительство отменяло цензуру, ему приходилось в этом раскаиваться и снова ее вводить. Осенью позапрошлого года цензура в СССР была отменена. Он, И. В. Сталин, был в отпуске, и корреспонденты начали писать о том, что Молотов заставил Сталина уйти в отпуск, а потом они стали писать, что он, И. В. Сталин, вернется и выгонит Молотова. Таким образом, эти корреспонденты изображали советское правительство в виде своего рода зверинца. Конечно, советские люди были возмущены и снова должны были ввести цензуру».
В марте 1949 года Сталин действительно выгонит Молотова с поста министра иностранных дел, но это произойдет уже в разгар кампании борьбы с безродными космополитами, в ходе которой пострадает и жена Молотова, подкачавшая по «пятому пункту».
Будущий американский посол в СССР Джордж Кеннан оставил нам зарисовку заседания Совета министров иностранных дел в Москве 19 декабря 1945 года, на котором ему довелось присутствовать:
«По лицу Молотова, председательствовавшего на заседании, было видно, что он не скрывает чувства удовлетворения, поскольку знает о разногласиях между двумя другими министрами иностранных дел (американским и британским. — Б. С.) и понимает, что им трудно противостоять усилиям русской дипломатии. Он походил на азартного игрока, знавшего, что переиграет своих соперников. Это был единственный человек, получавший удовольствие от происходившего».
Эх, знал бы американский дипломат, что только что пережил Вячеслав Михайлович! Если бы знал, то, наверное, решил бы, что на самом деле Молотов радуется счастливому избавлению, как тогда казалось, от клейма шпиона и верной стенки Лубянского подвала.
Кстати, Кеннан в результате общения со Сталиным и, главным образом, с Молотовым, составил десять заповедей для американского дипломата на тему «Как вести переговоры с русскими». Вот они:
«1. Не ведите себя с ними дружелюбно.
2. Не говорите с ними об общности целей, которых в действительности не существует.
3. Не делайте необоснованных жестов доброй воли.
4. Не обращайтесь к русским ни с какими запросами иначе, как дав понять, что вы действительно выразите недовольство, если просьба не будет удовлетворена.
5. Ставьте вопросы на нормальном уровне и требуйте, чтобы русские несли полную ответственность за свои действия на этом уровне.
6. Не поощряйте обмена мнениями с русскими на. высшем уровне, если инициатива не исходит с их стороны, по крайней мере, на 50 процентов.
7. Не бойтесь пользоваться “тяжелым вооружением”, даже когда речь идет по проблемам, как кажется, меньшей важности.
8. Не бойтесь публичного обсуждения серьезных разногласий.
9. Все наши правительственные, а также неправительственные отношения с Россией, на которые правительство может влиять, следует координировать с нашей политикой в целом.
10. Следует укреплять, расширять и поддерживать уровень нашего представительства в России».
Нетрудно убедиться, просмотрев данный перечень, что Молотов был жестким переговорщиком, никаким жестам доброй воли не верил и ни на какие уступки не шел без крайней на то необходимости. Последнее объяснялось тем, что на уступки не шел Сталин, а Молотов послушно выполнял его указания. Мы только что видели, как Вячеслав Михайлович единственный раз дал слабину в переговорах с Западом и как это чуть было не стоило ему головы.
Тот же Кеннан 30 сентября 1945 года направил специальное послание в Вашингтон, критикуя планы в той или иной степени раскрыть Москве секреты атомной бомбы:
«Я, как человек, имеющий 11 -летний опыт работы в России, категорически заявляю, что было бы весьма опасно для нас, если бы русские овладели атомной энергией, как и любыми другими радикальными средствами дальнего действия, против которых мы могли бы оказаться беззащитными, если бы нас застали врасплох. В истории советского режима не было ничего такого... что дало бы нам основания полагать, что люди, которые находятся у власти в России сейчас или будут находиться в обозримом будущем, не применят без каких-либо колебаний эти мощные средства против нас, коль скоро они придут к выводу, что это необходимо для укрепления их власти в мире. Это останется справедливым независимо оттого, каким способом может советское правительство овладеть силой такого рода — путем ли собственных научно-технических исследований, с помощью ли шпионажа или же вследствие того, что такие знания будут им сообщены как жест доброй воли и выражения доверия».
Американский дипломат не мог знать, что всего через четыре года не без помощи краденых американских секретов СССР создаст собственную атомную бомбу. Но по иронии судьбы для этого потребовалось заменить Молотова Берией на посту главы советского атомного проекта.
Сам Молотов в беседе с Феликсом Чуевым эпизод с послевоенной опалой представил в значительно смягченном виде и связал его с реальным будто бы намерением Сталина уйти на покой после окончания войны:
«Речь Черчилля в Фултоне — начало так называемой «холодной войны». Уходить Сталину на пенсию было нельзя, хоть он и собирался после войны...
Разговор такой был у него на даче, в узком составе.
— Должен кто-то Помоложе; пусть Вячеслав поработает.
Он сказал без всякого тоста. Каганович даже заплакал. Самым настоящим образом заплакал».
Чуев спросил об этом же у Кагановича, и тот категорически отрицал, что такой разговор имел место.
«Я к Молотову хорошо относился, — сказал Каганович, — ценил его принципиальность, убежденность. Но мы не раз спорили с ним на деловой почве. Я был наркомом путей сообщения и выбивал у него то, что нужно для железнодорожного транспорта. Он был Предсовнаркома и зажимал. Тогда я жаловался на него Сталину, и Сталин меня поддерживал. Но я никогда не был против того, чтобы Молотов стоял во главе правительства после Сталина. Ведь я же предложил его на эту должность Сталину еще в 1930 году!»
Думаю, что в данном случае правы оба, и Молотов и Каганович. Совещание в узком кругу на даче было, но только в присутствии руководящей четверки: Молотова, Маленкова, Берии и Микояна. Каганович в эту четверку не входил. Молотов все-таки признал, что Сталин, «когда мы с ним встречались... выражал всякие хорошие чувства. Но ко мне очень критически относился. Иногда это сказывалось».
Вячеславу Михайловичу неудобно было признаваться, что еще задолго до Фултона Сталин устроил ему проверку как потенциальному преемнику и он ее с треском провалил. А уж рассказывать о том, как рыдал перед коллегами по Политбюро, было совсем уж стыдно! И конечно, Молотов слишком хорошо знал Сталина, чтобы понимать: от власти он никогда не откажется, ни на какую пенсию, хоть сверхперсональную, никогда не уйдет.
На прямой вопрос Чуе^а, считает ли он, что после войны Сталину надо было уйти на пенсию, Молотов ответил:
— Нет, я так не считаю. Но он, по-моему, был переутомлен. И тут кое-кто на этом играл. Подсовывали ему, старались угодить. Поэтому доверие к Хрущеву и недоверие ко мне.
— Может быть, надо было его оставить почетным председателем партии? — предположил Чуев.
— Может быть, но только почетным... — согласился Молотов (разговор происходил через восемнадцать лет после смерти вождя).
— А работать он был способен? — не унимался Чуев.
— Видите, все меньше, — утверждал Вячеслав Михайлович. — Он был Председателем Совета Министров СССР, и на заседаниях Совета Министров председательствовал не он, а Вознесенский. После Вознесенского — Маленков, поскольку я был на иностранных делах и к тому же уже не был в числе первых замов, а если и был, так только формально.
Конечно, рассуждать о том, что хорошо бы было сделать Сталина почетным председателем, можно было только на пенсии, много лет спустя после смерти генералиссимуса. При его жизни Вячеслав Михайлович хорошо понимал, что предложить такое Иосифу Виссарионовичу — это верный путь в лубянский подвал. А вот слова Молотова о том, что Сталин к концу жизни все больше доверял Хрущеву, показательны. Именно Никиту Сергеевича Иосиф Виссарионович видел в последние годы жизни своим реальным преемником, хотя и не предполагал, что тот втопчет в грязь его имя.
Сталин не раз говорил соратникам по Политбюро:
«Что с вами будет без меня, если война? Вы не интересуетесь военным делом! Никто не интересуется, не знаете военного дела. Что с вами будет? Они же вас передушат!»
Молотов много лет спустя так прокомментировал сталинские суждения:
«В этом упреке была доля правды, конечно. Мало очень интересовались. Надо сказать, что Сталин исключительно попал, так сказать, был на месте в период войны. Потому что надо было не только знать военную науку, но и вкус к военному делу иметь. А у него был этот вкус. И перед войной это чувствовалось. И ему помогало».
А в другой раз Молотов заявил Чуеву:
«Конечно, Сталин на себя взял такой груз, что в последние годы очень переутомился. Почти не лечился — на это тоже были свои основания, врагов у него было предостаточно. А если еще кто-нибудь подливал масла в огонь... (Вероятно, Вячеслав Михайлович имел в виду тройку Маленков, Берия и Микоян. — Б. С.). Думаю, что поживи он еще годик-другой, и я мог бы не уцелеть, но, несмотря на это, я его считал
и считаю выполнившим такие колоссальные и трудные задачи, которые не мог бы выполнить ни один из нас, ни один из тех, кто был тогда в партии».
Вячеслав Михайлович оставался благодарен Иосифу Виссарионовичу за то, что тот не успел пустить его в расход как «английского шпиона» и «сионистского агента». Во всяком случае, в послевоенные годы Молотов сознавал всю степень нависшей над ним смертельной опасности.
До конца своих дней Молотов остался в убеждении, что истинных ленинцев на свете было трое — Ленин, Сталин и он сам. Обо всех остальных соратниках он отзывался в духе гоголевского Собакевича: хороший человек, но если присмотреться — свинья свиньей. Путаник, марксизма толком не знает, линии партии следует нетвердо, склонен к примиренчеству. Вот одна из молотовских характеристик такого рода:
«Был у нас Мануильский, член ЦК. Из старых большевиков, но путаник! В троцкисты попал. Примиренческого такого склада был, считал, что можно договориться с Троцким. Этот Мануильский был большим анекдотистом, всегда потешал нас своими шпильками, придуманными им самим же... После войны он был министром иностранных дел Украины, приходит ко мне: “Вы меня считаете дипломатом?” Я говорю ему: “Есть дипломаты разные, но, главным образом, двух видов: дубовые и липовые”. Он смеется: “Значит, я липовый?”»
Интересно, не считал ли самого себя Вячеслав Михайлович дипломатом дубовым?
На пенсии Молотов сокрушался: «Под видом ленинцев много сомнительных людей было».
Молотов полагал, что^интригу против него вела сталинская обслуга. В беседах с Чуевым он утверждал:
«Без женщин тоже не бывает. Вот Поскребышев и Власик на этом попались. Я был, так сказать, в стороне, опальный. Удивился: нет Поскребышева. Сталин его снял, но не посадил, потому что государственные деньги он не тратил. А Власик тратил в счет охраны на это дело (и был посажен незадолго до смерти Сталина. — Б. С.). Но они оба Сталина не ругали. Я уже вернулся... Из Монголии? Нет, уже
8 Соколо»
из Вены. Встречал Поскребышева на бульваре Тверском. Я к нему не подходил, только раскланивался. И он тоже. Он против меня интригу вел большую, Поскребышев. Хотел использовать моего переводчика Павлова. Тот поддакивал, Павлов, ничего в нем партийного нет, но служака неплохой, взял я его. Павлов английский изучил хорошо и немецкий знал хорошо. Конечно, мне такой переводчик, беспартийного типа человек, я бы сказал, не очень, но честный служака, никаких у него связей таких не было... Я его вышиб из Министерства иностранных дел после смерти Сталина, после моего возвращения в МИД».
По словам Молотова, Павлов, который был переводчиком Вышинского, попытался донести Молотову на своего шефа, но Вячеслав Михайлович прогнал его из Министерства. Ранее же, как думал Молотов, Павлов доносил и на него самого. Но, как кажется, Вячеслав Михайлович преувеличивал роль Поскребышева и Павлова в интриге против него. Ему так хотелось верить, что Сталин лишь поддался наветам. Между тем Поскребышев впал в немилость именно в то время, когда подготовка процесса против Молотова как раз вступила в практическую стадию. Судьбу Молотова мог решать только Сталин, и на интриги он в таких делах никогда не поддавался.
В августе 1945 года начался наезд на заместителя и близкого товарища Молотова С.А. Лозовского. Сталин поручил Г.Ф. Александрову, начальнику Агитпропа, проверить возглавлявшееся Лозовским Совинформбюро. Александров обнаружил там «еврейское засилье», указав, что многие журналисты-евреи печатаются под псевдонимами.
22 ноября Сталин распорядился сократить аппарат Совинформбюро и ЕАК. А два дня спустя Лозовский, почувствовав, что над ним сгущаются тучи, пришел к Молотову и попросил освободить его от работы в Совинформбюро и разрешить сосредоточиться на работе в МИД на делах Японии и Дальнего Востока, так как в Китае «надвигается с помощью американцев гражданская война». Однако, на беду Соломона Абрамовича, Молотов его просьбу не поддержал, а предложил, наоборот, настаивать на укреплении роли Совинформбюро. Если бы Лозовский тихо ушел из Совинформбюро, да еще догадался бы добровольно
выйти из Еврейского антифашистского комитета, из МИДа он бы все равно наверняка полетел, но, возможно, в живых бы остался. Он же, наоборот, подал в ЦК проект преобразования Совинформбюро в Министерство печати и информации.
Сталин такой наглости не стерпел. В июне 46-го в многострадальное Совинформбюро нагрянула новая комиссия, которая констатировала «засоренность аппарата», «подбор работников по личным и родственным связям» и, самое страшное, «недопустимую концентрацию евреев» (из 154 сотрудников русских оказалось 61, евреев — 74). В итоге Лозовский был снят и с поста заместителя министра иностранных дел, и с должности главы Совинформбюро. Под Молотова была заложена очередная мина.
Еще одним проколом Молотова и Лозовского было то, что, по свидетельству Микояна, в мае 1946 года они послали ответ американцам с согласием начать переговоры по экономическим вопросам, не завизировав его текст у Сталина. Через месяц вождь узнал об этом, и, очевидно, случившееся стало одной из причин смещения Лозовского.
Шесть лет спустя Иосиф Виссарионович вновь вернулся к этому происшествию. Как вспоминал Микоян, на пленуме, состоявшемся после XIX съезда партии, Сталин заявил: «Хочу объяснить, по каким соображениям Микоян и Молотов не включаются в состав Бюро».
Начав с Молотова, он сказал, что тот «ведет неправильную политику в отношении западных империалистических стран — Америки и Англии. На переговорах с ними он нарушал линию Политбюро и шел на уступки, подпадая под давление со стороны этих стран. Вообще, — сказал он, — Молотов и Микоян, оба побывавшие в Америке, вернулись оттуда под большим впечатлением от мощи американской экономики. Я знаю, что и Молотов и Микоян — оба храбрые люди, но они, видимо, здесь испугались подавляющей силы, какую они видели в Америке. Факт, что Молотов и Микоян за спиной Политбюро послали директиву нашему послу в Вашингтоне с серьезными уступками американцам в предстоящих переговорах. В этом деле участвовал и Лозовский, который, как известно, разоблачен как предатель и враг народа».
В конце 1946-го или в начале. 1947 года Молотову инкриминировали и другой смертный грех — стремление повысить цены на продукцию, закупаемую у колхозов. Вот слова Сталина на XIX съезде в изложении Микояна:
«Молотов и во внутренней политике держится неправильной линии. Он отражает линию правого уклона, не согласен с политикой нашей партии. Доказательством тому служит тот факт, что Молотов внес официальное предложение в Политбюро о резком повышении заготовительных цен на хлеб, то есть то, что предлагалось в свое время Рыковым и Фрумкиным. Ему в этом деле помогал Микоян, он подготавливал для Молотова материалы в обоснование необходимости принятия такого предложения. Вот по этим соображениям, поскольку эти товарищи расходятся в крупных вопросах внешней и внутренней политики с партией, они не будут введены в Бюро Президиума».
По свидетельству Микояна, «это выступление Сталина члены Пленума слушали затаив дыхание. Никто не ожидал такого оборота дела.
Первым выступил Молотов. Он сказал коротко: как во внешней, так и во внутренней политике целиком согласен со Сталиным, раньше был согласен и теперь согласен с линией ЦК. К моему удивлению, Молотов не стал опровергать конкретные обвинения, которые ему были предъявлены. Наверное, не решился вступить в прямой спор со Сталиным, доказывать, что тот сказал неправду.
Это меня удивило, и я считал, что он поступил неправильно. Я решил опровергнуть неправильное обвинение в отношении меня. “В течение многих лет я состою в Политбюро, и мало было случаев, когда мое мнение расходилось с общим мнением членов Политбюро. Я всегда проводил линию партии и ее ЦК даже в тех вопросах, когда мое мнение расходилось с мнением других членов ЦК. И никто мне в этом никогда упрека не делал. Я всегда всеми силами боролся за линию партии как во внутренней, так и во внешней политике и был вместе со Сталиным в этих вопросах”.
И, обратившись к Сталину, продолжил: “Вы, товарищ Сталин, хорошо должны помнить случай с Лозовским, поскольку этот вопрос разбирался в Политбюро, и я доказал
в присутствии Лозовского, что я ни в чем не виноват. Это была ошибка Лозовского. Он согласовал с Молотовым и со мной проект директивы ЦК в Вашингтон нашему послу и послал этот проект без ведома Политбюро ЦК. Я Лозовскому сказал, что этот проект директив поддерживаю, но предупредил его, хотя он это и сам хорошо знал, что вопрос надо поставить на рассмотрение и решение Политбюро. Однако потом, как я узнал от вас, товарищ Сталин, Лозовский этого не сделал и самолично послал директиву в Вашингтон. После того как этот вопрос был выяснен в ЦК, никто больше его не касался, поскольку он был исчерпан. Очень удивлен, что он вновь сегодня выдвигается как обвинение против меня. К тому же в проекте директив каких-либо принципиальных уступок американцам не было. Там было дано только согласие предварительно обменяться мнениями по некоторым вопросам, которые мы не хотели связывать с вопросом о кредитах. И не случайно, что американцы не приняли этого предложения и переговоры не начались. Но если даже такие переговоры имели бы место, то они не имели бы отрицательных последствий для государства.
Что же касается цен на хлеб, то я полностью отвергаю предъявленное мне обвинение в том, что я принимал участие в подготовке материалов для Молотова. Молотов сам может подтвердить это. Зачем Молотову нужно было просить, чтобы я подготовил материалы, если в его распоряжении Госплан СССР и его председатель, имеющий все необходимые материалы, которыми в любой момент Молотов может воспользоваться? Он так, наверное, и поступил. Это естественно”.
К сожалению, впоследствии я узнал, что никакой стенограммы выступления Сталина, Молотова и моего не осталось. Конечно, я лучше всего помню то, что говорил в своем выступлении. Выступление Молотова помню менее подробно, но суть сказанного им помню хорошо.
Во время выступления Молотова и моего Сталин молчал и не подавал никаких реплик. Берия и Маленков во время моего выступления, видя, что я вступаю в спор со Сталиным, что-то говорили, видимо, для того, чтобы понравиться Сталину и отмежеваться от меня. Я знал их натуру хорошо и старался их не слушать, не обращал никакого
внимания, не отвлекался и даже не помню смысл их реплик — ясно было, что они направлены против меня, как будто я говорю неправду и пр.
Потом в беседе с Маленковым и Берия, когда мы были где-то вместе, они сказали, что после пленума, когда они были у Сталина, Сталин сказал якобы: “Видишь, Микоян даже спорит!” — выразив тем самым свое недовольство и подчеркнув этим разницу между выступлением Молотова и моим. Он никак не оценил выступление Молотова и, видимо, был им удовлетворен. Со своей стороны, они упрекнули меня в том, что я сразу стал оправдываться и спорить со Сталиным: “Для тебя было бы лучше, если бы ты вел себя спокойно”. Я с ними не согласился и не жалел
0 сказанном.
А подоплека обвинения Молотова и меня в намерении повысить заготовительные цены на хлеб была такова. (В последние годы жизни память Сталина сильно ослабла — раньше у него была очень хорошая память, поэтому я удивился, что он запомнил это предложение Молотова, высказанное им в моем присутствии Сталину в конце 1946 года или в начале 1947 года, то есть шесть лет тому назад.)
Мы ехали в машине к Сталину на дачу, и Молотов сказал мне: “Я собираюсь внести Сталину предложение о повышении цен при поставках хлеба колхозами государству. Хочу предложить, чтобы сдаваемый колхозами хлеб оплачивался по повышенным закупочным ценам. Например,
1 кг пшеницы стоит в среднем 9 копеек — закупочная цена в среднем 15 копеек (в старом масштабе цен)”. *
Я ему сказал, что это слишком небольшое изменение и положения, по существу, не меняет. Что такое 15 копеек вместо 9 копеек за 1 кг хлеба? Это маленькое дело. Нужна большая прибавка, и не только по хлебу. Правда, Сталин и это предложение отвергнет, сказал я. По существу же, я был за серьезную корректировку всех закупочных цен, как это провели после смерти Сталина при моем активном участии в 1953 году.
Когда мы приехали, Молотов при мне стал доказывать Сталину, что крестьяне мало заинтересованы в производстве хлеба, что нужно поднять эту заинтересованность, то есть нужно по более высоким закупочным ценам оплачивать поставки хлеба государству. “У государства нет
такой возможности, делать этого не следует”, — коротко сказал Сталин, и Молотов не стал возражать. Ни разу в беседах к этому они це возвращались — ни Сталин, ни Молотов. Этот случай Сталин сохранил в памяти и привел тогда, когда это ему понадобилось.
То же повторилось и в истории с Лозовским, которая произошла в июне 1946 года, а спустя много лет Сталин припомнил ее, решив нанести мне удар. Видимо, Сталин подобные факты запечатлевал в памяти или, может быть, даже записывал, чтобы использовать их, когда это ему будет выгодно».
Тем не менее до поры Сталин сохранял Молотова во главе МИДа — как знаковую фигуру для западных держав, к которой там испытывали хоть какое-то доверие. Это было особенно важно в условиях, когда начиналась «холодная война» и просоветские режимы устанавливались в странах Восточной Европы.
Послевоенную обстановку в Европе Молотов на склоне жизни оценивал следующим образом:
«Ну что значит “холодная война”? Обостренные отношения. Все это... потому, что мы наступали. Они, конечно, против нас ожесточились, а нам надр было закрепить то, что завоевано. Из части Германии сделать свою, социалистическую Германию, а Чехословакия, Польша, Венгрия, Югославия — они же были в жидком состоянии, надо было везде наводить порядок. Прижимать капиталистические порядки. Вот “холодная война”. Конечно, надо меру знать. Я считаю, что в этом отношении у Сталина мера была очень резко соблюдена».
Показательно, что главную причину «холодной войны» Вячеслав Михайлович видит, и совершенно справедливо, в стремлении Москвы установить советские порядки в странах Восточной Европы, что, естественно, вызывало противодействие со стороны Запада, пусть только и на дипломатическом уровне. При этом Молотов всячески подчеркивает роль Сталина в определении курса внешней политики, и это гоже соответствует действительности. И во внешнеполитических, и во внутриполитических делах Вячеслав Михайлович всегда вел партию второй скрипки при Иосифе Виссарионовиче, озвучивал сталинские
предложения и тезисы, проводил в жизнь основной курс его политики, будь то экспансия вовне или репрессии и подавление любого инакомыслия внутри страны.
Интересно, что Молотов достаточно реалистично оценивал роль репараций с Германии для Советского Союза. В беседе с Чуевым он заметил:
«После войны мы брали репарации, но это мелочь. Государство-то колоссальное у нас. Потом, эти репарации были старым оборудованием, само оборудование устарело. А другого выхода не было. Это некоторое облегчение тоже надо было использовать... Мы же потихоньку создавали ГДР, нашу же Германию. Если бы мы вытащили оттуда все, как бы на нас ее народ смотрел? Западной Германии помогали американцы, англичане и французы. А мы ведь тащили у тех немцев, которые с нами хотели работать. Это надо было очень осторожно делать. Много мы тут недоработали. Но это нам тоже помогло. Надо сказать, что немцы обновили свой фонд, перевели на новую технику, мы тогда у себя это сразу сделать не могли. Но некоторую часть оборудования отправили в Китай».
Насчет помощи англичан и французов Западной Германии в послевоенные годы Вячеслав Михайлович зря сказал. В то время Англия и Франция, серьезно пострадавшие в результате войны, едва-едва сводили концы с концами, и им было не до помощи Германии. Одна надежда была на американцев. Фактически же Молотов признал, что в результате репараций Советский Союз получил промышленное оборудование вчерашнего дня. Так что пришлось безвозмездно передавать часть его еше более отсталому Китаю, тогда как западные немцы, лишенные старого оборудования, быстро обновили свой промышленный парк. Единственное, чего не мог признать Молотов, так это то, что при социализме не создавалось стимулов для научно-технического прогресса, и поэтому в гражданских отраслях Советский Союз все более безнадежно отставал от Запада. Однако американскую помощь на восстановление советской экономики Сталин принимать не собирался, чтобы не впасть в зависимость от «империалистов». Он не хотел просить даже продовольственной помощи в голодные 1946-й и 1947 годы.
26 июня 1947 года на парижском совещании министров иностранных дел СССР, США, Англии и Франции Вячеслав Молотов резко осудил план помощи США европейским государствам, известный как «план Маршалла». Молотов заявил, что этот план угрожает независимости европейских государств. Впоследствии он говорил Феликсу Чуеву:
«Но если они (западные державы.— Б. С.) считают, что это была наша ошибка, что мы отказались от плана Маршалла, значит, правильно мы сделали. Вначале мы в МИД хотели предложить участвовать всем социалистическим странам, но быстро догадались, что это неправильно. Они затягивали нас в свою компанию, но подчиненную компанию, мы бы зависели от них, но ничего бы не получили толком, а зависели бы безусловно».
Молотов вспоминал, как участвовал в формировании первого просоветского правительства Венгрии, и при этом весьма нелестно отозвался о венграх:
«Мещане они глубокие, мещане. У русского же есть какое-то внутреннее чутье, ему нравится размах, уж если драться, так по-настоящему, социализм — так в мировом масштабе... Особая миссия... Все-таки решились, не боялись трудностей, открыли дорогу и другим народам... Для одних социализм — великая цель, для других — приемлемо и не слишком беспокоит».
Демократию при капитализме Молотов называл «дребеденью», а главной целью Сталина считал сокрушение империализма:
«Сталин вел дело к гибели империализма и к приближению коммунизма. Нам нужен был мир, но по американским планам двести наших городов подлежали одновременной атомной бомбардировке... Сталин рассуждал так: “Первая мировая война вырвала одну страну из капиталистического рабства. Вторая мировая война создала социалистическую систему, а третья навсегда покончит с империализмом”».
Молотов не уточнял при этом, что третья мировая война неизбежно стала бы ракетно-ядерной.
В послевоенные годы, находясь во главе МИДа, Вячеслав Михайлович пожинал плоды репутации, завоеванной им в дни войны, хотя за неуступчивость его и прозвали на Западе «мистером Нет» (Сталин, как всегда, для контраста играл роль «мистера Да»).
Американский посол в Москве Чарльз Болен, много общавшийся с Молотовым во время Второй мировой войны и в послевоенные годы, утверждал:
«Молотов был великолепным бюрократом. В том смысле, что он неутомимо преследовал свою цель, его можно назвать искусным дипломатом. Сталин делал политику, Молотов претворял ее в жизнь. Он пахал, как трактор. Я никогда не видел, чтобы Молотов предпринял какой-то тонкий маневр. Именно его упрямство позволяло ему достигать эффекта... Он выдвигал просьбы, не заботясь о том, что делается посмешищем в глазах остальных министров иностранных дел. Однажды в Париже, когда Молотов оттягивал соглашение, поскольку споткнулся на процедурных вопросах, я слышал, как он в течение четырех часов повторял одну фразу: “Советская делегация не позволит превратить конференцию в резиновый штамп”,— и отвергал все попытки Бирнса и Бевина сблизить позиции».
Писатель Виктор Ерофеев, чей отец после войны был помощником Молотова, дает такой портрет нашего героя в бытность его министром иностранных дел:
«Вячеслав Михайлович имел привычку полежать полчасика в течение дня. На круглом столе в комнате отдыха, возле кабинета, всегда стояли цветы, ваза с фруктами и грецкими орехами, которые обожал Вячеслав Михайлович. Он был вторым человеком в государстве. Его именем назывались города, машины, колхозы, его изображения висели на улицах и в музеях. В молодости он играл на скрипке в ресторанах. Он никогда не смеялся, а если улыбался, то нехотя, через силу. Молотов состоял из костюма с галстуком, землистого цвета лица, большого лба с глубокими залысинами, пенсне на крупном породистом носу, щетинистых, но старательно подстриженных усиков.
Отец не обнаружил в нем ни трибуна, ни пламенного революционера. Молотов терпеливо выслушал его положитель-
ное мнение о Коллонтай, не перебивая и не поддерживая будущего сотрудника. Коллонтай тоже не слишком жаловала Молотова, сыграв не последнюю роль в его жизни: в бытность заведующей женским отделом ЦК, который был под Молотовым, она познакомила его с будущей женой, Полиной Семеновной Жемчужиной.
В первые месяцы работы с Молотовым отец не мог отделаться от ощущения, что его вот-вот выгонят, и если еще не выгнали, то только потому, что пока не нашли замену. Молотов не стучал кулаком по столу, как Каганович, у которого помощники умирали от инфарктов, но использовал обидные прозвища, вроде “шляпа” и “тетя”. Молотов велел отцу изменить подпись так, чтобы вся фамилия была видна целиком, как у него самого. Неожиданно вернувшись раньше времени от Сталина, к которому ходил еженощно, он застал отца за шахматами со старшим помощником Подцеробом, который был кандидатом в мастера.
— Я тоже играл в прошлом в шахматы, — оглядев игроков, сказал Молотов. — Когда сидел в тюрьме, в темной камере, где читать невозможно и делать совершенно нечего... (Вероятно, бедняг при этом едва не хватил инфаркт. — Б. С.)
— Дисциплинированный человек, — говорил Молотов своим сотрудникам, никогда не простужается, ответственно относится к своей одежде и к своему поведению. Он не будет сидеть под форточкой или бегать без пальто в холодную погоду...
Молотов, по словам отца, был сухим, докучным, хотя и образованным человеком. Во всяком случае, он был, видимо, единственным членом Политбюро, который после смерти Сталина мог твердо сказать, что Бальзак никогда не писал роман под названием “Мадам Бовари”. Он любил долгие прогулки на природе, катался на коньках, пил нарзан с лимоном и обожал гречневую кашу. Однажды он озадачил отца:
— Что вы знаете о пользе гречневой каши? Узнайте и доложите!
Идея долголетия, как это нередко случалось у коммунистов, была для него заменой бессмертия. В частном порядке Молотов проявлял интерес не только к гречневой каше. В 1947 году в СССР прошла денежная реформа. Спустя полтора года, как-то ночью, Молотов спросил отца:
— У вас нет, случайно, при себе денег?
— Денег? — изумился отец и стал хлопать себя по карманам, чтобы с готовностью вынуть кошелек. Премьер-министр с интересом рассматривал денежные знаки своей страны.
— Хорошие деньги, — одобрил он».
Вячеслав Михайлович, как и другие члены Политбюро, в магазин никогда не ходил, это за него делала обслуга, так что о том, как выглядят советские деньги, имел весьма слабое представление.
Молотов активно выступал за создание в Палестине Государства Израиль. Советский посол в Англии И.М. Майский еще в августе 1943-го по пути из Лондона в Москву приземлился в аэропорту Лод возле Тель-Авива и встречался с Моше Шаретом, Ицхаком Бен-Цви, Голдой Меир и другими руководителями еврейской общины. В Москве он составил меморандум для Молотова, где отметил:
«Это все очень приятные люди, окончившие русские реальные училища или гимназии, мы вели беседы на классическом русском литературном языке, но думают они на английском с американским прононсом».
Это означало, что руководители будущего израильского правительства зависят от американского еврейства. Молотов, однако, считал, что СССР следует отказаться от союза с арабскими компартиями, потому что они никакой роли в обществе не играют, а сионисты — сила, способная добиться ухода англичан из Палестины. Поскольку социал-сионисты идейно близки к ВКП(б), то, как полагал Вячеслав Михайлович, вполне реален их стратегический союз с Москвой. Сталин согласился с Молотовым, и Громыко получил указание поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о разделе Палестины.
Очень скоро это решение советскому руководству вышло боком. Резолюция ООН о Палестине принималась в 1947 году, когда антикосмополитическая кампания в СССР только начиналась. А независимость Израиля была провозглашена в мае 1948 года, когда эта кампания уже приближалась к своему апогею и ни о какой дружбе с Израилем в долгосрочной перспективе не могло быть и речи.
15 мая 1948 года (в день начала необъявленной войны семи арабских государств против Израиля) министр иностранных дел Моше Шарет направил Молотову телеграм-
му с выражением благодарности за поддержку резолюции о разделе Палестины. Телеграмма была написана по-русски. Молотов ответил на английском:
«Настоящим подтверждаю получение вашей телеграммы, в которой вы доводите до сведения правительства СССР, что... было провозглашено создание независимого Государства Израиль... Настоящим сообщаю, что правительство СССР приняло решение официально признать Государство Израиль и его временное правительство.
Правительство СССР выражает надежду, что провозглашение еврейским народом суверенного, независимого государства послужит делу упрочения мира и безопасности в Палестине и на Ближнем Востоке, и выражает уверенность, что между Союзом Советских Социалистических Республик и Государством Израиль сложатся дружеские отношения».
Последнее пожелание оказалось пустым звуком, хотя в определенный момент Сталин из тактических соображений разрешил своему сателлиту Чехословакии поставить оружие израильской армии, чтобы не допустить ее поражения и восстановления британского влияния в Палестине.
26 мая 1948 года Молотов объявил о готовности немедленно обменяться с Израилем дипломатическими представительствами по просьбе израильской стороны. В отличие от США СССР сразу же признал Израиль де-юре, а не только де-факто. В дальнейшем и эту активность на израильском направлении поставили ему в вину. 7 сентября 1948 года, всего через четыре дня после открытия израильской миссии в Москве, посол Израиля Голда Меир поблагодарила Молотова за помощь, оказанную Израилю. Молотов ответил: «Ничего особенного. Мы оказываем помощь всем народам, которые борются за независимость».
Не исключено, что произраильская позиция Молотова послужила одной из причин снятия его с поста министра иностранных дел. Можно предположить, что именно по предложению Молотова Сталин поддержал идею создания Израиля, а впоследствии решил, что это было ошибкой.
Позже Молотов признавался, что активно способствовал образованию Израиля. Он говорил Чуеву, что тогда, в 1947—1948 годах, против этого были все страны, включая США, а за были только он и Сталин (наверняка с подачи
Молотова). Вячеслав Михайлович также подчеркивал, что советская политика в национальном вопросе всегда была интернационалистской по своему характеру и поощряла самоопределение наций. Поддерживая создание Израиля, СССР, по словам Молотова, оставался на антисионистских позициях, проще говоря, препятствовал иммиграции советских евреев в Палестину. Но даже такая умеренная поддержка Израиля вскоре показалась Сталину чрезмерной.
30 мая 1947 года был создан центр по обработке информации, поступавшей по каналам внешнеполитической и военной разведок. Таким образом Сталин попытался скопировать американское ЦРУ. Новый орган назвали Комитетом информации при Совете министров СССР, в него вошли 1-е (разведывательное) управление МТБ и ГРУ Генштаба Вооруженных сил. Руководителем комитета стал Молотов, его заместителем по политической разведке — генерал-лейтенант Петр Федотов, по военной разведке — начальник ГРУ генерал-полковник Федор Кузнецов, по дипломатической — посол Яков Малик, бывший заместитель министра иностранных дел.
Сам Молотов опыта управления деятельностью разведки не имел, поэтому вся нагрузка легла на его заместителей. На практике новое учреждение оказалось слишком громоздким. Оно лишь затрудняло оперативное использование поступавшей информации. В марте 1949 года, когда Молотова во главе МИДа сменил А.Я. Вышинский, Вячеслав Михайлович перестал руководить и Комитетом информации. Незадолго до этого, в январе 49-го, статус комитета был существенно понижен — он стал числиться не при Совмине, а при МИДе.
В феврале 1952 года Комитет информации упразднили. Ничем особо замечательным он не прославился. Наиболее важная разведывательная информация, касавшаяся атомного и водородного оружия, а также ракет и других новейших систем вооружений, туда не поступала, а направлялась в Спецкомитет, которым руководил Берия. Так что на поприще руководства советской разведкой (во многом формального) Молотов не успел стяжать каких-либо лавров.
По поручению Сталина Молотов также должен был клеймить позором космополитов. Так, 6 ноября 1947 года, выступая по случаю 30-й годовщины Октябрьской рево-
люции, Молотов призвал советский народ осудить все проявления низкопоклонства перед Западом и буржуазной культурой. И еше он заявил: «Все дороги ведут к коммунизму». Это, между прочим, отразилось в «Песне мира» поэта Евгения Долматовского и композитора Дмитрия Шостаковича из кинофильма «Встреча на Эльбе»: «...В наш век все дороги ведут к коммунизму».
В послевоенные годы Молотову приходилось много встречаться с лидерами социалистических стран. Это было связано с тем, что Вячеславу Михайловичу Сталин поручил курировать советских союзников в Восточной Европе и в Азии. В конце жизни Молотов давал им весьма любопытные характеристики.
Например, Мао Цзэдуна, когда тот приехал в Москву, Сталин долго не принимал. Хотел прежде узнать, что он за человек. Мао жил на сталинской ближней даче. Молотов пришел к нему, поговорил за жизнь и сказал Сталину, что китайского вождя стоит принять: «Человек он умный, крестьянский вождь, такой китайский Пугачев. Конечно, до марксиста далековато — он мне признался, что “Капитал” Маркса не читал».
Сам Вячеслав Михайлович «Капитал» читал, правда, только когда сдавал политэкономию в системе партийной учебы, явно не весь и не до конца. Он признавался, что «Капитал» «могли прочесть только герои».
Хорошее отношение к Мао, однако, не помешало Молотову критиковать политику Большого Скачка. Уже низверженный с вершин власти до уровня посла в Монголии, Молотов говорил китайскому послу в Улан-Баторе, что маленькие кустарные домны, на которые делалась ставка, это авантюра, поскольку они производят никуда не годный чугун. За это Вячеслав Михайлович получил выговор в Москве, но жизнь показала, что здесь он оказался прав.
Тепло Молотов отзывался и о Клементе Готвальде:
«Готвальд — хороший мужик, очень хороший, но пил... В вопросе победы (коммунистов в Чехословакии. — Б. С.), конечно, не играл особой роли, но в вопросе построения социализма, перехода от капитализма в Чехословакии он решающую роль сыграл. Молодец Готвальд».
А вот о Тито Молотов, по его словам, с самого начала был дурного мнения:
«Когда Тито приехал впервые, еще не все в нем было ясно, даже мне он немного понравился внешностью. Я, когда смотрел на Тито, еще ясно не понимал, потому что сразу не поймешь, он тогда мне понравился, а вместе с тем что-то другое... и вспомнил провокатора Малиновского. Тито — не империалист, а мелкая буржуазия, противник социализма. Империализм — это другое дело... Мы критиковали югославов за национализм. Они сравнивали США и СССР. Почему у нас и разрыв получился, что они практически не проводили различий между главной империалистической страной и главной социалистической».
Молотов стал одним из авторов печально знаменитого письма Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформа) с призывом к коммунистам Югославии свергнуть Тито. На практике это привело лишь к массовому избиению сталинистов в Югославии. В письме, датированном 27 марта 1948 года, Сталин и Молотов, в частности, заявляли:
«Как известно, наши военные советники направлены в Югославию по настоятельной просьбе югославского правительства, причем советские военные советники были выделены для Югославии в гораздо меньшем количестве, чем просило об этом югославское правительство. Следовательно, советское правительство не имело намерения навязать своих советников Югославии.
Однако впоследствии югославские военные руководители, влчж числе Коче Попович, сочли возможным заявить о необходимости сократить число советских военных советников на 60%. Это заявление мотивировалось по-разному: одни говорили, что советские военные советники слишком дорого стоят для Югославии; другие утверждали, что югославская армия не нуждается в усвоении опыта Советской армии; третьи заявили, что уставы Советской армии являются трафаретом, шаблоном и не представляют ценности для югославской армии; четвертые, наконец, слишком прозрачно намекали на то, что советские военные советники даром получают жалованье, так как от них нет никакой пользы. Поскольку югославское правительство не давало
отпора этим попыткам дискредитации Советской армии, оно несет ответственность за создавшееся положение...
Из сообщения Лаврентьева (советского посла в Белграде. — Б. С.) видно... что советские представители в Югославии отданы под контроль и надзор органов безопасности Югославии...
Как видно, и здесь ответственность за создавшееся положение несет югославское правительство.
Таковы причины, вынудившие советское правительство* отозвать своих военных и гражданских специалистов из Югославии...
Нам известно, что среди руководящих товарищей в Югославии имеют хождение антисоветские высказывания вроде того, что “ВКП(б) перерождается”, что “в СССР господствует великодержавный шовинизм”, что “СССР стремится экономически захватить Югославию", что “Коминформ является средством захвата других партий со стороны ВКП(б)” и т. п. Эти антисоветские высказывания обычно прикрываются левыми фразами о том, что “социализм в СССР перестал быть революционным”, что только Югославия является подлинным носителем “революционного социализма”. Конечно, смешно слышать подобные речи о ВКП(б) от сомнительных марксистов типа Джиласа, Вукмановича, Кид-рича, Ранковича и других. Но дело в том, что эти высказывания имеют давнишнее хождение среди многих руководящих деятелей Югославии, продолжаются и теперь и, естественно, создают антисоветскую атмосферу, ухудшающую отношения между ВКП(б) и югославской компартией... У нас вызывает тревогу нынешнее положение компартии Югославии. Странное впечатление производит тот факт, что компартия Югославии, являясь правящей партией, до сего времени еще не легализована полностью и все еще продолжает находиться в полулегальном состоянии. Решения органов партии, как правило, не публикуются в печати. Не публикуются также отчеты о партийных собра-
Вячеслав Михайлович неизменно выступал против слишком тесного сближения с Югославией, что ему, в частности, поставили в вину при разгроме «антипартийной группы» в 1957 году. Похоже, Молотов с его сугубо догматическим складом ума не понимал, что Тито и Мао принципиально отличались от других лидеров стран-сателлитов,
поскольку пришли к власти в своих странах пусть и при советской поддержке, но отнюдь не на советских штыках, а во главе собственных мощных партизанских армий и при несомненной поддержке если не большинства, то очень значительной и наиболее активной части своих народов. Рано или поздно они должны были захотеть играть самостоятельную роль, не оглядываясь на Старшего Брата, и конфликт на этой почве с СССР и их отпадение от советского блока были неизбежны. У Тито со Сталиным это произошло раньше, у Мао Цзэдуна, в большей степени нуждавшегося в советской экономической и военной помощи, конфликт с Хрущевым и Брежневым вышел позже, но сами эти конфликты, повторю, были объективно обусловлены. Кстати, точно таким же образом отпала в 1960 году от Советского Союза Албания, лидер которой Энвер Ходжа также в свое время был командующим партизанской армией и пришел к власти без помощи советских войск. Он нерасчетливо рискнул заменить СССР на Китай в качестве страны-донора, что предопределило экономическую отсталость Албании, оставшейся самой бедной страной Европы.
Между прочим, еще в 1946 году произошел один любопытный случай, который мог насторожить Вячеслава Михайловича. Сталин позвонил Молотову в Нью-Йорк и сообщил: вот, мол, пришли академики, просят разрешить избрать тебя почетным академиком. Естественно, Вячеслав Михайлович согласился. Но это могло быть и грозным признаком, своего рода черной меткой. Ведь накануне ареста был избран членом-корреспондентом Академии наук ведущий советский публицист Михаил Кольцов, а до того — Бухарин, причем полноправным академиком.
Намерение Сталина заменить старую команду Молотова, Маленкова, Берии и Микояна, управлявшую страной в годы войны, новой, ленинградской, во главе с собственным сватом Андреем Ждановым, сделавшим борьбу с космополитизмом стержнем новой идеологической кампании, привело к резкому падению влияния Молотова.
В конечном счете Молотов оказался главной мишенью интриги, направленной против Еврейского антифашистского комитета, в котором состоял его заместитель С.А. Лозовский. Уже 12 октября 1946 года министр госбезопасности Виктор Абакумов направил в ЦК записку
«О националистических проявлениях некоторых работников ЕАК». Такая акция не могла быть предпринята без предварительной санкции Сталина. Начались аресты евреев, из которых выбивали показания об антисоветской и националистической деятельности ЕАК.
В конце 1947 года родственница жены Сталина К.А. Аллилуева показала, что ее знакомый историк И.И. Гольдштейн настроен антисоветски. От Гольдштейна получили показания на его знакомого З.Г. Гринберга, который, в свою очередь, был знаком с Михоэлсом. Гринберг был арестован в конце 1948 года и после интенсивного допроса показал, что Михоэлс в 1946 году говорил ему о намерении использовать для создания Еврейской республики брак дочери Сталина Светланы с евреем Григорием Морозовым. Из Гринберга выбили также показания, будто Михоэлс проявляет повышенный интерес к личной жизни вождя, что было расценено как умысел на теракт. Сталин распорядился немедленно уничтожить Михоэлса. 13 января 1948 года великий режиссер и актер, глава ЕАК Соломон Михоэлс был убит в Минске сотрудниками МГБ. Из-за популярности Михоэлса в стране и мире его решили убрать тайно, без суда. Убийство было инсценировано как несчастный случай — наезд грузовика, но тотчас распространились слухи, что Михоэлса ликвидировали. Чтобы перевести стрелки, МГБ само запустило слух, что режиссера убили «польские фашисты» (эта версия звучала и на процессе 1952 года).
Михоэлс, друживший с Жемчужиной, называл ее «нашей Эсфирью» и «хорошей еврейской дочерью». Неудивительно, что она пришла на его похороны, что позже поставили ей в вину. А Зускину и Феферу она шепнула, указав на покойника: «Это убийство». Наверняка и Вячеслав Михайлович догадывался о подоплеке гибели актера, хотя прямо его в столь «деликатную» операцию спецслужб скорее всего не посвящали.
В феврале 1948 года Зускин и другие руководители Московского государственного еврейского театра обратились к Молотову с просьбой оказать материальную помощь театру, но ответа так и не дождались.
26 марта 1948 года Абакумов представил в ЦК и Совмин записку, где утверждал, что руководители ЕАК ведут
антисоветскую и шпионскую работу в пользу американской разведки.
20 ноября 1948 года Политбюро приняло постановление о роспуске ЕАК. Был также закрыт Еврейский театр, другие еврейские культурные учреждения и органы печати. В конце 1948 — начале 1949 года были арестованы почти все члены комитета, которых судили в 1952 году в рамках закрытого процесса, а также ряд других евреев из числа деятелей науки, культуры и номенклатурных руководителей среднего звена.
Следователям удалось быстро получить требуемые показания от секретаря ЕАК Фефера, на которых и строилось все обвинение. Но следствие затянулось на три с лишним года. Дело, вероятно, было в том, что наверху никак не могли выработать сценарий будущего процесса, к тому же в июле 1951 года был арестован Абакумов, в связи с чем сменилась команда следователей. Кроме того, некоторые подследственные так и не признали своей вины.
Обвинения были просто смехотворны. Пересылавшиеся за границу пропагандистские материалы, в том числе и предназначенные для знаменитой «Черной книги» о геноциде против евреев, выдавались за шпионские сведения, а частные разговоры о растущих проявлениях антисемитизма в СССР и о возможности формирования еврейской дивизии для участия в Великой Отечественной войне, а затем — для борьбы с арабами в Палестине, — за антисоветскую деятельность.
Процесс сделали закрытым: открытое судебное заседание имело смысл только в том случае, если бы удалось убедить в виновности членов ЕАК хотя бы часть мировой общественности. Еще до начала суда, 3 апреля 1952 года, новый глава МГБ Сергей Игнатьев представил Сталину проект приговора. Всех подсудимых предлагалось расстрелять, кроме крупного физиолога академика Лины Штерн. Ее планировалось сослать на десять лет. Сталин приговор утвердил, снизив срок ссылки Штерн до пяти лет.
На суде не признали себя виновными Лозовский, Ши-милиович, Брегман и Маркиш. Последний, впрочем, поддержал обвинения против других членов ЕАК в национализме и антисоветской деятельности, напомнив, что еще
в 1944 году подал донос в парторганизацию Совинформбюро о националистической и контрреволюционной деятельности руководства ЕАК. Но это его не спасло, равно как и активно сотрудничавшего со следствием и судом Фефера.
Процессы над еврейскими «буржуазными националистами» призваны были помочь утверждению русского имперского сознания, которое Сталин рассчитывал использовать для укрепления своей власти. Кроме того, евреи должны были стать козлами отпущения за все трудности послевоенной жизни. Лишь смерть вождя помешала проведению новых политических процессов.
В связи с разгромом ЕАК тучи сгустились и над женой Молотова. 10 мая 1948 года П.С. Жемчужину «по состоянию здоровья» освободили от должности начальника Главного управления текстильной и галантерейной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР. А 17 декабря Абакумов представил Сталину протокол допроса З.Г. Гринберга, в котором подследственный впервые упомянул о связях П.С. Жемчужиной с еврейскими националистами. Поскольку обвинения выдвигались против жены члена Политбюро, Сталин приказал, чтобы расследованием вместе с Абакумовым занимался фактический руководитель КПК М.Ф. Шкирятов.
26 декабря на Старой площади прошли очные ставки между Жемчужиной и арестованными членами ЕАК Фе-фером и Зускиным, а также членом правления московской еврейской общины М.С. Слуцким. Супруга Молотова была обвинена в «политически недостойном поведении». В заключении комиссии утверждалось, что Жемчужина «в течение длительного времени., поддерживала знакомства с лицами, которые оказались врагами народа, имела с ними близкие отношенйя, поддерживала их националистические действия и была их советчиком... Вела с ними переговоры, неоднократно встречалась с Михоэлсом, используя свое положение, способствовала передаче... политически вредных, клеветнических заявлений в правительственные органы. Организовала доклад Михоэлса в одном из клубов об Америке, чем способствовала популяризации американских еврейских кругов, которые выступают против Советского Союза. Афишируя свою близкую связь с Михоэлсом, участвовала в его похоронах, проявляла
заботу о его семье и своим разговором с Зускиным об обстоятельствах смерти Михоэлса дала повод националистам распространять провокационные слухи о насильственной его смерти. Игнорируя элементарные нормы поведения члена партии, участвовала в религиозном еврейском обряде в синагоге 14 марта 1945 года, и этот порочащий ее факт стал широким достоянием в еврейских религиозных кругах...».
Припомнили Полине Семеновне и встречи с ее родным братом бизнесменом Самюелем Карпом в Нью-Йорке в 1943 году. Бдительные информаторы зафиксировали и крамольный разговор Михоэлса с Жемчужиной, состоявшийся голодным летом 1946 года. Михоэлс рассказал тогда о жалобах евреев на притеснения на местах и поинтересовался, к кому лучше обратиться в связи с этим, к Маленкову или к Жданову. Жемчужина объяснила несколько наивному другу Соломону:
«Жданов и Маленков не помогут, вся власть в этой стране сконцентрирована в руках только одного Сталина. А он отрицательно относится к евреям и, конечно, не будет поддерживать нас».
21 октября 1948 года Сталин нанес Молотову очередной и неожиданный удар. В телеграмме, посланной из Сочи, он резко критиковал поправки Молотова к проекту послевоенной конституции Германии и добился, чтобы в принятом по этому поводу постановлении Политбюро подчеркивалось, что молотовские поправки «неправильны политически» и «не отражают позицию ЦК ВКП(б)». После этого Вячеслав Михайлович понял, что заступаться за жену ему не стоит.
А вскоре Сталину стало известно о встрече четы Молотовых с израильским послом в Москве Голдой Меир на приеме в честь 31-й годовщины Октябрьской революции, на котором Молотов предложил Меир выпить рюмку русской водки, а Жемчужина живо интересовалась строительством Государства Израиль, ролью в нем кибуцев и с гордостью заявила на идиш: «Ich bin a iddische Tochter» («Я — еврейская дочь»). Полина Семеновна одобрила посещение Голдой синагоги, а в заключение со слезами на глазах пожелала благополучия евреям Израиля, заявив: «Если будет хорошо Израилю, будет хорошо евреям во всем мире».
Подобную наглость Иосиф Виссарионович терпеть не собирался. Время, когда Молотова надо будет выводить в расход, неумолимо приближалось. Теперь, пожалуй, уже можно посадить друга Вячеслава на короткий поводок...
За всю вскрытую парткомиссией крамолу Жемчужину 29 декабря 1948 года на заседании Политбюро исключили из партии. Молотов вместе со всеми голосовал «за». Позже он объяснял Чуеву:
«Когда на заседании Политбюро он (Сталин. — Б. С.) прочитал материал, который ему чекисты принесли на Полину Семеновну, у меня коленки задрожали (все-таки Вячеслав Михайлович был из робкого десятка, за что Сталин и щадил его до поры до времени. — Б. С.). Но дело было сделано на нее — не подкопаешься. Чекисты постарались. В чем ее обвиняли? В связях с сионистской организацией, с послом Израиля Голдой Меир. Хотели сделать Крым Еврейской автономной областью..ч Были у нее хорошие отношения с Михоэлсом... Находили, что он чуждый. Конечно, ей надо было быть более разборчивой в знакомствах. Ее сняли с работы, какое-то время не арестовывали. Арестовали, вызвав в ЦК. Между мной и Сталиным... пробежала черная кошка».
Вячеслав Михайлович прекрасно понимал, что, воздержись он при голосовании, вскоре сам неизбежно был бы исключен из партии и арестован. Если Жемчужина могла отделаться ссылкой и тюрьмой, то Молотову, по номенклатурным канонам, меньше расстрела никак не светило. Вячеслав Михайлович это печальное обстоятельство хорошо осознавал. Любовь любовью, но жить тоже очень хотелось... >
За два месяца до ареста Полина Семеновна оформила с Молотовым развод, сказав: «Если это нужно партии, мы разведемся», и переехала жить к брату, вместе с которым ее и арестовали. Для ареста Жемчужину 21 января 1949 года вызвали в ЦК.
У внука Молотова Вячеслава Никонова сохранилось несколько написанных дедом страничек, которые автор озаглавил «К летописи». Больше всего там говорится как раз об аресте жены:
«Передо мною встал вопрос — восстать против грубой несправедливости К[обы], пойти на разрыв с ЦК, протестовать, защищая честь жены, или покориться, покориться ради того, чтобы по крайней мере в дальнейшем продолжать борьбу в партии и в ЦК за правильную политику партии, за устранение многих явных и многим не видных ошибок, неправильностей, главное — за такую линию партии, которая опасно, во вред интересам дела коммунизма искоренялась со стороны зазнавшегося К[обы] и поддакивающих ему, прости господи, соратников».
Младшая внучка Молотовых Любовь Алексеевна, с которой беседовала писательница Лариса Васильева, говорила, что они спрашивали бабушку, почему дед за нее не заступился. Полина Семеновна объяснила:
«Он считал, что, если бы поднял голос, меня уничтожили бы. Эти правительственные мужики все были заложники».
То же, в сущности, пишет и сам Молотов в записках:
«Что же касается лиц, окружавших К[обу], они в той или иной степени сочувствовали или полусочувствовали мне, но в общем и целом ставили свои карьерные цели и интересы выше».
«Кое-кто не открыто — когда никто не слышит! — выражали мне, однако, некоторую моральную поддержку, или, лучше сказать, полуподцержку... — признавался Молотов Чуеву. — Например, на заседаниях Политбюро Берия, проходя мимо, шептал: “Полинажива!”»
В деле Жемчужиной есть страничка, написанная ее рукой:
«Четыре года разлуки, четыре вечности пролетели над моей бедной, жуткой, страшной жизнью. Только мысль о тебе, о том, что тебе еще, может быть, нужны остатки моего истерзанного сердца и вся моя огромная любовь, заставляют меня жить».
На склоне лет Молотов говорил друзьям о Полине:
«Мне выпало большое счастье, что она была моей женой. И красивая, и умная, а главное — настоящий большевик, настоящий советский человек. Для нее жизнь сложилась нескладно из-за того, что она была моей женой. Она пострадала в трудные времена, но все понимала и не только
не ругала Сталина, а слушать не хотела, когда его ругают, ибо тот, кто очерняет Сталина, будет со временем отброшен, как чуждый нашей партии и нашему народу элемент... Она сидела больше года в тюрьме и была больше трех лет в ссылке. Берия на заседаниях Политбюро, проходя мимо меня, говорил, вернее, шептал мне на ухо: “Полинажива!” Она сидела в тюрьме на Лубянке, а я не знал... На свободу она вышла на второй день после похорон Сталина. Она даже не знала, что Сталин умер, и первым ее вопросом было: “Как Сталин?” — дошли слухи о его болезни. Я встретился с ней в кабинете Берия, куда он пригласил меня. Не успел подойти к ней, как Берия, опередив меня, бросился к ней: “Героиня!” Перенесла она очень много, но... отношения своего К Сталину не изменила, ценила его очень высоко».
На вопрос Чуева: «В народе говорят, что он (Сталин. — Б. С.) потребовал, чтобы вы развелись, а вы отказались. Потребовал, чтоб отмежевались от нее» — Молотов ответил:
«Отмежевали меня от нее. А вот то, что я воздержался при голосовании, когда ее исключали из ЦК еще в 1940 году, — это да... Вот все говорят — как же так, голосовал против. Она была кандидат в члены ЦК, ее исключили. Обвинили... Чего только не придумали... Очень путано все это было... В ТЭЖЭ (трест высшей парфюмерии, который в 1932—1936 годах возглавляла Жемчужина. — Б. С.), где она работала, вредители появились. В Узбекистане началось. Она тогда занималась парфюмерией и привлекла к этим косметическим делам сомнительных людей. А других, конечно, не было. Немецкие шпионы там оказались. Жены крупных руководителей стали ходить к ней заниматься косметикой.
А когда в 1949-м ее арестовали, предъявили, что она готовит покушение на Сталина. Вышинский потом говорил. Перед тем как меня сняли из Министерства иностранных дел, Сталин подошел ко мне в ЦК: “Тебе надо разойтись с женой!” А она мне сказала: “Если это нужно для партии, значит, мы разойдемся!” В конце 1948-го мы разошлись. А в 1949-м, в феврале, ее арестовали».
Вслед за этим, 4 марта 1949 года Молотов был заменен на посту главы МИД А.Я. Вышинским. Фактически Сталин показал, что больше не доверяет Вячеславу Михайловичу. Тем не менее в 1950 году в связи с 60-летним юбилеем ему вручили четвертый орден Ленина (первым его
наградили к 50-летию, еще двумя — в 1943-м и 1945 годах) — за выдающиеся заслуги перед коммунистической партией и советским народом.
Молотов жаловался Чуеву, что после ареста жены не предъявили «мне никакого обвинения. Мне толком ничего не говорили. Но я из сопоставления некоторых фактов понял, и потом подтвердилось, дело в том, что, когда я был в Америке, вероятно, в 1950 году, когда я ехал из Нью-Йорка в Вашингтон, мне был предоставлен особый вагон. Я тогда, может, это недостаточно оценивал, это, очевидно, был вагон для прослушивания, мне его выделили, чтобы послушать меня хорошенько (не очень понятно, кого здесь имел в виду Вячеслав Михайлович, то ли американские спецслужбы, то ли советские. Правда, МГБ вряд ли могло осуществить такую акцию в Америке. — Б. С.). Со мной из Советского Союза врачи ехали без билетов, какая-то комиссия, о чем они могли болтать?
Сталин ничего не говорил, а Поскребышев стал намекать: “Почему дали особый вагон?” Потом мне Вышинский говорит: “Поскребышев говорит, проверяли вагон”. Специальный вагон, конечно, не всем предоставляется. До этого не было, а тут почему-то предоставили... Особые отношения, может быть, со мной. Это в ООНе когда я был. Это уже подозрительность была, явно завышенная. Ведь Сталин сам назначил Полину Семеновну наркомом рыбной промышленности — я был против!.. Сталин, с одной стороны, как будто выдвигал и ценил Полину Семеновну. Но в конце жизни он... Тут могли быть и антиев-рейские настроения. Перегиб. И на этом ловко сыграли».
Вячеслав Михайлович явно струсил, опасаясь, что если откажется от развода, то его арестуют вместе с женой. Была, конечно, слабая надежда на то, что в случае, если бы Молотов разводиться отказался, жену бы не арестовали. Но он рисковать не стал. Вероятно, покладистость Молотова побудила Сталина повременить с расправой над ним. А с вагоном он так до конца и не понял. То ли МГБ установило прослушку, а он сболтнул что-то лишнее, то ли Сталина возмутил сам факт, что американцы предоставили Молотову спецвагон, чтобы записать его разговоры с подчиненными... Хотя на самом деле для Сталина это могло быть только предлогом. Повторю, что гораздо
важнее то, что Вячеслав Михайлович показал полную неспособность быть преемником, а значит, его надо было рано или поздно выключить из политической игры, чтобы не осложнять жизнь настоящему наследнику.
Между прочим, к назначению Жемчужиной начальником парфюмерного треста Сталин имел самое непосредственное отношение. Свидетельствует Микоян:
«Как-то раз позвонил мне Сталин и пригласил к себе на квартиру. Там был Молотов. Попили чаю. Вели всякие разговоры. Потом Сталин перешел к делу и сказал примерно следующее: жена Молотова, Жемчужина, рассказала ему, что ими очень плохо руководит Наркомлегпром. В таком положении находится и ЛЕНЖЕТ. С ее слов получалось, что они беспризорные. Вместе с тем Жемчужина говорила, что парфюмерия — это перспективная область, прибыльная и очень нужная народу. У них имеется много заводов по производству туалетного и хозяйственного мыла и всей косметики и парфюмерии. Но они не могут развернуть производство, потому что наркомат не дает жиров; эфирных масел для духов и туалетного мыла также не хватает; нет упаковочных материалов. Словом, развернуться не на чем. А у женщин большая потребность в парфюмерии и косметике. Можно на тех же мощностях широко развернуть производство, если будет обеспечено материально-техническое снабжение. “Вот, — говорит Сталин, — я и предлагаю передать эту отрасль из Наркомлегпрома в Наркомпищепром”. Я возразил, что в этом деле ничего не понимаю сам и что ничего общего это дело с пищевой промышленностью не имеет. Что же касается жиров, то сколько правительство решит, столько я буду бесперебойно поставлять — это я гарантирую. Кроме эфирно масличных жиров, производство которых находится у Легпро^а, а не у меня.
Сталин заметил, что не сомневается, что жиры я дам. “Но все же, — сказал он, — ты человек энергичный. Если возьмешься, дело пойдет вперед”. Неуверенно, но я согласился. Итак, все это перешло к нам. Был создан в наркомате Главпарфюмер, начальником которого была назначена Жемчужина. Я с ней до этого не был близко знаком, хотя мы жили в Кремле на одном этаже, фактически в одном коридоре. Она вышла из работниц, была способной и энергичной, быстро соображала, обладала организаторскими способностями и вполне справлялась со своими обязанностями.
Следует сказать, что, несмотря на драматические перипетии ее жизни (ее выдвинули наркомом рыбной промышленности, потом избрали членом ЦК, затем исключили из состава ЦК, арестовали, сослали, и она была освобождена только после смерти Сталина), я, кроме положительного, ничего о ней сказать не могу. Под ее руководством эта отрасль развивалась успешно. Я со своей стороны ей помогал, и она эту помощь правильно использовала. Отрасль развилась настолько, что я мог поставить перед ней задачу, чтобы советские духи не уступали по качеству парижским. Тогда эту задачу в целом она почти что выполнила: производство духов стало на современном уровне, лучшие наши духи получили признание. Мы покупали за границей для этого сырье и на его основе производили эфирные масла. Все это входило в систему ее главка.
В отношении Полины Семеновны я, правда, слышал немало критических замечаний от моей жены Ащхен. Но речь шла исключительно о ее воспитании дочери Светланы и о манерах Полины Семеновны в быту. Она вела себя по-барски, как «первая леди государства» (каковой стала после смерти жены Сталина). Не проявляла скромности, по тем временам роскошно одевалась. Дочь воспитывала тоже по-барски. В подтверждение рассказов Ашхен припоминала, что еще Серго Орджоникидзе возмущался: “Для какого общества она ее воспитывает?!” Так что бытовая сторона жизни Полины Семеновны была, видимо, широко известна. Причем дома она играла роль первой скрипки — муж очень ее любил и ни во что не вмешивался. Наш общий коридор имел двухстворчатую дверь между квартирами, обычно открытую. Однажды Ашхен с иронией сообщила мне, что дверь заперли и закрыли большим шкафом: Полина Семеновна, мол, боится дурного влияния наших сыновей на ее “принцессу”. Но может быть, она просто не хотела жить почти как в коммунальной квартире?»
Разумеется, подобное барство и невоздержанность в быту могли быть лишь предлогом исключения из ЦК. Истинные причины заключались в еврейской национальности, тесных контактах с посольством Израиля, а главное — в необходимости посадить Молотова на крючок.
На следствии жене Молотова инкриминировали служебные злоупотребления разного рода, в том числе незаконное получение дополнительных средств и незаконное премиро-
вание (по этим статьям можно было бы осудить почти любого начальника советского главка), приписки в отчетности, пьянство, кумовство и фаворитизм.
Сначала Полина Семеновна все отрицала. И тут следствие нанесло удар ниже пояса. Один из подчиненных Жемчужиной, некий Иван Алексеевич X., ранее арестованный, под давлением следователей заявил на очной ставке с Полиной Семеновной, что она, используя свое служебное положение, принудила его к сожительству. Иван Алексеевич был человеком женатым, но следователей ослушаться побоялся. Жемчужина была потрясена и назвала свидетеля подлецом. Показания Ивана Алексеевича, в которых подробно описывалось, как именно он занимался сексом с Полиной Семеновной, были оглашены на заседании Политбюро. Ближайшие родственники засвидетельствовали ее переписку с родным братом, эмигрировавшим в Америку, а бывшие сотрудники отводили душу, обвиняя экс-начальницу в деспотизме и обмане государства.
Молотов молча перенес унижение. Признавшую все обвинения Жемчужину Сталин наказал необычно мягко: всего лишь цятилетней ссылкой в Кустанайскую область. Надолго сажать и тем более расстреливать ее было еще рано, поскольку Полина Семеновна нужна была для грядущего процесса против Молотова. В доносах тюремных осведомителей она проходила под шифром «объект № 12». В казахской глуши от безделья и безысходности Полина Семеновна начала потихоньку спиваться, но после возвращения в Москву сумела преодолеть пагубное пристрастие. Трагическим парадоксом является то, что в этом ей помог вторичный арест и два месяца, проведенные на Лубянке, где она была лишена доступа к алкоголю.
Несмотря на опалу, Сталин порой продолжал поручать Молотову ответственные миссии. Перед тем как в октябре 1949 года маршал Рокоссовский был назначен министром национальной обороны Польши, Молотов по поручению Сталина побывал в этой стране. Позже в беседе с Феликсом Чуевым он вспоминал:
«Перед назначением Рокоссовского в Польшу я туда ездил и сказал полякам, что мы им дадим в министры обороны кого-нибудь из опытных полководцев. И решили дать одного из самых лучших — Рокоссовского. Он и характером
мягкий, обаятельный, и чуть-чуть поляк, и полководец талантливый. Правда, по-польски он говорил плохо, ударения не там ставил, — он не хотел туда ехать, но нам было очень нужно, чтобы он там побыл, навел порядок у них, ведь мы о них ничего не знали».
Свидетельство Молотова опровергает широко распространенную версию, будто Рокоссовский был назначен по просьбе лидера польских коммунистов Болеслава Берута. Просьба, конечно, была, но наверняка оформить такую просьбу Берута настоятельно попросили Сталин или Молотов. Берут, естественно, был не в восторге от того, что рядом с ним будет постоянно находиться высокопоставленный соглядатай, имеющий возможность связываться напрямую со Сталиным, но ослушаться Старшего Брата он не рискнул. Согласно преданию, Сталин вызвал к себе Рокоссовского и сказал:
«Это не приказ, это моя просьба, Константин Константинович. Но если вы не поедете в Польшу, мы ее потеряем».
До «потери» Польши Вячеслав Михайлович не дожил всего трех лет...
Самая реальная угроза гибели нависла над Молотовым в начале 1953 года, незадолго до смерти Сталина, в связи с «делом врачей». Проживи Иосиф Виссарионович еще полгода-год, за жизнь Вячеслава Михайловича нельзя было бы дать и ломаного гроша.
4 апреля 1953 года в «Правде» появилось заявление МВД о том, что знаменитое «дело врачей-убийц», якобы по наущению американской и израильской разведок умертвивших членов Политбюро Щербакова и Жданова и готовивших убийство Сталина и других членов правительства, было сфальсифицировано «руководством бывшего МГБ» и все арестованные по этому делу освобождены. Врач кремлевской больницы Лидия Тимашук, ранее награжденная орденом Ленина «за помощь, оказанную правительству в деле разоблачения врачей-убийц», теперь была лишена этой награды «в связи с выявившимися в настоящее время действительными обстоятельствами» дела.
Для современников это сообщение было подобно разорвавшейся бомбе. Ведь всего двумя с половиной месяцами ранее, 13 января, та же «Правда» сообщила об аресте
«группы врачей-вредителей». После этого по всей стране прошла массированная кампания против «подлых шпионов и убийц в белых халатах» с явным антисемитским уклоном. Массовый психоз дошел до того, что люди боялись обращаться к врачам, особенно если врачи были евреями. Хотя среди арестованных врачей, так или иначе имевших отношение к Лечебно-санитарному управлению Кремля и пользовавших высших лиц государства, было немало чистокровных русских, вроде бывшего начальника Лечсан-упра П.И. Егорова и лечащего врача Сталина В.Н. Виноградова, однако упор делался на обилие лиц с еврейскими фамилиями, которых среди арестованных было большинство. Процесс «врачей-вредителей» Сталин собирался сделать стержнем масштабной антиеврейской кампании, превратить в политический процесс по образцу репрессий 30-х годов, с привлечением к суду членов Президиума ЦК (первыми кандидатами на вылет были Молотов и Микоян, подвергнутые Сталиным резкой критике на пленуме, состоявшемся после XIX съезда партии). Но смерть диктатора сделала процесс неактуальным, и его преемники поспешили избавиться от заложенной генералиссимусом мины, на которой мог подорваться любой из них. Ведь сломленных пытками и конвейерными допросами несчастных медиков можно было заставить оговорить кого угодно.
А началось «дело врачей» с ареста в ноябре 1950 года по делу Еврейского антифашистского комитета Якова Этингера, кстати сказать личного врача Берии. Под воздействием костоломов из МГБ и длительного пребывания в камере-холодильнике (личном изобретении министра Абакумова) несчастный «признался», что неправильным лечением намеренно отправил на тот свет секретаря ЦК Щербакова и собирался сократить жизненный путь ряда других партийных руководителей. На самом деле Щербаков был тяжелым алкоголиком и умер от неумеренных возлияний по случаю празднования Дня Победы 9 мая 1945 года. Никакой вины врачей тут не было. Но Абакумов хотел создать новое громкое дело. Да вот беда: не выдержав пребывания в камере-холодильнике, Этингер скоропостижно скончался. Абакумов решил, что нет смысла давать ход показаниям о «медицинских покушениях» на жизнь вождей, раз подследственный уже умер. И в этом, как оказалось,
была роковая ошибка Виктора Семеновича. Следователь Михаил Рюмин накатал на Абакумова донос, в котором сообщал о том, что тот сознательно «смазал террористические намерения Этингера» и умышленно умертвил этого важного свидетеля. Донос попал к Маленкову, а от него — к Сталину.
В июле 1951 года Абакумов был снят с поста главы МГБ и арестован. В закрытом письме ЦК по поврду ареста Абакумова утверждалось:
«Среди врачей, несомненно, существует законспирированная группа лиц, стремящихся при лечении сократить жизнь руководителей партии и правительства. Нельзя забывать преступления таких известных врачей, совершенные в недавнем прошлом, как преступления врача Плетнева и врача Левина, которые по заданию иностранной разведки отравили В.В. Куйбышева и Максима Горького».
Кстати сказать, Абакумов, стараясь отвести от себя обвинения в убийстве Этингера, заявил следователям, что знать не знает ни о каких камерах-холодильниках. «Ах, не знаешь? — ухмыльнулись следователи. — Ну, так узнаешь!» — и посадили бывшего шефа МГБ в такой карцер, из которого Виктор Семенович вышел полным инвалидом.
Вероятно, знакомство с делом Этингера усилило у Сталина недоверие к собственным врачам. Стареющий диктатор мог всерьез опасаться, что кто-то из соратников попробует укоротить его жизнь с помощью медиков или заставить уйти на заслуженный отдых по состоянию здоровья. 19 января 1952 года Владимир Виноградов в последний раз осматривал Сталина и, обнаружив у него повышенное артериальное давление, чреватое инсультом, порекомендовал диктатору ограничить свою активность. После этого Сталин навсегда отказался от услуг Виноградова.
Произведенный в генералы и назначенный заместителем главы МГБ Рюмин стал по приказу Сталина и нового министра С.Д. Игнатьева сооружать «дело врачей». В июле 1952 года на свет была извлечена докладная записка 1948 года врача Лидии Тимашук на имя начальника охраны Сталина Н.С. Власика. В записке Тимашук сообщалось о неправильном диагнозе, поставленном Жданову Виноградовым, Егоровым и их коллегами по «Кремлевке». Вместо правильного:
«инфаркт», на чем с самого начала последней болезни настаивала заведующая кабинетом электрокардиографии Тима-шук, медицинские светила предпочли диагностировать «сердечную астму». Чтобы покрыть ошибку, при вскрытии свежие рубцы на сердце Жданова, свидетельствовавшие о недавнем инфаркте, кремлевские врачи характеризовали как «фокусы некроза» и «очаги миомаляции». .
Уже после смерти Сталина, когда Берия, чтобы иметь доказательства фальсификации «дела врачей», потребовал от подследственных честно рассказать о том, в чем именно они вынуждены были оговорить себя под давлением прежних следователей, Виноградов признался:
«Все же необходимо признать, что у А.А. Жданова имелся инфаркт, и отрицание его мною, профессором Василенко, Егоровым, докторами Майоровым и Карпай было с нашей стороны ошибкой. При этом злого умысла в постановке диагноза и методе лечения не было».
Кстати сказать, это было совсем не то, что в тот момент нужно было Берии, и в сообщении'МВД о прекращении «дела врачей» об ошибке в диагнозе болезни Жданова вообще ничего не говорилось. Так что можно не сомневаться, что в данном случае Виноградов написал святую, истинную правду.
В 1948 году записке Тимашук не был дан ход, в частности из-за близкой дружбы Власика с Егоровым (в 1952 году Власика арестовали). Теперь же Сталин самым серьезным образом отнесся к доносу. Был арестован ряд врачей, в основном евреев, упомянутых в записке Тимашук и в показаниях Этингера.
Тут была еще одна тонкость. Жданов, как и Щербаков, был завзятым алкоголиком, что и провоцировало его сердечные проблемы. Но об этом врачи предпочитали помалкивать, не упоминая, что вождь страдал «стыдной болезнью», и изобрели более обтекаемый диагноз «сердечной астмы», с алкоголизмом прямо не связанный, не очень задумываясь о роковых последствиях подобной «медицинской дипломатии».
Дело было еще и в сравнительно низком уровне работы кремлевской медицины, развращенной привилегиями. К тому же Виноградов и другие врачи были перегружены
9 Соколон
помимо собственно врачебных обязанностей различными другими государственными и общественными нагрузками.
Ошибка со Ждановым была отнюдь не первой на счету кремлевских эскулапов. Так, в 1939 году они не смогли диагностировать аппендицит у Крупской, а потом, когда начался перитонит, побоялись делать операцию, которая только и могла спасти жизнь вдовы Ленина. В 1942 году, когда «всесоюзный староста» Калинин пожаловался на боли в кишечнике, вместо всестороннего обследования, на котором настаивала также проходившая по «делу врачей» С.Е. Карпай, В.Н. Виноградов, тогда — главный терапевт ЛУСК, ограничился клизмой, диетой и лекарствами. В результате рак кишечника у Калинина был выявлен лишь два года спустя, когда опухоль была уже в неоперабельном состоянии. Да и у того же Жданова во время последней болезни на протяжении трех недель не снимались электрокардиограммы, хотя тяжелое состояние, в котором он находился, требовало постоянного медицинского контроля.
Другое дело, что злого умысла в действиях врачей не было. Была элементарная халатность и надежда на русское авось. Но встает вопрос: верил ли сам Сталин в «заговор врачей»? Думаю, что Иосиф Виссарионович мог подозревать их если не в покушении на свою жизнь, то, по крайней мере, в некомпетентности (что в его глазах граничило с «вредительством»), раз решил в конце концов отказаться от их услуг. А вот международные корни заговора в лице американской разведки и сионистской организации «Джойнт» Иосиф Виссарионович, лично контролировавший ход следствия, придумал, скорее всего, исходя из конкретной политической обстановки. Антисемитизм был ценен тем, что способен был мобилизовать массы, дав им привычный образ врага. Америка же идеально годилась на роль вдохновителя заговора, так как была главным противником Сталина в шедшей полным ходом «холодной войне».
14 ноября 1952 года Рюмин был уволен из МГБ без объяснения причин и направлен рядовым контролером в Министерство госконтроля. Как можно понять из его покаянного письма Сталину, Михаилу Дмитриевичу ставилось в вину то, что он несколько месяцев «не применял крайних
мер», то есть не бил подследственных, чем затянул сроки следствия. Действительная причина, скорее всего, лежала глубже. Сталин прямо потребовал у Игнатьева «убрать этого шибздика» Рюмина из МГБ. Дело приобрело политический характер, от арестованных врачей уже получили показания против жены Молотова Полины Жемчужиной, в дело, очевидно, вот-вот должны были ввести политиков из высшего эшелона. Для завершения операции требовались более опытные и проверенные люди, чем патологический антисемит Рюмин, человек с пещерным уровнем интеллекта. Следствие стал курировать близкий к Берии заместитель министра госбезопасности С.А. Гоглидзе, старый кадровый чекист.
Жемчужину пристегивали к «делу врачей» постепенно. Подвергаясь жестоким избиениям резиновыми дубинками и перенеся приступ стенокардии, Виноградов дал показания о том, что еще в 1936 году его завербовал М.Б. Коган, которого объявили английским шпионом. М.Б. Когане 1934 года работал профессором-консультан-том в Лечсанупре Кремля, был личным врачом Жемчужиной с 1944 года и осенью 1948 года сопровождал ее в поездку в Карловы Вары. Следствие утверждало, что он был давнишним агентом «Интеллидженс сервис». Виноградов признался, что вплоть до своей смерти от рака 26 ноября 1951 года М.Б. Коган требовал от него сведений о состоянии здоровья и отношениях в семье Сталина и других руководителей, которых лечил Виноградов.
В конце января 1953 года Сталин распорядился доставить Жемчужину из Кустаная в Москву. От нее добивались подтверждения показаний Виноградова и других арестованных врачей и обвинения Молотова в связях с ними. 19 февраля 1953 года 6bi)i арестован бывший посол в Англии И.М. Майский, которого обвинили в «еврейском национализме» и потребовали дать показания на Молотова. Были также арестованы три сотрудника посольства в Лондоне, в том числе известный публицист Эрнст Генри (С.Н. Ростовский). От них тоже требовали показаний на Молотова. Как полагал Э. Генри, «готовился процесс против Молотова... Нас и его спасла только смерть Сталина».
Последний раз Жемчужину вызывали на допрос 2 марта 1953 года.
Виктор Ерофеев пишет:
«Арест молотовской жены был только первым ударом Сталина по мистеру Нет. “После XIX съезда партии, в октябре 1952 года, над Молотовым завис топор, — рассказывает отец. — Он сидел за опустевшим рабочим столом, просматривая лишь советские газеты и вестники ТАСС. Другие материалы не поступали. К Сталину его вызывали редко. У нас в секретариате ретивые совминовские хозяйственники уже снимали дорогие люстры, гардины”».
Молотов жаловался Чуеву:
«После того как Сталин “избил” меня на Пленуме в 1952 году, я был подорван в авторитете (вполне блатная терминология, обычная среди членов сталинского Политбюро. — />. С.), и от меня не зависело избрание Хрущева. Чего Сталин на меня взъелся? Непонятно. Из-за жены — это тоже имело значение, но, думаю, не это главное. Я не отказывался с Хрущевым работать. Он мне говорил раза два: “Давай работать вместе! Давай дружить!” — “Давай. На какой основе? Давай уговоримся”.
Ничего не получалось, потому что у нас были разные позиции. Ему надо было во что бы то ни стало популярность свою поднять за счет, главным образом, освобождения из лагерей. А я с ним не был согласен, конечно, когда стали реабилитировать откровенных врагов».
На фоне подготовки «дела врачей» открылся последний сталинский XIX съезд ВКП(б). Отчетный доклад сделал Маленков, все чаще называвшийся в кулуарах будущим преемником Сталина. На самом деле Иосиф Виссарионович, прекрасно зная его слабоволие и нерешительность, не рассматривал всерьез Георгия Максимилиановича в качестве своего наследника. На эту роль Сталин предназначал Хрущева, о чем, боюсь, Никита Сергеевич так и не догадался до самой своей смерти.
Речь Сталина на последнем в его жизни октябрьском пленуме 1952 года сохранилась в записи одного из его участников — секретаря Курского обкома партии Леонида Николаевича Ефремова. Иосиф Виссарионович там обрушился лишь на двух представителей «старой гвардии» — Молотова и Микояна:
«Нельзя не коснуться неправильного поведения некоторых видных политических деятелей, если мы говорим о единстве в наших делах. Я имею в виду товарищей Молотова и Микояна.
Молотов — преданный нашему делу человек. Позови, и, не сомневаюсь, он, не колеблясь, отдаст жизнь за партию. Но нельзя пройти мимо его недостойных поступков. Товарищ Молотов, наш министр иностранных дел, находясь под шартрезом на дипломатическом приеме, дал согласие английскому послу издавать в нашей стране буржуазные газеты и журналы. Почему? На каком основании потребовалось давать такое согласие? Разве не ясно, что буржуазия — наш классовый враг и распространять буржуазную печать среди советских людей — это, кроме вреда, ничего не принесет? Такой неверный шаг, если его допустить, будет оказывать вредное, отрицательное влияние на умы и мировоззрение советских людей, приведет к ослаблению нашей, коммунистической идеологии и усилению идеологии буржуазной. Это первая политическая ошибка товарища Молотова.
А чего стоит предложение товарища Молотова передать Крым евреям? Это — грубая ошибка товарища Молотова. Для чего это ему потребовалось? Как это можно допустить? На каком основании товарищ Молотов высказал такое предположение? У нас есть Еврейская автономия. Разве этого недостаточно? Пусть развивается эта республика. А товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советский Крым. Это — вторая политическая ошибка товарища Молотова. Товарищ Молотов неправильно ведет себя как член Политбюро. И мы категорически отклоняем его надуманные предложения.
Товарищ Молотов так сильно уважает свою супругу, что не успеем мы принять решение Политбюро по тому или иному важному вопросу, как это быстро становится известно товарищу Жемчужиной. Получается, будто какая-то невидимая нить соединяет Политбюро с супругой Молотова Жемчужиной и ее друзьями. А ее окружают друзья, которым нельзя доверять. Ясно, что такое поведение члена Политбюро недопустимо.
Теперь о товарище Микояне. Он, видите ли, возражает против повышения сельхозналога на крестьян. Кто он, наш Анастас Иванович? Что ему тут не ясно?
Мужик — наш должник. С крестьянами у нас крепкий союз. Мы закрепили за колхозами навечно землю. Они должны отдавать положенный долг государству Поэтому нельзя согласиться с позицией товарища Микояна».
Опубликованная недавно краткая запись выступления Сталина, сделанная членом ЦК академиком А. М. Румянцевым, содержит примечательные подробности, существенно дополняя предыдущий рассказ.
Сталин вошел в зал под бурные аплодисменты «сумрачный, угрюмый, не поднимая глаз, вслушиваясь в нарастающую овацию и здравицы в его честь». Подойдя к столу, он остановился и «взглянул в зал желтыми, немигающими глазами». «Чего расхлопались? — глухо, неприязненно, с сильным акцентом спросил он. — Что вам тут, сессия Верховного Совета или митинг в защиту мира?!» Члены ЦК растерялись. «Садитесь!» — повелительно произнес Сталин, и все послушно опустились на свои места. «Собрались, п-а-а-нимаешь, решать важные партийные дела, а тут устраивают спектакль», — с ворчливой злобой проговорил Сталин. В своем выступлении он заявил, что «враги партии, враги народа переоценивают единство нашей партии». «На самом деле — в нашей партии глубокий раскол. Снизу доверху... Я должен доложить пленуму, — яростно заключил Сталин, — что в нашем Политбюро также раскол. Антиле-нинские позиции занимает Молотов. Ошибки троцкистского характера совершает Микоян». После выступлений Молотова и Микояна, которых Сталин предложил заслушать, он вернулся к теме «раскола». Повторив прежние обвинения, Сталин предложил «обмануть» врагов партии. «Давайте на этом пленуме выберем большой-болыной Президиум нашего ЦК и состав его Политбюро, о котором ничего не будем сообщать».
Предложение было принято. Хотя Молотов и Микоян были исключены из состава «маленького-маленького» Политбюро, они остались в составе «большого-большого» Президиума. Хранящийся в архиве краткий протокол пленума испещрен карандашными поправками Сталина, который по ходу заседания менял состав членов Президиума ЦК и его Бюро.
Молотов так рассказывал Чуеву о ходе последнего сталинского пленума:
«...У него появилось сомнение — а черт его знает почему! У него были всякие основания. Я, может быть, колебнулся в одном вопросе в 1940 году
Я не побоялся, что правые в таком духе говорят, а поставил перед ним лично вопрос: “Поднять заготовительные цены на зерно. В очень сложных условиях живут крестьяне в центральной части”. Он говорит: “Как так? Как это можно предлагать? А если война?” — “А если война, прямо скажем народу: поскольку война, возвращаемся к старым ценам”. — “Ну, знаешь, чем это пахнет?” — “Если война, вернемся к старому. Крестьяне поймут, что не можем больше платить”.
Я считаю, что я допустил ошибку. Надо было еще потерпеть. И я не стал спорить. Я предложил. Это было с глазу на глаз только вдвоем, на квартире. Я сказал и больше не поднимал вопроса. В 1952 году он мне это напомнил. Он выступал: “Вот что Молотов предлагал — повышение цен на зерно и требовал созыва Пленума ЦК!”
Я не мог требовать, какой там пленум ЦК, я лично ему сказал. А ему это, видно, запомнилось, как мое колебание вправо. Он не обвинял прямо в правом уклоне, но говорит: “Вы рыков-цы!” Микояну тоже. Но тот действительно рыковец. Правый. Хрущевец. Большой разницы я не вижу между Хрущевым и Рыковым. Но я-то никогда этого не поддерживал.
Первым выступил Микоян — я, мол, ничего общего не имею... Я ничего вообще не знал, я тоже выступал, говорил: «Да, я признаю свою ошибку. Но дело в том, что это был мой разговор с глазу на глаз с товарищем Сталиным, больше никого не было». А Сталин, почему он напутал? Нельзя даже свои сомнения неправильные сказать ему?
Но по-моему, эта вещь очень важна, потому что в Центральной России напряжение Очень большое.
На пленуме в основном Хрущева он продвигал вперед. Ну, меня, как правого, и в Бюро не выбрали. Конечно, вопрос немаленький, это не просто повод, это, значит, некоторые колебания у меня в этом вопросе были».
Про еврейскую автономию в Крыму Вячеслав Михайлович в беседе с Чуевым предпочел не вспоминать. В одном он был прав: Сталин убирал с политической шахматной доски его с Микояном, чтобы расчистить будущую дорогу к власти Хрущеву.
На пенсии Молотов терялся в догадках, кто из коллег настроил против него Сталина:
«До сих пор не могу понять, почему я был отстранен? Берия? Нет. Я думаю, что он меня даже защищал в этом деле. А. потом, когда увидел, что даже Молотова отстранили, теперь берегись, Берия! Если уж Сталин Молотову не доверяет, то нас расшибет в минуту!
Хрущев? Едва ли. Некоторые знали слабые стороны Сталина. Во всяком случае, я ему никаких поводов не мог дать. Я ему всегда поддакивал, это верно. Он меня за это ценил: скажешь свое — правильно, неправильно, можно не учесть и эту сторону дела. А тут вдруг...
Я до сих пор не могу понять — к Хрущеву Сталин относился тоже очень критически. Он его как практика ценил — что он нюхает везде, старается кое-что узнать, — Сталину такой человек нужен, чтоб он мог на него положиться более-менее... Но Сталин никому полностью не доверял — особенно в последние годы».
Молотов недоумевал: как же так, всегда поддакивал вождю, практически ни в чем ему не перечил, и вдруг опала. Вячеслав Михайлович боялся признаться самому себе — Сталин был не тот человек, чтобы в оценке людей, с которыми почти ежедневно общался лично, доверять чьему-либо мнению. Тем более что сам же Молотов признавал: Сталин до конца вообще никому не доверял. И еще Вячеслав Михайлович невольно проговорился Чуеву: хоть и критиковал Сталин Хрущева, но доверял ему больше, чем другим, думал, что может на него более или менее положиться.
Молотову слишком тяжело было думать, что давний друг и Старший брат задумал его погубить, находясь в здравом уме и твердой памяти. Поэтому Вячеслав Михайлович с готовностью ухватился за версию о психическом заболевании, которым будто бы страдал Сталин в последние годы жизни:
«В последний период у него была мания преследования. Настолько он издергался, настолько его подтачивали, раздражали, настраивали против того или иного — это факт. Никакой человек бы не выдержал. И он, по-моему, не выдержал. И принимал меры, и очень крайние. К сожалению, это было. Тут он перегнул. Погибли такие, как Вознесен-
ский, Кузнецов... Все-таки у него была в конце жизни мания преследования. Да и не могла не быть. Это удел всех, кто там сидит подолгу... Не знаю, на кого он понадеялся! Хрущева выдвинул, а меня смешал вместе с Микояном. Ну, никаких же оснований не было. Тут не только из-за Полины Семеновны. Я знаю, что это влияло, это я допускаю».
Вот ведь как получается! В 30-х годах, когда пускали в расход десятки тысяч коммунистов, совсем не обязательно — участвовавших в каких-либо оппозициях, никакой мании преследования у Сталина не было, а все это была, как считает Вячеслав Михайлович, разумная и правильная политика. А как только дамоклов меч завис над самим Молотовым, так сразу, откуда ни возьмись, мания преследования. Чудеса, да и только!
Так что если и были у кого основания желать скорой смерти «великого кормчего», так это у Молотова и Микояна. Но они в тот момент находились в опале, на ближнюю дачу не ездили и при всем желании повлиять на ход и исход сталинской болезни не могли. Другое дело, что после смерти Сталина Молотов понадобился Маленкову, Хрущеву и Берии, как человек публичный, часто мелькавший в газетах в бытность свою главой правительства и потому пользовавшийся авторитетом у масс.
Берия и Маленков вообще были работники аппаратные, не слишком известные народу, да и Хрущева знали лишь в Москве и на Украине, причем'далеко не всегда — с лучшей стороны. Оставить же в составе правящей четверки Булганина означало дать решающий перевес Хрущеву, поскольку близость Николая Александровича и Никиты Сергеевича в тот момент была слишком хорошо известна. Поэтому Маленков и Берия предпочли ему нейтрального Молотова. '
Хрущев так вспоминал события, связанные с XIX съездом партии:
«Спрашивается, почему Сталин не поручил сделать отчетный доклад Молотову или Микояну, которые исторически занимали более высокое положение в ВКП(б), чем Маленков, и были известными деятелями? А вот почему. Если мы, люди довоенной поры, рассматривали раньше Молотова как того будущего вождя страны, который заменит Сталина, когда Сталин уйдет из жизни, то теперь об этом не могла
идти речь. При каждой очередной встрече Сталин нападал на Молотова, на Микояна, «кусал» их. Эти два человека находились в опале, и самая жизнь их уже подвергалась опасности...
Все зависело от воли Сталина, нам же отводилась роль статистов. Даже когда речь заходила о будущем. Последние годы Сталин порой заводил речь о своем преемнике. Помню, как Сталин при нас рассуждал на этот счет: “Кого после меня назначим Председателем Совета Министров СССР? Берию? Нет, он не русский, а грузин. Хрущева? Нет, он рабочий, нужно кого-нибудь поинтеллигентнее. Маленкова? Нет, он умеет только ходить на чужом поводке. Кагановича? Нет, он не русский, а еврей. Молотова? Нет, уже устарел, не потянет. Ворошилова? Нет, стар и по масштабу слаб. Сабуров? Первухин? Эти годятся на вторые роли. Остается один Булганин”. Естественно, никто не вмешивался в его размышления вслух. Все молчали.
Мы тревожились за судьбу Молотова и Микояна. То, что их не ввели в Бюро, казалось зловещим. Сталин что-то задумал. Когда он выступал на пленуме, я был поражен, что в его речи сформулированы обвинения в адрес Молотова и Микояна. Это уже не шутка! Это уже не разговор за обедом в узком кругу из пяти — семи человек. За ним выступил Молотов. Да и Микоян тоже что-то говорил. Не помню что. В стенограмме, наверное, все осталось. Но может быть, ничего не записывалось. Сталин мог так распорядиться. Мы были настороже, думали, что, видимо, Молотов и Микоян обречены. Правда, после съезда Микоян и Молотов, пользуясь былой практикой, когда все мы собирались у Сталина, сами продолжали приходить туда без оповещения. Они узнавали, что Сталин в Кремле, и приходили. А если он уезжал за город, то тоже приезжали к нему. Их пропускали. И они все вместе проводили вечера на его даче... Но однажды Сталин впрямую сказал: “Я не хочу, чтобы они приезжали”. Не знаю, что конкретно он сделал, но, видимо, приказал никому не сообщать, когда он приезжает в Кремль, и не говорить, где он находится, если звонят Микоян или Молотов и справляются о нем. Они разыскивали Сталина потому, что хотели тем самым сохранить себя не только как руководителей и как членов партии, а и как живых людей. Добивались, чтобы Сталин вернул свое доверие. Я это понимал, сочувствовал им и всемерно был на их стороне.
После его запрета они потеряли возможность знать, где находится Сталин, утратив возможность бывать вместе с ним. Тогда они поговорили со мной, с Маленковым и, может быть, с Берией. Одним словом, мы втроем (Маленков, Берия и я) договорились иной раз сообщать Молотову или Микояну, что мы, дескать, поехали на “ближнюю” или туда-то. И они тоже туда приезжали. Сталин бывал очень недоволен, когда они приезжали. Так продолжалось какое-то время. Они пользовались “агентурными сообщениями” с нашей стороны, и мы превратились в агентов Молотова и Микояна.
Сталин понял нашу тактику. Понять было нетрудно. Он, наверное, допросил людей в своей приемной, и там ему сказали, что они-то не сообщают, где находится Сталин, ни Молотову, ни Микояну. Но раз они приезжают, и приезжают точно, следовательно, кто-то из нас их извещает, то есть из тех лиц, которых он приглашает к себе. И однажды он устроил нам большой разнос. Не называя никого персонально, он более всего адресовался к Маленкову и заявил: “Вы нас не сводите, не сводничайте!”»
В своем «секретном» докладе XX съезду партии о сталинских преступлениях Хрущев, чьи отношения с Молотовым были тогда вполне товарищескими, представил Вячеслава Михайловича не палачом, а жертвой сталинских преступлений и упомянул о планах расправы с ним, проявившихся на предыдущем партийном съезде:
«Сталин единолично отстранил также от участия в работе Политбюро и другого члена Политбюро, Андрея Андреевича Андреева. Это был самый разнузданный произвол. А возьмите первый Пленум ЦК после XIX съезда партии, когда выступил Сталин и на Пленуме давал характеристику Вячеславу Михайловичу Молотову и Анастасу Ивановичу Микояну, предъявив этим старейшим деятелям нашей партии ничем не обоснованные обвинения.
Не исключено, что если бы Сталин еще несколько месяцев находился у руководства, то на этом съезде партии товарищи Молотов и Микоян, возможно, не выступали бы. Сталин, видимо, имел свои планы расправы со старыми членами Политбюро. Он не раз говорил, что надо менять членов Политбюро. Его предложение после XIX съезда избрать в Президиум Центрального Комитета 25 человек
преследовало цель устранить старых членов Политбюро, ввести менее опытных, чтобы те всячески восхваляли его. Можно даже предполагать, что это было задумано для того, чтобы потом уничтожить старых членов Политбюро и спрятать концы в воду по поводу тех неблаговидных поступков Сталина, о которых мы сейчас докладываем».
Есть и другие любопытные свидетельства о последней опале, которой Сталин успел подвергнуть Молотова.
Микоян вспоминал:
«После войны Берия несколько раз еще при жизни Сталина в присутствии Маленкова и меня, а иногда и Хрущева высказывал острые, резкие критические замечания в адрес Сталина. Я рассматривал это как попытку спровоцировать нас, выпытать наши настроения, чтобы потом использовать для доклада Сталину. Поэтому я такие разговоры с ним не поддерживал, не доверяя, зная, на что он был способен. Но все-таки тогда я особых подвохов в отношении себя лично не видел. Тем более что в узком кругу с Маленковым и Хрущевым он говорил, что “надо защищать Молотова, что Сталин с ним расправится, а он еще нужен партии”. Это меня удивляло, но, видимо, он тогда говорил искренне. О том, что Сталин ведет разговоры о Молотове и обо мне и недоволен чем-то, мы знали. Эти сведения мне передавали Маленков и Берия в присутствии Хрущева. У меня трений ни с кем из них тогда не было».
Хоть и боялись друг друга члены Президиума ЦК, но по возможности старались смягчить участь опальных, потому что после того, как расстреляют Молотова с Микояном, дальше может легко последовать любой из высшего руководства, а кто именно, они толком не знали. Но разумеется, в своей защите провинившихся палки не перегибали, чтобы Сталин не зачислил их в соучастники. Просто давали возможность опальным еще раз увидеться с вождем в надежде, что тот их простит. Но Иосиф Виссарионович не успел ни простить, ни расстрелять Анастаса Ивановича с Вячеславом Михайловичем. Его самого ждала скорая смерть.
Микоян свидетельствует:
«Хотя Молотов и я после XIX съезда не входили в состав Бюро Президиума ЦК и Сталин выразил нам “политичес-
кое недоверие”, мы аккуратно ходили на его заседания. Сталин провел всего три заседания Бюро, хотя сначала обещал созывать Бюро каждую неделю...
Обычно 21 декабря, в день рождения Сталина, узкая группа товарищей — членов Политбюро без особого приглашения вечером, часов в 10—11, приезжала на дачу к Сталину на ужин. Без торжества, без церемоний, просто, по-товарищески поздравляли Сталина с днем рождения — без речей и парадных тостов. Немного пили вина.
И вот после XIX съезда передо мной и Молотовым встал вопрос: надо ли нам придерживаться старых традиций и идти без приглашения 21 декабря к Сталину на дачу (это была ближняя дача «Волынское»). Я подумал: если не пойти, значит, показать, что мы изменили свое отношение к Сталину, потому что с другими товарищами каждый год бывали у него и вдруг прерываем эту традицию.
Поговорил с Молотовым, поделился своими соображениями. Он согласился, что надо нам пойти, как обычно. Потом условились посоветоваться об этом с Маленковым, Хрущевым и Берия. С ними созвонились, и те сказали, что, конечно, правильно мы делаем, что едем.
21 декабря 1952 г. в 10 часов вечера вместе с другими товарищами мы поехали на дачу к Сталину. Сталин хорошо встретил всех, в том числе и нас. Сидели за столом, вели обычные разговоры. Отношение Сталина ко мне и Молотову вроде бы было ровное, нормальное. Было впечатление, что ничего не случилось и возобновились старые отношения. Вообще, зная Сталина давно и имея в виду, что не один раз со мной и Молотовым он имел конфликты, которые потом проходили, у меня создалось мнение, что и этот конфликт также пройдет и отношения будут нормальные. После этого вечера такое мое мнение укрепилось.
Но через день или два то Ли Хрущев, то ли Маленков сказал: “Знаешь что, Анастас, после 21 декабря, когда все мы были у Сталина, он очень сердился и возмущался тем, что вы с Молотовым пришли к нему в день рождения. Он стал нас обвинять, что мы хотим примирить его с вами, и строго предупредил, что из этого ничего не выйдет: он вам больше не товарищ и не хочет, чтобы вы к нему приходили”. Обычно мы ходили к Сталину отмечать в узком кругу товарищей Новый год у него на даче. Но после такого сообщения в этот Новый год мы у Сталина не были.
За месяц или полтора до смерти Сталина Хрущев или Маленков мне рассказывал, что в беседах с ним Сталин, говоря о Молотове и обо мне, высказывался в том плане, что якобы мы чуть ли не американские или английские шпионы. Сначала я не придал этому значения, понимая, что Сталин хорошо меня знает, что никаких данных для того, чтобы думать обо мне так, у него нет: ведь в течение 30 лет мы работали вместе. Но я вспомнил, что через два-три года после самоубийства Орджоникидзе, чтобы скомпрометировать его, Сталин хртел объявить его английским шпионом. Это тогда не вышло, потому что никто его не поддержал. Однако такое воспоминание вызвало у меня тревогу, что Сталин готовит что-то коварное. Я вспомнил также об истреблении в 1936—1938 годах в качестве «врагов народа» многих людей, долго работавших со Сталиным в Политбюро.
За две-три недели до смерти Сталина один из товарищей рассказал, что Сталин, продолжая нападки на Молотова и на меня, поговаривает о скором созыве Пленума ЦК, где намерен провести решение о выводе нас из состава Президиума ЦК и из членов ЦК.
По практике прошлого стало ясно, что Сталин хочет расправиться с нами и речь идет не только о политическом, но и о физическом уничтожении.
За мной не было никаких проступков, никакой вины ни перед партией, ни перед Сталиным, но воля Сталина была неотвратима: другие ведь тоже были не виноваты во вредительстве, не были шпионами, но это их не спасло. Я это понимал и решил больше, насколько это было возможно, со Сталиным не встречаться. Можно сказать, что мне повезло в том смысле, что у Сталина обострилась болезнь.
В начале марта 1953 года у него произошел инсульт, и он оказался прикованным к постели, причем его мозг был уже парализован. Агония продолжалась двое суток.
У постели Сталина было организовано круглосуточное дежурство членов Политбюро. Дежурили попарно: Хрущев с Булганиным, Каганович с Ворошиловым, Маленков с Берия. Мне этого дежурства не предложили. Наоборот, товарищи посоветовали, пока они дежурят, заниматься в Совете Министров СССР, заменять их в какой-то мере».
Очень характерно для нравов, царивших в партийной верхушке, что опальным Молотову и Микояну соратники не доверили честь дежурить у постели умирающего вож-
дя. Чем черт не шутит, вдруг Иосиф Виссарионович еще оклемается, узнает, что в период болезни к нему допускали Анастаса Ивановича с Вячеславом Михайловичем (наверняка кто-нибудь из доброжелателей стукнет!), и тогда не только им не сносить головы, но и кое-кому из чересчур либеральных членов Бюро. Кстати, один этот факт опровергает версию о том, что попавшие в немилость члены Президиума ЦК могли сговориться с набиравшими вес «младотурками» — Хрущевым, Маленковым и Берией, чтобы убрать Сталина. Даже у смертного одра хозяина остававшиеся в фаворе члены Бюро боялись хоть как-то выказать свою симпатию Микояну и Молотову (Ворошилова, правда, в «предсмертный» почетный караул все же пустили). Что уж говорить о том, чтобы совместно спланировать и осуществить убийство генералиссимуса!
Сам же Молотов в конце жизни жаловался Чуеву:
«В 1953 году Сталин меня к себе уже не приглашал не только на узкие заседания, но и в товарищескую среду — где-нибудь так вечер провести, в кино пойти — меня перестали приглашать... В последние годы Сталин ко мне отрицательно относился. Я считаю, что это было неправильно... Я-то своего мнения о Сталине не менял, но тут какие-то влияния на него, видимо, были».
С предположением Чуева, что тут «поработала тройка друзей» — Берия, Хрущев и Маленков, Вячеслав Михайлович осторожно согласился:
«Да, видимо. Скорей всего, да. Но все-таки, конечно, главное не в этом. А недоверие было к моей жене. Тут сказалось его недоверие к сионистским кругам. Но не вполне, так сказать, обоснованное».
Правда, в другой беседе с Чуевым Молотов причины своей опалы трактовал иначе:
— В январе пятьдесят третьего года приехала какая-то польская артистка... Домбровская-Туровская... На другой день было опубликовано: на концерте присутствовали — первый Сталин, второй Молотов и т. д. ... Я попал, как и раньше, на второе место, следили, кто за кем. Я формально числился еще вторым, это было опубликовано,
я сам читал газету; но меня уже никуда не приглашали. Он же открыто выступил, что я правый.
— А не из-за Полины Семеновны? — осторожно осведомился Чуев.
— Она из-за меня пострадала, — уверенно ответил Вячеслав Михайлович.
— А не наоборот? — усомнился Феликс Иванович.
— Ко мне искали подход, — продолжал Молотов, — и ее допытывали, что вот, дескать, она тоже какая-то участница заговора, ее принизить нужно было, чтобы меня, так сказать, подмочить. Ее вызывали и вызывали, допытывались, что я, дескать, не настоящий сторонник общепартийной линии.
Сталин, как известно, умирал мучительно и долго. Вечером 1 марта 1953 года у него произошел инсульт. Умер же великий вождь и учитель только вечером 5 марта, хотя и лишенный дара речи, но не в полностью бессознательном состоянии. Наверное, в редкие мгновения прояснения сознания он еще ощущал свою беспомощность, он чувствовал боль, но уже не мог произнести ни слова. Смерть, что и говорить, не самая легкая. Но у Сталина, отправившего на тот свет сотни тысяч, а с жертвами коллективизации — миллионы людей, осталось немало недоброжелателей как в нашей стране, так и за ее. пределами. И сталинским оппонентам очень не хотелось смириться с тем, что диктатор все-таки умер своей смертью и в своей постели, окруженный медицинскими светилами и соратниками по партии, при его жизни старавшимися показать себя самыми верными сталинцами. Вскоре после смерти тирана многие из них, мстя за многолетний страх, с удовольствием втоптали в грязь имя Сталина, стараясь свалить на него и свои преступления, свершавшиеся, впрочем, по его приказу.
Поэтому, когда появилась версия о том, что Сталин пал жертвой заговора своих соратников, которые то ли спровоцировали роковой инсульт, подсыпав какого-то яда, то ли ускорили конец Иосифа Виссарионовича, умышленно задержав вызов врачей, либеральная общественность встретила эту версию, впервые выдвинутую Абдурахманом Авторхановым, на ура. Недавно она повторена (злодей Бе-рия-де умышленно промедлил с оказанием врачебной
помощи больному Сталину), хотя и в очень осторожной форме, в статье Виталия Афиани и Александра Фурсенко «Сталин хотел воевать с США. Только его смерть предотвратила третью мировую».
Заголовок статьи оставим на совести авторов (или редакции) — никаких доказательств того, что Иосиф Виссарионович собирался в последние месяцы своей жизни напасть на Америку или Западную Европу или, наоборот, ожидал нападения со стороны американцев, в ее тексте не содержится. Версию об отравлении Сталина Афиани и Фурсенко, основываясь на недавно рассекреченных данных о болезни Сталина, отвергают. Действительно, если уж кто-то хотел избавиться от Сталина, то постарался бы применить яд, гарантирующий мгновенную смерть, а не затяжную агонию, когда не вполне ясно, выкарабкается умирающий с того света или нет. Как отмечают авторы статьи, «современные медики не находят в явлениях, сопровождавших последние дни жизни Сталина, каких-либо отклонений от течения такого рода заболеваний».
Остается версия о том, что Берия (именно Берия) умышленно задержал вызов врачей. Вот что об этом пишут Афиани и Фурсенко:
«По воспоминаниям бывшего сотрудника Управления охраны отставного генерал-майора Н. П. Новика, увидев лежащего на полу Сталина, службисты стали звонить начальнику управления и министру МГБ С. Д. Игнатьеву, а затем сообщили о случившемся Маленкову
Ночью на дачу приезжали Хрущев и Булганин (но почему-то не вошли к Сталину). Затем — дважды — Берия с Маленковым. Охране было сказано не беспокоить спящего вождя... Врачи же появились только утром 2 марта вместе с министром здравоохранения А. Ф. Третьяковым и начальником Лечебно-санитарного управления Кремля И. И. Ку-периным... Вождь оставался без медицинской помощи несколько часов. Дочь Сталина вспоминала, что ее брат Василий и обслуживающий персонал дачи негодовали, считая, что Берия задержал вызов врачей. Не это ли было причиной немедленного увольнения персонала после смерти Сталина?»
Молотов так описал Чуеву смерть Сталина:
«В последние его дни я был некоторым образом в опале... Сталина я видел за четыре-пять недель до его смерти. Он был вполне здоров. Когда он заболел, меня вызвали. Я приехал на дачу, там были члены Бюро. Из не членов Бюро, по-моему, только меня и Микояна вызвали. Командовал Берия.
Сталин лежал на диване. Глаза закрыты. Иногда он открывал их и пытался что-то говорить, но сознание к нему так и не вернулось. Когда он пытался говорить, к нему подбегал Берия и целовал его руку».
Молотов в беседах с Чуевым допускал, что Сталин был отравлен Берией, сокрушаясь при этом:
«Но кто сейчас это докажет?»
И добавил:
«Вообще, вокруг смерти Сталина, конечно, не все ясно. Но я-то был отстранен в это время, на что я, конечно, на всю жизнь обижен Сталиным. Чего он меня отстранил? Кого он нашел?»
В словах Вячеслава Михайловича явно сквозит незабываемая обида на Кобу, чуть не отправившего на тот свет своего самого верного паладина.
Фактическая сторона событий у меня сомнений не вызывает. А вот традиционная интерпретация действий злодея Берии, слишком поздно вызвавшего врачей, нисколько не убеждает. Первыми-то на сталинскую дачу прибыли Хрущев с Булганиным, но вызывать врачей сразу же тоже не стали. Берия появился только некоторое время спустя, да и то в паре с Маленковым. Ясно, что единолично решить, вызывать или не вызывать врачей, он в принципе не мог. И уж совсем невероятно, что четверо руководящих деятелей Президиума ЦК, составлявшие его Бюро, здесь же, на даче, успели быстренько составить заговор и решили специально отложить вызов врачей, чтобы Иосиф Виссарионович уж точно не выкарабкался бы. Ведь в тот момент никто не знал, насколько безнадежно состояние Сталина. И если бы он все-таки уцелел, судьба всей четверки была бы незавидной. Кроме того, ее члены абсолютно не доверяли друг другу, что тоже не создавало почвы для успешного заговора. Задержку же с вызовом врачей
вполне логично объяснить тем, что Хрущев, Маленков, Булганин и Берия, узнав, что, Сталину Худо, попросту растерялись. Все они привыкли, что вождь думает за них, принимая принципиальные решения, и страшились по-слесталинского будущего с неизбежной борьбой за власть. Поэтому подсознательно лелеяли надежду, что товарищ Сталин, может быть, просто крепко спит, и все еще обойдется, и им пока не придется взваливать на себя все бремя ответственности за руководство страной.
Да и не было у четверки непосредственной причины желать скорейшего устранения Сталина. Под ударом ведь были только Молотов и Микоян, тогда как остальные имели все шансы пережить Сталина, сознавая, что до тех пор, пока Сталин не разберется с Микояном и Молотовым (а может быть, еще и с Ворошиловым), непосредственно им ничто не угрожает.
\
После смерти Сталина
Через несколько дней после смерти Сталина была освобождена из заключения Жемчужина. А уже 21 марта 1953 года постановлением Президиума ЦК КПСС ее восстановили в партии. Партийный билет вручил ей два дня спустя М.Ф. Шкирятов, имевший непосредственное отношение к фабрикации ее дела и четыре года назад оформлявший ее исключение из партии.
Молотов 5 марта 1953 года вновь стал министром иностранных дел и первым заместителем Председателя Совета министров. Однако его реальное политическое влияние по сравнению с 30-ми и первой половиной 40-х годов значительно упало. В формальной четверке наследников Сталина реальная власть находилась в то время у Хрущева, Маленкова и Берии, а уделом Молотова оставались исключительно иностранные дела, причем далеко не всегда и в этой сфере четверка принимала предлагавшиеся им решения. Позже, после устранения «лубянского маршала», Хрущев смог оттеснить безвольного Маленкова и стал править практически самостоятельно, опираясь прежде всего на поддержку Булганина и Микояна. Молотов опять оставался на вторых ролях, что не вызывало у него восторга.
Вскоре после смерти Сталина испортились и отношения Молотова с Микояном, с которым прежде его объединяла горькая участь изгоев. Вот что на этот счет рассказал сам Анастас Иванович:
«Несмотря на определенные и существенные разногласия в некоторые периоды 30-х годов, я уважал Молотова если не как работника и соратника (слишком уж часто наши взгляды расходились), то как старшего члена партии. Осо-
бенно мне стало жалко его и я старался ему помочь как мог, когда Сталин стал его преследовать, начав с ареста его жены Жемчужиной. Я был с Молотовым откровенен в разговорах, в том числе когда речь шла о некоторых отрицательных сторонах характера и поступков Сталина. Он никогда меня не подводил и не использовал моего доверия против меня. Молотов нередко бывал у меня на квартире, иногда со Сталиным вместе.
После смерти Сталина я почувствовал, что отношение ко мне со стороны Молотова изменилось в отрицательную сторону. Я не мог понять, в чем дело, и был очень удивлен, когда узнал от Хрущева и, кажется, Маленкова, что при предварительном обмене мнениями их с Молотовым тот высказался за то, чтобы снять меня с поста заместителя-Председателя Правительства, оставив только министром объединенного в этот момент Министерства внутренней и внешней торговли (думаю, в этом проявился шовинизм Молотова, который ему вообще был свойственен). Другие с этим не согласились, и я остался, как и раньше, заместителем Председателя Совета Министров и одновременно министром торговли.
Да и другие, например Ворошилов, Каганович, Булганин, стали замечать, что Маленков, Молотов, Берия и Хрущев стали предварительно обмениваться мнениями и сговариваться, прежде чем вносить вопросы на заседание Президиума ЦК.
Больше всех вместе бывали Берия, Хрущев и Маленков. Я видел много раз, как они ходили по Кремлю, оживленно разговаривали, очевидно обсуждая партийные и государственные вопросы. Они были вместе и после работы, выезжая в шесть вечера (по новому порядку, совершенно правильно предложенному Хрущевым) в одной машине. Все трое жили вне Кремля: Маленков и Хрущев — в жилом доме на улице Грановского, а Берия — в особняке (он один из всех руководителей в это время жил в особняке, а не в квартире)».
На посту главы МИДа Молотову пришлось сразу же столкнуться с ситуацией в ГДР, где нарастало недовольство населения жизненными тяготами, связанными со строительством социализма. Молотов предложил не форсировать строительство социализма в СССР, а Берия настаивал, что от строительства социализма в Восточной Германии
следует и вовсе отказаться, так как достаточно иметь единое, нейтральное и дружественное, но не союзное с СССР германское государство. Главное, чтобы там не было вооруженной силы, которая могла бы угрожать СССР. Молотов вспоминал:
«Я выступил с новым заявлением, что я считаю очень важным, по какому пути пойдет ГДР, что в самом центре Европы наиболее развитая капиталистическая страна, хотя это и неполная Германия, но от нее много зависит, поэтому надо взять твердую линию для построения социализма, но не торопиться с этим... Берия на своем настаивает: неважно, какая будет ГДР, пойдет ли она к социализму, не пойдет ли, а важно, чтобы она была мирной. В Политбюро голоса почти раскололись. Хрущев меня поддержал. Я не ожидал. Главным-то как раз был Маленков. Маленков и Берия были будто бы в большой дружбе, но я никогда этому не верил. Берия-то, в общем, мало интересовался коренными вопросами, политикой — социализм там или капитализм, — не придавал этому большого значения, была бы твердая опора, и хорошо.
Спорили. Маленков председательствовал, потому что Предсовнаркома всегда председательствовал на Политбюро. Маленков отмалчивался, а я знал, что он пойдет за Берия. Поскольку не могли прийти к определенным выводам, создали комиссию: Маленков, Берия и я... Маленков качался туда и сюда. Берия рассчитывал, что Маленков его поддержит. Ну и Хрущев — его друг.
Я немного насторожился. .Маленков помалкивает. Я нахожусь в таком положении, что меня в этой комиссии оставят в одиночестве. После заседания я смотрю в окно: идут трое. В Кремле, да. Берия, Маленков, Хрущев прогуливаются. Тогда я вечером звоню Хрущеву:.“Ну, как у вас там получается? Ты же меня поддержал по германскому вопросу, но я вижу, что вы гуляете там, сговариваетесь, наверно, против меня?” — “Нет, я тебя поддержу, я считаю это правильным. То, что ты предложил, я буду твердо поддерживать”. Вот за это я его ценил».
В результате Хрущев уговорил Маленкова поддержать молотовскую позицию по германскому вопросу и предложение Берии было провалено.
Молотов охотно участвовал в заговоре Хрущева и Маленкова против Берии. В начале июля 1953 года на плену-
ме ЦК, где клеймили Лаврентия Павловича, обвиняя его во всех смертных грехах, Вячеслав Михайлович, в частности, заявил:
«С марта месяца у нас создалось ненормальное положение... Почему-то все вопросы международной политики перешли в президиум Совета министров и, вопреки неизменной большевистской традиции, перестали обсуждаться на Президиуме ЦК... Всё это делалось под давлением Берия».
Однако победа идеологов Хрущева, Маленкова и Молотова над прагматиком и реформатором Берией не привела к существенному увеличению политического веса Молотова, хотя и вызвала немалое удовлетворение Вячеслава Михайловича. Можно сказать, что из всех наследников Сталина наибольший антагонизм был между Берией и Молотовым. Первый был готов отбросить из марксистской идеологии все, что угодно, и заимствовать у капиталистов многое, лишь бы это повысило эффективность экономики. Второй склонен был сохранять все, как было при Сталине, лишь бы не поступиться кристальной чистотой марксистско-ленинского учения. Лаврентий Павлович готов был публично осудить репрессии, по крайней мере, те, к которым не имел непосредственного отношения (и начал это делать, добившись публикации в «Правде» материалов о фальсификации «дела врачей»). Вячеслав Михайлович до конца своих дней считал, что репрессии были жизненно необходимы для утверждения и сохранения социализма, и называл главным преступлением Хрущева против партии и народа публичное осуждение репрессий и роли в них Сталина.
О Берии Молотов отзывался следующим образом:
«Берия — способный человек. Даже очень способный человек. Но не понимал ведь существенных вопросов, желая их решать по своему направлению... Если пойти по линии Берии, это была бы огромная, опаснейшая ошибка.... Он очень активный челрвек. Воля у него есть, и он многое понимает довольно хорошо, не хуже других. А фактически у него коммунистической линии нет, потому что он плохой марксист, он не изучал, что такое марксизм, а для руководства
это очень опасно... А у Берии к тому же воля. Да, он с характером человек».
Когда Хрущев вызвал Молотова в ЦК и заявил, что нельзя доверять Берии, Вячеслав Михайлович радостно согласился:
«Я вполне поддерживаю, что его надо снять, исключить из состава Политбюро».
Но и после падения Берии точка зрения Молотова на иностранные дела отнюдь не возобладала. Внешнюю политику все больше формировал лично Хрущев.
В апреле Д 954 года Молотов вызвал к себе своего бывшего помощника Валентина Бережкова, уволенного из НКИДа в начале 1945 года из-за того, что его родители, оставшись в оккупированном Киеве, ушли с немцами. Бережков был «сослан» в журнал «Новое время», а теперь Вячеслав Михайлович вновь решил использовать его на дипломатическом поприще, но уже в качестве корреспондента. Бережков вспоминал:
«В начале апреля 1954 года в моей холостяцкой комнате раздался телефонный звонок. Козырев, голоса которого я не слышал целых десять лет, сказал, как ни в чем не бывало:
— Вас срочно приглашает к себе Вячеслав Михайлович... Когда я вошел в секретариат, Козырев сказал, чтобы я прямо направлялся в кабинет, где меня ждет министр.
Молотов остался сидеть за письменным столом, приветствовал меня кивком и пригласил сесть в кресло напротив. Все это выглядело точно так, как было в те четыре года, когда я у него работал. Будто и не минуло с тех пор десятилетия. Я как бы видел его только вчера или даже сегодня утром. Он не спрашивал ни о моем самочувствии, ни о том, как я жил все эти годы, а сразу перешел к делу:
— Завтра в Вене открывается сессия Всемирного Совета Мира. Мы хотим направить вас туда с поручением. Насколько известно, там будет бывший канцлер Германии времен Веймарской республики Йозеф Вирт. Вам надо с ним познакомиться. Лучше всего поехать в качестве корреспондента “Нового времени” для освещения работы сессии. В этом качестве вы и представитесь Вирту. Попро-
сите у него интервью для журнала о движении в защиту мира. Но нас интересует другое. Мы заняты переоценкой международной ситуации. Есть ощущение изоляции, в которой мы оказались. Надо что-то предпринять, чтобы из нее выбраться. Представляется важным выработать и новую европейскую политику. Вирт, который еще в период Рапалло, в 1922 году, позитивно относился к сотрудничеству Германии с Советской Россией, может высказать интересные соображения о том, как нам ныне подойти к европейской проблеме, в частности выработать новый подход к Западной Германии. Надеюсь, вы понимаете, что мы имеем в виду?
— Да. Постараюсь выполнить ваше задание...
— Вирт, разумеется, не должен знать, что вы имеете поручение правительства, — пояснил Молотов. — Намекните просто, что в Москве влиятельные люди хотели бы знать его мнение, к которому отнесутся с уважением. Когда вернетесь, представьте мне подробный отчет. Сейчас вам выдадут специальное удостоверение, действительное для поездки в Австрию. Завтра утром вылетаете. Гостиница в Вене вам заказана. Желаю успеха.
— Спасибо за доверие...»
Бережков встретился с Виртом и взял у него интервью для «Нового времени». Говоря о решения германской проблемы, экс-канцлер отметил:
«В советских руках имеются важные козыри. Прежде всего, это сотни тысяч военнопленных, судьба которых волнует всех немцев. Немалое значение представляет собой и вопрос о могилах германских солдат, павших на советской территории. Разумеется, он, скорее, носит символический характер. Многие захоронения давно сровнялись с землей. Но какой-то жест в этом отношении очень важен для Аденауэра в моральном плане. Наконец, проблема второй Германии, которую в Бонне по-прежнему рассматривают как советскую зону оккупации. Тут и вопросы объединения семей, имущественные претензии и прочее. Думаю, что вам надо прощупать возможности налаживания отношений с Западной Германией. Начать с обсуждения вопроса о возвращении военнопленных. Параллельно рассмотреть проблемы об установлении дипломатических отношений между Москвой и Бонном. Полагаю, что, когда в ходе
предварительных контактов дело продвинется, Аденауэр будет готов посетить Москву, что явится важной акцией и в практическом, и в символическом плане».
Вирт также порекомендовал советским лидерам «прорвать кольцо изоляции и враждебности. Образ врага за послевоенные годы глубоко проник в сознание миллионов людей на Западе. Надо постараться показать и подтвердить соответствующими действиями, что Советский Союз не представляет угрозы для Западной Европы. Прежде всего надо решить вопрос о выводе всех оккупационных войск из Австрии. Важно также восстановить механизм консультаций министров иностранных дел дер-жав-победительниц. Хотя Индокитай находится далеко, урегулирование в этом регионе будет способствовать успеху курса на нормализацию обстановки в Европе. Французы там завязли и хотят, по возможности не потеряв лица, выбраться из Индокитая. Тут могут помочь ваши друзья-китайцы. Лучше всего было бы организовать какое-то международное совещание по Индокитаю. Такая встреча была бы важна и в плане осуществления контакта между ведущими политическими деятелями крупнейших держав. Словом, многие проблемы сейчас ждут советских инициатив».
Отчет о беседе был тотчас представлен Молотову. Министра он удовлетворил. Не исключено, что Вячеслав Михайлович хотел вернуть Бережкова на должность своего личного переводчика вместо потерявшего его доверие Павлова, но Бережков предпочел пока остаться в журналистике. Ведь время было неспокойное: борьба между наследниками Сталина еще не закончилась, и никто не мог сказать с уверенностью, чья возьмет.
В какой-то мере данные Виртом рекомендации были реализованы. В 1954 году в Берлине состоялась встреча министров иностранных дел СССР, США, Англии и Франции, а чуть позже — Женевская конференция по Индокитаю. В 1955 году был заключен договор о нейтралитете Австрии и выводе с ее территории оккупационных войск, а осенью того же года канцлер ФРГ Аденауэр приехал в Москву, и в ходе его визита были восстановлены дипломатические отношения между дву-
мя странами и достигнута договоренность о возвращении домой всех остававшихся в СССР немецких военнопленных.
Это был определенный прорыв советской дипломатической изоляции, сложившейся в последние годы правления Сталина, но до разрядки международной напряженности было далеко, да и сам Вячеслав Михайлович к ней не стремился, считая, что должно продолжаться не только политическое и дипломатическое, но и военное противостояние двух лагерей.
Когда по предложению Хрущева Маленкова в начале 1955 года сняли с поста главы правительства, Молотов это предложение поддержал. Маленков, по словам Молотова, был «очень хороший исполнитель, “телефонщик”, как мы его называли, — он всегда сидел на телефоне, где что узнать, пробить, это он умел. По организационно-административным делам, кадры перераспределить — это Маленков. Передать указания на места, договориться по всем вопросам. Он нажимал — оперативная работа. Очень активный, живой, обходительный. В главных вопросах отмалчивался. Но он никогда не руководил ни одной парторганизацией, в отличие от Хрущева, который был и в Москве, и на Украине».
Впрочем, сам Вячеслав Михайлович тоже никогда не руководил крупными партийными организациями.
Вячеслав Михайлович вспоминал, что, когда решался вопрос о снятии Георгия Максимилиановича с поста Председателя Совета министров, он «тоже выступил с критикой Маленкова, потому что Маленков крупными вопросами политики не занимался. Несамостоятельный. Я его за это критиковал. Он, видимо, это хорошо запомнил».
Потом, уже в опале, Маленков почти не контактировал с Молотовым. Вероятно, не мог простить, что тот в свое время выступил за его снятие с поста председателя Совета министров.
Вячеслав Михайлович был решительным противником того, что позже назвали «разоблачением культа личности Сталина». Когда на пленуме ЦК, готовившем XX съезд партии, Хрущев объявил о создании комиссии
по расследованию противоправных деяний Сталина, Молотов решительно выступил против:
«Расследовать деятельность Сталина — это ревизовать итоги всего огромного пути КПСС! Кому это выгодно? Что это даст? Зачем ворошить прошлое?»
Но Хрущеву удалось убедить соратников согласиться на создание комиссии, пообещав, что ее деятельность будет носить секретный характер.
А вот как обстоятельства оглашения доклада о культе личности описывает Каганович:
«XX съезд подошел к концу. Но вдруг устраивается перерыв. Члены Президиума созываются в задней комнате, предназначенной для отдыха. Хрущев ставит вопрос о заслушивании на съезде его доклада о культе личности Сталина и его последствиях. Тут же была роздана нам напечатанная в типографии красная книжечка — проект текста доклада.
Заседание проходило в ненормальных условиях — в тесноте, кто сидел, кто стоял. Трудно было за короткое время прочесть эту объемистую тетрадь и обдумать ее содержание, чтобы по нормам внутрипартийной демократии принять решение.
Все это за полчаса, ибо делегаты сидят в зале и ждут чего-то неизвестного для них, ведь порядок дня съезда был исчерпан.
Надо сказать, что еще до XX съезда Президиум ЦК рассматривал вопрос о незаконных репрессиях, о допущенных ошибках. Президиум ЦК образовал комиссию, которой поручил рассмотреть дела репрессированных с выездом на места, сформулировать общие выводы и конкретные предложения. После обсуждения этого вопроса на Президиуме предполагалось собрать после XX съезда Пленум ЦК и заслушать доклад комиссии с соответствующими предложениями.
Именно об этом и говорили товарищи Каганович, Молотов, Ворошилов и другие, высказывая свои возражения. Кроме того, товарищи говорили, что мы просто не можем редактировать доклад и вносить нужные поправки, которые необходимы. Мы говорили, что даже беглое ознакомление показывает, что документ односторонен, ошибо-
чен. Деятельность Сталина нельзя освещать только с этой стороны, необходимо более объективное освещение всех его положительных дел, чтобы трудящиеся поняли и давали отпор спекуляции врагов нашей партии и страны на этом.
Заседание затянулось, делегаты волновались, и поэтому без какого-либо голосования заседание завершилось и пошли на съезд. Там было объявлено о дополнении к повестке дня: заслушать доклад Хрущева о культе личности Сталина. После доклада никаких прений не было, и съезд закончил свою работу.
После XX съезда партия организованно провела партийные собрания; с докладами и речами выступали все члены Президиума ЦК и члены ЦК. В докладах освещались все вопросы повестки дня съезда и последний внеочередной вопрос о культе личности. Важно подчеркнуть, что члены Президиума Каганович, Молотов, Ворошилов и другие в докладах о XX съезде честно и дисциплинированно освещали вопрос о культе личности в соответствии с постановлением XX съезда. На собраниях одобряли решения съезда. Нельзя, однако, не отметить, что среди членов партии были разные настроения. Были и люди ошарашенные, колеблющиеся в одобрении такой односторонней постановки вопроса. Враги нашей партии использовали всё это для усиления своего антикоммунизма, особенно распоясались иностранные апологеты империализма и белоэмигранты».
По словам Молотова, «когда Хрущев зачитал доклад на XX съезде, я был уже совсем в стороне. Не только в Министерстве... От меня старались подальше держаться. Только на заседании доложат...». >
Микоян же утверждал в мемуарах, приписывая себе (вряд ли основательно) приоритет в разоблачении «культа личности», что «мысль о реабилитации жертв сталинских репрессий я высказал задолго до съезда, включая и тех, кто проходил по процессам 1930-х годов. Отмене приговоров по процессам, как я упомянул, помешали Молотов и Поспелов. Поспелов не дал необходимых материалов. Молотов повел себя хитрее: он сказал, что, хотя нет доказательств вины Зиновьева, Каменева и их сторонников в убийстве Кирова, морально-политическая ответственность остается на
них, ибо они развернули внутрипартийную борьбу, которая толкнула других на террористический акт. Тут мы с Хрущевым сделали ошибку: вместо того чтобы навязать правильное решение, отбросив эту словесную шелуху, решили создать специальную комиссию по убийству Кирова и по другим процессам. Дело в том, что многие даже в Центральном Комитете (и кое-кто в Политбюро) были еще не подготовлены к первому варианту решения. Ошибка была сделана и в подборе состава комиссии: главой ее сделали Молотова. Вошла туда и Фурцева как представитель нового руководства партии. Я все-таки верил, что Молотов отнесется к этому делу честно. И ошибся, проявил в отношении его наивность. Не думал, что человек, чья жена была безвинно арестована и едва не умерла в тюрьме, способен продолжать прикрывать сталинские преступления».
Никите Сергеевичу удалось усыпить бдительность Молотова, Кагановича, Маленкова и других представителей старой гвардии тем, что перед XX съездом он дал им ясно понять: их собственные преступления никто разоблачать не намерен. Потом это обещание было благополучно забыто. После изгнания из руководства «антипартийной группы» открыто заговорили о преступлениях Молотова, Кагановича, Ворошилова, Маленкова, тогда как на роль в репрессиях Хрущева и Микояна по-прежнему было наложено табу.
Из наследников Сталина Молотов больше всех возненавидел Хрущева и сохранил эту ненависть до самой своей смерти, хотя пережил своего противника на целых пятнадцать лет. Он и о мертвом Хрущеве не мог говорить спокойно. Вячеслав Михайлович не простил Никите Сергеевичу ни разоблачение преступлений Сталина, ни собственное низвержение с партийного Олимпа в 1957 году. Он обвинял Хрущева в потворстве потребительским инстинктам масс, в отказе от казарменной дисциплины в стране. И даже смело уподоблял «кукурузника» германскому фюреру. Молотов утверждал:
«Гитлер не был дураком, очень способный человек, так и Хрущев у нас — он способный человек, но, когда его выдвигали, перетащили, дотащили доверху, он возомнил, что
самостоятельно может вести дело в таком государстве, в такой партии, как наша. И его опора тут была на тех, которые, как и он сам, хотят полегче жить. И надеются, что можно двигать начатое Лениным и Сталиным дело без трудностей. А это обман. Ленин и Сталин никогда не говорили, что можно двигаться вперед по нашему пути, пока есть империализм, легким способом. Тут трудности неизбежны. Не согласен с этим, ну, тогда черт с тобой, иди куда хочешь, но если ты душой понял это, умом уразумел, то ты очень хороший помощник в этом деле. У Хрущева была ловкость рук, практик неплохой, руководитель энергичный».
Еще Вячеслав Михайлович настаивал:
— Роль Хрущева очень плохая. Он дал волю тем настроениям, которыми он живет... Он бы сам не мог этого сделать, если бы не было людей. Никакой особой теории он не создал, в отличие от Троцкого, но он дал вырваться наружу такому зверю, который сейчас (разговор с Феликсом Чуевым происходил в 1971 году. — Б. С.), конечно, наносит большой вред обществу. Значит, не просто Хрущев.
Но этого зверя называют демократией, — заметил
Чуев.
— Называют гуманизмом, а на деле мещанство, — возразил Молотов.
По мнению Вячеслава Михайловича, Хрущев был за советскую власть, но «против революции... против всего революционного... Коллективизация, которая у нас проводилась сталинскими методами, была недопустима. Недопустима. А никакой другой не было. Он против коллективизации. Он бухаринец...». '
1 мая 1956 года Молотов, оставаясь первым заместителем Председателя Совета Министров, лишился поста министра иностранных дел. Предлогом послужила его «неправильная» позиция в югославском вопросе. Вот что вспоминает Каганович об обстоятельствах смещения Молотова, его вторичного изгнания из МИДа:
«На заседаниях Президиума ЦК регулярно обсуждались вопросы внешней политики. Молотов, как министр
иностранных дел, вносил свои предложения, большая часть которых одобрялась. Но Хрущев... будучи менее компетентным в этих делах, довел дело до того, что внес предложение об освобождении Молотова от поста министра иностранных дел. Я лично выступил против этого, доказывая, что Молотов не только имеет уже большой опыт во внешней политике, но и идейно-политически крепок в защите интересов нашей родины. Но так как Молотов сам заявил о том, что готов перейти на другую работу, Президиум ЦК освободил его от обязанностей министра иностранных дел и назначил его министром государственного контроля...
Еще в 1954 году, будучи на отдыхе в Крыму, мы — Хрущев, Молотов, Ворошилов, Каганович, — конечно, встречались, и однажды во время прогулки по парку на мой вопрос, как работается, Хрущев сказал мне: “Неплохо, но вот Молотов меня не признаёт, поэтому у меня с ним напряженные отношения”. Я ему сказал, что он ошибается, что Молотов порядочный человек, идейный партиец и интригами не может заниматься. “Ты самокритически проверь самого себя — не слишком ли ты часто и легко наскакиваешь на него и на его предложения. Если ты изменишь отношение к нему, все будет исчерпано”. Но к сожалению, он этому моему совету не последовал...
Был один вопрос, по которому Президиум не поддержал Молотова, это вопрос о Югославии. Молотов сдерживал восстановление отношений с Югославией, в том числе и по государственной линии. Президиум ЦК принял решение восстановить государственные отношения с сохранением расхождений по партийно-идеологической линии. Хрущев фактически пошел несколько дальше и по партийной линии, нарушая директивы ЦК...
С некоторого времени Хрущев стал проявлять активность в вопросах внешней политики. Это, конечно, было хорошо. Я сам ему советовал — со времен Ленина ни один вопрос внешней политики не решался без Политбюро, и Сталин все вопросы внешней политики вносил на Политбюро и сам ими занимался. Поэтому и ему, как Первому секретарю ЦК, необходимо было это соблюдать. Вначале и Хрущев придерживался этого порядка, но потом стал своевольничать. Демонстрируя, что он “совладал с техникой”, как непревзойденный “знаток” дипломатии, Хрущев почти во все
проекты МИДа стал вносить свои поправки или просто забраковывал их, особенно после того, как по его предложению Молотов был снят с поста министра иностранных дел (хотя он строго проводил политику мира)».
В том, что Молотова освободили от должности министра иностранных дел, не было ничего удивительного. В советской системе внешнюю политику всегда целиком и полностью определяло первое лицо государства. Министр иностранных дел никакой самостоятельной роли играть не мог. Взгляды же на международное положение СССР и задачи советской дипломатии у Никиты Сергеевича и Вячеслава Михайловича различались весьма существенно.
Хрущев пытался нормализовать отношения с Югославией, как-то решить проблему Западного Берлина, вести переговоры с США, Англией, Францией, ФРГ и Японией, чтобы хоть немного смягчить противостояние в «холодной войне». Молотов же выступал против отношений с Тито, стоял за жесткое противодействие Западу, полагая, что оно принесет больше дивидендов как в плане возможных уступок со стороны потенциальных противников, так и, прежде всего, благодаря внутренней консолидации народа и партии перед лицом внешнего врага и недопущению какого-либо идеологического либерализма.
В утешение Молотов действительно получил пост министра государственного контроля. Фактически это была почетная отставка. Министр государственного контроля играл в СССР во многом декоративную роль. Его ведомство фактически дублировало часть работы правоохранительных органов, к все равно ни одно крупное дело о хищениях или иных крупных непорядках в экономике не могло вестись без участия МВД, КГБ и прокуратуры. Разве что по результатам проверок, осуществлявшихся контролерами его министерства, Вячеслав Михайлович смог еще раз убедиться, что в стране много воруют.
Приходившие же к нему письма трудящихся свидетельствовали, что в народе растет недовольство сохраняющимися «временными трудностями». Многие, особенно
10 Соколо»
старые партийцы, были недовольны разоблачением «культа личности» и возлагали вину за это на Хрущева. Правда, насколько адекватно эти письма отражали настроения в обществе в целом — большой вопрос. Ведь Молотову писали отнюдь не бывшие репрессированные, а главным образом такие же убежденные сталинисты, как и он сам. Тем не менее такие обращения подкрепляли решимость Вячеслава Михайловича свергнуть Хрущева. Постепенно он становился знаменем всех антихрущевских сил, ностальгировавших по недавнему прошлому. Показательно, что в марте 1956 года в Тбилиси прошли демонстрации молодежи под лозунгами прекращения критики Сталина и «Молотов — во главе КПСС». Хрущеву это, конечно, никак не могло понравиться.
После смещения с поста министра иностранных дел Молотов еще оставался членом Президиума ЦК и решил побороться за власть. Но в том, что касается способности Молотова к интригам, Каганович был полностью прав. Как мы вскоре убедимся, Вячеслав Михайлович только один раз в жизни попытался провести серьезную политическую интригу, но потерпел полное фиаско.
Антипартийная группа: калиф на час
К середине 1957 года назревавший с 1953 года конфликт внутри советского руководства достиг критической массы. Если напряженность, первых послесталинских месяцев была частично снята благодаря аресту Берии, то позднейшие противоречия вылились в попытку Молотова и его соратников сместить Хрущева с поста Первого секретаря ЦК.
Разногласия между Хрущевым и его сторонниками с одной стороны и членами будущей «антипартийной группы» — с другой касались как вопросов внешней политики и пределов, до которых можно было идти в разоблачении сталинской эпохи, так и сугубо хозяйственных проблем. Молотов, например, был противником форсированного, широкомасштабного освоения целины. Вот что он говорил Чуеву:
«Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, это была нелепость. В таком размере — авантюра. Я никогда не был противником освоения целины, хотя Хрущев меня обвинил главным противником целины. Но я с самого начала был сторонником освоения целины в ограниченных масштабах, а не в таки^ громадных, которые нас заставили огромные средства вложить, нести колоссальные расходы вместо того, чтобы в обжитых районах поднимать то, что уже готово. А ведь иначе нельзя. Вот у тебя миллион рублей, больше нет, так отдать их на целину или уже в обжитые районы, где возможности имеются? Я предлагал вложить эти деньги в наше Нечерноземье, а целину поднимать постепенно. Разбросали средства — и этим немножко, и тем, а хлеб хранить негде, он гниет, дорог нет, вывезти нельзя... Я говорю на заседании Политбюро: слушайте, вот мы получили данные ЦСУ об урожае в тех районах, которые вы
называете целиной, — два-три центнера. А в засушливых районах средние данные за пять — десять лет — пять-шесть центнеров, маленький урожай, но на всём готовеньком. Если мы вместо двадцати миллионов гектаров осилим десять миллионов, но районы более надежные в смысле урожая и более посильные нам по масштабам, то мы получим...
Хрущев сразу: “О, ты против целины!” — “Да позволь, почему против целины, но надо ж рассчитать все-таки. Как же можно государственные дела так делать?”
А Хрущев нашел идею и несется, как саврас без узды! Идея-то эта ничего не решает определенно, может оказать помощь, но в ограниченном пределе. Сумей рассчитать, прикинь, посоветуйся, что люди скажут. Нет — давай, давай! Стал размахиваться, чуть ли не сорок или сорок пять миллионов гектаров целины отгрыз, но эго непосильно, нелепо и не нужно, а если бы было пятнадцать или семнадцать, вероятно, вышло бы больше пользы. Больше толку.
Хрущев мне напоминал прасола. Прасола мелкого типа. Человек малокультурный, безусловно. Прасол. Человек, который продает скот.
Ошибка Сталина в том, что он никого не подготовил на свое место. Хрущев не случаен. Конечно, не по Сеньке шапка. Но и в нашей группе не было единства, не было никакой программы. Мы только договорились его снять, а сами не были готовы к тому, чтобы взять власть».
Драматические события июня 1957 года стали пиком политической карьеры Молотова и одновременно — началом его глубочайшего падения в пропасть политического небытия. Поэтому интересно рассмотреть случившееся с точки зрения основных участников — не только Молотова, но и Кагановича, Маленкова, Хрущева, Жукова и других.
Обстановку, в которой сформировалась «антипартийная группа», хорошо описал в своих мемуарах Каганович:
«Вообще Хрущев “разошелся” и начал давать интервью иностранцам без предварительного согласования с Политбюро, то есть нарушая установившийся ранее порядок. Вдруг, например, Политбюро узнает, что Хрущев выступил
по телевидению по международным вопросам, ничего никому заранее не сказав. Это было грубым нарушением всех основ партийного руководства внешними делами. Политбюро никогда не давало такого права выступать публично без его разрешения и предварительного просмотра даже высокоэрудированным дипломатам, а тут мы тем более знали недостаточную компетентность, “изящность” и обороты его ораторского искусства, и мы были обеспокоены, что он может “заехать не туда”. Этот вопрос был нами поставлен на Президиуме. Разговор был большой и острый. Хрущев обещал Президиуму впредь не допускать подобных явлений, соблюдая существующий порядок. После событий 1957 года и смены Президиума он, как полновластный “хозяин”, отменил этот порядок и выступал вовсю сам, где угодно и как угодно. Здесь уже, по преимуществу, работали литературные “помощники”, современные “роботы” — и писали, и писали, а он читал и читал до того, что язык уставал, зато голова отдыхала.
Наибольший организаторский “талант” Хрущев проявил в “великой” реорганизации государственного аппарата. Не буду здесь излагать подробно всю эту реорганизацию — она известна. Были ликвидированы почти все хозяйственные министерства. Были созданы Советы Народного Хозяйства. Сама по себе идея совнархозов могла бы принести пользу при сохранении министерств, хотя бы и сокращенных, если бы эти совнархозы были тесно связаны с территориальными, республиканскими и областными центрами и имели определенный круг предприятий, которые полностью им подчинялись. В особенности это относится к местной промышленности в широком ее понимании. Но если вначале совнархозы были ближе к областному делению, то вскоре начался их отрыв от областного деления. '
Некоторые члены Президиума ЦК вносили предложение о создании Высшего Совета Народного Хозяйства СССР. Вначале это было объявлено Хрущевым “консервативным сопротивлением” всей реформе, а потом он сам же начал создавать совнархозы республик, в том числе совнархоз РСФСР, затем был и организован Всесоюзный Совет Народного Хозяйства. В каждом из них создавались отраслевые, комплексно-территориальные органы — это была сплошная, перманентная перетасовка. Потом, когда жизнь
дала почувствовать, что современный процесс специализации индустрии требует соответствующей организации, были созданы, вместо упраздненных министерств, отраслевые комитеты --1 вначале в пределах Госплана, а потом самостоятельные государственные комитеты, почти с правами и функциями министерств (и для пущей важности даже названные министерствами, но кастрированные и, следовательно, бессильные). Поэтому этот суррогат госкомитетов в сочетании с гигантскими совнархозами не мог выдержать жестокой критики жизненной действительности.
Что касается местных совнархозов, я лично полагал бы, что при облисполкомах могли бы быть такие хозяйственные органы под тем или иным названием. Они, эти органы, должны объединять определенные группы предприятий: ширпотреба, металлообрабатывающие, стройматериалов, пищевые и тому подобное — с тем, чтобы они удовлетворяли значительную часть потребностей населения. Они сыграли бы важную роль в территориальном кооперировании предприятий, например изготовлении деталей для машин, в частности автотранспорта, и вообще сократили бы дальние и встречные перевозки. Эти органы (совнархозы или под другим наименованием) должны быть подчинены облисполкомам, Советам, они должны быть прибыльными и повышать уровень жизни населения, в первую очередь своих рабочих.
Хрущев и здесь, с вопросами о совнархозах, испортил неплохую идею. При правильной организации она могла бы принести пользу, если бы не стремление Хрущева открывать свою «эврику» и в мировом масштабе.
Был организован всенародный плебисцит, предложения были приняты, но они не обнаружили устойчивости. Можно предположить, что здесь была цель получить “побочный”, а может быть, и главный эффект — перешерстить, перелопатить или, говоря по-троцкистски, перетряхнуть кадры министерств и их местных органов и заменить “неблагонадежных” и неверных новому руководству другими, своими кадрами. Сомнительно, чтобы это дало желаемые результаты, а вред народному хозяйству эта “великая” хрущевская реорганизация принесла.
Особенно несуразным, противоречащим основам нашего партийного строительства, явилось проведенное по его предложению разделение руководящих областных партор-
ганов на промышленные и хозяйственные. Вред такого новшества настолько очевиден, что доказывать это и не требуется.
Известно, что крупнейшим вопросом был вопрос о животноводстве. Еще до XX съезда на Пленумах ЦК и на самом XX съезде со всей остротой ставился этот вопрос. В отчете ЦК было предупреждение от легковесного подхода к этому делу.
Но вот после съезда, не успев добиться ничего серьезного в осуществлении директив съезда по животноводству, Хрущев коренным образом изменил указания съезда. Это изменение Хрущев сделал не в деловом предложении для серьезного обсуждения и решения, а опять же на митинге при открытии Сельскохозяйственной выставки весной 1957 года.
Не доложив Президиуму ЦК, Совету Министров’ не поговорив даже с кем-либо из товарищей (видимо, опять же для того, чтобы удивить всех), Хрущев в присутствии всех членов Президиума провозгласил новую генеральную задачу партии и государства. “Мы, — сказал он, — ставим нашей генеральной задачей в области животноводства — догнать и перегнать США в 1960 году по развитию животноводства, по поголовью скота”. Провозглашая эту привлекательную, заманчивую задачу, он никаких деловых расчетов не привел, потому что у него их не было. “Мы, — заключил он, — можем и должны выполнить эту задачу. Вся партия, народ, колхозники должны взяться и выполнить эту задачу”.
Это был митинговый призыв, а не научно обоснованный план, нигде и никогда не обсуждавшийся — ни в Президиуме ЦК, ни в Совете Министров. Все члены Президиума ЦК были возмущены этой новой субъективистской выходкой Хрущева. В нарушение обычая члены Президиума не пошли после митинга на совместный обед, а разошлись по домам. Хрущев был смущен этим, хотя вначале подошел к нам с хвастливым видом изобретателя “великой идеи”. На завтра был созван Президиум ЦК, на котором мы обсуждали этот вопрос. Члены Президиума, каждый по-своему, раскритиковали Хрущева, прежде всего за то, что он не доложил заранее свое предложение. Члены Президиума предложили Хрущеву доложить Президиуму свои расчеты и мероприятия, обеспечивающие возможность и реальность выполнения поставленной задачи.
Хрущев, признавая ошибочным свой поступок, по существу же отстаивал правильность выступления, но никаких расчетов и обоснований не дал...
Наряду с “завоеванием позиций” в государственных и хозяйственных делах, Хрущев решил, в порядке завоевания ореола “демократа” и “культурного” человека, заняться литературой и искусством. Насколько это ему удалось, видно из одного его выступления до июньских событий 1957 года. На одной из загородных правительственных дач Центральным Комитетом партии и Советом Министров СССР был устроен званый обед на свежем воздухе для писателей и деятелей искусства вместе с Правительством и членами Президиума ЦК.
До обеда люди гуляли по большому парку, катались на лодках по пруду, беседовали. Группами и парами импровизировали самодеятельность, и некоторые члены ЦК вместе с гостями пели. Была действительно непринужденная хорошая обстановка.
Какое-то время такое настроение продолжалось и после того, как сели за столы и приступили к закуске. Потом началась главная часть представления: выступил он — Хрущев... Хотя эта речь была потом в печати изложена довольно гладко, но это была “запись”, хотя стенограммы за столом не вели (а если она и была, то вряд ли нашлась бы хоть одна стенографистка, которая сумела бы записать сказанное). И на обычной трибуне, когда он выступал без заранее написанной речи, речь его была не всегда в ладах с логикой и, естественно, с оборотами речи, а тут не обычная трибуна, а столы, украшенные архитектурными “ордерами” в изделиях стекольной и иной промышленности, для “дикции” заполненные возбуждающим содержанием. Можно себе представить, какие “культурные” плоды дало такое гибридное сочетание содержимого на столе с содержимым в голове и на языке у Хрущева. Это был непревзойденный “шедевр ораторского искусства”...
Прежде всего, Хрущев пытался “разжевать” для художников, писателей и артистов многое из того, что он говорил о культе личности Сталина на XX съезде партии, с той разницей, что там он читал, а здесь “выражался” устно — экспромтом, а потому это выглядело более “изящно”.
Надо сказать, что “жареные” места были восприняты некоторой частью аудитории как приятное блюдо, за которое
они готовы были бы выдать даже ему звание “лауреата по изящной словесности”. Помню, когда Хрущев подчеркнул виновность руководителей ЦК, а именно Молотова, в зажиме именно русской литературы и искусства, писатель Соболев особенно вышел из “морских берегов” и, как моряк, дошел чуть ли не до “морского загиба”. Но у большинства это вызвало не только замешательство, но и недовольство, не говоря уже о присутствующих руководящих партийных кадрах..
Нападение Хрущева на члена Президиума ЦК Молотова в среде беспартийной интеллигенции было из ряда вон выходящим фактом и имело далеко идущие цели. Недаром говорится: “Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке”.
Следующим “номером” его выступления была уже критика некоторых писателей — тоже с определенной подборкой. Помню, что экстравагантными объектами его атаки были две женщины-писательницы: Мариэтта Шагинян и поэтесса Алигер. Я не буду излагать содержание его критики в их адрес, но, во всяком случае, это не было защитой партийноленинских позиций в литературе и искусстве. Надо им обеим, и Шагинян и Алигер, отдать должное — они выступили после его речи и смело и логично, возражая Хрущеву. Помню, какой всеобщий смех вызвали первые слова пухленькой и миловидной Алигер, когда она, повернувшись к Хрущеву, сказала: “Вот видите — это я и есть та самая страшная Алигер!” Во всяком случае, как ни старалось после этого “обеда” ближайшее окружение Хрущева расписывать его речь, она внесла смятение, а не сплочение в ряды присутствовавших, за исключением, конечно, тех, которым нравилась драка в верхах. Это они ясно не только ощутили, но и услышали из уст новоявленного “защитника” “обиженной” советской властью части интеллигенции. Однако и среди колеблющейся интеллигенции была значительная часть, которая была шокирована, смущена нападением на Молотова, которого они всегда считали настоящим, культурным русским интеллигентом. А этот, думали они, хотя и подлаживается к нам, но союзник ненадежный, уж больно из кожи лезет в наши защитники “новый вождь”. Лучшая же часть присутствовавшей интеллигенции ушла с обеда в замешательстве, а некоторые даже возмущенные.
Так новоявленный “диалектик” Хрущев превратил положительное в отрицательное, но зато он добился нового обострения внутри Президиума ЦК.
Если до этого он мог рассчитывать на большинство в Президиуме ЦК, то после этого его выступления с атакой на члена Президиума можно прямо сказать, что большинство членов Президиума заняло более критические позиции по отношению к Хрущеву и его методам руководства.
По упрощенности своего мышления он считал достаточным, что Секретариат ЦК — его крепость, что же ему еще нужно?
Большинство же членов Президиума ЦК, которое известное время терпело во имя единства партии и ЦК, в конце концов поняло, что дальше терпеть такие ошибки в политике и такое руководство нельзя, что Хрущев некомпетентен и мало пригоден для роли Первого секретаря ЦК, что рано или поздно партия и ЦК должны освободиться от него, — так лучше раньше, чем позже.
К этому моменту отношения Хрущева с членами Президиума приняли уже обостренный характер. На заседаниях он резко обрывал выступавших товарищей. Я уже говорил о Молотове, Маленкове, но это касалось и Ворошилова и меня — Кагановича — и других. Хотя должен сказать, что Хрущев первое время относился ко мне сдержанно. Больше того, когда он уезжал в отпуск в 1955 году, он предложил поручить сделать доклад о 38-й годовщине Октябрьской революции Кагановичу...
Я мог бы привести и другие примеры его выпадов по отношению к другим членам Президиума ЦК. Такие, например, деловые, хорошие, так сказать, послушно-лояльные члены Президиума, как Первухин, Сабуров, были доведены Хрущевым до крайнего недовольства, особенно гипертрофическим выпячиванием Хрущевым своего “творчества” в любом вопросе — знакомом ему или незнакомом, а последних было большинство. Наступил такой момент, когда, как говорят на Украине, “терпець лопнув” (то есть лопнуло терпение), и не столько от личного недовольства, сколько от неправильного подхода Хрущевым к решению крупных вопросов, в которых он не считался с объективными условиями...»
Слов нет, к 1957 году Хрущев успел изрядно надоесть не только ветеранам-сталинистам в верхнем эшелоне
власти, но и ряду молодых руководителей, а также среднему слою номенклатуры. Недовольна была и творческая интеллигенция. Постоянные хозяйственные и управленческие реорганизации, шараханье из стороны в сторону, элементарное хамство, наряду с угрозами углубить “разоблачение сталинизма”, попытками “мириться” с Тито и с империалистами вызывали широкое номенклатурное недовольство. Жизнь же простого народа не изменилась радикальным образом к лучшему, хотя некоторые послабления и были сделаны. В частности, еще осенью 53-го уменьшились обязательные сельхозпоставки и повысились закупочные цены. Однако в народном сознании эти скромные перемены к лучшему связывались не с Хрущевым, а с Малеиновом, тогдашним Председателем Совета министров. Даже родилась поговорка: «Пришел Маленков, поели блинков».
В общем, оппозиция Хрущеву возникла не на пустом месте и была представлена отнюдь не только кучкой замшелых сталинистов в Президиуме ЦК. Весь вопрос заключался в том, сумеют ли вожди грамотно организовать переворот, привлечь на свою сторону силовые ведомства и убедить в необходимости отстранения Хрущева от власти большинство членов ЦК. Ни Молотов, ни Маленков, ни Каганович, ни «примкнувший к ним Шепилов» ничего Этого сделать не сумели и потому закономерно проиграли.
О самом же историческом заседании Президиума ЦК, на котором была предпринята попытка смещения Хрущева, Каганович сообщает следующее:
«И вот на одном из заседаний Президиума во второй половине июня вырвалось наружу недовольство членов Президиума ЦК руководством Хрущева.
Помню, на этом заседании в порядок дня был поставлен вопрос о подготовке к уборке и к хлебозаготовкам. Хрущев предложил поставить еще вопрос о поездке всего состава Президиума ЦК в Ленинград на празднование 250-летия Ленинграда. После обсуждения вопроса об уборке и перехода к вопросу о поездке в Ленинград Ворошилов первый возразил. Почему, сказал он, должны ехать все члены Президиума, что у них, других дел нет? Я поддержал сомнения Ворошилова и добавил, что у нас много дел по уборке
и подготовке к хлебозаготовкам. Наверняка надо будет ряду членов Президиума выехать на места, да и самому Хрущеву надо будет выехать на целину, где много недоделанного. Мы, сказал я, глубоко уважаем Ленинград, но ленинградцы не обидятся, если туда выедут несколько членов Президиума. Маленков, Молотов, Булганин и Сабуров поддержали эти возражения. И тут поднялся наш Никита и начал “чесать” членов Президиума одного за другим. Он так разошелся, что даже Микоян, который вообще отличался способностью к “быстрому маневрированию”, стал успокаивать Хрущева. Но тут уж члены Президиума поднялись и заявили, что так работать нельзя — давайте обсудим прежде всего поведение Хрущева.
Было внесено предложение, чтобы председательствование на данном заседании поручить Булганину. Это было принято большинством Президиума, разумеется, без какого-либо предварительного сговора.
После того как Булганин занял место председателя, взял слово Маленков. “Вы знаете, товарищи, — сказал Маленков, — что мы поддерживали Хрущева. И я, и товарищ Булганин вносили предложение об избрании Хрущева Первым секретарем ЦК. Но вот теперь я вижу, что мы ошиблись. Он обнаружил неспособность возглавлять ЦК. Он делает ошибку за ошибкой в содержании работы, он зазнался, отношения его к членам Президиума ЦК стали нетерпимыми, в особенности после XX съезда. Он подменяет государственный аппарат, командует непосредственно через голову Совета Министров. Это не есть партийное руководство советскими органами. Мы должны принять решение об освобождении Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК”.
Это самое краткое изложение речи Маленкова, как и других товарищей.
После т. Маленкова выступил т. Ворошилов. Он сказал, что охотно голосовал за избрание Хрущева Первым секретарем ЦК и поддерживал его в работе, но он начал допускать неправильные действия в руководстве. “Ия пришел к заключению, что необходимо освободить Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК. Работать с ним, товарищи, стало невмоготу”. Он рассказал, когда и как Хрущев допускал по отношению к нему лично окрики, бестактность и издевательства. “Не можем мы больше терпеть подобное. Давайте решать”, — заключил он.
После Ворошилова выступил Каганович. “Рассматриваемый нами вопрос является нелегким и огорчительным вопросом. Я не был в числе тех, кто вносил предложение об избрании Хрущева Первым секретарем ЦК, потому что я давно его знаю с его положительными и отрицательными сторонами. Но я голосовал за это предложение, рассчитывая на то, что положение обязывает и заставляет руководящего работника усиленнее развиваться и расти в процессе работы. Я знал Хрущева как человека скромного, упорно учившегося, который рос и вырос в способного руководящего деятеля в республиканском, областном и в союзном масштабе, как секретаря ЦК в коллективе Секретариата ЦК.
После избрания его Первым секретарем он некоторое время больше проявлял свои положительные черты, а потом все больше стали проявляться его отрицательные стороны — как в решении задач партии по существу, так и в отношениях с людьми. Я, как и другие товарищи, говорил о его положительной работе и подчеркивал его ошибки в вопросах планирования народного хозяйства, в которых Хрущев особенно проявлял свой субъективистский, волюнтаристский подход, так и в вопросах партийного и государственного руководства. Поэтому я поддерживаю предложение об освобождении товарища Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК. Это, конечно, не значит, что он не останется в составе руководящих деятелей партии. Я думаю, что Хрущев учтет уроки и подымет на новый уровень свою деятельность.
Но есть еще одна сторона в поведении Хрущева, которую нужно осудить: Хрущев, как теперь установлено, в Секретариате ЦК сплачивал свою фракцию. Он систематически занимался дискредитацией Црезидиума и его членов, критиковал их не на самом Президиуме, что вполне законно и необходимо, а в Секретариате ЦК, направляя свои стрелы против Президиума, являющегося высшим органом партии между Пленумами ЦК. Такие действия Хрущева вредят единству, во имя которого Президиум ЦК терпел до сих пор причуды Хрущева. Об этом придется доложить на Пленуме ЦК, который необходимо будет созвать. Еще добавлю один важный, по-моему, факт. На одном из заседаний Президиума Хрущев сказал: “Надо еще разобраться с делами Зиновьева — Каменева и других, то есть троцкистов”. Я бросил
реплику: “Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала”. Хрущев вскипятился и начал кричать: “Что ты все намекаешь, мне это надоело!”
Тогда на Президиуме я не стал раскрывать этот намек, но сейчас я его раскрою. Хрущев был в 1923—1924 годах троцкистом. В 1925 году он пересмотрел свои взгляды — покаялся в своем грехе. Именно в 1925 году я с ним познакомился в Донбассе и увидел в нем искреннего ленинца — сторонника линии ЦК ВКП(б). В дальнейшей его судьбе — его выдвижении была известная доля моего участия как секретаря ЦК Украины, а потом как секретаря ЦК КПСС, занимавшегося кадрами. Я его оценил как способного, растущего работника из рабочих. Я исходил из того, что партия и ЦК не мешают расти людям, имевшим в прошлом ошибки, но изжившим их.
Я доложил об этом Сталину, когда на Московской конференции выбирали Хрущева секретарем. Вместе с Хрущевым я был у Сталина, и тот посоветовал, чтобы Хрущев выступил на конференции с рассказом о себе, а Каганович подтвердит, что ЦК это знает и доверяет Хрущеву. Так это было. Конечно, грехи прошлого прощаются и не напоминаются до рецидива.
Сделанное Хрущевым заявление тогда — это рецидив. И мы ему напоминаем старый грех, чтобы эти рецидивы не повторялись”.
После Кагановича выступил Молотов. “Как ни старался Хрущев провоцировать меня, — сказал Молотов, — я не поддавался на обострение отношений. Но оказалось, что дальше терпеть невозможно. Хрущев обострил не только личные отношения, но и отношения в Президиуме в целом при решении крупных государственных и партийных вопросов”. Тов. Молотов подробно остановился на вопросе реорганизации управления, считая ее неправильной, говорил о неправильности приписывания ему, будто он против целины. Это неверно. Верно то, что он возражал против чрезмерного увеличения и доведения сразу до 20—30 млн га, что лучше вначале сосредоточиться на 10—20 млн, подготовить как следует, чтобы освоить хорошо и получить высокие урожаи. Тов. Молотов опровергал приписываемое ему торможение политики мира — это неправда, но, видимо, эта выдумка нужна была для того, чтобы оправдать необходимые шаги по внешней политике. Его выступления против
Югославии относились к вопросам не внешней политики, а к антипартийным, антисоветским выступлениям югославов, за которые мы их критиковали и должны критиковать. “С Хрущевым, как с Первым секретарем ЦК, больше работать нельзя, — сказал Молотов. — Я высказываюсь за освобождение Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК”.
После Молотова выступил Булганин. Он начал с того, что рассказал о фактах неправильных методов руководства работой государственных органов, в том числе Совмина, о нетоварищеском отношении даже по отношению к нему лично. Булганин говорил об ошибках по существу ряда решений. “Я, — заключил Булганин, — полностью присоединяюсь к предложению об освобождении Хрущева”.
Выступили товарищи Первухин и Сабуров. Они оба заявили, что раньше хорошо относились к Хрущеву, так же как Хрущев к ним. “А теперь мы видим, что Хрущев зарвался, зазнался и затрудняет нам работу. Его надо освободить”.
Тов. Микоян, верный своей тактике маневрирования, сказал, что верно, есть недостатки в работе Хрущева, но они исправимы, поэтому он считает, что не следует освобождать Хрущева.
После нас выступил сам Хрущев. Он опровергал некоторые обвинения, но без задиристости, можно сказать, со смущением. Часть упреков признал, что действительно, я, мол, допускал ошибочное отношение к товарищам, были ошибки и в решении вопросов по существу, но я обещаю.Президиуму, что я исправлю эти ошибки.
В защиту Хрущева выступили секретари ЦК: Брежнев, Суслов, Фурцева, Поспелов, хотя и оговаривались, что, конечно, недостатки есть, 'но мы их исправим.
По-иному выступил, единственный из всех, секретарь ЦК Шепилов. Он честно, правдиво и убедительно рассказал про недопустимую атмосферу дискредитации и проработки Президиума ЦК, созданную Хрущевым в Секретариате ЦК. В особенности Хрущев чернил Ворошилова, как “отжившего, консервативно-отсталого” деятеля. (В то же время Хрущев лицемерно оказывал Ворошилову внешне любезность и “уважение”.) Шепилов рассказал о ряде неправильных решений Секретариата за спиной Президиума ЦК.
Фактически Хрущев превратил Секретариат ЦК в орган, действующий независимо от Президиума ЦК.
Президиум заседал четыре дня. Председательствовавший Булганин по-демократически вел заседание, не ограничивал время ораторам, давая иногда повторные выступления и секретарям ЦК.
А тем временем хрущевский Секретариат ЦК организовал тайно от Президиума ЦК вызов членов ЦК в Москву, разослав через органы ГПУ (точнее сказать, КГБ, но Каганович упомянул старое название “дорогих органов”, милое ему еще с 20-х годов. — Б. С.) и органы Министерства обороны десятки самолетов, которые привезли в Москву членов ЦК. И это было сделано без какого-либо решения Президиума и даже не дожидаясь его решения по обсуждаемому вопросу. Это был настоящий фракционный акт, ловкий, но троцкистский.
Большинство Президиума ЦК не такие уж простаки или плохие организаторы. Если бы они стали на путь фракционной борьбы, в чем их потом неверно обвинили, то могли бы организовать, проще — снять Хрущева. Но мы вели критику Хрущева по-партийному, строго соблюдая все установленные нормы с целью сохранения единства. По-фракционному повел дело Хрущев. К концу заседания Президиума ЦК явилась от собравшихся в Свердловском зале членов ЦК делегация во главе с Коневым, заявив, что члены Пленума ПК просят Президиум доложить Пленуму ЦК об обсуждаемых на Президиуме вопросах. Некоторые члены Президиума гневно реагировали на этот акт созыва членов ЦК в Москву без разрешения Президиума ЦК как акт узурпаторский со стороны Секретариата ЦК и, конечно, самого Хрущева.
Тов. Сабуров, например, ранее боготворивший Хрущева, с гневным возмущением воскликнул: “Я вас, товарищ Хрущев, считал честнейшим человеком. Теперь вижу, что я ошибался, — вы бесчестный человек, позволивший себе по-фракционному, за спиной Президиума ЦК организовать это собрание в Свердловском зале”.
После маленького перерыва Президиум ЦК решил: несмотря на то что Секретариат ЦК грубо нарушил Устав партии, но, уважая членов ЦК и считаясь с тем, что они ждут прихода членов Президиума, прервать заседание Президиума и пойти в Свердловский зал.
Сбросивший свою маску смущения, ободренный Хрущев рядом с Жуковым и Серовым шествовал в Свердловский зал.
Можно себе представить внутреннее психологическое состояние членов Пленума ЦК, доставленных в Москву в столь чрезвычайном порядке. Еще до открытия Пленума члены ЦК были, конечно, информированы о заседании Президиума ЦК (об этом уже позаботился аппарат ЦК). Но когда открылся Пленум, вместо доклада о заседании Президиума, которого, конечно, ожидали члены ЦК, им было преподнесено “блюдо” об антипартийной группе Маленкова, Кагановича и Молотова.
То есть вместо вопроса “о неудовлетворительном руководстве Первого Секретаря ЦК Хрущева” был поставлен абсолютно противоположный, надуманный вопрос “Об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова”. Доклада о заседании Президиума ЦК и обсуждавшихся им вопросах фактически не было сделано, зато был нанизан целый комплекс политических обвинений в адрес выдуманной антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним кандидата в Президиум — Шепилова.
Чувствуя нелепость, несуразность положения — объявить большинство Президиума ЦК фракцией, хрущевские обвинители прибегли к хитросплетенной выдумке о “группе трех” — Маленкова, Кагановича, Молотова, выделив их из семи членов Президиума, выступавших против Хрущева, осуждавших его и требовавших его освобождения (из остальных четырех товарищей — Ворошилова, Булганина, Первухина, Сабурова — первых трех даже вновь избрали в Президиум ЦК).
Таким образом, выделив ^рех — Маленкова, Кагановича, Молотова, была сделана попытка скрыть, что из девяти членов Президиума только два: Микоян и сам Хрущев — были за оставление Хрущева Первым секретарем, а большинство — семь — были за освобождение Хрущева, как плохо осуществляющего политическую линию ЦК партии на практике.
Потом “победителями” уже был придуман новый аргумент, что, мол, пользуясь арифметическим большинством, эта группа хотела сменить и состав руководящих органов партии, изменить линию партии. Но во-первых, нелепо
говорить об арифметическом большинстве — а какое же иное большинство может быть при решении тех или иных вопросов? Да, в Президиуме ЦК большинство было за смену одного Хрущева, но разве состав руководящих органов партии — это один Хрущев? Разве не весь Президиум является руководящим органом между Пленумами ЦК? Поэтому смешно говорить и писать, что Президиум хотел сменить состав руководящих органов партии, то есть сменить самого себя.
Итог известен: был принят предложенный проект постановления, опубликованный в “Правде”, “Об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. МЛ
В принятом постановлении говорится, что “эта группа антипартийными, фракционными методами добивалась смены...”. Разве большинство Президиума можно называть фракцией? Никаких фактов о фракционных методах нет, их и не было; никаких групп, особых собраний ни до, ни после официального заседания Президиума, никакого сговора не было. Если бы была фракционная группа, то мы уж не такие плохие организаторы, чтобы оказаться в таком положении, чтобы Хрущев и его фракция так обставили нас — большинство Президиума. Именно Хрущев и примкнувшие к нему организованно действовали как фракция, собрав членов ЦК тайно, за спиной Президиума ЦК. А мы — не группа, а большинство Президиума, сберегая единство ЦК, заседали, обсуждали, доказывали и стремились решить вопрос без фракционного ловкачества, которое применил Хрущев и его хитрые советчики.
Могут сказать — ловок все-таки Хрущев. Да, но ловкость эта — троцкистская, антипартийная. Однако, понимая, что выделить трех членов Президиума и исключить их из ЦК, его Президиума, просто пришив им белыми нитками фракционность и антипартийность, неубедительно для партии, новый состав хрущевского руководства, еще до его избрания, составил проект постановления Пленума ЦК КПСС, заполненный иными выдумками, политиче-ски-принципиальными обвинениями так называемой антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова...
В практической работе можно у любого найти ошибки, недостатки, были они и у нас, но о них-то и в постановлении
мало говорится. Зато общих, необоснованных, хлестких обвинений полно...
Ведь после XX съезда избран Президиум ЦК, составивший указанное Ленинское ядро ЦК, а в этом ядре и были Ворошилов, Молотов, Каганович, Маленков, Булганин, Микоян, Первухин, Сабуров, Шверник и другие. Как же можно свести Ленинское ядро ЦК к Хрущеву и Микояну, а остальных, в особенности Молотова, Кагановича, Маленкова, Ворошилова, исключить и ошельмовать? Все это понадобилось хрущевской фракции для того, чтобы прикрыть действительные ошибки и недостатки, критиковавшиеся на Президиуме ЦК. Для того чтобы оправдать исключение из ЦК, и надуманы все эти “принципиально-политические” обвинения.
Это была антипартийная, антиленинская расправа со старыми деятелями партии и Советского государства, расправа за критику Первого секретаря ЦК Хрущева, возомнившего себя незаменимым.
Больше того, Маленков, Каганович, Молотов после исключения их из ЦК честно и усердно, как полагается коммунистам, трудились на предоставленных им работах, в парторганизациях активно участвовали в. работе и борьбе за выполнение решений партии и ее ЦК. Никаких замечаний или обвинений в чем-либо не имели.
Несмотря на это, через четыре года после решения 1957 года их исключили из партии.
Добиваясь восстановления в партии, они — ныне без партийного билета — остаются верными коммунистами, Марк-систами-Ленинцами, пролетарскими интернационалистами, борцами за линию партии и ее ЦК, за Социализм и Коммунизм!
Я надеюсь, я верю, что партия, ее Центральный Комитет, его Политбюро установят правду и восстановят нас в правах членов нашей родной Ленинской партии».
Каганович своего восстановления в партии так и не дождался, хотя дожил до 1991 года, прожив на год дольше Молотова.
А Феликсу Чуеву Каганович с горечью говорил:
— Сталин в последние годы допустил в оценке людей ошибку. Он приблизил к себе Хрущева, Маленкова, Берию, а Молотова, Кагановича и Ворошилова отодвинул.
Сталин нас... недооценил, но именно мы... оказались самыми крепкими.
— Во времена «антипартийной группы» вы могли взять власть, — мечтательно произнес Чуев.
— Если б мы организовались, мы бы могли взять власть... — согласился Каганович. — Большинство Политбюро было за нами, но... Хрущев сумел обмануть нас всех. Он жулик высшего пошиба. А мы парламентаризмом занялись...
Молотов утверждал, что «Хрущева сняли только с поста председательствующего на Политбюро. Больше ничего не было. Его не освободили. И освободить его не могли. Это решает Пленум».
На самом деле на четырехдневных заседаниях Президиума ЦК 18—22 июня 1957 года Молотов и его сторонники семью голосами против четырех сместили Хрущева с поста Первого секретаря и предложили назначить на этот пост Молотова. Хрущев отказался подчиниться и заявил, что этот вопрос должен решать Пленум ЦК. Тогда Молотов предложил вообще упразднить должность Первого секретаря, вспомнив, что с марта по август 1953 года эту должность никто не занимал — не было ни Генерального, ни Первого секретаря, да и Сталин последние годы подписывался только секретарем ЦК. Но тут уже собрались вызванные Игнатовым и Фурцевой при активной поддержке Серова и Жукова члены ЦК, и участь антипартийной группы была решена.
На пленуме отказался каяться один Молотов. Хотя Жуков в своем выступлении и упомянул, с подачи Хрущева и Серова, о том, что с 27 февраля 1937 года по 12 ноября 1938 года НКВД получил от Сталина, Молотова и Кагановича санкции на осуждение к расстрелу Военной коллегией Верховного суда 38 679 человек и что только 12 ноября 1938 года Сталин и Молотов осудили на смерть 3167 человек, а 21 ноября добавили еще 229, Вячеслав Михайлович чувствовал: сажать и расстреливать их не будут, чтобы не пугать членов ЦК возвращением сталинских времен.
Чуев поинтересовался, молча ли Хрущев принял свою отставку с поста Первого секретаря.
«Где там! — усмехнулся Молотов. — Кричал, возмущался... Но мы уже договорились. Нас семеро из одиннадцати,
а за него трое, в том числе Микоян. У нас программы никакой не было, единственное — снять Хрущева, назначить его министром сельского хозяйства.' А за стеной шумят. Там Фурцева, Серов, Игнатов. Собрали членов ЦК. На другой день был Пленум. Фурцева как секретарь ЦК, она играла роль. И Суслов как секретарь ЦК. Серов большую роль сыграл. Использовал технический аппарат. Вызвал членов ЦК поскорей в Москву. Собрались к Суслову. Серов помогал. Ну, конечно, он играл техническую роль. Поскольку Хрущев оставался Первым секретарем ЦК, аппарат был в его руках, а ему помогали Суслов с Фурцевой, тоже секретари ЦК...»
Вячеслав Михайлович в сердцах добавил: «Суслов — это такой провинциал в политике! Большая зануда... Одного поля ягоды с Хрущевым. Суслов — это же сухая трава. Жуков — крупный военный, но слабый политик. Он сыграл решающую роль в возведении на пьедестал Хрущева тогда, в 1957 году, а потом сам проклинал Хрущева...»
Вячеслав Михайлович заявил Чуеву, что на пленуме он выложил про Хрущева всю правду-матку. А в ответ участники пленума только «орали». Молотов утверждал: «Я говорил не о Хрущеве, но о его руководстве специально. А Хрущев хитрый очень... Хрущев, видимо, подслушивал наши телефонные разговоры, и шпионы у них были...»
Позже Молотов называл Хрущева «недоразумением для партии».
Тем не менее на июньском Пленуме 1957 года он был вынужден заявить:
«Я не могу снять с себя ответственности и никогда не снимал политической ответственности за те неправильности и ошибки, которые осуждены партией... Я несу за это ответственность, как и другие члены Политбюро».
А вот что о событиях июня 1957 года со слов Молотова рассказывает Вячеслав Никонов:
«Опале 1957 года предшествовало недовольство большинства членов Политбюро деятельностью Хрущева. Ему предъявили большой список претензий, начиная с целины, разделения обкомов партии на сельские и промышленные, засилья кукурузы, разрыва отношений с Китаем и так
далее. На заседании Политбюро было принято решение о назначении Хрущева министром сельского хозяйства и возвращении к коллегиальному руководству, но Никита Сергеевич сказал, что это следует утвердить в ЦК. А поскольку его сторонников в ЦК оказалось больше, недовольных членов Политбюро объявили антипартийной группой».
Маленков, как известно, мемуаров не оставил. Однако он много рассказывал о своей жизни сыну Андрею, в том числе и о неудавшейся попытке свергнуть Хрущева в июне 57-го. Вот как происходившее выглядит в изложении Андрея Маленкова:
«В конце января 1955 года отец и его “партия” технократов потерпели поражение (тогда Маленков, напомню, был смещен с поста главы правительства, причем при живейшем участии не только Хрущева, но и Молотова. — Б. С). С этого момента почти на четыре десятилетия в нашей стране установилось полное господство партократии. В этом, по-моему, и состоит главное отличие режима Хрущева от режима Сталина. В этом же и корень многих бед, которые затем обрушились на страну. Полнейшая бесконтрольность, ненаказуемость партократии создали все условия для ее коррупции и разложения.
55—57-й годы были, пожалуй, самыми тяжелыми в жизни моего отца. Ведь он видел, как рушились все его реформы. Видел, как хрущевская затея с целиной обрекла Центральную Россию на нищету, а Казахстан — на экологическую катастрофу. Видел, как догматическое мышление Хрущева, разыгравшего в 1956 году антисталинскую карту, по сути своей так и оставалось сталинистским, что наглядно подтвердилось расстрелом мирной демонстрации в Тбилиси, беспощадной расправой с венгерской “контрреволюцией” в том же 56-м году и обострением конфронтации между Восточной и Западной Германией...
Отчетливо помню, какой неясной тревогой в июньские дни 57-го года был наполнен наш дом. Мы решительно ни о чем не догадывались, но по каким-то нюансам в поведении отца видели: хоть и держится с полным спокойствием, но нервы у него на пределе. Однажды невольно услышал, как он властно сказал по телефону: “Николай, держись. Будь мужчиной. Не отступай...” Как потом стало ясно... разговаривал отец с Булганиным, который должен был
опубликовать в “Правде” решение Президиума о снятии Хрущева. Увы, “Николай” уже искал лазейки и компромиссы, чтобы уцелеть перед бешеным напором хру-щевцев...»
По мнению Маленкова, «Хрущев совершил государственный переворот и единолично захватил власть в стране. Известно, чем закончилась эта “победа”... Хрущев восстановил непомерные налоги на крестьян, ликвидировал приусадебные участки, забрал коров и, укрупнив колхозы, а многие из них превратив в совхозы, тем самым окончательно доконал сельское хозяйство».
А вот что запомнилось «примкнувшему к ним Шепи-лову»:
«Правильно Молотов говорит, что я к “антипартийной группе” не имел никакого отношения. Но было несколько фактов, которые поражали. Как-то я гулял... Останавливается машина. Выходит Ворошилов: “Дмитрий Трофимович, голубчик, ну что же у нас происходит? Как дальше жить? Как дальше работать? Всех оскорбляет, всех унижает, ни с кем не считается, все один, сам решает!”
Я говорю: “Климент Ефремович, вы участник II съезда партии... В том, что вы говорите, много правды. Но почему вы это мне говорите? Вы член Президиума ЦК, я — нет... Там ставьте вопрос. Я выскажу свою точку зрения искренне и честно. Многое я уже вижу, что нарастает в партии...”
Я не знал, что против Хрущева что-то готовится...
Когда собрались (на заседание Президиума), я вижу, что Жукова нет. Маленков говорит: “Я предлагаю изменить повестку дня и обсудить вопрос относительно грубого нарушения коллективности руководства. Стало совершенно невыносимо... Председательствующим предлагаю Булганина”. — “Пожалуйста!” — с театральным жестом произносит Хрущев. И Булганин сел председательствовать... Мыс Жуковым много говорили: невозможно же, куролесит, ничего не понимает, во все лезет... Когда Жуков приехал на заседание, сел рядом со мной — мы всегда сидели вместе на заседании Президиума.
Я уже не помню порядок выступлений, но все говорили, что стало невыносимо работать, все нарушено, ни о каком коллективном руководстве не может быть и речи, и каждый
перечислял, в какой области и как Хрущев куролесит, какой вред это приносит. Он сидел, подергивался.
Но никто не предлагал Хрущева репрессировать. Сказали: “Вот Хрущев говорил, что все критикуют сельское хозяйство, есть предложение назначить его министром сельского хозяйства, оставив его членом Политбюро” (в то время — Президиума ЦК. — Б. С.). Другого предложения я не слышал...
Когда дошла очередь до меня, я говорил долго. И начал с того, что советский народ и партия заплатили большой кровью за культ личности Сталина... И что же? Прошел небольшой срок, и снова то же самое видишь. Я стал перечислять. Появился новый диктатор».
Тут, по уверению Щепилова, между ним и Никитой Сергеевичем состоялся примечательный диалог.
— Сколько вас учили? — перебил Шепилова Хрущев.
— Я много учился, я дорого стою народу... — не без гордости заметил Дмитрий Трофимович.
— А я одну зиму у попа за пуд картошки учился! — раздраженно бросил Никита Сергеевич. Впрочем, не исключено, что он втайне даже гордился тем, что его образование ничего и никому не стоило. Промышленную академию, где он больше занимался партработой, Хрущев, очевидно, солидным учебным заведением не считал. Однако, существенно уступая тем же Молотову и Маленкову в образовании, Никита Сергеевич превосходил их на голову энергией и решительностью, поэтому-то и одержал победу.
— Так что же вы претендуете на то, что вы знаток и металлургии, и химии, и литературы? — съехидничал Ше-пилов.
На это Хрущев не нашелся что ответить.
По свидетельству Д. Т. Шепилова, на Президиуме Булганин говорил:
«У меня, когда я уезжал, перекопали весь двор, проложили провода подслушивания...»
Другие участники антихрущевской оппозиции тоже жаловались на прослушку, на слежку, обвиняли Хрущева в фактическом восстановлении сталинизма.
Сам Шепилов заявил: «Какое же это коллективное руководство? Приходит ко мне Фурцева, секретарь МК, сек-
ретарь ЦК, и говорит: “Отойдем туда за угол, да закройте телефон чем-нибудь, нас подслушивают! Что же делается! Ничего не получается, все разваливается...”
О Фурцевой Шепилов позже сообщил сыну некоторые довольно пикантные подробности: «Я знал, что она была возлюбленной Никиты... Мне говорили, что она неискренняя. А перед этим заседанием она пришла, бледная, ко мне, трясется: “Если вы когда-нибудь расскажете о том, что я вам говорила, когда приходила, мы вас в лагерную пыль превратим”. Такая мегера!»
Тогда же, перед Президиумом, Шепилов ответил Фурцевой довольно резко:
«Вы меня не пугайте, я фронтовик, Екатерина Алексеевна, я смерти в глаза смотрел не раз».
Несчастливый же для группы Молотова исход пленума Шепилов связывал, прежде всего, с позицией «силовиков»:
«После того как Жуков сделал все, чтобы Хрущев остался у власти, Никита Сергеевич сделал Жукова триумфатором... А меня выгнали с треском... После Пленума выхожу — идет навстречу Жуков. Я ему говорю: «Георгий Константинович, имей в виду: следующим будешь ты!» В июне нас выгнали, а в октябре — его. Жуков потом локти кусал и не мог слышать имени Хрущева...»
Сейчас самое время предоставить слово самому маршалу Жукову, тогдашнему министру обороны. Уже в отставке Георгий Константинович рассказывал об историческом заседании одному из интервьюеров:
«Весной 1957 года сын Хрущева Сергей женился. На даче Хрущева устроили свадьбу. Крепко выпили и произносили речи. Выступил и Хрущев. Как всегда, хорошо рассказал о своей родословной, тепло вспомнил свою маму, а затем как-то вскользь уколол Председателя Совета Министров СССР Булганина. В другое время Булганин промолчал бы, а тут неузнаваемо вскипел и довольно резко сказал: “Я попросил бы выбирать выражения...” Присутствовавшие поняли: Булганин озлоблен против Хрущева. Догадка подтвердилась. Как только кончился обед, Молотов, Маленков, Булганин, Каганович уехали к Маленкову на дачу Хрущев понял, что Булганин
переметнулся в стан его противников, и, был явно озабочен их усилением.
После того как ушли Молотов, Маленков, Булганин, Каганович, ко мне подошел Кириченко (близкий к Хрущеву секретарь ЦК. — Б. С.) и завел такой разговор: “Ты понимаешь, куда дело клонится? Эта компания не случайно демонстративно ушла со свадьбы. Нам нужно... быть ко всему готовыми. Мы на тебя надеемся... Одно твое слово — и армия сделает все, что нужно...”
Я видел, что Кириченко пьян, но сразу же насторожился: “Я тебя не понимаю, куда ты клонишь?”
Кириченко: “Ты что, не видишь, как злобно они разговаривали с Хрущевым? Они — решительные и озлобленные люди... Дело может дойти до серьезного...”
Мне показалось, что Кириченко завел разговор не от своего ума, что подтверждалось следующими его словами: “В случае чего мы не дадим в обиду Никиту Сергеевича...”
Утром 19 июня мне позвонил Маленков и попросил заехать по неотложному делу... Маленков встретил меня очень любезно и сказал, что давно собирался поговорить со мной по душам о Хрущеве. Он коротко изложил свое мнение о якобы неправильной практике руководства со стороны Первого секретаря ЦК Хрущева, указав при этом, что Хрущев перестал считаться с Президиумом ЦК, выступает на местах без предварительного рассмотрения вопросов на Пленуме. Хрущев стал крайне грубым в обращении со старейшими членами Президиума. В заключение он спросил, как лично я расцениваю создавшееся положение в Президиуме ЦК...
Я спросил его: “Вы от своего имени со мной говорите или?..”,
“Я говорю с тобой как со старым членом партии, мнение которого ценю и уважаю...”
Я понял, что за спиной Маленкова действуют более сильные личности, Маленков явно не раскрывает настоящей цели разговора со мной...
Я сказал Маленкову: “Советую вам пойти к Хрущеву и переговорить с ним по-товарищески. Уверен, он вас поймет”. “Ты ошибаешься, — возразил Маленков, — не таков Хрущев, чтобы признать свои действия неправильными, тем более исправить их”.
Я ему ответил: «“Думаю, что вопрос постепенно утрясется”. На этом мы и разошлись. Через несколько часов меня срочно вызвали на заседание Президиума ЦК...
Открыв заседание, Хрущев спросил: “О чем будем говорить?” Слово взял Маленков: “Я выступаю по поручению группы товарищей членов Президиума. Мы хотим обсудить вопрос о Хрущеве, но, поскольку речь будет идти лично о Хрущеве, я предлагаю, чтобы... председательствовал не Хрущев, а Булганин”.
Молотов, Каганович, Булганин и Первухин громко заявили: “Правильно!” Так как группа оказалась в большинстве, Хрущев молча освободил место председателя...
Булганин: “Слово имеет Маленков”. Маленков подробно изложил все претензии к Хрущеву и внес предложение освободить Хрущева от обязанностей Первого секретаря. После Маленкова слово взял Каганович. Речь его была явно злобная, он сказал: “Ну, какой это Первый секретарь: в прошлом он троцкист, боролся против Ленина, политически он малограмотный, запутал дело сельского хозяйства и не знает дела в промышленности...”
Обвинив Хрущева в тщеславии, Каганович предложил принять предложение Маленкова об освобождении Хрущева... и назначить его на другую работу. Молотов присоединился к тому, что было сказано Маленковым и Кагановичем. Против принятия этого решения выступила группа: члены президиума Микояц, Суслов и кандидаты в члены Президиума (без права голосовать) Фурцева, Шверник и я. Мы были в меньшинстве. Чтобы оттянуть время для вызова отсутствующих членов Президиума (Кириченко и Сабурова), мы внесли предложение ввиду важности вопроса сделать перерыв до завтра и срочно вызвать всех членов Президиума... £идя, что дело принимает серьезный оборот, Хрущев' предложил созвать Пленум ЦК. Группа отклонила это предложение, сказав, что вначале снимем Хрущева, а потом можно будет собрать Пленум. Я видел выход из создавшегося положения только в решительных действиях. Я заявил: “Категорически настаиваю на срочном созыве Пленума ЦК. Вопрос стоит гораздо шире, чем предлагает группа. Я хочу на Пленуме поставить вопрос о Молотове, Кагановиче, Ворошилове, Маленкове. Я имею на руках материалы об их кровавых злодеяниях вместе со Сталиным в 37—38-м годах, и им
не место в Президиуме ЦК и даже в ЦК КПСС. И если сегодня группой будет принято решение о смещении Хрущева... Я не подчинюсь этому решению и обращусь немедленно к партии через парторганизации Вооруженных сил”.
Это, конечно, было необычное и вынужденное заявление. Я хотел провести психологическую атаку на антипартийную группу и оттянуть время до прибытия членов ЦК, которые уже перебрасывались в Москву военными самолетами. После этого моего заявления было принято решение перенести заседание на третий день, и этим самым группа проиграла затеянное ими дело против Хрущева. Если мне тогда говорили спасибо за столь решительное выступление, то через 4 месяца я очень сожалел об этом своем решительном заявлении, так как мое заявление в защиту Хрущева обернули в октябре 57-го года против меня...»
Строго говоря, любая попытка оппозиции обратиться за поддержкой к Жукову в тот момент была заранее обречена на провал. В это время Георгий Константинович был приближен к Никите Сергеевичу, активно боролся с культом личности Сталина, которому не мог простить опалу 46-го года, и выступать против Хрущева совершенно не собирался. А к главе КГБ И. А. Серову заговорщики даже не подходили. Иван Александрович дружил с Хрущевым еще с конца 30-х годов, когда они вместе работали на Украине. Правда, если бы Жуков и Серов знали, что и того и другого Хрущев отправит в далеко не почетную отставку (Жукова — в том же 57-м за «бонапартизм», а Серова — в 63-м, за дружбу с англо-американским агентом полковником ГРУ О. В. Пеньковским и разглашение государственной тайны, да еще с разжалованьем из генералов армии в генерал-майоры), то они, наверное, крепко бы подумали, стоит ли защищать Хрущева от «антипартийной группы». Но... «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется».
Чуев спрашивал Молотова:
— Когда вы сняли Хрущева, почему вы не обратились к партийным организациям, к народу?
— Партийные организации были не в наших руках, — сокрушался Вячеслав Михайлович.
— Все равно вы не воспользовались моментом, — мягко укорил главаря «антипартийной группы» поэт.
— Я и не мог этим воспользоваться, — втолковывал Чуеву Молотов. — И надо еще одно добавить к нашему минусу: мы были не подготовлены к тому, чтобы что-то противопоставить. (Попросту говоря, никакой политической программы у «антипартийной группы» не было. — Б. С.). А Хрущев противопоставил — вот при Сталине вам было тяжело, а теперь будет легче. Это подкупало (на самом деле Никита Сергеевич давал понять секретарям обкомов и другим членам ЦК — при Сталине вас отстреливали, а при мне вот уже скоро четыре года как никого не стреляют, Берия со товарищи, дескать, были последними, кого вывели в расход. — Б. С.). Подавляющее большинство голосовало против меня. Обиженных было очень много.
— Но это среди верхушки, — робко возразил Феликс.
— Не только среди верхушки, — со знанием дела заявил Вячеслав Михайлович. — И среди кадров.
— Но рабочий класс был за вас, — упорствовал Чуев.
— Рабочих тоже подкупили: теперь, мол, будет спокойнее, не будет гонки вперед, — вздыхал Молотов.
Микоян так объяснил, почему он выступил на стороне Хрущева:
«Я решительно встал на сторону Хрущева в июне 1957 года против всего остального состава Президиума ЦК, который фактически уже отстранил его от руководства работой Президиума. Хрущев висел на волоске. Почему я сделал все, что мог, чтобы сохранить его на месте Первого секретаря? Мне было ясно, что Молотов, Каганович, отчасти Ворошилов были недовольны разоблачением преступлений Сталина. Победа этих людей означала бы торможение процесса десталинизации партии и общества. Маленков и Булганин были против Хрущева не по принципиальным, а по личным соображениям. Маленков был слабовольным человеком, в случае их победы он подчинился бы Молотову, человеку очень стойкому в своих убеждениях. Булганина эти вопросы вообще мало волновали. Но он тоже стал бы членом команды Молотова. Результат был бы отрицательный для последующего развития нашей партии и государства. Нельзя было этого допустить».
Причины, приведшие Маленкова в состав антипартийной группы, были, на взгляд Микояна, несколько иными, чем у Молотова, Кагановича и Ворошилова:
«А как он (Хрущев. — Б. С.) поссорился с Маленковым? Молотов и Каганович — другое дело. Тут — политика. Их не устраивала десталинизация. А Маленков хотел тоже быть реформатором. Ему с Хрущевым политически было по пути. Только он переоценил пост главы правительства (Ленин был Председателем Совнаркома) и недооценил роль руководителя партийного аппарата. Сам перешел в правительство, отдав партию в руки Хрущеву. Видимо, не представлял себе, на какое вероломство по отношению к нему мог пойти Хрущев. Непростительная ошибка! Ведь он сам при Сталине сделал этот аппарат всемогущим исполнителем воли Генерального (Первого) секретаря.
А причина их ссоры заключалась, по-моему, в следующем. В 1953 году Хрущев первым выступил на Пленуме о мерах для облегчения положения крестьян и о сельском хозяйстве вообще. И очень хорошо, правильно выступил, подняв давно назревшие проблемы. Конечно, большинство в Президиуме ЦК его поддержало. Это была его несомненная заслуга. Но потом на Верховном Совете с этим же выступил Председатель Совета Министров Маленков. Вот народ и приписал ему всю славу. Этого Хрущев ему не забыл и не простил. Он не хотел ни с кем делить ни славы, ни — главное — власти. Уверен, именно по этой причине у них, давнишних друзей, пошел разлад».
Думаю, что указанная Микояном причина ссоры Никиты Сергеевича и Георгия Максимилиановича была не главной. На самом деле именно Маленкова обижало то, что его, признанного вроде бы преемника Сталина, хитрый Хрущев постепенно оттеснил на второй план. Можно предположить, что он надеялся после смещения Хрущева вновь стать всесильным Председателем Совета министров, отдав на откуп Молотову руководство партией.
29 июня 1957 года пленум принял постановление «Об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.». В нем, в частности, говорилось:
«Эта группа, по существу, пыталась противодействовать ленинскому курсу на мирное сосуществование между
государствами с различными социальными системами, ослаб-лению международной напряженности и установлению дружественных отношений СССР со всеми народами мира. Они были против расширения прав союзных республик в области экономического и культурного строительства, в области законодательства, а также против усиления роли местных Советов в решении этих задач. Тем самым антипартийная группа противодействовала твердо проводимому курсу на более быстрое развитие экономики и культуры в национальных республиках, обеспечивающему дальнейшее укрепление ленинской дружбы между всеми народами нашей страны. Антипартийная группа не только не понимала, но и сопротивлялась мероприятиям партии по борьбе с бюрократизмом, по сокращению раздутого государственного аппарата. По всем этим вопросам они выступали против проводимого партией ленинского принципа демократического централизма.
Эта группа упорно сопротивлялась и пыталась сорвать такое важнейшее мероприятие, как реорганизация управления промышленностью, создание совнархозов в экономических районах, одобренное всей партией и народом. Они не хотели понять, что на современном этапе, когда развитие социалистической промышленности достигло огромных масштабов и продолжает быстро расти при преимущественном развитии тяжелой индустрии, — необходимо было найти новые, более совершенные формы управления промышленностью, раскрывающие большие резервы и обеспечивающие еще более мощный подъем советской индустрии.
По вопросам сельского хозяйства участники этой группы обнаружили непонимание новых назревших задач. Они не признавали необходимости усиления материальной заинтересованности колхозного крестьянства в расширении производства продуктов сельского хозяйства. Они возражали против отмены старого, бюрократического порядка планирования в колхозах и введения нового порядка планирования, развязывающего инициативу колхозов в ведении своего хозяйства, что дало уже свои положительные результаты. Они настолько оторвались от жизни, что не могут понять реальной возможности, позволяющей в конце этого года отменить обязательные поставки
сельскохозяйственных продуктов с дворов колхозников. Проведение этой меры, имеющей жизненное значение для миллионов трудящихся советской страны, стало возможным на основе большого подъема общественного животноводства в колхозах и развития совхозов. Участники антипартийной группы вместо поддержки этой назревшей меры выступили против нее.
Они вели ничем не оправданную борьбу против активно поддержанного колхозами, областями, республиками призыва партии — догнать в ближайшие годы США по производству молока, масла и мяса на душу населения. Тем самым участники антипартийной группы продемонстрировали барски пренебрежительное отношение к насущным жизненным интересам широких масс и свое неверие в огромные возможности, заложенные в социалистическом хозяйстве, в развернувшееся всенародное движение за ускоренный подъем производства молока и мяса.
Нельзя считать случайным, что участник антипартийной группы т. Молотов, проявляя консерватизм и косность, не только не понял необходимости освоения целинных земель, но и сопротивлялся делу подъема 35 миллионов гектаров целины, которое приобрело такое огромное значение в экономике нашей страны.
Тт. Маленков, Каганович и Молотов упорно сопротивлялись тем мероприятиям, которые проводил Центральный комитет и вся наша партия по ликвидации последствий культа личности, по устранению допущенных в свое время нарушений революционной законности и созданию таких условий, которые исключают возможность повторения их в дальнейшем...
В области внешней политики эта группа, в особенности т. Молотов, проявляла косность и всячески мешала проведению назревших новых мероприятий, рассчитанных на укрепление мира во всем мире.
Тов. Молотов в течение длительного времени, будучи министром иностранных дел, не только не предпринимал никаких мер по линии МИДа для улучшения отношений СССР с Югославией, но и неоднократно выступал против тех мероприятий, которые осуществлялись Президиумом ЦК для улучшения отношений с Югославией.
Неправильная позиция т. Молотова по югославскому вопросу была единогласно осуждена Пленумом ЦК КПСС в июле 1955 года — “как не соответствующая интересам Советского государства и социалистического лагеря и не отвечающая принципам ленинской политики”.
Тов. Молотов тормозил заключение государственного договора с Австрией и дело улучшения отношений с этим государством, находящимся в центре Европы. Заключение договора с Австрией имело важное значение для разрядки общей международной напряженности. Он был также против нормализации отношений с Японией, в то время как эта нормализация сыграла большую роль в деле ослабления международной напряженности на Дальнем Востоке. Он выступал против разработанных партией принципиальных положений о возможности предотвращения войн в современных условиях, о возможности различных путей перехода к социализму в разных странах, о необходимости усиления контактов КПСС с прогрессивными партиями зарубежных стран.
Тов. Молотов неоднократно выступал против необходимых новых шагов советского правительства в деле защиты мира и безопасности народов. В частности, он отрицал целесообразность установления личных контактов между руководящими деятелями СССР и государственными деятелями других стран, что необходимо в интересах достижения взаимопонимания и улучшения международных отношений...
Убедившись в том, что их неправильные выступления и действия получают постоянный отпор в Президиуме ЦК, который последовательно проводит в жизнь линию XX съезда партии, тт. Молотов, Каганович, Маленков встали на путь групповой борьбы протир руководства партии. Сговорившись между собой на антипартийной основе, они поставили перед собою цель изменить политику партии, возвратить партию к тем неправильным методам руководства, которые были осуждены XX съездом партии. Они прибегли к интриганским приемам и устроили тайный сговор против Центрального Комитета. Факты, вскрытые на Пленуме ЦК, показывают, что тт. Маленков, Каганович, Молотов и примкнувший к ним т. Шепилов, став на путь фракционной борьбы, нарушили Устав партии и выработанное Лениным решение X съезда партии “О единстве партии”».
Пленум постановил:
«Осудить, как несовместимую с ленинскими принципами нашей партии, фракционную деятельность антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова. Вывести из состава членов Президиума ЦК и из состава ЦК тт. Маленкова, Кагановича и Молотова; снять с поста секретаря ЦК КПСС и вывести из состава кандидатов в члены Президиума ЦК и из состава членов ЦК т. Шепилова».
Все было кончено. Больше Вячеславу Михайловичу не довелось играть никакой политической роли. Моральным, хотя и слабым утешением им могло служить только то, что многие их мнения, объявленные в постановлении ошибочными и антипартийными, на самом деле оказались правильными — и насчет целины, и насчет совнархозов.
На XXII съезде партии в октябре 1961 года Хрущев в последний раз заклеймил антипартийную группу. В отчетном докладе он утверждал:
«Против ленинского курса партии выступила фракционная антипартийная группа, в которую входили Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров и примкнувший к ним Шепилов.
На первых порах резкое сопротивление линии партии на осуждение культа личности, на развязывание внутрипартийной демократии, на осуждение и исправление всех злоупотреблений властью, на выявление конкретных виновников репрессий оказывали Молотов, Каганович, Маленков и Ворошилов. Такая их позиция была не случайна: они несут персональную ответственность за многие массовые репрессии в отношении партийных, советских, хозяйственных, военных и комсомольских кадров и за другие явления подобного рода, имевшие место в период культа личности».
Как будто сам Никита Сергеевич или тот же Микоян не отличились на ниве репрессий! Показательно, что среди жертв, упомянутых в хрущевском докладе, блистательно отсутствовала интеллигенция. Ее первый секретарь ЦК ценил куда ниже, чем партийные или хозяйственные кадры.
Хрущев продолжал:
«Вначале эта группа составляла незначительное меньшинство в Президиуме ЦК. Но когда партия развернула борьбу за восстановление ленинских норм партийной и государственной жизни, приступила к решению таких неотложных задач, как освоение целины, перестройка управления промышленностью и строительством, расширение прав союзных республик, улучшение благосостояния советских людей, восстановление революционной законности, фракционная группа активизировала свою антипартийную подрывную деятельность и стала вербовать сторонников внутри Президиума ЦК... Почувствовав, что им удалось сколотить в Президиуме ЦК арифметическое большинство, участники антипартийной группы пошли в открытую атаку, стремясь изменить политику в партии и стране, политику, намеченную XX съездом партии.
Сговорившись на своих тайных сборищах, фракционеры потребовали внеочередного заседания Президиума. Они рассчитывали осуществить свои антипартийные замыслы, захватить руководство партией и страной. Антипартийная группа хотела поставить членов ЦК, всю партию перед свершившимся фактом.
Но фракционеры просчитались. Члены ЦК, которые в то время были в Москве, узнав о фракционных действиях антипартийной группы внутри Президиума, потребовали немедленного созыва Пленума Центрального Комитета.
Пленум Центрального Комитета, состоявшийся в июне 1957 года, решительно разоблачил и идейно разгромил антипартийную группу... Будучи в ходе Пленума идейно разгромленными и оказавшись перед лицом единодушного осуждения Пленумом ЦК, участники антипартийной группы выступили с признанием того, что у них был сговор, с признанием вредности своей антипартийной деятельности. На Пленуме с признанием своих ошибок выступил т. Ворошилов, который заявил, что его “попутали фракционеры” и что он полностью осознает свои ошибки и решительно осуждает их, как и всю подрывную деятельность антипартийной группы.
Постановление Пленума ЦК об антипартийной группе было, как вы знаете, принято единодушно, за него голосовали и участники антипартийной группы, за исключением Молотова, который при голосовании воздержался.
Позднее при обсуждении итогов Пленума в первичной партийной организации Молотов также заявил, что считает решение Пленума правильным и присоединяется к этому решению».
А в заключительном слове Никита Сергеевич вспомнил, как после провала заговора ему позвонил Каганович и просил не делать с членами антипартийной группы того, что с ними наверняка бы сделал Сталин. Хрущев заверил Кагановича, что он его не за того принимает:
«Характерный разговор был у меня с Кагановичем. Это было на второй день после окончания работы июньского Пленума ЦК, который изгнал антипартийную группу из Центрального Комитета. Каганович позвонил мне по телефону и сказал:
— Товарищ Хрущев, я тебя знаю много лет. Прошу не допустить того, чтобы со мной поступили так, как расправлялись с людьми при Сталине.
А Каганович знал, как тогда расправлялись, потому что он сам был участником этих расправ (о собственных обширных знаниях в этой деликатной сфере Никита Сергеевич опять предпочел промолчать. — Б. С). Я ему ответил:
— Товарищ Каганович! Твои слова еще раз подтверждают, какими методами вы намеревались действовать для достижения своих гнусных целей. Вы хотите вернуть страну к порядкам, которые существовали при культе личности, вы хотели учинять расправу над людьми. Вы и других мерите на свою мерку. Но вы ошибаетесь. Мы твердо соблюдаем и будем придерживаться ленинских принципов. Вы получите работу, — сказал я Кагановичу, — сможете спокойно работать и жить, если будете честно трудиться, как трудятся все советские люди.
Вот какой разговор был у меня с Кагановичем. Этот разговор показывает, что когда фракционеры провалились, то думали, что с ними поступят так, как они хотели поступить с кадрами партии, если бы им удалось осуществить свои коварные замыслы. Но мы, коммунисты-ленинцы, не можем становиться на путь злоупотребления властью».
Представляю, каково было Молотову читать стенограмму съезда, особенно насчет того, что он, как и другие, думал мерить Хрущева «на свою мерку», тогда как
Никита Сергеевич — подлинный коммунист-ленинец, чуждый злоупотреблений властью. Ведь в действительности Никита Сергеевич если и не был чемпионом по репрессиям, то уж «бронзу» — третье место среди членов Политбюро после Сталина и Молотова наверняка заслужил. Так что опасения, что фракционеров поставят к стенке, как их предшественников в 30-х годах, имели под собой все основания. Но Хрущев не стал расстреливать антипартийную группу, чтобы не пугать номенклатурную братию возвращением сталинских времен.
И еще Никита Сергеевич удивлялся:
«Возникает вопрос — как попал товарищ Ворошилов в эту группу? Некоторым товарищам известны неприязненные личные отношения между Ворошиловым и Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем, между Маленковым и Ворошиловым.
И вот, несмотря на такие взаимоотношения, они все же объединились. Почему, на какой почве? Потому, что после XX съезда они боялись дальнейшего разоблачения их незаконных действий в период культа личности, боялись, что им придется отвечать перед партией. Ведь известно, что все злоупотребления производились тогда не только при их поддержке, но и при их активном участии. Боязнь ответственности, стремление возродить порядки, существовавшие в период культа личности, — вот что объединяло участников антипартийной группы, несмотря на личную неприязнь между ними».
Впрочем, Ворошилова, вовремя сменившего фронт и переметнувшегося на сторону Хрущева, Никита Сергеевич простил, тихо отправив на пенсию в 1960 году и даже присвоив ему перед этим звание Героя Социалистического Труда.
О себе, любимом, и своей роли в репрессиях Никита Сергеевич и на этот раз скромно не упомянул. Он утверждал, что «антипартийная группа хотела поставить к руководству Молотова. Тогда, конечно, никаких разоблачений этих злоупотреблений властью не было бы... Уже после того, как состоялся XX съезд, который осудил культ личности, антипартийная группа предпринимала все, чтобы разоблачение не пошло дальше. Молотов говорил, что
в больших делах бывает плохое и хорошее. Он оправдывал действия, которые были в период культа личности, и предрекал, что подобные действия возможны, что возможно их повторение в будущем».
Представим на минуту, что каким-то чудом группе Молотова в июне 1957 года удалось бы одержать победу. Тогда царствование Вячеслава Михайловича в качестве генсека (он тоже наверняка переименовал бы бесцветного «Первого» секретаря в «Генерального») продлилось бы, скорее всего, аж до ноября 1986 года, если, конечно, бурная государственная деятельность не укоротила бы его жизнь. Все-таки одно дело — тихий пенсионер и совсем другое — активно действующий политик. Так вот, в этом случае в 1986 году у нас бы не только никакой перестройки не было, но и наследником Молотова стал бы какой-нибудь правоверный сталинист. И в начале XXI века Россия жила бы как какая-нибудь Северная Корея. Конечно, если бы прежде Вячеслав Михайлович не довел дело до самоубийственного термоядерного конфликта. Но для того чтобы подобный сценарий реализовался, Молотов должен был быть совсем другим человеком — по-настоящему самостоятельным и решительным.
На съезде антипартийную группу помянула Е. А. Фур-цева. Она заявила:
«Они были против реабилитации невинно пострадавших людей, потому что сами повинны в массовых репрессиях и грубых нарушениях законности, которые так трагически дорого обошлись нашему народу...
Незадолго до июньского Пленума Центрального Комитета состоялось заседание Президиума ЦК... Обсуждался вопрос о полной, в том числе партийной, реабилитации бывших крупных руководителей нашей армии — Тухачевского, Якира, Уборевича, Егорова, Эйдемана, Корка и других. Невиновность их была столь очевидна, что даже Молотов, Маленков, Каганович и другие высказались за их реабилитацию, хотя в свое время приложили руку к их трагической гибели. И тогда при обсуждении Никита Сергеевич очень спокойно, но прямо спросил их: когда же вы были правы? Этот прямой и честный вопрос привел их в ярость и замешательство. (В данном случае Хрущеву бояться было нечего — к гибели Тухачевского и его товарищей он и в самом
деле отношения (не имел, а о судьбе украинской и московской номенклатуры, отстрелянной по его приказу, тогда Хрущева никто не спрашивал. — Б. С.) Маленков даже заявил по адресу Никиты Сергеевича — что вы нас запугиваете Пленумом. Но ведь это было не так. Они боялись Пленума, так как знали, что будут на нем разоблачены, и делали все, чтобы сорвать его созыв. Их злодеяния дорого обошлись народу, поэтому, говоря о тяжелых последствиях культа личности Сталина, нельзя обойти молчанием тех, которые писали свои зловещие резолюции и тем самым решали судьбу честных коммунистов. Я имею в виду Кагановича, на совести которого сотни репрессированных и расстрелянных руководящих работников железнодорожного транспорта, начиная от начальников дорог и кончая начальниками политотделов».
Молотова же Екатерина Алексеевна обвинила, среди прочего, в оппозиции к объединению строительных организаций в Москве и несогласии с заменой отраслевых министерств экономическими районами.
Глава КГБ А. Н. Шелепин упомянул о расстрельных списках, которые подписывали Сталин, Молотов и Каганович. Шелепин подчеркнул, что «о жестоком отношении к людям говорит ряд циничных резолюций Сталина, Кагановича, Молотова, Маленкова и Ворошилова на письмах и заявлениях заключенных». И привел ряд красноречивых примеров, связанных с Молотовым:
«В июне 1937 г. один из работников Госплана СССР направил письмо Сталину, в котором указал, что член бюро Комиссии Советского Контроля при Совнаркоме Ломов Г. И. (Опоков) якобы имел дружеские отношения с Рыковым и Бухариным. Сталин наложил на это письмо резолюцию: «Т-щу Молотову. Как быть?» Молотов написал: «За немедленный арест этой сволочи Ломова. В. Молотов». Через несколько дней Ломов был арестован, обвинен в принадлежности к правооппортунистической организации и расстрелян. Он сейчас реабилитирован... Молотов дал санкцию на арест первого секретаря Уральского обкома партии Кабакова, наркома легкой промышленности Ухано-ва, председателя Дальневосточного крайисполкома Крутова и многих, многих других товарищей. И после этого
Молотов называет себя ленинцем! Это кощунство над именем и памятью Ленина! Ленин этому не учил и никогда так не поступал в отношении своих товарищей по классу и борьбе».
Владимир Ильич действительно товарищей по партии в расход не выводил, зато с представителями эксплуататорских классов и мелкой буржуазии, включая крестьянство, не церемонился и санкционировал их массовое уничтожение в ходе «красного террора».
Шелепин призвал КПК привлечь к строгой партийной ответственности членов антипартийной группы, поскольку «некоторые члены антипартийной группы, и прежде всего Молотов, до сих пор не сделали должных выводов из сурового урока, ведут себя неправильно, двурушничают перед партией, стоят на старых позициях».
Насчет того, что Вячеслав Михайлович всю жизнь стоял на старых позициях, «железный Шурик» был, безусловно, прав.
Интересные подробности драматических событий июня 1957 года были приведены в выступлении секретаря ЦК Н. Г. Игнатова, которому всего лишь через три года довелось сыграть активную роль в свержении Хрущева:
«Когда обсуждался вопрос об освоении целины, Молотов ожесточенно возражал. Он заявлял, это его подлинные слова, что целина — нестоящее дело, что она не окупит вложенных средств. Надо ли, товарищи, доказывать теперь вредность и вздорность этих возражений? Молотов надменно считал и продолжает считать себя знатоком всех вопросов международной и внутренней жизни. Но ведь хорошо известно, что Молотов был и остается путаником в понимании международных отношений и внутреннего развития страны. Он много напутал в вопросе о путях и возможностях построения коммунизма в нашей стране, в оценке сил социализма и империализма, в вопросах о сосуществовании государств с различным социальным строем, о возможности предотвращения мировой войны, о формах перехода различных стран к социализму. И это не случайно. Молотов был и остается безнадежным догматиком, потерявшим представле-
ние о реальной действительности. Он не шел в ногу с нашей партией».
Как оказалось потом, насчет целины Вячеслав Михайлович как в воду глядел. Урожаи на целинных землях в долгосрочной перспективе, особенно с учетом истощения и засоления почв, не оправдывали сделанные вложения, которые гораздо эффективнее было бы использовать в Нечерноземье средней полосы. Что же касается борьбы социализма и империализма, то Молотов тоже был прав в том, что в условиях мирного сосуществования будет происходить постепенная эрозия социалистического строя, которая рано или поздно приведет к краху СССР и его со-юзников-сателлитов. Но и предлагавшаяся им в качестве альтернативы конфронтация, вплоть до военной, могла привести только к самоубийству человечества в термоядерной войне. А любая конфронтация, которую в принципе невозможно довести до решительного столкновения, неизбежно рано или поздно свелась бы к мирному сосуществованию, причем какое-то экономическое сотрудничество с «капиталистами» все равно было неизбежно. Значит, крах социализма все равно произошел бы, только в другие сроки.
Игнатов продолжал:
«Члены ЦК направили на заседание Президиума своих представителей с заявлением о необходимости созвать Пленум ЦК. Позвольте огласить это заявление:
“В Президиум Центрального Комитета.
Нам, членам ЦК КПСС, стало известно, что вами обсуждается вопрос о руководстве Центральным Комитетом и руководстве Секретариатов. Нельзя скрывать от членов Пленума ЦК такие важные для всей нашей партии вопросы. В связи с этим мы, члены ЦК КПСС, просим срочно созвать Пленум ЦК и вынести этот вопрос на обсуждение Пленума. Мы, члены ЦК, не можем стоять в стороне от вопроса руководства нашей партии”.
Когда доложили Президиуму об этой просьбе, фракционеры подняли страшный шум.
Товарищи! С этой высокой трибуны не стоит рассказывать, какие гнусные вещи они говорили членам ЦК, когда те пришли. Как вы думаете, почему? Да как это члены ЦК
осмелились к ним обратиться?! Товарищ Хрущев и другие поддерживавшие его товарищи решительно настаивали на приеме членов ЦК. И тогда это так называемое “арифметическое большинство”, фракционеры, предложили, чтобы членов ЦК принял не Президиум, а один из их сторонников — Булганин или Ворошилов. Увидев, куда гнет эта группа, Никита Сергеевич Хрущев заявил, что и он пойдет на встречу с членами ЦК, и настоял на своем. И какое это было счастье для судьбы нашей партии!»
Это восклицание было встречено бурными аплодисментами. Тут Хрущев подал одну из своих многочисленных реплик:
«Они хотели лишить меня возможности встретиться с членами ЦК и выделили Ворошилова на это дело. Я сказал: Пленум избрал меня Первым секретарем ЦК и никто не может лишить меня права встречи с членами Центрального Комитета Коммунистической партии. Меня избирал Пленум ЦК, поэтому он и должен принять решение. Как Пленум ЦК решит, так и будет».
Это заявление опять встретили бурными аплодисментами. Игнатов продолжил:
«Тогда Президиум уполномочил товарищей Хрущева и Микояна, а также Ворошилова и Булганина встретиться с членами Центрального Комитета».
«Как видите, двое на двое», — сострил Никита Сергеевич.
Так фракционеры допустили еще одну ошибку. Раз уж Хрущев настоял на своем праве беседовать с членами ЦК, то посылать вместе с ним надо было не периферийных Ворошилова и Булганина, а настоящих главарей — Молотова и Кагановича. Самое время было продемонстрировать партии ее нового лидера. Но видимо, Вячеслав Михайлович понимал, что коллеги по ЦК могут попросту испугаться его, и сделал ставку на двух маршалов, один из которых (Булганин) был маршалом «чернильным» и никогда не пользовался авторитетом ни в народе, ни в ЦК.
Игнатов добавил:
«Как видите, фракционеры не хотели встречаться с членами ЦК, о чем так правдиво и ярко рассказал Никита Сергеевич. Более того, было дано указание не пропускать членов ЦК в Кремль, и многие из них буквально нелегально пробирались к месту заседания Президиума ЦК. Это, товарищи, неслыханно, это — позор!»
«Позор!» — охотно поддержали его делегаты.
Шелепин поведал съезду о том, что «Булганин, злоупотребляя своим служебным положением, в июньские дни 1957 года... расставил в Кремле свою охрану, выставил дополнительные посты, которые никого не пропускали без его указания в здание Правительства, где проходило заседание Президиума ЦК КПСС. Это говорит о том, что заговорщики готовы были пойти на самые крайние меры для достижения своих грязных целей».
Тут Игнатов обрушился на Молотова:
«На Пленуме участники антипартийной группы оказались перед монолитной стеной Центрального Комитета. Когда они увидели, что Пленум единодушно поддерживает товарища Хрущева в его принципиальной борьбе за проведение ленинского курса, они стали трусливо каяться, но им нельзя было верить. Они двурушничали до Пленума, на Пленуме и после Пленума. В этом пришлось убедиться, в частности, по поведению Молотова, когда наша делегация была на XIII съезде Монгольской народно-революционной партии. В то время Молотов был послом в Монголии.
По просьбе партийной организации посольства им была сделана информация об июньском Пленуме ЦК и о других практических вопросах деятельности ЦК. Молотову тогда на партийном собрании задали вопрос, потребовали от него ответа, признает ли он решения XX съезда партии и согласен ли он с проводимыми Центральным Комитетом мероприятиями. Молотов ответил на собрании, что он согласен.
Но через два дня в беседе с одним из членов делегации пытался убедить его, что не следует реорганизовывать МТС и продавать колхозам технику (как раз тогда Пленум решал эти вопросы) и торопиться с осуществлением других намеченных мероприятий. Такое поведение Молотова характеризует его как двурушника».
За все эти страшные прегрешения Игнатов предложил исключить Молотова, а заодно и Кагановича с Маленковым из партии. Несколько месяцев спустя после съезда это было осуществлено.
Вот как прокомментировал историю с «антипартийной группой» писатель Владимир Солоухин в своей книге «Последняя ступень (Исповедь вашего современника)»:
«Группа сообщников (соратников, пардон!) решила отстранить Хрущева от власти и взять власть в свои руки. Политбюро большинством голосов проголосовало против Хрущева. Генеральным секретарем КПСС был избран Вячеслав Михайлович Молотов. Политбюро продолжало заседать уже под его руководством. Молотов произнес пятичасовую речь, разоблачающую и критикующую деятельность Хрущева. Из зала заседаний никого не выпускали. Фурцева отпросилась в туалет. Как женщине, ей разрешили выйти. Она позвонила Жукову и Семичастному, то есть главнокомандующему и министру КГБ. Моментально на военных реактивных самолетах свезли из областей секретарей обкомов — членов ЦК. Они столпились в “предбаннике”. Стали требовать, чтобы их пустили на заседание. Их пустили. Надеясь, видимо, убедить либо надеясь, что, поставленные перед фактом, они подчинятся Молотову как Генсеку КПСС. Но их свезли на военных самолетах, и встречал их на аэродроме министр КГБ Семичастный. Вероятно, он успел сказать каждому из них два-три словечка. Они, войдя в зал заседаний, проголосовали против группы Молотова, за Хрущева. Хрущев, таким образом, победил. По всей стране были проведены партийные собрания в низовых партийных организациях. Мы все один за другим вставали и дружно клеймили Молотова, Маленкова, Кагановича, Ворошилова и примкнувшего к ним Шепилова. Все превозносили Никиту Сергеевича. Но у многих, я заметил, было подавленное состояние. Тот, кто хоть на минуту задумался над происходящим, не мог не вообразить, что если бы Молотов остался секретарем (если бы не привезли на истребителях членов ЦК), то сейчас по всей стране тоже проходили бы низовые партсобрания, и все мы дружно ругали бы Хрущева, восхваляя Молотова, Ворошилова и всю группу. Так на самом деле мы
и стали ругать Хрущева, превозносимого в течение десяти лет, после 14 октября 1964 года, когда его спихнули и власть в стране перешла в другие руки».
Тот же Солоухин справедливо заметил, что «своих спасителей, Фурцеву и Жукова, он (Хрущев. — Б. С.) очень быстро “отблагодарил”, отодвинув подальше. Это естественно: лучше иметь вокруг себя людей, которые тебе обязаны, нежели людей, которым ты обязан».
Быть кому-то обязанным Никита Сергеевич не желал, в результате чего, во многом, и рухнул в октябре 64-го.
Все свидетельства, как друзей и соратников, так и врагов Молотова, разнятся во многих деталях. Сейчас уже, наверное, невозможно установить абсолютную истину: кто что именно сказал и кто в каком порядке выступал. Но бросается в глаза, что Молотов на заседании Президиума ЦК держался довольно пассивно, в значительной мере отдав инициативу Кагановичу. А когда формальный глава заговорщиков устраняется от активной борьбы — дело заговора трещит по швам.
Вообще все действия заговорщиков оставляют впечатление какой-то импровизации. Чувствуется отсутствие какого-либо продуманного плана действий. Кажется, что Молотов и его товарищи надеялись на то, что Хрущев сразу же дрогнет и поднимет руки кверху. А когда тот вдруг заупрямился, они не знали, что делать. Нет, не годились «тонкошеие вожди» для государственных переворотов...
Но Сталин и не мог терпеть в своем окружении чересчур умного и решительного человека. Ведь такой «кронпринц» создавал потенциальную угрозу власти Сталина еще при жизни диктатора. И самостоятельно властвовать члены «антипартийной группы» просто не умели. Хрущев оказался человеком куда более волевым, чем Маленков или Молотов, да к тому же контролировал секретариат ЦК и имел своих ставленников в качестве большинства секретарей обкомов.
Шея у Никиты Сергеевича оказалось потолще, чем у его противников. Поэтому Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шепилов блистательно Провалились. Если бы они позаботились о какой-либо силовой поддерж-
ке, хотя бы о паре десятков офицеров и генералов армии и КГБ, как это было при аресте Берии, ход событий мог бы развернуться по-другому. Если бы Хрущева арестовали прямо на заседании Президиума, то далеко не факт, что секретари обкомов и главы КГБ и Минобороны, увидев Никиту Сергеевича в «браслетах», рискнули бы выступить в его защиту. В то же время обеспечить себе содействие со стороны силовых структур Молотову и его товарищам в условиях лета 57-го было чрезвычайно трудно, а на уровне первых лиц этих ведомств — практически невозможно.
Во главе Министерства обороны тогда стоял, как мы уже говорили, близкий к Хрущеву маршал Жуков, а во главе КГБ — давний друг Никиты Сергеевича генерал Серов. Только МВД возглавлял сравнительно нейтральный Н.П. Дудоров, но и он тяготел скорее к Хрущеву, чем к Маленкову и Молотову. Кроме того, Дудоров не был профессионалом сыскного дела и вплоть до 1945 года работал в сфере строительства.
В любом случае Молотову, Маленкову, Кагановичу, Булганину и прочим было бы гораздо труднее уговорить офицеров и генералов арестовать Хрущева в 57-м, чем Хрущеву, Маленкову и Булганину в 53-м уговорить тех же военных арестовать Берию. Ведь тогда против Лаврентия Павловича выступали глава правительства, министр обороны и фактический руководитель партии. Теперь же, в 57-м, арестовывать пришлось бы главу партии, а на стороне заговорщиков был только Председатель Совета министров, не игравший большой политической роли и не пользовавшийся популярностью в стране. Вряд ли бы нашлось много офицеров, рискнувших участвовать в заговоре, зато о подобных разговорах почти наверняка узнали бы и Жуков, и Серов и довели бы это до сведения Хрущева.
Я думаю, не случайно попытка свержения Хрущева удалась только тогда, когда ее возглавили люди, которые во времена Большого террора 1937—1938 годов находились на достаточно низких номенклатурных должностях либо вообще вступили в активную политическую жизнь лишь в последние сталинские годы и не привыкли бояться Сталина. В команде, подготовивший переворот, возглавленный Брежневым, присутствовали бойцы старой гвардии (Косыгин, Суслов), но в основном это были представители «непо-
ротого поколения» руководителей, в большинстве своем выдвинутые самим Хрущевым. Они Никиты Сергеевича не боялись и, опираясь на силовые структуры, готовы были идти до конца, если бы Хрущев вдруг заартачился.
Молотов же и другие участники «антипартийной группы» рассчитывали только на мирный вариант взятия власти. Они надеялись, что удастся уговорить Хрущева добровольно отказаться от поста Первого секретаря ЦК КПСС, как в 1955 году, когда с поста Председателя Совета министров ушел Маленков. При этом Молотов со товарищи готовы были оставить Хрущева в составе Президиума ЦК и предоставить ему один из министерских постов, например сельского хозяйства.
«Антипартийная группа» явно опасалась доводить дело до обострения, а тем более — до силового противостояния. Ее участники не забывали, что Никита Сергеевич все же зарекомендовал себя как один из самых кровавых сталинских палачей. Тогда в случае неудачи Молотов, Каганович, Маленков и прочие почти наверняка разделили бы печальную судьбу оппозиционеров 20-х годов. А так все дело можно было попытаться свести к обычным разногласиям, неизбежным в любом здоровом коллективе.
\
Последние годы на службе
После вывода из состава ЦК КПСС Молотова назначили послом в Монголии. Для бывшего главы МИДа это было серьезным унижением. В свое время он знал еще Чой-балсана, который был, по его словам, «малокультурный, но преданный СССР человек». Поэтому по его рекомендации после смерти Чойбалсана ставка была сделана на Це-денбала, хорошие отношения с которым сохранились и в дальнейшем, что, очевидно, повлияло на выбор места ссылки для Вячеслава Михайловича. Позже Молотов рассказывал о Цеденбале Чуеву:
«Он к нам хорошо относится... Они только по-русски, по-монгольски не говорят... Жена у него рязанская. Бесцеремонная баба такая (тем не менее Жемчужина с ней дружила. — Б. С.). Цеденбал выучился в Иркутском финансовом институте и там женился на русской. Дома у него библиотека. Выпить любит. Крепко».
Всем хорош был русофил Цеденбал, одним лишь плох — позаимствовал у русских также и пристрастие к русской водке. А еще в состоянии подпития Цеденбал любил говаривать членам монгольского Политбюро: «Я могу каждого из вас застрелить», что было святой, истинной правдой. Чойбалсан, кстати, тоже не дурак был по части выпивки.
Интересно, что немало тяжелых алкоголиков было и среди поставленных после войны лидеров стран Восточной Европы, в укреплении которых у власти Вячеслав Михайлович сыграл важную роль, — Готвальд, Берут... Хотя решал все вопросы, в том числе по персоналиям, конечно же Сталин. То ли алкоголик скорее мог смириться с положением безропотного советского сателлита, то ли Сталин считал, что полезно иметь у власти в «странах народной
демократии» людей ущербных, так как на них легче будет воздействовать.
Как известно, в Монголии Молотов вел себя чересчур вольно и даже позволял себе критику решений Пленума ЦК. Кроме того, Хрущев, скорее всего, опасался, что Вячеслав Михайлович может установить какие-то несанкционированные контакты с руководством монгольских коммунистов, вполне сталинистским по духу, а через них, чем черт не шутит, и с китайцами — наиболее резкими критиками решений XX съезда. Поэтому Молотова предпочли перевести в Европу на абсолютно декоративный пост.
5 сентября 1960 года Молотова назначили Постоянным представителем СССР при Международном агентстве по атомной энергии в Вене.
Сам Вячеслав Михайлович вспоминал об этом:
«Потом каждый год я посылал в ЦК одно-два письма с критикой их политики. Последнее — с критикой Программы партии, в которой Хрущев наобещал народу коммунизм к 80-му году. Программу я считал фальшивой, антиленин-ской. Хрущев поднял этот вопрос, и меня исключили из партии. А Маленков и другие ничего об этих письмах не знали, жили себе. Но одного меня из партии исключать неудобно — нужна «антипартийная» группа, исключили четверых... Шепилова присоединили, а он ни при чем...
Я написал письмо в ЦК из Женевы, когда был в Комиссии по атомной энергии, — о том, что Хрущев продолжает повторять ошибку Сталина, который говорил, что коммунизм можно построить в капиталистическом окружении. Меня вызвали. Исключили из партии в первичной организации Совмина. Больше всех свирепствовали Лесечко и какие-то женщины, которых Хрущев привел. Исключили, я обжаловал. На Бюро тоже исключили. Я снова — заявление. Потом Свердловский райком, затем МГК исключал. Я обжаловал. Демичев резко выступал. Взял у меня партбилет... Единственный, кто вел себя порядочно, — Шверник. Он не стал против меня голосовать, отказался участвовать в этом деле. Я подавал четыре заявления с просьбой восстановить меня в партии, писал Брежневу. Ни разу не было ответа... Когда меня исключили из партии, такие, как Сердюк, кричали о репрессиях (3. Т. Сердюк с 1961 года был первым заместителем председателя Комитета партийного контроля и рассматривал
дело Молотова. — Б. С.). Но ведь меня7то из партии исключали не за репрессии, а за то, что мы выступили против Хрущева, хотели снять его! Когда на XX съезде были осуждены репрессии, меня не только не исключили из партии, но я был избран в состав Политбюро!»
Правда, на прямой вопрос Феликса Чуева: «Когда вас исключали из партии, вам репрессии вменяли в вину?» — Молотов вынужден был признать:
«Вменялись. Дескать, антипартийная группа боялась своего разоблачения. Кстати, бояться надо было именно Хрущеву. Игра была сыграна неплохо...»
И еще добавил:
«Хрущева я не считаю преданным коммунистом. Человек он способный, безусловно. Но вился только. К идеологии не имел никакого серьезного отношения. То, что так легко ему удалось расправиться с Маленковым, Кагановичем и мной, конечно, было неспросто, потому что большевистской устойчивости настоящей в этот период не было. Должны меня наказать — правильно, но исключать из партии? Наказать, потому что, конечно, приходилось рубить, не всегда разбираясь. А я считаю, мы должны были пройти через полосу террора, я не боюсь этого слова, потому что разбираться тогда не было времени, не было возможности, а мы рисковали не только советской властью в России, но и интернациональным коммунистическим движением».
Это примерно то же самое, как если бы Гиммлер, к примеру, не принял яд в мае 45-го, а, благополучно избежав Нюрнберга, жил добропорядочным бюргером-пен-сионером где-нибудь в родной Баварии и жаловался внукам, что вот, мол, гады союзники-оккупанты развалили такое прекрасное государство, как гитлеровский рейх, запретили такую сильную и действенную партию, как НСДАП, и теперь все, кому не лень, мажут грязью святые имена Гитлера, Геринга, да и его, Гиммлера, и не признают их исторических заслуг. А еще были в Германии такие замечательные войска СС, которые прекрасно сражались, а теперь вот их тоже огульно поливают на чем свет стоит, не заботясь о патриотическом воспитании молодежи...
Молотов оказался не единственным из «антипартийной группы», кто был исключен из КПСС. Партбилетов лишились также Маленков, Шепилов и Каганович, но сохранили Ворошилов, вовремя переметнувшийся на сторону Хрущева, Булганин, Сабуров и Первухин. Письмо Молотова было тут ни при чем, хотя оно еще раз продемонстрировало Хрущеву, что битому и на пленуме, и на съезде Молотову все неймется. Первичная организация и райком, исключая Молотова из партии в феврале 1962 года, выполняли указание Хрущева об изгнании из рядов партии вождей оппозиции. Одновременно с отставкой для Молотова подоспела и его персональная пенсия.
Впоследствии из числа исключенных из партии крамольников восстановили только двоих — Шепилова в 1976 году и Молотова в 1984-м.
\
Палач на пенсии
Для Вячеслава Михайловича началась тихая и размеренная жизнь пенсионера. Его жилищные условия, по сравнению с прежними временами, несколько ухудшились. Сначала Молотов, после того как обосновался в Москве, жил в квартире в Кремле. После смерти Сталина он переселился в квартиру на Ленинских горах и сохранил дачу в Усове. После 1957 года Вячеслава Михайловича переместили в квартиру на улице Грановского и дачу в Усове заменили на гораздо более скромную в Жуковке. Большую библиотеку он оставил в квартире на Ленинских горах. В бытность свою в правительстве Вячеслав Михайлович отдыхал также в Крыму, сначала на даче в Мухалатке, а потом в Мисхоре.
Многие узники, вышедшие из ГУЛАГа, мечтали расправиться с главным сталинским подручным, но дальше мечтаний дело не пошло. Так, один из героев солженицынско-го «Архипелага», Георгий Тэнно, совершивший дерзкий побег из лагеря, «говорил, что, умирая, непременно уведет за собой десяток убийц, и первого среди них — Вячика Карзубого (Молотова), и еще непременно — Хвата (следователя по делу Вавилова). Это — не убить, это — казнить, раз государственный закон охраняет убийц... Он пожелал похорониться в Эстонии... А Молотов остался безопасно перелистывать старые газеты и писать свои мемуары палача. А Хват — спокойно тратить пенсию в 41-м доме по улице Горького».
Портрет Молотова на пенсии оставил нам Феликс Чуев, впервые познакомившийся с ним в 1969 году:
«Что сразу бросалось в глаза — скромен, точен и бережлив. Следил, чтобы зря ничего не пропадало, чтоб свет, например, попусту не горел в других комнатах. Вещи носил подолгу — в этой же шапке, в том же пальто он еще на правительствен-
ных снимках. Дома — плотная коричневая рубаха навыпуск, на праздник — серый костюм, темный галстук».
Молотов говорил Чуеву:
«Налейте себе коньячку, как Сталин говорил — для фундаменту! И мне на копейку можно. А эту пустую пора убрать. Микоян говорил: “Пустая бутылка керосином пахнет”».
В 1970 году умерла Полина Жемчужина. Это стало для Вячеслава Михайловича ударом, но он смог от него довольно быстро оправиться. После смерти жены за Молотовым ухаживали племянница Жемчужиной Сара Михайловна Голованевская и ее подруга Татьяна Афанасьевна Тарасова.
Внук Молотова, известный политолог Вячеслав Алексеевич Никонов, в интервью украинской газете «Факты» отношение деда к бабке назвал «трогательным». И подчеркнул:
«Они никогда не ссорились, постоянно ворковали, вместе ходили на прогулки. Дед всегда любил гулять, поэтому предпочитал московской квартире на улице Грановского, где на одной лестничной площадке была и квартира моих родителей, госдачу на Ленинских горах. Этот особняк после моего рождения семья Молотовых занимала еще лишь год... С Ленинских гор мы переехали сначала на летнюю дачу в доме отдыха “Юность” Министерства иностранных дел, а затем — в Жуковку. Здесь Вячеслав Михайлович проводил большую часть времени, так как его московские прогулки превращались в многолюдные шествия. А толпы любопытствующих не нравились ни ему, ни властям.
Конечно, дед чувствовал пёред бабушкой какую-то вину, хотя я бы не винил его за 1949 год. Что, собственно, он мог тогда сделать? Вячеслав Михайлович спасал и ее, и себя, и дочь, предоставляя таким образом шанс родиться внукам. За это не имею ни малейшего права, ни желания осуждать деда! Тем более что у меня есть основания благодарить его не только за то, что он был отцом моей матери, но и за спасение в буквальном смысле моей жизни. В трехлетием возрасте, отдыхая на госдаче в Мухалатке, я свалился с мостика в море и начал тонуть. Сопровождавший меня на прогулке дед нырнул и вытащил меня из воды...
Когда спустя годы выяснилось, что у Полины Семеновны серьезные проблемы со здоровьем (врачи диагностировали рак), ее положили в Центральную клиническую больницу Представьте, в 1970 году деду было 80 лет, а чтобы добраться в ЦКБ из Жуковки, он каждое утро вставал в семь утра, завтракал и шел на электричку Доехав до Филей, пересаживался в метро и отправлялся до станции “Молодежная”, затем на автобусе до больницы. Сидел до вечера возле бабушки, а затем часа полтора ехал обратно. И так каждый день на протяжении полугода! Когда она умерла, деду было, конечно, очень плохо».
Первое время пенсия Молотова была совсем маленькой. Выручала более солидная персональная пенсия жены да пайки в кремлевской столовой. После падения Хрущева и прихода Брежнева персональную пенсию Молотова постепенно повысили — сначала со 120 до 250, а потом и до 300 рублей. Вячеслав Михайлович очень надеялся, что люди, свергнувшие Хрущева, если и не призовут его обратно во власть, то хотя бы реабилитируют в партийном порядке. Но этого не произошло. На упоминание Молотова в печати по-прежнему был наложен запрет. Ему не дозволялось публиковать собственных статей или книг. Фамилию Молотова, так же как и Сталина, лишь изредка поминали в исторических трудах, посвященных Второй мировой войне. При Брежневе ничего не говорилось ни о сталинских репрессиях, ни об «антипартийной группе». Все эти события оказались как бы вычеркнуты из истории. Молотов по этому поводу тяжело переживал.
Свидетельствует Феликс Чуев:
«Однако материальные блага Молотова никогда не волновали. Стол, стулья, диван — все самое простецкое, с алюминиевыми инвентарными номерами. Пожалуй, единственная неказенная вещь — конторка для работы. Аккуратен и бережлив, как свойственно людям его закалки... Дважды в день отправляется гулять, надевает пальто, шляпу, пенсне — настоящий Молотов, каким его привыкли видеть на старых газетных снимках. Шагает по лесным аллеям, постукивая ореховой палочкой, которую ему некогда презентовал британский посол сэр Арчибальд Керр. Молотов бодр, у него всегда рабочее настроение, не скажешь, что ему 79, 85, 95...»
О Хрущеве Вячеслав Михайлович на пенсии отзывался, естественно, самым нелестным образом:
«Он, безусловно, реакционного типа человек, он только примазался к Коммунистической партии. Он не верит ни в какой коммунизм, конечно».
Еще Вячеслав Михайлович переживал, что в последние годы жизни Сталин «пододвинул» к себе Хрущева, а его, Молотова, отдалил.
На пенсии он много читал и говорил Чуеву:
«Я читаю медленно. — Вот Ленин и Сталин умели быстро. Не знаю, болыпбе ли это достоинство, но я всегда завидовал тем, кто умеет быстро читать».
Вячеслав Никонов свидетельствует:
«Я не могу сказать, что у деда было постоянное хобби, но в свое время он охотился и ходил на рыбалку. На пенсии главным было конечно же чтение. Вячеслав Михайлович следил за новейшей художественной литературой и прочитывал все-все толстые журналы: “Новый мир”, “Дружба народов”, “Иностранная литература”... Кроме этого, выписывал “Вопросы экономики”, “Вопросы философии” и другие общественно-политические журналы, не говоря уже о газетах “Правда”, “Известия”...»
Вячеслав Михайлович на пенсии вел исключительно здоровый образ жизни. Он признавался бывшему личному пилоту Сталина главному маршалу авиации А.Е. Голованову:
«Я неплохо сплю, ложусь в одиннадцать вечера, читаю на ночь беллетристику, встаю в йолседьмого, днем сплю минут тридцать — сорок. Мало, но неплохо. Обновляется мозг, приливанье крови... Дважды гуляю по лесу. В одно и то же время обедаю — в час дня... Остальное время читаю, работаю, конечно».
Чуеву же он так рассказывал о своем режиме дня, сопроводив рассказ некоторыми интимными подробностями:
«В двадцать три ложусь, в шесть тридцать встаю. Ночью два раза встаю. По-стариковски полагается. Молодым
был — не вставал. Ну и, когда, конечно, чересчур напьешься... Редко — раз, а большей частью два раза приходится вставать. И обыкновенно засыпаю довольно быстро».
Угрызения совести его явно не мучили.
А вот что о быте Молотова-пенсионера сообщает его внук:
«Не могу сказать, что он был мягким человеком, скорее жестким. Для деда важную роль играло общение, но интересных собеседников у него было не так уж много. Вряд ли они с дочерью разговаривали на политические темы. С зятем, моим отцом — да! — часами беседовали. Когда я подрос, присоединялся к ним.
Дед обладал редким умением организовать свое время, жизнь, постоянно ставил перед собой какие-то цели, хотя по поводу последних у нас с ним возникали разногласия. Это естественно, человек на 66 лет старше... А в общем, это была скала, последний человек из ленинской когорты, глубоко убежденный в собственной правоте, без капли сомнения в том, что его знания — истина в последней инстанции. Трудоголик, работавший по 18 часов в сутки.
...У бабушки все делалось строго по расписанию, но и дед за этим тоже следил. Все садились обедать ровно в 13.30. Когда летом мы жили на даче, приходилось бросать все свои дела на речке, садиться на велосипед и мчаться на обед. Иначе дед мог выругать за недисциплинированность.
Каждый день порядок был один. С утра дед всегда ел чернослив, творог с протертой черной смородиной и кашу с молоком. Пил кофе или чай с молоком.
Как я уже говорил, обед начинался в полвторого. На столе всегда была селедка — всегда! В редком случае она заменялась другой рыбой типа семги. Обязательно салат, чаще из свеклы. Дед очень любил молочные супы, например домашнюю лапшу с горячим молоком. Могли быть щи, уха, суп, борщ с мелко нарезанным чесноком. На второе часто ели рыбу по-польски или бефстроганов с картошкой, кашей. За едой дед выпивал 20-граммовую рюмочку коньяка или красного вина. Заканчивал обед стаканом топленого молока, которое готовили дома — в духовке. После этого Вячеслав Михайлович шел отдыхать, несмотря ни на гостей, ни на праздник, и возвращался только после часа сна.
Ужинали в семь вечера любым вторым блюдом. По заведенному порядку в конце ужина пился чай с молоком, а перед сном — кефир».
По словам Никонова, в семье Молотовых всегда была домработница:
«Бабушка, естественно, ею руководила, гоняя со страшной силой. Стол в гостиной обязательно сервировался, поэтому прислуга должна была знать, что салфетку следует класть только так, а не иначе. Последняя домработница, Таня, работала у дедушки больше 20 лет, и ей можно было не говорить, как надо. Таня лучше всех знала, что он хочет. Когда бабушки не стало, заниматься хозяйством помогала ее племянница Сара Михайловна...
Самым большим праздником был День Победы. В праздничные дни на дачу приезжала масса народу, на стол подавался достаточно серьезный ассортимент блюд. До застолья все гости, беседуя, прогуливались по лесу. За праздничным столом дед обязательно поднимал бокал “За неизвестного Верховного главнокомандующего”. Второй его обязательный тост “За здоровье всех присутствующих!”...
Когда вечерами мы собирались у телевизора и на экране появлялся Никита Сергеевич, это вызывало у всех приступы смеха. И дед, и мои родители комментировали его неудачные слова, выражения, манеру поведения. Словом, Хрущев воспринимался как некое чучело гороховое».
Незадолго до смерти Молотов рассказывал Чуеву:
«Всю жизнь меня подслушивают. Чекисты мне говорили, я не проверял. Ну, чекисты ко мне хорошо относились. Прямо говорят — поосторожней разговаривай. Просто даже без всякого умысла, мало лц. А то доложат, что-нибудь еще добавят от себя. Поэтому стараемся не болтать такого чего-нибудь... Ну, вот Сталин как раз подчас уж сверхподозрительным был. Но ему и нельзя не быть подозрительным, нельзя, нельзя... И вот попадешь под какую-нибудь информацию...»
О том же вспоминает и внук Молотова Рячеслав Никонов:
«Всю жизнь дед был достаточно осторожным человеком. Ведь судьбу Бухарина, Каменева, Зиновьева в значительной
степени определило то, что они слцщком много болтали и вели активную антисталинскую переписку. Потом эти документы вытаскивались на пленумы ЦК... Естественно, Вячеслав Михайлович ничего подобного не делал, так как понимал, что постоянно находится под контролем: любой человек мог быть прислан к нему для организации провокации, а телефоны всегда прослушивались...
Велись разговоры о том, что Молотов уже написал мемуары, а кто-то их якобы даже видел. Он не цисал воспоминаний, объясняя это несколькими обстоятельствами, для него достаточно важными. Во-первых, ни Ленин, ни Сталин не писали мемуаров. Во-вторых, он был уверен, что их никто и никогда не напечатает. В-третьих, не любил работать “в стол”, должен был куда-то отсылать. В-четвертых, не имел никакого доступа к документам.
На наши просьбы о мемуарах шутил: “Хорошо было Черчиллю сидеть в ванне, курить при этом сигару и, держа в ру-ках'свои документы, надиктовывать стенографистке толстые мемуары. У меня же нет доступа ни к документам, ни к стенографистке...”
Все воспоминания пишутся на основе личного архива. В Российском государственном архиве социально-политической истории (бывший Центральный партийный архив) личный фонд Молотова насчитывает 1600 дел, но сам дед к нему доступа не имел. Часть фонда закрыта до сих пор. А что касается домашнего архива, то его не раз вычищали, а в 1957 году все документы деда вообще изъяли. Полностью пропала его огромная библиотека, которую вывезли в подвалы МИДа и там затопили. Вторую зачистку провели после смерти Вячеслава Михайловича в 1986 году — с дачи вывезли все, включая даже новогодние открытки и семейные фотографии. Хотя времена были уже другие, инструкции оставались те же. Мне удалось частично сохранить лишь документы из городской квартиры».
Беседы с Феликсом Чуевым во многом заменяли Молотову работу над мемуарами. Никонов, кстати, достаточно критически относится к Чуеву, хотя признает, что тот записал реальные разговоры с Молотовым, при некоторых из которых присутствовал и сам Вячеслав Алексеевич:
«Феликс Чуев действительно нравился деду. Это был один из немногих поэтов-сталинистов, никогда не менявших
свою точку зрения и не подстраивавшихся под время. Но “140 бесед...” — чисто пиратское издание. Понимаете, книжка получилась очень смешная: как бы ответы Молотова на вопросы Чуева. Но вопросы-то задавались на прогулке, за обеденным столом!.. А дед как серьезного и знающего человека Чуева не воспринимал — тот же был поэтом, а не историком. Шел просто легкий треп...
Любой человек, давая интервью, должен четко выражать свои мысли. Если бы мы по-приятельски разговаривали с вами где-нибудь в кафе, что-то беззаботно обсуждая, получилось бы совершенно другое интервью.
В предисловии автор книги написал: “Молотов знал, что это будет напечатано”. Но он не знал — убежден! — ибо был уверен, что его воспоминаний никто и никогда публиковать не станет».
Возможно, Никонову не понравилось, что дед в беседах с Чуевым был чересчур откровенен, поскольку не предполагал, что Чуев или кто-нибудь другой когда-либо сможет опубликовать записи их бесед. А наивный сталинист Чуев взял и опубликовал, когда в стране воцарилась свобода слова. В беседах же этих содержится немало такого, что компрометирует Вячеслава Михайловича в глазах более или менее беспристрастного читателя, пусть даже симпатизирующего Сталину и Молотову, но не готового к их слепому обожанию. И после публикации книги Чуева очень трудно создать в глазах широкой публики тот полусусаль-ный образ Молотова (во всяком случае — без упора на его личные преступления), который бы устроил членов его семьи.
Никонов признается:
«Много раз я пытался подвигнуть деда на диктовку мемуаров, а один раз мне даже это удалось — когда ему было за 80... Специально купил кассетный магнитофон “Весна” и притащил в его кабинет. Вячеслав Михайлович 20 минут рассказывал о том, как в 1919 году он с Крупской путешествовал на теплоходе, как Ленин провожал их на вокзале. И все...
Так что у меня двойственное отношение к книге Чуева. С одной стороны, это очень некрасивая история, а с другой — слава богу, что некоторые не сохранившиеся в моей памяти фрагменты жизни Молотова зафиксированы. Но благодарность за это высказать-то некому — Чуев умер».
На пенсии Молотов продолжал верить в возможность победы коммунизма во всем мире. Он упрямо порхорял:
«Еще у Ленина прямо сказано, что победивший пролетариат, если потребуется, поднимет вооруженное восстание в других странах и, если нужно, пойдет войной!
Прямо сказано, а это теперь не подходит, потому что — мирное сосуществование. А это и есть классовая борьба. Капитализм не собирается уступать, а раз мы ввязались в это дело, то тут только два выхода: либо мы должны настолько окрепнуть не только внутри, но и в других странах путем свержения капитализма во Франции, Италии, Испании, Португалии, в нескольких основных капиталистических странах, что империализм будет не в состоянии против нас войну объявить, либо мы должны быть готовы к тому, что если вспыхнет раньше революция, а они вмешаются со своей стороны, тогда будет атомная война. Это не исключается. Значит, возможно еще очень большое обострение. Вытекает одно из другого, что одна по себе победа в одной стране не заканчивает вопроса.
Вот и Германия напала. А завтра может и Америка напасть, вот ведь дело в чем. Так что говорить о том, что классовая борьба кончается, это, конечно, неверно».
Надо признать, что по-своему Молотов был прав. Установить коммунистические порядки в «основных капиталистических странах» можно было только силой. Если же этого не сделать, то рано или поздно руководство СССР должно было испытать, по мнению Вячеслава Михайловича, «правое перерождение» бухаринского типа. Но вся беда была в том, что настоящей мировой войны после 1945 года, с появлением атомной, а потом и водородной бомбы, быть уже не могло. Успехи же СССР в локальных конфликтах относились к далекой периферии развитых стран и не могли принципиально изменить соотношения сил.
И еще Молотов не раз повторял:
«У нас нет еще социализма. У нас взятки, у нас хищения, у нас всякие безобразия... Сейчас работают лишь бы, лишь бы. Для этого надо воспитывать людей. Конечно, надо зарплату, но, кроме того, надо воспитание. А этого нет. Все думают, что деньгами возьмут. У нас мораль может быть толь-
ко революционная. У нас революционные задачи не решены. Нам надо все сделать так, чтобы не допустить мировой войны, и тем более надо не сдать наши позиции, а усилить. Как это сделать? Борьбой. А борьба опасна. Вот тут и выбирай».
Похоже, сам Молотов не остановился бы и перед риском мировой войны.
Касаясь «пражской весны» 1968 года, Молотов с тревогой говорил:
«Как бы у нас такого не было. Ибо мы сейчас находимся в глубокой экономической яме. Я думаю, надо менять социальные отношения. Начать с партмаксимума для коммунистов. Это будет иметь громадное и моральное, и материальное значение для страны... Хрущевцы еще преобладают даже в ЦК. После смерти Сталина мы жили за счет запасов, сделанных при Сталине».
И тут же предложил выпить за Сталина, «ибо никто бы не вынес, не выдержал того, что он вынес на своих плечах, — ни нервов, ни сил ни у кого не хватило бы!».
Вячеслав Михайлович сожалел: «Социализм сейчас так поправили, что места для революции не осталось». Он сам давно уже был революционером без революции.
В 1981 году он утверждал: «США — самая удобная страна для социализма. Коммунизм там наступит быстрее, чем в других странах».
Он и подумать не мог о том, что социализма и в СССР осталось к тому времени всего на десять лет.
По поводу советской помощи другим государствам Молотов на склоне лет говорил, что «если мы не будем помогать другим странам, то это отдалит победу коммунизма в мире... Без международной революции ни Советский Союз, ни одна другая страна победить не могут. Без международной революции никто не может победить, и мы не можем. Нам друзей надо увеличивать».
Однажды Чуев польстил Молотову: «Вы сейчас лучше выглядите, чем на прежних официальных снимках».
Вячеслав Михайлович объяснил эту удивительную метаморфозу следующим образом: «Раньше я выколачивал мирные договоры из государств (бывших союзников Германии. — Б. С.)... А сейчас сплю, читаю, пишу, жена
за мной хорошо следила. Время было будь здоров, концепции другие, и политические деятели соответствовали им. Разговаривать и сейчас с империалистами непросто, но и тогда было не легче».
Да, «мальчиков кровавых в глазах» и их загубленных родителей у Вячеслава Михайловича никогда не было, они к нему из прошлого времени не являлись.
По свидетельству Чуева, даже на девятом десятке жизни в праздничном застолье Молотов с удовольствием пел русские народные песни: «Калинку», «Метелицу», «Степь да степь кругом...», «Соловей, соловей, пташечка», «Вниз по Волге-реке», а также грузинскую «Сулико».
Уйдя на пенсию, он принялся было за труд о социализме в СССР, но так и не закончил его. Он твердил Чуеву:
«Маркс и Ленин говорили: каждому по труду, но без товарно-денежных отношений. У нас наоборот говорят, обязательно товарно-денежные отношения, самое главное — товарно-денежные отношения. Зачем мы так пишем? Мы должны сказать: по труду, но с постепенной отменой товарно-денежных отношений».
Вячеслав Михайлович был убежденным сторонником распределительной системы и с подозрением смотрел на такой буржуазный пережиток, как деньги или материальную заинтересованность работника в результатах своего труда.
Резко отрицательно отозвался Молотов об опубликованных в США мемуарах Хрущева, да другого и трудно было от него ожидать.
Свидетельствует Лазарь Каганович:
«Когда в Москве появились опубликованные в Америке мемуары, я их не читал, так как не мог их достать в Москве. Когда я спросил товарища Молотова, читал ли он эти мемуары, он мне сказал, что читал. На мой вопрос, как он их оценивает, он мне ответил: “Это антипартийный документ”. Тогда я спросил: “Неужели Хрущев так опустился?” Молотов ответил: “Да, да, в своем озлоблении, в связи с концом... его карьеры государственного руководителя он дошел до падения, политического и партийного падения в омут”. Когда я сказал с сожалением и возмущением: “Да, это очень печально”, Молотов мне сказал: “Особенно тебе,
ведь ты его выдвинул”. — “Да, — сказал я, — выдвинул, правда, до определенной черты, на пост 1-го секретаря ЦК я его не выдвигал, предвидя... что он не осилит эту работу, что провалится. Вы же все, в том числе и ты, Вячеслав, приняли это предложение Маленкова и Булганина” (показательно, что на высший партийный пост Хрущева выдвинул не только близкий к нему в то время Булганин, но и его главный соперник — Маленков. Очевидно, Георгий Максимилианович полагал, что Хрущев в этом случае сосредоточится всецело на партийных делах и оставит ему, Маленкову, все полномочия премьер-министра, которые тот расценивал как более важные. И в итоге просчитался. — Б. С.). Ознакомившись с опубликованными в “Огоньке” так называемыми мемуарами Хрущева, я убедился, что оценка Молотова правильна. Ему даже и отвечать нельзя, чтобы не опуститься до базарной бабы, которая кричит: “Сама паскуда”. Я лично к нему питал нежные дружеские чувства, но я, видно, ошибся. Получилось — Хрущев оказался не просто хамелеоном, а “рецидивистом” троцкизма».
А вот Молотов считал Хрущева «рецидивистом» буха-ринщины. Последнее кажется ближе к истине, поскольку главной целью Хрущева было обеспечить себе и коллегам по ЦК возможность спокойно умереть в своей постели, наслаждаясь пайковыми благами.
Однажды Чуев решился задать Молотову достаточно щекотливый вопрос: «Знали ли вы о прожиточном минимуме? Что шестьдесят рублей в месяц рабочему не хватает, доходило до вас?»
«Очень даже доходило, — ответствовал Вячеслав Михайлович. — А какой выход из этого? Знали, что так. Не надо никаких специальных осведомителей, кругом люди же... Надо быть очень уж глухим, чтобы не знать об этом. Знали, но не все могли сделать, как надо. Знали, но это очень сложный вопрос, как выправить дело, хотя, мне кажется, мы, в общем, знали и то, как надо выправить. Возможностей не было.
Дорогу, по-моему, еще не все нашли. А мы, по-моему, нашли довольно надежную дорогу. Многое еще не выполнено, многому еще мешают империалисты. Пока империализм существует, народу очень трудно улучшать жизнь.
Нужна оборонная мощь и многое другое. Надо многое построить. От третьей мировой войны мы не застрахованы, но она не обязательна. Однако пока будет империализм, улучшения ждать трудно».
По поводу же столь популярного в советское время лозунга «догнать и перегнать Америку» Молотов под конец жизни был настроен весьма скептически:
«Американцы и раньше на более высоком уровне стояли, поэтому им не было необходимости большой прыжок делать, а нам приходится, и мы на это дело оказываемся мало способны. У нас и людей не хватает, потому что нам надо больше строить. Потом, все взяло на себя государство, единоличник ни о чем не заботится».
Он также подчеркивал:
«Чтобы от низкого уровня перейти к более высокому, нам потребуется гораздо больше лет, чем более развитым странам. Нам десять — двадцать лет кажутся большим сроком, а вот как поднять на такой базе... Русский человек — то у него подъем большой, то на печь, и всем доволен. Попробуй!.. Японцы вышколены, а у нас недостаток развития капитализма на социализме плохо сказывается».
Характерно, что на склоне дней Вячеслав Михайлович все же признал, что планы «догнать и перегнать», в десять — пятнадцать лет пробежать тот путь, на который другим странам потребовалась добрая сотня лет, к чему в свое время призывал Сталин, были чистейшей воды утопией. И что же это социализм за строй такой, если народ для него прежде требуется «вышколить» капитализмом?!
Молотов также довольно колко отзывался и о коллегах по Политбюро, будто бы унаследовавших все худшие черты советского народа:
«Три еврея, один грузин — Политбюро, штаб руководства. Никого нет. Бухарин — замечательный человек, видный теоретик, любимец партии. А что из него вышло? Богданов был теоретик — ну, тряпка, тряпка.
И это наряду с очень крупными русскими учеными, писателями, музыкантами — на весь мир гремят имена их — Менделеев, Павлов, другие, Чайковский, Глинка... Мусоргский, Толстой...
Талантливы, но разбрасываются. Чернышевский. Более крупного революционера до Ленина, чем Чернышевский, не было. А что он говорил: наш народ — это рабы! Это рабы! Чего можно ждать? Эта фраза — чувство горечи».
Характерно, что о Чернышевском как о писателе Молотов отзываться не стал. Вячеслав Михайлович больше всего ценил не писателей или артистов, а людей дела — революционеров: Ленина, Сталина, Чернышевского...
Отмечу, что, помимо восторженных записей Феликса Чуева и свидетельств Никонова о горячо любимом им деде, сохранилась зарисовка Молотова-пенсионера, принадлежащая перу человека, достаточно критически настроенного по отношению к Вячеславу Михайловичу. Вот что пишет журналист Станислав Грачев, живущий ныне в Канаде:
«Речи свои Молотов до самой смерти считал надежным источником для изучения внешней и внутренней политики Советского С^оюза. Умер Молотов в 1986 году, прожив 96 лет. За год-полтора до кончины журналистский интерес привел меня к нему. Жил Молотов в государственном весьма скромном деревянном домике, довольно старом, я бы даже сказал — ветхом, с просевшими кое-где полами. Впрочем, и другие домики этого подмосковного особого дачного поселка, обнесенного глухим забором, под охраной, были не лучше. Глубокая старость наложила на Молотова свою тяжелую лапу, но он был еще вполне, что называется, в ясном уме и здравой памяти. Однако попытки разговорить былого премьер-министра о былых делах ни к чему не привели. Молотов'упорно стоял на своем и твердил одно и то же: читайте, мол, мои речи, мои выступления — в них все сказано, ничего другого k добавить не могу. На какое-то мгновение мне показалось, что он до того закоснел и загип-нотизировался, что сам искренне верит в правдивость своих былых речей и праведность былой сталинской политики. А потом эта мысль ушла. Что-то в его выцветших глазах и в лице, осыпанном, словно гречкой, на лбу и висках старческими пигментными пятнами, говорило о том, что он прекрасно осознавал и осознает, что публичные речи — это одно, а тайная политика — совсем другое, и в интересах государства совсем не обязательно, чтобы публичное и тайное стыковалось. В этом и государственная мудрость,
12 Соколои
и политическая гибкость. Верный своему, на особый манер понимаемому государственному и партийному долгу, имея за плечами длительные многострадальные десятилетия служения Сталину, он был убежден и остался в своем убеждении до конца — что все, что было сделано, и надо было сделать, что как было сказано — так и надо было сказать. Надо! И в этом весь Молотов. А ворошить прошлое через десятки лет, что-то пересматривать, перетряхивать, докапываться до подспудных причин и мотивов — не следует. Была всенародно провозглашаемая политика — вот она пусть и остается в истории».
И все же в беседах с Феликсом Чуевым Молотов вольно или невольно, но приоткрывал иной раз завесу над политическими тайнами.
В 1984 году, незадолго до смерти Вячеслава Михайловича, у него с Чуевым состоялся примечательный диалог:
— Очень много бездельников в стране, Вячеслав Михайлович.
— Для этого должны меры приниматься.
— Многие числятся на должностях, ни разу даже не показываясь на службе.
— Вот это наша беспомощность.
— Я знаю одного такого человека. Числится садовником, но ни разу не был на работе. Ему зарплату переводят на сберкнижку. А сам он делает частным образом цветные телевизоры и продает их. Детали ворованные.
— Ну вот. А так как у нас нет правильного взгляда на социализм, то и на это смотрят очень спокойно. Это уничтожить, кажется, не так трудно, но то не понимают, то смотрят сквозь пальцы.
— Таких много сейчас.
— Много, потому что не борются с этим.
— Пытаются бороться.
— Нет, не борются. На словах только.
Кажется, он прав, заметил про себя Чуев, вслух же робко возразил:
— Было постановление о дисциплине.
— Это так — для отписки.
— Поэтому и возникают разговоры насчет того, чтобы ввести небольшой процент безработицы — человек тогда будет держаться за свое место.
— Но это величайшая глупость, величайшая глупость. Тогда это уже не социализм.
— А как при социализме заставить всех работать?
— Это, по-моему, простая задача. Но так как мы не признаем уничтожение классов, то и не торопимся с этим. Это имеет разлагающее влияние.
Молотов предлагал бороться с пережитками капитализма, с капитализмом «в другой форме» — в виде спекуляции, воровства и взяток, путем перехода к планированию не только производства, но и распределения и полной отмены денег, иначе через лазейки к частной собственности, каковыми Молотов считал колхозы, «пойдем назад к капитализму».
Чувствуется, что Вячеслав Михайлович, дай ему волю, с удовольствием вспомнил бы сталинские времена и отправил бы тех, которые не хотят работать на благо социализма, в Магадан, на Печору или в Караганду, расконсервировав старые лагеря. А особо злостных бузотеров для острастки можно было бы и расстрелять. И никакой тебе безработицы! Счастье Молотова, что не дожил он до расцвета перестройки, когда появились кооперативы и частники, официально именовавшиеся «лицами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью. Иначе пришлось бы ему в последние годы страдать, как Кагановичу, наблюдавшему, как рушатся «устои социализма».
Вячеслав Михайлович успел откликнуться на появление пьесы Михаила Шатрова «Так победим!», в которой впервые со сцены прозвучал текст ленинского завещания. Вячеслав Михайлович судил, очевидно, с чьих-то слов, так как сам спектакля не видел:
«В Художественном театре йри участии членов Политбюро во главе с Генеральным секретарем отмечено появление пьесы Шатрова о Ленине. Дошли до того, что Ленина играет комедийный актер (Александр Калягин. — Б. С.). Я думаю, что это такая фальшивка, такая гнусность, ловко упакованная, которая, к сожалению, не доходит до голов тех, кто приходит на официальные постановки этой пьесы. Это меня особенно коробит, потому что, если мы так будем дальше жить, наш враг империализм поймет, что мы очень недалекие люди, и против нас начнутся самые гнусные, опасные дела. А ведь если об этом не задуматься, то ведь нас
могут и пощупать — раз мы такие недалекие! Никто из писателей об этом думать не хочет».
К русской литературе в целом Молотов относился неплохо и порой готов был простить классикам (но не современникам) идеологические заблуждения. Он говорил, например:
«Льва Николаевича Толстого, по-моему, вредно принимать в партию большевиков. На целый век бы опоздали, если бы заменили партию большевиков партией Льва Николаевича Толстого. Ленин хорошо сказал, что идеализм — это пустоцвет на дереве познания. Лев Толстой — идеалист, но как художник, конечно, исключителен. Я до сих пор не могу понять Ленина в вопросе с Достоевским. Критикуя украинского писателя Винниченко, он сказал, что тот повторяет архискверные произведения архискверного Достоевского. Надо же так выразиться! Чего он его так невзлюбил? Человек-то гениальный, безусловно, Достоевский-то».
Твардовский был, по характеристике Молотова, «поэт не рядовой, но сырой». Позицию «Нового мира» Вячеслав Михайлович осуждал. Лучшим поэтом он считал Маяковского, а Есенина называл талантливым, но небольшевистским поэтом. И хвалил Всеволода Кочетова, редактора «Октября», главного оппонента редакции «Нового мира»:
«“Чего же ты хочешь?” — у него это не просто фраза. В целом роман мне понравился... “Угол падения” — тоже хорошее. В целом он молодец, Кочетов».
А вот как Молотов отозвался о Пантелеймоне Романове:
«Знал. В компаниях с ним бывал. У него есть рассказ “Родной язык” — о человеке, который все время матерился (кстати, ни один из мемуаристов не упоминает о том, чтобы Вячеслав Михайлович когда-либо матерился. — Б. С.)... Посредственный. Беспартийный... Горький его поддерживал... В нем все-таки мещанского много».
Зато Василь Быков произвел на Молотова сильное впечатление, хотя он сразу понял, что Быков — антисоветский писатель. Вячеслав Михайлович говорил Чуеву:
«Я закончил читать большую повесть Василия Быкова... Способный он человек, но Советскую власть не признает. Я читал «Мертвым не больно». Роман. Мне показалось, что он объясняет все наши жертвы в войне — там такое стечение обстоятельств, что люди гибнут ни за что ни про что, по вине одного дурака, одного негодяя — его так воспитало время, Сталин, советская действительность, что другим он быть не может. Он губит людей, попадает в плен и в плену ведет себя очень подло. И тут тоже очень хорошая девушка показана, которой дают задание какое-то для партизанского отряда. А за ней бежит один партизан. Они сходятся на дороге. Начало 1943 года. Он не верит в Советскую власть. Ата — молодец (речь идет о повести «Пойти и не вернуться». — Б. С.). Но чтоб он где-то упомянул о Советской власти, о колхозной жизни — как будто никакой революции не было...»
Из литераторов Молотов дружил с писателем Сергеем Малашкиным, старым большевиком, вступившим в партию на год раньше Молотова, автором нашумевшей в 20-х годах повести «Луна с правой стороны». Отмечал Вячеслав Михайлович и творчество Демьяна Бедного:
«Демьян Бедный с точки зрения русского языка был, конечно, молодец большой, знал народные песни...
У князей на мужика Поднялась легко рука.
Но к нему, признаться, я Снисходительный судья.
Это замечательно, по-моему. О Распутине. У него большая вещь, как был убит Распутин. Дальше в стихотворной форме я не помню, а там тоже'идут довольно хлесткие слова, что он “растоптал их образа, оплевал им всем глаза”. Грубовато, но, безусловно, метко очень.
Я с ним в хороших был отношениях, высоко его ценю. Он, безусловно, очень талантливый человек. Но вот колхозы не понял».
«У некоторых литераторов отношение к нему весьма снисходительное», — осторожно заметил Чуев.
«Нет, он поэт очень крупный, — возразил Молотов. — Мне говорили, что Ленин сказал о Демьяне Бедном в дореволюционное время: “Это,наш таран!”
Он, конечно, доступен был, его любили. Такие меткие стихи — против бар, против купцов, чиновников, за революционные дела он умел очень ярко сказать... У Демьяна хлесткости было достаточно — прямо, по-мужицки, крепко и метко очень... Ленину платили за статьи по три копейки за строку, а Демьяну платили двадцать пять копеек, но он ушел из “Правды” в “Современный мир”, там ему пятьдесят копеек платили. Вот какой подлец! — И Молотов засмеялся. — Но опять к нам вернулся, потому что там у него аудитория другая, такую хлесткость, такую грубую откровенность для “Современного мира” нельзя было использовать. Может быть, не все печатали, а может, он чувствовал, что обращается к такой аудиторий, которая на другом языке говорит, на интеллигентском, не на пролетарском.
Каганович ему говорит: “Почему ты о правых не пишешь?” Демьян ему отвечает: “А у тебя на каждую бабу стоит?” То есть правых он не может бить, это свои, а вот троцкистов, пожалуйста, бьет. Каганович с аппетитом это рассказывает».
Дружба с Бедным чуть не сослужила Молотову плохую службу. 6 декабря 1930 года было принято постановление Секретариата ЦК ВКП(б) «О фельетонах т. Демьяна Бедного “Слезай с печки”, “Без пощады”». В этом постановлении говорилось:
«ЦК обращает внимание редакций “Правды” и “Известий”, что за последнее время в фельетонах т. Демьяна Бедного стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании “России” и “русского” (статьи “Слезай с печки”, “Без пощады”); в объявлении “лени” и “сидения на печке” чуть ли не национальной чертой русских (“Слезай с печки”); в непонимании того, что в прошлом существовало две России, Россия революционная и Россия антирево-люционная, причем то, что правильно для последней, не может быть правильным для первой; в непонимании того, что нынешнюю Россию представляет ее господствующий класс, рабочий класс, и, прежде всего, русский рабочий класс, самый активный и самый революционный отряд мирового рабочего класса, причем попытка огульно применить к нему эпитеты “лентяй”, “любитель сидения на печке” не может не отдавать грубой фальшью.
ЦК надеется, что редакции “Правды” и “Известий” учтут в будущем эти дефекты в писаниях т. Демьяна Бедного.
ЦК считает, что “Правда” поступила опрометчиво, напечатав в фельетоне т. Бедного “Без пощады” известное место, касающееся ложных слухов о восстаниях в СССР, убийстве т. Сталина и т. д., ибо она не может не знать о запрете печатать сообщения о подобных слухах».
8 декабря Демьян написал довольно сумбурное письмо Сталину, в котором, в частности, утверждал:
«Было — без Вас — опубликовано взволновавшее меня обращение ЦК (с призывом мобилизовать все силы на выполнение пятилетнего плана. — Б. С). Я немедленно его поддержал фельетоном “Слезай с печки”. Фельетон имел изумительный резонанс: напостовцы приводили его в печати как образец героической агитации, Молотов расхвалил его до крайности и распорядился, чтобы его немедленно включили в серию литературы “для ударников”, под каковым подзаголовком он и вышел в отдельной брошюре...»
Сталин ссылку на Молотова хладнокровно парировал в письме Д. Бедному от 12 декабря:
«Вы противопоставляете далее т. Молотова мне, уверяя, что он не нашел ничего ошибочного в Вашем фельетоне “Слезай с печки” и даже “расхвалил его до крайности”. Во-первых, позвольте усомниться в правдивости Вашего сообщения насчет т. Молотова. Я имею все основания верить т. Молотову больше, чем Вам. Во-вторых, не странно ли, что Вы ничего не говорите в своем письме об отношении т. Молотова к Вашему фельетону “Без пощады”? А затем, какой смысл может иметь Ваша попытка противопоставить т. Молотова мне? Только одик смысл: намекнуть, что решение Секретариата ЦК есть на самом деле не решение этого последнего, а личное мнение Сталина, который, очевидно, выдает свое личное мнение за решение Секретариата ЦК. Но это уж слишком, т. Демьян. Это просто нечистоплотно. Неужели нужно еще специально оговориться, что постановление Секретариата ЦК “Об ошибках в фельетонах Д. Бедного “Слезай с печки” и “Без пощады” принято всеми голосами наличных членов Секретариата (Сталин, Молотов, Каганович), т. е. единогласно? Да разве могло быть иначе? Я вспоминаю теперь, как Вы несколько месяцев
назад-сказали мне по телефону: “оказывается, между Сталиным и Молотовым имеются разногласия. Молотов подкапывается под Сталина” и т. п. Вы должны помнить, что я грубо оборвал Вас тогда и просил не заниматься сплетнями. Я воспринял тогда эту Вашу “штучку” как неприятный эпизод. Теперь я вижу, что у Вас был расчетец — поиграть на мнимых разногласиях и нажить на этом некий профит. Побольше чистоплотности, т. Демьян...»
Молотов же, получив индульгенцию от Сталина и очередные заверения в полном к нему доверии, несколько лет спустя сумел полностью реабилитироваться в его глазах. Несомненная симпатия к творчеству Демьяна не помешала Вячеславу Михайловичу настучать Сталину на оперу-фарс «Богатыри», либретто к которой принадлежало Бедному. Опера была немедленно запрещена. Вышедшее 14 ноября 1936 года постановление Комитета по делам искусств обвинило незадачливого либреттиста в клевете на прошлое России.
Но вернемся к современным поэтам. «Чуждым» Молотов считал Евтушенко, а его стихотворение «Наследники Сталина» назвал «гнусной вещью». «Сволочь он, конечно», — с чувством отозвался Вячеслав Михайлович о Евтушенко. Повесть Валентина Катаева «Уже написан Вер-тер» — о красном терроре в Одессе — назвал «камушком в адрес партии, ленинизма». А Театр на Таганке, как считал Вячеслав Михайлович, обладает «специфическим запахом».
В 1986 году Молотов успел дать интервью газете «Московские новости», в котором сообщил: «У меня счастливая старость. Хочу дожить до 100 лет». Но йсе же не дожил четырех лет.
По мнению Феликса Чуева, «при всем своем интернационализме Вячеслав Михайлович невероятно болеет за все русское, считая, что мы должны сами, своими силами превзойти мир».
И действительно, Молотов неоднократно не без гордости повторял Чуеву: «А все-таки в России были большевики, которых еще в других местах не было... Можно гордиться и можно плеваться на русских, когда они плохо ведут себя. Но есть чем гордиться. Россия мир спасала несколько раз, как ни крути».
При этом Вячеслав Михайлович оговаривался:
«Русский народ помог другим народам, это правильно, но эго половина дела. Другие народы смогли начать развивать свои способности только после ликвидации русского деспотизма и царизма. Не видеть главного, деспотизма, и замазывать дело тем, что на местах есть деспоты, — это уже ограниченность. Нельзя это замазывать. Если мы, русские, не будем этого говорить, то за спиной у нас все время будут стоять полудрузья... Чтобы добиться революции, русские должны были иметь прочный союз среди других наций. А поэтому Ленин говорит: главная опасность — национализм. И сейчас такая опасность, безусловно, есть.
Это противоречит марксизму: когда мы будем жить хорошо, тогда и другие страны. Я считаю это национализмом. Никто не замечает это дело. А это есть первая коренная ошибка с точки зрения международного коммунистического дви-
Поскольку русским приходится выполнять руководящую роль, то нельзя отталкивать от себя. Поэтому главная опасность — это великодержавный шовинизм. При Ленине, конечно, другое было положение, но и теперь могут расползтись. Опасно. В Прибалтике, Молдавии, да и в Средней Азии возникнут настроения...
Все может быть, и республики станут отходить от нас. В какой-то мере, если не будет проводиться ленинская политика. Опыт колоссальный. При всех трудностях ничто от нас не отошло, кроме тех, кому мы разрешили отойти, например Польше, Финляндии. До определенного момента — Прибалтике. И это только благодаря тому, что осуществляли политику, которую Ленин очень глубоко разработал и очень твердо проводил — направо и налево критикуя тех, которые нивелировали национальный вопрос».
В определенной мере Молотов оказался прав. В эпоху перестройки крах коммунизма в СССР начался с обострения межнациональных противоречий и постепенного отдаления республик от центра.
Однажды, в декабре 1972 года, Чуев спросил Молотова:
— Как все-таки будет при коммунизме, сохранятся ли национальные особенности?
— Ну, это сотрется.
— Но это же плохо.
— Почему плохо? Обогатимся. Вы что думаете, у немцев нет хороших качеств? У французов нет?
— Но тогда у нас не будет своего нового Пушкина, Чайковского, Сурикова... Будет общая, интернациональная культура.
— Нельзя свой кругозор ограничивать тем, что уже создано. Пора научиться мыслить более широко. А если вы этому не научитесь, вы останетесь ограниченным полу-коммунистом, русским, не больше. Никто у вас не отнимает национальное, но вы подниметесь на ступеньку выше. Но, если вы останетесь на этих позициях, вы будете хорошим поэтом РСФСР, но не СССР. Твардовский борется за русскую поэзию, это лучший сейчас русский поэт. Я помню его, он очень талантливый и очень ограниченный. Потому что многие из нас ограничены российским кругозором, где преобладает крестьянское — то, что Маркс называл идиотизмом деревни. Узкий кругозор у человека, и ему это нравится. Крестьянская — русская ли, грузинская ли, немецкая — но ограниченность... Вот была у меня маленькая книжка, как-то попала после войны, переписка Чайковского с Танеевым. Танеев восторгается музыкой Чайковского, богатством красок, гордится русской культурой. Правильно, говорит Чайковский, я тоже восхищаюсь и немецкой, и итальянской, и французской музыкой. Что он, не национален? Глубоко национален. Но не сводит все к русскому. Наиболее талантливые люди не ограничиваются своим полем зрения, а добавляют кое-что полезное и от соседей, ведь это же замечательно!
Молотов считал Сталина единоличным творцом советской национальной политики, и сталинскую политику здесь считал безошибочной:
«Никто так не разбирался в национальных вопросах, не организовывал наши национальные республики, как Сталин. Одно создание среднеазиатских республик — это целиком его, сталинское дело! И границы, и само открытие целых народов, которыми никто не интересовался в центре и не знал их по-настоящему. Потому что все мы, включая Ленина, не доходили до этих дел, некогда было, а он очень хорошо в этом разбирался. Ведь острая борьба шла. Казахи, например, их верхушка, дрались за Ташкент, хотели, чтоб он
был у них столицей. Сталин собрал их, обсудил это дело, посмотрел границы и сказал:
— Ташкент — узбекам, а Верный, Алма-Ата — казахам.
И стоит нерушимо. Конечно, Сталин на себя взял такой груз, что в последние годы очень переутомился, устал и почти не лечился — на это тоже есть свои основания, врагов у него было предостаточно... А если еще кто-нибудь подливал масла в огонь...»
Молотова мучили предчувствия, что по нерадивости правителей социализм в СССР может рухнуть. В 1974 году он говорил Чуеву:
«В партии еще будет борьба. И Хрущев был не случаен. Страна крестьянская, правый уклон силен. И где гарантия, что эти не возьмут верх? Вполне вероятно, что в ближайшее время к власти придут антисталинцы, скорей всего буха-ринцы».
Что ж, Вячеслав Михайлович не ошибся и дожил до начала горбачевской перестройки.
Феликс Чуев свидетельствует:
«...Ясность ума не покидала его. Было только одно отклонение — незадолго до смерти. Утром он прочитал последнюю страницу “Правды”, отложил газету и сказал:
— На пять часов пригласите ко мне Шеварднадзе.
Видимо, его взволновал какой-то международный вопрос, и он вошел в свою прежнюю роль члена Политбюро, первого заместителя Предсовмина и министра иностранных дел. Думали, что до пяти часов он забудет, но он надел костюм, галстук, и тогда ему сказали, что товарищ Шеварднадзе занят и не может приехать...»
\
Думал ли тогда Шеварднадзе, что ему еще предстоит разделить судьбу Молотова, оказаться в опале, после того как «революция роз» низвергнет его с поста президента Грузии?
Незадолго до смерти Молотов попросил домработницу:
«Позвоните управделами Совмина Смиртюкову. Попросите, чтобы Горбачев нашел возможность поговорить со мной».
Но Горбачев, в отличие от Черненко, лично принявшего Молотова в 1984 году и сообщившего ему о восстановлении в партии, времени на встречу с Молотовым не нашел, хотя й повторно исключать его из партии не стал. По поводу перестройки, начавшейся с лозунга ускорения, Молотов сокрушался:
«Дел пока маловато... Беспорядков много... Грязи немало наверху. Надо подтягиваться. Идти в ногу с передовиками, с сознательными, боевыми. Мы участвуем в большом деле, в котором еще никто не участвовал, опыта у нас тоже маловато, поэтому, по-моему, приходить в отчаяние неправильно. Надо выправлять и идти дальше».
В последний год жизни Вячеслав Михайлович тревожился:
«Сейчас идут большие изменения. Есть ли уверенность, что мы выстоим? Я имею в виду дело социализма. Сейчас это во многом будет зависеть от отношения к Сталину».
Широкой антисталинской кампании, далеко превзошедшей то, что было в последние годы правления Хрущева, Вячеслав Михайлович уже не застал.
Когда Чуев заметил на новый 1986 год: «Сейчас все больше говорят о том, что в 1937 году уже не было врагов советской власти, врагов революции...» — Молотов возмутился: «Это пустые головы. Прошло почти семьдесят лет, их еще полно, а тогда только двадцать лет минуло!..»
При этом Вячеслав Михайлович не объяснил, почему враги советской власти продолжают существовать среди тех, кто родился десятилетия спустя после победы Октябрьской революции. А еще Вячеславу Михайловичу очень не нравилась нарождавшаяся гласность. Он жаловался Чуеву:
«Сегодня много пишут о жульничестве, о приписках. Я думаю, что больше будет пользы, если мы станем не просто говорить об этом, а каждый на своем месте будет бороться с этим злом. Нам надо всем проснуться и быть самим, прежде всего, честными (впрочем, честно рассказывать о собственных преступлениях Вячеслав Михайлович отнюдь не собирался. — Б. С.). Вот тогда наша партия пойдет вперед и мы будем продвигаться все дальше по пути социа-
лизма и коммунизма. Ведь, невзирая на все, большевики сумели выстоять и в более трудные годы!»
Не ведал старый коммунист, что стоять его соратникам оставалось совсем недолго.
Молотов скончался от воспаления легких в Кремлевской больнице 8 ноября 1986 года в 12 часов 55 минут. Любопытно, что незадолго перед смертью Вячеслав Михайлович начал подозревать, что его хотят отравить, вероятно вспомнив «дело врачей». Его некролог появился 11 ноября только в «Вечерней Москве» и «Известиях». В нем говорилось:
«Совет Министров СССР с прискорбием извещает, что 8 ноября 1986 года на 97 году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался персональный пенсионер союзного значения, член КПСС с 1906 года Молотов В.М., бывший с 1930 по 1941 год Председателем Совета Народных Комиссаров СССР, а с 1941 по 1957 год — первым заместителем Председателя Совнаркома СССР и Совета Министров СССР».
Это был некролог самого низкого уровня. Молотов в нем не был даже назван по имени и отчеству — только инициалы, и не было упомянуто его многолетнее членство в Политбюро. Похоронили Вячеслава Михайловича на Новодевичьем кладбище, рядом с Полиной Семеновной. Он лежал в красном гробу, украшенном красными гвоздиками, в темно-синем костюме и белой рубашке с серым галстуком. Было четыре венка — от Совета министров, от дочери й зятя, от внуков и правнуков, от близких и друзей. На похоронах присутствовало более 200 человек, главным образом пенсионеров. У могилы поэт Михаил Вершинин заявил:
«Молотов — это больше чем должность. Молотов — больше чем личность. Это знамя».
Но людей под этим знаменем оставалось все меньше. Позже, в 90-х годах, получившие возможность свободно высказываться сталинисты предпочли апеллировать непосредственно к фигуре генералиссимуса, и почти никто не вспомнил его первого заместителя.
Домработница Молотова Татьяна Афанасьевна Тарасова вспоминала, что до последних дней Вячеслав Михайлович все делал сам:
«Очень волевой человек. Уже почти не мог ходить, а на прогулке стремился дойти до шестого столба. Бывало, скажешь:
— Давайте до четвертого, Вячеслав Михайлович!
— Нет, до шестого!»
Феликс Чуев полагал:
«Что бы ни говорили, Молотов прошел героический путь.
А герои имеют право на многое. Так я считаю».
Читатели смогли убедиться, чем отличился в истории этот герой, счастливо избежавший суда за преступления против человечности.
Заканчивая, хочу заметить, что Вячеслав Михайлович Молотов более всего напоминал чеховского «человека в футляре». Вся жизнь он оставался безэмоциональным су-харем-бюрократом, не знавшим других сильных страстей, кроме любви к Полине Жемчужиной (как кажется, у него не было ни одной любовницы) да борьбы с «врагами народа», которых он, не дрогнув, выводил в расход одним росчерком пера.
Давно уже канул в Лету и пакт Молотова — Риббентропа, и Советский Союз, утратйли силу те соглашения, под которыми стоит молотовская подпись. После 1957 года на земле не осталось ни одного города, поселка, предприятия или колхоза, названного его именем. Молотов остался в истории лишь как первый заместитель Сталина, так и не раскаявшийся в своих злодеяниях.
Литература
Российский Государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 558, оп. 11 (И. В. Сталин); ф. 83, on. 1 (Г. М. Маленков); ф. 82, оп. 2 (В. М. Молотов).
Архив Президента Российской Федерации, Международное общество «Мемориал». Сталинские расстрельные списки. М.: Звенья, 2002. Электронная версия.
Лфиани В., Фурсенко А. Сталин хотел воевать с США. Только его смерть предотвратила Третью мировую // Новая газета. 2003. Nq 15. С. 14-15.
Бажанов Б. Г. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М.: Ин-фодизайн, 1990.
Бережков В. М. Как я стал переводчиком Сталина. М.: ДЭМ, 1993. Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав: СССР, США и Великобритании. 17 июля — 2 августа 1945 года. М.: Политиздат, 1984.
Блажнова Т. Его Жемчужина // Карьера. 2001. N° 7.
Власть и художественная интеллигенция. Документы 1917—1953 гг. М.: Международный фонд «Демократия», 1999.
Волкогонов Д. А. Семь вождей. Кн. 1, 2. М.: Новости, 1995.
Грачев С. Лев сражается с мышонком, или Россия, кровью умытая. Советско-финляндская война 19^9—1940 гг. // Вестник. 30 марта 1999 г. № 7(214).
Громов Е. С. Сталин. Власть и искусство. М.: Республика, 1998. XXII съезд КПСС. 17-31 октября 1961 г.: Стенографический отчет. Т. 1—3. М.: Госполитиздат, 1962.
Ерофеев В. В. Хороший Сталин. Роман. М.: Зебра Е, 2004. Каганович Л. М. Памятные записки. М.: Вагриус, 1996.
КеннанДж. Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана. М.: Центрполиграф, 2002. Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. Власть и, антисемитизм. М.: Международные отношения, 2003.
Микоян А. И. Так было. М.: Вагриус, 1999.
Мордель Г. 40 лет ни мира, ни войны // Еврейский обозреватель. Апрель 2003 г. № 7/50.
Никонов В. А. «Не имею ни малейшего права, ни желания осуждать деда за то, что в сталинские времена он не боролся за освобождение бабушки из ссылки»: Интервью Ирине Лйсниченко // Факты, Киев, ноябрь 2001 г.
МлечинЛ. Министры иностранных дел. М.: Центрополиграф, 2001. Павлова И. В. Механизм власти и строительство сталинского социализма. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001.
Рузвельт Э. Его глазами. М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1947.
Таннер В. Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского Союза и Финляндии. 1939—1940. М.: Центрполиграф, 2003. Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М.: РОССПЭН, 1996.
Черчилль У Вторая мировая война. Т. 1—6. М.: ТЕРРА, 1998.
ЧуевФ. И. Молотов. Полудержавный властелин. М.: ОЛМА-Пресс, 1999.
Roosevelt Е. As Не Saw It. N. Y.: Duell, Sloan and Pearce, 1946.
Приложения
ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО СМОТРЯТ КИНОКАРТИНЫ Запись Б. 3. Шумяцкого
№ 6
МОЯ КРАТКАЯ ЗАПИСЬ ЗАМЕЧАНИЙ И. В., К. Е., В. М. и Ав. Софр. во ВРЕМЯ и ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ФИЛЬМА «ЧАПАЕВ» 4.XI. 1934 г. в 23 ч 43 мин.
Вечером звонил мне т. Двинский и предварил, что возможен просмотр, так как с И. В: [Сталиным] говорили об этом В. Мих. [Молотов] и К. Ефр. [Ворошилов].
При начале просмотра было, понятно, настороженное отношение. Сцена приезда Чапаева на тачанке с пулеметом и отступления одной из чапаевских частей вызывала ряд недоуменных вопросов.
— Что за толпа бежит?
— Что за суетливый бег?
— Отчего шевелят губами, а речь отстает и пр.
Делали замечания и по сцене приезда ткачей и Фурманова, главным образом в отношении несинхронности.
Я волновался отчаянно за оценку всей картины в целом. Мне хотелось пригласить на этот просмотр режиссеров, но, не видя активно положительного отношения к картине, я не рисковал сразу ставить этот вопрос.
Однако начиная с первой сцены «А как думает комиссар» стала складываться положительная оценка.
И. В. по поводу этой сцены бросил реплику: «Это он его прощупывает».
Сцена «Где должен быть командир» явно захватила И. В., К. Е., В. М. и А. С. [Енукидзе]. Картину и... особенно Бабочкина начали хвалить.
Я решил тогда вызвать бр[атьев] Васильевых и Ионисе-няна. Переговорив предварительно с Вяч. Мих. и Кл. Ефр.
и получив их поддержку, я обратился к И. В. за разрешением.
Он, не отрываясь от экрана, спросил:
— А ребята действительно хорошие?
Я заверил, что все они — люди что надо и что прошу дать им возможность личного присутствия для того, чтобы поднять их удельный вес и как авторов великолепной картины, и как кинематографистов, которые, невзирая на напряженную работу, до сих пор не избалованы вниманием.
И. В.:
— Раз это вы делаете с точки зрения большой кинополитики, зовите их, благо картина хорошая.
Я тотчас же поручил т. Кадыш вызвать ребят, а сам продолжал метаться от микшерского пульта к моим гостям — зрителям, чтобы самому участвовать в их зрительской дискуссии.
Дальше положительные отзывы уже нарастали.
Когда пришли режиссеры и нач. Художественно] -Производственного] 0[тдела] Ионисенян, то микшер поручил им, а сам стал наблюдать за реакцией И. В. и др.
Во время 4-й части на одном аппарате лопнула пружина. Началось ужасное завывание, с перерывами. Я до такой степени разволновался, что не мог говорить в микрофон телефона и, побежав вверх в будку, распушил механиков, велел остановить аппарат и перебросить всю часть на другой аппарат. После 3-минутного перерыва демонстрация возобновилась, и успех картины нарастал, выражаясь в ряде еще более положительных реплик.
Только однажды К. Еф. по поводу песни «Ермака» шепнул мне:
— Длинно, да и песня могла быть иной.
Я ответил, что немного длинно, действительно, но что по существу песни — она на месте. Ею дается правдивая характеристика образа Чапаева с его внутренними чертами неизжитых, хотя и изживаемых, противоречий. Для этого надо было дать именно его же специфический песенный материал.
К. Ефр. так же шепотом, не желая, очевидно, втягивать в обсуждение этого вопроса И. В., сказал:
— Пожалуй, вы правы.
Когда лента заканчивалась, И. В. поднялся и, обращаясь ко мне, заявил:
— Вас можно поздравить с удачей. Здорово, умно и тактично сделано. Хорош и Чапаев, и Фурманов, и Петька. Фильм будет иметь большое воспитательное значение. Он — хороший подарок к празднику.
На это К. Ефр. ответил:
— Да, очень здорово сделано. Фильм будут смотреть не только у нас, но и за границей.
Б. ЛЦумяцкий], поблагодарив за оценку, попросил разрешения представить режиссеров и Ионисеняна, на что И. В. заявил:
— Давайте, давайте их.
При представлении И. В. и другие сильно хвалили работу как блестящую, правдивую и талантливую, предсказывая ленте заслуженный успех.
С. Васильев на это ответил благодарностью, заявив, что они, делая ленту, сильно волновались, предчувствуя, что самая тема и материал были сильно ответственны. Теперь рады, что их творческие усилия не прошли даром. Отметил, что в этом они во многом обязаны и директору своего ХПО т. Ионисеняну.
Б. Ш. указал, что этому же содействовала и та дивизия, в которой протекала большая часть съемочной работы.
И. В. и Кл. Ефр. и др., поблагодарив еще раз режиссеров за доставленное удовольствие, разошлись в 1 ч 51 мин ночи.
РГАСПИ. Ф. 558, on. 11, д. 828, л. 55-56
№ 8
МОЯ КРАТКАЯ ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НА ПРОСМОТРЕ ФИЛЬМОВ «ПЫШКА», «ЧАПАЕВ» И ХРОНИКИ, СОСТОЯВШЕМСЯ ДНЕМ С 2 ДО 7 ЧАС. ВЕЧЕРА 8.XI-1934 ГОДА
Присутствовал [и] Вяч. Мих. [Молотов], Пол. Сем. [Жемчужина] и ряд других товарищей.
Вначале смотрели 30-й номер звукового журнала «Со-юзкинохроники». Очень хвалили. В. М. указывал, что хроника стала настоящей. Ее хочется смотреть.
Затем просили показать «Пышку».
Вся лента шла на репликах, весьма положительно оценивавших фильм как исключительно умно, тонко и впечатляемо сделанный.
В. М. подробно останавливался на игре актеров, особенно выделил Г. Сергееву, Раневскую и Горюнова.
Попутно В. М. рассказал, что с А. Тарасовой поступают во МХАТе неправильно, не давая ей в спектакле «Гроза» столь блестяще созданную ею в фильме «Гроза» роль Катерины.
Особенно подробно остановился на талантливом актерском молодняке. Спрашивал, какие у нас взаимоотношения со студией Симонова.
Б. Ш[умяцкий] подробно ответил на заданные вопросы.
После этого стали смотреть «Чапаева». Похвалам не было конца. Хвалили и в ходе фильмы, и после окончания.
В. М. заявил, что смотрит ее уже второй раз и ему лента кажется теперь еще лучше. Ее без волнения нельзя смотреть. Ее впечатления непередаваемы. Выходишь и взволнованным, и приподнятым. Лента будет иметь огромный успех. Ею тов. Шумяцкий, как и все мы, вправе гордиться. Обратил внимание на чрезмерную затянутость эпизода «Лунная соната», на несинхронные планы одиночных бойцов в сцене «психическая атака», советовал, если можно, это выбросить. Картина тогда станет еще лучше, цельней.
В заключение заявил, что картина даже без этих исправлений смотрится с огромным вниманием. Объясняет это талантливым подходом к теме и актерской игрой. Бабочкин — неподражаем. Из других актеров выделил Я. Гудки-на, играющего мужика. Считает сцены с этим актером шедеврами актерского мастерства в кино.
В конце я показал экстренный выпуск парада и демонстрации октябрьской годовщины, что вызвало еще ряд положительных оценок работы хроники. Когда начался показ «парад-алле» операторов, снимающих в этот день, — В. М., обращаясь ко мне, заявил: да ведь у вас целая армия, все молодцы, один другого живей и подвижней.
Я на это ответил, что характер работы требует именно таких живых, инициативных людей и что прошу не за-
быть, когда будем обсуждать вопросы стимулирования в связи с XV-летием кино, отметить работы Союзкино-хроники.
В. М. обещал...
РГАСПИ. Ф. 558, on. 11, д. 828, л. 61-61 об.
№ 10
МОЯ КРАТКАЯ ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С ИОС. ВИССАРИОН. НА ДВУКРАТНОМ ПРОСМОТРЕ «ЧАПАЕВА» И ХРОНИКИ, СОСТОЯВШЕМСЯ С 20 Ч. 10.XI. С. Г. ДО 2 ЧАСОВ УТРА 11 НОЯБРЯ 1934 Г.
Присутствовали до ужина: Иос. Виссар. [Сталин], Серг. Мирон. (Киров), Вяч. Мих. (Молотов), после ужина — Иос. Вис., Серг. Мир., Вяч. Мих. и Полина Сем. [Жемчужина], Андр. Александр. [Жданов] и Мих. Ив. [Калинин].
И. В. перед началом первого в этот вечер показа «Чапаева» аттестовал ее Кирову как фильму, делающую погоду в искусстве. Спрашивал, видел ли он ее?
Серг. Мир. (Киров) ответил, что не видел.
Б. ПЦумяцкий] указал, что С. М. до сих пор не повернулся лицом к кино, хотя у него в Ленинграде делаются лучшие картины, как эта, как заканчивающаяся сейчас «Юность Максима», «Крестьяне» и др.
И. В. шутливо начал журить С. М. за невнимание к кино и указал, что кино у нас сейчас крепко растет. Оно уже дало такие выдающиеся картины, как «Встречный», «Челюскин», «Грозу», «Пышку», весьма веселую и очень бодро сделанную комедию «Веселые ребята». Указал далее, что хвалят также фильму «Три песни о Ленине», что он сам в прошлый раз, после поверхностного просмотра, ее похвалил, так как был увлечен прекрасно технически показанными кадрами о живом Ленине и о трагическом дне его похорон. Но, продумав фильм в целом, пришел к выводу, что в нем основное неверно: Ленин показывается только на среднеазиатском материале. Этим делается совершенно ошибочное ударение на то, что Ленин — вождь и знамя только Востока, только «вождь азиатов», что в корне ошибочно.
Спрашивает, как могли киноработники это упустить. Они ведь видели фильм не раз.
Б. Ш. указывает, что этот упрек не может принять на себя, ибо сразу же с членами принимавшей фильм комиссии
говорил об этом и солидаризировался с т. Рабичевым, до комиссии просмотревшим и возражавшим против такой направленности ленты. Но товарищи встали на другую точку зрения. Напоминает, что 2.XI, когда после показа этого фильма его сильно хвалили, отметил эти его отрицательные черты, указав, однако, что из-за этой значимости ленинского материала фильм стоит того, чтобы его показывать зрителю.
И. В. подтверждает, что Шумяцкий действительно в прошлый раз холодно отзывался о фильме.
Обращаясь к Кирову, говорит:
— Вот тут говорят о твоих ленинградских фильмах, а ты их и не знаешь, не знаешь, какое у тебя таится там богатство, наверно, никогда и не смотришь кино.
Б. Ш. подтверждает, что С. М. не особенно балует одну из лучших кинофабрик Союза — Ленинградскую — своим вниманием. Несмотря на то что живет буквально рядом, ни разу не был на ней и не смотрел там фильм.
С. Мир. (Киров):
— Что верно, то верно. Все не удается.
Б. Ш. взял слово с т. Кирова в ближайшее время посмотреть на Ленинградской фабрике ряд ее работ.
И. В. шутливо замечает:
— Нет, ты забюрократился и поэтому даже фильм своей фабрики не смотришь.
С. М.:
— А что вышло с «Аэроградом» Довженко, который он нам читал?
Б. Ш. информирует о съемочной работе т. Довженко на Д[альнем] В[остоке], откуда он только что вернулся, и справедливо жалуется на совершенно непонятное запрещение т. Гамарником снимать там главный материал его ленты — авиацию на фоне ДВ ландшафта (сопок).
И. В.:
— Как запретил?
Б. Ш.:
— Безапелляционно запретил.
И. В.:
— Вот странно. Японцы знают и хорошо наблюдают нашу авиацию, а показать ее в фильме запрещают. Это нелогично, это неправильно. Наоборот, если это необоснован-
ное запрещение делалось из-за того, чтобы фильм не рассказал японцам чего-либо лишнего про нашу авиацию, то надо было поступить как раз наоборот — не смущаясь, показать через фильм, что нас на ДВ голыми руками не возьмешь, что мы там также готовы к обороне и ответному удару.
Спрашивает, как же дальше будет обстоять дело.
Б. Ш. ответил, что вместо февраля 1935 г. фильм придется выпускать чуть ли не летом, ибо еще весною придется доснимать то, что было запрещено т. Гамарником.
И. В.:
— Переговорите с Кл. Еф. Надо было сразу его втянуть в это дело. Почему вовремя Довженко об этом не сообщил?
Б. Ш.:
— Верно, он и мы это прохлопали.
И. В. перевел разговор на картину Довженко «Иван», указав, что некоторые чудаки, боясь обвинений в бюрократизме, имеющем место в отдельных звеньях партаппарата, обвинили его и его ленту в поклепе. А на деле — этот режиссер образно, очень тонко и талантливо показал эти формы бюрократизма. У него так изображено: мать пострадавшего рабочего бежит в парторганизацию, но раньше, чем туда попасть, пробегает много дверей. Это было очень интересно и с большим смыслом показано. И вот людей эта критика, попадающая им не в бровь, а в глаз, обидела, и они давай резать и запрещать ленту. Шумяцкий нам об этом написал. Мы посмотрели и признали фильм вполне советским.
Б. Ш. напоминает, что в это время покойный Скрыпник писал даже для «Украинского коммуниста» о Довженко и его фильме как о фашизме.
И. В.:
— Сам-то недалеко ушел. Довженко, несомненно, способный режиссер. А если будет настойчиво работать, может свой «Аэроград» сделать большой вещью. Надо только, чтобы он понял, что от него ждут.
В это время аппаратура была налажена и начался просмотр, во время которого все хвалили картину, режиссеров, актеров, и особенно Бабочкина.
После просмотра И. В. пригласил нас всех на ужин. Когда мы пошли, то он (И. В.) на реплику т. Кирова: «А здорово научились делать картины», ответил:
— Что верно, то верно. Одно только им (указал на меня) надо сейчас наладить — это свою промышленность. Без этого ничего не сделать. У них промышленность, изготовляющая аппаратуру и пленку, еще дохлая. А для развития кино — нужна мощная и новейшей техникой вооруженная.
Б. Ш. подтвердил это и указал, что осуществление р>езо-люции И. В. от 21.VI с. г. дало бы это. Но подготовка осуществления этого идет медленно и прямо срывается. Например, Госплан привел контрольные] ц[ифры] капитальных вложений по кино на 1935 г. прямо в куриных цифрах — около 50 млн рублей вместо просимой нами тоже минимальной суммы — 92 млн рублей, считая 10 млн рублей средств хозорганов.
И. В.:
— Слышишь, Молотов, это не дело. Проследи сам.
И. В. уже за ужином спросил меня:
— А как пресса отнеслась к «Чапаеву»?
Б. Ш.:
— «Правда» поместила положительную, хотя не энергичную оценку. (Речь идет о статье С. С. Динамова «О грозных днях борьбы. “Чапаев”. (Производство Лен-фильм)», опубликованной в газете «Правда» 3 ноября 1934 г.). «Известия» сегодня дали статью, в которой бочку медовых похвал разбавили ложкой дегтя. Рецензент явно ошибочно требует от нас усиления роли комиссара. Я считаю это критическим загибом.
И. В.:
— Как, как вы сказали?
Б. Ш. повторил и указал о двух линиях давления на нас (кино) в трактовке этого образа.
В. М. [Молотов] подтвердил, что рецензия имеет именно тот смысл, что нужно над Чапаевым поднять Фурманова. Это правильно Шумяцкий назвал загибом.
И. В.:
— Кто же это писал в «Известиях»?
В. М.:
— Херсонский. Он часто по кино пишет. (Речь идет о рецензии X. Херсонского, помещенной в газете «Известия» 10 ноября 1934 г., в которой автор писал, что «в фильме
очень неуверенно, неполно и поверхностно показан
\
Д. Фурманов — представитель партии, воспитывавшей Чапаевых, политический и моральный руководитель, требовательный к себе и другим, один из первых советских писателей»).
И. В.:
— Ох, уж эти критики! Такие вещи пишутся неспроста. Они дезориентируют. Люди нашли очень правильные краски для создания образа комиссара. А их тянут в другую сторону. Надо, чтобы Мехлис основательно разобрал этот случай.
После этого И. В. сам пошел к телефону и переговорил об этом с т. Мехлисом. После сказал, что 12.XI появится статья в «Правде», дающая правильную ориентировку в этом вопросе. (12 ноября 1934 г. в газете «Правда» была опубликована статья «Картинки в газете и картины на экране. (О кинорецензии Хрис. Херсонского в “Известиях”)», подписанная «Кинозритель», в которой статья Херсонского о фильме «Чапаев» названа «рецензийка», «серая, казенно сухая, профессионально скучная...»). Надо, чтобы и критиков учили писать правильно, а не явно неправильные вещи, да еще о такой исключительно талантливой и с огромным тактом сделанной картине.
Б. Ш. сообщил, что с т. Мехлисом, по его же предложению, мы сговорились о совместной работе по кино, ибо до сих пор у нас не было соответственной среды и помощи.
И. В.:
— Это хорошо. Сами только будьте активны. Ваши товарищи по работе должны в этом вам крепко помогать. Как они работают? Ведь я понимаю так, что вы больше работаете по картинам, и это правильно. Зато кто-то должен прямо вести все ваши механические и пленочные заводы.
Б. Ш. дал характеристику работы Як. Эм. Чужина как весьма надежного в смысле активности и последовательности работника. Охарактеризовал положительные черты В. Ф. (Плетнева), Юкова, Котиева, Усиевича.
В. М. подтвердил положительной характеристикой и хорошо отозвался о Як. Эм., которого лично хорошо знает, и о Вал. Фед. [Плетневе], Грузе, о которых наслышан от Куйбышева, Рудзутака и Чубаря.
И. В.:
— А есть у вас крупные люди, чтобы строить заводы?
Б. III.:
— По правде сказать, крупных организаторов-строите-лей для непосредственного ведения новых строек нет, да и для руководства рядом участков тоже.
И. В.:
— Войдите с этим в ЦК. Обсудим, дадим.
Далее шел длинный разговор о закрытии одного из театров, причем И. В. прямо заявил, что нельзя допускать закрытия кинотеатров.
Андр. Алекс. [Жданов] напомнил, что Шумяцкий ставит вопрос о большой антифашистской фильме, которую просят его сделать английские друзья СССР.
Б. Ш. подробно рассказал о предложении Монтегю, сделанном с расчетом на режиссера Эрмлера.
И. В.:
— Они что же, нам заказывают?
Б. Ш.:
— Да, но только без денег.
И. В.:
— А чем же участвуют?
Б. Ш.:
— Людьми, актерами и добрыми советами и дадут большие каналы продвижения ленты.
И. В.:
— Надо подумать. Напомните.
Пошли и стали смотреть «Чапаева», причем И. В., стало быть, смотрел его в седьмой раз. j*
Просмотр шел с прежним успехом. Сильно хвалили Бабочкина, Кмита и Мясникову.
Мих. Ив. [Калинин] заявил, например, после просмотра, что ничего подобного по силе, по яркости и правдивости, чем этот фильм, он в искусстве не видел. Фильм так волнует, что о нем долго будешь помнить.
И. В.:
— Чем больше его смотришь, тем он кажется лучше, тем больше находишь в нем новых черт.
И. В. особенно реагировал на сцену Петьки с Чапаевым о качестве комиссара и на сцену мужиков «Уря», «Уря».
Во время просмотра хроники заговорил что-то о собрании в Экспериментальном театре.
Этот разговор дал мне основания поставить вопрос о намерениях московских организаций занимать кинотеатры под отчетные и перевыборные собрания. Я указал, что не допущу закрытия работы кино, ибо и без того 30% приходящих к кассам кино рабочих не попадают на сеансы, а тут еще хотят увеличить это число.
В. М. в ответ на это заявил:
— Правильно сделаете.
В 2 часа утра 11.XI закончили просмотр.
РГАСПИ. Ф. 558, on. 11, д. 828, л. 64-66
№ 19
МОЯ КРАТКАЯ ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С Т КОБА ПРИ ПЯТОМ ПРОСМОТРЕ ФИЛЬМА «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 1.1.35 г.
Присутствуют: тт. Вяч. Михайлович [Молотов], Лаз. Моис. [Каганович] и Андрей Александрович [Жданов].
Коба [Сталин] просит показать ему еще раз «Юность Максима». В ходе и после просмотра Коба указал, что этот фильм относится к числу тех фильм, которые с интересом смотрятся по нескольку раз. Считает характер фильма исключительно интересным вследствие трудной линии, взятой мастерами в т. н. «малых делах» революционного подполья, увидевших величие их как части революционного процесса. Указывает на необходимость строить сюжет всякого художественного] фильма на правдивых и сильных человеческих образах. Это волнует зрителя, это дает место в нем актерскому мастерству. В данном фильме эти условия налицо. Отсюда и появление прекрасных исполнителей Чиркова и Каюкова, отчасти Кибардиной и детской роли, необычайно простой и трогательной. Ведь в художественном произведении понятие прекрасного не зависит от простого его объема. Однако в тех случаях, когда роли фильма, как и пьесы, схематичны, — образы не получаются даже при хорошей интересной трактовке. Изображаемые герои говорят, двигаются, но не как любимые, волнующие нас образы, а как компоненты логики, как фигуранты абстрактных ассоциаций, а не ярких зрительных представлений о поведении и месте героев в произведении. Поливанов, к счастью, наделен в пьесе более живыми чертами. Местами он действует как подлинный герой
большевистского подполья, но только местами. В остальном он — человек-схема. К тому же и актерские данные Тарханова, даже при его огромной театральной культуре, сильно снижают художественность этого героя (образа).
Длинноты в фильме всегда зло. Они показывают неуверенность мастера в показе событий и поступков, в их увязке с сюжетом. Зритель всегда ощущает это как досадные срывы, как отвлечение его внимания от главного. Имеются они и в данной ленте, в таких хороших сценах, как Максим в кабинете у заведующего цехом, как ряд волнующих сцен в цеху, как сцена прихода на конференцию и еще многие другие.
Коба говорит, что он часто не понимает, неужели авторство ослепляет и мастер, допускающий длинноты, замедленность темпа действия, не понимает, что он сам сильно вредит смыслу и успеху своего произведения? Надо, чтобы об этом крепко писали и говорили критики.
Б. Ш[умяцкий] соглашается с этим и указывает, что киноруководство все время борется с этим злом, считая его одним из основных. Указывает на ряд примеров.
В. М. отметил блестящую игру Чиркова. Выразил сомнение, правильно ли дан образ Демы во время демонстрации рабочих, когда он, выйдя пьяный из трактира с гармошкой и увидев демонстрацию, берет второй аккорд.
Коба:
— Это неплохо. Парень вначале осатанел и замолк. Затем сознание прояснилось, и он инстинктивно сжал мех гармони. Знаешь, как часто сжимают внезапно поднятые от удивления плечи.
Коба спросил далее, что поправляют в ленте. Просил работать, не торопиться, ибо убедился, что такие вещи надо давать хорошо, тщательно. Уверен, что фильм будет иметь заслуженный успех.
Много расспрашивал о режиссерах фильма. Люди, которые берутся за такие труднейшие темы, — интересные люди.
Б. Ш. рассказал, как они работали, что в сценарии переделывалось.
Коба:
— Вот будем так с вами смотреть новые вещи и вам поможем.
Б. III.:
— Уверен в исключительном значении для развития кино непосредственного руководства ПБ, особенно лично И. В.
Л. М., смеясь, говорит:
— Это вам лучше всякой кинокомиссии.
Б. Ш. указывает, что никогда и не думал сравнивать, тем более что не был патриотом состава кинокомиссии и метода ее работ.
После этого просмотрели 35-й звуковой журнал и кинохронику и хроникальный фильм.
Разошлись в 2 ч. утра.
РГАСПИ. Ф. 558, оп. 11,д. 828, л. 103-105
№ 35
МОЯ КРАТКАЯ ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С ИОС. ВИССАР. 4 МАРТА 1936 ГОДА
ПРИСУТСТВУЮТ: Иос. Висс. [Сталин], Вяч. Мих. [Молотов], Кл. Ефр. [Ворошилов], Серго [Орджоникидзе], Анаст. Ив. [Микоян].
Перед началом просмотра зашла речь об удобстве просмотра фильмов тут же вблизи от места работы.
И. В.:
— Тут дело не только в удобстве, а в необходимости. Кино стало фактом огромного значения. Оно — подлинное искусство масс и в то же время острейший инструмент влияния, организации, руководства. Мы к тому же не просто смотрим кинокартины, но и помогаем руководить их постановками.
Просмотрели в третий раз «Мы из Кронштадта». Хвалили как интересный, нужный, хотя и не лишенный недочетов.
Вяч. Мих. отмечал ряд этих недочетов.
Кл. Ефр.:
— Комиссар, вошедший в кубрик, стоит, бедняга. Эх! Не так бы надо держаться.
Иос. Вис. в ответ на фразу Артема «с процентами», смеясь, заявил:
— Вот злой-то какой.
Когда матросы отказывались делить хлеб, смеясь, обратился к Кл. Ефр.:
— А теперь не так...
После фразы «А ну, кто еще хочет Петроград?» заявил:
— Неплохо и к месту сказано.
общая оценка. Фильма хорошая.
После этого разговор перешел на печать. Некоторые товарищи указывают, что «Мы из Кронштадта» зря печать ставит чуть ли не выше «Чапаева».
И. В.:
— Конечно, перебарщивают. Картина сильная, хорошая, но не «Чапаев».
Серго:
— А как другие картины?
Б. Шум[яцкий]:
Вот, например, «Дубровский» начинают затюкивать.
И. Висс.:
— За что? Ведь хорошая картина.
Б. Шум[яцкий]:
— За то, что, дескать, Пушкина извратили, приделав к Дубровскому «идеологический» конец (речь идет о публикации в газете «Кино» в феврале 1936 г. статьи Б. Вакса «Вульгарный социологизм», объявившей, что «повесть Пушкина извращена, смысл и ее художественная значимость принесены в жертву грубому и противоречащему ей вульгарному социологизму»).
И. В.:
— Вот умники! Этим концом поднята тема и содержание. Дайте сейчас же хорошую статью в «Правду», разъяснив в ней недопустимость формально-логического подхода к политическим тенденциям произведений искусства. Завтра же дайте. Вызовем сейчас Богового и скажем ему, чтобы он поместил статью Шумяцкого о «Дубровском». Пускай все учтут это.
Товарищ Боговой приехал, и Иос. Вис. ориентировал его в вопросе о фильме «Дубровский» (5 марта 1936 г. в «Правде» была опубликована статья Б. 3. Шумяцкого «Фильм “Дубровский” и его критики»).
После этого начали смотреть «Последний маскарад». Сильно хвалили. Однако были и отдельные критические замечания.
Вяч. Мих. выразил сомнение, что рабочее движение Тифлиса показано на уровне не 13-го, а 5—6-го годов, что массовость этого движения не показана.
Иос. Висс. сильно хвалил игру актеров, исполняющих роль меньшевика Росеба и секретаря меньшевистского правительства. Смеялся при выступлении Каутского, повторяя его слова «мои господа».
Вяч. Мих. указал, что исторически, пожалуй, события 1917—18 гг. смещены. Под видом советизации Грузии показан более поздний период.
Иос. Висс.:
— Конечно, тут имеет место смещение ряда исторических событий. Например, крестьянское восстание, показанное в конце фильма, — это Душетское восстание (с февраля по август 1918 г. в Грузии имели место свыше двадцати выступлений крестьян. Особенно острый характер они носили в Душетском и Лечхумском уездах, в Южной Осетии. Восстание в Душетском уезде началось 17 июня, и 25 июня 1918 г. там была провозглашена советская власть), произошедшее за У2 года до утверждения в Грузии своей власти — власти Советов. Но смещение отдельных исторических событий для более широких и правдивых исторических обобщений в искусстве, особенно в таком масштабном искусстве, как кино, допустимо. Все зависит от того, для чего и как художественно они сделаны. Это исторические анахронизмы, лежащие, однако, в пределах реального. Такими смещениями-анахронизмами и является показ в рабочем движении Тифлиса 1913 г. характерных черт раннего его этапа (1905 г.) и в крестьянском движении более поздних черт — советизации Грузии.
И. В. отметил далее выдающийся по силе воздействия актерской игры эпизод над трупом убитого крестьянина, когда его отец-старик смахивает со щеки слезы.
После просмотра предложенодов. Ботовому дать в «Правде» рецензию на фильм «Последний маскарад» (7 марта 1936 г. в газете «Правда» была опубликована рецензия А. Назарова «“Последний маскарад”. Кинокартина производства Госкинпрома Грузии. Режиссер М. Э. Чиаурели»).
РГАСПИ. Ф. 558, on. 11, д. 829, л. 91-93
«...Однажды зимой Большаков показывал Сталину новый фильм. Был, по обычаю, поздний час, спокойно и мирно взирал на кинотворение Вождь, смирно, не закрывая век, дремали Соратники. Вдруг, примерно на половине
экранных хитросплетений, Сталин встал и вышел из зала. Не проронив объяснений. Возникло смятение. Находчивей всех оказался Молотов.
— Прекратить! — крикнул он.
Вспыхнул свет, замолк стрекот проектора.
Молотов резко оборотился к Большакову:
— Что за мерзость вы нам привезли?!
Соратники подхватили:
— Вздор! Околесица! Клевета!
И еще минут пять гремели оценки того же калибра. Молотов завершил:
— Фильм запретить! Чем вы думаете, когда везете сюда картины? Что у вас вообще происходит в кино?
Большаков сидед, помертвев. И именно в этот момент погибели вошел Вождь, застегивая на ходу ширинку.
— Что случилось? — спросил он. — За чем остановка? Давайте смотреть. Отличнейшая картина!
Воцарилось безмолвие. Да такое, какое бывало только при Сталине. Ни шороха.
— Оборвалась пленка, — сказал кто-то из Политбюро. Кажется, это был все тот же Молотов. А может быть, Каганович. Не знаю. Но в том, что это был член Политбюро, тут уж Иван Григорьевич, поверьте, не мог промахнуться».
Габрилович Е. И. Последняя книга. М.: Локид, 1996. С. 28-29
Письмо В. А. Мирошниченко В. М. Молотову.
Конец 1936 года
Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР т. В. М. Молотову.
Глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович.
Осенью 1935 года я приехал в г. Москву (из г. Свердловска) с целью поступления в Московский текстильный институт по факультету художественного оформления текстильных изделий. Это был факультет, наиболее подходящий для меня, по моей склонности — рисовать и чертить. К началу экзаменов, о допущении к которым я был извещен открыткой, мне было 34 года, а в Институт
допускали только до 35 лет. Экзамены мне дались с большим трудом, в Институт был большой наплыв и приняли далеко не всех выдержавших.
Но я все же экзамены и сдал, и был в Институт принят.
Началась учеба.
Учась в Институте, я принимал участие в общественной жизни Института. Это выражалось в работе в профкоме (писание плакатов и лозунгов), в участии в стенгазете и т. д. Кроме того, я часто выступал на концертах (студенческих) самодеятельности, устраиваемых студентами разных факультетов в клубе Института.
Обладая, по мнению многих авторитетных лиц, красивым сильным голосом, я своими выступлениями приобрел большую популярность среди студентов. Меня неоднократно приглашали к себе известные писатели, поэты, певцы и другие «знатные люди» столицы.
Пел я, главным образом, романсы на русском языке: Чайковского, Рубинштейна, Глиэра, русские песни и т. д. Кроме того, в моем репертуаре было много опер, а также неаполитанских песен и романсов на итальянском языке («Солнышко мое», «Вернись в Сорренто» и т. д.), которые я заучил лет десять тому назад по граммофонной записи и пел в оригинале.
Как-то в общежитии, где я проживал (по Рочдельской ул., 24-А), зашел разговор об итало-абиссинской войне; каждый из студентов был занят чем-либо: один чертил, другой — читал политэкономию, третий — просматривал новые газеты, четвертый что-то лепил из глины и т. д.
— Ну а ты же за кого стоишь, тов. Мирошниченко? —
спросил, наконец, один из студентов. — За Италию или за Абиссинию? N
— Мирошниченко, конечно, за Италию, — ответил кто-то другой.
— Ну, конечно, товарищи, — ответил я, смеясь. — Вы же знаете, что я «итальянец», я даже пою на итальянском языке.
Все рассмеялись. После этого разговор прекратился.
Однако совершенно иначе отнесся к этому мой «товарищ» (с позволения сказать) по факультету, Алексей Кузнецов, имевший со мной личные счеты и долго желавший
13 Соколов
отомстить мне — теперь представлялся благоприятный случай — за утерю конспекта по политэкономии (Кузнецов считал, что я потерял его).
На другой день А. Кузнецов сделал на меня донос — клевету в учебную часть Института, что «Мирошниченко стоит за Италию» (?); но этого ему показалось мало, и он донес в НКВД, что «Мирошниченко агитирует в пользу итальянского фашизма» (?!).
Ну, посудите сами, какое мне дело, мне, украинцу, до Италии и «итальянского фашизма»?!
Итак, машина заработала.
Когда я пошел в комячейку Института и рассказал, в чем дело, там только рассмеялись; рассмеялся и секретарь М. И. Калинина т. Барабанов (Калинину я подал заявление).
Однако этим дело не кончилось. Что там наплел про меня Кузнецов — я не знаю, но могу себе только представить, раз 26 апреля 1936 г. ко мне ночью в общежитие явился следователь Бутырского изолятора гр. Подольский и заявил мне, что я... арестован.
Перерыл все мои вещи, разбросал все книги, тетради, ноты, рисунки и... ровно ничего не нашел.
Но отступать уже было неловко, и он, Подольский, отвезя меня на Лубянку, с револьвером в руках начал меня гонять из коридора в коридор, называл меня «ты», матерился, угрожал. Наконец, учинил «допрос».
Для того, чтобы вы имели понятие, как велся этот «допрос», приведу вам выдержки.
— Кто был ваш отец?
— Доктор. Врач.
Подольский ерзал в кресле, изменялся в лице.
— Врешь! Твой отец был, наверное, охранник!
— Позвольте, я могу это доказать документом...
Договаривать не позволял. Спрашивал снова:
— Где родился?
— В г. Херсоне, УССР.
— Где пережил приход белых? Служил ли у белых?
— Нет, ни у белых, ни у красных я не служил. Я учился в это время и давал уроки.
— Врешь, сволочь! Ты, наверное, радовался приходу белых!
И т. д., в таком же духе.
Ну что, что я мог делать при таком «допросе»? Что я мог делать, раз Подольский решил во что бы то ни стало превратить меня в «белого»?
Т. Подольский написал: «Мирошниченко Валерий Артурович, бывший белый (?), обвиняется по статье 58-10 (!) (ни много ни мало!) за агитацию в пользу итальянского фашизма» (!). И в довершение всего бросил меня в грязную, вонючую комнату, где продержал почти два месяца. В течение этого времени он меня раза три вызывал на т. н. «допросы», причем эти последние носили такой незаконный, грубый и вызывающий характер, что не было, кажется, ничего, к чему бы не прибегал Подольский. Тут были налицо и угрозы, и превышение власти, и зажим самокритики, и шантаж, и т. д. (подробности увидите в моих заявлениях при деле).
И вот, благодаря трогательному единению Кузнецова и Подольского, меня зачем-то отрывают от учебы, от товарищей и привозят сюда, на голод и лишения. Зачем это, кому это было нужно? Неизвестно.
И кто привлечет к ответственности Подольского, вполне сознательно допустившего грубейшее нарушение революционной законности, с единственной провокационной целью — вооружить меня против советской власти?
А Кузнецов? Кто отдаст под суд Кузнецова, который, пользуясь безнаказанностью и высоким званием комсомольца, оклеветал меня как только мог и скромно отошел в сторону, вообразив, конечно, при этом, что он проявил «величайшую классовую бдительность»!
Много ли таких типов, как Кузнецов, привлечено к суду? \
Некоторые из жителей села Богучаны (Красноярского края), куда меня зачем-то привезли, говорят мне, что все это произошло, вероятно, потому, что я попал в такую «неудачную волну», когда был процесс зиновьевцев и троцкистов, а «когда, — они говорят, — лес рубят, то щепки летят».
Но при чем здесь я? Ведь я никогда не был троцкистом, ни правым, ни левым, потому что сам я — беспартийный и никогда в своей жизни в партии не состоял. И почему я теперь должен оказаться этой «щепкой» и неизвестно за что и про что так бесконечно страдать?!
Ведь нарушение революционной законности всегда остается нарушением революционной законности, клевета остается клеветой, при любом положении, при любой ситуации, что бы там ни говорили защитники тех «обобщений», которые в своем результате сваливают в одну общую массу всех — и виновных, и невиновных.
Умоляю Вас, во имя революционной законности, во имя справедливости, во имя человечности, наконец, — затребовать мое дело из Бутырского изолятора и, детально ознакомившись с ним, дать мне возможность возвратить1 ся в Москву, чтобы поскорей нагнать пропущенное время и продолжать учебу, так незаслуженно прерванную.
Учиться — это моя заветная мечта. Без учения мне останется только одно — покончить с собою.
Трагизм моего положения усугубляется еще и тем, что мне уже больше 35 лет, а в Институт принимают только до 35 лет, и мне стоило больших трудов поступить в Институт.
Глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович, к Вам, сильному, справедливому, чуткому, — несется моя мольба!
Я больше чем уверен, что Вы посмотрите на дело по-своему и решите его без всяких предубеждений. Одно Ваше слово, один росчерк пера — и Вы мне возвратите все: и мою жизнь, и мою репутацию, и мое горячее желание работать и учиться.
Желание это во мне настолько сильно, что я дам подписку в том, что буду активно бороться с контрреволюцией и, время от времени, буду давать информации о студенческих настроениях.
Клянусь Вам, что я ни в чем не виноват и желаю только одного — учиться, учиться и учиться.
В. Мирошниченко
С. Богучаны (Красноярского края), метеорологическая станция. Валерию Артуровичу Мирошниченко.
Письмо В. А. Мирошниченко П. С. Жемчужиной (Молотовой)
Глубокоуважаемая Полина Семеновна.
Простите, что, хорошо зная Вас, но не будучи знакомым с Вами лично, осмеливаюсь писать это письмо и обращаюсь к Вам с одним важным делом.
Живя в Москве, я неоднократно бывал в одном из домов, где бывали и Вы, — словом, у меня имеются знакомые, общие с Вами, для своего дела я мог бы, при желании, прибегнуть к их любезному посредству, но я не хочу делать этого, чтобы не быть обвиненным впоследствии в том, что я-де прибегаю к чьей-то протекции; нет, я хочу обратиться сейчас непосредственно к Вам по двум причинам: во-первых, потому, что Вы — чрезвычайно чуткий человек и поэтому поймете меня скорей, чем кто-либо другой; во-вторых (и это самое главное), потому что дело мое, с которым я к Вам обращаюсь, настолько необычно (как с чисто бытовой, житейской стороны, так и с точки зрения общественной), что требует срочного «хирургического» вмешательства со стороны Вячеслава Михайловича; а уж если мне обращаться к его помощи, то к кому же другому мне обращаться, как не к Вам, когда Вы, прочтя мое письмо — я оставляю его незапечатанным, — сможете передать его Вячеславу Михайловичу лично, в домашней обстановке, минуя его бесчисленных секретарей? Сам я с Вячеславом Михайловичем не знаком, но из отзывов о нем (моих вышеуказанных знакомых) как о человеке я знаю его с самой прекрасной стороны. В том, что Вячеслав Михайлович примет личное участие в моем деле и сделает все, чтобы снять с меня чудовищное обвинение (которое мне предъявил Подольский) и дать мне возможность продолжать учебу, — я не сомневаюсь ни одной минуты.
Возможно, что письмо мое по многим причинам вызовет в Вас недоумение и заставит строить некоторые догадки и предположения. Я предвижу это. Но... «Гора с горой не сходятся, а человек с человеком всегда сойдутся...», говорит русская пословица, и если это верно, то верно и то, в чем я убежден так же, как в том, что завтра и послезавтра будет светить солнце, что в самом непродолжительном времени, когда я снова буду в Москве, я обязательно увижусь с Вами лично (сноска: Больше даже скажу: я почему-то уверен — и это не фатализм, — что, будучи всесторонне образованным, я могу быть для Вас (как директора крупного предприятия) весьма полезным во многих отношениях человеком; Вы же, узнав меня лучше, примете участие в моей судьбе: дело в том, что у меня, по мнению многих
компетентных лиц, исключительный по красоте и силе голос; в одном из заявлений, поданных на имя Вышинского, я даже указывал на это как на смягчающее в моем деле обстоятельство и просил последнего оказать мне содействие в деле моего поступления в рабочую оперную студию ГАБТа или Московскую Консерваторию, ссылаясь на то, что таких голосов, как у меня, очень мало и что поэтому я могу принести колоссальную пользу социалистическому строительству. Однако, ввиду того что это заявление, как и все другие мои заявления, опять-таки прошло через руки Подольского, то последний, конечно, не преминул сделать так, что заявление до Вышинского не дошло, не выйдя дальше стен Бутырского изолятора. Неудивительно поэтому, что ответа и на это заявление, как и на все прочие, не последовало) и все Ваши недоумения и догадки моментально отпадут: я расскажу Вам все, так как не думаю делать из того, что может вызвать эти последние, какой-то секрет.
За время с 26 апреля 1936 г. (т. е. со дня моего ареста) по сегодняшний день я столько выстрадал, так изменился и морально, и физически, что никакие описания не смогут Вам дать даже отдаленного представления о том, что мне пришлось пережить.
Глубокоуважаемая Полина Семеновна, я хочу, чтобы Вы хоть на минуту вошли в мое положение; оно, поистине, трагическое: мне уже 35 лет; колоссальных трудов мне стоило поступить в Московский Текстильный Институт; т. е. еще 1-2 года, и мне уже, по моим летам, никуда нельзя будет поступить; восстановление себя в правах студента МТИ и продолжение учебы, так незаслуженно прерванной, — задача всей моей жизни; вне учебы для меня нет жизни. Если мне этой возможности не представится, то мне останется только одно — умереть. Сделайте же для меня все, что я прошу, умоляю Вас! Ведь я совершенно невиновен, клянусь Вам.
Буду чрезвычайно счастлив, если Вы удостоите меня своим благосклонным ответом и хотя бы в коротенькой открытке, официально (как лицо, стоящее во главе крупного предприятия) известите меня, что письмо мое Вами получено.
Настоящее письмо написано мной в двух экземплярах: один будет передан Вам лично, а другой будет отослан по
почте, на случай, если, по каким-либо причинам, не может быть передан лично.
Пользуюсь случаем, чтобы засвидетельствовать Вам чувство своих глубочайших преданности и уважения.
В. Мирошниченко
С. Богучаны (Красноярского края), метеорологическая станция. Валерию Артуровичу Мирошниченко.
В молотовском архиве сохранилась справка по делу Мирошниченко, составленная его секретарем:
«Мирошниченко В. А., 35-ти лет, беспартийный.
Выслан в село Богучаны Красноярского края. Бывший студент Московского текстильного института по факультету художественного оформления тканей.
Пишет на имя В. М. и отдельно на имя П. С.
Будучи одарен хорошим голосом, часто выступал в самодеятельных концертах с русскими и неаполитанскими песнями.
Как-то в общежитии, во время разговора об итало-абис-синской войне, в шутливом тоне назвал себя на этом основании «итальянцем».
В результате заявления, сделанного студентом Кузнецовым, был 26 IV-36 г. арестован и в недопустимой форме допрашивался следователем Бутырского изолятора Подольским.
Был обвинен, как бывший «белый» (хотя у белых не служил) по статье 58-10 за агитацию в пользу итальянского фашизма.
Просит дать возможность возобновить занятия в институте и привлечь к ответственности Кузнецова и Подольского.
Предлагает свои услуги в качестве осведомителя о студенческих настроениях.
В случае невозможности продолжения учебы грозит покончить самоубийством».
На этой справке Молотов наложил резолюцию: «т.т. Вышинскому, Ежову на рассмотрение».
Молотов направил справку о деле Мирошниченко «на рассмотрение» Вышинскому и Ежову, но оно осталось без
последствий, по крайней мере благоприятных, для его корреспондента. Одного молотовского слова для освобождения бедняги студента оказалось недостаточно. Да и студент был человеком в высшей степени наивным, витавшим в облаках «чистого искусства». Одна просьба к Вышинскому посодействовать его карьере певца чего стоит!
Не помогло и предложение Валерием Артуровичем своих услуг в качестве сексота. Возможно, в НКВД рассудили, что досрочно вернувшийся из ссылки и восстановившийся в институте студент все равно не будет пользоваться доверием товарищей, которые заподозрят в нем стукача. Наоборот, его положение вскоре существенно ухудшилось. Мирошниченко Валерий Артурович, 1901 года рождения, отбывавший с 1936 года по постановлению особого совещания ссылку в Богучанском районе Красноярского края, был повторно арестован 14 февраля 1938 года и 5 марта осужден «тройкой» по 58-й статье на 10 лет исправительно-трудовых лагерей, отбывал срок в Норильлаге, работал нарядчиком и бригадиром плотников.
Не исключено, что Ежов распорядился арестовать Мирошниченко, чтобы всегда иметь его под рукой, как человека, так или иначе связанного с семьей Молотова. Он мог бы пригодиться в том случае, если бы Сталин решил вывести в расход своего давнего друга — Вячеслава Михайловича или кого-нибудь другого из «знатных людей» и организовать соответствующие политические процессы. Но вполне возможно, что Мирошниченко был обычным «повторником», и его, как и других ссыльных, арестовали списочным порядком. Валерий Артурович был реабилитирован только в 1958 году — по иронии судьбы уже после того, как Молотов лишился всякой власти и оказался в опале.
Покушение на Молотова
Уже на Новосибирском процессе мы неожиданно узнали, что троцкисты устроили покушение на Молотова. (В сентябре 1936 года арестованному в Сибири мелкому служащему Арнольду следователь заявил: «Мы располагаем достаточ-
ным материалом, чтобы обвинить вас в шпионаже (Арнольд во время Первой мировой войны дезертировал из царской армии и в 1917—1923 годах служил в американских войсках), но сейчас мы тебя обвиняем как участника террористической организации и других показаний не требуем, выбирай, кем хочешь быть — или шпионом, или террористом». Арнольд предпочел признаться в «террористических намерениях», и эпизод с покушением на Молотова фигурировал на процессе троцкистов в ноябре 1936 года. — Б. С).
Наконец-то и Молотов удостоился великой чести: получил свое покушение (по-старому — вроде «Андрея Первозванного»). Он был, как известно, обойден на процессе Зиновьева. В списках вождей, на которых «террористы» якобы готовили покушения, Молотов не значился. «Бюллетень», отметив в свое время это странное обстоятельство, высказал предположение: уж не готовил ли Сталин — издалека — проработку Молотова, не включая его в вышеупомянутый список? Теперь Молотов реабилитирован: его тоже хотели убить троцкисты.
История этого «покушения» такова. Проживавший в Москве Пятаков поручил убийство Молотова, находящегося также в Москве, Шестову, живущему в Сибири. На тот случай, видите ли, если Молотов случайно туда приедет. Несколько сложно, но допустим. Шестов поручает организацию убийства некоему Черепухину, имя которого неоднократно упоминается на процессе, но которого почему-то нет на скамье подсудимых. (В таком же положении, впрочем, находится еще около 150 человек, обвиненных на процессе в тех самых преступлениях, за которые были судимы 17.)
Убийство должен был совершить подсудимый Арнольд. Он вооружается не револьвером, а... автомобилем. Шофер Арнольд должен опрокинуть автомобиль с Молотовым в пропасть и погибнуть со своей жертвой. Способ не лишенный романтики, но надо признать, что проще было бы действовать при помощи револьвера. Недаром «из-за недостаточной скорости машина перевернулась, но катастрофа не удалась». Это не мешает прокурору заявить, что «только высокая бдительность чекистов помешала осуществлению этого покушения». То есть как так? Либо недостаток скорости, либо бдительность. Или недостаток скорости объясняется бдительностью, т. е. тем, что сидевший
за рулем «террорист» был сотрудником Ягоды? И не поэтому ли был помилован без объяснения причин этот единственный «активный» террорист (Арнольд) на процессе?
Так или иначе, но, проявляя эту самую бдительность, ге-пеуры, во всяком случае, должны были знать, что на Молотова было произведено покушение. «Дело» происходило в 1934 году. Между тем на Московском процессе в августе 1936 года о покушении на Молотова, как мы указывали, ничего не сообщалось. «Бдительное» ГПУ, помешавшее осуществлению этого покушения в 1934 году, ничего не знало о нем в августе 1936 года! Не подлежит, следовательно, сомнению, что «покушение» на Молотова принадлежит к числу новейших изобретений, уже после процесса Зиновьева.
Что касается автомобиля как орудия убийства, то его применение было, по-видимому, излюбленным методом этих современных террористов.
Сибирский инженер Боярышнев, возвращаясь с вокзала, был раздавлен грузовиком. Несчастье произошло в 1934 году. В 1937 году Вышинский, со свойственной ему проницательностью, обнаружил, что это было преднамеренное убийство по распоряжению того же мрачного злодея Черепухина. Уликой послужило то обстоятельство, что грузовик, о котором шла речь, принадлежал тресту, во главе которого стоял Шестов, а начальником гаража был Арнольд...
Бюллетень оппозиции. 1937. № 54—55.
Письмо А. Байрали-Алибейли В. М. Молотову. 1938 год
Москва
Совет Народных Комиссаров Председателю СНК Вячеславу Михайловичу Молотову От пионерки Байрали-Алибейли Азы, проживающей в АзССР, гор. Баку, Почтовая, № 68.
Заявление
Дорогой дядя тов. Молотов!
Пишу Вам, думая, что у Вас я найду помощь и защиту. Нас 3 сестры. Я самая старшая. Мне 14 лет, второй —
12 лет и третьей — 9 лет. Отца мы не имеем. Нас растила мать. 14 ноября п. г. маму арестовали. Но я не об этом хочу писать. Власть сама знает все и выяснит, виновата или не виновата она. Мы остались с бабушкой. Ей 85 лет. Она еще бодрая, готовит нам и ухаживает за нами, а мы учимся и готовим уроки. Я учусь в 8 классе, а сестры в 5 и во 2 классах. Мы — отличники учебы. Мы учимся и музыке. Я, как одаренная музыкальной способностью, получаю стипендию и даже выступаю. С (далее пропуск в письме. — Б. С.) лет я учусь музыке. Но наше несчастье в том, что после мамы пришли, описали все вещи, а вчера пришли, взяли их. Взяли наш письменный стол, кровати, все другое, но самое главное — это мое пианино. Мы уроки будем готовить на ящике, спать на полу, но без пианино я не смогу жить. Моя мечта стать пианисткой. Я плачу, и, наверное, заболею, я умру. Я умоляю оставить мне его. Мы, дети, ни в чем не виноваты. Мы никому не делали плохого. Зачем мы должны страдать за своих родителей? Неужели наша Советская власть нуждается в моем пианино? Я побежала со слезами в Бакинский Совет, но там сказали, что раз взято — ничего не поделаешь. Дорогой дядя Молотов! Что нам делать? Но я думаю, что наша власть, наш любимый вождь товарищ Сталин, если бы знал это, он оставил бы нам пианино. Мы очень просим помочь нам. А сегодня даже пришли выселять нас куда-то в подвальное помещение. Что делать? Помогите! Напишите в Баксовет, чтобы сжалились над нами. У нас никого нет. Наоборот, другим одаренным детям власть наша дарит пианино, а у нас троих его отнимают. Вы все в Москве. Посоветуйтесь с товарищем Сталиным. Простите меня, что решилась Вам написатц Я напишу в «Пионерскую правду» тоже, может быть, это мое письмо не дойдет до Вас. Я попрошу редакцию нашей газеты, чтобы она там помогла нам, девочкам, и передала нашу просьбу Вам.
Байрали-Алибейли Аза
3.11.38 г.
На письме имеется резолюция Молотова:
«т. Тихомирнову: Надо защитить, если письмо правдивое. 9.11.38».
Письмо на бланке «НКВД СССР. Оперативный секретарь Главного Управления Государственной Безопасности»
Секретно
Зав. Секретариатом Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР тов. Тихомирнову.
Произведенным расследованием по существу Вашего телефонного запроса в отношении гражданки Байрам Али Бетш, установлено:
1) Отец гражданки Байрам Али Бетш — Мелик Еганов, бывший в период мусавата генерал-губернатором Ленко-ранского округа, 8/1 1931 г. Коллегией ОГПУ был осужден к заключению в концлагерь сроком на 10 лет.
2) Мать гражданки Байрам Али Бетш — Байрам Али Бе-кова за пребывание в рядах мусаватистской партии и контрреволюционную деятельность, 12/ХН 1937 г. осуждена к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет.
3) В семье Байрам после ареста матери осталось трое детей: 14, 12 и 9 лет. Все учатся и находятся под присмотром бабушки.
4) Наркомом внутренних дел Аз.ССР тов. Раевым возвращены гражданке Байрам Али Бетш пианино и шкаф, а также урегулирован вопрос с квартирой. Гражданка Байрам Али Бетш никаких претензий больше не предъявляла.
Комбриг Ульмер
7 марта 1938 г.
РГАСПИ. Ф. 82, оп. 2, д. 1441, л. 11-15
Дневниковая запись А. М. Коллонтай. Конец ноября 1939 года
Я сижу и ожидаю в приемной вызова Молотова. Часами жду. Секретари возвращаются из кабинета и лаконично бросают мне:
— Нет, все еще занят, обождите.
Наконец секретарь отворяет передо мною дверь кабинета Молотова:
— Войдите, Вячеслав Михайлович вас ждет.
Молотов начал беседу с вопроса:
— Приехали, чтобы хлопотать за ваших финнов?
— Я приехала, чтобы устно информировать вас, как за рубежом общественное мнение воспринимает наши сорвавшиеся переговоры с Финляндией. При личном свидании сделать объективное и полное донесение. Мне кажется, что в Москве не представляют себе, что повлечет за собой конфликт Советского Со*юза с Финляндией.
— Скандинавы убедились на примере Польши, что нацистам мы не даем поблажки.
— Все прогрессивные силы Европы будут на стороне Финляндии.
— Это вы империалистов Англии и Франции величаете прогрессивными силами? Их козни нам известны. А как ваши шведы? Удержатся ли на провозглашенной нейтральности?
Я старалась кратко, но четко указать Молотову на те неизбежные последствия, какие повлечет за собой война. Не только скандинавы, но и другие страны вступятся за Финляндию.
На этом Молотов перебил меня:
— Вы имеете в виду опять-таки «прогрессивные си-, лы» — империалистов Англии и Франции? Это все учтено нами.
Моя информация встречена была Молотовым решительным отводом. Молотов несколько раз внушительно повторял мне, что договориться с финнами нет никакой возможности. Он перечислил основы проекта договора с Финляндией, которые сводились к обеспечению наших границ и, не посягая на незавцсимость Финляндии, давали финнам компенсацию за передвижку линии границы более на север. На все предложения СССР у финской делегации был заготовлен только один ответ: «Нет, не можем принять».
Так как никакие доводы не принимались во внимание, это создавало впечатление, что финское правительство решило для себя вопрос о неизбежности войны против СССР. Однако советское правительство, говорил нарком, заинтересовано в нейтралитете скандинавских стран.
— Нужно сделать все возможное, чтобы удержать их от вступления в войну. Одним фронтом против нас будет меньше, — сказал Молотов на прощание.
С каким-то чувством неудовлетворенности, усталости и встающей тяжелой ответственности я медленно пошла в гостиницу, перебирая детали встречи с Молотовым. Стремилась как можно быстрее решить служебные вопросы по наркоминделу и внешнеторговому ведомству и возвратиться в Стокгольм. Хотелось, особенно после встречи с Молотовым, позвонить Сталину. Внутренне порывалась несколько раз, но, сознавая всю сложившуюся обстановку, ту напряженность момента и ответственность, которая свалилась на Сталина, я беспокоить его не могла... Прошло несколько суетливых дней. Я решила почти все свои дела и уже собиралась уезжать. Вдруг раздался телефонный звонок.
— Товарищ Александра Михайловна Коллонтай?
— Да. Я вас слушаю.
— Вас приглашает товарищ Сталин. Могли бы вы встретиться? И какое время вас бы устроило?
Я ответила, что в любую минуту, как это угодно товарищу Сталину.
На какое-то время наступило молчание. Видимо, секретарь докладывал Сталину.
— А сейчас можете?
— Конечно могу.
— Через семь минут машина будет у главного подъезда гостиницы «Москва». До свидания, Александра Михайловна.
Я вновь в кабинете Сталина в Кремле. Сталин встал из-за своего рабочего стола мне навстречу и, улыбаясь, долго тряс мою руку. Спросил о здоровье и предложил присесть.
Внешне Сталин выглядел усталым, озабоченным, но спокойным, уверенным, хотя чувствовалось, какая глыба тяжести на нем лежит. Это с особой силой я почувствовала, когда Сталин стал прохаживаться вдоль длинного стола взад и вперед. Его голова как будто втянулась в плечи под громадою дел. И тут же Сталин спросил: «Как идут дела у вас и ваших скандинавских нейтралов?»
Пока я собиралась кратко и притом емко ответить, Сталин заговорил о переговорах с финской делегацией в Москве, о том, что шестимесячные переговоры ни к чему
не привели. Финская делегация в середине ноября уехала из Москвы и больше не вернулась с «новыми директивами», как обещала. Договор, который должен был обеспечить мир и мирное соседство между СССР и Финляндией, остался неподписанным. Сталин был обеспокоен, но никакой тревоги не ощущалось.
В основном разговор велся вокруг обстановки, сложившейся с Финляндией. Сталин советовал усилить работу советского посольства по изучению обстановки в скандинавских странах в связи с проникновением Германии в эти страны, чтобы привлечь правительства Норвегии и Швеции и повлиять на Финляндию, дабы не допустить конфликта. И, как бы заключая, сказал, что «если уж не удастся его предотвратить, то он будет недолгим и обойдется малой кровью. Время “уговоров” и “переговоров” кончилось. Надо практически готовиться к отпору, к войне с Гитлером».
Я почувствовала, что меня будто ударило каким-то током. Я впервые ощутила, как близка война. Из моих рук даже вывалился блокнот, который я брала с собой, идя в Кремль к Сталину, чтобы все записать...
На этот раз беседа продолжалась более двух часов. Я не заметила, как быстро пролетело время. Сталин, беседуя со мной, в то же время как бы рассуждал вслух сам с собой. Он коснулся многих вопросов: о поражении народного фронта в Испании, много говорил о героях этой борьбы. Это продолжалось всего несколько минут. Главные его мысли были сосредоточены на положении нашей страны в мире, ее роли и потенциальных возможностях. «В этом плане, — подчеркнул он, — экономика и политика неразделимы». Говоря о промышленности и сельском хозяйстве, он назвал нескольких ответственных лиц за дела и десятки имен руководителей больших предприятий, заводов, фабрик и работников в сельском хозяйстве. Особо он был обеспокоен перевооружением армии, а также ролью тыла в войне, необходимостью усиления бдительности на границе и внутри страны. И, как бы заключая, особо подчеркнул: «Все это ляжет на плечи русского народа. Ибо русский народ — великий народ. Русский народ — это добрый народ. У русского народа — ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена.
Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ — неодолим, неисчерпаем».
Я старалась не пропустить ни одного слова, так быстро записывала, что сломался карандаш. Я как-то неуклюже стремилась схватить второй из стоящих на столе, чуть не повалила их подставку. Сталин взглянул, усмехнулся и стал прикуривать свою трубку...
Размышляя о роли личности в истории, о прошлом и будущем, Сталин коснулся многих имен — от Македонского до Наполеона. Я старалась не пропустить, в каком порядке он стал перечислять русские имена.
Начал с киевских князей. Затем перечислил Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Калиту, Ивана Грозного, Петра Первого, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Закончил Марксом и Лениным.
Я тут вклинилась, хотела сказать о роли Сталина в истории. Но сказала только: «Ваше имя будет вписано...» Сталин поднял руку и остановил меня. Я стушевалась. Сталин продолжал:
«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено, прежде всего, на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле работы.
С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вож-дей-пигмеев, предателей внутри своих наций.
В целом и будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно кру-
тыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.
И все же как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом».
Эта беседа произвела на меня неизгладимое впечатление. Я по-другому взглянула на окружающий меня мир. Я к ней обращалась мысленно много-много раз уже в годы войны и после нее, перечитывала неоднократно и все время находила в ней что-то новое, какой-то поворот, какую-то новую грань. И сейчас, как наяву, вижу кабинет Сталина в Кремле. В нем длинный стол и Сталина...
Уходя из кабинета, я ощутила какую-то грусть. Прощаясь, Иосиф Виссарионович сказал: «Крепитесь. Наступают, не за горами тяжелые времена. Их надо преодолеть». И, немного помолчав, сказал: «Преодолеем. Обязательно преодолеем! Берегите себя, крепите здоровье, закаляйтесь в борьбе!»
Выйдя из Кремля, я не пошла, просто побежала, не замечая никого, повторяя, чтобы не забыть, сказанное Сталиным. Войдя в дом, я тут же вытащила блокнот со своими заметками, схватила бумагу и стала записывать. Взглянула на часы. Была уже глубокая ночь. Часы показывали без десяти минут два...
Труш М. И. Коллонтай: встречи со Сталиным // Диалог. 2004. №3. С. 20-33
N
В. М. Молотов. Внешняя политика правительства. Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел на заседании VI Сессии Верховного Совета Союза ССР 29 марта 1940 года
Товарищи депутаты!
Со времени последней сессии Верховного Совета прошло пять месяцев. За этот небольшой период произошли события, имеющие первостепенное значение в развитии
14 Соколов
международных отношений. В связи с этим необходимо рассмотреть на настоящей сессии Верховного Совета вопросы, относящиеся к нашей внешней политике.
Последние события в международной жизни необходимо рассматривать, прежде всего, в свете войны, начавшейся в Центральной Европе осенью прошлого года. В войне между англо-французским блоком и Германией до сих пор не было крупных сражений, и дело ограничивалось отдельными столкновениями, главным образом на море, а также в воздухе. Известно, однако, что выраженное еще в конце прошлого года стремление Германии к миру было отклонено правительствами Англии и Франции, ввиду чего с обеих сторон подготовка к развертыванию войны еще больше усилилась.
Германия, объединившая за последний период до 80 миллионов немцев, поставившая под свое господство некоторые соседние государства и во многом усилившаяся в военном отношении, стала, как видно, опасным конкурентом главных империалистических держав в Европе — Англии и Франции. Поэтому, под предлогом выполнения своих обязательств перед Польшей, они объявили войну Германии. Теперь особенно ясно видно, как далеки действительные цели правительств этих держав от интересов защиты распавшейся Польши или Чехословакии. Это видно уже из того, что правительства Англии и Франции провозгласили своими целями в этой войне разгром и расчленение Германии, хотя эти цели перед народными массами все еще прикрываются лозунгами защиты «демократических» стран и «прав» малых народов.
Поскольку Советский Союз не захотел стать пособником Англии и Франции в проведении этой империалистической политики против Германии, враждебность их позиций в отношении Советского Союза еще больше усилилась, наглядно свидетельствуя, насколько глубоки классовые корни враждебной политики империалистов против социалистического государства. Начавшуюся же в Финляндии войну англо-французские империалисты готовы были сделать отправным пунктом для войны против СССР с использованием в этих целях не только самой Финляндии, но и скандинавских стран — Швеции и Норвегии.
Отношение Советского Союза к развертывающейся в Европе войне известно. Проникнутая миролюбием внешняя политика СССР и здесь была продемонстрирована с полной определенностью. Советский Союз сразу же заявил, что он стоит на позиции нейтралитета и неуклонно проводил эту политику в течение всего истекшего периода.
Крутой поворот к лучшему в отношениях между Советским Союзом и Германией нашел свое выражение в договоре о ненападении, подписанном в августе прошлого года. Эти новые, хорошие советско-германские отношения были проверены на опыте в связи с событиями в бывшей Польше и достаточно показали свою прочность. Предусмотренное еще тогда, осенью прошлого года, развитие экономических отношений получило свое конкретное выражение еще в августовском (1939 г.), а затем в февральском (1940 г.) торговых соглашениях. Товарооборот между Германией и СССР начал увеличиваться на основе взаимной хозяйственной выгоды, и имеются основания для дальнейшего его развития.
Наши отношения с Англией и Францией сложились несколько по-другому. Поскольку Советский Союз не пожелал стать орудием англо-французских империалистов в их борьбе за мировую гегемонию против Германии, нам на каждом шагу приходилось натыкаться на глубокую враждебность их политики в отношении нашей страны. Наиболее далеко дело зашло в финляндском вопросе, на чем я остановлюсь позже. Но и других фактов враждебности французской и английской политики в отношении СССР за последние месяцы было немало.
Достаточно указать, что французские власти не нашли ничего лучшего, как устроить два месяца тому назад полицейский налет на наше торгпредство в Париже. Произведенный в торгпредстве обыск, несмотря на все придирки, не дал никаких результатов. Он лишь оскандалил инициаторов этого безобразного дела и показал, что никаких реальных поводов для этого враждебного в отношении нашей страны акта не имелось. Как мы видим из обстоятельств дела, связанных с отзывом нашего полномочного представителя во Франции тов. Сурица, французское правительство ищет искусственных поводов, чтобы подчеркнуть свою не-дружелюбность в отношении Советского Союза. Чтобы
было ясно, что Советский Союз не больше заинтересован в отношениях между обеими странами, чем Франция, мы отозвали тов. Сурица с поста полпреда во Франции.
Или возьмите такие примеры враждебных по отношению к СССР актов, как захват английскими военными судами на Дальнем Востоке двух наших пароходов, шедших во Владивосток с товарами, закупленными нами в Америке и Китае. Если добавить к этому такие факты, как отказ от выполнения наших старых заказов на промышленное оборудование в Англии, наложение ареста на денежные суммы торгпредства во Франции и многие другие, то враждебность действий английских и французских властей в отношении Советского Союза будет видна еще больше.
Были попытки оправдать эти враждебные в отношении нашей внешней торговли акты тем, что нашей торговлей с Германией мы помогаем последней в войне против Англии и Франции. Нетрудно убедиться, что эти аргументы не стоят ломаного гроша. Для этого нужно сравнить СССР хотя бы с Румынией. Известно, что половину всего внешнего товарооборота Румынии составляет торговля с Германией, причем доля национальной продукции Румынии в экспорте в Германию, например, по таким основным товарам, как нефтепродукты и зерно, намного превышает долю национальной продукции СССР в нашем экспорте в Германию. Тем не менее, в отношении Румынии правительства Англии и Франции не прибегают к враждебным актам и не считают возможным требовать от Румынии прекращения торговли с Германией. Совсем другое отношение к Советскому Союзу. Следовательно, враждебные акты в отношении Советского Союза со стороны Англии и Франции объясняются не торговлей СССР с Германией, а тем, что у англо-французских правящих кругов сорвались расчеты насчет использования нашей страны в войне против Германии и они, ввиду этого, проводят политику мести в отношении Советского Союза. Необходимо добавить, что все эти враждебные действия со стороны Англии и Франции проводились, несмотря на то что Советский Союз не предпринимал до сих пор никаких недружелюбных действий в отношении этих стран. Приписываемые же Советскому Союзу фантастические планы каких-то походов Красной Армии «на Индию», «на Восток» и т. п. —
такая очевидная дикость, что подобной нелепой брехне могут верить только люди, совсем выжившие из ума. (С м е х.) Дело, конечно, не в этом. Дело, очевидно, в том, что политика нейтралитета, проводимая Советским Союзом, пришлась не по вкусу англо-французским правящим кругам. К тому же нервы у них, видимо, не совсем в порядке. (С м е х.) Они хотят навязать нам другую политику — политику вражды и войны с Германией, политику, которая дала бы им возможность использовать СССР в империалистических целях. Пора бы этим господам понять, что Советский Союз не был и никогда не будет орудием чужой политики, что СССР всегда проводил и будет проводить свою собственную политику, не считаясь с тем, нравится это господам из других стран или не нравится. (Бурные, продолжительные аплодисменты.)
Перехожу к финляндскому вопросу. В чем смысл войны, развернувшейся в Финляндии на протяжении последних трех с лишним месяцев? Вы знаете, что смысл этих событий заключался в обеспечении безопасности северо-западных границ Советского Союза, и прежде всего в обеспечении безопасности Ленинграда.
На протяжении октября и ноября месяцев прошлого года советским правительством велись переговоры с финляндским правительством о предложениях, осуществление которых в современной, все более накаляющейся международной обстановке мы считали совершенно необходимым и неотложным для обеспечения безопасности страны, и особенно для безопасности Ленинграда. Из этих переговоров ничего не вышло, ввиду занятой финляндскими представителями недружелюбной позиции. Решение вопроса перешло на поля войны. Можно с уверенностью сказать, что если бы в отношении Финляндии не было внешних влияний, если бы в отношении Финляндии было меньше подстрекательств к враждебной Советскому Союзу политике со стороны некоторых третьих государств, то Советский Союз и Финляндия уже осенью прошлого года мирно договорились бы между собою и дело обошлось бы без войны. Но, несмотря на то что свои пожелания советское правительство свело к минимуму, дело не удалось кончить дипломатическим путем.
Теперь, когда военные действия в Финляндии окончились и подписан Мирный Договор между СССР и Финляндской Республикой, надо и можно судить о значении войны в Финляндии на основании неоспоримых фактов. А эти факты говорят сами за себя. Эти факты говорят о том, что поблизости от Ленинграда, на всем Карельском перешейке, углубляясь на 50—60 километров, финляндские власти соорудили многочисленные и мощные железобетонные и гранитно-земляные военные укрепления с артиллерией и пулеметами. Число этих укреплений исчисляется многими сотнями. Эти военные укрепления, особенно железобетонные сооружения, достигшие значительной военной мощи, имевшие подземные соединения, окруженные специальными противотанковыми рвами и надолбами из гранита и поддерживаемые устройством многочисленных минных полей, в совокупности составляли так называемую «линию Маннергейма», построенную под руководством соответствующих иностранных специалистов по типу «линии Мажино» и «линии Зигфрида». Следует отметить, что эти укрепления считались до наших дней неприступными, т. е. такими укреплениями, которые до сих пор еще ни одной армией не были сокрушены. Следует также отметить, что каждую деревушку в этих районах финские военные власти заранее старались превратить в укрепленный пункт, снабженный оружием, радиоантеннами, колонками для горючего и т. п. Во многих местах в Южной и Восточной Финляндии вплотную к нашей границе были проведены стратегические железнодорожные пути и шоссейные дороги, не имеющие никакого хозяйственного значения.
Коротко говоря, военные действия в Финляндии показали, что Финляндия, и прежде всего Карельский перешеек, была уже к 1939 году превращена в готовый военный плацдарм для третьих держав для нападения на Советский Союз, для нападения на Ленинград.
Неоспоримые факты показали, что враждебность финляндской политики, с которой мы столкнулись осенью прошлого года, была не случайна. Враждебные Советскому Союзу силы подготовили против нашей страны, и прежде всего против Ленинграда, такой военный плацдарм в Финляндии, который при определенных, неблаго-
приятных для CQGP внешних обстоятельствах должен был сыграть свою роль в планах антисоветских сил империалистов и их союзников в Финляндии.
Красная Армия не только сокрушила «линию Маннер-гейма» и тем покрыла себя славой, как первая армия, в труднейших условиях проложившая путь через большую мощную полосу вполне современных военных укреплений, — Красная Армия вместе с Красным Флотом не только сокрушила финляндский военный плацдарм, подготовленный для нападения на Ленинград, но и ликвидировала кое-какие антисоветские планы, взлелеянные на протяжении последних лет некоторыми третьими странами. (Продолжительные аплодисменты.)
Насколько далеко зашла враждебность к нашей стране в правящих и военных кругах Финляндии, подготовлявших военный плацдарм против СССР, видно также из многочисленных фактов исключительного варварства и зверства со стороны белофиннов в отношении раненых и попавших в плен красноармейцев. Так, когда в одном из районов севернее Ладожского озера финны окружили наши санитарные землянки, где находилось 120 тяжелораненых, все они были уничтожены белофиннами, часть их сожжена, часть найдена с разбитыми головами, остальные заколоты или пристрелены. Несмотря на наличие смертельных ран, значительная часть погибших здесь, как и в других местах, имела следы пристрелов в голову и добивания прикладами, а часть убитых огнестрельным оружием имела ножевые раны, нанесенные финками в лицо. Некоторые трупы были найдены с отрубленными головами и головы не были обнаружены. В отношении попавших в руки белофиннов женщин-'санитарок применялись специальные издевательства и невероятные зверства. В некоторых случаях трупы убитых приставлялись к деревьям вверх ногами. Все это варварство и бесчисленные зверства — плоды политики финляндской белогвардейщины, стремившейся раздуть в своем народе ненависть к нашей стране.
Так выглядит лицо финских защитников «западной цивилизации». Нетрудно видеть, что война в Финляндии была не просто столкновением с финскими войсками. Нет, здесь дело обстояло посложнее. Здесь произошло столкновение
наших войск не просто с финскими войсками, а с соединенными силами империалистов ряда стран, включая английских, французских и других, которые помогали финляндской буржуазии всеми видами оружия, и особенно артиллерией и самолетами, а также своими людьми под видом «добровольцев», своим золотом и всяким снабжением, своей бешеной агитацией во всем мире за всяческое раздувание войны против Советского Союза. К этому надо добавить, что в яростном вое врагов Советского Союза все время выделялись визгливые голоса всех этих проституированных «социалистов» из II Интернационала (веселое оживление в зале), всех этих Эттли и Блюмов, Ситри-ных и Жуо, Транмелей и Хеглундов — лакеев капитала, вконец продавших себя поджигателям войны.
Английский премьер Чемберлен, выступая 19 марта в палате общин, не только выразил злое сожаление в связи с тем, что не удалось помешать окончанию войны в Финляндии, перед всем миром вывернув тем самым наизнанку свою «миролюбивую» империалистическую душу (смех), но и дал что-то вроде отчета в том, как и чем именно английские империалисты стремились помочь разжиганию войны в Финляндии против Советского Союза. Чемберлен огласил список военных материалов, которые были обещаны и отправлены в Финляндию: было обещано 152 самолета, послано — 101 самолет; было обещано орудий — 223, послано — 114; было обещано снарядов — 297 тысяч, послано — 185 тысяч; пушек Виккерса было обещано — 100, послано — 100; было обещано авиационных бомб — 20 700, было послано — 15 700; было обещано противотанковых мин — 20 000, было послано — 10 000 и т. д. Не стесняясь, Чемберлен рассказывал и о том, что «подготовка к отправке экспедиционных частей велась с максимальной быстротой, и экспедиционная армия в количестве 100 тысяч человек была готова к отправке в начале марта — за два месяца до того срока, который назначил Маннергейм для их прибытия в Финляндию... Эти войска не должны были быть последними».
Вот как выглядит на деле «миролюбивый» английский империалист по своим же собственным признаниям.
Что касается Франции, то, по сообщениям французской печати, оттуда было отправлено в Финляндию 179 самолетов,
472 орудия, 795 000 снарядов, 5 100 пулеметов, 200 000 ручных гранат и т. д. 11 марта тогдашний французский премьер Даладье заявил в палате депутатов, что «Франция выступила во главе стран, которые согласились поставлять военные материалы Финляндии, и в частности, Франция, по просьбе Хельсинки, только что послала в Финляндию ультрасовременные бомбардировщики». Даладье заявлял, что «с 26 февраля экспедиционный корпус французских войск снаряжен и подготовлен. Значительное количество судов готово отправиться из двух крупных портов Ла-Манша и Атлантического побережья». Даладье заявлял также, что союзники «придут на помощь Финляндии всеми обещанными силами».
Эти враждебные Советскому Союзу заявления Даладье говорят сами за себя. Однако нет нужды останавливаться на этих враждебных заявлениях, поскольку в них, видимо, уже нет в полной мере трезвого хода мыслей. (Веселое оживление в зале.)
Следует еще упомянуть об участии в финляндской войне Швеции. По сообщениям, обошедшим все шведские газеты, Швеция предоставила в распоряжение Финляндии во время войны против Советского Союза «известное количество самолетов, которые составляли примерно одну пятую часть всех тогдашних шведских военно-воздушных сил». По заявлению шведского военного министра, финны получили из Швеции 84 000 винтовок, 575 пулеметов, свыше 300 артиллерийских орудий, 300 тысяч гранат, 50 миллионов патронов. Весь этот материал, по заявлению министра, был самого новейшего образца.
Не отстала в раздувании войны в Финляндии также и Италия. Она, например, послала в Финляндию 50 военных самолетов.
Военная помощь Финляндии шла также из столь преданных «миролюбию» Соединенных Штатов Америки. (Общий смех.)
Общее количество всякого вооружения, посланного Финляндии из других стран только за время войны, достигло, по неполным сведениям: самолетов — не менее 350, артиллерийских орудий до 1500, свыше 6000 пулеметов, до 100 тысяч винтовок, 650 000 ручных гранат, 2 500 000 снарядов, 160 000 000 патронов и еще многое другое.
Нет нужды приводить другие факты, подтверждающие, что в Финляндии дело шло не просто о нашем столкновении с финскими войсками, а о столкновении с соединенными силами ряда наиболее враждебных Советскому Союзу империалистических стран. Сломив эти соединенные силы врагов, Красная Армия и Красный Флот вписали новую славную страницу в свою историю и показали, что в нашем народе источник отваги, самоотверженности и героизма неисчерпаем. (Бурные аплодисменты.)
Война в Финляндии потребовала как от нас, так и от финнов больших жертв. По подсчетам нашего Генерального Штаба, на нашей стороне количество убитых и умерших от ран составляет 48 745 человек, то есть немного меньше 49 тысяч человек, количество раненых — 158 863 человека. С финской стороны делаются попытки преуменьшить их жертвы, но жертвы финнов значительно больше наших. По минимальным подсчетам нашего Генерального Штаба, у финнов количество убитых достигает не менее 60 тысяч, не считая умерших от ран, а количество раненых не менее 250 000 человек. Таким образом, исходя из того, что численность финской армии составляла не менее 600 тысяч человек, нужно признать, что финская армия потеряла убитыми и ранеными более половины своего состава.
Таковы факты.
Остается вопрос, почему все же правящие круги Англии и Франции, а также некоторых других стран так активно участвовали в этой войне на стороне Финляндии против Советского Союза. Известно, что правйтельства Англии и Франции предпринимали отчаянные усилия, чтобы помешать окончанию войны и восстановлению мира в Финляндии, хотя они не связаны никакими обязательствами по отношению к Финляндии. Известно также, что в свое время даже при наличии пакта о взаимопомощи между Францией и Чехословакией Франция не пришла на помощь Чехословакии. А Финляндии прямо навязывали свою военную помощь как Франция, так и Англия, чтобы только помешать окончанию войны и восстановлению мира между Финляндией и Советским Союзом. Наемные разбойники пера — из числа всяких писателей, специализировавшихся на газетном жульничестве и надувательстве, пытаются объяснить подобное поведение англо-француз-
ских кругов особой заботой о «малых народах». Но объяснять эту политику Англии и Франции особой заботой об интересах малого государства просто смешно. Объяснять ее обязательствами перед Лигой Наций, которая потребо-вала-де защиты ее члена, также совершенно неостроумно.
В самом деле, не прошло еще и года, как Италия захватила и уничтожила независимую Албанию, состоявшую членом Лиги Наций. И что же? Выступили ли Англия и Франция в защиту Албании, подняли ли они хотя бы слабый голос против захватнических действий Италии, насильно подчинившей себе Албанию, не считаясь с ее населением, составляющим свыше миллиона человек, и не обращая внимания на то, что Албания — член Лиги Наций? Нет, ни английское, ни французское правительство, ни Соединенные Штаты Америки, ни Лига Наций, потерявшая всякий авторитет из-за хозяйничанья здесь все тех же англо-французских империалистов, даже не пошевелили пальцем по этому случаю. Эти «защитники» малых народов, эти «поборники» прав членов Лиги Наций на протяжении целых 12 месяцев так и не решились поставить на обсуждение Лиги Наций вопрос о захвате Албании Италией, произведенном еще в апреле прошлого года. Больше того, они фактически санкционировали этот захват. Следовательно, совсем не защитой малых народов и не защитой прав членов Лиги Наций объясняется поддержка Финляндии против Советского Союза со стороны английских и французских правящих кругов. Эта поддержка объясняется тем, что в Финляндии у них был готовый военный плацдарм на случай нападения на СССР, а Албания не занимала такого места в их планах. На самом деле права и интересы малых народов представляют разменную монету в руках империалистов.
Руководящая газета английских империалистов «Таймс», как и руководящая газета французских империалистов «Тан», не говоря уже о других английских и французских буржуазных газетах, в последние месяцы откровенно призывали к интервенции против Советского Союза, ничуть не считаясь с тем, что между Англией и Францией с одной стороны и Советским Союзом с другой стороны существуют так называемые нормальные дипломатические отношения. В тон этим руководящим буржуазным
газетам, и даже забегая вперед, выступают с речами люди из лакейской, устроенной теперь в каждом «порядочном» буржуазном государстве, для «социалистов» типа Эттли в Англии, типа Блюма во Франции, которые так усердствуют насчет раздувания и дальнейшего расширения войны. В выступлениях англо-французской империалистической прессы и этих «социалистических» ее подголосков слышится голос того же озверелого империализма, ненавидящего социалистическое государство, который нам знаком с первых дней существования Советского Союза. Еще 17 апреля 1919 года английский «Таймс» писал: «Если мы посмотрим на карту, то мы найдем, что лучшим подступом к Петрограду является Балтика и что кратчайший и наиболее легкий путь к нему лежит через Финляндию, границы которой находятся всего в каких-нибудь 30 милях от столицы России. Финляндия — это ключ к Петрограду, а Петроград — это ключ к Москве». Если нужны были какие-либо доказательства того, что английские и французские империалисты не расстались до сих пор с такого рода сумасбродными планами, то после последних событий в Финляндии всякие неясности на этот счет устранены. Соответствующие планы вновь сорвались не по недостатку усердия антисоветских сил в Англии и Франции и не просто потому, что в последний момент руководящие круги Финляндии, а также Швеции и Норвегии проявили, наконец, известное благоразумие. Эти планы сорвались благодаря блестящим успехам Красной Армии, особенно на Карельском перешейке. (Аплодисменты.) Но мы не забудем, что последние события снова напомнили всем нам о необходимости дальнейшего неуклонного укрепления мощи нашей Красной Армии и всей обороны нашей страны. (Шумные и продолжительные аплодисменты.)
В начале февраля финнами был практически поставлен вопрос об окончании войны в Финляндии. Через шведское правительство мы узнали, что финляндское правительство хотело бы знать о наших условиях, на которых можно кончить войну. Раньше чем решить этот вопрос, мы обратились к Народному Правительству Финляндии, чтобы узнать его мнение по этому вопросу. Народное Правительство высказалось за то, чтобы в це-
лях прекращения кровопролития и облегчения положения финляндского народа следовало бы пойти навстречу предложению об окончании войны. Тогда нами были выдвинуты условия, которые вскоре были приняты финляндским правительством. Я должен добавить, что через неделю после начала переговоров с финнами со стороны английского правительства было также выражено желание выяснить возможность посредничества будто бы в целях окончания войны в Финляндии (с м е х), но когда наш полпред в Англии т. Майский информировал Лондон о соответствующих наших предложениях, впоследствии целиком принятых Финляндией, то английское правительство не захотело содействовать окончанию войны и восстановлению мира между СССР и Финляндией. Тем не менее соглашение между СССР и Финляндией вскоре состоялось. Результаты соглашения о прекращении военных действий и об установлении мира даны в Мирном Договоре, подписанном 12 марта. В связи с этим встал вопрос о самороспуске Народного Правительства, что им и было осуществлено.
Вы знаете условия, установленные Мирным Договором. Согласно этому Договору произведено изменение южной и частично восточной границ Финляндии. Весь Карельский перешеек вместе с Выборгом и Выборгским заливом, все западное и северное побережье Ладожского озера вместе с Кексгольмом и Сортавала перешли к Советскому Союзу. В районе Кандалакши, где граница Финляндии особенно близко подходила к Мурманской железной дороге, произведена отодвижка границы. К Советскому Союзу отошли принадлежавшие Финляндии небольшие части полуостровов Средний и Рыбачий — на севере, а в Финском заливе известная группа островов вместе с островом Гогланд. Кроме того, сроком на 30 лет к Советскому Союзу, в порядке аренды, с ежегодной уплатой Советским Союзом 8 миллионов финских марок, перешел полуостров Ханко с прилегающими к нему островами, где будет сооружена наша военно-морская база для обороны от агрессии входа в Финский залив. Договор, кроме того, облегчает возможность транзита товаров для Швеции, Норвегии и Советского Союза. Вместе с тем Мирный Договор предусматривает взаимное воздержание от всякого нападения
друг на друга и неучастие во враждебных друг другу коалициях.
В англо-французской прессе делались попытки изобразить советско-финляндский договор, и в частности переход Карельского перешейка к Советскому Союзу, как «уничтожение» независимости Финляндии. Это, конечно, дикость и пустая брехня! Финляндия представляет и теперь территорию почти в четыре раза большую, чем Венгрия, в восемь с лишком раз большую, чем Швейцария. Если никто не сомневается в том, что Венгрия и Швейцария являются независимыми государствами, как можно сомневаться в том, что Финляндия является независимой и суверенной?
В той же англо-французской прессе писали, что Советский Союз будто бы хочет превратить Финляндию только лишь в балтийское государство. Разумеется, и это глупость. Достаточно указать на то, что СССР, заняв во время войны прилегающий к Ледовитому океану район Петсамо, добровольно вновь вернул этот район Финляндии, так как считал необходимым предоставить Финляндии незамерзающий океанский порт. Из этого следует, что мы считаем Финляндию не только балтийской, но и северной страной.
Правда заключается не в этих выдумках англо-французских газет, набивших руку на всяких фальшивках антисоветской пропаганды. Правда заключается в другом, а именно в том, что Советский Союз, разбивший финскую армию и имевший полную возможность занять всю Финляндию, не пошел на это и не потребовал никакой контрибуции в возмещение своих военных расходов, как это сделала бы всякая другая держава, а ограничил свои пожелания минимумом, проявив великодушие в отношении Финляндии.
В чем основной смысл Мирного Договора? В том, что он должным образом обеспечивает безопасность Ленинграда, а также Мурманска и Мурманской дороги. На этот раз мы не могли ограничиться только теми пожеланиями, которые нами были выдвинуты осенью прошлого года и принятие которых Финляндией означало бы избежание войны. После того как пролилась — не по нашей вине — кровь наших бойцов и мы убедились, насколько далеко зашла враждебность политики финляндского правительства
в отношении Советского Союза, мы должны были вопрос о безопасности Ленинграда поставить на более надежную основу и, кроме того, должны были поставить вопрос о безопасности Мурманской железной дороги и Мурманска, являющегося единственным нашим незамерзающим океанским портом на Западе и потому имеющего исключительно большое значение для нашей внешней торговли и вообще для связи Советского Союза с другими странами. Никаких других целей, кроме обеспечения безопасности Ленинграда, Мурманска и Мурманской железной дороги, мы не ставили в Мирном Договоре. Но зато эту задачу мы считали необходимым решить надежным, прочным образом. Мирный Договор исходит из признания принципа государственной независимости Финляндии, из признания самостоятельности ее внешней и внутренней политики и, вместе с тем, из необходимости обеспечения безопасности Ленинграда и северо-западных границ Советского Союза.
Таким образом, цель, поставленная нами, достигнута, и мы можем выразить полное удовлетворение договором с Финляндией. (Аплодисменты.)
Отныне политические и хозяйственные отношения с Финляндией полностью восстанавливаются. Правительство выражает уверенность, что между Советским Союзом и Финляндией будут развиваться нормальные добрососедские отношения.
Надо, однако, предупредить против попыток нарушения только что заключенного Мирного Договора, которые уже делаются со стороны некоторых кругов Финляндии, а также Швеции и Норвегии под предлогом создания вот енно-оборонительного сокщ между ними. В свете недавней речи председателя норвежского стортинга г. Хамбро, призывавшего Финляндию, со ссылками на исторические примеры, «к отвоевыванию границ страны» и заявлявшего, что такой мир, какой заключен Финляндией с СССР, «не может существовать долго», — в свете этого и подобных выступлений нетрудно понять, что попытки создания так называемого «оборонительного союза» Финляндии, Швеции и Норвегии направлены против СССР и безрассудно подогреваются идеологией военного реванша. Создание такого военного союза с участием Финляндии
не только противоречило бы статье 3-й Мирного Договора, исключающей участие договаривающихся сторон во враждебных друг другу коалициях (союзах), но противоречило бы всему Мирному Договору, прочно определившему советско-финляндскую границу Верность этому Договору несовместима с участием Финляндии в каком-либо военно-реваншистском союзе против СССР. Участие же Швеции и Норвегии в таком союзе означало бы отказ этих стран от проводимой ими политики нейтралитета и переход их к новой внешней политике, из чего Советский Союз не мог бы не сделать своих соответствующих выводов.
В свою очередь, правительство считает, что у Советского Союза нет спорных вопросов со Швецией и Норвегией и что советско-шведские и советско-норвежские отношения должны развиваться на основе дружбы. Распространявшиеся же в антисоветских целях слухи о том, что Советский Союз будто бы требует портов на западном побережье Скандинавии, что он претендует на Нарвик и т. п., — такая дикость, что это не нуждается и в опровержении. Старания же господ «социалистов», вроде Хеглунда в Швеции и Тран-меля в Норвегии, портить отношения этих стран с Советским Союзом надо заклеймить как дело злейших врагов рабочего класса, купленных иностранными капиталистами и предающих интересы своего народа.
Заключение Мирного Договора с Финляндией завершает выполнение задачи, поставленной в прошлом году, по обеспечению безопасности Советского Союза со стороны Балтийского моря. Этот Договор является необходимым дополнением к трем договорам о взаимопомощи, заключенным с Эстонией, Латвией и Литвой. На основании полугодового опыта, прошедшего со времени заключения этих договоров о взаимопомощи, можно сделать вполне определенные положительные выводы о договорах с прибалтами. Следует признать, что договора Советского Союза с Эстонией, Латвией и Литвой способствовали упрочению международных позиций как Советского Союза, так и Эстонии, Латвии и Литвы. Вопреки запугиваниям, которыми занимались враждебные Советскому Союзу империалистические круги, государственная независимость и самостоятельность политики Эстонии, Латвии и Литвы ни в чем не пострадали, а хозяйственные отношения этих
стран с Советским Союзом стали заметно расширяться. Исполнение договЬров с Эстонией, Латвией и Литвой проходит удовлетворительно и создает предпосылки для дальнейшего улучшения отношений между Советским Союзом и этими государствами.
В последнее время в иностранной печати исключительно большое внимание уделялось вопросу о взаимоотношениях Советского Союза с его соседями по южной границе, в частности по Закавказью, а также с Румынией. Надо ли доказывать, что правительство не видит никаких оснований к ухудшению отношений с нашими соседями и на юге. Правда, сейчас в Сирии и вообще на Ближнем Востоке идет большая подозрительная возня с созданием англо-французских, по преимуществу колониальных армий во главе с генералом Вейганом. Мы должны быть бдительны в отношении попыток использования этих колониальных и неколониальных войск во враждебных Советскому Союзу целях. Всякие попытки такого рода вызвали бы с нашей стороны ответные меры против агрессоров, причем опасность такой игры с огнем должна быть совершенно очевидна для враждебных СССР держав и для тех из наших соседей, кто окажется орудием этой агрессивной политики против СССР. (Аплодисменты.) Что же касается наших отношений с Турцией и Ираном, то они определяются существующими между нами договорами о ненападении и неуклонным стремлением Советского Союза к выполнению вытекающих из этого взаимных обязательств.
Наши отношения с Ираном в хозяйственной области урегулированы только что заключенным советско-иранским торговым договором, n
Из упомянутых мною южных соседних государств у нас нет пакта ненападения с Румынией. Это объясняется наличием нерешенного спорного вопроса, вопроса о Бессарабии, захват которой Румынией Советский Союз никогда не признавал, хотя и никогда не ставил вопроса о возвращении Бессарабии военным путем. Поэтому нет никаких оснований к какому-либо ухудшению и советско-румынских отношений. Правда, у нас в течение длительного времени нет полномочного представителя в Румынии и его обязанности выполняет поверенный в делах. Но это
вызвано специфическими обстоятельствами недавнего прошлого.
Если касаться этого вопроса, то приходится напомнить насчет неблаговидной роли румынских властей в 1938 г. в отношении исполнявшего в то время обязанности советского полпреда в Румынии Бутенко. Как известно, этот последний каким-то образом таинственно тогда исчез не только из полпредства, но и. из Румынии, и советскому правительству так и не удалось ничего достоверного установить об этом исчезновении, причем мы будто бы должны поверить, что никакие румынские власти не имели отношения к этому скандально-преступному делу. Нечего говорить, что в цивилизованном государстве и вообще в сколько-нибудь благоустроенной стране таким вещам не должно быть места. После этого понятна происшедшая затяжка с назначением советского полпреда в Румынию. Надо, однако, думать, что Румыния поймет, что подобные вещи нетерпимы.
В наших отношениях с Японией мы не без известных трудностей, но все же разрешили некоторые вопросы. Об этом говорит заключенное 31 декабря прошлого года советско-японское соглашение по рыболовному вопросу на текущий год, а также согласие Японии на уплату последнего, долго задерживавшегося ею денежного взноса за КВЖД. Тем не менее, нельзя выразить большого удовлетворения нашими отношениями с Японией. Так, до сих пор, несмотря на происходившие длительные переговоры советско-монгольских и японо-маньчжурских делегатов, остался нерешенным важный вопрос об установлении границы на части территории в районе бывшего в прошлом году военного конфликта,. Японскими властями продолжают чиниться препятствия к нормальному использованию внесенного Японией последнего денежного взноса за КВЖД. Совершенно ненормальны во многих случаях отношения японских властей к сотрудникам советских органов в Японии и Маньчжурии. В Японии должны, наконец, понять, что Советский Союз ни в каком случае не допустит нарушения его интересов. (Продолжительные аплодисменты.) Только при таком понимании советско-японских отношений они могут развиваться удовлетворительно.
В связи с Японией скажу два слова по одному, так сказать, не деловому вопросу. (Веселое оживление в зале.) На днях один из депутатов японского парламента задал своему правительству такой вопрос: «Не следует ли обдумать, как коренным образом покончить с конфликтами между СССР и Японией, например, посредством покупки Приморья и других территорий?» (Взрыв смеха.) Задавший этот вопрос японский депутат, интересующийся покупкой советских территорий, которые не продаются (смех), по меньшей мере, веселый человек. (Смех, аплодисменты.) Но своими глупыми вопросами он, по-моему, не поднимает авторитета своего парламента. (С м е х.) Однако, если в япон-^ ском парламенте так сильно увлекаются торговлей, не заняться ли депутатам этого парламента продажей Южного Сахалина? (Смех, продолжительные аплодисменты.) Я не сомневаюсь, что в СССР нашлись бы покупатели. (Смех, аплодисменты.)
Что касается наших отношений с Соединенными Штатами Америки, то они за последнее время не улучшились и, пожалуй, не ухудшились, если не считать так называемого «морального эмбарго» против СССР, лишенного какого-либо смысла особенно после заключения мира между СССР и Финляндией. Наш импорт из США увеличился в сравнении с прошлым годом. Он мог бы еще больше увеличиться, если бы американские власти не чинили препятствий.
Такова в целом международная обстановка в связи с событиями за период последних пяти месяцев.
Из всего сказанного выше видно, в чем мы видим главные задачи нашей внешней политики в данной международной обстановке.
Коротко говоря, задачи нашей внешней политики заключаются в том, чтобы обеспечить мир между народами и безопасность нашей страны. Выводом из этого является позиция нейтралитета и неучастие в войне между крупнейшими державами Европы. Эта позиция основана на заключенных нами договорах, и она полностью соответствует интересам Советского Союза. Эта позиция оказывает, вместе с тем, сдерживающее влияние на расширение и разжигание войны в Европе, и потому она в интересах всех народов, стремящихся к миру и стонущих уже от новых громадных лишений, вызванных войной.
Подводя итоги последнего периода, мы видим, что в деле обеспечения безопасности нашей страны мы сделали за это время немалые успехи. Это-то и бесит наших врагов. Мы же, веря в свое дело и в свои силы, со всей последовательностью будем продолжать нашу внешнюю политику неуклонно и дальше.
(Бурные, продолжительные аплодисменты всего зала. Депутаты встают.)
Молотов В. М. Внешняя политика правительства: Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел на заседании VI Сессии Верховного Совета Союза ССР 29 марта 1940 г. М.: Госполитиз-дат, 1940
Выступление по радио заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров и народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова. 22 июня 1941 года
Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление.
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территорий.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии
к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей.
Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 час 30 мин утра сделал мне, как народному комиссару иностранных дел, заявление от имени своего правительства о том, что германское правительство решило выступить войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы.
В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что до последней минуты германское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, что Германия совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной.
По поручению правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы, и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта.
Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины.
Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.
Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации с честью
выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору.
Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу.
Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом.
Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Документы внешней политики. 22 июня 1941 — 1 января 1942 г. Т. XXIV. М., 2000. С. 8-9
Н. С. Хрущев. Смерть Сталина
В феврале 1953 г. Сталин внезапно заболел. Как это случилось? Мы все были у него в субботу. Происходило это после XIX съезда партии, когда Сталин уже «подвесил» судьбу Микояна и Молотова. На первом же Пленуме после съезда он предложил создать вместо Политбюро Президиум ЦК партии в составе 25 человек и назвал поименно многих новых людей. Я и другие прежние члены Политбюро были удивлены, как и кем составлялся этот список? Ведь Сталин не знал этих людей, кто же ему помогал?
Я и сейчас толком не знаю. Спрашивал Маленкова, но он ответил, что сам не знает. По своему положению Маленков должен был принимать участие в формировании Президиума, подборе людей и составлении списка, но не был к тому допущен. Может быть, это сделал сам Сталин? Сейчас я по некоторым признакам предполагаю, что он при подборе новых кадров воспользовался помощью Кагановича. Внутри Президиума действовало более узкое Бюро. Президиум фактически и не собирался, все вопросы решало Бюро. Это Сталин выдумал такую, совершенно неуставную форму: никакое Бюро не было предусмотрено в уставе партии.
Для чего Сталин создал Бюро Президиума? Ему было, видимо, неудобно сразу вышибать Молотова и Микояна, и он сделал расширенный Президиум, а потом выбрал Бюро узкого характера. Как он сказал, для оперативного руководства. И туда ни Молотова, ни Микояна не ввел, то есть «подвесил» их. Я убежден, что если бы Сталин прожил еще какое-то время, то катастрофой кончилась бы жизнь и Молотова, и Микояна. Вообще же сразу после XIX съезда партии Сталин повел политику изоляции Молотова и Микояна, не приглашал их никуда, ни на дачу, ни на квартиру, ни в кино, куда мы прежде ходили вместе.
Но Ворошилов был избран в Бюро Президиума. Характерно для Сталина, что как-то, когда мы сидели у него за затянувшейся трапезой, он вдруг говорит:
— Как пролез Ворошилов в Бюро?
Мы не смотрим на него, опустили глаза. Во-первых, что за выражение «пролез»? Как это он может «пролезть»? Потом мы сказали:
— Вы сами его назвали, и он был избран.
Больше Сталин эту тему не развивал. Однако его заявление понятно, потому что Ворошилова еще до XIX съезда он не привлекал к работе как члена Политбюро: никакого участия тот в заседаниях не принимал, документов не получал. Сталин же говорил нам в узком кругу, что подозревает Ворошилова как английского агента. Невероятные, конечно, глупости. А Молотова он как-то «заподозрил» в моем присутствии. Я находился на даче у Сталина, кажется в Новом Афоне. И вдруг ему взбрело в голову, что Молотов является агентом американского империализма,
продался американцам, потому что ездил, будучи по делам в США, в железнодорожном салон-вагоне. Значит, имеет свой вагон, продался! Мы разъясняли, что у Молотова никаких своих вагонов не могло быть, там все принадлежит частной железнодорожной компании. Вот какие затмения находили уже на Сталина в последние месяцы его жизни.
И вот как-то в субботу от него позвонили, чтобы мы пришли в Кремль. Он пригласил туда персонально меня, Маленкова, Берию и Булганина. Приехали. Он говорит: «Давайте посмотрим кино». Посмотрели. Потом говорит снова: «Поедемте, покушаем на ближней даче». Поехали, поужинали. Ужин затянулся. Сталин называл такой вечерний, очень поздний ужин обедом. Мы кончили его, наверное, в пять или шесть утра. Обычное время, когда кончались его «обеды». Сталин был навеселе, в очень хорошем расположении духа. Ничто не свидетельствовало, что может случиться какая-то неожиданность.
Когда выходили в вестибюль, Сталин, как обычно, пошел проводить нас. Он много шутил, замахнулся, вроде бы пальцем, и ткнул меня в живот, назвав Микитой. Когда он бывал в хорошем расположении духа, то всегда называл меня по-украински Микитой. Распрощались мы и разъехались.
Мы уехали в хорошем настроении, потому что ничего плохого за обедом не случилось, а не всегда обеды кончались в таком добром тоне. Разъехались по домам. Я ожидал, что, поскольку завтра выходной день, Сталин обязательно нас вызовет, поэтому целый день не обедал, думал, может быть, он позовет пораньше? Потом все же поел. Нет и нет звонка! Я не верил, что выходной день может быть пожертвован им в нашу пользу, такого почти никогда не происходило. Но нет! Уже было поздно, я разделся, лег в постель.
Вдруг звонит мне Маленков:
— Сейчас позвонили от Сталина ребята (он назвал фамилии), чекисты, и они тревожно сообщили, что будто бы что-то произошло со Сталиным. Надо будет срочно выехать туда. Я звоню тебе и известил Берию и Булганина. Отправляйся прямо туда.
Я сейчас же вызвал машину. Она была у меня на даче. Быстро оделся, приехал, все это заняло минут 15. Мы условились, что войдем не к Сталину, а к дежурным. Зашли
туда, спросили: «В чем дело?» Они: «Обычно товарищ Сталин в такое время, часов в 11 вечера, обязательно звонит, вызывает и просит чаю. Иной раз он и кушает. Сейчас этого не было». Послали мы на разведку Матрену Петровну, подавальщицу, немолодую женщину, много лет проработавшую у Сталина, огранйченную, но честную и преданную ему женщину.
Чекисты сказали нам, что они уже посылали ее посмотреть, что там такое. Она сказала, что товарищ Сталин лежит на полу, спит, а под ним подмочено. Чекисты подняли его, положили на кушетку в малой столовой. Там были малая столовая и большая. Сталин лежал на полу в большой столовой. Следовательно, поднялся с постели, вышел в столовую, там упал и подмочился. Когда нам сказали, что произошел такой случай и теперь он как будто спит, мы посчитали, что неудобно нам появляться у него и фиксировать свое присутствие, раз он находится в столь неблаговидном положении. Мы разъехались по домам.
Прошло небольшое время, опять слышу звонок. Вновь Маленков:
— Опять звонили ребята от товарища Сталина. Говорят, что все-таки что-то с ним не так. Хотя Матрена Петровна и сказала, что он спокойно спит, но это необычный сон. Надо еще раз съездить.
Мы условились, что Маленков позвонит всем другим членам Бюро, включая Ворошилова и Кагановича, которые отсутствовали на обеде и в первый раз на дачу не приезжали. Условились также, что вызовем и врачей.
Опять приехали мы в дежурку. Прибыли Каганович, Ворошилов, врачи. Из врачей помню известного кардиолога профессора Лукомского. А с ним появился еще кто-то из медиков, но кто, сейчас не помню. Зашли мы в комнату. Сталин лежал на кушетке. Мы сказали врачам, чтобы они приступили к своему делу и обследовали, в каком состоянии находится товарищ Сталин. Первым подошел Луком-ский, очень осторожно, и я его понимал. Он прикасался к руке Сталина, как к горячему железу, подергиваясь даже. Берия же грубовато сказал: «Вы врач, так берите, как следует».
Лукомский заявил, что правая рука у Сталина не действует. Парализована также левая нога, и он не в состоянии
говорить. Состояние тяжелое. Тут ему сразу разрезали костюм, переодели и перенесли в большую столовую, положили на кушетку, где он спал и где побольше воздуха. Тогда же решили установить рядом с ним дежурство врачей. Мы, члены Бюро Президиума, тоже установили свое постоянное дежурство. Распределились так: Берия и Маленков вдвоем дежурят, Каганович и Ворошилов, я и Булганин. Главными «определяющими» были Маленков и Берия. Они взяли для себя дневное время, нам с Булганиным выпало ночное. Я очень волновался и, признаюсь, жалел, что можем потерять Сталина, который оставался в крайне тяжелом положении. Врачи сказали, что при таком заболевании почти никто не возвращался к труду. Человек мог еще жить, но что он останется трудоспособным, маловероятно: чаще всего такие заболевания непродолжительны, а кончаются катастрофой.
Мы видели, что Сталин лежит без сознания и не сознает, в каком он состоянии. Стали кормить его: с ложечки давали бульон и сладкий чай. Распоряжались там врачи. Они откачивали у него мочу, он же оставался без движения. Я заметил, что при откачке он старался как бы прикрыться, чувствуя неловкость. Значит, что-то сознает. Днем (не помню, на какой именно день его заболевания) Сталин пришел в сознание. Это было видно по выражению его лица. Но говорить он не мог, а поднял левую руку и начал показывать не то на потолок, не то на стену. У него на губах появилось что-то вроде улыбки. Потом стал жать нам руки. Я ему додал свою, и он пожал ее левой рукой, правая не действовала. Пожатием руки он передавал свои чувства. Тогда я сказал: «Знаете, почему он показывает нам рукой? На стене висит вырезанная из «Огонька» репродукция с картины какого-то художника. Там девочка кормит из рожка ягненка. А мы поим товарища Сталина с ложечки, и он, видимо, показывая нам пальцем на картину, улыбается: мол, посмотрите, я в таком же состоянии, как этот ягненок».
Как только Сталин свалился, Берия в открытую стал пылать злобой против него. И ругал его, и издевался над ним. Просто невозможно было его слушать! Интересно, впрочем, что, как только Сталин пришел в чувство и дал понять, что может выздороветь, Берия бросился к нему,
встал на колени, схватил его руку и начал ее целовать. Когда же Сталин опять потерял сознание и закрыл глаза, Берия поднялся на ноги и плюнул на пол. Вот истинный Берия! Коварный даже в отношении Сталина, которого он вроде бы возносил и боготворил.
Наступило наше дежурство с Булганиным. Мы и днем с ним приезжали на дачу к Сталину, когда появлялись профессора, и ночью дежурили. Я с Булганиным тогда был больше откровенен, чем с другими, доверял ему самые сокровенные мысли и сказал:
— Николай Александрович, видимо, сейчас мы находимся в таком положении, что Сталин вскоре умрет. Он явно не выживет. Да и врачи говорят, что не выживет. Ты знаешь, какой пост наметил себе Берия?
— Какой?
— Он возьмет пост министра госбезопасности (в ту пору Министерства государственной безопасности и внутренних дел были разделены). Нам никак нельзя допустить это. Если Берия получит госбезопасность — это будет начало нашего конца. Он возьмет этот пост для того, чтобы уничтожить всех нас. И он это сделает!
Булганин сказал, что согласен со мной. И мы стали обсуждать, как будем действовать. Я ему:
— Поговорю с Маленковым. Думаю, что Маленков такого же мнения, он ведь должен все понимать. Надо что-то сделать, иначе для партии будет катастрофа.
Этот вопрос касался не только нас, а всей страны, хотя и нам, конечно, не хотелось попасть под нож Берии. Получится возврат к 1937—1938 годам, а может быть, даже похуже. У меня имелись сомнения: я не считал Берию коммунистом и полагал, что он просто пролез в партию. У меня маячили в сознании слова Каминского, что во время гражданской войны, когда англичане оккупировали Баку, он был агентом их контрразведки, что это волк в овечьей шкуре, влезший в доверие к Сталину и занявший высокое положение. Сам Сталин тяготился им. Мне казалось, что были дни, когда Сталин боялся Берии.
На подобные мысли наталкивал меня и такой инцидент, хочу о нем рассказать. Как-то сидели мы у Сталина. Вдруг он смотрит на Берию и говорит:
— Почему сейчас у меня окружение целиком грузинское? Откуда оно взялось?
Берия:
— Это верные вам, преданные люди.
— Но отчего это грузины верны и преданны? А русские что, не преданны и не верны, что ли? Убрать!
И моментально как рукой сняло этих людей. Берия был способен через своих людей сделать со Сталиным то, что проделывал с другими людьми по поручению того же Сталина: уничтожать, травить и прочее. Поэтому Сталин, видимо (если рассуждать за него), считал, что Берия способен сделать то же самое и с ним. Значит, надо убрать окружение, через которое Берия имеет доступ и в покои, и к кухне. В те дни Берия ходил как побитый.
Но Сталин не понимал по старости, что тогдашний нарком госбезопасности Абакумов докладывает ему обо всем уже после того, как доложит Берии и получит указания, как сообщить Сталину. Сталин думал, что он выдвинул свежего человека и тот делает только то, что велит Сталин. В ту же сторону раскрутилось «мингрельское дело». Сталин продиктовал тогда решение (и оно было опубликовано), что мингрелы связаны с турками, что среди них есть лица, которые ориентируются на Турцию. Конечно, чепуха! Я считаю, что тут имела место акция, направленная Сталиным против Берии, потому что Берия — мингрел. Таким образом, он готовил удар против Берии. Тогда много было произведено арестов, но Берия ловко вывернулся: влез в это дело как «нож Сталина» и сам начал расправу с мингрелами. Бедные люди! Тащили их тогда на плаху, как баранов.
Существовали и другие факты, которые свидетельствовали о вероломстве Берии, о недоверии Сталина к Берии.
Итак, поговорили мы обо всем с Булганиным, кончилось наше дежурство, и я уехал домой. Хотел поспать, потому что долго не спал на дежурстве. Принял снотворное, лег. Только лег, но еще не уснул, услышал звонок. Маленков:
— Срочно приезжай, у Сталина произошло ухудшение. Выезжай срочно!
Я сейчас же вызвал машину. Действительно, Сталин был в очень плохом состоянии. Приехали и другие. Все видели,
что Сталин умирает. Медики сказали нам, что началась агония. Он перестал дышать. Стали делать ему искусственное дыхание. Появился какой-то огромный мужчина, начал его тискать, совершать манипуляции, чтобы вернуть дыхание. Мне, признаться, было очень жалко Сталина, так тот его терзал. И я сказал:
— Послушайте, бросьте это, пожалуйста. Умер же человек. Чего вы хотите? К жизни его не вернуть.
Он был мертв, но ведь больно смотреть, как его треплют. Ненужные манипуляции прекратили.
Как только Сталин умер, Берия тотчас сел в свою машину и умчался в Москву с «ближней» дачи. Мы решили вызвать туда всех членов Бюро или, если получится, всех членов Президиума ЦК партии. Точно не помню. Пока они ехали, Маленков расхаживал по комнате, волновался. Я решил поговорить с ним.
— Егор, — говорю, — мне надо с тобой побеседовать.
— О чем? — холодно спросил он.
— Сталин умер. Как мы дальше будем жить?
— А что сейчас говорить? Съедутся все, и будем говорить. Для этого и собираемся.
Казалось бы, демократический ответ. Но я-то понял по-другому, понял так, что давно уже все вопросы оговорены им с Берией, все давно обсуждено.
— Ну ладно, — отвечаю, — поговорим потом.
Вот собрались все. Тоже увидели, что Сталин умер. Приехала и Светлана. Я ее встретил. Когда встречал, сильно разволновался, заплакал, не смог сдержаться. Мне было искренне жаль Сталина, его детей, я душою оплакивал его смерть, волновался за будущее партии, всей страны. Чувствовал, что сейчас Берия начнет заправлять всем. А это — начало конца. Я не доверял ему, не считал уже его коммунистом. Я считал его способным на все, быстрым на расправу мясником и убийцей.
И вот пошло распределение «портфелей». Берия предложил назначить Маленкова Председателем Совета Министров СССР с освобождением его от обязанностей секретаря ЦК партии. Маленков предложил утвердить своим первым заместителем Берию и слить два министерства, госбезопасности и внутренних дел, в одно министерство внутренних дел, а Берию назначить министром.
Я молчал. Молчал и Булганин. Тут я волновался, как бы Булганин не выскочил не вовремя, потому что было бы неправильно выдать себя заранее. Ведь я видел настроение остальных. Если бы мы с Булганиным сказали, что мы против, нас бы обвинили большинством голосов, что мы склочники, дезорганизаторы, еще при неостывшем трупе начинаем в партии драку за посты. Да, все шло в том самом направлении, как я и предполагал.
Молотова тоже назначили первым замом предсов-мина. Кагановича — замом. Ворошилова предложили избрать Председателем Президиума Верховного Совета СССР, освободив от этой должности Шверника. Очень неуважительно выразился в адрес Шверника Берия: сказал, что его вообще никто в стране не знает. Я видел, что тут налицо детали плана Берии, который хочет сделать Ворошилова человеком, оформляющим в указах то, что станет делать Берия, когда начнет работать его мясорубка. Меня Берия предложил освободить от обязанностей секретаря Московского комитета партии с тем, чтобы я сосредоточил свою деятельность на работе в ЦК партии. Провели мы и другие назначения. Приняли порядок похорон и порядок извещения народа о смерти Сталина. Так мы, его наследники, приступили к самостоятельной деятельности по руководству государством и партией.
Хрущев Н. С. Время, люди, власть. Воспоминания. М.: Исторические памятники, 2002
Письмо Н. Кузьмина В. М. Молотову. 1953 год
Дорогой Вячеслав Михайлович!
От имени очень многих честных граждан Вас приветствует и желает доброго здоровья один из коммунистов г. Горького.
Вячеслав Михайлович, поверьте мне, что огромные массы граждан ждут от Вас и Ваших близких соратников (за исключением Маленкова и Хрущева) разрядки в международной ситуации и коренного улучшения материального положения, поверьте, исстрадавшегося народа.
Мы все скорбим по поводу смерти И. В. Сталина, хотя очень многие честные коммунисты и не были согласны со многими установками И. В. Сталина, не имея возможности это выразить официально...
Дорогой Вячеслав Михайлович, проводите истинно ленинскую, истинно коммунистическую как внешнюю, так и внутреннюю политику, и Вы и Ваши близкие соратники всегда найдут поддержку у рядовых коммунистов, у народа, которая будет основана не на терроре, а на глубоком сознании. Хватит литься крови в Корее (ведь для многих же совершенно очевидно, что «инициативу» в Корее проявили мы), хватит прокладывать дорогу антисемитизму, ибо обилие фельетонов, «разоблачающих» евреев, и их массовое снятие с ранее занимаемых должностей не укладывается ни в какие рамки, нужно дать народу свободно дышать без опаски за завтрашний день.
Дорогой Вячеслав Михайлович, еще раз желаю Вам крепости здоровья, бодрости духа.
Будьте достойны разумного доверия народа, и пусть Ваша совесть, как и совесть Ваших соратников, будет в этом отношении чиста.
7/III.1953 г. Н. Кузьмин
ТРАУРНЫЙ МИТИНГ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
9 МАРТА 1953 ГОДА
9 марта 1953 года на Красной площади.в Москве состоялись похороны Иосифа Виссарионовича Сталина.
Председатель Комиссии по организации похорон Иосифа Виссарионовича Сталина тов, Н. С. Хрущев предоставляет слово Председателю Совета Министров Союза ССР и Секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищу Георгию Максимилиановичу Маленкову.
Следующую речь произносит первый заместитель Председателя Совета Министров Союза ССР товарищ Лаврентий Павлович Берия.
Затем выступает с речью первый заместитель Председателя Совета Министров Союза ССР товарищ Вячеслав Михайлович Молотов.
Речь товарища Г. М. Маленкова
Дорогие соотечественники, товарищи, друзья!
Дорогие зарубежные братья!
Наша партия, советский народ, все человечество понесли тягчайшую, невозвратимую утрату. Окончил свой славный жизненный путь наш учитель и вождь, величайший гений человечества Иосиф Виссарионович Сталин. В эти тяжелые дни глубокую скорбь советского народа разделяет все передовое и прогрессивное человечество. Имя Сталина безмерно дорого советским людям, широчайшим народным массам во всех частях света. Необъятно величие и значение деятельности товарища Сталина для советского народа и для трудящихся всех стран. Дела Сталина будут жить в веках и благодарные потомки так же, как и мы с вами, будут славить имя Сталина.
Товарищ Сталин отдал свою жизнь делу освобождения рабочего класса и всех трудящихся от гнета и кабалы эксплуататоров, делу избавления человечества от истребительных войн, делу борьбы за свободную и счастливую жизнь на земле для трудового народа.
Товарищ Сталин, великий мыслитель нашей эпохи, творчески развил в новых исторических условиях учение марксизма-ленинизма. Имя Сталина справедливо стоит рядом с именами величайших людей во всей истории человечества — Маркса — Энгельса — Ленина. Наша партия следует великому учению марксизма-ленинизма, дающему партии и народу непобедимую силу, умение прокладывать новые пути в истории. Ленин и Сталин в течение долгих лет вели в тяжких условиях подполья борьбу за избавление народов России от ига самодержавия, от гнета помещиков и капиталистов. Во главе с Лениным и Сталиным советский народ осуществил величайший поворот в истории человечества, положил конец строю капитализма в нашей стране и вышел на новый путь — путь социализма.
Продолжая дело Ленина и непрестанно развивая ленинское учение, освещающее партии и Советскому государству путь вперед, товарищ Сталин привел нашу страну к всемирно-исторической победе социализма, что
обеспечило впервые за многие тысячелетия существования человеческого общества уничтожение эксплуатации человека человеком.
Ленин и Сталин основали первое в мире государство рабочих и крестьян, наше Советское государство. Неустанно трудился товарищ Сталин над укреплением Советского государства. Крепость и мощь нашего государства являются важнейшим условием успешного построения коммунизма в нашей стране.
Наша священная обязанность состоит в том, чтобы и дальше неустанно и всесторонне укреплять наше великое социалистическое государство, оплот мира и безопасности народов.
С именем товарища Сталина связано разрешение одного из самых сложных вопросов в истории развития общества — национального вопроса. Величайший теоретик национального вопроса товарищ Сталин обеспечил впервые в истории, в масштабе огромного многонационального государства, ликвидацию вековой национальной розни. Под руководством товарища Сталина наша партия добилась преодоления экономической и культурной отсталости ранее угнетавшихся народов, сплотила в единую братскую семью все нации Советского Союза и выковала дружбу народов.
Наша священная обязанность состоит в том, чтобы обеспечить дальнейшее укрепление единства и дружбы народов Советской страны, укрепление Советского многонационального государства. При дружбе народов нашей страны нам не страшны никакие ни внутренние, ни внешние враги. Под непосредственным руководством товарища Сталина создавалась, росла ич крепла Советская Армия. Укрепление обороноспособности страны и упрочение Советских Вооруженных Сил являлись предметом неустанных забот товарища Сталина. Во главе со своим великим полководцем — Генералиссимусом Сталиным Советская Армия одержала историческую победу во второй мировой войне и избавила народы Европы и Азии от угрозы фашистского рабства.
Наша священная обязанность состоит в том, чтобы всемерно укреплять могущественные Советские Вооруженные Силы. Мы должны держать их в состоянии боевой
готовности для сокрушительного отпора любому нападению врага.
В результате неустанных трудов товарища Сталина, по разработанным им планам, наша партия превратила ранее отсталую страну в могучую индустриально-колхозную державу, создала новый экономический строй, не знающий кризисов и безработицы.
Наша священная обязанность состоит в том, чтобы обеспечить дальнейший расцвет социалистической Родины. Мы должны всемерно развивать социалистическую промышленность — оплот могущества и крепости нашей страны. Мы должны всемерно укреплять колхозный строй, добиваться дальнейшего подъема и процветания всех колхозов Советской страны, крепить союз рабочего класса и колхозного крестьянства.
В области внутренней политики наша главная забота состоит в том, чтобы неуклонно добиваться дальнейшего улучшения материального благосостояния рабочих, колхозников, интеллигенции, всех советских людей. Законом для нашей партии и Правительства является обязанность неослабно заботиться о благе народа, о максимальном удовлетворении его материальных и культурных потребностей.
Ленин и Сталин создали и закалили нашу партию, как великую преобразующую силу общества. Товарищ Сталин всю свою жизнь учил тому, что нет ничего выше звания члена Коммунистической партии. В упорной борьбе с врагами товарищ Сталин отстоял единство, монолитность и сплоченность рядов нашей партии.
Наша священная обязанность состоит в том, чтобы и дальше укреплять великую Коммунистическую партию. Сила и непобедимость нашей партии — в единстве и сплоченности ее рядов, в единстве воли и действия, в умении членов партии слить свою волю с волей и желаниями партии. Сила и непобедимость нашей партии — в неразрывной связи с народными массами. Основа единства партии и народа — неизменное служение партии интересам народа. Мы должны как зеницу ока хранить единство партии, еще больше укреплять неразрывные связи партии с народом, воспитывать коммунистов и всех трудящихся в духе высокой политической бдительности, в духе непримири-
мости и твердости в борьбе с внутренними и внешними врагами.
Под водительством Великого Сталина создан могучий лагерь мира, демократии и социализма. В этом лагере в тесном братском единении идут вперед вместе с советским народом великий китайский народ, братские народы Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Албании, Германской Демократической Республики, Монгольской Народной Республики. В упорной борьбе отстаивает независимость своей родины героический корейский народ. Мужественно борется за свободу и национальную независимость народ Вьетнама.
Наша священная обязанность состоит в том, чтобы хранить и укреплять величайшее завоевание народов — лагерь мира, демократии и социализма, крепить узы дружбы и солидарности народов стран демократического лагеря. Мы должны всемерно укреплять вечную, нерушимую братскую дружбу Советского Союза с великим китайским народом, с трудящимися всех стран народной демократии.
Народы всех стран знают товарища Сталина как великого знаменосца мира. Величайшие усилия своего гения направлял товарищ Сталин к тому, чтобы отстоять дело мира для народов всех стран. Внешняя политика Советского государства — политика мира и дружбы между народами — является решающим препятствием к развязыванию новой войны и отвечает кровным интересам всех народов. Советский Союз неизменно выступал и выступает в защиту дела мира, ибо его интересы неотделимы от дела мира во всем мире. Советский Союз проводил и проводит последовательную политику сохранения и упрочения мира, политику борьбы против подготовки и развязывания новой войны, политику международного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами, политику, исходящую из ленинско-сталинского положения о возможности длительного сосуществования и мирного соревнования двух различных систем — капиталистической и социалистической.
Великий Сталин воспитывал нас в духе беспредельно преданного служения интересам народа. Мы — верные слуги народа, а народ хочет мира, ненавидит войну.
Да будет священным для всех нас желание народа не допустить пролития крови миллионов людей и обеспечить мирное строительство счастливой жизни!
В области внешней политики наша главная забота состоит в том, чтобы не допустить новой войны, жить в мире со всеми странами. Коммунистическая партия Советского Союза, Советское Правительство считают, что самой правильной, необходимой и справедливой внешней политикой является политика мира между всеми народами, основанная на взаимном доверии, действенная, опирающаяся на факты и подтверждаемая фактами. Правительства должны верно служить своим народам, а народы жаждут мира, проклинают войну. Преступными явятся те правительства, которые захотят обмануть народы, пойдут против священного желания народов сохранить мир и не допустить новой кровавой бойни. Коммунистическая партия, Советское Правительство стоят на том, что политика мира между народами является единственно правильной, отвечающей жизненным интересам всех народов политикой.
Товарищи! Уход из жизни нашего вождя и учителя Великого Сталина возлагает на всех советских людей обязанность множить свои усилия в осуществлении грандиозных задач, стоящих перед советским народом, увеличивать свой вклад в общее дело строительства коммунистического общества, укрепления могущества и обороноспособности нашей социалистической Родины.
Трудящиеся Советского Союза видят и знают, что наша могучая Родина идет к новым успехам. У нас есть все необходимое для построения полного коммунистического общества.
С твердой верой в свои неисчерпаемые силы и возможности советский народ творит великое дело строительства коммунизма. В мире нет таких сил, которые могли бы ос-, тановить поступательное движение советского общества к коммунизму!
Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин!
Вперед по пути к полному торжеству великого дела Ленина — Сталина!
Речь Л. П. Берии
Дорогие товарищи, друзья!
Трудно выразить словами чувство великой скорби, которое переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны, все прогрессивное человечество.
Не стало Сталина — великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Ушел от нас человек, самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира.
Вся жизнь и деятельность Великого Сталина является вдохновляющим примером верности ленинизму, примером самоотверженного служения рабочему классу и всему трудовому народу, делу освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации.
Великий Ленин основал нашу партию, привел ее к победе пролетарской революции.
Вместе с Великим Лениным его гениальный соратник Сталин укреплял большевистскую партию и создавал первое в мире социалистическое государство.
После смерти Ленина Сталин почти тридцать лет вел нашу партию и страну по ленинскому пути. Сталин отстоял ленинизм от многочисленных врагов, развил и обогатил учение Ленина в новых исторических условиях. Мудрое руководство Великого Сталина обеспечило нашему народу построение социализма в СССР и всемирно-историческую победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Великий зодчий коммунизма, гениальный вождь, наш родной Сталин вооружил нашу партию и народ величественной программой строительства коммунизма. ч
Товарищи! Неутолима боль в наших сердцах, неимоверно тяжела утрата, но и под этой тяжестью не согнется стальная воля Коммунистической партии, не поколеблется ее единство и твердая решимость в борьбе за коммунизм.
Наша партия, вооруженная революционной теорией Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, умудренная полувековым опытом борьбы за интересы рабочего класса и всех трудящихся, знает, как вести дело, чтобы обеспечить построение коммунистического общества.
Центральный Комитет нашей партии и Советское Правительство в деле руководства страной прошли великую школу Ленина и Сталина. В огне гражданской войны и интервенции, в трудные годы борьбы с разрухой и голодом, в борьбе за индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства, в тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда решалась судьба нашей Родины и судьба всего человечества, Центральный Комитет партии и Советское Правительство, возглавляя и направляя героическую борьбу советского народа, приобрели огромный опыт руководства партией и страной.
Поэтому народы Советского Союза могут и впредь с полной уверенностью положиться на Коммунистическую партию, ее Центральный Комитет и на свое Советское Правительство.
Враги Советского государства рассчитывают, что понесенная нами тяжелая утрата приведет к разброду и растерянности в наших рядах. Но напрасны их расчеты: их ждет жестокое разочарование.
Кто не слеп, тот видит, что наша партия в трудные для нее дни еще теснее смыкает свои ряды, что она едина и непоколебима.
Кто не слеп, тот видит, что в эти скорбные дни все народы Советского Союза в братском единении с великим русским народом еще теснее сплотились вокруг Советского Правительства и Центрального Комитета Коммунистической партии.
Советский народ единодушно поддерживает как внутреннюю, так и внешнюю политику Советского государства.
Наша внутренняя политика основана на нерушимом союзе рабочего класса и колхозного крестьянства, на братской дружбе между народами нашей страны, на прочном объединении всех советских национальных республик в системе единого великого многонационального государства — Союза Советских Социалистических Республик. Эта политика направлена на дальнейшее укрепление экономического и военного могущества нашего государства, на дальнейшее развитие народного хозяйства и максимальное удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей всего советского общества.
Рабочие, колхозное крестьянство, интеллигенция нашей страны могут работать спокойно и уверенно, зная, что Советское Правительство будет заботливо и неустанно охранять их права, записанные в Сталинской Конституции.
Наша внешняя политика ясна и понятна. С первых дней Советской власти Ленин определил внешнюю политику Советского государства как политику мира.
Эту политику мира неуклонно осуществлял великий продолжатель дела Ленина наш мудрый вождь Сталин.
И впредь внешней политикой Советского Правительства будет ленинско-сталинская политика сохранения и упрочения мира, борьбы против подготовки и развязывания новой войны, политика международного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами на основе взаимности. Советское Правительство будет еще более укреплять братский союз и дружбу, сотрудничество в общей борьбе задело мира во всем мире, широкое экономическое и культурное сотрудничество с великой Китайской Народной Республикой, со всеми странами народной демократии и Германской Демократической Республикой.
Наши братья и друзья за рубежом могут быть уверены, что Коммунистическая партия и народы Советского Союза, верные знамени пролетарского интернационализма, знамени Ленина — Сталина, будут и в дальнейшем укреплять и развивать дружественные связи с трудящимися капиталистических и колониальных стран, борющимися за дело мира, демократии и социализма. Глубокие чувства дружбы соединяют наш народ с героическим корейским народом, борющимся за свою независимость.
Наши великие вожди Ленин и Сталин учили нас неустанно повышать и оттачивать бдительность партии и народа к проискам и козням врагов Советского государства.
Теперь мы должны еще более усилить свою бдительность. Пусть никто не думает, что враги Советского государства смогут застать нас врасплох.
Для защиты Советской Родины наши доблестные Вооруженные Силы оснащены всеми видами современного оружия. Наши солдаты и матросы, офицеры и генералы, обогащенные опытом Великой Отечественной войны, сумеют должным образом встретить любого агрессора, который осмелится напасть на нашу страну.
’ Сила и несокрушимость нашего государства состоит не только в том, что оно имеет закаленную в боях, овеянную славой армию.
Могущество Советского государства заключается в единстве советского народа, в его доверии к Коммунистической партии — ведущей силе советского общества, в доверии народа к своему Советскому Правительству Коммунистическая партия и Советское Правительство высоко ценят это доверие народа.
Советский народ с единодушным одобрением встретил Постановление Центрального Комитета нашей партии, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР о проведении чрезвычайно важных решений, направленных на обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны.
Одним из этих важных решений является назначение на пост Председателя Совета Министров Союза ССР талантливого ученика Ленина и верного соратника Сталина Георгия Максимилиановича Маленкова.
Решения, принятые высшими партийными и государственными органами нашей страны, явились ярким выражением полного единства и сплоченности в руководстве партией и государством.
Это единство и сплоченность в руководстве страной являются залогом успешного проведения в жизнь внутренней и внешней политики, годами выработанной нашей партией и Правительством под руководством Ленина и Сталина.
Сталин, так же как и Ленин, оставил нашей партии и стране великое наследие, которое надо беречь как зеницу ока и неустанно его умножать. Великий Сталин воспитал и сплотил вокруг себя когорту испытанных в боях руководителей, овладевших ленинско-сталинским мастерством руководства, на плечи которых пала историческая ответственность довести до победного конца великое дело, начатое Лениным и успешно продолженное Сталиным. Народы нашей страны могут быть уверены в том, что Коммунистическая партия и Правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранять стальное единство рядов партии и ее руководства, крепить нерушимую дружбу народов Советского Союза, крепить могущество Советского государства, неиз-
менно хранить верность идеям марксизма-ленинизма и, следуя заветам Ленина и Сталина, привести страну от социализма к коммунизму.
Вечная слава нашему любимому, дорогому вождю и учителю — Великому Сталину!
Речь Молотова 9 марта 1953 года
Дорогие товарищи и друзья!
В эти дни мы все переживаем тяжелое горе — кончину Иосифа Виссарионовича Сталина, утрату великого вождя и вместе с тем близкого, родного, бесконечно дорогого человека. И мы, его старые и близкие друзья, и миллионы-миллионы советских людей, как и трудящиеся во всех странах, во всем мире, прощаются сегодня с товарищем Сталиным, которого мы все так любили и который всегда будет жить в наших сердцах.
Товарищ Сталин называл себя учеником Ленина, вместе с которым он создавал и построил нашу великую Коммунистическую партию, вместе с которым он руководил революционной борьбой народа против царизма и капитализма, за свержение гнета помещиков и капиталистов в нашей стране, вместе с которым он создавал и построил наше Советское социалистическое государство, вместе с которым он заложил основы для растущего на наших глазах братского сотрудничества и объединения больших и малых народов. Сталин — великий продолжатель великого дела Ленина.
Под руководством Коммунистической партии во главе с товарищем Сталиным советский народ построил социализм в нашей стране и развернул осуществление великой программы неуклонного подъема материального благосостояния и культурного уровня советского народа; одержал всемирно-историческую победу над фашизмом во второй мировой войне и тем решительно ослабил силы внешних врагов СССР; вывел Советский Союз из положения международной изоляции, обеспечив образование непобедимого лагеря миролюбивых государств с населением в 800 миллионов человек; открыл для нашей страны светлые перспективы построения коммунистического общества,
основанного на свободном труде, на подлинном равенстве и братстве людей.
Мы по праву можем гордиться тем, что последние тридцать лет жили и работали под руководством товарища Сталина. Мы воспитаны Лениным и Сталиным. Мы — ученики Ленина и Сталина. И мы всегда будем помнить то, чему до последних дней учил нас Сталин, ибо мы хотим быть верными и достойными учениками и последователями Ленина, верными и достойными учениками и последователями Сталина.
Вся жизнь товарища Сталина, освещенная солнечным светом великих идей вдохновенного народного борца за коммунизм, — живой и жизнеутверждающий пример для нас.
Сталин вышел из народа, всегда чувствовал свою кровную связь с народом, с рабочим классом и трудовым крестьянством, отдавал все свои могучие силы, весь свой великий гений народу Своим светлым умом Сталин, будучи еще юношей, увидел и глубоко понял, что в наше время народ может найти свою дорогу к счастливой жизни только на путях борьбы за коммунизм. Это и определило его жизненный путь. Сталин посвятил себя, всю свою жизнь без остатка борьбе за коммунизм, самоотверженной борьбе за счастье трудящихся, за счастье народа.
Сталин всегда умел соединить повседневную нелегкую деятельность коммуниста-революционера в рабочих массах с глубоким изучением теории марксизма.
Таким он был в молодые годы в Тбилиси, в Баку. Таким он был в бурные годы русской революции и в трудные годы царской реакции, когда он был крепко связан с рабочими Петербурга, постоянно находясь под градом репрессий, подвергаясь преследованиям в тюрьмах и в ссылках.
Исключительные дарования товарища Сталина, как несравненного организатора нашей партии и Советского государства и гениального теоретика марксизма-ленинизма, развернулись полностью в годы революции и строительства социализма.
За эти годы наша партия выросла, поднялась и превратилась в великую руководящую силу социалистической революции в нашей стране и приобрела значение ведущей силы во всем международном рабочем движении. За эти
годы Советское многонациональное государство, ставшее образцом практического осуществления дружбы и братского сотрудничества народов, — за эти годы наше государство, опираясь на рабочий класс и колхозное крестьянство, окрепло, как государство победившего социализма, и вступило на путь создания коммунистического общества. Гигантская роль в руководстве всем этим делом, всем развитием сил нашей партии и Советского государства, принадлежит товарищу Сталину.
Сталин не только осуществлял все эти годы повседневное руководство социалистическим строительством в СССР. Он постоянно работал над теоретическими проблемами строительства коммунизма в нашей стране и над проблемами международного развития в целом, освещая светом науки марксизма-ленинизма пути дальнейшего развития СССР, законы развития социализма и капитализма в современных условиях. Он вооружил нашу партию и весь советский народ новыми важнейшими открытиями марксистско-ленинской науки, которые на многие годы освещают наше движение вперед, к победе коммунизма.
Сталин непосредственно руководил созданием и организацией сил Красной Армии и ее славными боевыми делами на самых решающих фронтах в годы гражданской войны. Сталин, как Верховный Главнокомандующий в годы Великой Отечественной войны, привел нашу страну к победе над фашизмом, изменившей коренным образом положение в Европе и в Азии.
Быть верными и достойными последователями Сталина — значит всегда помнить и неуклонно заботиться об укреплении Советской Армии и Военно-Морского Флота, обеспечивая должную готовность Советских Вооруженных Сил на случай любой вылазки агрессора против нашей страны. Быть верными и достойными последователями Сталина — значит также проявлять должную бдительность и твердость в борьбе против всех и всяких козней наших врагов, агентов империалистических агрессивных государств.
Наше Советское государство не имеет никаких агрессивных целей и со своей стороны не допускает вмешательства в дела других государств. Наша внешняя политика, которая известна во всем мире как сталинская миролюбивая
внешняя политика, является политикой защиты мира между народами, является незыблемой политикой сохранения и упрочения мира, борьбы против подготовки и развязывания новой войны, политикой международного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами, которые сами также стремятся к этому. Такая внешняя политика отвечает коренным интересам советского народа и, вместе с тем, интересам всех других миролюбивых народов.
В нашей стране осуществлено на советской основе создание такого многонационального государства, которое по своей прочности, неуклонному росту материального могущества и подъему культуры народов не имеет себе примера в истории. Во всем этом деле, и прежде всего в деле развития новых, дружественных отношений между народами нашей страны, товарищу Сталину принадлежит особая, исключительно высокая роль. При этом Сталин не только руководил развитием нашего многонационального Советского государства в течение многих лет, но и теоретически осветил важнейшие современные проблемы национального и колониального вопроса, содействовав и здесь развитию научных основ марксизма-ленинизма.
В нынешних условиях все это имеет особо важное значение, особенно в связи с образованием государств народной демократии и ростом национально-освободительного движения в колониях и зависимых странах. Верные принципам пролетарского интернационализма, народы СССР развивают и неуклонно укрепляют братскую дружбу и сотрудничество с великим китайским народом, с трудящимися всех стран народной демократии, дружественные связи с трудящимися капиталистических и колониальных стран, борющимися за дело мира, демократии и социализма.
Дорогие товарищи, друзья! В эти трудные дни мы все особенно хорошо видим и постоянно чувствуем, какой могучею, незыблемою и верною опорою советского народа является наша Коммунистическая партия, ее стальное единство, ее неразрывные связи с массами трудящихся. Наша партия, следуя заветам Великого Сталина, дает нам ясное направление дальнейшей борьбы за великое дело построения коммунизма в нашей стране. Мы должны еще
теснее, еще крепче сплотиться вокруг Центрального Комитета нашей партии, вокруг Советского Правительства.
Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в наших сердцах, в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества. Слава о его великих делах на пользу и счастье нашего народа и трудящихся всего мира будет жить в веках!
Да здравствует великое, всепобеждающее учение Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина!
Да здравствует наша могучая социалистическая Родина, наш героический советский народ!
Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского Союза!
Дмитрий ШОСТАКОВИЧ
К новым высотам искусства
Советские люди, от мала до велика, с родным именем Сталина связывают все самое лучшее на земле. Жизнь и счастье, мир и созидание олицетворял для нас этот величайший из великих людей, отец, нащ вождь. Во всех сферах человеческой деятельности сказывалась и сказывается направляющая сила его гения, его светлый и ясный разум.
Люди искусства, мы с особой остротой чувствуем горечь тяжелой утраты: от нас ушел мудрейший наставник, заботливый друг, вдумчивый учитель. Снова и снова возникают в памяти запомнившиеся до мельчайших подробностей минуты, когда на долю "советских композиторов выпадало великое счастье видеть Иосифа Виссарионовича, говорить с ним. Снова, кажется, звучат слова, полные сердечного внимания, глубочайшего участия. Как предельно четко и просто мог Иосиф Виссарионович указать не только главную цель, но и кратчайший, наиболее верный путь к ее достижению! В каждом его совете сказывалась глубочайшая забота о том, чтобы искусство, поднимаясь на новые и новые высоты, неизменно оставалось в своем содержании и в своих формах близким, доступным и понятным народу... Этот государственный подход к искусству мы неизменно чувствовали и в советах ближайших соратников
Иосифа Виссарионовича, и в мудрых решениях сталинского ЦК.
Люди сталинской эпохи, мы должны и впредь каждый свой шаг в работе, в творчестве проверять по сталинскому компасу. Для миллионов наших людей бессмертное имя Сталина по-прежнему означает жизнь и счастье, мир и созидание, зовет к бдительности, к преодолению любых трудностей во имя великой цели — построения коммунизма.
Выпестованные товарищем Сталиным советские художники отдадут всю свою творческую энергию осуществлению заветов родного Иосифа Виссарионовича. Его слова: пишите правду! — сказанные в беседе с писателями, навсегда останутся источником творческого вдохновения для всей армии работников искусств: для композиторов и живописцев, режиссеров и актеров — для всех, кто дорожит призванием художника своего народа.
Д. Шостакович
Константин СИМОНОВ
В тяжелые и горестные для нашего народа дни советским людям, утратившим товарища Сталина — великого нашего отца, руководителя и друга народного, — свойственно одно общее чувство, живущее в душах наших рядом с чувством неизмеримой скорби. Это — чувство ответственности за порученное каждому из нас дело, за свою работу, большую или малую по масштабам, но всегда большую и важную по своему значению, ибо мы делаем ее по заветам и указаниям товарища Сталина, на пользу нашей советской Родины, во имя величия и счастья которой всю свою жизнь, не покладая рук, трудился товарищ Сталин.
Мы остались ныне без товарища Сталина. Какое же большое чувство ответственности за порученное каждому из нас дело мы испытываем и перед бессмертной памятью товарища Сталина, и перед его верными соратниками — руководителями нашей партии и нашего правительства, которым завещано во главе партии и народа продолжать великое дело великого Сталина, победно в могучих своих руках нести дальше знамя Ленина, знамя Сталина!
Вспоминая товарища Сталина, вспоминая все его великие труды на благо народа, мы, советские люди, как бы слышим голос его, обращенный к нам: работайте, друзья мои, не покладая рук, работайте горячо, честно, самоотверженно, смело. Пусть горечь и печаль не затуманят вашего взгляда, пусть тяжесть утраты не оторвет ваших рук от великой работы — созидания коммунистического общества!
И советские люди во всех уголках нашей могучей, нашей необъятной Родины, храня в потрясенных горем душах образ товарища Сталина, работают с чувством великой ответственности за свое дело, с чувством особенно большой ответственности, которую накладывает на нас тяжесть понесенной утраты.
Так работал сам товарищ Сталин, так он учил работать нас, советских людей.
Так работали и так работают сейчас верные соратники нашего товарища Сталина. Деля с товарищем Сталиным при его жизни титанический труд и целиком приняв сейчас из его рук этот труд на себя, ученики Сталина — руководители партии и правительства — показывают ныне каждому советскому человеку пример мужества в трудную годину, пример непоколебимой веры в будущее, пример того, как надо в общем труде на благо народа выполнять завещанное великим вождем народа.
Товарищ Сталин говорил о том, что труд в нашей стране стал делом чести, делом доблести, делом геройства. Дело нашей чести, дело нашей доблести и геройства — трудиться сейчас так, как учил нас товарищ Сталин. Трудиться так — значит чтить память товарища Сталина. Трудиться так — значит крепить мощь нашего государства, о котором он так заботился всю свою жизнь. Трудиться так — значит отвечать делом на обращение нашей партии и нашего правительства. Трудиться так — значит выполнять те наши священные обязанности перед народом, о которых сказал товарищ Маленков в скорбный день последнего прощания с товарищем Сталиным. Трудиться так — значит быть сталинцем.
Дорогой товарищ Сталин! Обещаем тебе, что своим честным, умелым, самоотверженным трудом на благо нашей дорогой Родины мы оправдаем твои надежды и твое
доверие. Мы, советские люди, сделаем все, что ты завещал нам сделать, наш родной, наш дорогой, наш любимый товарищ Сталин!
К. Симонов
А. ЯКОВЛЕВ
Мысли и чувства народа — с партией
Авиационные конструкторы каждодневно чувствовали направляющее влияние и заботу товарища Сталина.
Товарищ Сталин лично руководил становлением и развитием авиационной промышленности, обсуждал с конструкторами и производственниками основные вопросы создания новой авиационной техники и ее массового производства. Товарищ Сталин проявлял глубочайшее знание техники, исключительную осведомленность о состоянии авиационной промышленности, поразительное знакомство с ее кадрами.
Нередко бывали у товарища Сталина конструкторы, инженеры авиазаводов, летчики.
Иосиф Виссарионович был необыкновенно внимателен к летчикам и всегда требовал от нас, конструкторов, чуткого отношения к ним, к условиям их работы, к их безопасности в полете.
Особенно много времени уделял товарищ Сталин воспитанию конструкторов. Каждого из основных конструкторов — самолетостроителей и моторостроителей — он знал лично.
Как конструктор, я также имел счастье непосредственно ощущать руководство нашей авиацией со стороны товарища Сталина. Конечно, эта область является лишь крупицей огромной и необъятной деятельности великого человека. Но даже впечатления от отдельных встреч дают представление о гигантской, напряженной работе товарища Сталина, обеспечивавшей все наши победы.
Часто приходилось удивляться, откуда Иосифу Виссарионовичу известно о том или другом факте, как у него возникают вопросы, которые мы, специалисты, не поставили вовремя и так, как нужно!
Товарищ Сталин был связан нерушимыми нитями с многомиллионным народом. Он лично знал тысячи советских людей, умел говорить с ними, умел слушать их.
Сталин вечно будет жить в сердцах миллионов людей. Еще упорней станем работать мы над осуществлением сталинской программы построения коммунизма. Мысли и чувства советских людей всегда были и будут с великой Коммунистической партией, с ее Центральным Комитетом.
А. Яковлев,
Герой Социалистического Труда, авиаконструктор
Алексей МАРЕСЬЕВ
Неустанно крепить оборону Родины!
Сердце разрывается на части. Не верится, что умер Сталин, наш отец, наш великий друг. Имя Сталина бесконечно дорого всем честным людям на земле. С именем Сталина шли в бой его верные солдаты, шли, чтобы отстоять честь, свободу и независимость нашей Родины.
Мне никогда не приходилось беседовать со Сталиным лично. И все-таки я говорил с ним. Когда было трудно, я всегда говорил со Сталиным. Он был рядом — мудрый, сильный, всегда спокойный и всегда уверенный в победе. Его вера передавалась нам, солдатам, в каждую минуту боя. Сталин учил нас храбрости и воинскому мастерству. Сталин учил нас бить врага, как*им бы хитрым и коварным он ни был. Сталин учил нас любить Родину и ненавидеть ее врагов.
Сталин говорил Чкалову: человек дороже машины. Он хотел, чтобы у советского летчика был самый лучший в мире самолет, чтобы у советского танкиста был самый лучший в мире танк, чтобы у советского артиллериста была самая лучшая в мире пушка. Так, как Сталин замышлял, так и стало. Никогда наша Родина не была такой могущественной, какой она является теперь благодаря неустанным заботам и трудам нашего Сталина.
Сталина нет с нами. Но мы никогда не забудем сталинского требования — всемерно укреплять оборонную мощь нашей Родины. Советские люди, сплотившись вокруг Коммунистической партии, будут неустанно заботиться о том, чтобы крепли Советская Армия, Военно-Морской Флот, органы разведки. Мы всегда готовы дать сокрушительный отпор любому врагу. Так завещал нам Сталин. И мы выполним его завет.
Алексей Маресьев, Герой Советского Союза
Правда, 1953, 10 марта
Письмо В. Антоновой В. М. Молотову. 1953 год
Глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович.
Простите за дерзость, которую я позволила себе, решив писать Вам, нет сил больше молчать. Я прошу защитить нас, простых людей, от преследования и террора воров. Грабят среди белого дня, ходят с кинжалами, бритвами, и, если кто им сопротивляется, они их пускают в ход. Так была порезана кондуктор Григорьева А. А. из Красной Пресни. Идешь с работы домой и не знаешь, дойдешь ли благополучно. Милиция бессильна, когда зовешь на помощь, например, в вагоне или в электричке, все пассажиры молчат, боятся пикнуть. Что же это такое? В Москве такое безобразие, ужас, не говоря уж о Подмосковье, там царство бандитов, особенно свили гнезда в Никитовке и в «Обираловке» — ст. Железнодорожная Горьковской ж. д.
Ведь это мутная вода, это русские «гангстеры» без совести и чести.
Мы победили вооруженную до зубов Германию, неужели наше государство бессильно победить этих дармоедов?
Просим Вас издать закон, пойманному вору отрубать 5 пальцев левой руки, клеймить их, чтобы народ знал, что это вор, и остерегались его. Беспощадные и суровые меры надо принять. Довольно гуманничать с этим сорняком. Горбатого исправит могила. Честные труженики должны, наконец, обрести спокойствие и не бояться, что придут ли домой благополучно.
Соберите представителей от кондукторов, например, с Красной Пресни, они Вам расскажут многое. Нельзя больше терпеть такое положение.
Уважающая Вас — Антонова.
11.VI953 г.
РГАСПИ. Ф. 82, оп. 2, д. 1440, л. 78
Завещание Веры Мухиной: «Не бойтесь рисковать в искусстве... Прочистите аппарат управления искусств»
Нет, не случайно Вера Игнатьевна Мухина стала автором «Рабочего и колхозницы» — одного из главных символов советской эпохи. По своей психологии она была вполне советским человеком, что доказывает и ее предсмертное письмо Вячеславу Молотову — одному из влиятельнейших членов тогдашнего Президиума ЦК КПСС.
Дорогой Вячеслав Михайлович.
Вы получите это письмо, когда меня уже не будет в живых. Это моя последняя просьба. Мне несколько дней было получше, но кажется, что мое состояние опять начинает ухудшаться. Спешу продиктовать это письмо, пока есть еще силы его подписать.
Мои последние просьбы по искусству:
Не забывайте изобразительное искусство, оно может дать народу не меньше, чем кино или литература. Не бойтесь рисковать в искусстве: без непрерывных, часто ошибочных поисков у нас не вырастет свое новое советское искусство.
Прочистите аппарат управления искусств — многие его руководители вместо помощи художникам загоняют их до смерти; иногда берут взятки.
Поставьте моего Чайковского в Москве. Вы, может, помните, как на просмотре «Рабочего и Колхозницы» мы с Вами поспорили и Вы, наконец, мне поверили, поверили чутью художника. Я Вам ручаюсь, что эта моя работа достойна Москвы, поверьте мне, ведь за всю мою жизнь я ни разу не подвела доверия партии и правительства.
После меня остаются очень хорошие эскизы — четыре скульптуры «Вода», «Земля», «Плодородие», «Хлеб». Я бы очень хотела, чтобы они были увеличены и поставлены парами на какой-нибудь из Волжских плотин, например, Сталинградской. Мои ученики смогли бы выполнить их и без моей помощи.
Отдайте распоряжение отлить в бронзе остающиеся после меня небольшие вещи; главное — распорядитесь отпустить на это бронзу.
Еще последняя моя просьба: квартира-мастерская, в которой я жила, до сих пор из-за юридических формальностей не принадлежит ни Министерству Культуры, ни Моссовету, ни мне. Очень прошу сделать так, чтобы она осталась за моими ребятами и чтобы она не стоила им непомерных средств, так как они у меня еще не до конца оперились.
И в смерти, как и в жизни, всегда Ваша
В. Мухина
РГАСПИ. Ф. 82, оп. 2, д. 1453, л. 95
6 октября 1953 года Вера Мухина скончалась, и ее сын В. Замков в тот же день переслал ее письмо Молотову вместе со следующей запиской:
«Дорогой Вячеслав Михайлович. Моя мать, Вера Игнатьевна Мухина, скончалась сегодня в 22 ч 30 м. Спешу исполнить ее последнюю просьбу.
С уважением В. Замков».
Уже 8 октября Молотов разослал копии письма Мухиной членам Президиума ЦК с предложением обсудить записку на Секретариате ЦК (ф. 82, оп. 2, д. 1453, л. 94, 96).
Все пожелания покойной были удовлетворены.
Характерно, что призыв к максимальной творческой свободе художника в мухинском письме-завещании соседствовал со столь же страстным призывом к чистке в руководстве Министерства культуры.
Интересно, что Молотов имел непосредственное отношение к сотворению мухинских «Рабочего и колхозницы». Он рассказывал Чуеву:
«Я был на выставке Веры Мухиной, когда она сделала свою знаменитую скульптуру “Рабочий и колхозница”. Они у нее были голые. Наверно, не очень здорово, когда стоит голая пара с серпом и молотом в руках... Я попросил их все-таки одеть».
В вопросах искусства, как и в частной жизни, Вячеслав Михайлович всегда оставался истинным пуританином.
Письмо Иванова Молотову. 1956 год
Члену Президиума ЦК КПСС т. Молотову В.М.
Дорогие друзья из ЦК!
Пишет Вам верный сын партии и Родины. То, что происходит у нас в стране, вызывает истинную тревогу за будущее — не буду пускаться в анализ — это вы сделаете.
Народ, офицеры глухо, а то явственно выражают глубокое неудовольствие настоящей политикой.
Сельское хозяйство не поднимается, а резко падает, ведь не дело, что на полях работают студенты, ученики и рабочие с заводов, сами поймите — это не работа. Крестьянин как от чумы бежит от колхоза — и он прав, ведь никому не хочется работать даром, за \1/2—3 руб. в день и l/2— 1 кил. хлеба вряд ли кто согласится работать. Отсюда нынче по всему Дону, Поволжью, Украине и даже Прибалтике остались под зиму не одна сотня тысяч посева и овощей. Возьмите, к примеру, Воронежскую, Тамбовскую и др. области, разве это не грозный признак неудовольствия? С этих областей выслали сельхозмашины ^а Восток — а здесь посев остался. Едешь юго-восточной дорогой — душа замирает, сколько хлеба осталось в полях, и на придорожных станциях гниет хлеб. В чем дело, товарищи, ведь по сводкам мы собирали 7—8 млн пудов, а нынче, как сказал Никита Сергеевич, 3289 млн пудов?
Народ говорит, почему хлеб дорог, нет мяса, масла и др. продуктов, ведь только снабжается Ленинград, Москва и Киев? Как ни странно, даже у нас, в Риге, уже много лет нет сахара, мяса и только 2—3 месяца появилась колбаса, да и то, в большинстве, конская.
Хорошее постановление вынесло правительство о сдаче коров от отдельных рабочих в колхоз — и здесь непорядок — коров бракуют и не принимают, ведь надо платить за них, и, если колхоз оплатит, что получит колхозник на руки — копейки? Дорогие товарищи, будьте внимательнее, как живет народ. Когда Никита Сергеевич ездил по Союзу, ведь смех один — заранее приготовляли то, что не было. И выходит, как Потемкин показывал Екатерине II намалеванных баб и мужиков. А посмотрите на наши выборы в Советы — ведь смех один — народ не выбирает, а только под палкой голосует. Здесь надо подумать и резко изменить. Секретарь райкома один назначает, кто будет депутатом в Совет — заранее отпечатывают списки и т. д., и мы, народ, голосуем, а не выбираем. Большая несправедливость в зарплате — инженер получает меньше, чем рабочий. А вот картина жизни инженера или рабочего, получающего 1000 рублей в месяц (это выше среднего).
Ведь в продаже «кирза»... это буквально на 1,5—2 месяца носки. Костюм и пальто — еле-еле год проносишь, а стоит 640—720 рубл. (за такое дерьмо).
О театре, кино, выписке газет и журналов и подумать нельзя — можно читать на заборах или слушать радио.
И вот, если подсчитать прожиточный минимум, налоги и коммунальные услуги составляют 452 руб. (прошу проверить). Остается на жизнь и т. д. 548 руб., тогда когда нищенская еда на 8 руб. в день на человека составляет 930 р., и прибавить остальные расходы — то здесь комментарии излишни. Мы только глядим на красные числа праздников 1 мая и 7 ноября, но не празднуем.
Дорогой Вячеслав Михайлович,' поймите, что экономика и бытие определяют сознание людей. Много пишут, говорят по радио, а в действительности не то. Я описал жизнь выше среднего, а как живет человек на 350 — до 1000 руб. — это фокусники. Вот почему растраты, хищения, сама обстановка и система толкают на это.
Прошу Вцс, Вы ведь настоящий ленинец — единственный. Вам и т. Ворошилову верят. Не смотрите на отчеты
подхалимов — проверьте, и тогда поймете, почему народ ропщет.
Иванов, член КПСС с 1927 года.
4/ХП (1956)
Письмо Молотову от старого большевика А. Н. Лаврищева. 1956 год
Уважаемый т. Молотов В. М.
На днях мы прочли в газете о том, что Советское Правительство снова пожертвовало более 75 эшелонов самых дефицитных материалов и продовольствия в Венгрию.
Может быть, мы смотрим несколько узко, Правительству сверху виднее, но у нас создается впечатление, что наше Правительство как будто тем и занимается, что выискивает предлоги для разбазаривания народного добра.
Вместо того чтобы заботиться о своем народе, снабдить его вволю всем необходимым, наше Правительство безжалостно раздает свои ресурсы всем, лишь бы придраться к случаю: и Венгрии, и Индии, и Пакистану, и Вьетнаму, и Китаю, и Корее и т. д., ведь Социалистический лагерь насчитывает около 1 млрд людей, разве может наша страна всех их обработать?
Слов нет, Венгрии нужно помочь, но не в таких количествах.
Кстати, кто дал нашему Правительству право так раздавать народные материальные ценности?
Кому только не раздаем мы результаты своего труда, а сам народ в течение 39 лет держим в нужде и недоедании.
Посмотрите, что делается в 100 километрах от Москвы — ехать далеко не нужно. Что творится в магазинах.
В погоне за расплывчатым будущим — коммунизмом, о котором никто толком и сказать-то ничего не может: какова жизнь будет при коммунизме, при социализме пока живется несладко, мы непременно требуем народ работать не покладая рук, а сами держим его в постоянных лишениях.
Ведь несомненно, через соответствующих агентов Правительство должно знать о настроении населения. Ведь
нельзя же бесконечно обманывать народ обещаниями и требовать от него жертв!
Ведь с продовольствием, мясом и пр. в прошлом году трудовой народ, под видом изменения цен, — обманули, цены на мясо и другие продукты вздорожали. То мясо, которое стоило раньше 8—9 рублей, теперь стоит 15 руб., вообще с мясом сделали такой фокус — установили разные цены на мясо с 6 до 15 руб. за кило, из них 1% туши — по 6—7 р. кило, 5% — 12 руб. и 96% — 15 руб.
Это возмутительный трюк по обману народа.
Вот так мучили народ и в Венгрии, но там народ не такой угнетенный, как наш, и восстал, но ведь и наши же люди могут не выдержать.
Ведь ненависть к работникам МГБ, залившим кровью нашу страну, кровью невинных людей, и у нас не меньше, чем в Венгрии, а у нас Правительство дает им пенсии в три-четыре раза больше, чем обычным честным трудящимся (этот абзац Молотов отчеркнул на полях красным карандашом. — Б. С.).
Ведь может же и у нас терпение лопнуть! (и этот абзац Молотов выделил красным. — Б. С.).
До этого не нужно доводить.
Нужно изменить политику в сельском хозяйстве — разве вы не видите, что крестьяне в колхозах работать не хотят и бегут оттуда в города, потому что их все время безжалостно обижают (эти слова Молотов подчеркнул. — Б. С.):
Не отбирать приусадебных участков, создать более реальный стимул для того, чтобы крестьяне работали.
Ленин говорил: социализма без личного стимула, личной заинтересованности, на одном энтузиазме не построишь. А мы личный стимул в крестьянском вопросе отодвинули в сторону и хотим, чтобы люди работали только за счет расплывчатого вознаграждения в виде трудодней.
А чего стоит закон о животноводстве в пригородах? Кому мешали люди, которые трудом своим обеспечивали население молоком? Разговор о том, что скот кормили хлебом, не серьезен. Это вызвано тем, что владельцам скота не дают сенокосных угодий, не продают фуража. Конечно, легче всего бороться с недостатками административными
мерами, вместо того чтобы тщательно их изучить и удовлетворить нужды населения. Мы рубим, а результат — повально убивается скот.
Удивляться нужно тому, что в Правительстве — умные люди, а почему-то не замечают своих ошибок, причем ошибок подчас очень наивных (этот абзац Молотов подчеркнул и отметил на полях. — Б. С.).
Все это один небольшой штрих в цепи сотен «ошибок», которые делает на каждом шагу наше Правительство.
На фоне того, что население очень нуждается, зарплата крайне низка, всюду везде нехватки, а Правительство ощутимо ничего реального не предпринимает, чтобы облегчить условия жизни населения.
При проклятом царском режиме средний заработок рабочего 25—30 рублей, неквалифицированного. На эти деньги он мог купить: 5 мешков белой муки, или пять-шесть пар яловых сапог, или костюм и пять платьев и т. д. А на среднюю зарплату рабочего 700—800 руб. можно купить в три раза, а то и еще раз меньше.
Почему Правительство не займется изучением этих цифр? (Эти слова Молотов подчеркнул. — Б. С.).
Неужели события в Венгрии ничему нас не научили?
В заключение прошу Вас повернуться, наконец, лицом к народу, начните не словами, а делом заботиться о его благосостоянии.
Прекратите растрачивать, раздавать за границу наше добро, обратите его все для нужд своего населения.
Пора от обещаний перейти к делу!
Старый большевик Лаврищев А. Н.
N Б. Полянка, 26, кв. 15.
15.Х1.56г.
РГАСПИ. Ф. 82, оп. 2, д. 1451, л. 3
Анонимное письмо Молотову. 12 апреля 1957 года
Дорогой Вячеслав Михайлович!
Среди наших руководителей Вы остались одним из немногих товарищей, работавших с Владимиром Ильичом.
В годы, когда все подхалимы (не будем указывать пальцами) курили фимиам «вождю», соревнуясь в том, кто лижет глубже, народ в Вашем лице видел скромного труженика, настоящего большевика, верил Вам и ждал от Вас правды, но она не последовала.
Являясь Вашим ровесником и отдав всю свою жизнь революции, мне хочется сказать Вам несколько слов.
Дайте вздохнуть русскому народу, дайте ему пожить по-человечески несколько лет.
Чартисты в старой Англии говорили: «Овцы съели людей». О нас можно сказать: «Армия погубила социализм». Армия, призванная защищать наш народ, губит его. Армия высосала из нашего народа все соки. Вся страна прямо или косвенно работает на армию.
Строительство социализма у нас превращено в строительство армии. Разве мы можем, разве мы должны следовать за империалистами? Они могут себе позволить содержать армию, ибо разбой — есть их ремесло, а мы должны дать возможность жить нашему народу, и мы будем непобедимы.
Мания преследования у «вождя» стоила миллионов жизней. Мания нападения на нас — стоит жизни всего народа. Создается впечатление, что у нас есть специальная группа людей, заинтересованная в раздувании страхов. Видимо, армия — это хорошая кормушка для многих бездельников. В одной Москве столько офицеров, получающих в месяц не менее 3000 руб., сколько их нет во всем НАТО.
Не аннулированием займов, за которые народ платил свои трудовые гроши, потом и кровью заработанные, можно обогатить нашу страну. Необходимо искать другие источники.
База Порколла-Удд стоила нашим людям несколько займов, а что проку?
Мы бросаем подачки всем нищим: друзьям и недругам — старая сталинская манера, но известно, что любовь за деньги не покупают и все эти Египты, Йемены, Пакис-таны, Камбоджи и прочие наши иждивенцы — это друзья до первого случая.
Они получают украинскую пшеницу, а Волынь живет впроголодь. Что касается целинного хлеба, то он гниет, к сожалению, в буртах.
О многом необходимо подумать, Вячеслав Михайлович, Вам — ленинцу. Будьте уверены, что народ всегда на стороне правды.
Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни.
Подписать не решаюсь — врать не умею.
12.IV. 1957 г.
(Дата вписана простым карандашом, очевидно, в секретариате Молотова. — Б. С.)
РГАСПИ. Ф. 82, оп. 2, д. 1467, л. 79
Анонимное письмо Хрущеву, Булганину и Молотову от группы офицеров. 26 июня 1957 года
Секретарю ЦК Коммунистической партии Советского Союза тов. Н.С. Хрущеву,
Председателю Совета Министров СССР тов. Н.А. Булганину,
Министру Государственного контроля тов. Молотову В.М.
' В тот момент, когда К. П. Советского Союза и Правительство напрягают свои усилия на экономию государственных средств и ведут борьбу со всякого рода излишествами, маршал Москаленко за счет государственных средств, общесоюзного бюджета по параграфу 6 сметы МО СССР приказал включить в титул капитального строительства МО СССР на 1957 год постройку себе лично новой дачи по сметной стоимости 1,5 мил. руб. в районе аэродрома Внуково. Строительство дачи развернулось полным ходом. Несмотря на то что маршал Москаленко уже имеет роскошную дачу, каку^о не имел еще ни один генерал старой армии, он, пользуясь своим высоким положением и не жалея государственных средств, попирая все советские законы, в угоду своей жене стал на путь растратчика государственных средств, выбрасывая миллионы на личное обогащение. Как можно рассматривать такой факт, как можно терпеть врастание советского воина в такую барскую роскошь? Это недопустимо, тем более в настоящий момент, когда везде и всюду преследуется сокращение расходной части бюджета. Владимир Ильич Ленин не строил и не собирался строить дачи, да они пролетариату
не нужны, а вот маршал Москаленко, попирая Ленинскую чистоту мировоззрения, встал на путь расточительства государственных средств, перерожденца и рвача.
Думается нам, что эта алчная потребность в постройке второй дачи будет ЦК КПСС пресечена, а маршал Москаленко будет привлечен к строгой ответственности. А эти 1,5 млн. руб. обратить на строительство жилых домов для рабочих, которые еще живут в подвалах и старых бараках.
Надеемся, что Никита Сергеевич уймет зарвавшегося маршала, потерявшего, между прочим, своими поступками авторитет у советских офицеров.
Подписи мы свои не указываем, так как очень опасаемся: за эту правду нас, офицеров, маршал Москаленко немедленно демобилизует из армии.
26.VI.57
(Дата поставлена карандашом, видимо, в секретариате Молотова. — Б. С.)
РГАСПИ. Ф. 82, оп. 2, д. 1467, л. 122
Письмо В. М. Молотову от вдовы маршала И. С. Конева А. В. Коневой. 1974 год
Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Еще год назад я получила Ваше согласие на беседу, которая, к сожалению, по моей вине не состоялась. Меня продолжают волновать события, происходившие на Западном фронте, которым командовал мой муж в октябре 1941 года. В том, что происходило тогда, много неясного. Муж о 1941 годе написать не успел. Один из самых острых моментов — приезд на Западный фронт Комиссии ГКО в октябре 1941 года. Мне бы очень хотелось узнать у Вас, как обсуждался вопрос о судьбе Конева. В связи с этим я позволю себе задать Вам, уважаемый Вячеслав Михайлович, несколько вопросов.
1. Отражены ли ход заседания Комиссии и ее решения в каком-либо документе?
2. Присутствовал ли Г. К. Жуков на заседании Комиссии в штабе Западного фронта? Комиссией или по личному ходатайству перед Сталиным было принято решение о на-
значении Конева заместителем командующего Западным фронтом?
3. Стоял ли вопрос о привлечении Конева к ответственности? Был ли вопрос поставлен официально или, как существуют предположения, лишь в реплике К.Е. Ворошилова?
Заранее глубоко благодарна. Само собой разумеется, что Ваши ответы будут храниться только у меня.
Вдова маршала Конева А. В. Конева
РГАСПИ. Ф. 82, оп. 2„ д. 1449, л. 24
Мне не известно ни об одном письме Молотова вдове маршала Конева Антонине Васильевне, равно как и о том, состоялась ли между ними какая-либо беседа. На вопросы, поставленные в письме, Молотов фактически ответил в беседах с Феликсом Чуевым. Вячеслав Михайлович, в частности, утверждал, что ему пришлось уговаривать и убеждать Конева в том, что Жуков лучше него справится с командованием. Если бы Конева действительно хотели расстрелять, как утверждает в мемуарах Жуков, то никто бы Ивана Степановича, разумеется, уговаривать не стал. Также из воспоминаний Молотова не следует, что Жуков принимал какое-либо участие в решении судьбы Конева, хотя на слова Чуева о том, что «Жуков его (Конева. — Б. С.), кажется, защитил», Молотов ответил утвердительно и сразу же перешел к тому, как снимал Ворошилова в Ленинграде.
Но вот что самое удивительное. В посмертно изданной наиболее полной версии мемуаров Конева не только содержится его собственный рассказ о событиях октября 41-го, будто бы надиктованный им на магнитофон, но и документ: письмо Сталину с просьбой назначить Жукова командующим, а Конева — первым заместителем командующего Западным фронтом, переданное в Ставку 10 октября 1941 года в 15.45. Письмо подписано всеми членами комиссии: Молотовым, Ворошиловым, Булганиным, Василевским, а также самим Коневым, но не Жуковым. По свидетельству Конева, никто его расстреливать или отдавать под суд не собирался, а Жуков в заседании комиссии участия не принимал.
Тут допустимы несколько версий. Либо Антонина Васильевна сознательно скрыла то, что существует пленка с записью воспоминаний Конева об этом эпизоде, равно как и документ, содержащий предложения молотовской комиссии, либо она не обнаружила эту запись даже через год после смерти мужа. Возможно также, что эпизод с приездом комиссии был включен в коневские мемуары не самим Иваном Степановичем, а его вдовой, которая основывалась на найденном впоследствии документе, а также, возможно, на каком-то устном рассказе Молотова (или своего мужа). Боюсь, что окончательного ответа на вопрос, которая из этих версий соответствует действительности, мы уже никогда не узнаем.
1
Викжель — Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профессионального союза (август 1917 — январь 1918).
(обратно)
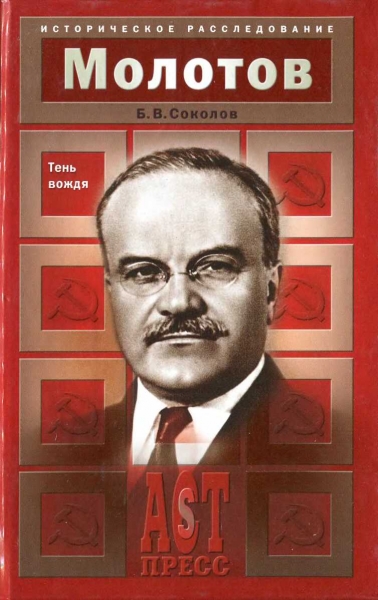








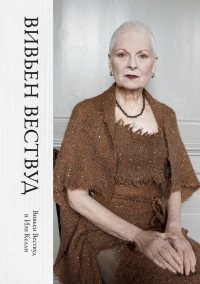
Комментарии к книге «Молотов. Тень вождя», Борис Вадимович Соколов
Всего 0 комментариев