Е. Фейнберг, член–корреспондент Академии наук СССР ВЕРНЕР ГЕЙЗЕНБЕРГ: ТРАГЕДИЯ УЧЕНОГО
В мае 1961 года, за 16 месяцев до своей смерти, Нильс Бор приезжал в СССР вместе с сыном Ore, ныне директором Института Нильса Бора в Копенгагене. Я видел Бора и в прежние его приезды — в 1934 и 1938 годах, — но на этот раз не только слушал его выступления, а вместе с коллегами участвовал в долгих беседах с ним, когда он посещал институт, в котором я работаю, — Физический институт имени 'П. Н. Лебедева Академии наук СССР (ФИАН).
Для физиков Бор не просто великий ученый, но и чрезвычайно привлекательный, высокоэтичный человек — эталонная личность. То, что я видел и слышал в последний его приезд, производило на меня особенно сильное впечатление, и, вернувшись домой, я делал по вечерам записи. Они пролежали нетронутыми четверть века — до столетнего юбилея Бора — и были оглашены на посвященном ему симпозиуме.
Во время одной из бесед речь зашла о знаменитом ученом, если не великом, то «почти великом», — Вернере Гейзенберге, остававшемся при Гитлере в Германии и принимавшем участие в немецком «урановом проекте». Высказывание о нем Бора, неожиданное и даже сенсационное, затрагивало и проблему «ученый при безжалостной диктатуре», и историю немецкого уранового проекта.
Среди других был задан вопрос, показавшийся мне бесцеремонным: правильно ли Юнг описывает поведение Гейзенберга? Имелось в виду то место в популярно излагающей историю создания атомной бомбы книге Р. Юнга «Ярче тысячи солнц», где рассказано, как Гейзенберг приезжал осенью 1941 года к Бору в Копенгаген якобы с целью сообщить, что Германия не сумеет создать атомную бомбу и нужно побудить английских и американских физиков тоже не создавать ее. Гейзенберг не мог говорить прямо, а его осторожная речь только напугала Бора, и тот вообще перестал понимать что–либо после первого же упоминания о бомбе. Из разговора ничего не получилось. Эта версия излагается и в других книгах («Вирусный флигель» Д. Ирвинга, «Теперь об этом можно рассказать» Л. Гровса, «Прометей раскованный» С. Снегова), а также в появившейся много позднее книге самого Гейзенберга.
В тот вечер я записал: «Бор даже оживился: «Гейзенберг очень честный человек. Но поразительно, как человек способен забывать свои взгляды, если он их постепенно изменял. В рассказе Юнга нет ни слова правды (это часто употребляемое Бором выражение: «Not a single word of truth», видимо, не следует понимать буквально. — Е. Ф.). Гейзенберг приехал осенью 41‑го года, когда Гитлер завоевал Францию и быстро продвигался в России. Гейзенберг уговаривал, что победа Гитлера неизбежна, глупо в ней сомневаться. Нацисты не уважают науку и поэтому плохо относятся к ученым. Нужно объединиться и помогать Гитлеру, и тогда, когда он победит, отношение к ученым изменится. Нужно сотрудничать с созданными нацистами институтами».
Бор раскуривает трубку и, не выпуская ее изо рта, смотрит на меня удивленно. Его лицо сильно от этого вытянуто, свисающие по бокам глаз брови не скрывают огромные, чуть желтоватые белки и голубые зрачки. Он очень удивлен даже сейчас. «Он считал, что победа Гитлера неизбежна! Я не мог прямо сказать ему «нет» (то есть отказаться от сотрудничества с Гитлером. — Е. Ф.). Я сказал, что не могу решать такой вопрос единолично, необходимо посоветоваться с сотрудниками. (Значит, Бор ему не доверял. Юнг прав, что они друг перед другом скрытничали. — Е. Ф.) Из того, что Гейзенберг говорил, мы пришли к выводу, что у Гитлера будет атомное оружие. Иначе почему же победа неизбежна? Я ведь уже до войны знал, что атомное оружие возможно, и опубликовал заметку, что оно скорее возможно с U-235, чем с U-238… Но тогда Лоуренсу с электромагнитным методом разделения изотопов потребовалось бы, чтобы все электростанции Америки работали на него много лет… Но потом ни Гейзенберг, ни приезжавший с ним Вейцзеккер не поднимали этого вопроса. То ли поняли, что я возмущен, то ли повлияли первые поражения немцев под Москвой. Постепенно их взгляды менялись. Я написал об этом Юнгу, но это не подействовало. Удивительно, как люди забывают свои слова, если их взгляды меняются постепенно». Здесь Гинзбург (участвовавший в этом разговоре наш физик. — Е. Ф.) вставил: «Люди склонны забывать те свои взгляды, которые хотели бы забыть». Бор в этот момент раскуривал трубку, но понимание засветилось в его полуулыбке.
Начали вставать и расходиться. Я подошел к Ore, который появился незадолго перед этим, и спросил: «Считаете ли вы, что с Гейзенбергом нельзя поддерживать отношения?» Он отрицал это, ссылался на доброе отношение Гейзенберга к отцу. Говорил, что Гейзенберг, хотя и националист, «не любит нацистов и антисемитизм» и т. п. Но когда я сказал, что книга Юнга принесла у нас больше пользы, чем вреда, очень решительно повторил: «Мы н е любим эту книгу», — и решительность была очень подчеркнута».
Итак, Нильс Бор в 1961 году сделал поразительное заявление: Гейзенберг, «очень честный человек», в октябре 1941 года убеждал его, что все ученые (или вообще интеллектуалы?) должны объединиться, помочь Гитлеру и тем добиться хорошего отношения к науке.
БОР И ГЕЙЗЕНБЕРГ
Гейзенберг (1901 — 1976) — крупнейший физик, один из создателей квантовой механики и, по крайней мере в прошлом, близкий друг Бора. В Копенгагене он некогда жил в доме Бора, и они до изнеможения ежедневно и еженощно обсуждали главные трудности квантовой механики. В результате этих обсуждений появились знаменитые соотношение неопределенностей Гейзенберга и принцип дополнительности Бора — два аспекта одного и того же фундаментального положения квантовой механики. И вот они встречаются почти как враги, и об их встрече возникают две различные версии. Здесь напрашивается сразу несколько вопросов.
Неужели действительно Гейзенберг предлагал ученым объединиться и помочь Гитлеру? Как в таком случае Бор мог назвать Гейзенберга очень честным человеком? Каково истинное политическое лицо Гейзенберга, в какой мере он сотрудничал с нацистским режимом и почему? И как он вообще вел себя при Гитлере? И дальше: почему немецкие атомники и нацистское государство не создали все же атомную бомбу? И насколько «виноват» в этом Гейзенберг?
Ответы на эти вопросы (за исключением первых двух, которые пока не обсуждались) довольно значительно расходятся.
Сначала о предложении Гейзенберга помочь Гитлеру.
Ни опубликованные материалы, ни свидетельства тех, кто знал Бора и Гейзенберга лично, не подтверждают, что такое предложение было сделано. Однако Гейзенберг — националист, хотя и «проверенный антинацист» («proven anti-Nazi»), как назвал его Бейерхен, серьезный историк науки, — даже вскоре после войны неоднократно ошеломлял своими высказываниями бывших друзей, бежавших из гитлеровской Германии. Так, в 1947 году в доме одного такого друга он, как пишут его официальные биографы, известные физики Мотт и Пайерлс, сказал: «Нацистов следовало бы оставить у власти еще лет на пятьдесят, они стали бы вполне приличными». Авторы замечают по этому поводу, что никто не собирал и не анализировал детально подобные его высказывания, но приведенное ими считают типичным. Все это, по их мнению, показывает, что Гейзенберг был совершенно неспособен понять позицию собеседника. (То же утверждает и выдающийся голландский физик Казимир.) Конечно, слова Гейзенберга переданы его собеседником, и можно предположить, что они несколько искажены. Например, было сказано несколько иначе: «Если бы нацисты пробыли у власти еще пятьдесят лет…» Но все равно ясно, что человек, выражающий подобную точку зрения, вполне мог сказать то, что записал и я. Слова Бора о том, что Гейзенберг «очень честный человек», можно понять как признание откровенности, с которой Гейзенберг всегда высказывал свое мнение.
Прежде всего — о разногласиях по поводу встречи Бора и Гейзенберга, о которой идет речь. С одной стороны… — записанные мною слова Бора, с другой — свидетельство самого Гейзенберга, повторяемое и другими.
Поездка в 1941 году к Бору была задумана Гейзенбергом и его учеником и другом, известным физиком фон Вейцзеккером. К Бору пошел Гейзенберг, а Вейцзеккер ожидал результата разговоров в отеле. Гейзенберг вернулся в отчаянии от неудачи. По мнению Вейцзеккера, к основной теме Гейзенберг подходил слишком долго и вполне возможно, что поэтому Бор мог понять его неправильно. «В действительности Гейзенберг хотел сказать, что физики всего мира должны объединиться, чтобы ни в одной стране не была создана атомная бомба… — писал Вейцзеккер, отвечая на вопросы американского историка науки А. Крамиша (1987 год). — Теперь я думаю, что Гейзенберг сделал ошибку… Он должен был сразу сказать: «Дорогой Нильс Бор, я сейчас скажу тебе нечто, что будет стоить мне жизни, если дойдет до тех, кто не должен этого знать («die falschen Leute»). Мы работаем над атомным оружием. Было бы жизненно важно для человечества, если бы мы и наши западные коллеги поняли: мы все должны работать так, чтобы бомба не появилась. Считаешь ли ты это возможным?»
В отличие от всех других авторов Юнг развивает версию, согласно которой ведущие немецкие физики–атомники, в том числе и Гейзенберг, работавшие над проблемой цепной реакции в уране уже с осени 1939 года, сознатель- н о саботировали создание атомного оружия и направляли исследования только на осуществление энергетического реактора. Можно думать, что именно это вызвало негодование Бора по поводу книги Юнга (впрочем, в ней есть много и других искажений истины). Между тем и Гейзенберг, и Вейцзеккер утверждают совсем иное. Они знали теоретически все, что требуется для создания атомной бомбы, однако к лету 1941 года пришли к убеждению: для того, чтобы построить реактор и затем получить необходимое для бомбы количество транс уранового элемента (плутоний) или же выделить из природного урана соответствующее количество урана‑235, нужны такие усилия, которые невозможны в воюющей Германии.
Утверждение о том, что основные принципы были им известны, вполне обоснованно (если не говорить об ошибке экспериментатора В. Боте, из–за которой графит в качестве замедлителя нейтронов был отвергнут и вся дальнейшая работа пошла по несравненно более трудному пути; мы еще вернемся к этому). Подтверждает его хотя бы неизданная очень полная работа талантливого теоретика Ф. Г. Хоутерманса. Датированная августом 1941 года, она была выполнена в Берлине в частном институте (ныне институт в Дрездене) профессора
Манфреда фон Арденне, который и прислал мне недавно экземпляр этой работы. Человек с активным коммунистическим прошлым и с коммунистическими убеждениями, Хоутерманс участвовал в Венском рабочем восстании 1934 года, затем работал в Харьковском физико–техническом институте. В годы сталинского террора был арестован; после заключения пакта с Германией его в числе многих других немецких коммунистов выдали Гитлеру. Через год Хоутерманса выпустили на свободу без права работать в государственном учреждении.
Придя к выводу, что создать бомбу во время войны нереально, Гейзенберг и его коллеги направили усилия на создание энергетического реактора, прежде всего на осуществление самоподдерживающейся цепной реакции в опытной установке. Впоследствии Гейзенберг говорил, что они переоценили трудности, но в то время были рады, что им не нужно активизировать работы, связанные с созданием бомбы, и давать соответствующие рекомендации правительству. Они почувствовали моральное облегчение, но их беспокоила мысль о том, что атомное оружие может быть создано в другой стране. Поэтому Гейзенберг с Вейцзеккером и решили поехать к Бору (что было отнюдь не просто, но они сумели найти официальный повод), сообщить ему о положении дел и попросить его договориться с физиками других стран, чтобы они отказались от участия в создании атомной бомбы.
Существует, правда, и другое объяснение позиции немецких атомников. Согласно этой версии, они отнюдь не стремились склонить гитлеровское руководство к срочному развертыванию работ по атомному оружию и поддерживали его заинтересованность лишь на таком уровне, который позволял спасать научную молодежь от фронта и т. п. Ученые понимали, что если они пообещают сделать бомбу, а это им не удастся, то всем им не сносить головы. Возможно, такой аргумент и имел значение, но сводить все к нему было бы неверно. Ведь они, в сущности, были правы: даже американцы, начавшие строить огромные заводы, не дожидаясь подтверждения правильности расчетов (его дало первое осуществление самоподдерживающейся цепной реакции на опытной установке Ферми в декабре 1942 года), затратившие два миллиарда долларов, то есть ровно в тысячу раз больше, чем немецкие ученые на свой урановый проект (оценка Вейцзеккера, по–видимому, вполне правильная), получили бомбу лишь после окончания войны в Европе.
Но почему же, однако, так разнятся рассказы об этой встрече Гейзенберга — с одной стороны, Бора (в тексте моих записей) — с другой?
Разговор этот был отягощен тремя обстоятельствами.
Во–первых, Бор с самого начала видел в Гейзенберге не прежнего близкого друга, а ученого, сотрудничающего с бесчеловечным режимом, с правительством, не только уничтожившим миллионы ни в чем не повинных людей, но и оккупировавшим, раздавившим его родную Данию и многие другие страны. И пусть сотрудничество это было очень ограниченным, Бор не мог относиться к Гейзенбергу по–прежнему.
Во–вторых, «как хорошо знали друзья и ученики Бора, он вообще лучше говорил, чем слушал, и вполне был способен неправильно понимать то, что ему говорили другие». Так писал Р. Е. Пайерлс, сам ученик Бора, очень хорошо его знавший.
В-третьих, неосторожность любого из них могла стоить головы им обоим. Беседовали они, гуляя вечером по улице, так как опасались, что в доме Бора установлены потайные микрофоны, но каждый из них мог потом неосторожно проговориться. Оба были очень напряжены.
Юнг пишет, что Гейзенбергу, «к сожалению, не удалось достичь нужной стадии откровенности и искренне сказать, что он и его группа сделают все, что в их силах, чтобы задержать создание такого оружия, если другая сторона согласится поступить так же». Слова о сознательной задержке работ, связанных с созданием бомбы, видимо, выдумка Юнга. Ни приводимое в книге письмо Гейзенберга к нему, ни другие источники этого утверждения не содержат. Просто из–за того, что разговаривали осторожно, обиняками, каждый слышал то, что ему казалось особенно важным. Так, по свидетельству Л. Д. Ландау, близкого друга и ученика Бора, вопрос Гейзенберга: «Что ты думаешь о возможности создания атомного оружия?» — Бор однозначно воспринял как попытку выведать, не занимаются ли этим оружием физики в странах антигитлеровской коалиции, каковы их успехи, — то есть попросту как попытку шпионажа. Поэтому, когда, узнав о неудаче Гейзенберга, его сотрудник Иенсен по собственной ини циативе приехал к Бору и прямо рассказал о низком уровне работ по урану в Германии, Бор воспринял это как грубую провокацию. (После войны выяснилось, что Иенсен все рассказал совершенно точно.)
Едва ли мы когда–нибудь узнаем совершенно точно, что именно говорили Гейзенберг и Бор при встрече: Скорее всего оба они изложили потом факты правильно (оценка всего эпизода как попытки шпионажа — субъективная оценка, а не факт), но каждый придавал значение тому, запомнил то, что ему показалось наиболее важным.
Интересно, что когда после войны многолетний сотрудник Бора профессор С. А. Розенталь спросил Гейзенберга, действительно ли он приезжал, чтобы договориться о противодействии созданию бомбы, тот ответил: «Это было бы безумием, если бы соглашение состоялось, мне после возвращения в Германию сразу отрубили бы голову». На тот же вопрос Вейцзеккер ответил: «Мы были очень наивны».
Снова возникает вопрос: как примирить это с утверждением Бора — «Гейзенберг очень честный человек»?
Весьма возможно, что со временем Бор больше узнал об антинацизме Гейзенберга, о его бескомпромиссной защите науки, понял, что он честен и откровенен в изложении своих мнений, и изменил свое отношение к нему. Вейцзеккер вспоминает, что, когда он в 1950 году, впервые после войны, встретил Вора и хотел разъяснить суть того, что тогда, в 1941 году, намеревался сказать ему Гейзенберг, Бор прервал его словами: «Ах, не будем об этом разговаривать. Я вполне понимаю, что во время войны приоритет для каждого — лояльность по отношению к своей стране. Гейзенберг же знает, что я так ду маю». Вейцзеккер в самом начале своих записок замечает, как трудно точно вспоминать то, что происходило и говорилось сорок лет назад. Однако приводи мые им слова Бора правдоподобны: считая Гейзенберга националистом, но антинацистом, он, видимо, в принципе признавал его право на «оборонческую» позицию.
Конечно, то был отнюдь не идущий до конца антинацизм. Юнг приводит слова Хоутерманса: «Каждый порядочный человек, столкнувшийся с режимом диктатуры, должен иметь мужество совершить государственную измену». Редактор одного из главных немецких научных журналов, «Натурвиссеншафтен», профессор Розбауд, близко знавший всех ведущих немецких физиков и вхожий в их лаборатории, бесстрашно передавал английской разведке добываемую им ценную информацию о ходе урановых дел в Германии. О Розбауде (нелегальная кличка «Гриф») прекрасно рассказал С. Снегов в своей книге «Прометей раскованный». Но поступать так, как Розбауд, люди иного склада не могли.
Все же, чтобы понять слова Бора, надо разобраться в важной и сложной проблеме: ученый, интеллектуал в условиях жестокого диктаторского режима.
ГЕЙЗЕНБЕРГ И НАУКА ПРИ НАЦИЗМЕ
Многие эмигрировавшие из Германии физики (уехали главным образом подпавшие под действие расистских законов евреи, но отнюдь не только они, — назову нобелевских лауреатов Шредингера, Дебая, Дельбрюка) считали, что те, кто остался в фашистской Германии, уже одним этим выразили согласие на сотрудничество с Гитлером, на поддержку нацизма. Более того, они были убеждены, что все оставшиеся должны были в знак протеста против нацизма подать в отставку. Гейзенберг же объяснял свое нежелание эмигрировать тем, что хотя ему и придется жить в ужасных материальных и моральных условиях, постоянно идти на компромиссы с режимом, он все же сможет оберегать немецкую науку, воспитывать научную молодежь, делать что возможно, чтобы наука не деградировала окончательно и возродилась после войны. Он говорил, что именно так его настроил разговор с Лауэ.
Макс фон Лауэ, знаменитый ученый, нобелевский лауреат (он умер в 1960 году, и услышать от него подтверждение слов Гейзенберга об их разговоре было уже невозможно), тоже остался в Германии, тоже не подал в отставку. Он точно так же, как Гейзенберг, объяснял — почему, добавив в разговоре с Эйнштейном в 1939 году: «Я их так ненавижу, что должен быть поближе к ним». Он тоже участвовал в урановом проекте (в частности, присутствовал в апреле 1945 года (!) при отчаянной попытке осуществить самоподдерживающуюся цепную реакцию в уране). А между тем его имя вызывает всеобщее уважение.
Когда в середине 30‑х годов немецкий физик П. П. Эвальд перед возвращением из США в Германию посетил Эйнштейна и спросил, нет ли у него поручений к кому–либо, Эйнштейн ответил: «Передайте привет Лауэ». Эвальд спросил: «Может быть, кому–нибудь еще?» — и назвал несколько имен. Эйнштейн только повторил: «Передайте привет Лауэ».
Известно, что Лауэ не раз спасал людей. Он занимал твердую позицию в науке, и его поведение в существовавших тогда условиях — пример для ученого. Он не преподавал в университете и потому не был обязан, как, например, Гейзенберг, начиная лекцию, выбрасывать вверх руку с возгласом «Хайль Гитлер!». Более того, рассказывают, что, выходя из дому, Лауэ обычно держал в одной руке портфель, а в другой — какой–нибудь сверток, чтобы иметь возможность не отвечать на приветствия знакомых. Он не шел на компромиссы, вместе с другими противодействовал нацистской травле теории относительности и квантовой механики. Так, он не поддался уговорам гамбургского профессора Ленца организовать публикацию статьи о теории относительности, чтобы «избавить ее от еврейского пятна, провозгласив автором теории француза Анри Пуанкаре и этим сделав ее приемлемой в Третьем рейхе».
Вопрос «оставаться или уехать» был, по существу, не нов для ученых. Вероятно, впервые он встал в 1911 году, когда в знак протеста против действий крайне реакционного министра просвещения Кассо (введение полицейских сил в университет, массовые исключения революционно настроенных студентов и т. д.) 130 профессоров покинули Московский университет. Среди них были выдающиеся ученые, в частности физик П. Н. Лебедев. Автор принципиально важных исследований, в которых отразилось изумительное экспериментальное искусство, Лебедев создал первую современную школу физиков в России. Он щедро одарял идеями талантливых молодых людей, которые со студенческих лет работали у него, растил ученых не на «повторении пройденного», а на самостоятельных сложных исследованиях. Знавшие Лебедева вспоминают, что он ночи не спал, мучительно думая, надо ли уходить из университета. Гражданские чувства, общественное мнение побудили уйти. Некоторое время он пытался продолжать работу с учениками в снятой на собранные средства квартире, но это было не то. Больное сердце не выдержало, и менее чем через год, едва дожив до 46 лет, он скончался.
В университете же после ухода Лебедева физика пришла в упадок. Обучать студентов стали профессора, далеко отставшие от современной науки. Положение изменилось лишь в середине 20‑х годов, когда, преодолевая сопротивление консерваторов, немногие оставшиеся молодые талантливые ученые (Н. Н. Андреев, С. И. Вавилов) с помощью студенческой общественности (будущие академики А. А. Андронов, М. А. Леонтович) добились приглашения в университет выдающегося ученого Л. И. Мандельштама и некоторых других.
). «Знамя» № 3.
Размышляя о последствиях, вызванных уходом Лебедева из университета, невольно задаешься вопросом: правильно ли он поступил? Вспомним, что академик И. П. Павлов, недоброжелательно отнесшийся к революции, не уехал за границу, а продолжал работать в своей лаборатории. Приходят на память строки Ахматовой:
Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, — Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был.Поэтому вряд ли следует безоговорочно осуждать Гейзенберга, как его осуждали американские, английские и другие западные ученые, особенно эмигрировавшие из Германии и Италии.
Гейзенберг, как и его учитель Зоммерфельд, как Планк и некоторые другие оставшиеся в Германии физики, противостоял нацистской идеологии, кото, рая, как известно, признавала только узкоприкладную физику, химию и механику, на роль же фундаментального знания выдвигала полумистические исследования древнегерманской и вообще нордической мифологии, а также антропометрические «основы» арийского расового учения. Теоретическая физика сама по себе считалась бесплодным умствованием, квантовая механика и теория относительности — порождением чуждого духа.
Так что нельзя забывать и недооценивать мужественную защиту науки Гейзенбергом (который, будучи чистокровным арийцем, получил от нацистов прозвище «белый еврей») и его коллегами. Со страниц органа СС «Дер шварце корпс» на Гейзенберга обрушивались прямые политические обвинения; ему, одному из основоположников физики XX века, не дали занять кафедру в Мюнхене после ухода на пенсию Зоммерфельда, который усиленно рекомендовал своего ученика. Кафедру отдали посредственному специалисту по аэро– и гидродинамике, который свел весь курс теоретической физики к одной лишь механике (классической).
Это отстаивание науки принимало разные формы. Например, была устроена дискуссия с нацистскими физиками, на которой удалось добиться компромиссной резолюции:
«1) Теоретическая физика со всем ее математическим аппаратом — необходимая часть всей физики.
2) Опытные факты, суммированные в специальной теории относительности, являются твердой опорой. Однако применение теории относительности к космическим закономерностям не настолько надежно, чтобы не требовалось дальнейших подтверждений ее правильности.
3) Четырехмерное представление процессов в природе является полезным математическим приемом, но не означает введения новых представлений о пространстве и времени.
4) Любая связь между теорией относительности и общей концепцией релятивизма (очевидно, философского. — Е. Ф.) отрицается.
5) Квантовая и волновая механика — единственные известные в настоящее время методы описания атомных явлений. Желательно продвинуться за пределы формализма и его предписаний, чтобы достичь более глубокого понимания атома».
Этот документ содержит и банальные истины, включенные только для того, чтобы можно было противостоять тупости нацистских идеологов (пункты 1 и 4, первая фраза пункта 5), и принижение в угоду им новой физики (конец пункта 5, первая фраза пункта 2: теория относительности ценна только как систематизация фактов, но, согласно пункту 3, не меняет представлений о пространстве и времени, хотя на самом деле ее величие именно в том, что она дает новое понимание пространства и времени).
Не очень–то приятно об этом писать, но физик моего поколения не может не увидеть, как удручающе похожи формулировки компромиссного соглашения на те вульгаризовавшие, принижавшие квантовую механику и теорию относительности формулировки, на которые порой соглашались наши философы, нападавшие на современную науку начиная с 30‑х годов и до смерти Сталина. Конечно, основой этих нападок служили не расовые идеи, а «необходимость защиты материализма от буржуазной идеологии», но все же сходство поразительно. Даже в 1952 году, когда у нас уже сформировалась большая наука мирового значения, когда выросли прекрасные кадры молодых физиков, а старшее поколение на практике решения важнейших технических задач доказало ее плодотворность, все еще приходилось опасаться философов (правда, занятых в то время главным образом разгромом биологии и кибернетики). Так, в изданном тогда Академией наук солидном сборнике статей «Философские вопросы современной физики» один из авторов заявлял: «То, что Эйнштейн и эйнштейнианцы выдают за физическую теорию, не может быть признано физической теорией». Оказывается далее, что никакой собственно теории относительности нет, есть «физика быстрых движений». Лишь «реакционные буржуазные ученые поднимают Эйнштейна на щит, как якобы создателя нового физического учения о пространстве и времени». И вывод: «Разоблачение реакционного эйнштейни- анства в области физической науки — одна из наиболее актуальных задач советских физиков и философов». Столь же злобно и невежественно говорилось и о квантовой механике.
Быть обвиненным в идеализме было очень опасно, и находились физики (к счастью, немногие), которые от страха шли на вульгаризацию науки точно так же, как иные немецкие физики. Более того, и у нас от исследований часто требовали прямой и немедленной пользы для практики. Необходимость теоретической физики приходилось отстаивать, а исследовательские работы в области ядерной физики академики С. И. Вавилов и А. Ф. Иоффе вплоть до самой войны вели в своих институтах под огнем критики со стороны некоторых руководящих инстанций «за отрыв от практических нужд народного хозяйства».
Но вернемся к компромиссному документу немецких физиков. Нельзя не признать, что он все же сыграл полезную роль: не только позволил сохранить в немецких университетах преподавание фундаментальных наук (пункт 1), в частности «порочной» новой, современной физики, но, как выяснилось впоследствии, даже переубедил некоторых, ранее колебавшихся участников дискуссии и они порвали с «арийской» физикой Ленарда и Штарка. К тому же он был полезен и для студентов, хоть и настроенных в большинстве пронацистски, однако, вероятно, понимавших ценность новой науки.
Конечно, участие в подобных компромиссах было унизительно для настоящих ученых. Лауэ, Планк. Зоммерфельд, Гейзенберг могли позволить себе уклониться, но кто–то все же вынужден был пойти на это ради науки и молодежи.
Какова же все–таки была политическая позиция Гейзенберга? Ее нельзя понять, не учитывая, во–первых, тот факт, что немецкие академические круги, в отличие, например, от российской интеллигенции, традиционно всячески старались изолировать себя от политики. Во–вторых, нужно учесть среду, к которой Гейзенберг принадлежал. И, наконец, в-третьих, и это, вероятно, самое главное, — то, что немецкий народ в огромном большинстве пошел за Гитлером.
ПРИХОД ГИТЛЕРА К ВЛАСТИ
Среда, в которой Гейзенберг жил, уже отнюдь не была тем сообществом, которое существовало до прихода Гитлера к власти, — международным сообществом ученых, преданных науке, творивших новую науку, свободно и дружески общавшихся. Политический, идеологический раскол мира вызвал и раскол в мире ученых.
Вспоминая о «хаосе последних лет войны», Гейзенберг пишет, что радовавших его впечатлений было не много. Одно из них стало частью того фундамента, на котором впоследствии основывалось его отношение к общим политическим вопросам. Эту радость давали ему еженедельные собрания по средам, на которых встречались, музицировали, обсуждали различные темы глава антигитлеровского заговора генерал Бек, священник Попиц, известный хирург Зауэр- брух, посол фон Хассель, посол Германии в Москве до войны, вручивший 22 июня 1941 года Советскому правительству ноту о начале гитлеровской агрессии граф Шуленбург и другие. Эрнст Генри говорит, что Шуленбург был «консерватор и националист, но не фашист». За две недели до нападения гитлеровской Германии он предупредил о нем советских дипломатов, в частности посла СССР Деканозова, то есть, по существу, совершил акт государственной измены.
В июле 1944 года, по дороге из Берлина в Мюнхен, Гейзенберг узнал о неудачном покушении на жизнь Гитлера, казни Бека и аресте нескольких из тех, с кем он встречался по средам.
Гейзенберг — немецкий националист, и его отношение к гитлеризму не могло быть однозначным. С одной стороны, он, конечно, испытывал отвращение к зверствам нацизма, к его варварской идеологии, возмущался подавлением интеллигенции и свободной мысли, тупостью и жестокостью больших и малых фюреров. Но, подобно миллионам своих соотечественников, он не мог не видеть, что с приходом Гитлера к власти закончился многолетний период порожденного непрекращающейся безработицей отчаяния немецкого народа. Пособие по безработице, малое само по себе, выдавалось ограниченное время, а потом человек мог рассчитывать только на общественную благотворительность, эквивалентную 1,75 доллара в неделю. Таких было полтора миллиона. Страну угнетали массовый голод и бесперспективность, экономическое и моральное унижение Версальского договора.
С 1929 по 1932 год Германия металась в поисках выхода. Найти его обещали и нацисты, и сильная коммунистическая партия. Между этими полюсами были еще и социал–демократы, более многочисленные, чем коммунисты, и президент Гинденбург, и магнаты капитала — националисты старопрусского типа. Все они имели массовые военизированные организации: у нацистов — штурмовики, у коммунистов — Рот–фронт, у социал–демократов — шуцбунд, у националистов — Стальной шлем.
США и другие западные страны с беспокойством следили за развитием событий. Дело было не только в том, что, как писал американский журналист Никербокер, из–за предоставленных Германии займов «каждый американский гражданин — мужчина, женщина, ребенок — непосредственно заинтересован в судьбе Германии в сумме 33 доллара». Гораздо важнее было то, что, как писал тот же Никербокер, коммунистическая Германия означает появление Красной Армии на Рейне.
Возникновение коммунистической Германии было вполне реально. В одном Берлине, где уже в 1930 году насчитывалось полмиллиона безработных, за коммунистов голосовали 739 235 человек (за социал–демократов — 738 094), а за национал–социалистов почти вдвое меньше — 395 988. Разница, грубо говоря, определялась тем, что «коммунисты — это те, кто никогда ничего не имел, а национал–социалисты — это те, кто кое–что имел, но потерял все», но жизнь была невыносима и для тех, и для других.
Никербокер в 1931 году объездил всю Германию, беседовал с представителями всех партий, и выраженные в его книге опасения вполне обоснованны. Еще в двадцатые годы на праздничных демонстрациях в Москве можно было видеть лозунг «Советский серп и немецкий молот объединят весь мир». Провозглашали этот лозунг и коммунисты в Германии, знали о нем в США. В 20‑е и даже в 30‑е годы многие наши комсомольцы и вообще молодые люди комсомольского возраста носили «юнгштурмовки» — рубашку цвета хаки с открытым воротом, подпоясанную кожаным ремнем, и такого же цвета брюки или юбку; через плечо — кожаная портупея. Это была форма немецкого Союза красных фронтовиков — коммунистической организации самообороны, которую возглавлял руководитель Коммунистической партии Германии Эрнст Тельман. Лозунг «Красный флаг от Владивостока до Рейна» звучал на коммунистических митингах и в самой Германии.
Однако в развитие событий неожиданно вмешался мощный внешний фактор — все то, что происходило в Советском Союзе. Сплошная коллективизация со всеми ее ужасами. Невероятные усилия, даже жертвы, которых потребовала так и не выполненная первая пятилетка. Понадобилось свалить на кого–то вину за беспорядок в промышленности, строительстве и на транспорте. Стали искать «вредителей», в частности среди технической интеллигенции. До революции русские инженеры считались едва ли не лучшими в мире — их ценили наравне с бельгийскими. Были и более детальные оценки; лучшие конструкторы — бельгийцы, русские, французы; лучшие технологи — немцы; лучшие путейцы, вне сомнения, — выпускники Петербургского института путей сообщения. Не случайно именно они строили Великий сибирский путь и всю обширную сеть железных дорог. Не случайно после гибели русского военного флота под Цусимой за какие–нибудь десять лет — к первой мировой войне — был создай новый, весьма современный флот. Выдающиеся инженеры многое сделали для возрождения индустрии после гражданской войны. Достаточно назвать автора проекта Днепрогэса И. Г. Александрова, строителя ВолховГЭС Г. О. Графтио, В. Г. Шухова, Б. О. Патона, кораблестроителя А. Н. Крылова — они не пострадали, но сколько замечательных инженеров попало в разряд «вредителей» и было безвинно уничтожено!
Газеты были заполнены отчетами о судебных процессах, на которых обвиняемые признавались в чудовищно неправдоподобных преступлениях.
Все это не могло быть тайной для внешнего мира. Страна тогда вообще была довольно открыта для иностранцев. Зарубежные журналисты ездили повсюду. В связи с индустриализацией, закупками за границей машин и оборудования на стройках и заводах работало множество иностранных специалистов и квалифицированных рабочих, и среди них значительное количество немцев. Иностранные специалисты находились на особом снабжении, однако не могли не видеть, как резко понизился уровень жизни советских людей, не знать о голоде. Одна из немецких газет, например, поместила карикатуру: русский мужик в штанах, сшитых из капустных листьев: подпись — «Колхозы» («Kohlhosen»; игра слов: Kohl — капуста, Hosen — штаны).
Особенно осведомлены обо всем происходившем у нас были именно в Германии. И это важно подчеркнуть.
Во–первых, после подписания Раппальского договора (1922 год), прорвавшего блокаду Советской России и принесшего большую выгоду обеим сторонам, широко развились экономические и другие виды сотрудничества двух стран, связанные с длительным проживанием в нашей стране значительных контингентов немецких граждан.
Во–вторых, и это, пожалуй, даже важнее, в России еще со времен Екатерины II, зазывавшей немецких крестьян в Россию и щедро наделявшей их плодородными землями, были весьма процветавшие чисто немецкие села, «колонии», как их называли даже в советское время, со школами на родном языке и т. п., особенно многочисленные на Украине, в Крыму, в Поволжье. С 1924 по 1941 год на левобережье Волги существовала Автономная Республика Немцев Поволжья (столица — город Энгельс) с населением 600 тысяч человек, из них 64 процента — немцы.
Коллективизация, «раскулачивание», разорение, высылка никого, разумеется, не обошли. В Германии под лозунгом «Братья в нужде» развернулась шумная кампания в защиту советских немцев. Московские газеты, конечно, давали отпор «лживой антисоветской провокации». Но антисоветская и антикоммунистическая кампания на этой основе в Германии продолжалась. В частности, проводился сбор денег и продовольствия для немцев в СССР. Западногерманский историк К. Никлаусс в своей книге «Советский Союз и захват власти Гитлером» описывает кризис 1929–1931 годов во взаимоотношениях двух государств, вызванный внутренней политикой Сталина и делавший для германского правительства невозможным продолжение курса Рапалло. Представители германского правительства во время многочисленных встреч с советским послом Н. Н. Крестинским, а также немецкий посол в Москве Дирксен при встречах с наркомом иностранных дел М. М. Литвиновым заявляли, что коллективизация и поход против религии (закрытие церквей, преследование духовенства, запрещение колокольного звона в городах) вызвали в Германии возмущение общественного мнения, которое особенно связывало все происходившее с судьбой немецких «колонистов». Поток протестов, адресованных немецкому правительству и президенту республики, антисоветская кампания в прессе делали трудным положение правительства в рейхстаге,
Сложно ли было в этих условиях убедить крестьянство и другие промежуточные и колеблющиеся слои населения Германии, что не от социалистической России, не от коммунистов надо ждать спасения?
Не только то, что происходило в СССР в эти критические годы, толкало значительные массы немецкого народа к другому полюсу. В решающий исторический момент немецкие коммунисты оказались в изоляции. Сталин называл социал–демократов не иначе, как социал–фашистами, любое сотрудничество с ними считалось предательством. Эта позиция стала изменяться лишь незадолго до того, как в 1936 году «Народный фронт против фашизма и войны» пришел во Франции к власти и преградил там дорогу фашизму: Сталин, а следовательно, и Коминтерн признали необходимость сотрудничества со всеми левыми силами. Однако в Германии единый фронт и в то время создан не был.
В результате всего этого немецкий народ, давший миру великих ученых, писателей, художников, религиозных деятелей, философов, основателей научного социализма, сделал выбор в пользу Гитлера.
Этот народ жил в условиях безработицы и голода, испытывал не только физические страдания, но и унижение. Талантливые головы и умелые руки, способные справиться с любой работой, были обречены на бездействие, не могли спасти голодных детей. Все это не могло не вести к всеобщему озлоблению. Вопрос был только в одном: перерастет ли оно в святую злобу, которую, по словам Александра Блока, вел за собой Христос, или же в троглодитскую злобу «сверхчеловеков», вдохновляемую фюрером на создание освенцимов и душегубок? Именно внешние причины покончили с колебаниями — выбор был сделан.
Гитлер варварски подавил культуру, уничтожил миллионы немцев и десятки миллионов людей в завоеванных им странах. Гитлеризм с его жестокостью, бесчеловечностью и коварством — один из самых отвратительных режимов во всей истории. Это несомненно. Тогда почему уже после первого периода жестокого владычества Гитлера немецкий народ в своей массе с надеждой преданно смотрел на него, почему матерй в умилении протягивали к нему детей, почему люди готовы были умереть за него?
Разумеется, дело в том, что он вывел немцев из состояния отчаяния, безысходности, избавил от голода. Все получили работу, с унижением и тяготами Версальского договора было покончено, когда Гитлер разорвал его, ввел войска в Рейнскую область и начал усиленно вооружаться. У молодежи появилась хоть и гнусная, но все Же цель — Поработить другие народы. Гитлер сделал то, что не смогли сделать либералы и социал–демократы с их Веймарской республикой, чего же жалеть, когда гестапо уничтожает их, а тем более коммунистов и евреев?
Гитлер, конечно, получал в той или иной форме помощь от западных капиталистических стран. Более того, достаточно было одной французской дивизии, чтобы заставить его отступить, когда он ввел войска в Рейнскую область. Никто не помешал ему вооружаться, быть может, из опасения, что это вызовет выступление немецкого народа в его защиту.
Огромна вина Сталина перед человечеством. Своей внутренней политикой и изоляцией Компартии Германии от других левых сил он объективно открыл Гитлеру путь к власти, подтолкнул к нему немецкий народ и тем самым впоследствии привел к войне.
Что же удивляться, если и массы немецкого народа, и националисты вроде Гейзенберга посчитали, что новый режим способен осуществить национальную задачу огромного значения. Они старались закрыть глаза на ужасы нацизма, не прислушиваться к сообщениям о концентрационных лагерях; им хотелось верить, что все это, как и сама варварская идеология нацистских вождей, временно, что это неизбежный «накладной расход»: «лес рубят — щепки летят», и по мере достижения всего необходимого нации «негативные явления» будут ослабевать и в конце концов исчезнут.
Такая позиция характерна и для интеллектуалов, и для народных масс при любой диктатуре, использующей для осуществления крупных национальных задач безжалостные, бесчеловечные методы.
Не потому ли и наш народ терпел жестокость и преступления Сталина, что находил им оправдание в решении важнейшей национальной задачи — превращении относительно отсталой огромной страны в современную и сильную индустриальную державу? В обоих случаях на долю умелой пропаганды и демагогии оставалось убедить людей в том, что другого пути к решению великой задачи нет. К примеру, в СССР‑де нельзя было придерживаться тезиса Ленина о том, что для победы социализма нам необходимы лишь десять — двадцать лет правильных взаимоотношений с крестьянством. Нужен был, конечно, еще и могучий, всепроникающий карательный аппарат. Но ведь еще Макиавелли в трактате «Государь» писал: «Государь должен внушать страх таким образом, чтобы если не заслужить любовь, то избежать ненависти, потому что вполне возможно устрашать и в то же время не стать ненавистным».
Конечно, и для Гейзенберга, и для подавляющего большинства других националистически настроенных интеллектуалов все было не так просто. Неудивительно, что он все время колебался И в разное время высказывал разные взгляды.
Неудивительно и то, что люди, жившие в то время в совершенно других условиях — в США, Англии, Дании и т. п. — в странах, где не стояло другой большой национальной задачи, кроме спасения от гитлеровской агрессии, — охваченные ненавистью к нацизму, не могли понять Гейзенберга и подобных ему.
Физики, особенно западные, с которыми я говорил о Гейзенберге, зачастую осуждали его: он слишком тесно сотрудничал с властями, ему нравилась роль «первого физика», официальные письма он, как полагалось, завершал словами «Хайль Гитлер!» и вообще при встречах произносил гитлеровское приветствие.
Трудно судить, что значит «слишком тесно сотрудничал». В немецком урановом проекте принимал участие и такой человек, как Лауэ. Гейзенберг, Вейцзеккер, их друг и сотрудник Вирц не были членами нацистской партии. Конечно, это можно считать формальным обстоятельством. Ведь Иенсен состоял в партии, но, по–видимому, был далек от исповедания нацизма. А на Гейзенберга обрушивались свирепые атаки ПО идеологической линии, и он противостоял им бескомпромиссно.
Что касается гитлеровского приветствия, то оно было обязательным. Гейзенберг утешал себя тем, что писать официальные письма ему приходится очень редко. Устное приветствие Имело особое значение только вначале. П. П. Эвальд приводит красочный эпизод (цитирую по книге Бейерхена): «Планк как президент Общества кайзера Вильгельма… прибыл на открытие Института металлов… в Штутгарте. Он должен был произнести речь (это, по- видимому, было в 1934 году), и мы смотрели на Планка, ожидая, как он справится с процедурой открытия, поскольку к этому времени было уже официально предписано такую речь начинать словами «Хайль Гитлер!»….Планк стоял на возвышении. Он поднял немного руку, но опустил ее. Он сделал это еще раз. Затем наконец рука пошла вверх, и он сказал: «Хайль Гитлер!». Ретроспективно мы понимаем: это было единственное, что можно было сделать, если не желать поставить под угрозу существование всего Общества кайзера Вильгельма» (это основанное в 1911 году общество объединяло обширную сеть исследовательских институтов, субсидировали его правительство и частный капитал).
С течением времени это приветствие превратилось в чистую формальность: небрежный взмах руки, который всем известен по кинофильмам, и скороговоркой — два кабалистических слова. Во всяком случае, участие в собраниях и митингах с аплодисментами, переходящими в овацию при каждом упоминании магического, обожествляемого имени, значило не меньше, поскольку здесь действительно возникало массовое чувство преклонения, восхищения, умиления и преданности.
По–видимому, в период нацизма психологически противоречивые настроения владели Гейзенбергом, а политически он во многом был нестоек, может быть, даже недостаточно зрел. Один известный физик, бежавший из гитлеровской Германии и информированный в подобного рода вопросах, говорил мне (не знаю, кто может подтвердить его слова), что в первые годы войны Гейзенберг желал поражения Германии. Узнав же об ужасных порядках, которые нацисты устанавливают в завоеванных странах, о лагерях смерти и т. п., испугался мести народов в случае неудачного для Германии исхода войны, стал желать победы. В конце войны страшились возмездия и солдаты. Вероятно, именно поэтому многие из них, прошедшие через советский плен, так хорошо относятся к нашей стране, — они не ожидали, что к ним проявят человечность и великодушие.
Когда в 1943 году Гейзенберг посетил своего коллегу Казимира, он старался убедить его, что Европа под германским руководством, быть может, меньшее зло, что только так можно защитить западную культуру. Не отрицая и не оправдывая зверства и вообще отвратительные черты нацизма, на которые, возражая, ссылался Казимир, он лишь утверждал, что после войны следует ожидать изменений к лучшему, — и это после Сталинграда, когда поражение Германии уже наметилось!
Сам Казимир задается вопросом: зачем Гейзенберг говорил ему все это? Перебирая возможные причины (кроме упомянутой), он снова сводит все к тому, что Гейзенберг совершенно не был способен понимать собеседника, в данном случае — ненавидящего гитлеризм голландца.
Необходимо отметить еще вот что. Тот же Казимир пишет, что до войны «всегда восхищался Гейзенбергом не только как физиком. Для меня он был представителем многого из того, что дала германская культура. Он был хороший музыкант и хороший спортсмен, знал древние языки гораздо лучше меня». Но потом стало преобладать неприязненное отношение к нему, возникло немало обвинений, основанных на ложных слухах. Так, например, мне говорили, что во время этого визита Гейзенберг уговаривал Казимира принять участие в немецком урановом проекте. В книге воспоминаний Казимира ни о чем таком нет ни слова. Беседуя со мной в сентябре 1988 года, Казимир категорически опровергал этот слух.
Со временем стало выясняться, что Гейзенберг старался помочь жертвам нацизма. Польский физик Э. К. Гора, ныне живущий в США, опубликовал в 1985 году в американском научном журнале письмо, озаглавленное «Спасенный Гейзенбергом». В этом письме он рассказывает, что когда в 1939 году части вермахта заняли Варшаву, его предупредили о приказе Гитлера уничтожить польскую интеллигенцию. Гора обратился к Гейзенбергу, и тот спас его: пригласил в Лейпциг, помог устроиться на работу трамвайным кондуктором — это дало статут «иностранного рабочего», назвал «иностранным студентом» — это дало возможность продолжить образование и вести научную работу (резуль- тэты ее были опубликованы в 1943 году в немецком журнале). Арестованный гестапо, Гора был вскоре освобожден, как он полагает, благодаря Гейзенбергу.
Гейзенберг никогда не писал и не говорил о своей помощи коллегам: считал, вероятно, что это ниже его достоинства, так как выглядело бы самооправданием.
Вообще многие «традиционно аполитичные» антифашистски настроенные ученые были, как выясняется, связаны между собой и старались помочь пострадавшим. Например, когда Хоутерманса переправляли от советской границы в Берлин, он попросил одного случайно задержанного немца, которого должны были освободить, чтобы тот нашел Лауэ и сказал ему всего три слова: «Хоу- терманс в Берлине». Лауэ незамедлительно начал хлопоты и добился освобождения Хоутерманса.
Я знал об этом из различных воспоминаний, а подтверждение получил от физика Пейру — одного из тех двух пленных французских офицеров, которых Розбауд сумел вызволить на основании смехотворного предлога: необходимости перевести на французский научную книгу. При этом Розбауд договорился с Жолио — Кюри, что после войны эта работа не будет рассматриваться как сотрудничество с фашистами. До конца войны Пейру работал в лаборатории «Зубра» — Н. В. Тимофеева — Ресовского. Он подтвердил мне также, что когда сына Тимофеева — Ресовского, антифашиста–яодшлыцика, схватило гестапо, то Гейзенберг пытался помочь спасти его.
Известны лишь немногие факты такого взаимодействия ученых. Обнаруживались они постепенно, а теперь осталось уже мало современников и свидетелей событий.
Надо отметить, что после войны Гейзенберг был в числе восемнадцати западногерманских ученых–атомников, опубликовавших манифест, в котором они осудили ^томное оружие и заявили, что никогда не будут принимать участие в его разработке.
И все же долго еще западные физики относились к Гейзенбергу с неприязнью. Научные контакты, конечно, возобновились — он участвовал во многих конференциях. Возобновились отношения с Бором, хотя есть основания полагать, что рана Бора так и не затянулась. Гейзенберг с женой приезжал в Копенгаген, и две супружеские пары подолгу гуляли вместе. Возобновились отношения со старым другом Паули, выдающимся физиком–теоретиком, — в свое время они создавали квантовую теорию поля, а теперь обсуждали новые научные проблемы (Паули, еврей по национальности, постоянно жил в Швейцарии, в 1940 году уехал в США; после войны снова по 5–6 лет подряд жил в Швейцарии).
Несомненно, Гейзенбергу нелегко было чувствовать отчуждение или хотя бы натянутость по отношению к нему.
В августе 1959 года, впервые после войны, в Киеве состоялась большая международная конференция по физике высоких энергий. В числе сотен иностранных ученых приехал и Гейзенберг. Почти все жили в гостинице «Украина». Девушка в бюро регистраций, не имея представления, с кем имеет дело, поселила Гейзенберга в одной из комнат на верхнем этаже с несколькими советскими журналистами. На следующее утро Гейзенберг подошел к известному физику И. Е. Тамму и робко попросил походатайствовать за него: до верхнего этажа не доходит вода, и он не может умыться. Конечно, все было тут же улажено.
Разумеется, Гейзенберг не знал, как его встретят в Киеве. Он был не только человек из гитлеровской Германии. Ему не могло не быть известно, что наши философы, а также некоторые физики клеймили его как идейного врага, «буржуазного идеалиста», физика «копенгагенской школы». Для них он был не одним из великих создателей квантовой механики, о которой Ландау с восторгом говорил: «Человек оказался способен понять то, что невозможно себе представить», — а носителем идеологического зла.
Опасения Гейзенберга оказались напрасны: в научном общении не чувствовалось никакой натянутости. Я впервые встретился с ним в 1957 году на конференции по космическим лучам в Италии и из–за некоторых причин отнюдь не политического характера мог ожидать, что он встретит меня недоброжелательно, однако он живо, с энтузиазмом рассказал мне кое–что о работе, которой был тогда увлечен. Эта работа вызвала бурный интерес; Ландау с восхищением говорил: «В 57 лет выдвинуть такую блестящую идею!», — но затем обнаружились недостатки, и возбуждение прошло; именно об этой теории Бор затем сказал: «Это, конечно, безумная теория, но она недостаточно безумна, чтобы быть правильной».
В Киеве молодой талантливый физик из нашей группы в ФИАНе Г. А. Милехин с моей помощью рассказал Гейзенбергу о своей работе, в которой объяснял, почему две теории — Гейзенберга и Ландау — одного и того же важного процесса, очень привлекательные, но внешне принципиально различные, приводят к разным результатам. Милехин доказал, что эти теории можно свести к одной: они в принципе эквивалентны. Различие же выводов объясняется различием в выборе дополнительного элемента теории, который должен быть сделан на основе других соображений. Теория Ландау была более развита, более популярна, и круглое лицо Гейзенберга сияло, он открыто радовался, что все разъяснилось. Были и другие интересные обсуждения. Потом Гейзенберг председательствовал на пленарном заседании. Казалось, все по–прежнему. Но тогда же один известный физик–теоретик, эмигрировавший из Германии после прихода Гитлера к власти, в ответ на вопрос Ландау, как он относится к Гейзенбергу, в моем присутствии сказал: «Я не склонен забывать прошлое так быстро, как некоторые». Это было сказано через четырнадцать лет после окончания войны.
ПОЧЕМУ ГИТЛЕР НЕ ПОЛУЧИЛ АТОМНУЮ БОМБУ
На этот счет существует несколько точек зрения (явно неверное утверждение Юнга о сознательном саботаже ученых я исключаю).
Вот первая из них. Гитлер запретил разрабатывать виды оружия, которые не могут быть изготовлены и использованы на войне в ближайшее время. Действительно, когда немецкие физики в 1941 году пришли к выводу, что для создания атомного оружия нужны материальные и людские ресурсы, которые невозможно выделить во время войны, то это запрещение могло быть истолковано как приказ не заниматься атомным оружием. Но если бы они страстно хотели создать такое оружие, то они едва ли так легко отступили бы. Ведь сроки нельзя определить точно, а работать они начали раньше всех других — летом 1939 года, когда материальные и людские резервы еще не были растрачены (в последующие два года они лишь возрастали).
Другое мнение. Немецкие физики, коллектив которых был ослаблен массовой эмиграцией из Германии крупных ученых, недостаточно хорошо понимали дело, многого не знали. Действительно, Германия лишилась пятнадцати нобелевских лауреатов только в области химии и физики и множества не столь прославленных, но очень крупных физиков, которые сыграли в США ведущую роль при работе над атомным оружием. Но все же в Германии оставалось много сильных ученых — и это видно уже из того, что они очень скоро поняли все необходимое для создания бомбы. При наличии прекрасной промышленности, способной решать любые сложные проблемы химической очистки материалов и конструирования сложных машин и устройств, при наличии запасов урана (в конце 1940 года у немцев его было даже несколько больше, чем через два года у Ферми в США) и т. п. положение отнюдь нельзя было считать безнадежным.
Указывают также на само положение науки при нацизме. Наука и ученые были принижены, Гитлер их презирал. Лишь в сентябре 1944 года Борман запретил призывать научных работников на военную службу и привлекать к выполнению любых других специальных повинностей, не имеющих отношения к их основной профессии. Значительную часть научных работников тогда отозвали с фронта. Однако единой правительственной научной организации не было. Исследования по урановой проблеме вели разобщенные группы, конкурировавшие между собой. Так, даже последняя попытка в апреле 1945 года осуществить самоподдерживающуюся цепную реакцию не удалась только из–за того, что группа Дибнера не отдала группе Гейзенберга свои запасы тяжелой воды и урана.
Разные группы физиков искали покровительства всевозможных правительственных ведомств и порой находили его — одни в министерстве просвещения, другие в военном ведомстве, третьи даже в почтовом. В то же время ученые не хотели слишком заинтересовать власти в этой проблеме, так как знали, что Гитлер может повелеть, например, чтобы бомба была изготовлена за шесть месяцев, а в случае неудачи — казнить виновных. В этих условиях, как тонко замечает в своей книге «Вирусный флигель» Д. Ирвинг, исследователями руководило прежде всего неразрывно связанное с любой научной работой любопытство, желание раскрыть очередную тайну природы. Справедливо и другое замечание Д. Ирвинга: если бы они осуществили мирную цепную реакцию, то это же любопытство неизбежно вызвало бы стремление создать бомбу. Вспомним слова Ферми: «Прежде всего это хорошая физика».
^Немаловажное значение имела поразительная самоуверенность многих ведущих немецких физиков: если даже они встретились с непреодолимыми трудностями, то их западные коллеги и вовсе не смогут ничего сделать, так как вообще далеко отстают. Сообщению о первой сброшенной американской бомбе они сначала просто не поверили. Предполагая в будущем создать энергетический реактор, они, как уже говорилось, вплоть до последнего момента — до апреля 1945 года — все свои усилия направляли на получение самоподдерживающейся цепной реакции в уране. Они считали, что если эта попытка будет успешной, то после падения Германии пораженные их успехом союзники должным образом оценят немецкую науку и создадут условия для ее развития. На самом же деле такой опыт был успешно осуществлен под руководством Ферми в Чикаго еще в декабре 1942 года, однако даже при невиданном размахе работ США потребовались еще 2 года 7 месяцев, чтобы создать атомные бомбы, так что, если бы последняя попытка немецких физиков оказалась успешной, это все равно не имело бы военного значения.
Примечателен вот какой факт. Бомбу можно было сделать двумя путями: либо из плутония, получаемого в любом работающем урановом реакторе, либо из изотопа уран‑235, который необходимо как–то выделить из природного урана, содержащего его в очень малой пропорции, — задача чрезвычайно трудная. Немецкие физики безуспешно испробовали шесть методов разделения изотопов, пренебрегли лишь одним — именно тем, который применили в США. Возможно, случилось так потому, что к урановому проекту не был привлечен из–за своей национальности крупнейший эксперт в этом вопросе, нобелевский лауреат Густав Герц. Как участник первой мировой войны, награжденный орденом, еврей Герц смог остаться в Германии — на него не распространялись расовые законы. Между тем в Лос — Аламосском центре, где создавалась бомба, ведущими в работе были иммигранты, тогда еще граждане враждебных США стран Европы — Ферми, Сциллард, Теллер, Вайскопф, Бете, фон Нейман, Вигнер и множество других (они еще не прожили в США пяти лет, а без этого нельзя было получить американское гражданство).
Все это, конечно, играло свою роль. Но хотелось бы отметить еще одно не очевидное, но, как мне представляется, решающее обстоятельство.
Категорически отвергая утверждение Юнга о том, что немецкие физики сознательно саботировали создание атомной бомбы, надо сказать о другом. Успех научной работы зависит отнюдь не только от сознательного решения. Каждый научный работник — математик, физик, химик, биолог, медик — хорошо знает, что добиться чего–либо действительно существенного и трудного можно только ценой полного напряжения интеллекта и душевных сил, только отдавшись целиком, страстно желая достигнуть цели. Были ли охвачены таким желанием немецкие физики?
Они не могли не испытывать отвращения к гитлеризму (характерно, что рьяные нацисты, имевшиеся среди физиков, в частности апологеты «арийской физики», не принимали никакого участия в работах по урановой проблеме. Нечто подобное было и у нас: те немногие квалифицированные физики, которые присоединялись к философам в травле «идеалистической» квантовой механики и теории относительности, ничего не сделали для создания атомного оружия). Они не могли полностью отвлечься от морального аспекта проблемы. Они были убеждены, что американцы и англичане далеко отстали и потому именно они, немцы, должны решать, надо ли создавать ужасное оружие. Известно, что открывший деление урана Отто Ган с самого начала понял, к чему это может привести. Он морально страдал и был близок к самоубийству, мечтал утопить весь уран в океане, но все же участвовал в работах. Ко времени атомной бомбардировки Японии главные немецкие атомники были интернированы в Англии, в поместье Фарм — Холл. Узнав о сброшенной бомбе, о гибели ста тысяч человек, Ган пришел в такой ужас, что друзья опасались за его жизнь, не оставляли одного.
Мог ли ненавидевший нацизм Лауэ всем своим существом желать, чтобы Гитлер получил бомбу? Он писал сыну в 1946 году: «В процессе всех исследований по урану я всегда играл роль наблюдателя, которого участники обычно, хотя и не всегда, держали в курсе дела». Однако он все равно считался одним из главных участников работ и не случайно вместе с другими был интернирован в Фарм — Холле.
Гейзенберг и Вейцзеккер пишут, что испытали облегчение, убедившись в 1941 году в невозможности создать бомбу в воюющей Германии, и оснований не верить им нет. Они и действительно ограничились лишь работами по самоподдерживающейся реакции. В опубликованных материалах нет ни одного упоминания о том, что в этот период они обдумывали устройство бомбы или вели какие–либо расчеты по ней (то, что бомба должна быть «размером в ананас», они знали уже давно).
Формально все они выполняли свою работу вполне добросовестно. Формально — да. Но вот три факта.
Неудача их в значительной мере, если не целиком, связана с роковой ошибкой Боте. Замечательный экспериментатор, нобелевский лауреат, в январе 1941 года он измерял, казалось, тщательно, важнейшую физическую характеристику ядер углерода — длину диффузии тепловых нейтронов в графите. За полгода до этого эксперимент того же Боте дал для нее значение 61 сантиметр. Ожидалось, что в специально очищенном графите получится по крайней мере 70 сантиметров, но Боте получил значение лишь в 35 сантиметров. Из этого следовало, что паразитное поглощение нейтронов графитом недопустимо велико и его нельзя использовать в реакторе в качестве замедлителя нейтронов. Пришлось ориентироваться на тяжелую воду, добывать которую гораздо труднее. Вырабатывали ее только на специальном заводе в Норвегии с огромной затратой электроэнергии. Норвежские патриоты (многие из них при этом погибли) сумели разрушить завод и уничтожить запасы сырья, а затем и транспорт с ранее изготовленной водой, и это сказалось на немецком урановом проекте.
Однако Боте грубо ошибся. Что–то (возможно, заражение азотом из воздуха) не было учтено. В США в реакторах использовали именно графит, а не тяжелую воду. Не ошибись Боте, великолепная немецкая химическая промышленность с легкостью выполнила бы заказ на производство сверхчистого графита. Но непостижимым образом и сам Боте, и все другие не усомнились в правильности его измерений. Ни он, ни кто–либо другой в Германии не повторил их.
Между тем ясно, как действовал бы глубоко озабоченный проблемой ученый. Он снова и снова очищал бы графит, менял постановку опыта, вгрызался в проблему. Здесь же и Боте, и все другие физики с поразительным легкомыслием поверили его результату. Только в апреле 1945 года, когда из–за недостатка тяжелой воды установка была окружена «рубашкой» из графита и размножение нейтронов оказалось более значительным, чем рассчитывали, Вирц заподозрил, что Боте ошибся. Но было уже поздно, к счастью для человечества, как замечает один автор. В самом деле, если бы в январе 1941 года Боте не ошибся, то критический опыт удалось бы осуществить по крайней мере за полтора года до Ферми. Кто знает, не решилось ли бы в этом случае нацистское руководство отрядить необходимые сто двадцать тысяч рабочих для создания мощных реакторов и затем плутониевой бомбы? Ведь в то время в руках Гитлера была почти вся Европа и Германия обладала огромной экономической мощью. В США, как уже говорилось, бомба была создана через два с половиной года после опыта Ферми (правда, строительство реакторов началось несколько раньше). Это значит, что в принципе немцы могли бы создать бомбу, скажем, к началу 1944 года. Конечно, относительная малочисленность научных кадров по сравнению с научными кадрами в США затруднила бы работу. И, быть может, это самое главное — не было бы того бешеного напора, который проявили специалисты в Америке (да и у нас).
А теперь факт второй.
По множеству опубликованных в печати воспоминаний участников «Ман- хэттенского проекта» мы знаем, как работали ученые и инженеры в США, панически опасаясь, что немцы (науку и технику которых они всегда по старой традиции считали самыми сильными в мире) могут их опередить в создании бомбы. Все эти люди полностью отдали себя атомной проблеме. Их в то время не мучил моральный аспект — речь шла о спасении человечества от гитлеровского порабощения. Они не могли и думать о том, чтобы заняться чем–либо другим, кроме создания бомбы. Напомним: советский физик–ядерщик Г. Н. Флеров потому и заподозрил в конце 1941 года, что в США идут работы по урану, что из американской научной периодики полностью исчезли публикации всех (или почти всех) специалистов по физике атомного ядра. Флеров немедленно обратился с этим своим выводом в Президиум Академии наук, и его вмешательство сыграло значительную роль в возобновлении наших исследований в самый тяжелый для страны период войны.
А что же ведущие участники уранового проекта в Германии?
В июне 1943 года Гейзенберг в качестве редактора подписал предисловие к вышедшему через несколько месяцев сборнику научных статей «Космические лучи». Составленный в честь 75-летия Зоммерфельда, сборник этот был посвящен вопросам, не имеющим никакого отношения к урановой проблеме, хотя и весьма ценным в чисто научном отношении. Из пятнадцати статей в нем двенадцать (1) написаны ведущими участниками уранового проекта: пять (!) самим Гейзенбергом, две Вейцзеккером, две Флюгге, по одной Вирцем, Багге и Боппом.
В том же 1943 году Гейзенберг публикует две статьи, положившие начало целому направлению в фундаментальной квантовой теории полей и частиц. Никакого отношения к практике, а тем более к реакторам или бомбе, они не имели. (Вейцзеккер пишет, что в это же время они регулярно собирались на семинар по биофизике, он сам занимался космологией и т. д.)
Ничего подобного не могло быть в США, где ученые работали над бомбой безотрывно и лихорадочно. Советские ученые были поглощены той же задачей. Во время войны они тоже опасались, что немцы могут опередить, а потом — в период «холодной войны» — считали жизненно необходимым обеспечить равновесие сил ради сохранения мира. В то время в научном коллективе, возглавлявшемся И. В. Курчатовым, не отвлекались даже на защиту диссертаций.
И, наконец, третий факт.
В августе 1945 года ведущие немецкие атомники были интернированы в поместье Фарм — Холл под английской военной охраной; все их разговоры записывались на магнитофонную ленту. Генерал Гровс, административный руководитель всех американских работ по атомной бомбе, в своей книге «Теперь об этом можно рассказать» цитирует эти записи. Первая же запись содержала вопрос Дибнера; «Как вы думаете, они установили тут микрофоны?» — и самоуверенный ответ Гейзенберга: «Микрофоны? (Смеется). Ну, нет. Не такие уж они дотошные. Я уверен, что они не имеют представления о настоящих гестаповских методах». Так что на пленки записаны высказывания, не рассчитанные на посторонний слух.
Когда немецкие физики узнали о сброшенной на Японию первой бомбе, начались бурные споры, взаимные обвинения. Страсти разгорелись. И тут прозвучал голос Вейцзеккера: «Я думаю, основная причина наших неудач в том, что большая часть физиков из принципиальных соображений не хотела этого. Если бы мы все желали победы Германии, мы наверняка добились бы успеха». Багге понял эти слова прямолинейно и ответил: «Мне кажется, заявление Вейцзеккера — абсурд. Конечно, не исключено, что с ним так было, но о всех этого сказать нельзя».
Вейцзеккер говорил не о сознательном нежелании, а подчеркивал внутренний, подсознательный протест. Ган ответил ему: «Я в это не верю, но я все равно рад, что нам это не удалось». А Вирц, имея в виду бомбу, сказал: «Я рад, что у нас ее не оказалось».
С такими настроениями грандиозную проблему создания атомного оружия решить было невозможно.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что политическое поведение Гейзенберга в большей степени определялось его национализмом. Не так уж много на земном шаре стран, где убеждение в превосходстве своей нации над всеми другими столь открыто выражалось даже в национальном гимне: «Германия превыше всего». Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», провозглашенный Марксом и Энгельсом, создавшими Первый Интернационал, тем более замечателен, что оба они — немцы. Второй Интернационал в начале первой мировой войны потерпел крах, как известно, именно потому, что шовинистические чувства в начавшей войну Германии легко возобладали над всеми антивоенными резолюциями предшествовавших конгрессов, где социалисты, немцы прежде всего, торжественно клялись не допустить войну, объявить в случае войны во всех странах всеобщую забастовку и т. д. В предгитлеровские годы националистические чувства были усилены унижением, принесенным Версальским договором, голодом, безработицей, безысходностью, которых не знала ни одна, даже охваченная кризисом, капиталистическая страна.
Гейзенберга в период нацизма, несомненно, раздирали противоречия. Отвращение к нацизму — с одной стороны: удовлетворение от того, что немецкий народ выведен из состояния многолетнего отчаяния, безработицы и голода — с другой; страх перед ужасным возмездием, которое, как он полагал, постигнет Германию после ее поражения, — с третьей; горечь от разрыва с прекрасным интернациональным сообществом физиков, в атмосфере которого он вырос, — с четвертой; наконец, естественное желание уберечь науку — основу своего существования, быть со своим народом. Это типичная судьба интеллектуала при бесчеловечном, варварском деспотизме, если у него нет решимости сделать освобождающий от сомнений выбор. Вдова Гейзенберга назвала свою книгу воспоминаний «Внутренняя ссылка». В предисловии к этой книге авторитетный физик–теоретик и общественный деятель, ученик Паули и Вора, эмигрировавший в 1937 году в США, европеец по воспитанию, Виктор Вайскопф пишет, что Гейзенберг пытался создать «остров порядочности».
Все это, конечно, трагедия не одного Гейзенберга. Это трагедия эпохи.
Иными были позиция и судьба Бора. Он ненавидел нацизм не только потому, что это темная, безжалостная, варварская диктатура, но и потому, что это был прямой враг, раздавивший его Данию. Ненависть не вызывала в нем никаких противоречивых чувств — все было ясно. Он все время находился в тесном контакте с датским Сопротивлением, а через него — с союзными военными органами. Когда настало время, Бора вывезли в Швецию, а затем через Англию в Америку, где он принял деятельное участие в создании атомного оружия. Но когда и эта работа, и война приближались к успешному завершению, его стала мучить проблема послевоенного устройства мира, в котором есть бомба. Он взывал к Рузвельту и Черчиллю, настаивая на передаче «секрета» бомбы СССР, чтобы сохранить союз, возникший во время войны (никто из физиков не знал, что в СССР уже идет энергичная и успешная работа над атомным оружием, и никакого секрета на самом деле нет). Но опытные политики играли Бором, как мячиком, преребрасывая его от одного к другому. Дело было сделано, ученые дали оружие, и теперь можно было распоряжаться им как угодно, не подпуская и близко этих чудаков. Так Бор пришел к своей, иной, чем у Гейзенберга, трагедии. Совсем иной, но она тоже стала трагедией эпохи.




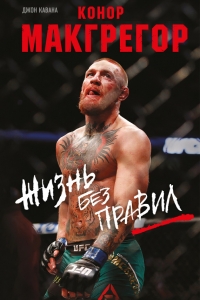


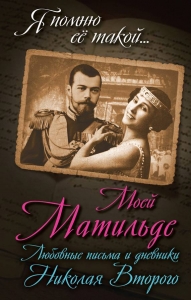

Комментарии к книге «Вернер Гейзенберг: трагедия ученого», Евгений Львович Фейнберг
Всего 0 комментариев