Элен Драйзер Моя жизнь с Драйзером
Эти страницы – запись о событиях моей личной жизни с Теодором Драйзером. Это мой скромный вклад я дело создания его биографии и одно из бесчисленных повествований, которые будут о нем написаны. Предложить эту книгу вашему вниманию побудило меня сознание того, что иначе история жизни Драйзера будет неполной. Быть может, строго придерживаясь рассказа о субъективном воздействии на меня той огромной жизненной силы, какую он собой являл, я все же сумею добавить несколько штрихов к его облику, и это будет иметь некоторую ценность при создании полного и исчерпывающего жизнеописания Драйзера.
Драйзер не был заурядным человеком, и жизнь его не была заурядной. Когда он жил среди нас, он писал о себе открыто и честно и меньшего не мог ждать от меня. Его закадычный друг Дж. Г. Робин говорил не раз: «Когда Драйзер берется за перо, он пишет правду».
К этому стремилась и я, принимаясь за свой труд. Если мне это не удалось, то отнюдь не потому, что я недостаточно старалась быть верной истине – хотя бы настолько, насколько можно рассказывать правду о самых интимных сторонах своей жизни.
Элен Драйзер
Глава1
Был конец сентября 1919 года, и время близилось к вечеру, когда мы с Драйзером впервые увидели друг друга – в дверях его мастерской, помешавшейся в доме номер 165 на 10-й Западной улице в Нью-Йорке.
Мне запомнилась бодрящая прохлада этого дня – она была чем-то сродни моему взволнованному настроению, когда я сбежала вниз по шатким ступенькам старой надземной дороги на 8-й улице. Всякий раз проходя здесь теперь, я невольно вспоминаю мое состояние в те минуты – ощущение эмоциональной свободы и полное неведение того, что через несколько минут я испытаю на себе чье-то могучее влияние, которое изменит все дальнейшее течение моей жизни.
Как говорил мне впоследствии Драйзер, в эти дни он никому не отворял дверей, потому что был всецело поглощен работой над своей книгой очерков «Бей, барабан!». Когда я позвонила вторично, он заколебался. Потом подошел к двери, распахнул ее и остановился на пороге, глядя на меня в упор, к великому моему смущению и замешательству. Я увидела перед собой высокого мужчину могучего сложения, с крупными чертами лица, с львиной головой, глубоко посаженными глазами и чувственным ртом. Я сразу поняла, кто это, потому что он был поразительно похож на своего брата Эда, с которым я уже раньше встречалась. И хотя мне всегда казалось вполне естественным, что я познакомилась с Эдом, но в ту минуту, стоя перед Драйзером, я вдруг перестала понимать, зачем я сюда пришла и что, собственно, ему скажу.
Я пробормотала:
– Вы брат Эда?
– Да,- ответил он.
– А я его троюродная сестра,- сказала я.
Он усмехнулся и сказал то, что, по-видимому, не мог не сказать при подобных обстоятельствах:
– Что ж, если так, значит вы и мне доводитесь троюродной сестрой,- и радушным жестом пригласил меня зайти к нему в мастерскую. Он очень быстро заставил меня преодолеть смущение, и через несколько минут я уже болтала с ним о разных пустяках.
Я чувствовала, что происходит что-то важное, но, разумеется, не могла отдать себе отчет, что именно. И все же в моем смехе звучали нервные нотки. Я спросила, между прочим, могу ли я познакомиться с миссис Драйзер, но он ответил:
– Нет, я живу один.
Мы еще поговорили о чем-то – впоследствии я никогда не могла вспомнить, о чем. Потом Драйзер встал, подошел к книжному шкафу и достал оттуда экземпляр одной из своих книг. Это была пьеса «Рука гончара». Он сделал на ней надпись: «Троюродной сестричке из Орегона» и попросил меня написать мое имя на листке бумаги, который лежал у него на письменном столе. Я едва могла держать перо, так дрожала моя рука. Острое желание очутиться между четырех спасительных стен моей комнаты, где я могла бы обдумать эту встречу, охватило меня, ибо я понимала, что со мной происходит что-то новое и очень значительное. Через несколько минут я встала, чтобы попрощаться с Драйзером, чувствуя такое волнение, такое душевное смятение, какого еще никогда не испытывала.
Но здесь я хочу предоставить слово Драйзеру – вот что сам он рассказал о нашей встрече. Он начал писать это пятью годами позже, когда я была в Калифорнии, и не закончил. По его словам, этот набросок должен был впоследствии стать целой книгой:
ЭЛЕН
"Какими словами описать глубочайшее из переживаний? Какими красками передать то, что есть самая сущность и потому так неуловимо и не имеет резких оттенков? Думается мне, что лучше всего начать с того серого ветреного сентябрьского дня, когда я сидел за письменным столом в моей мастерской на 10-й улице в Нью-Йорке и писал; услыхав звонок, я несколько минут раздумывал, отворить ли дверь. Давящая тоска, близкая к отчаянию, владела мною в эту минуту душевной пустоты. В лучшем случае, мы часто питаемся одной шелухой. Любовные увлечения возникают и приходят к концу. Но прежде чем им прийти к концу, каковы бы они ни были, наступает период отчаянных оглядок назад и темных предчувствий, темнее и печальнее которых ничего не может быть. Я создавал различные персонажи и отождествлял себя с ними. Среди них, если внимательно вглядеться, можно отыскать тех, яркое увлечение которыми выцвело в унылую вереницу серых дней. Моя душа была еще больна, отравленная тем горьким осадком, который часто остается на дне бокала, когда-то сверкавшего искристым вином. Неужели увлечение всегда в конце концов должно привести к разочарованию? Неужели все мои исполненные мечтаний поиски радости приведут меня к мрачной, непроходимой трясине, над которой опускается черная ночь? Такие мысли бродили в моей голове, когда я сидел за столом и писал.
И вдруг этот звонок.
Он повторился.
Я встал, накинул на себя синий китайский халат, который всегда лежал у меня под рукой на случай, если окажется необходимым придать себе более импозантный вид, и подошел к двери. При этом я заметил, что надел халат наизнанку, а это, как известно, является самым бесспорным предзнаменованием неотвратимых перемен. Я не знаю случая, когда бы эта примета не оправдалась. Однако халат выглядел с изнанки ничуть не хуже, чем с лица, и я не стал его переодевать. Снова прозвенел звонок, и, поглядев сквозь шелковые коричневые занавески, закрывавшие стекла входной двери, я увидел девушку лет девятнадцати, самое большее двадцати. На ней было длинное серовато-голубое платье и серовато-голубая с большими мягкими полями шляпа, украшенная одной огромной, блеклой, но удивительно гармонирующей со всем ее обликом бледно-розовой розой. Я отворил дверь. Наградив меня такой молодой, радостной, невинно-простодушной улыбкой, какой (так мне показалось в ту минуту) я не видел ни у кого уже много лет, она осведомилась, здесь ли я живу, и назвала меня при этом моим полным именем.
– Здесь, и я перед вами.
– Ах, в таком случае я ваша родственница, племянница Ви,- мелодичной скороговоркой промолвила девушка. – И Ви взяла с меня слово…
– Если вы племянница моей двоюродной сестры Ви или состоите в каком-либо другом близком или дальнем родстве со мной, прошу вас, войдите, – прервал я её с тем радушием, с каким встречают луч солнца, неожиданно проникший в подземелье. Такими лучистыми были её глаза и улыбка. До этой минуты я никак не думал, что среди моих родственников может быть такая восхитительная девушка. Что говорить, яркий луговой цветок столь же противоположен грубому сорняку, выросшему на худосочном городском сквере. Маленькая кокетливая газель рядом с клыкастым кабаном, злым и диким… Пьеретта, разодетая для майского празднества, и старый Борей, мрачный и хмурый. И всё же я старался улыбаться и чувствовать себя молодым душой, и мне даже удалось достичь чего-то, у меня нехватает духу сказать – чего. Кто это писал: «…заставляя весёлое солнце озарять тусклые сердца тех, для кого красота – потребность души»? "
____________________
В тот же вечер я прочла его пьесу «Рука гончара». Какое огромное впечатление произвела она на меня! Я решила достать и прочесть все книги Драйзера.
Мне плохо спалось в ту ночь, и в конце концов я встала, чтобы перечесть отдельные места из его сборника и получше рассмотреть его фотографию в брошюре, которую он мне дал.
У меня было такое ощущение, словно я искала Драйзера всю жизнь. Мне припомнился недавний разговор с одним молодым человеком, дарившим меня своим особым вниманием. Мы разговорились о мужчинах, и он несколько раздраженно спросил – какого же мужчину в конце концов мне нужно? А когда я ему объяснила, презрительно заметил:
– Вам нужен не мужчина, а бог!
– Очень может быть,- отвечала я.- Но я скоро встречу его. Я знаю, что встречу.
На другой день в восемь часов утра зазвонил телефон. Я знала, что это Драйзер; голос его звучал ласково и вместе с тем повелительно, и я услышала в нем какую-то чувственную печаль, какие-то интимные нотки, которые глубоко меня взволновали.
– Я не спал всю ночь,- сказал он.- Я должен вас видеть. Не можете ли вы позавтракать со мной? Приезжайте в отель «Пенсильвания». Мне так хочется поговорить с вами.
Я плохо помню, о чем говорили мы в то утро, когда завтракали вместе; знаю только, что оба мы бессознательно приглядывались друг к другу, стараясь проникнуть в скрытую еще от нас тайну.
Один вопрос, который он мне задал, я помню до сих пор. Религиозна ли я? Этот вопрос озадачил меня; я не могла понять, какое это может иметь значение.
Официальная религия никогда не занимала большого места в моей жизни. В детстве я посещала воскресную школу, потому что этого хотела моя бабушка. Однако мне не слишком докучали с религией, так как бабушка, хотя и была религиозной женщиной в обычном смысле слова, но та узость взглядов, которая так часто идет рука об руку с религией, была ей совершенно чужда. Религиозные вопросы никогда не мучили меня, и я не особенно задумывалась над ними. Но для Драйзера, как я поняла это впоследствии, официальная религия была чем-то таким, что словно стеной отгораживает человека от жизни и навсегда искажает его взгляд на вещи, если только он не сумеет пробиться сквозь эту стену. Религия была его мучением с детских лет, потому что он обладал умом, который стремился все охватить, искал себе пищу повсюду, требовал простора и свободы, а церковь накладывала на все это запрет. Ни один человек, воспитанный в религиозных традициях и предрассудках, не мог иметь для Драйзера настоящей цены.
– Нет. Мне кажется, нет,- отвечала я на его вопрос.
Он взглянул на меня испытующе, как бы сомневаясь, как бы желая подметить во мне следы обычных предрассудков и условностей.
Потом мы спустились вниз, немного посидели в вестибюле отеля, и Драйзер спросил, не хочу ли я зайти к нему в мастерскую.
– А может быть, лучше пойти побродить где-нибудь? – сказала я. Это предложение, по-видимому, пришлось ему по душе. Он взял меня под руку, и мы отправились – сначала по одной улице, потом по другой, пока не достигли верхней части Парк-авеню. Слитые в едином согласном ритме движения, мы не думали о том, куда идем. Однако какая-то частица моего «я» все время, как бы со стороны, наблюдала за человеком, который шагал рядом со мной. Он казался таким могучим, исполненным жизненных сил и вместе с тем в нем было что-то мятежное. Моему молодому неопытному уму он представлялся энциклопедией знаний, целым созвездием солнц, слившихся воедино, и я была изумлена, потрясена.
Мы гуляли часа два, и Драйзер взял с меня слово, что я пообедаю с ним в следующий вторник. Потом мы попрощались у дверей моего дома около Морнингсайд-парка, и он поблагодарил меня за то, что я пришла. Наша прогулка, сказал он, освежила и подбодрила его, исправила его настроение.
Глава 2
Прошло несколько дней томительного ожидания, и наконец наступил вторник.
Драйзер встретил меня в дверях мастерской, радостно и нетерпеливо пригласил войти, спросил, не хочу ли я выпить перед обедом коктейль. Заметив, с каким интересом и восхищением я оглядываюсь кругом, он предложил мне осмотреть мастерскую, пока он будет готовить напиток. Я охотно согласилась.
Мастерская Драйзера находилась в нижнем этаже старинного кирпичного здания и состояла из большой гостиной и спальни. В гостиной вдоль стен тянулись низкие книжные полки, а над ними висели какие-то необычайно интересные картины. Прежде всего бросались в глаза две из них: декоративное панно, изображающее двух египетских танцовщиц; на заднем плане виднелась темная фигура, держащая в руках громадный поднос с фруктами. Другая картина изображала со спины роскошную нагую женщину с тяжелым узлом рыжих волос на затылке. Она полулежала в чувственно-ленивой позе; стоявшая перед ней тучная негритянка протягивала ей блюдо с сочными фруктами. Тут же, в гостиной, стоял письменный стол Драйзера, переделанный им из квадратного рояля палисандрового дерева, а возле стола – пюпитр, на котором лежал огромный словарь. Потом я заметила кушетку в стиле мадам Рекамье, филигранные подсвечники, деревянные кресле и простое старомодное кресло-качалку, без которого, как я впоследствии узнала, он не мог обойтись, даже живя в гостиницах. Но взгляд мой снова и снова возвращался к его замечательному письменному столу, за которым, как я знала, он провел значительную часть своей жизни.
Мы немного посидели в гостиной, попивая коктейль, а затем Драйзер повез меня в Гринвич-Вилледж, в ресторан Полы Холидэй. Во время обеда он указывал мне на разных интересных людей, находившихся тут же, в зале. Среди них был Ипполит Хэвел, известный анархист либерального толка, Гарри Кемп и Эдвард Смит, старый и преданный друг Драйзера. Каждый раз, оборачиваясь в сторону Смита, я ловила на себе его испытующий взгляд. Он питал к Драйзеру глубокую и неизменную привязанность; несколько лет спустя мы с Теодором стояли у постели Смита, умиравшего от воспаления легких, и он, уже теряя сознание, сделал вид, будто пьет за здоровье Драйзера,- это был чуть ли не последний его жест. Он поднял руку с воображаемым бокалом и в полубреду прошептал: «За Драйзера». В повести «Оливия Бранд» из «Галереи женщин» Драйзер описал красивую и трагическую жизнь этого человека. Он был одним из тех немногих людей, которые способны на глубокую любовь и крепкую дружбу.
За обедом Драйзер попросил меня рассказать о себе. Теперь, перебирая в памяти прошлое, я спрашиваю себя: был ли когда-либо на свете другой человек, который вызывал бы в собеседнике такое желание поделиться с ним своими радостями, печалями и сокровенными мыслями, как Драйзер? Я не понимала, как мог он, видевший в жизни так много и переживший немало острых жизненных конфликтов, заинтересоваться моей простой историей. И, тем не менее, он слушал меня с явным интересом.
– Значит, вы настоящая дочь Запада,- заметил он.- Я ведь тоже уроженец Запада. Народ там славный, но вы одна стоите половины континента.
– Итак, ваша бабушка приходилась моей матери родной сестрой? – сказал он в ответ на какие-то мои слова.- Вот это любопытно! Расскажите же мне о себе и своей семье. Меня очень интересуют наши родственные отношения.
Ободренная его расспросами, я стала вспоминать рассказы бабушки о ее девических годах, проведенных в штате Индиана, о стычках с индейцами, о том, как она вышла замуж за потомка квакеров Дэвида Паркса, который в 1849 году приехал в Калифорнию в погоне за золотом и нажил там состояние. Впоследствии они переехали в штат Висконсин, где родилась моя мать, Ида Виола. Когда я рассказывала о том, как бабушка с мужем и двумя детьми добирались до Сан-Франциско, как они плыли на корабле мимо мыса Горн и как во время бури, длившейся три дня и три ночи, она помогала рожавшей женщине, Драйзер воскликнул: «Как это напоминает мою мать! Должно быть, у них было много общего и в характере и в образе жизни». Позже, когда я побольше узнала о его матери по рассказам Драйзера, всегда говорившего о ней с огромной нежностью, я поняла, насколько это верно. И в течение всей последующей жизни наше родство связывало нас с Драйзером теснее многого другого. В своей книге «Заря», которую он закончил и опубликовал в 1931 году, Драйзер так описывает дом, где выросла его мать:
Пробираясь из Коннектикута и Нью-Йорка в Дайтон, штат Огайо, он [отец Теодора] встретил неподалеку от города Дайтона девушку, которая стала моей матерью. Она была дочерью зажиточного фермера, выходца из Моравии, не то баптиста, не то меннонита по вероисповеданию; он принадлежал к секте, центр которой находился в городе Бетлехеме, штат Пенсильвания. Должно быть, жизнь в маленьком мирке, где выросла моя мать, была легка и привольна, ибо мне часто приходилось слышать ее рассказы о материальном достатке ее родителей-фермеров, о фруктовом саде, луге, больших полях, засеянных пшеницей, и об обычаях и ремеслах, сохранившихся со времен первых пионеров,- о том, как соседи одалживали друг у друга огонь, об индейцах, приходивших к их дверям, чтобы что-нибудь попросить или просто поболтать; шерсть и хлопок ткались в те времена на ручных ткацких станках, а мыло, обувь и мебель изготовлялись домашним способом.
Я продолжала рассказывать Драйзеру о своей семье. После смерти деда бабушка осталась одна с шестью дочерьми на огромной ферме в Фэрвью, штат Орегон. Моя мать была самой старшей. Кроткая, ласковая и душевная, она вскоре вышла замуж за красивого, живого, как огонь, датчанина Джорджа Кристиана Пэтжеса, который по настоянию своей мачехи переехал с нею из Дании в Америку. Он мечтал стать выдающимся музыкантом; в Дании он учился игре на скрипке и делал большие успехи. Он отличался честностью, и ему не стоило труда подыскать и занять место управляющего имением, но каждый раз, когда перед ним возникали какие-нибудь серьезные трудности, он взваливал их на плечи моей матери; поэтому, в конце концов, они разошлись.
Бабушке стало не под силу вести хозяйство на ферме, она была вынуждена продать ее и заняться другим делом – она приобрела гостиницу в Портленде. В это предприятие она вовлекла и мою мать, и таким образом я росла в обстановке матриархата, главою которого была бабушка. Я обращалась к ней за всем – за советом, за лаской, за наставлениями.
Меня тянуло к театру, и значительную часть времени я простаивала у окна гостиницы, выходившего прямо на актерский подъезд портлендского Марквам-театра. Я знала в лицо всех тогдашних театральных звезд и никогда не упускала случая предложить, если требовалось театру, свою собаку, своего пони и даже самое себя. Во время летних каникул я играла небольшие роли в спектаклях, которые ставили заезжие труппы, а однажды даже отправилась с одной из таких трупп на гастроли в Бойзе, штат Айдахо,- мать решилась отпустить меня, убедившись, что я буду под строгим присмотром одной пожилой четы актеров.
Шестнадцати лет я влюбилась в красивого девятнадцатилетнего южанина, который увлекался театром так же, как и я. Я познакомилась с ним в Портленде, куда он приехал из Чарлстона в гости к своему старшему брату. Как раз в это время моя сестра Хэзел выходила замуж, и мне хотелось одновременно с ее свадьбой устроить и свою – тогда бы я могла бросить школу и поступить на сцену. А если б мне не позволили выйти замуж, я убежала бы из дому. Родные приводили меня в отчаяние своими рассуждениями о нелепости моего поступка, но мать, чувствуя, что я не отступлюсь от своего решения, наконец сказала: «А почему бы и нет? Она во что бы то ни стало решила поступить на сцену. Одну я ее отпустить не могу. Так пусть уж лучше она уходит с ним». Так я и сделала, и после никогда не раскаивалась в этом.
С того дня, как я обвенчалась с Фрэнком Ричардсоном, собственно, и началось мое настоящее образование. Мы были молоды, жизнерадостны, полны надежд и по уши влюблены друг в друга. Он обожал театр так же, как и я. Мы стали вместе учиться пению, танцам и в конце концов, достаточно напрактиковавшись, добились того, что время от времени стали получать ангажементы в небольшие театрики и штатах Вашингтон и Орегон. Переезжать с места на место было порою очень трудно, наше материальное положение оставляло желать много лучшего, но тем не менее мы не хотели приять себя побежденными.
Нашей конечной целью был Сан-Франциско. Когда мы, наконец, попали туда, нас совершенно покорила романтика этого города, его туманные вечера, крутые улички, маленькие вагончики фуникулера, Барбари-Кост, где на улицах кишели пестрые толпы людей всех национальностей и всевозможного вида и где на каждом шагу попадались матросы. Но в Сан-Франциско мы столкнулись с новыми трудностями, доставившими мне немало огорчений. Театральные агенты предпочитали приглашать на работу меня одну, поэтому приходилось отказываться от ангажементов, так как мы с мужем не могли и подумать о разлуке. Наши средства постепенно таяли, и вскоре все, что было у нас мало-мальски ценного, оказалось в закладе. Оставался единственный выход – мне надо было хоть на время принять какой-нибудь ангажемент одной. Муж мой, скрепя сердце, в конце концов согласился на это. Однако я уже начала понимать, что мы с ним слишком молоды, слишком неопытны и слабы для жизненной борьбы, и стала задумываться над этим.
Наши затруднения отчасти разрешились тем, что Фрэнк вернулся к своей семье в Чарлстон. Я на время осталась в Сан-Франциско, где выступала как певица в одном из ночных клубов в центральной части города. Мы оба были очень опечалены вынужденной разлукой, но утешались мыслью, что это не надолго. Через два месяца муж вызвал меня к себе, и я отправилась на Юг, где меня ожидала новая жизнь, совершенно непохожая на все, что я знала прежде.
Я волновалась, не зная, как меня примет семья моего мужа, ибо его родные считали, что он еще слишком молод и ему следовало бы стать на ноги, прежде чем жениться. Но первая же встреча с его матерью рассеяла все мои опасения. Она глубоко любила сына, а это для меня было самое главное, потому что я тоже любила его и чувствовала, что общая любовь поможет нашему сближению.
Как только я приехала в Чарлстон, весь дом и все хозяйство легли на мои плечи. Получив некоторые указания и советы, я должна была все лето вести хозяйство самостоятельно, так как мать Фрэнка уезжала гостить к второму сыну в Уэст-Пойнт. Мне, конечно, польстило такое доверие, хотя я была далеко не убеждена, что смогу оправдать его. Уже одно то, что вся прислуга состояла из негров, было для меня новым и непривычным.
Лето прошло тихо и спокойно, хотя временами я страдала от невыносимой удушливой жары. И все же мне многое нравилось в этой новой жизни, а сам город Чарлстон меня просто очаровал. Я как завороженная прислушивалась к протяжным голосам разносчиков, нараспев выкрикивающих название своих товаров, каждый на свой лад. До сих пор – стоит мне закрыть глаза – в ушах моих раздаются эти певучие голоса, звучавшие под моими окнами в недвижном и знойном утреннем воздухе. Вскоре Фрэнк получил место разъездного торгового агента, и мне приходилось подолгу оставаться одной. Я много читала, но чтение не спасало меня от жары, которую я переносила все хуже и хуже, от все более тяготивших меня условностей местной жизни, от провинциальной атмосферы. Нигде и ни в чем я не ощущала никакого движения вперед. Я стала убавлять в весе, потеряла аппетит, мне грозило острое малокровие. Тогда мать Фрэнка решила, что мне следует проведать своих родных. Так я и сделала. Я пробыла на родине два месяца и вернулась в Чарлстон значительно поздоровевшей.
Было лето 1918 года, и многие жители Чарлстона переселились на остров Салливан. Там размещались войска перед отправкой их во Францию. Начались вечеринки, танцы, пикники – нескончаемый ряд развлечений, которые в конце концов мне надоели, и я нигде не находила себе покоя. Я стала мечтать о том, чтобы уехать куда-нибудь, быть может, в Нью-Йорк- там я могла бы найти себе работу, заменить кого-нибудь, призванного в армию. Вместо того, чтобы бездельничать здесь, на Юге, я могла бы там быть по-настоящему полезной.
В это время к родителям мужа приехал погостить У. Э. Вудворд, первый вице-президент нью-йоркской Промышленно-финансовой корпорации. Однажды вечером, гуляя с ним после обеда по берегу, я спросила его, как он думает, могла бы я устроиться на какую-нибудь работу в Нью-Йорке сейчас, во время войны. Он испытующе посмотрел на меня.
– Кажется, я понимаю вас,- сказал он.- Действительно, на Юге вам не место. Вы хотите быть там, где вершатся большие дела, не правда ли? Я сам родился на Юге, и все это отлично понимаю.
– Да,- ответила я,- я здесь буквально задыхаюсь. Я не могу приспособиться к здешней атмосфере, хотя тут все чудесно ко мне относятся.
– Право, не знаю,- продолжал он.- В Нью-Йорке новичку трудно, это город торгашеский. Не знаю, что вам посоветовать, но, если вы приедете в Нью-Йорк, разыщите меня. Ведь никогда не знаешь, где тебя ждет удача.
Для меня, переполненной стремлением и желанием двигаться вперед, эти слова значили очень много. Как ни мало они, в сущности, обнадеживали, но месяц проходил за месяцем, а я не только не забывала об этом разговоре, но придавала ему все большее и большее значение. Фрэнку приходилось часто уезжать по делам, я подолгу оставалась в одиночестве и имела достаточно времени, чтобы со всех сторон взвесить свое положение. Долгие периоды безделья всегда были для меня невыносимы, а теперь, когда весь мир, казалось, двинулся в поход, я просто не могла оставаться в стороне. И постепенно во мне созрело твердое решение уехать в Нью-Йорк.
Последние месяцы в Чарлстоне мы с Фрэнком все больше и больше отдалялись друг от друга. Мой отъезд в Нью-Йорк означал конец нашей совместной жизни. Вскоре мы развелись.
Приехав в Нью-Йорк, я нашла себе комнату в пансионе близ Колумбийского университета; в соседней комнате жила Люсиль Нелсон, с которой я подружилась еще в Чарлстоне. Это была девушка яркой чувственной красоты, похожая на пышный цветок мака. Ее сердечность и доброта привлекли меня к ней с первой же встречи.
Устроившись с жильем, я тотчас же позвонила по телефону мистеру Вудворду; он попросил зайти в его контору, в дом 52 на Уильям-стрит,- там помещалась Промышленно-финансовая корпорация.
Мистер Вудворд, радушно поздоровавшись со мной, сообщил, что его секретарь, молодой человек, только что призван в армию. Сумею ли я справиться с секретарской работой? Такая перспектива привела меня в ужас, но мне страшно хотелось поскорее устроиться, и я ответила, что попробую. Стенографию и машинопись я изучала еще в школе, – сейчас я могла бы ходить на вечерние курсы, чтобы освежить в памяти свои познания в этой области.
– Отлично,- сказал мистер Вудворд,- я буду рад, если вы попытаетесь это сделать. Мне нравится ваша жизнерадостность. Вы внесете с собой луч солнца, а нам здесь это очень нужно. Давайте сделаем так- я оставлю за вами вакансию на месяц, а потом посмотрим, справитесь ли вы.
Он встал, пожал мне руку, и я, выходя из кабинета, уже твердо решила про себя, что должна во что бы то ни стало добиться успеха в этом деле, ибо мне представлялся случай работать с человеком, который был мне по душе, к которому я относилась с уважением и восхищением.
Люсиль Нелсон помогла мне устроиться кассиршей в университетском кафетерии, а по вечерам я посещала курсы стенографии и машинописи. В День перемирия, 11 ноября 1918 года, я вошла в контору мистера Вудворда, чувствуя себя достаточно подготовленной, чтобы всерьез приступить к работе.
Президент корпорации Э. Моррис, невысокий, плотного сложения человек, раньше был адвокатом в Норфолке, штат Виргиния, где он и родился. Часто во время отсутствия его секретаря, мистера Картера, я писала под его быструю диктовку, еле поспевая за ним и стараясь записать каждое его выражение; порою я не понимала смысла какого-нибудь слова, но старалась записать что-нибудь близкое по звуку, а потом в отчаянии бежала к секретарю правления Джозефу Гилдеру – почтенному старику, чье знание английского языка приводило меня в изумление. Не было случая, чтобы он не догадался, какое это должно быть слово, и не объяснил мне его значения.
– Значит, вы работали с Джозефом Гилдером! – прервал меня Драйзер.- Это уже кое-что! В начале моей редакторской деятельности я знавал всю семью Гилдеров. Чудесные были люди.
За год работы с мистером Вудвордом я убедилась, что он – один из самых культурных, симпатичных и справедливых людей, которых мне приходилось встречать. Он был всегда добр, внимателен, терпелив, хотя и требователен, и я изо всех сил старалась заслужить его похвалу. Он фактически руководил моим чтением, ибо в письмах постоянно рекомендовал своим корреспондентам отдельные книги, а иногда составлял списки книг для себя, и я, конечно, пользовалась этим. В школе моим любимым предметом была английская литература, я любила также греческую мифологию, но мистер Вудворд расширил мои познания в области поэзии.
Однажды, диктуя мне что-то, он остановился и выглянул в окно. «Когда мне стукнет пятьдесят,- сказал он со свойственной ему решительностью,- я навсегда брошу эту финансовую канитель… и буду писать… Когда мне стукнет пятьдесят…» – повторил он, продолжая задумчиво смотреть в окно. И действительно, мистер Вудворд в пятьдесят лет оставил финансовую деятельность и стал выдающимся писателем-биографом.
В то время когда я у него работала, он увлекался Драйзером. Он только что прочел сборник его рассказов «Двенадцать» и к каждому продиктованному им письму велел мне добавлять один и тот же постскриптум: «Если вы еще не читали «Двенадцать», достаньте эту книгу и прочтите». Разумеется, я тотчас же купила себе эту книгу и прочла ее.
Мне она показалась просто замечательной – все двенадцать мужских портретов были так непохожи друг на друга! Особенно понравился мне рассказ «Мой брат Поль»,- я уже кое-что знала об этом моем родственнике, но все же рассказ явился дли меня откровением. Он так раскрыл мне отношения автора со своим братом, что мне очень захотелось познакомиться с Драйзером. Однажды, после того как я прочла книгу, я случайно обмолвилась в разговоре с мистером Вудвордом, что Драйзер – мой родственник. Тот крайне изумился.
– Позвольте,- сказал он,- почему же вы с ним не познакомитесь? Если б он был моим родственником, я бы пошел к нему не задумываясь.
Так решение познакомиться с Драйзером, случайно подсказанное мистером Вудвордом, привело меня к решающему моменту в моей жизни. Этот обед в ресторане Полы Холидэй с Драйзером, сидевшим напротив и жадно слушавшим мой простой рассказ, был только началом.
– Что же вы думаете теперь делать? – спросил Драйзер, когда я умолкла.
– Я уже уложила чемоданы,- ответила я,- и уезжаю через несколько дней в Калифорнию. И все-таки мне захотелось повидаться с вами перед отъездом, чтобы потом рассказать родным, что я познакомилась с Теодором Драйзером. Я скопила немного денег и решила снова вернуться в театр. На этот раз я попытаюсь вступить в одну любительскую драматическую труппу, где я смогу подучиться, а потом, быть может, попробую сниматься в кино.
– Что ж,- заметил Драйзер,- по-моему, такой девушке, как вы, нетрудно будет добиться успеха.
Мне кажется, некоторые человеческие существа, подобно большим планетам, вовлекают в свою орбиту планеты меньшей величины. Мне представлялось, что Теодор Драйзер вращается в огромной орбите, и для меня в моем возрасте, с моим небольшим опытом, знакомство с таким большим человеком явилось совершенно ошеломляющим событием. Эта встреча взволновала нас обоих до глубины души.
Из ресторана Полы Холидэй мы опять вернулись в мастерскую Драйзера на 10-й Западной улице и там поболтали еще часок.
Он показал мне свою коллекцию гравюр на дереве, которую очень ценил, и несколько художественных безделушек – он был уверен, что они меня заинтересуют. И вдруг он нежно обнял меня и привлек к себе. Сердце мое замерло, ибо я поняла – что бы ни принесла мне судьба, счастье или горе, но с этой минуты она уже решена. И все же я стала сопротивляться. Не желая обидеть или испугать меня, он постарался взять себя в руки. Но в его жестах была робкая неуверенность, лицо стало пепельно-бледным, как у человека, который после долгого заключения в темной камере ощупью стремится к свету, и я вдруг подумала: кто я такая, чтобы отказывать ему в том, в чем он, видимо, нуждался больше всего на свете – в любви молодой, жизнерадостной девушки. Я больше не колебалась.
До тех пор я всегда думала, что никогда не предприму подобного шага, не обдуман его тщательно, но внезапно поняла, что, когда приходит настоящее чувство, поступаешь совсем по-другому. И все-таки я старалась оттянуть этот момент: мне хотелось, чтобы ему предшествовало нечто вроде освященной традицией помолвки, как бы коротка она ни была. Драйзер, по-видимому, не понял моего колебания.
– Я готов на все ради вас,- сказал он.- Если вы хотите официального брака,- пусть будет так. Я добьюсь развода и женюсь на вас, как только будет возможно, потому что вы необходимы мне.
Но я ничего от него не требовала. Я сказала, что для истинной любви это не имеет никакого значения. Я просто хотела подождать несколько дней. Тогда я, вероятно, сама покорно приду к нему. Это звучало как обещание. Он облегченно вздохнул и стал настойчиво просить меня назначить день.
Несколько дней после этого я жила, как в тумане, обуреваемая сладким волнением; все мои предыдущие планы были на время забыты. Наконец-то я встретила человека, топко и глубоко чувствующего красоту. После я убедилась, что он часто видел красоту там, где ее на самом деле почти не было. Но за это я любила его еще больше. Быть может, это свойство видеть в жизни столько красоты и возвышает поэта над обыденной действительностью.
Конец нашей краткой помолвки означал для меня начало новой жизни.
Драйзер решил покинуть свою мастерскую в Нью-Йорке и сопровождать меня в моей поездке на Западное побережье, и, хотя в эти хаотические дни трудно было представить себе возможность сколько-нибудь разумных сборов, через десять дней мы уже были на пути в Лос-Анжелос, сев на пароход, идущий в Нью-Орлеан.
Глава 3
Нью-Орлеан встретил нас убийственной жарой, хотя был уже конец сентября. Дышать было нечем, и нестерпимо парило. Улицы, по которым туда и сюда лениво двигались прохожие, навевали на приезжего сонную одурь, какая овладевает южным городом в копце долгого, знойного, почти лишенного жизни лета. Однако старинные креольские домики, их галерейки и балкончики, украшенные железными перилами, вывезенными из Испании в конце восемнадцатого века, и узорчатые чугунные ограды более позднего времени придавали городу особое очарование. Почти в каждом доме были патио – внутренние дворики, засаженные цветами; на каждом шагу попадались выходившие на улицу дворы, на редкость искусно распланированные, и в глубине их иногда можно было увидеть какое-нибудь необыкновенное окно или такую архитектурную деталь, при виде которой от восторга дух захватывало.
Мы остановились в старомодном отеле в самом центре города и сняли комнату с огромным окном, выходившим на очаровательную площадь. Внизу на улице играла шарманка, в знойном неподвижном воздухе звучал легкий и веселый припев испанской песенки. Мы схватились за руки и закружились по комнате, охваченные порывом бурной веселости.
Когда мы первый раз вошли в комнату, Драйзер почти тотчас же заметил висевшую на стене старинную цветную гравюру, изображавшую сцену из деревенской жизни.
– Вот странно,- сказал он,- эту картину я видел в детстве, и с тех пор она мне никогда не попадалась. Она висела в комнате моей матери. Это была ее любимая картина,- продолжал он, с любопытством и нежностью разглядывая гравюру.
Я сразу поняла, что он сильно любил свою мать. Он лишился ее девятнадцати лет и, по-видимому, с годами все сильнее ощущал эту потерю, ибо только мать могла понять особенности его характера. Узнав Теодора поближе, я часто спрашивала себя, что думала мать о своем сыне, замечая в нем особые черты, так резко отличающие его ото всех.
Как я потом узнала, Драйзера всю жизнь преследовал страх потерять тех, кого он любил. Мальчиком он, разумеется, боялся за мать. По всей вероятности, этот вечный страх был порожден следующим эпизодом. Однажды Теодор и его младший брат Эд расшалились, и матери никак не удавилось их унять; тогда она пригрозила, что уйдет и больше не вернется, Угроза не подействовала на шалунов; тогда мать решительно пошла по направлению к соседнему полю пшеницы. Пройдя футов сто, она села на землю, и высокие стебли пшеницы скрыли ее из виду. Теодор, смотревший ей вслед, подождал немного, даже окликнул мать, но ответа не последовало, слышен был только мягкий шорох колосьев, качающихся на ветру. И тут у мальчика сделался нервный припадок. Мать, услышав страшные истерические крики, поспешила к нему и поклялась никогда больше не повторять таких экспериментов.
Судя по воспоминаниям Теодора и других ее детей, она внушала им в детстве глубокую любовь, без всякого страха. Она окружала их любовью, но это была не та слепая материнская любовь, которая в конце концов губит детей, изнеживает их так, что они боятся жизни. Наоборот, она принадлежала к типу тех женщин, которые не оберегают своих детей от трудностей, а приучают к самостоятельной жизни и деятельности. Она вооружала их для жизненной борьбы. В «Заре» Теодор нарисовал такой портрет женщины-матери, какого не создавал еще никто.
В Нью-Орлеане мы побывали во многих интересных местах, в том числе и в старом испанском форте, где Теодор, немного полежав на земле, схватил какую-то странную лихорадку. Ночью он проснулся, пылая от жара и весь в поту. На следующий день у него была такая слабость, что он не мог встать с постели. Я вызвала врача, но он не смог определить болезнь, уверив нас, однако, что это не малярия. Во всем городе я не знала ни души, мне не к кому было обратиться, и я чувствовала себя ужасно одинокой и беспомощной. К счастью, в это время мы уже перебрались из гостиницы на частную квартиру, и мне было легче ухаживать за своим больным. Я могла даже варить ему бульон – единственную пищу, которая была ему разрешена. Мне казалось вполне естественным ухаживать за ним, когда он был болен, но Драйзер нередко вспоминал об этом много лет спустя. По его словам, ему казалось совершенно необычным, что молоденькая девушка способна так заботливо и умело ухаживать за больным.
Теодор долго не поправлялся. Я совершенно растерялась и стала опасаться, что, если я не увезу его из этого города, он не выживет.
В конце концов, я решила усадить его в поезд и увезти на север, надеясь, что он выдержит такое путешествие. Разумеется, это было рискованно, но я все больше и больше склонялась к подобной мысли, и, когда я ему об этом сказала, он с огромным усилием поднялся с постели, и мы сели в поезд, направляющийся в Сент-Луис, где было гораздо прохладнее.
Любопытно, что, как только мы прибыли в Сент-Луис, Теодору стало гораздо легче и лихорадка исчезла бесследно. Мы купили ему теплое пальто и отправились на запад, радуясь, что он чувствует себя лучше и что мы едем в края, еще не известные нам обоим – в Южную Калифорнию.
Глава 4
Когда поезд пересек пустыню, мимо нас промелькнула апельсиновая роща. Ни Драйзер, ни я никогда до той поры не видели апельсиновых деревьев. Мы стояли в этот момент на площадке вагона – перед нами была необычайная страна, с которой нам предстояло познакомиться.
Однако Лос-Анжелос, когда мы в него вступили, поразил нас своей заурядностью. Прожив дне недели и гостинице и ознакомившись с городом, мы решили обосноваться в районе Уэстлейк-парка. В квартирке, которую мы сияли у частных лиц в уютном домике на Алварадо-стрит, был балкон, выходивший на типично калифорнийский дворик, полный цветов и солнца. Балкон, залитый солнцем,- что может быть приятнее после долгой жизни в Нью-Йорке среди его кирпичных ущелий и мостовых?
Драйзер расцветал под солнцем, словно цветок, обреченный долгое время расти при искусственном освещении, и ласка этих теплых лучей в соединении с гармонией любви переполняла все его существо радостным ощущением новой жизни, которое светилось в его глазах и во всем его облике.
Вечерами мы часто гуляли по Уэстлсйк-парку. Как-то раз, чудесной лунной ночью, когда мы шли по тенистой аллее, я заметила слезы на глазах Драйзера. Я спросила его, о чем он плачет.
– Все это слишком прекрасно,- сказал он.- За что мне выпало такое счастье? Почему жизнь даровала мне радость видеть эту утонченную красоту?
И по мере того как шли дни, я снова и снова замечала, как часто доводила его до отчаяния быстролетность каждой прекрасной минуты. Драйзер в полном смысле слова благоговел перед красотой в любых ее проявлениях.
Неделю за неделей мы знакомились с окрестностями Лос-Анжелоса, добираясь туда на трамвае, в автобусе или пешком, так как автомобиля у нас тогда не было. На протяжении нескольких миль дорога шла лугами и полями, потом вливалась в небольшие поселки, зачастую не имевшие даже поперечных улиц или переулков. Лишь через четыре-пять лет отдельные кварталы этих населенных пунктов были соединены между собой улицами, идущими перпендикулярно главным артериям.
Порой нам попадались большие нефтяные промысла с целым строем вышек, напоминавших собою лес; они нередко располагались рядом с жилыми кварталами, неподалеку от административного центра города. Одна – две из наиболее крупных киностудий первоначально тоже помещались в центре города, но потом, когда город вокруг них разросся, они вынуждены были перекочевать в менее заселенные места.
Я припоминаю, что поездка на побережье показалась мне тогда целым путешествием, теперь же – двадцать минут езды по широкому бульвару мимо роскошных магазинов – и вы на берегу океана. В те времена бульвар Уилшайр был просто широкой проезжей дорогой, по обеим сторонам которой пестрели объявления о продаже земельных участков, с указаниями площади в футах и длины прилегающей к дороге стороны участка. Теперь – это Пятая авеню Западных штатов.
Во время наших бесчисленных прогулок по западной части Голливуда мы с изумлением глядели на гигантские эвкалипты, вывезенные сюда из Австралии; некоторые из них теряли кору, которая длинными пластами лежала на земле, и обнаженные стволы этих деревьев были похожи на мощные человеческие торсы. Стручки красного перца осыпались с нависавших над тропинками ветвей перечных деревьев, которыми в те времена обсаживали аллеи, чтобы сделать их тенистыми. Нередко эти стручки словно ковром устилали землю, и невозможно было не наступить на них; мы то и дело слышали, как они с треском лопались у нас под ногами.
Уже несколько месяцев мы с Драйзером были совершенно неразлучны, но, в конце концов, наступил день, когда я почувствовала, что пора выяснить, могу ли я найти себе здесь самостоятельную работу, ибо таковы были мои первоначальные планы.
В тот день я отправилась из дома с намерением посетить несколько киностудий; они были разбросаны по всему городу, и добираться туда приходилось на трамваях. У меня не было никаких рекомендаций, и я понимала, что мне предстоит нелегкое дело, которое, вероятно, потребует большой настойчивости.
Тем не менее я твердо решила: что бы я ни предприняла, я буду действовать только от своего имени; я отнюдь не хотела рисковать своими отношениями с Драйзером, используя их в своих интересах. Мы решили сохранить нашу связь в тайне, и это нам удалось: три года прожили мы в Лос-Анжелосе, и только самые близкие друзья были посвящены в наш секрет.
Я была неопытна, никому не известна и знала, конечно, что меня ждут большие трудности, но все же я не подозревала, какой сложный организм и какую неприступную крепость представляет собой большая киностудия и какое ничтожное значение имеет тот факт, что вас записали в ее толстый, пухлый регистрационный журнал. Драйзер нарисовал очень живую картину Голливуда тех дней в серии статей, написанных им для журналов «Шэдоуленд» и «Мак-Коллс», и они произвели настоящую сенсацию, так как показывали Голливуд с черного хода. Многие факты он узнал от меня, ибо я всегда возвращалась домой с целым ворохом новостей и рассказывала ему обо всем, что мне приходилось наблюдать в мире кино.
Как-то в воскресенье, во время одной из наших обычных прогулок, мы попали в селение под названием Хайленд-парк. Мы прибыли туда в большом красном вагоне железнодорожной компании «Пасифик электрик». Это было тихое, маленькое местечко-просто кучка обыкновенных домов и лавчонок, но в окутывавшей его атмосфере тишины и покоя было что-то притягательное для Драйзера. Мы прошли по невысокому дощатому мостику, перекинутому через небольшую речку, от которой, как от многих рек и ручейков Калифорнии, осталось одно песчаное русло, носящее здесь название «арройо секо». Этот мостик и пологие зеленые холмы невдалеке – все было исполнено своеобразной сельской прелести. Теодор тотчас же сказал, что ему хотелось бы здесь поселиться. Почти до самого вечера бродили мы по поселку, пока не нашли квартиру в первом этаже небольшого двухэтажного дома. Домик был коричневый и стоял у подножья одного из зеленых холмов, и мы подумали о том, как приятно будет взбегать по утрам на вершину этого невысокого холма, залитого яркими лучами восходящего солнца. Уже одно это казалось нам настолько заманчивым, что мы не стали раздумывать и сразу сняли квартиру. Через несколько дней мы перевезли сюда наши скромные пожитки и обосновались в этом необычном, но привлекательном и интересном месте.
Вскоре, однако, выяснилось, что мы поселились по соседству с общиной религиозных фанатиков. Неподалеку от нашего дома, не более чем в тысяче футов от него, находилось весьма странное сооружение. Там, на деревьях, растущих по обеим сторонам «арройо секо», было устроено что-то вроде ковчега, куда собирались члены этой секты – длиннобородые, длинноволосые мужчины, которых можно было видеть днем в окрестностях поселка. Большинство из них жило в маленьких убогих домишках, разбросанных по плоским берегам высохшей реки. Около этих лачуг бродили тощие домашние животные, похожие на скелеты.
Наш хозяин, занимавший верхний этаж домика, не принадлежал к этой секте, но был не менее фанатичен на свой лад и являлся ревностным прихожанином одной из сельских церквей. Это был маленький, но весьма назойливый человечек, который примешивал религию ко всем делам и считал необходимым чрезвычайно много о ней разглагольствовать. Каждое утро, увидев нас, он громко и весьма торжественно восклицал: «Благословен господь!» или «Надеюсь, у вас все благополучно сегодня, с благословения господа бога, да прославится имя его!»
Нередко по вечерам во время наших тихих бесед с Теодором или в часы, когда он писал, стараясь сосредоточить на работе все свои мысли, тишина нарушалась громкими криками, которые отдавались во всех углах дома. Это означало, что к нашему хозяину пришел гость и оба они во время своей беседы, которая неизменно вращалась вокруг религии, так «вознеслись духом», что забыли обо всем на свете.
Жена нашего хозяина была ширококостной, угловатой, огрубевшей от работы женщиной, которая, как видно, немало потрудилась на своем веку, чтобы поддержать семью. Ее туловище неуклюже раскачивалось из стороны в сторону, когда она спешила куда-нибудь, решительно и твердо переставляя свои большие, тяжелые ступни. Когда она кричала «Генри!», ее голос поражал нас своим резким, металлическим и гнусавым звуком. Но Генри, если иногда и появлялся, то ненадолго задерживался возле нее, так как ему обычно предстояло где-нибудь на углу свидание с одним из таких же, как он, святош или какое-нибудь другое не менее важное дело.
Каждое воскресное утро в один и тот же час он отправлялся звонить в церковный колокол. Это было одной из его священных и важных обязанностей, которые, по его мнению, сильно возвышали его в глазах прочих заурядных прихожан, не говоря уже о несчастных грешниках, не принадлежащих к избранной пастве.
Более необычайную домашнюю обстановку, казалось, трудно было найти, и тем не менее, быть может, именно здесь создалась та атмосфера, в которой впервые зародилась у Драйзера мысль написать «Американскую трагедию», вскоре после того появившуюся на свет.
Время от времени я ездила в Голливуд, несмотря на то, что отдаленность нашего нового местожительства усложняла эти поездки: мне хотелось установить с киностудиями отношения, которые я могла бы использовать в будущем.
Вскоре, однако, мне пришлось убедиться, что мы живем слишком далеко, чтобы из моих поездок мог выйти какой-нибудь толк; на каждую поездку уходило больше половины дня.
Поэтому я отказалась от них на время и посвятила себя исключительно домашнему хозяйству и переписке на пишущей машинке рукописей Драйзера. Он работал над инсценировкой «Гения» для Лео Дитрихштейна, находившегося в то время в Нью-Йорке. Письмо следовало за письмом, пьеса перечитывалась снова и снова, но после переговоров, длившихся целый месяц, постановщики в конце концов решили искать другой путь к славе.
Я снова стала заниматься танцами. Так мы прожили несколько месяцев, работая, забавляясь, гуляя по холмам, расположенным позади нашего домика, посмеиваясь над забавными длинноволосыми фанатиками, читая друг другу вслух и наслаждаясь радостями жизни.
Глава 5
Через несколько месяцев мы переехали обратно в Голливуд. Мы сняли уютную квартирку, окнами на улицу, в большом белом оштукатуренном доме на углу бульвара Ларчмон и Клинтон, в нескольких минутах ходьбы от Голливуда и Вайна, который был в то время, так же как и сейчас, центром киноколонии.
Теперь впервые мы оказались в самом центре киногосударства, овеянного романтикой, таинственностью, бесчисленными иллюзиями. Самое соседство с этим средоточием кипучей деятельности, казалось, придавало всему, что мы видели или слышали, какой-то особый волшебный блеск. Одним из наших ближайших соседей был не кто иной, как знаменитый бельгийский поэт Морис Метерлинк, и мы часто видели, как он проходил мимо нашего дома со своей юной женой.
Мое знакомство с этим миром я предвкушала как увлекательное приключение: ведь мне предстояло ближе узнать его, встречаться с знаменитыми кинозвездами. Больше того, я знала, что общение с людьми самого различного типа обогатит мой жизненный опыт новыми впечатлениями, полными ярких красок, драматизма и романтики. Теодор, по-видимому, был так же увлечен этой перспективой, как и я, а быть может, еще сильнее; он очень желал, чтобы я проникла в этот мир и завоевала себе там положение. Отправляясь в киностудию, я старалась, чтобы мой костюм подходил к той роли, какую мне хотелось получить, так как к этому времени я уже знала, что киноактриса должна иметь хотя бы некоторое представление о характере ролей и уметь соответственно одеться.
Поработав месяца два статисткой, я завязала немало знакомств. С одним из лучших постановщиков Голливуда я была знакома еще прежде, когда он работал театральным кассиром. Этот человек дал мне сыграть несколько небольших ролей, и меня скоро стали приглашать на съемки, когда требовался определенный типаж. Сначала мне платили семь с половиной долларов в день, а к концу года я стала получать 20 долларов и считала, что мои дела идут вполне успешно. В восемь часов утра я всегда была уже одета и загримирована для съемки. Для этого приходилось вставать в шесть часов, так как автомобиля у меня не было. Теодор изо дня в день с величайшим интересом и любопытством наблюдал за тем, как я успеваю все это проделывать.
Многие статистки относились к своей судьбе так, как относится любой рабочий,- есть работа, и хорошо. Некоторые из них снимались в кино уже не первый год и давно потеряли надежду выдвинуться. Та, которой удавалось в течение всей недели иметь работу, считала, что ей очень повезло. А ведь среди них были исключительно способные и даже разносторонне одаренные актрисы. Но их лица уже примелькались в студиях, и им раз и навсегда прикрепили ярлык статисток.
Исполнительницы главных ролей – многие из них бывшие актрисы эстрады – получали пятьсот и более долларов в неделю. Однако конкуренция между ними была столь велика, что почти все их жалованье уходило на туалеты, которые не должны были быть ниже установившегося стандарта. И мало кому из актрис удавалось продвинуться дальше: обычно их вскоре заменяли дебютантками помоложе. Многих, таким образом, постигало разочарование, и они быстро увядали. Случалось, что какой-нибудь актрисе улыбалось счастье и она неожиданно становилась кинозвездой. Но это был удел немногих. Большинство недолго грелось в лучах славы и быстро сходило со сцены.
Почти такая же судьба постигала и режиссеров. Деятельность некоторых из них была вначале многообещающей. Казалось, что такой режиссер, поставив хорошую картину, стоит на верном пути свободного и независимого выражения своих творческих замыслов. Но затем, после двух-трех удачных картин, ему отводилась какая-нибудь узкоспециальная сфера деятельности, за рамки которой он уже никогда не мог перешагнуть и создать что-либо действительно выдающееся. Впрочем, когда всякая инициатива и творческий порыв были в нем убиты, он продолжал получать жалованье на правах штатного режиссера фирмы. Многие из этих режиссеров обладали несомненным дарованием и большой творческой силой. Наблюдать работу хорошего режиссера было особенно интересно и поучительно для меня. Я видела Виктора Шерцингера, Фреда Нибло, Фрэнка Ллойда, Рекса Ингрэма, Алана Дуэна и некоторых кинозвезд тех дней – Мэйбел Норман, Дугласа Фербэнкса, Рудольфе Валентино, Лилиан Гиш, Алана Хэйла, Биб Дэниеле, Чарлза Рэя и многих других.
В это время мы жили уже на новом месте, на углу Сансет-стрит и Детройт-стрит, в маленьком коричневом оштукатуренном домике с верандой. Домик был такой крошечный, что, казалось, Драйзер едва мог в нем повернуться. Он целыми днями писал, сидя в маленькой гостиной или в нише для завтраков, на кухне, а я все время проводила в киностудиях. Но каждую свободную минуту мы старались использовать для того, чтобы познакомиться с окрестностями, совершая наши прогулки либо пешком, либо в автобусе. Мы побывали в Глендейле, Пасадине, на северном и южном пляжах. Иногда ездили кататься верхом в Гриффит-парк.
Именно в этот период моем жизни с Драйвером я открыла, что он страдает «комплексом бедности». Хотя в то время он уже написал «Финансиста» и «Титана», а еще раньше в течение нескольких лет был главным редактором в издательстве Бэттерика и получал там приличное жалованье, ему почему-то казалось совершенно невозможным, чтобы он располагал большой суммой. Драйзер нуждался в деньгах, ибо они могли создать ему независимое положение и предоставить известные преимущества, но он упрямо держался своего мнения, что крупные деньги – это не для него.
Как-то в ответ на замечание Драйзера о том, что в Калифорнии у каждого, по-видимому, есть свой автомобиль и как приятно было бы и нам иметь машину, я сказала:
– Что ж, ведь в большинстве случаев машины покупаются в рассрочку. Ты же знаешь, что до тех пор, пока за них выплатят все деньги, многие из этих машин уже приходят в негодность.
Я узнала об этом, когда работала с мистером Вудвордом и в Промышленно-финансовой корпорации, отпускавшей в рассрочку стиральные машины, холодильники и автомобили. Но Драйзер заявил, что это не в его характере,- он привык всегда платить наличными, как делал его отец, и надеется, что будет так поступать и впредь.
– Хорошо, в один прекрасный день я подкачу к нашему крыльцу на автомобиле,- шутливо заметила я.- Как я его раздобуду, я еще не знаю, но непременно раздобуду.
– Меня это ничуть не удивило бы,- сказал он, задумавшись на минуту.- Я убежден, что ты, в конце концов, раздобудешь машину.
И я сделала это довольно скоро, я нашла небольшой четырехместный спортивный автомобиль марки оверленд 1917 года, который продавался всего-навсего за 386 долларов. Кузов автомобиля был выкрашен в зеленую краску, а колеса – в красную.
В тот день, когда я явилась домой на своей машине, Драйзер был оповещен об этом неистовыми автомобильными гудками: это я безуспешно старалась поставить машину в гараж. Такой подвиг оказался мне не под силу из-за небольшого изгиба подъездной дорожки. Всякий раз, как я нажимала на стартер, автомобиль швыряло вперед с таким ужасным скрежетом, что кто-то из соседей почел своим долгом выйти из дома и предостеречь меня, что я пытаюсь пустить машину в ход, не выключив сцепления. До сего времени все мои познания по части автомобилей сводились к принципу переключения скоростей, но и эту премудрость я постигла только теоретически, наблюдая, как водят машину другие. У меня не было даже прав водителя. И вот я приобрела автомобиль и направилась на нем домой, честно говоря, мало веря в то, что мне удастся миновать хотя бы один перекресток и остаться при этом в живых. Но Тедди уже вышел из дома мне навстречу и стоял на краю тротуара, а на лице его было написано не только изумление, но и восхищение. Разумеется, я тут же исполнилась решимости показать ему, как хорошо я умею водить машину, но мне понадобилось еще дна дня, чтобы научиться ставить ее в гараж.
Однако водить машину и выслушивать при этом указания Драйзера, которые он давал – с типично драйзеровским темпераментом – на каждом повороте пути, оказалось делом почти невыполнимым. Вся моя энергия и внимание уходили на то, чтобы оградить себя от вмешательства Драйзера при возникновении малейшей «дорожной проблемы», и в конце концов я совершенно пала духом.
– Осторожней, ради бога, разве ты не видишь, что там кто-то идет! – восклицал он.- Почему ты не возьмешь правей? А теперь сворачивай плево! Теперь поезжай прямо!
Когда я говорила ему, что мне трудно сосредоточиться в то время, как он беспрерывно делает мне замечания, Драйзер в течение нескольких минут старался сидеть тихо. Он даже улыбался, желая влить в меня уверенность, но я все равно не могла не нервничать, когда он сидел рядом. Я никогда не забуду, как однажды, поздно вечером, Драйзер, моя сестра Мэртл, гостившая в то время у нас, и я не спеша ехали по главной улице Глендейла, посередине которой проходила насыпь железной дороги. Где-то, квартала за два от нас, раздался долгий пронзительный гудок поезда. В тишине ночи он прозвучал оглушительно. В эту минуту я как раз пересекала линию, и вдруг Тедди закричал не своим голосом:
– Берегись! Поезд!
В ту же секунду мне почудилось, что поезд уже настиг нас, и я так резко повернула машину, что она чуть не опрокинулась. Описав по насыпи круг, машина остановилась у самого края.
Драйзер мгновенно бросился к дверце и, дергая ручку, закричал:
– Бога ради, выпустите меня из этой дьявольской ловушки! Что ты такое делаешь, Элен? Ты никогда не научишься водить машину!
Видя, что он выбрался из автомобиля и стоит на земле целый и невредимый, я начала истерически смеяться и долго не могла успокоиться. А Драйзер твердил, что пойдет домой пешком и с этого дня никогда больше не сядет ни в одну машину. Тогда я попросила сестру сесть за руль, но заявила при этом, что, как только немного приду в себя, поведу машину сама и не потерплю больше вмешательства со стороны кого бы то ни было, особенно Драйзера. На этот раз он понял, что я не шучу. С тех пор с переднего сиденья нашей машины уже не раздавались больше отчаянные выкрики.
Впоследствии маленький оверленд был продал, и вместо него куплен новый максвелл, а того в свою очередь заменил девятиместный крайслер, на котором мы исколесили Соединенные Штаты и Канаду вдоль и поперек. Но самыми восхитительными и счастливыми из всех наших автомобильных путешествий были все же первые поездки на маленьком оверленде.
Мы все еще жили в нашем крошечном домике на углу Сансет-стрит и Детройт-стрит, когда мне впервые пришлось испытать на себе силу гнева Тедди. Как-то раз совершенно неожиданно черные тучи начали собираться на его лице; оно то становилось мрачным, то снова светлело; потом словно сверкнула молния, и раскат грома, казалось, потряс до основания наш домик. Когда гнев его достиг высшего предела, Драйзер схватил пальто, нахлобучил на голову шляпу и выбежал из дома, хлопнув с такой силой дверью, что она чуть не слетела с петель.
Все началось из-за каких-то пустяков – так начинались потом все наши ссоры,- но, когда Драйзер ушел, я вся дрожала, испуганная этой вспышкой гнева. Я едва отдавала себе отчет в том, что произошло. Я с ужасом представила себе, что ждет меня в будущем, но все же мысль о том, что Драйзер может не вернуться, мучила меня еще больше.
Однако он вернулся через несколько часов – спокойный, уравновешенный, словно ничего не произошло. Он совершил большую прогулку, и это помогло ему привести в порядок свои мысли. Теперь он снова стал самим собой. Но, раз испытав на себе электрические разряды его гнева, я отнюдь не хотела подвергнуться им еще раз. Я была молода и обладала большой притягательной силой для него. Поэтому Драйзер сам стремился как можно скорее позабыть нашу размолвку. Он предложил мне поехать покататься. Мне хотелось только одного -чтобы все опять было по-прежнему. Я поспешила надеть самое лучшее из своих платьев, и мы отправились.
Мы решили поехать в Пасадину, и, когда проезжали через Глендейл, это уютное местечко, расположенное близко от Голливуда, привлекло к себе наше внимание. Тедди высказал мысль, что неплохо было бы пожить в Глендейле. Мы проехали по одной улице, свернули на другую и в конце концов нашли очаровательный маленький белый коттедж с зелеными ставнями и рядом с ним – большой незастроенный угловой участок. Мы разыскали земельного агента, и он сообщил нам, что и коттедж и участок можно приобрести за четыре с половиной тысячи долларов, причем тысяча долларов должна быть внесена при заключении сделки, остальная же сумма может выплачиваться по пятидесяти долларов в месяц. Условия эти показались нам заманчивыми, так как мы в то время за наш крошечный домик в Голливуде платили по девяносто долларов в месяц. Итак, через две недели Драйзер внес шестьсот долларов, а я – четыреста, и домик с участком был оставлен за нами. Обстановки у нас не было, и поэтому нам пришлось купить спальный гарнитур; что же касается гостиной, то ее мы обставили только через год после того, как поселились в новом доме.
В маленькой кухне были стенные шкафы, откидной стол и в одном углу -небольшая ниша для завтраков. Здесь Драйзер любил сидеть и писать, и я не раз думала о том, что сказали бы его нью-йоркские друзья, если бы увидели, в каком тесном уголке рождаются космические мысли Драйзера. Он работал в эти дни над своей книгой философских стихов «Настроения», над книгами «Дни газетной работы» и «Краски большого города» и уже начинал новый роман «Американская трагедия». Последним Драйзер хотел заменить ранее задуманный им роман «Оплот», которого с нетерпением ждал издатель Хорас Ливрайт, подписавший с ним договор на этот роман.
К этому времени относится увлечение Драйзера садоводством; он засадил цинниями наш угловой участок и ухаживал за ними, словно заботливая мать за споим многочисленным потомством. А тут еще, откуда ни возьмись, появилась рогатая жаба и очень быстро сделалась любимицей Тедди. Каждый день жаба выползала на дорожку и, пока Тедди гулял по саду, следовала за ним по пятам. Нередко, пробыв целый день в студии и порядком устав, я возвращалась вечером домой и, свернув на дорожку, ведущую к нашему домику, видела Тедди, склонившегося над цветами. Цветы, казалось, чувствовали, как любовно он к ним относится, и, словно из благодарности, цвели особенно пышно и красиво. В самом деле, наш цветник был так необычайно хорош, что кое-кто из соседей приходил к Тедди спросить совета, как ухаживать за цветами. Мне казалось, что в нем проявляется характер его матери -он так удивительно походил порой на большую ласковую бабушку, и я никогда не переставала дивиться этой стороне его натуры – его мягкосердечию и доброте.
Наша совместная жизнь в Глендейле была исполнена гармонии и душевного согласия. Мы наслаждались одиночеством, и я видела, что Тедди отнюдь не хочет, чтобы оно было нарушено вторжением кого-либо из посторонних. Когда кто-нибудь из его друзей приезжал из Нью-Йорка в Лос-Анжелос, Теддй предпочитал встречаться с ним где-нибудь в городе. Он просил, чтобы ему писали на его почтовый ящик па главном почтамте Лос-Анжелоса (почтовый ящик № 181), и мы ездили туда примерно через день и привозили домой всю корреспонденцию. Даже когда Дж. Г. Робин, автор «Кая Гракха» и большой приятель Тедди, печатавшийся под псевдонимом «Один Грегори», приехал из Нью-Йорка, чтобы попросить Драйзера написать предисловие к этой замечательной книге, Тедди встретился с ним в городе. Я же познакомилась с Робином только несколько лет спустя в Нью-Йорке.
К этому времени мои дела в кино стали идти довольно успешно, и мы уже получили возможность вместо нашего оверленда купить себе новый максвелл, на котором совершили вскоре немало путешествий: побывали в Мексике, в Ла-Холья, в Коронадо, в Санта-Барбаре, Йосемите, Портленде, Сиэтле, в Британской Колумбии и других местах. Перед Драйзером раскрывались новые горизонты, он расцветал и вырастал вместе со своими новыми стремлениями. Я не могла анализировать происходящие в нем перемены, но понимала интуитивно, какое значение они имели для него, ибо чувство, которое меня к нему приковывало, выросло из сознания того, что я ему необходима, и это в свою очередь делало его необходимым мне. «Любить -это испытывать в ком-то необходимость и эту необходимость любить».
Глава 6
Картина, в которой я получила роль, должна была сниматься в Сан-Франциско. И, само собой разумеется, мне пришлось поехать туда вместе с нашей съемочной группой. Через несколько дней пришло письмо от Тедди, а следом за письмом явился и он сам, горя желанием осмотреть Сан-Франциско вместе со мной.
Из Сан-Франциско мы отправились на машине в Ванкувер и по пути заехали в Портленд навестить мою мать. Так состоялось знакомство мамы с Тедди, и он сказал мне, что почувствовал в ней человека спокойного и с сильной волей, а мама сразу заметила в его характере хорошо знакомые ей противоречивые черты, напомнившие ей ее мать,- стремительную энергию и волю в сочетании с большим душевным теплом, человечностью и некоторой непоседливостью, свойственной выходцам из Богемии. Все эти особенности нрава моей бабушки я так любила в ней, а теперь открывала их в Тедди. Тедди был в восторге от окрестностей Портленда и, пока я гостила у мамы, он много бродил пешком вокруг города и как-то добрался даже до Сиэтла. Вернувшись оттуда, он сказал мне, что испытывает сильнейшее желание написать «роман совершенно нового типа – философский» и когда-нибудь это осуществит.
Мы возвратились в Калифорнию через Йосемит-парк. В те времена дороги были еще очень плохи, и нам приходилось ехать по очень узкому пути, преодолевая двадцатидвухградусные уклоны. Все же скоро мы снова были у себя дома, в нашем белом домике с зелеными ставнями и полотняными маркизами, укрепленными на копьях. (Мы слышали однажды, как маленький мальчик, проходя мимо нашего дома, воскликнул: «Мам! Это же настоящие копья! Настоящие!») В узких цветочных ящиках на подоконниках росли японские лилии, которые всегда были в цвету и потому привлекали к себе всеобщее внимание. Все спрашивали нас, где мы их достали и как за ними ухаживать. Эти расспросы доставляли огромное удовольствие Тедди; он считал, что выведенные им садовые лилии – розовые, желтые и голубые – его большое достижение.
Наше материальное положение значительно улучшилось. У меня было несколько земельных участков в районе Монтроз, которые я приобрела на деньги, полученные за участие в съемках, и мне удалось очень выгодно продать их – на каждом участке я нажила тысячу долларов. Это очень удивило Тедди; мне кажется, я стала в его глазах финансовым гением. Несмотря на то, что такие операции совершались тогда на каждом шагу, для нас это было целым событием.
Не успели мы опомниться, как лето 1922 г. пришло к концу. Я заметила, что Тедди начинает нервничать: ему нужно было вернуться в Нью-Йорк, чтобы подписать договор на свой последний роман. Договор у него был на роман «Оплот», а он хотел издать вместо него «Американскую трагедию». Тедди написал уже двенадцать глав и считал необходимым в личной беседе объяснить Хорасу Ливрайту, почему он решил переключиться на «Американскую трагедию» – роман, на который он возлагал большие надежды.
Кроме того, ему хотелось совершить поездку по штату Нью-Йорк и посетить озеро, где произошло трагическое событие, положенное им в основу романа: убийство Грейс Браун Честером Джиллетом.
Глава 7
Мы сдали наш домик на год, сделали объявление о его продаже и отправились в Нью-Йорк. Я примирилась уже с этой неизбежной переменой, но только умом, а не сердцем. Лос-Анжелос в это время как-то утратил свою привлекательность, он не сулил уже интересных и волнующих встреч, какими был богат Нью-Йорк. Правда, мы с Драйзером прожили здесь три незабываемых года, но теперь оба ощущали необходимость перемены. Впрочем, я не могла ждать от Нью-Йорка того, чего ждал от него Драйзер. Моя личность еще только формировалась и решительно протестовала против деляческой бесчувственности этого города. Временами мне страстно хотелось скрыться куда-то, пока я не найду себя. Все эти трудности ложились, вероятно, слишком тяжелым грузом на мои плечи, но я решила встретить их лицом к лицу.
В совсем ином настроении возвращался в Нью-Йорк Драйзер. Три года был он – правда, по собственному желанию – отрезан от этого столичного города, и слишком пресная жизнь начала приедаться его противоречивой и беспокойной натуре. Солнце светило слишком настойчиво и ярко, слишком много было апатичных людей вокруг. Драйзер снова жаждал острых жизненных конфликтов, которые всегда действовали на него возбуждающе и вдохновляли на творческую работу. Озабоченные, напряженные лица на улицах большого города… Борьба!
Прибыв в Нью-Йорк, мы направились в Лазем-отель на 28-й улице, неподалеку от Пятой авеню, и Драйзер начал с того, что приказал поставить ему в номер кресло-качалку. Мы прислушивались к перезвону колоколов, доносившемуся к нам в окна из Мэдисон-сквер гарден, и старались забыть обо всем на свете, кроме основной задачи: Драйзер должен был работать над «Американской трагедией».
Прежде всего, нужно было снять мастерскую, где он мог бы работать без помех. Поиски продолжались около двух недель, и в конце концов он остановил свой выбор на помещении, расположенном в первом этаже дома № 16 на Сент-Льюкас-плейс. Оставалось только перевезти со склада мебель Драйзера и.обставить мастерскую по его вкусу. Снятое нами помещение состояло из двух комнат с раздвижной дверью между ними. В первой, большой, комнате мы устроили кабинет; вторая комната, поменьше, должна была служить спальней и гостиной одновременно. Вскоре выяснилось, что по ночам в доме довольно шумно, но днем было сравнительно терпимо.
Для себя я сняла маленькую квартирку на 50-й Западной улице. Здесь я могла возобновить свои занятия пением.
Глава 8
Как-то раз в июне 1923 года Тедди позвонил мне и сказал, что собирается совершить поездку в северные районы штата Нью-Йорк, чтобы собрать кое-какие дополнительные материалы для «Американской трагедии». Не хочу ли я сопровождать его? Мы можем поехать на нашем максвелле, который уже прибыл пароходом из Лос-Анжелоса в Нью-Йорк. Разумеется, я с радостью согласилась.
Мы собрались и поехали. Наш путь лежал через штат Нью-Джерси, к северу по реке Делавэр, через Порт-Джервис, Монтиселло, Кортленд, Ютику и округ Херкимер до района озер, где семнадцать лет назад, в 1906 г., произошло убийство Грейс Браун Честером Джиллетом, положенное Драйзером в основу его романа «Американская трагедия».
Драйзер уже раньше рассказывал мне, почему, изучая в течение нескольких лет различные преступления, интересовавшие его с чисто психологической стороны, он, в конце концов, решил, что случай с Грейс Браун представляет наиболее подходящий для него материал. Взяться за разработку этой проблемы заставила его не только характерная для Америки отчаянная погоня за деньгами, с одной стороны, и нищета – с другой, но прежде всего – типичное для американской молодежи (одинаково как для юношей, так и для девушек) стремление быстро разбогатеть путем брака. Вместе с тем, изучив американскую литературу последнего периода – все то, что предлагалось вниманию читателей и поглощалось ими,- он пришел к выводу, что наиболее популярным литературным сюжетом является сейчас не столько история о том, как некий юноша завоевал любовь некой девушки, сколько история о том, как бедный юноша завоевал любовь богатой девушки. Одновременно он пришел к выводу, что это было естественным результатом продолжающих влиять на американскую жизнь примитивных условий существования первых американских поселенцев – условий, породивших чрезмерное прославление богатства, столь характерное для всей истории Америки, начиная с первых дней рабства и до наших дней. Будучи мальчиком лет двенадцати, он уже читал выпускаемые, целыми сериями романы в издании «Фэмили стори пейпер», «Нью-Йорк уикли», «Голден дейз» и «Сисайд лайбрери» Джорджа Л. Монро- романы, которые печатались еще в 1840 и продолжали печататься в 1910 году и содержание которых неизменно сводилось к тому, что молоденькая девушка-работница мечтает выйти замуж за отпрыска богатой семьи. После бесчисленных испытаний и треволнений, связанных с тем, что он пытается ее обмануть, истинная любовь побеждает все, и героиня становится законной владелицей роскошного особняка на Пятой авеню в Нью-Йорке. На литературе такого сорта составили себе состояние многие издатели, как, например, Роберт Бэннер, П. Ф. Кольер, Монро, Стрит, Смит и другие.
За ними, разумеется, последовали «четыреста» именитых граждан, из которых упомянем лишь Фиша, Никербокера, Гуда, Астора, Вандербильта… И так вплоть до 1894 года, когда Драйзер начал замечать, что в Америке получают распространение преступления определенного рода. Изучение этих преступлений привело его к выводу, что причина их – врожденное честолюбивое стремление молодого американца «преуспеть», иначе говоря, разбогатеть или занять положение в обществе. Стремление к тому, чтобы стать великим ученым, исследователем, религиозным проповедником, философом, государственным деятелем или благодетелем человечества в той или иной области, было редким явлением в американской жизни. И даже в тех случаях, когда американец предполагал стать доктором, адвокатом, коммерсантом или изобретателем или – еще того реже – посвятить себя науке, он втайне был одержим только одной мыслью (и вся нация была ею одержима): чтобы быстрее этого достичь, нужно иметь много денег. А самый быстрый способ разбогатеть – это выгодная женитьба.
В 1892 году, когда Драйзер был в Сент-Луисе, там произошел следующий случай: один молодой парфюмер, находившийся в связи с некой девушкой, стоявшей ниже его по своему социальному положению, неожиданно увидел перед собой блестящую перспективу: он понял, что двери некоего семейства, принадлежащего к старинному французскому роду, откроются перед ним, если он свяжет себя брачными узами. Опасаясь, что эти заманчивые планы могут потерпеть крушение, если соблазненная им девушка-работница вздумает предъявить на него свои права, он отравил ее, подарив ей конфеты, в которых был смертельный яд.
В то время когда Драйзер еще размышлял над этой трагедией, ему стало известно о не менее трагическом случае с Карлайлом Харрисом, молодым студентом медицинского факультета, подававшим большие надежды. На этот раз Драйзер был лично знаком с матерью юноши – нежной, любящей, страстно желавшей благополучия своему сыну. Но она была небогата, а отец юноши давно умер. И мать Карлайла мечтала, чтобы он приобрел известность, занял видное положение в свете и женился на богатой. Она сама рассказала все это Драйзеру. Ей пришлось с трудом перебиваться и отказывать себе во всем, чтобы дать сыну медицинское образование в Нью-Йорке. А затем, так же как в описанном выше случае, Карлайл Харрис – теперь уже врач, практикующий в одной крупной нью-йоркской больнице,- соблазняет молодую девушку. И почти тут же на его пути встречается другая, весьма привлекательная молодая особа, занимающая более высокое положение в обществе, чем он, и обладающая не только красотой, но и богатством. Теперь все его мечты и помыслы направлены к ней, и, само собой разумеется, связь с бедной девушкой уже начинает его тяготить. Он удовлетворил свою страсть к «мисс Бедность», и теперь для него существует только «мисс Богатство» – истинный идеал всякого американца. Он пытается освободиться от своей несчастной подруги примерно тем же способом, какой применил сент-луисский парфюмер. Молодой врач дает своей возлюбленной двенадцать пилюль с целью якобы прервать беременность. В четырех пилюлях заключен смертельный яд, остальные безвредны. Несчастная девушка, желая избежать появления на свет незаконнорожденного ребенка, проглотила четыре пилюли, из которых одна была отравленной, и умерла. Но оставшиеся пилюли были найдены в ее комнате, и три из них содержали в себе яд. На основании этих улик суд приговорил Карлайла Харриса к смертной казни.
Драйзер постепенно приходил к выводу, что преступления такого рода становятся обычным явлением в Америке. Редко проходил год без того, чтобы в той или иной части Соединенных Штатов американское общество не получило возможности ознакомиться с еще одной типично американской трагедией.
А затем в 1906 году в суде слушается дело Честера Джиллета – Грейс Браун. Место действия – Кортленд, Саут-Отселик, озеро Биг-Мус, Ютика и Амстердам – все в штате Нью-Йорк.
Были и другие случаи, которые привлекали к себе внимание Драйзера. Дело Гарри Нью, например. По слухам, этот юноша был незаконным сыном бывшего сенатора Гарри Нью из Индианы, занимавшего в то время пост министра почты и телеграфа Соединенных Штатов Америки. Как писали тогда газеты, отец бросил мальчика на произвол судьбы, предоставив ему самостоятельно пробивать себе дорогу. Гарри Нью, не подозревавший о существовании богатого отца или же не рассчитывавший на поддержку с его стороны, вступил в связь с одной небогатой девушкой. Вскоре, к немалому его изумлению, юноше стало известно, что его состоятельный папаша намерен ссудить его деньгами, чтобы помочь ему выйти в люди. Но в это время его возлюбленная забеременела, и Ныо понял, что ему грозит женитьба на бедной девушке. С точки зрения Нью, это означало конец его карьеры. И он убил бедняжку где-то на пустынной дороге в окрестностях Лос-Анжелоса. Впрочем, министр оказался достаточно могущественным, чтобы спасти его. Во всяком случае Гарри Нью не был повешен.
За этим следует трагическая и трогательная история Эвис Линнел из Хианниса в Массачусетсе и ее возлюбленного – священника Ричардсона,- история, которую Драйзер первоначально хотел положить в основу своей «Американской трагедии» и даже написал в этом плане шесть глав, но потом решил переключиться на историю Честера Джиллета.
Молодой священник имел крошечный приход на Кан Код в Хианнисе. Он происходил из простой семьи, был не особенно учен, небогат и перебивался кое-как, живя на тот скромный доход, который получал от своей немногочисленной паствы. Но он был красив, приятен в обращении, умел произносить проповеди, а Эвис была весьма привлекательная, пылкая и обаятельная девушка, столь же незаметная по своему происхождению и положению в обществе, как и он. Они увлеклись друг другом, были какое-то время счастливы, и Ричардсон обещал соблазненной им девушке жениться на ней. Затем Ричардсону предложили место в одном из самых богатых и видных приходов Бостона. Члены церковного совета этого прихода уже давно присматривались к деятельности Ричардсона и пришли в конце концов к заключению, что этот молодой священник, обладающий большим личным обаянием и притягательной силой, будет вполне подходящим пастырем для их церкви. И вот, когда Эвис была уже беременна, Ричардсон получил из Бостона приглашение прочесть там проповедь, после чего ему вскоре дали новый приход. Но едва успел он познакомиться со своей паствой, как одна красивая и богатая молодая особа, принадлежащая к его приходу, решила, что молодой священник – подходящая для нее партия, так как занимает теперь достаточно видное положение и может быть принят в кругу, к которому она принадлежит. Однако препятствием оставалась Эвис: она готовилась стать матерью, и Ричардсон дал слово жениться на ней. Увлеченный мечтами о блестящем будущем, открывшемся ему в лице его новой возлюбленной и совершенно затмившем его прежние скромные мечты, Ричардсон делает попытки освободиться от Эвис. Та в отчаянии и требует от своего возлюбленного, чтобы он либо помог ей избавиться от ребенка, либо женился на ней.
И вот, подобно парфюмеру из Сент-Луиса, Карлайлу Харрису и Честеру Джиллету, Ричардсон принялся раздобывать какое-нибудь снадобье и не мог ничего достать. Было сделано несколько попыток освободиться от ребенка, которые ни к чему не привели. Тогда Ричардсон прибег к отравленным пилюлям, причем, совершенно так же, как Карлайл Харрис, отравил не все пилюли, а только часть их. Когда Эвис умерла, начались розыски убийцы, и в конце концов Ричардсон со своей новой великолепной кафедры проповедника угодил прямо в тюрьму и кончил жизнь на электрическом стуле. Драйзер не был уверен в том, что Ричардсон читал о деле Честера Джиллета или о преступлении Карлайла Харриса и что он пошел по их стопам. Он скорее склонен был думать, что это – совпадение и преступная мысль пришла каждому из них самостоятельно.
Были и другие случаи – всего пятнадцать,- которые Драйзер очень тщательно изучил, прежде чем остановил свой выбор на деле Джиллета – Браун. Впрочем, в его изложении история эта получила совершенно новое преломление – и не только психологическое и эмоциональное; некоторым изменениям подверглась и фактическая сторона. Так, например, в деле Джиллета – Браун предполагалось, что орудием убийства девушки была теннисная ракетка, в то время как в романе Драйзера Роберте был сначала нанесен удар фотоаппаратом, а затем она упала в воду и была оглушена, стукнувшись о перевернувшуюся лодку, что придает ее гибели оттенок случайности. Больше того, Клайд не топит Роберту, но, охваченный нерешительностью, не спешит к ней на помощь, вследствие чего дает ей утонуть; этого достаточно, чтобы возникло сомнение в его безоговорочной виновности. И на этом еле уловимом, словно тень, сомнении построено у Драйзера все действие его романа.
Когда книга была закончена, Драйзера обвинили в том, что он украл сюжет своего романа из газет. Более того, его обвинили в отсутствии оригинальности, в том, что он рабски копирует сюжеты своих трагедий, вместо того чтобы их создавать.
На это он ответил: «Никто не создает трагедий – их создает жизнь. Писатели лишь описывают их. Ведь если на то пошло, Гёте скопировал своего Фауста с доктора Фаустуса, и поэтому, согласно канонам критиков, его следовало бы привлечь к ответственности за кражу сюжета старинной легенды, имевшей около десятка вариантов по всей Европе. А как быть с Шекспиром? Его тогда следовало бы обвинить в краже сюжетов «Антония и Клеопатры», «Юлия Цезаря», «Венецианского купца» и, по существу, сюжетов всех без исключения пьес, написанных им. То же самое можно сказать в отношении Киплинга и его индийских рассказов».
Позднее, когда преступления подобного рода повторились, Драйзера обвинили в поощрении убийств! Одно такое дело слушалось в 1931 году (дело Кейна), и в вещах убийцы был найден экземпляр «Американской трагедии». После этого Драйзера буквально засыпали письмами и телеграммами с просьбой объяснить этот факт. Считает ли он себя виновным в провоцировании убийства, спрашивали авторы писем.
В это время Тедди находился в округе Харлан (штат Кентукки), расследуя волнения, происходившие на местных рудниках. Жизнь его самого находилась в опасности. Все же он принял репортеров и сказал им, что, по его мнению, причина преступления коренилась не в его романе, не в деле Джиллета – Браун и не в одном из всех тех типичных дел, которые он изучил, а в навязчивой идее разбогатеть, преследующей американцев, в их страхе перед нищетой и в решимости достигнуть богатства – если надо, то и с помощью убийства.
Здесь я опять хочу сослаться на рукопись Драйзера «Американские трагедии» и привести из нее цитату:
"В связи с вопросом о психологической или мистической способности идеи, содержащейся в книге или встречающейся в жизни, вызывать аналогичные ей действия, я приведу случай с покойным Стюартом П. Шерманом, бывшим некогда преподавателем литературы в Иллинойском университете в Эрбане (штат Иллинойс), а позже литературным критиком «Нью-Йорк геральд трибюн».
Я впервые услышал о Шермане от одного из редакторов газеты «Индианаполис стар» (имя его я сейчас не могу припомнить). Он рассказал мне, что прежде чем стать редактором «Индианаполис стар», он работал ассистентом у профессора литературы Шермана в Эрбане. И этот самый Шерман добился его увольнения именно из-за меня и моих книг! Дело было так. В 1913 или в 1914 году, сказал он, ему попалось несколько моих книг; прочитав эти книги, он стал с жаром их пропагандировать, обсуждая на занятиях со своими студентами и рекомендуя для чтения; позже, по его словам, многие первокурсники и второкурсники превратились в «драйзеровцев»; в университетской газете появилась заметка на эту тему, привлекшая внимание профессора Шермана и сильно его обеспокоившая. Он ведь был тогда начальником моего молодого редактора.
«Однажды,- рассказывает этот человек,- Шерман зашел ко мне в аудиторию и спросил меня, кто такой Драйзер. Какие книги он написал? Почему я отзываюсь о нем так восторженно? И затем, узнав, что у меня имеются «Сестра Керри», «Дженни Герхардт», «Финансист» и другие, попросил одолжить их ему и унес книги с собой. Несколько недель спустя у меня начались неприятности, так как он снова пришел ко мне и сказал, что считает книги неприличными, более того – не заслуживающими того внимания, какое я им уделял. Они вульгарны, грубы, аморальны и подрывают все лучшие тенденции в нашей литературе, и он лично собирается выступить по этому поводу против Драйзера».
Он даже указал своему ассистенту, что предпочел бы, чтобы на лекциях больше не упоминалось о Драйзере, если только речь не идет об осуждении его. Но так как этот молодой редактор держал себя чрезвычайно смело и даже вызывающе и продолжал обсуждать со студентами мои книги, он был уволен.
Вот каким путем я впервые услышал о Ш'ермане и его отношении ко мне. Но вскоре после этого в нью-йоркском журнале «Нейшн» появилась статья на четырех страницах, анализирующая мои книги и нападающая на них в столь энергичной и резкой форме, что журнал впоследствии официально принес мне извинения. Я сохранил его письмо. Это была, как заявил редактор, своего рода «травля» со стороны Шермана. Меня же все это только занимало, так как я знал, что столь яростные нападки, да еще в таких крупных масштабах, могут лишь вызвать дискуссию, и вероятно, благоприятную для меня. Я сказал себе: «Этот человек, по всей вероятности, принесет мне больше пользы, чем самые восторженные мои поклонники. Он слишком консервативен и слишком криклив».
И действительно, с немалой для меня выгодой он продолжал громить меня, примерно так, как в свое время Лютер громил католическую церковь. Я был для него порождением дьявола. Время от времени в газетах в различных районах страны попадались выдержки из его статей с отрицательной оценкой моих книг. Он затмил всех самых яростных моих противников и в конце концов стал среди них своего рода лидером, словно, прежде чем самим критиковать меня, им хотелось посмотреть, насколько свирепо раскритикует меня он. И, в конце концов, верьте или не верьте, благодаря моим книгам он настолько выдвинулся, что его пригласили в «Нью-Йорк гералд трибюн» заведовать не то литературной страницей, не то отделом. И с этого момента почти каждую неделю вплоть до самой его смерти в 1926 году он непрерывно писал обо мне и ни разу, кроме одного случая, не отозвался положительно.
Это единственное «кроме» произошло где-то между январем и мартом 1926 года, после того как я выпустил «Американскую трагедию». В то время мой издатель Ливрайт и доброжелательно настроенные ко мне критики были уверены, что на этот раз он создаст своего рода критический шедевр, то есть раздраконит меня, как никогда в жизни.
Однако, к моему искреннему и глубочайшему изумлению, он совершил поворот на 180 градусов, «перекувырнулся через голову», как выразился один критик, и перешел в мой лагерь. Короче говоря, вся его статья была посвящена анализу силы воздействия моей книги на читателей, и в основном он хвалил ее. Частным образом я узнал, что книга действительно произвела на него большое впечатление, и можно было ожидать, что с этого момента он будет относиться ко мне более благосклонно. Я решил, что добился его обращения на путь истины, но считал вполне вероятным, что, если он будет продолжать в том же духе, его выступления в мою пользу окажутся гибельными для его карьеры.
Насколько я был прав в своем предположении, мне так никогда и не удалось узнать. В том же году, в июле или в августе, Шерман после происшедшей в нем странной перемены отправился проводить свой летний отпуск куда-то на озера, кажется, на север Нью-Джерси или в Пенсильванию. Не прошло и нескольких дней, как все нью-йоркские газеты были полны сообщениями о его внезапной трагической смерти. И здесь мы подходим к наиболее любопытной части всего этого эпизода, которая, как мне кажется, имеет какую-то психологическую связь с его прежним отношением ко мне и с происшедшей в нем переменой. В газетах сообщалось, что, хотя он был женат- жена его находилась в то время, кажется, на побережье,- он отправился в это летнее путешествие к озерам с молодой девушкой, считавшейся его знакомой. Во время их прогулки по озеру, на небольшом расстоянии от берега и в хорошую погоду, лодка перевернулась, и оба они утонули.
Я могу привести точный текст одного из газетных сообщений: «По-видимому, он хотел оказать помощь девушке, но она утонула; тогда он, вероятно, пытался спастись сам, ухватившись за перевернутую лодку, но, прежде чем смог это сделать, также пошел ко дну».
Мой друг Чарлз Форт сказал бы (и он действительно сказал это), что трагический конец Шермана был психологически подготовлен аналогичным концом Роберты Олден, которую он так жалел."
____________________
Нет, мне кажется, что за «Американскую трагедию» и все другие связанные с ней трагедии следовало винить не Драйзера, а Америку. И, говоря словами Драйзера, не только Америку, но и человеческую натуру, которая, оказавшись в условиях, созданных для нее Америкой, действует именно так, как изобразил Драйзер.
Драйзер лишь описывал жизнь такой, как она есть. Он годами вынашивал идеи всех своих романов, прежде чем садился писать их. Идея романа «Оплот» зародилась у него еще в 1910 году, фактически же он начал работать над романом в 1914 году, но написал тогда только несколько глав. Поэт Эдгар Ли Мастере рассказал мне недавно, что он и Драйзер в 1912 или в 1913 году часами гуляли по Мичиган-авеню в Чикаго, и тогда Драйзер говорил с ним о своем намерении написать роман о хорошем человеке. Эта идея только тридцать лет спустя была осуществлена им в романе «Оплот». Взявшись снова за этот роман в 1916 году, он написал треть книги. Он работал над ним в Калифорнии в 1920 и 1921 годах. Он принимался за него и снова откладывал несколько раз в течение двадцатых и тридцатых годов. В 1942 и 1943 годах он начал писать его заново с самого начала, и весной 1945 года роман был закончен.
«Сестру Керри», после того как у него зародилась идея этого романа, он писал в течение четырех лет. «Финансиста» он вынашивал в голове примерно с 1904 по 1911 год. «Титан», написанный в 1913 году, был опубликован в 1914 году. Роман «Дженни Герхардт» был задуман им после того, как он закончил писать «Сестру Керри», в 1900 году. Он начерно набросал его в 1901 году, по-настоящему стал писать в ноябре 1909 года и закончил примерно в июле 1910 года!.
Сюжет «Гения» вынашивался им примерно с 1904 по 1915 год, когда роман был окончательно завершен и опубликован. Однако «Гений» был более субъективной книгой, чем другие его романы; материал для него он собирал на основе своего собственного опыта и опыта людей, которых он хорошо знал. В «Гении» был дан как бы синтез трех людей: талант художника Эверетта Шина, которым Драйзер восторгался; внешность и нервная натура молодого редактора отдела искусств издательства «Баттерик пабликейшнз», покончившего жизнь самоубийством; и некоторые черты характера, свойственные самому Драйзеру. Работа над «Стоиком» приближалась к концу накануне дня смерти Драйзера – 28 декабря 1945 года.
Вот что он сам написал своему бывшему редактору еще в 1943 году в ответ на просьбу указать хронологическую последовательность его работ:
"Начав что-нибудь, я всегда потом обнаруживал, что по той или иной причине не могу продолжать работу. Я обычно получал небольшой аванс у издателя в счет какой-нибудь книги, а затем с меня требовали, чтобы я ее закончил. А тем временем меня интересовал уже другой сюжет. Так, например, пока я работал над «Финансистом», я написал три или четыре очерка, вошедшие потом в сборник «Двенадцать», и одновременно закончил по крайней мере десять из тех очерков, которые потом составили «Краски большого города». В 1903 году, уже обдумывая работу над «Дженни Герхардт», я написал тридцать две главы того, что должно было стать позже «Гением», а в 1907 или 1908 году разорвал и сжег их, чтобы работать над «Дженни Герхардт». Примерно тогда же я начал «Зарю» и фактически написал шесть или более глав, но потом убедился, что пора писать этот роман еще не наступила – по семейным обстоятельствам. Поэтому я оставил работу над ним до более позднего времени.
Затем, как вы знаете, появились «Дженни Герхардт» и «Финансист», а после моего путешествия в Европу с Грантом Ричардсом – «Сорокалетний путешественник», потому что ему непременно хотелось, чтобы я написал об этом периоде. Затем «Титан», из-за которого издательство «Харперс» выставило меня вон. Затем «Гений»; его издатель – Джон Лейн. Он выдал мне небольшой аванс, но отказался, как вы знаете, выпустить книгу в свет. Вы тогда участвовали в этой борьбе. По каким-то причинам тираж «Дженни Герхардт» разошелся, и я получил немного денег – достаточно (вместе с гонораром за статьи, рассказы и т. п.), чтобы продержаться некоторое время, хотя Хорас Ливрайт появился на моем горизонте только в 1918 году. Он издал «Гения», так же как и сборник «Двенадцать», законченный к тому времени, и обе книги разошлись. Между тем у меня возник сюжет «Оплота», и время от времени я понемногу работал над ним. Примерно тогда же были написаны «Каникулы индианца», появившиеся в свет благодаря Фрэнкливу Буту, настоявшему на том, чтобы я поехал снова взглянуть на Индиану. Вы редактировали тогда эту книгу. Я также закончил «Пьесы о естественном и сверхъестественном» и пьесу «Рука, гончара», опубликованную Хорасом. Отказавшись от работы над «Зарёй», которая должна была явиться первым томом «Истории моей жизни», я решил работать над «Днями газетной работы», которые должны были составить второй том моей автобиографии. Тем временем, как вы знаете, я решил переехать в Лос-Анжелос и переехал туда. Там между 1919 и 1921 годами я закончил «Дни газетной работы» и послал их Хорасу. Без моего согласия, даже не известив меня об этом, он изменил название книги, озаглавив ее «Книга о себе самом». Мне это не понравилось, так как этим нарушалась вся серия: «Заря», «Дни газетной работы», «Литературное ученичество», «Литературный опыт» («Литературное ученичество» должно было быть третьим томом, а «Литературный опыт»-четвертым). Позже, как вы знаете, я заставил Хораса изменить название «Книга о себе самом» на «Дни газетной работы». Между 1922 и 1930 годами, вернувшись в Нью-Йорк, я закончил «Краски большого города», «Освобождение и другие рассказы», «Американскую трагедию», «Зарю», «Галерею женщин», «Цепи», «Трагическую Америку», «Драйзер смотрит на Россию» и бог знает сколько других книг".
____________________
Проезжая на машине между Порт-Джервисом и Монтиселло, мы заметили маленький хорошенький домик, стоявший в глубине леса, примерно в полутораста шагах от дороги. Было в нем что-то, привлекшее наше внимание, и мы решили свернуть с дороги и осмотреть его. Заглянув внутрь, мы увидели, что он обставлен с большим вкусом искусно сделанной деревенской мебелью – там была старомодная печь, длинный деревянный стол с подходящими к нему по стилю скамьями и много маленьких интересных вещиц, свидетельствующих о стремлении к комфорту. Мы подумали, что домик принадлежит, вероятно, какой-нибудь влюбленной паре. Поговорив с ближайшими соседями, Тедди выяснил имя владельца и решил, что мы можем снять домик на два оставшихся летних месяца.
Мы продолжали двигаться на север; следующая наша остановка была в Кортленде, описанном в «Американской трагедии» под названием Ликурга. Чтобы составить себе впечатление о городе в целом, мы проехались по различным районам Кортленда – по его лучшим жилым кварталам, фабричному району и беднейшим улицам.
Затем мы проехали в Саут-Отселик (в книге – Бильц), где жила Грейс Браун (Роберта Олден). Узкая проселочная дорога, ведущая к ее дому, выглядела примерно так, как Драйзер описал в своей книге. Пока мы ехали по дороге, я думала о том, какой могла быть жизнь молодой девушки в таком мрачном месте, вдали от шумного света; автомобили в то время были редкостью, и в магазин приходилось ездить на лошадях за три мили. Одинокий дом на холме, окруженный высокими деревьями, вызывал именно то чувство осиротелости, которое Драйзер позже описал в своем романе. Те, кто постоянно жил в большом городе, могли найти этот дом очаровательным, но для неискушенной девушки жизнь здесь после возвращения из Кортленда, где она все же имела некоторые развлечения, должна была показаться довольно унылой. Во всем окружавшем ее слышалась какая-то навязчивая тоскливая нота, которую Тедди уловил и заставил прозвучать в различных вариациях по всей книге.
Мы скоро достигли де-Райтера, Ютики и Олд-Форджа (Ган-Лодж), представлявших собой как бы вход в страну озер. Место было запружено лошадьми, повозками и автомобилями; люди приехали сюда из страны озер за провизией, посылками и письмами.
Заправив нашу машину, мы двинулись дальше к этой стране озер через густые леса, по дорогам, огибавшим озера. Наконец мы прибыли на озеро Биг-Мус (Биг-Битерн) и направились в отель «Гленмор», расположенный над озером. Это было чрезвычайно красивое, уединенное место. Вы как бы ощущали здесь тишину и глубину окружающих вас лесов, простирающихся на многие мили во всех направлениях.
На следующий день Тедди взял напрокат лодку на ближайшей лодочной станции. Он хотел поехать по озеру к тому самому месту, где утонула девушка. Когда мы брали лодку, Тедди спросил лодочника, слышал ли он когда-нибудь о деле Джиллета. Лодочник сказал, что знает все подробности этого дела, так как в го время работал здесь на той же должности. Он описал наружность юноши – молодого, смуглого, красивого, с темными волосами – и даже указал точно место, где произошло убийство. Это была часть озера, скрытая от посторонних взоров растущими вдоль берега деревьями.
Мы медленно плыли среди мертвящей тишины, и нас обоих внезапно охватило странное настроение, созвучное самой драматической ноте «Американской трагедии». Вот здесь, в этом месте, девушка встретила свою смерть, здесь она тщетно взывала о помощи, и ее отчаянные крики разносились по поверхности воды, сомкнувшейся затем над ее головой. Мы оба молчали, и царившее вокруг гипнотическое очарование вселило в меня невольный страх.
И в эту минуту в застывшем воздухе прозвучал странный крик птицы, которую Тедди назвал в своей книге «уиа-уиа». Птица пролетела и уселась на выступавшую над водой ветвь засохшего дерева, на некотором расстоянии от нас.
Кит… кит… кит… ка-а-а-а! Кит… кит… кит… ка-а-а-а!
Глава 9
Вскоре после нашего возвращения в Нью-Йорк из поездки на озеро Биг-Мус мы снова отправились по той же дороге, но на этот раз только до небольшого домика около Монтиселло, который мы облюбовали. Драйзеру удалось договориться с его владельцем о том, чтобы снять домик на два месяца.
Поставив машину около домика, мы стали устраиваться в нем: открыли окна, переставили мебель, распаковали чемоданы. К нашей большой радости, мы обнаружили хорошенькую красную лодку, хранившуюся наверху, на чердаке. Там же мы нашли охотничьи ружья и другие спортивные принадлежности, говорившие о том, что в окрестностях имеется хорошая охота. В то время мы еще не заметили, что за нашим домиком простирается дремучий лес. Несколько раз в темные ночи я видела дикую кошку, которая осторожно прокрадывалась к открытому окну кухни; глаза ее светились, как два факела. Она убегала прочь, как только ее замечали.
Развести огонь в старинной печке, чтобы приготовить наш первый ужин, было настоящим удовольствием. За водой надо было ходить через дорогу к журчащему в тени деревьев роднику, что еще более усиливало своеобразную прелесть и очарование нашего нового жилья. Это местечко явилось для нас источником подлинного вдохновения, и десять лет спустя мы построили точно такой же домик на нашем загородном участке – в Уэстчестерском округе, штат Нью-Йорк.
Через несколько дней Тедди с удобством расположился в новом доме и стал работать; у нас было такое чувство, словно мы живем здесь уже много лет. По приглашению Тедди к нам приехала провести свои каникулы дочь его сестры Эммы Нелсон – Гертруда. Бесшабашная веселость и очаровательная живость ее характера сочетались с быстро меняющимися оттенками настроения – от самого светлого до самого мрачного. Никогда нельзя было угадать, в каком настроении она будет сегодня. Это была очень хорошенькая, талантливая и остроумная девушка с живым, пытливым умом, очень подвижная по натуре.
Мы втроем бродили по окрестным городкам, осматривали их и впитывали в себя все новые впечатления, находясь в каком-то праздничном, приподнятом настроении, радуясь любому пустяку. Мы были очень счастливы и довольны друг другом, и я по-настоящему полюбила Гертруду. Часто они с Теодором ходили к ручью за водой. Три недели спустя Герти уехала, и мы с Тедди остались вдвоем.
Я была счастлива и подолгу бродила по лесу, распевая во весь голос. Вечерами мы читали у камина. Я впервые познакомилась с романом Эмили Бронте «Меркнущие высоты», и Драйзер заставлял меня читать ему вслух. Он ушел с головой в работу, дело быстро продвигалось, я перепечатывала отдельные части первого рукописного черновика его романа.
Глава 10
Тедди получил известного рода зарядку и, вернувшись в Нью-Йорк, принялся за работу с новой энергией. Он напоминал мне человека, который пытался втащить на берег огромного кита и, наполовину втащив его, прилагал теперь все усилия, чтобы довести дело до конца без посторонней помощи. Я перечитала рукопись три раза, перепечатывала исправленные места и занималась своей домашней работой, а раз или два в неделю мы принимали у себя друзей.
Но, говоря об этом периоде нашей жизни, я не могу не вспомнить одного человека, чей блестящий ум и теплое, дружеское сочувствие были для нас постоянным источником вдохновения. Я имею в виду Дж. Г. Робина. Он родился в России. Это был крепкий приземистый человек с голубыми глазами и красновато-бурым цветом лица. Сделав головокружительную карьеру в области банковского дела, позволившую ему сколотить состояние почти в 14 миллионов, он потерпел поражение со стороны еще более богатого конкурента и был заключен в тюрьму за нарушение каких-то юридических формальностей. По словам Драйзера, «он поступил не хуже, чем многие другие финансисты его времени, а именно: финансировал один банк с помощью другого и таким образом создавал цепочку банков». После этой катастрофы Робин занялся юриспруденцией, и несколько лет спустя юристы уже стали консультироваться с ним как со специалистом-законоведом.
Но юриспруденция была лишь одним из его увлечений. Под псевдонимом «Один Грегори» он написал две пьесы: «Иисус» и «Кай Гракх», считавшиеся многими критиками блестящим образцом классического стиля. В последние годы своей жизни он занялся исследовательской работой в области дезинфицирующих средств и незадолго до своей смерти вел переговоры о продаже патента на какое-то изобретение в этой области за огромную сумму в 400 тысяч долларов. Я слышала его блестящие рассуждения о науке, политике, финансах, искусстве и литературе, даже о медицине. Когда Драйзеру случалось заболеть, Робин бросал все, мчался к нам и, несмотря на возражения Драйзера, настаивал на том, чтобы сделать ему массаж или прописать какое-нибудь средство, которое неизменно помогало.
Робин считал Драйзера самым непрактичным человеком в деловых вопросах и полагал своим долгом предостерегать его против всевозможных препятствий и ловушек, которые могли грозить ему. Драйзеру не всегда это нравилось, и их споры принимали порой слишком жаркий характер. Иногда они ссорились и не виделись месяцами. Затем снова мирились, и прежние отношения восстанавливались. Ничто не доставляло Робину такого удовольствия, как пойти куда-нибудь поужинать с нами. Если дело было летом, мы отправлялись в какой-нибудь ресторан на Ист-сайд, где иногда сидели наверху совершенно одни. В таком случае. Робин снимал пиджак, засучивал рукава и, удобно устроившись, принимался- не за еду, а за разговор по душам. Он часто говорил, что Драйзер как бы кристаллизировал его мысли. Именно по настоянию Робина Драйзер снял себе спокойное помещение для работы в «Гардиан лайф билдинг», около Юнион-сквера. Робин имел контору в том же здании вместе с адвокатом Артуром Картером Хьюмом, и они оба оказали Драйзеру неоценимую помощь, консультируя его по юридическим вопросам, с которыми он сталкивался в своей работе над «Американской трагедией».
Дружба между Драйзером и Робином длилась многие годы. Это были для Робина годы смятения и отчаяния, богатства и бедности, и с его смертью (он умер в возрасте 54 лет) Драйзер потерял истинного друга.
Глава 11
Тедди теперь ушел с головой в работу над своей книгой. Он напоминал скульптора, работающего над статуей, которая стала такой большой, что ему приходилось теперь закидывать своей мощной рукой глину высоко наверх. Он ваял, отделывал, лепил и переделывал снова, пока статуя не начинала оживать. Ему приходилось просматривать массу материала, долго отделывать рукопись – писать, переписывать, пересматривать ее четыре, пять или шесть раз, прежде чем он готов был признать ее приемлемой. Я теперь готовила его авторский экземпляр и перепечатывала поправки.
Возбуждение по поводу книги росло. Ливрайт нажимал, стремясь поскорее получить ее в свои руки, и в воздухе чувствовалось явное напряжение всякий раз, когда речь заходила о книге. Было объявлено о скором выходе ее в свет, публика успокоилась и терпеливо ждала выхода книги, но Драйзеру оставалось проделать еще большую работу. Одна глава «заблудилась» по дороге в издательство, и со следующими главами пришлось действовать с большой осторожностью.
Среди всего этого возбуждения мы поехали в одну из суббот в Филадельфию навестить Уортона Эшерика – знаменитого художника, создававшего великолепные произведения искусства из дерева и камня. Тедди познакомился с ним, когда я была на Западном побережье, и в одном из своих писем ко мне описал прелестный дом Эшерика в Паоли, где Уортон, его жена Летти и их двое детей вели идиллический образ жизни среди живописных холмов в окрестностях Филадельфии.
Был конец лета, и Эшерик уговорил Драйзера поехать с ним и его друзьями покататься на яхте по Барнегатскому заливу. Я осталась дома с Летти и детьми. День был знойный, и наши мужчины в течение нескольких часов находились под палящими лучами солнца. В результате Тедди, не заметив сразу ожога, спалил себе спину почти до пузырей. Когда я встретилась с ним к вечеру, я нашла его в отчаянном состоянии. Он не мог лечь и был вынужден просидеть всю ночь. Уехать мы могли только рано утром, и он страшно мучился. Спина его стала как гофрированная, а глаза буквально налились кровью. Десять дней пролежал он в сильнейших страданиях, находясь под наблюдением врача, который сказал мне потом, что Тедди был на волосок от смерти.
Все это, конечно, задержало окончание книги, но как только Тедди был снова на ногах, он принялся за работу с лихорадочной поспешностью. Он писал и писал. «Ливрайт паблишинг компани» с нетерпением ожидала каждую главу и, получив ее, сейчас же пускала в набор, а затем – в печать. Луиза Кэмпбелл, с самого начала редактировавшая книгу, приехала из Филадельфии, чтобы внести в гранки намеченные ею исправления. Ливрайт получил отзыв от одного из рецензентов, который не слишком хвалил книгу. Тогда он передал ее своему ближайшему литературному помощнику – Томасу Смиту. Тот пришел от книги в восторг, заявив, что он был буквально потрясен, прочитав ее. Ливрайт доверял Смиту и очень обрадовался, узнав его мнение, но ему не нравилось название книги. «И как это Драйзера угораздило назвать книгу «Американская трагедия»? – постоянно говорил он.- Нет, Драйзер должен изменить название!» Однако просить Драйзера изменить название, которое он избрал именно потому, что в книге нашла отражение типично американская трагедия, значило искалечить всю книгу, и он ни за что не соглашался на это. Ливрайт, или кто бы там ни был, ему не указ: книга будет называться «Американская трагедия».
Однажды в ноябре, говоря точнее, 25 ноября, он написал последнее слово. Переписал еще раз последнюю главу, сделал несколько поправок, и работа была закончена.
Горячие дни миновали. Драйзер много раз пытался забыться, но это ему не удавалось. Сюжет его книги преследовал его всюду, куда бы он ни шел. Он неизменно возвращался к своему столу, беспомощный, как приговоренный.
Глава 12
«Американская трагедия» была закончена. Единственное, чего хотелось Драйзеру,- это забыть на время о книге. Он даже не хотел думать о том, какой прием она встретит у публики. Все его книги всегда доставляли ему неприятности, говорил он, и почему судьба этой книги должна быть иной? Во всяком случае, он был слишком утомлен, чтобы думать об этом.
Поэтому мы отказались от квартиры в Бруклине и поехали во Флориду, чтобы немного проветриться.
Мы держали путь по направлению к Южной Каролине и Джорджии, но ехать становилось все труднее и труднее; размытые дороги часто вынуждали нас задерживаться в пути. Шли проливные дожди, и некоторые маленькие городки в штате Джорджия буквально тонули в глубокой грязи. У нас было такое ощущение, словно мы плывем по грязи. Однажды мы подъехали к небольшой речке и, думая, что сможем переправиться вброд, попали в воду; к нашему большому изумлению и испугу, речка оказалась настолько широкой, что мы потеряли направление. Вода добралась до капота, мотор заглох, и мы совершенно растерялись. Внезапно неизвестно откуда вынырнул форд, направляясь навстречу нам по воде; поравнявшись с нами, он остановился. Сидевшие в нем двое мужчин спросили нас, что случилось. Когда мы объяснили им наше затруднительное положение, один из них очень дружелюбно сказал: «Сидите спокойно. Мы моментально выведем вас отсюда». Затем они забрались на крыло нашей машины, открыли капот и каким-то чудесным способом просушили мотор. Через несколько минут один из них сказал: «Теперь давайте я поведу машину. Я знаю, где дорога, и выведу вас. Держитесь крепко». И когда я уступила ему свое место за рулем, произошло новое чудо: мотор начал работать, и мы стали продвигаться по речке, казавшейся нам целым озером. Опытный водитель выискивал дорогу уверенно и осторожно, и скоро мы были в безопасности, на твердой земле. Мы подъезжали к границам штата Флорида, дороги там были сухие, небо чистое, и все наши дорожные беды кончились.
Отъехав около ста миль от границ Флориды, мы попали в настоящий водоворот машин и людей. Это был самый разгар земельной лихорадки, и нельзя было ни шагу ступить или проехать, чтобы вас не остановил какой-нибудь маклер и не стал убеждать вложить несколько долларов в земельные участки, которые мгновенно принесут баснословную прибыль. Маклеры ловили людей в банках, отелях, на вокзалах – повсюду, они вывозили их за город в больших автобусах и устраивали завтрак на тех участках, в продаже которых были больше всего заинтересованы; затем, когда их жертва приходила в веселое расположение духа после обильного завтрака, они продавали ей участок; по крайней мере в 75 процентах случаев бывало именно так. Земельные участки не выходили у всех из головы, и люди, еще не зараженные этим массовым психозом, скоро тоже оказывались в его власти. Даже Драйзер истратил 4 тысячи долларов на участок; этот участок несколько лет спустя смыло в море во время тропического шторма.
Мало-мальски приличная комната стоила здесь не менее 40 долларов в день. На протяжении сотен миль тянулись шикарные отели; их постройка, как нам сказали, стоила огромных денег, и поэтому такая плата за номер считалась нормальной, учитывая огромное и беспрецедентное будущее Флориды. Весь штат – от одной границы до другой – должен быть превращен в длинную вереницу роскошных отелей с венецианскими бассейнами для плаванья, пловучими танцевальными залами и ваннами канареечного цвета!
Не имея возможности тратить по 40 долларов в день, мы, как и многие другие, были вынуждены ночевать несколько дней в пустых переносных домишках, разбросанных вдоль шоссе и сдававшихся на ночь за три доллара. Мы объехали все восточное побережье Флориды от севера до юга, прежде чем нам удалось найти небольшой скромный отель в форте Лодердейл.
Ускользнув, наконец, от толпы людей, помешанных на земельных участках, мы попали в тропические сады с удивительным разнообразием растительности. Совершая поездки по живописной Индиан-ривер, окаймленной густой растительностью, фруктовыми деревьями, пальмами, тропическими кустарниками всех видов, склонявшимися над водой, и высокими деревьями, грациозно задрапированными мхом, мы видели аллигаторов, греющихся у берега на солнце.
В сумерках мы часто следили за пеликанами, стремительно ныряющими в воду за рыбами. Мы ходили купаться ранним утром и вечером; часто приходилось бежать, чтобы увернуться от кокосовых орехов, падавших с высоких качающихся пальм. Тедди всегда говорил, что штат Флорида – это сад, пробуждающий любовь к жизни.
Несколько недель спустя, когда нам удалось забыть тяжелые дни работы в Бруклине, мы получили из Нью-Йорка достоверное сообщение о том, что «Американская трагедия» пользуется невероятным успехом. Читая это сообщение, Тедди едва мог поверить своим глазам. Его книги никогда раньше не встречали такого единодушного одобрения, и он был настроен скептически. Но нельзя было не верить восторженным рецензиям и поздравительным письмам и телеграммам, которые шли непрерывным потоком.
Глава 13
Вернувшись в Нью-Йорк, мы сняли номер в отеле «Пасадина», расположенном к западу от Бродвея, на 63-й улице. Отель был старомодный, спокойный; однако мы скоро поняли, что с этого момента в нашей жизни может быть все, кроме спокойствия. Не успели мы распаковать наши вещи, как сразу же почувствовали атмосферу чрезвычайного возбуждения и окунулись в водоворот событий, вызванных огромным успехом «Американской трагедии». Хорас Ливрайт предвкушал колоссальный успех. Происходили совещания за совещаниями; шли переговоры о продаже книги для кино, о постановке пьесы за границей, о постановке ее на Бродвее. Патрик Кирни, молодой драматург, автор пьесы «Сын человека», загорелся желанием написать по книге пьесу. Драйзер и Ливрайт остановились на нем, так как считали его более других способным сохранить в пьесе тему и сущность книги.
Наконец, вопрос о продаже прав на экранизацию книги вышел далеко за стадию переговоров. Книгой заинтересовался Джесс Ласки из «Парамаунт феймоуз плейрс». Сумма, о которой шла речь, показалась Теодору солидной, так как, хотя раньше он и получал предложения о продаже его книг для кино, вопрос о выплате денег наличными встал впервые. Драйзер походил на удивленного ребенка с широко раскрытыми глазами, который заговорил бы вдруг о крупных цифрах; но, как всегда, он был настроен скептически относительно исхода дела. Однако в сильном, уверенном в себе, непреклонном в своей воле мужчине, вошедшем в ресторан «Ритц» обсудить условия контракта за завтраком с Ласки, Ливрайтом и другими, вряд ли кто узнал бы человека, до этих пор полного сомнений относительно благоприятного исхода встречи. Будучи в ударе, он мог проявлять исключительное упорство в переговорах.
Не прошло и двух часов, как Теодор вернулся, сказав:
– Ну, я только что швырнул чашку кофе Ливрайту в физиономию.
– И этим закончилось свидание? – в ужасе спросила я.
– Да, именно этим. Пошел он к дьяволу! Больше не посмеет публично называть меня лжецом! Он наживает массу денег на книге, а теперь еще получил права и на пьесу. Десять процентов – это все, что он получит у меня от продажи книги для кино, и точка.
Дело в том, что первоначальный договор на книгу между Драйзером и Ливрайтом предусматривал выплату Ливрайту десяти процентов комиссионных в случае продажи права на экранизацию книги какой-либо кинофирме.
В тот день, когда Драйзер подписал контракт о продаже права на постановку пьесы в театре, между ним и Ливрайтом было заключено новое соглашение. В соглашении предусматривалось, что, если роман приобретут для экранизации, прежде чем будет поставлена пьеса, Ливрайт получит десять процентов с суммы, не превышающей 30 тысяч долларов; сверх этой суммы он никаких комиссионных не получает.
По дороге в ресторан Ливрайт спросил Драйзера, сколько он собирается просить за право на экранизацию. Когда Драйзер сказал, что потребует 100 тысяч долларов, Ливрайт был крайне изумлен. Он заявил Драйзеру, что ему никогда не удастся получить такой суммы, на что Драйзер ответил: «Так или никак». Тогда Ливрайт спросил Драйзера, не согласится ли он на такое условие: отдать ему все, что будет превышать 60 тысяч долларов, если ему удастся продать свои права за большую сумму; Ливрайт напомнил, что ведь это он организовал встречу Драйзера с киномагнатами. Когда Драйзер ответил отказом, Ливрайт все же попросил позаботиться о его интересах. Драйзер обещал ему. Во время завтрака, когда Драйзер стал настаивать на сумме в 100 тысяч долларов, Ливрайт извинился и вышел из-за стола. Когда он вернулся, между Ласки и Драйзером было достигнуто окончательное соглашение о сумме в 90 тысяч долларов. Ливрайт немедленно предъявил претензию на все, что превышает 60 тысяч долларов.
– Вы получите ваши десять процентов,- сказал Драйзер.
– Но вы обещали позаботиться о моих интересах, несмотря на новую статью соглашения! – воскликнул Ливрайт.
– Я сказал, что позабочусь о вас в пределах нашего прежнего соглашения, а я даже и этого не обязан бы делать,- возразил Драйзер.
– Вы лжец! – крикнул Ливрайт.
Тут-то Драйзер и запустил в Ливрайта чашкой кофе. Это привело завтрак к быстрому концу и прервало на время все переговоры.
Драйзер был тверд в своем решении, но слегка разочарован, что сделка не могла быть заключена немедленно. Ему всегда хотелось, чтобы все происходило мгновенно, ясно и действенно. Зная, как упорно и долго он работал над этой книгой, я могла понять его настроение.
Однако несколько дней спустя сделка была заключена, и Драйзер получил свои 90 тысяч долларов. Таким образом, человек, который в 1920 году страдал «комплексом бедности», оказался обладателем суммы, составлявшей для него целое состояние. Драйзер не имел ни малейшего представления о том, куда можно надежно поместить эти деньги, но намеревался войти в курс дела. Он не хотел слушать ничьих советов; всю жизнь он полагался только на самого себя и желал действовать так и впредь. В течение нескольких дней он то и дело ходил в банк и возвращался оттуда с карманами, набитыми списками облигаций, финансовыми отчетами и даже акциями. Он занялся этим делом с такой же тщательностью, с какой делал все, и вскоре стал прекрасно разбираться в биржевой конъюнктуре, ибо Драйзер был человеком, способным заинтересоваться любым предметом и в результате располагать о нем массой сведений.
Так же бывало и с выбором темы для очередной книги. Типичным примером может служить его книга «Финансист». Хотя у него не было специальных знаний в области финансов, он написал книгу, считающуюся шедевром в этой области. Один видный финансист из Филадельфии даже специально приехал в Нью-Йорк повидаться с человеком, так хорошо информированным по этому вопросу. Однако Драйзер сказал ему, что ничего не понимает в финансовых делах.
– Как же вы смогли написать такую книгу, как «Финансист»? – спросил с изумлением этот человек.
– Как вам сказать? – ответил Драйзер, явно забавляясь.- Я почитал кое-что по данному вопросу, как делаю всегда, когда пишу книгу.
Таков был его метод, благодаря которому его книги становились реалистичными. Он обладал также талантом приводить любую сложную проблему, если можно так сказать, к одному знаменателю, и читателю она представлялась простой и ясной. Такая же манера писать была и у Авраама Линкольна. Когда государственный секретарь Сьюард стал критиковать простоту его стиля в дипломатических документах, Линкольн сказал: «Ведь вы поняли это, я тоже понимаю, и, смею думать, они тоже поймут, когда документ достигнет своего назначения». Именно эта ясность и простота изложения и нравилась Драйзеру в Линкольне-писателе.
Драйзер глубоко интересовался человеческой природой, человеческими чувствами и подоплекой этих чувств.
Глава 14
Приближалось лето, и мы решили совершить путешествие в Европу. Перед отъездом, однако, мы устроили вечер для нескольких наших друзей в нью-йоркском ночном клубе, чтобы отпраздновать успех «Американской трагедии». Было приглашено около тридцати человек. Это был первый вечер, устроенный нами вместе, и прошел он очень удачно.
22 июня 1926 года мы отплыли в Скандинавию на пароходе «Фредерик VIII». На борту парохода оказалось много интересных пассажиров; присутствие Драйзера было вскоре обнаружено, и мы познакомились со многими, в частности с артистом Отисом Скиннером, ехавшим в Данию на празднества, посвященные «Гамлету». На пароходе показывали скандинавские фильмы; пассажиры развлекались танцами, пением и, как водится, усиленно флиртовали. В течение всего нашего путешествия стояла чудесная погода, и питание, которым ведал повар-датчанин, было великолепным.
После семи дней плавания мы заметили первую полоску земли – Гебридские острова. Мы стояли у борта и любовались очаровательной картиной: голубая вода, плескавшаяся о темные сине-серые берега, морские птицы, рыбачьи лодки, белые маяки, выплывавшие внезапно из тумана, и ощущение безлюдья, царящего среди этих холмов северо-западной Шотландии. Тедди сказал, что он никогда не сможет забыть впечатления, произведенного на него Гебридскими островами. Затем мы миновали Оринейские острова, пережили морской шторм с громом и молнией и любовались восходом солнца в три часа утра. Когда мы стали приближаться к месту нашего назначения, все высыпали на палубу.
Наконец, мы вошли в Северное море, и вдали замаячил норвежский берег. Показалась гавань Осло (Христиания). Вода здесь кишела маленькими лодочками с сидящими в них мужчинами и женщинами, мальчиками и девочками. Они кружились вокруг парохода, и люди в лодках приветствовали нас, размахивая шляпами и распевая какие-то песни. Носясь по волнам, сверкавшим солнечными бликами, эти лодочки были похожи на грациозных морских чаек. Тедди заметил, что поселок на берегу напоминает ему старинную немецкую деревню с остроконечной церковкой, фабрикой и десятками маленьких лодок.
Чувство, которое вы испытываете, приближаясь впервые в жизни к иностранному берегу, неповторимо. Отделенные от своей страны огромным пространством воды, вы ощущаете какую-то своеобразную свободу и отрешенность от родной земли, где вы двигались, жили и дышали с самого рождения. Все, что я здесь видела, вызывало во мне необычайное волнение.
В Осло мы обнаружили, что оба главных отеля были заполнены до отказа, но нам все же удалось найти пристанище в «Норге», после того как нас чуть ли ненасильно проинтервьюировали и сфотографировали для газет. Как только мы устроились в нашем новом помещении, мы, не теряя времени, отправились осматривать город. Магазины были маленькие и забавные, дома облезлые и с виду довольно запущенные. Мы заметили отсутствие аптекарских магазинов с содовой водой и новых зданий, к которым так привыкаешь в Америке. Вместо этого здесь были маленькие магазинчики, где торговали высокие, полные норвежские женщины; немало домов с меблированными комнатами, на окнах которых виднелись цветы; трамвайные линии (хотя трамваев что-то не было видно), булыжные мостовые и много лошадей. Глаза у норвежцев кажутся голубыми и словно навсегда прищуренными от солнца, ветра или дождя; волосы у них очень светлые или рыжие; угловатые, напоминающие живопись Цорна мужчины, женщины и дети с красными обветренными лицами, Тедди сказал, что забавные маленькие магазинчики и домики напомнили ему Уорсо (штат Индиана) 1884 года. Были здесь также рынки, полные овощей, но какие-то мало красочные; канал, наполненный моторными лодками; отделение фирмы «Шелл ойл» и, наконец, довольно нарядная улица с большими магазинами.
Мы посетили могилы Ибсена и Бьёрнсона и музеи, где находились древние корабли викингов. Эти викинги оказались для меня настоящим открытием. Я всегда думала, что викинги были героями и великими людьми Севера. Возможно, так оно и было, но я узнала также, что власть их держалась главным образом грабежом и разбоем.
Вся обстановка в Норвегии производила угнетающее действие на Тедди; ему не хватало ярких красок, к которым он так привык в Америке. Мы наняли машину и совершили поездку на гору Хольменколлен, где сфотографировали забавные маленькие домики, крытые торфом (один из них был подперт ребрами гигантского кита), побывали у озера, окруженного молчаливыми соснами и густым-прегустым ковром мха, на котором нам захотелось отдохнуть. В отдалении пели две норвежские девушки, а какой-то слепой играл для них на концертино.
Прежде чем покинуть Норвегию, мы поехали на север, в Тронхейм, и совершили оттуда путешествие в страну полуночного солнца. Вернувшись в Тронхейм, мы направились к югу вдоль изрезанного фиордами побережья Норвегии. Нам не захотелось ехать на пассажирском пароходе, делавшем мало остановок, и мы предпочли путешествие на местных пароходиках, развозивших почту и провизию по прибрежным деревушкам. На протяжении нескольких миль приходилось плыть по глубоким и узким проливам, по обеим сторонам которых высились огромные скалы с настолько крутыми и неприступными склонами, что, казалось, только горная коза решится взобраться на них. И все же время от времени попадалась одинокая хижина, прилепившаяся где-нибудь на высокой отвесной скале на полдороге к горной вершине, и то тут, то там мы видели поднимавшегося или спускавшегося человека. Голые скалы, гранит, кое-где редкая трава; один резкий поворот следует за другим, и у вас создается впечатление, что ваш пароход сейчас наскочит на гору, но внезапно фиорд делает новый крутой поворот, и перед вами открывается узкий проход. И так мили за милями. Изредка проезжали мимо небольшой норвежской деревушки – всего лишь пристань и несколько домиков. На пристани на нас с любопытством смотрели улыбающиеся люди; они приветствовали пароход, везущий им почту и провизию, столь желанные в их скудной жизни. Среди многочисленных остановок, которые мы делали, были Сохольт и Мерок в Гей-рангер-фьорде; Ольден в Нур-фьорде. Двигались мы медленно. На берегу высились горы в шесть тысяч футов высоты, и не раз до нашего слуха доносились громовые раскаты обвалов. Мы совершили экскурсию (проехав один конец на такси) на возвышающуюся над заливом вершину Граакаллен высотой 1 800 футов. Величие открывшейся перед нами картины произвело большое впечатление на Тедди; он сказал, что его душе необходима близость моря и гор и никогда он не чувствует одиночества, если перед ним открывается великолепный ландшафт.
В маленьких деревушках, которые мы посетили, не было слышно радио, привычного крикливого шума, и я помню, как Тедди сказал: «Этого одного достаточно, чтобы убедить среднего американца, что вся страна ни к черту не годится.- Как! Не слышно громкоговорителей? И никто не поет: «Да, сэр, это моя Бэби»? Боже мой, да это совершенно пропащая страна!»
Приехав в Бригсдаль, мы решили взобраться на глетчер. Нам пришлось проделать длинный путь вверх по голубому льду; по бокам возвышались огромные скалы, а в расщелинах пробивались цветы – колокольчики и розовые горные кувшинки. Спускаясь обратно, мы увидели маленького блеющего козленка, скатившегося вниз и застрявшего между скалами. Тедди был сильно взволнован отчаянным положением этого маленького создания и, как только мы спустились к подножью горы, известил о происшедшем местную администрацию, которая за верила его, что козленка сейчас же спасут. В Вазенден мы отправились на машине вдоль фиорда; у нас захватывало дух, когда мы неслись по узкой дороге, проложенной по самому краю высоких утесов. Но вот мы въехали в страшное ущелье – почти непроходимую, забытую богом местность, где дорога пролегает между гор в 8 тысяч футов высотой. Если существовал когда-нибудь покинутый ведьмами заколдованный каньон, то это был именно тот, по которому мы проезжали. Быть может, некогда его населяли гномы, людоеды-великаны, колдуньи, гиганты и подобные им существа, которые потом ушли, оставив крытые травой хижины на произвол судьбы. Огромные скалы нависали над дорогой, накрывая ее почти до середины, и мы с замиранием сердца мчались под этими гранитными стенами. Мы оба вздохнули с облегчением, когда, наконец, выбрались из этой страны чудес и обрели способность смеяться над нашими страхами.
На обратном пути в Осло мы останавливались в целом ряде мест; затем поехали в Швецию, в Стокгольм. Сразу же после приезда мы отправились бродить по побережью, вдоль каналов и фиордов. Я теперь начинала понимать, что означало путешествие с человеком такого масштаба, как Драйзер: у него была насыщенная программа не только на каждый день, но и на каждый час, и он строго придерживался ее. С раннего утра он уже был готов отправиться в путь. «Ты хотела путешествовать – видеть Европу. Так собирайся быстрее и пойдем!» И мы отправлялись осматривать все, что было интересного. Меня, правда, не приходилось особенно уговаривать: я была готова пойти на прогулку в самый ранний час, ибо я страстно стремилась увидеть, узнать и испытать все, что только было возможно.
Мы пришли в восторг от панорамы Стокгольма: скопление парусных лодок, оживленные рыночные площади, старинные средневековые домики, выходящие фасадом к покрытому рябью морю, суда, перед которыми разводили мосты,- все это гармонировало друг с другом и напоминало, как заметил Тедди, картины Рюисдаля.
Один день мы провели у издателя Драйзера – в издательстве «Норстедт и Сонер», а на следующий день издатель Торстен Лаурин повел нас к шведскому скульптору Карлу Миллису, работами которого он восхищался. Мы вернулись в наш отель лишь затем, чтобы снова отправиться в путь,- на этот раз нам хотелось познакомиться с древней историей Швеции.
На Тедди большое впечатление произвело искусство, с каким были воспроизведены старинные шведские дома, амбары, фермы, всевозможные инструменты, костюмы – все, относящееся к самым ранним периодам общественной и экономической истории страны; он был совершенно очарован народной пьесой, поставленной в театре на открытом воздухе и знакомящей с бытом и обычаями того времени на фоне старинной шведской церкви, лапландских хижин и т. п.
Наше непродолжительное пребывание в Стокгольме мы завершили посещением Северного музея, где увидели высеченную Миллисом статую Густава Вазы, основателя Стокгольма. Мы ознакомились со старинными рукописями, документами и подлинными письмами Густава-Адольфа, Наполеона, Фридриха Великого и других знаменитых людей; там же нам показали выгравированный на серебре оригинальный текст – или часть его – четырех евангелий на готском языке, относящийся к V веку нашей эры. Тедди был в восторге.
В Копенгагене (Дания) мы остановились в отеле «Паладс», расположенном на большой площади. В первый же день утром мы увидели тысячи велосипедистов, спешивших на работу; они ехали непрерывным потоком по десять – пятнадцать в ряд. Среди них мелькали красивые лица девушек и юношей; у каждого из них к рулю велосипеда была привешена корзиночка или небольшая коробочка, очевидно, с завтраком. Ни автомобилей, ни карет, только велосипедисты, бесшумно двигающиеся в одном направлении. В городе, расположенном на ровном месте, это велосипедное движение стало основным видом транспорта-и какое это было красивое зрелище!
Мы позавтракали в открытом кафе перед отелем; после завтрака к нам зашли очень милые датчане, с которыми мы познакомились на пароходе; они принесли нам букет цветов и пригласили отправиться с ними в «Глиптотеку» – знаменитый музей изящных искусств, где хранятся скульптуры греческих, римских, египетских и современных мастеров, собранные и подаренные Копенгагену Карлом Якобсеном, основателем музея.
Однажды днем мы навестили знаменитого критика Георга Брандеса, которому в то время было уже 84 года. Он говорил по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски, знал латынь и, вероятно, другие языки. В свое время он был другом Ибсена, Стриндберга, Клемансо, Гергардта Гауптмана и Зудермана. Он был знаком с Шоу, Уэллсом, Анатолем Франсом, Пьером Лоти. Я помню, что он открыто осуждал все усиливающуюся в Европе тенденцию к национализму. Когда он был еще мальчиком, сказал он нам, датчане, норвежцы и шведы представляли собой как бы одну семью; теперь же национализм породил между ними такую рознь, что они вряд ли даже читают книги друг друга. Он не верил, что религия или слишком большой консерватизм приносят пользу, но полагал также, что демократии, как таковой, не существует. Нас рассмешил его рассказ о том, как он впервые услышал о Драйзере и его творчестве. Находясь в 1914 году в Соединенных Штатах, он спросил кого-то: «Неужели в Америке не существует проблемы пола, хотя бы в литературе?» Вместо ответа его отослали к книгам «некоего Теодора Драйзера».
На следующий день вместе с нашими датскими друзьями мы отправились в знаменитый замок Кронберг в Эльсиноре, где некогда бродило привидение из «Гамлета». В замке, окруженном рвом с водой, была церковь и подземная тюрьма, а из окон нижнего этажа и из щелей в погребах росли деревья. Тедди шутливо заметил: «Если бы привидение появилось сегодня, за ним следовала бы целая компания туристов Кука, его фотографировали бы, снимали для кино, его выступления передавали бы по радио и записывали на пленку. Места в первых рядах продавались бы по пятьдесят долларов».
Мы посетили также замок Фредериксборг и были поражены чудесной отделкой его комнат и великолепной архитектурой (эпохи Христиана IV). Тедди сказал, что не видел в своей жизни ничего более великолепного, чем Рыцарский зал в этом замке. В одной из комнат я обнаружила большой портрет и бюст сестры моей бабушки Иоганны Луизы Гейберг, знаменитой датской актрисы (1812-1890 гг.).
Мы побывали в королевском театре в замке Христианборг, где Иоганна исполняла первые роли. Там были выставлены старые программы, старые книги с рисунками ее костюмов, целый ряд ее личных вещей (маленькие сумочки, украшенная жемчугом трость, веера и т. п.).
У меня были и другие родственники в Дании – Аллерупы и Аалборги. Многие из них были офицерами армии и юристами; они могли бы рассказать мне много интересного, но Тедди стремился придерживаться намеченного нами плана путешествия, и мы решили двинуться дальше.
Когда мы впервые вступили на немецкую землю, я почувствовала, что Тедди пришел с состояние душевного равновесия; это особенно сильно проявлялось во время нашего пребывания в маленьких городках. Но после того как мы пожили некоторое время в этой стране и приехали, наконец, в Берлин, его настроение изменилось. Сидя как-то вечером за чашкой кофе в открытом кафе, Драйзер вдруг воскликнул: «Можно ли обвинять целый народ?» Затем, не дождавшись ответа, он продолжал: «Да, я думаю, что некоторым нациям можно ставить в вину их характер. Но вопрос в том, можно ли изменить этот характер? Мне кажется, нации – это продукт земли и света, а можно ли изменить землю и свет? – вот, что хотелось бы мне знать. Я люблю немцев или, по крайней мере, некоторые их качества, но я считаю, что другие их черты могли бы быть значительно улучшены. Пруссаки слишком грубы».
В Потсдаме мы видели новый императорский дворец, но нам не захотелось войти внутрь. Я убеждена, что нам помешали это сделать воинственного вида статуи при входе. Тедди сказал, что все их следует снять. «Художественные зверства»,- назвал он их.
Затем мы поехали в Чехословакию, в Прагу, где Тедди провел три дня с президентом Масариком. Затем Вена, Зальцбург, Париж и, наконец, Лондон. Отто Киллман из издательства «Констейбл энд компани», выпускавшего в Лондоне книги Драйзера, настоял на том, чтобы мы остановились в старинном отеле «Гарланд», где жили когда-то Уистлер и многие другие известные художники и писатели. Я очень жалела, что в тот день, когда Драйзер завтракал с Бернардом Шоу, из-за болезни не смогла сопровождать его, но Тедди, вернувшись в отель, подробно рассказал мне об этой встрече. Во время беседы Тедди в довольно шутливом тоне заговорил о вегетарианстве Шоу. Желая продемонстрировать эффективность своей диетической системы, Шоу вскочил из-за стола и, поставив два стула на некотором расстоянии друг от друга, подтянулся между ними на руках, держа ноги горизонтально над полом. Драйзер должен был признать, что это – большое достижение для человека в возрасте Шоу, но отнюдь не был уверен, что этому способствовала лишь вегетарианская диета.
Всюду, где бы ни бывали, мы знакомились с известными писателями, художниками, скульпторами, государственными деятелями и издателями. Но к октябрю мы стали уже немного уставать от нашего путешествия. Мы объездили восемь стран и вобрали в себя такое количество впечатлений, которое едва могли вместить. 15 октября 1926 года мы с радостью отплыли на пароходе «Колумб» из Саутгемптона в Нью-Йорк – домой.
Глава 15
Вот показался и нью-йоркский порт-мы напряженно вглядывались в горизонт. Тедди стоял, облокотившись на перила палубы, и во всем его лице, в улыбке появилась какая-то жадность, словно он старался запечатлеть в своем сердце всю эту картину, разглядывая «свой город», как он всегда называл Нью-Йорк.
Мы вернулись в наши комнаты в отеле «Пасадина», а для работы Драйзер снял помещение в «Мэнифекчеринг траст билдинг» на Колумбус-сэркл. Скоро, однако, стало ясно, что ввиду наших возросших общественных и литературных связей нам абсолютно необходимо найти более подходящее место для жилья. Я сейчас же вспомнила о двухэтажной квартире в Родин-Стюдиоз, в Западном районе, на 57-й Западной улице, 200. Я несколько раз бывала в этих домах в гостях и на вечерах у знакомых и всегда уходила с затаенным желанием иметь такую же квартиру.
В этот раз, когда я туда зашла, мне показали квартиру 13 на тринадцатом и четырнадцатом этажах. Просторный вестибюль вел в главную мастерскую, которая представляла собой большую комнату с очень высоким окном, выходившим на север, на 57-ю улицу. Потолок ее был вровень с потолком следующего этажа. На нижнем этаже, позади мастерской, помещалась комфортабельная столовая с раздвижными стеклянными дверями и прилегавшей к ней кухней. Длинный узкий коридор вел в ванную и в комнату для прислуги. Лестница, поднимающаяся на верхний этаж, приводила к другому вестибюлю с отдельным выходом к лифту. Затем были две большие спальни с ванной комнатой посередине. Все устройство квартиры показалось мне идеальным, но что совершенно покорило мое сердце, так это книжные шкафы, доходившие до самого потолка, со стеклянными дверцами, которые можно было запирать. Я представляла себе, что это будет значить для Драйзера. Да, это было место, где мы могли с полным комфортом вести нашу значительно усложнившуюся жизнь.
Но когда я пришла домой и рассказала Драйзеру о квартире, он не захотел даже думать о ней.
– Слишком дорого,- сказал он.
Ливрайт и другие все это время уговаривали его переехать в более приличное место, где он мог бы спокойно жить и работать, и хотя он соглашался с ними, но все же не решался сделать сразу такой прыжок. Однако он выразил желание посмотреть квартиру. Когда он вошел в кабинет и увидел книжные шкафы, я почувствовала, что сердце его растаяло.
– Да,- сказал он,- книжные шкафы замечательные, и я за всю свою жизнь никогда не имел достаточного места для своих книг. Но все же я никогда не сниму эту квартиру. Плата слишком высока.
Таким образом, вопрос отпал, но только на время, потому что несколько дней спустя начались переговоры о заключении им одного договора, который обещал быть весьма выгодным в финансовом отношении. Заметив, что я не проявляю никакого энтузиазма по поводу этой новой удачи, Драйзер с удивлением спросил меня, чем это объясняется. Я сказала ему откровенно о своей уверенности в том, что он все равно не употребит даже небольшой части этих денег на что-либо интересное. Но тут же мне пришло в голову задать ему такой вопрос:
– Если сделка будет заключена, ты, может быть, снимешь квартиру в Родин-Стюдиоз?
Он заколебался, высказывая свои обычные сомнения в успехе предстоящих переговоров, но в конце концов согласился, и я, беззаветно веря в его восходящую звезду, воскликнула:
– Замечательно! Тогда квартиру можно считать нашей! Он сейчас же пошел на попятный:
– Да, но только в том случае, если сделка удастся, и при условии, что ты уговоришь их снизить плату на пятьсот долларов в год.
– Я попытаюсь,- сказала я.
После этого, твердо веря в то, что квартире 13 в Родин-Стюдиоз суждено стать будущим жилищем Теодора Драйзера, я заехала к управляющему домами и добилась некоторого снижения платы. Сделка была удачно завершена Драйзером, и арендный договор был подписан 1 декабря 1926 года; я сразу же пригласила декораторов. Последовавшие за этим недели были сплошным сумасшествием, подлинной оргией планирования, выбора рисунков и узоров, всевозможных разговоров с декораторами, художниками, электромонтерами, мебельщиками и транспортными конторами. Наконец, хаос уступил место порядку, исчезли упаковочные корзины и ящики, и дом, рисовавшийся в моих мечтах, принял реальные формы; в феврале од был готов для въезда.
Глава 16
Летом 1927 года мы приобрели чудесный холмистый, заросший лесом участок земли в Уэстчестерском округе, по соседству с одним из озер Кротон, близ Маунт-Киеко. Над озером, на вершине холма, стояла маленькая деревянная хижина, много лет служившая охотничьим домиком. Мы перестроили ее и превратили в красивый бревенчатый дом с несколькими верандами. Три-четыре подземных источника, из которых мы брали воду, были превращены в бассейн для плавания размером в пятьдесят футов на сто. Он был обложен камнем; к нему спускались четыре ступеньки. Вокруг бассейна росли огромные ореховые деревья, под которыми в жаркие дни всегда была тень и прохлада. Вдоль дороги по границе участка Тедди выстроил каменный забор в 850 футов длиною; по эскизу Уортона Эшерика были сделаны две калитки, на которых была надпись «Ироки», что по-японски значит: «Душа красок». Это был прелестный, живописный уголок, целый ряд лет доставлявший нам много радости; мы провели немало счастливых часов, стараясь сделать его естественную красоту еше ярче.
Тем же летом мы узнали, что «Американская трагедия» запрещена в Бостоне, и Тедди должен был поехать туда, чтобы присутствовать на суде. Проходя по вагонам, он, к своему удивлению, встретил Кларенса Дэрроу.
– Кого я вижу! Куда это вы направляетесь? – спросил Драйзер.
– В Бостон, на суд над вашей книгой,- ответил тот.- Как вам известно, я считаю, что вы написали великолепный роман, и я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы защитить его.
Драйзер был очень доволен этой встречей. По дороге они много разговаривали; у них были общие философские воззрения, и оба считали, что в сущности никто из обвиняемых не виновен, если учесть окружающую их обстановку. Дэрроу сказал Драйзеру, что на основе материала «Американской трагедии» невозможно было бы установить вину Клайда.
– Преступление,- сказал он,- обусловлено причинами, которые не всегда можно выявить, установить и легко понять; чтобы не было преступлений, надо уничтожить их причину. Поинтересуйтесь историей любого заключенного, сидящего в тюрьме, и вы увидите, что у него не было иного пути, чем тот, который привел его в тюрьму.
В октябре 1927 года Драйзер получил приглашение приехать в Россию, чтобы он своими глазами мог увидеть достижения Советской республики за десять лет ее существования.
Когда я поняла, что Драйзер склоняется к мысли о поездке в Россию, мне тоже очень захотелось поехать с ним. Но он объяснил мне, что, для того чтобы иметь возможность свободно разъезжать повсюду, в любых условиях, ему нужно ехать непременно одному. Кроме того, наше строительство в Маунт-Киско было в самом разгаре, и кто-то должен был наблюдать за ним.
– Ну, хорошо,- сказала я, не вполне убежденная его доводами,- тогда я, по крайней мере, встречу тебя на обратном пути в Париже или в Лондоне, а ты привезешь мне пару красных русских сапожек.
– Боже мой! – воскликнул он.- Я должен ехать за шесть или семь тысяч миль, для того чтобы привезти красные русские сапожки! Вот зачем там устроили революцию,- чтоб я мог поехать туда и купить красные сапожки! Ну ладно, если они там есть, так или иначе я их достану.
Вскоре из России пришли телеграммы, подтверждающие приглашение, переданное Драйзеру, и гарантирующие выполнение всех связанных с поездкой обязательств, взятых на себя Международной помощью рабочих. Была получена каблограмма от Максима Литвинова, заместителя народного комиссара иностранных дел, в которой говорилось, что Драйзер будет гостем советского правительства.
В ресторане Шварца в Гринвич-Вилледж был устроен прощальный обед, на котором присутствовало большое общество. Гости произносили напутственные речи. Драйзер ответил им, хотя в то время для него не было ничего труднее, чем выступить с публичной речью,- он просто физически страдал от этого, и в тот вечер, видя, как он нервничает, я страдала вместе с ним. Только после того как он вернулся из России и почувствовал настоятельную необходимость рассказать обо всем, что он видел, Драйзер преодолел в себе эту робость и, в конце концов, стал превосходным оратором.
После обеда мы все отправились на пароход; красивая каюта Драйзера оказалась заваленной цветами и подарками.
На пароходе нас окружила толпа репортеров, и в два ряда выстроились фотографы. Начались нескончаемые шутки, смех и суета, пока в одиннадцать часов не прозвенел звонок, возвещавший, что всем провожающим пора сходить на берег. Тедди, наконец, остался один, а мы сошли на мол и долго еще махали вслед отчалившему пароходу.
Первую весточку от Драйзера я получила из Берлина; это была каблограмма, в которой говорилось, что он не только скучает по дому, но еще и заболел и не уверен, сможет ли продолжать путешествие. В Берлине у него начался один из его обычных приступов бронхита. Два врача, которым он показался, сделав рентгеновский снимок дыхательных путей, стали категорически возражать против поездки в Россию, особенно в зимнее время. Они настаивали, чтобы он полечился в санатории.
– Господа,- сказал Драйзер,- это очень заманчиво, но слишком уж неожиданно. Прежде всего, позвольте вам сказать, что я ни в какой санаторий не поеду, а поеду в Россию. Возможно, здоровье мое и плохо, но, знаете, я смерти не боюсь.
– Ну, кто же говорит о смерти! Вы нас не поняли. Ваша болезнь не так уж серьезна. Но, тем не менее, вы очень больны. Ваше здоровье внушает опасения. Может быть, вам угодно, чтобы мы вас направили к другому врачу?
– Нет,- ответил Драйзер. – Я не пойду ни к какому врачу, кроме того, которого сам выберу.
Они принесли ему рентгеновский снимок, чтобы он сам мог судить о своей болезни.
– Сам я не могу судить,- возразил Драйзер.- Я ничего не понимаю в этих снимках. Вот что я сделаю. Если каждый из вас напишет мне письмо с объяснением моей болезни, я пошлю эти письма вместе со снимком другому врачу, и, если он с вами согласится, я вам дам знать об этом. Если же нет, то будем считать этот инцидент исчерпанным.
На этом и порешили, и врачи тут же продиктовали соответствующие письма.
С помощью Синклера Льюиса Драйзер разыскал другого врача. Прочтя письма и посмотрев снимок, тот сразу стал очень серьезен. Тщательно исследовав Тедди у себя в кабинете, а потом в госпитале Августы-Марии, он тоже предупредил его, что русская зима представляет для него опасность, и пытался уговорить его вернуться в Нью-Йорк. Тедди не стал с ним спорить, но сам тем временем готовился к поездке в Россию. Перед отъездом, однакё, он успел посетить Фрэнка Харриса, Гергарта Гауптмана и еще нескольких человек.
2 ноября Тедди выехал в Москву. Перед отъездом он получил много цветов и приветственных телеграмм, на вокзале собралась целая толпа провожающих. Наконец, как он мне писал, он остался один в купе на пути в Россию, где ему предстояло самому разобраться в справедливости противоречивых мнений об этой стране, в диаметрально противоположных взглядах, которые высказывались в печати по поводу всего, что происходило в стране, занимающей одну шестую земного шара.
Трудность такой поездки в зимнее время, усугублявшаяся неудобствами передвижения, которые Тедди впоследствии описал в своей книге, заставила меня немало поволноваться за время его отсутствия. Поскольку дело касалось устранения его физических неудобств и предотвращения реальной опасности, я была бессильна, но я могла оказать ему моральную поддержку, и все свои мысли сосредоточила на том, чтобы облегчить его душевное состояние.
Из опыта прежних путешествий с Тедди я знала, как тщательно он исследует поле своих наблюдений; это подтверждают его записи, сделанные только для себя во время поездки. Он ездил по России, стараясь уяснить себе социальное значение каждого мероприятия с русской точки зрения, противопоставляя ее собственным взглядам на правительство, экономику, индивидуальную и коллективную психологию и на проблему индивидуализма, которую он никогда не упускал из виду.
После того как Драйзер вернулся из России, когда впечатления и мысли, вызванные тем, что он там видел и с чем сталкивался, окончательно выкристаллизовались, он сумел найти много такого, что, по его мнению, было правильным и плодотворным в грандиозном социальном эксперименте, совершающемся в России. Но со многим, что там происходит, он никак не мог согласиться и часто высказывал свое неодобрение в беседах с руководителями учреждений и официальными лицами, которых он встречал во время разъездов по России. Это была обычная манера Драйзера вызывать людей на разговор. Хотя он понимал, какую роль сыграл капитал в росте и развитии Соединенных Штатов, он горячо и решительно восставал против капитализма и того зла, которое он с собой несет,- против эксплуатации, осуществляемой его представителями. С ранней юности он близко наблюдал и изучал капитализм и много писал по этому вопросу. Родившись в бедной семье, он знал, что такое нужда; не имея ни средств, ни какой бы то ни было поддержки, он прошел трудный путь, испытал бесчисленные лишения и выдержал отчаянную жизненную борьбу, став сначала репортером, потом журналистом и редактором и, наконец, писателем. Он знал Соединенные Штаты, смею это утверждать, как никто другой, и любил свою родную страну всем сердцем.
Тем не менее, он был убежден в необходимости социальных, денежных, политических, экономических преобразований и реформ в области просвещения. Он не только страстно желал осуществления этих преобразований, но и делал для этого все, что мог. Он никогда не отказывался принять в той или иной форме участие в любом движении, ставившем своей целью достижение лучшего социального устройства. И попав в Россию, он так же жадно искал там то, что ему казалось прогрессивным, как и у себя на родине.
Прожив некоторое время в Москве и Ленинграде, где он встречался и беседовал с другими гостями из Америки, Драйзер отправился на юг- на Украину, в Донецкий бассейн, на Черноморское побережье и Кавказ. Драйзер побывал в Нижнем Новгороде, Киеве, Сталино, Ростове, Харькове, Кисловодске, Баку, Тбилиси, в Дагестане, Ташкенте, Самарканде, Батуме, Новороссийске, Феодосии, Ялте, Севастополе, Симферополе, Одессе и в маленьких городках, встречавшихся по пути.
Драйзер одобрял отделение религии от государства. Он не мог сказать ничего, кроме самого хорошего, о новых школах, больницах, библиотеках, рабочих клубах, санаториях, детских садах, ремесленных и художественных школах для народа, которые он встречал повсюду, и о предоставленной «русским интеллектуальным силам возможности свободно развиваться».
Глава 17
Я получила от Тедди каблограмму, в которой говорилось, что он возвращается морем через Одессу и хотел бы встретиться со мной в Константинополе, и 30 декабря на пароходе «Мавритания» выехала в Европу. Я телеграфировала ему, что остановлюсь в Париже, в отеле «Регина», но, к своему разочарованию, приехав туда, не нашла от него ни слова.
На следующий день я выехала поездом в Константинополь, так и не получив ни строчки от Тедди. В Константинополе я нашла каблограмму, в которой говорилось, что Тедди в течение двух недель не сможет проехать Черным морем и потому выезжает из России через польскую границу, что я должна вернуться в Париж и ждать его в отеле «Терминус».
В Париже я не застала Тедди в отеле «Терминус» и сняла номер только для себя. Он приехал на следующий день; я шла по коридору отеля и вдруг увидела Тедди, идущего мне навстречу. На меня нахлынула такая радость и такое волнение, что я забыла обо всем на свете, кроме того, что он, наконец, здесь, со мной. Но вскоре я заметила, что он выглядит усталым и измученным. Поездка оказалась для него тяжелой: в дороге он два или три раза болел. Теперь ему хотелось отдохнуть.
Мы провели в Париже несколько дней. Однажды вечером мы пошли посмотреть забавный спектакль «Шантеклер», но Тедди не мог досидеть до конца. Он был еще целиком под впечатлением того, что видел в России.
Французское легкомыслие его раздражало и даже злило. Он предложил мне съездить на несколько дней на Ривьеру погреться на солнце, которое было ему так необходимо; мы отправились в Ментону и остановились в отеле «Кап Мартин».
Он много рассказывал мне о том, какие лишения и нужду терпят русские, но как они вместе с тем мужественны, преисполнены надежд и истинного воодушевления, ибо сейчас, как сказал Драйзер, они переживают свое второе рождение. Путешествуя по стране, он повсюду сталкивался с этим воодушевлением, он чувствовал его на каждом шагу и радовался этому, так как искренне полюбил русский народ. И одновременно с этим чувством в нем зародилось глубокое желание дальнейшего роста, успехов и счастья этому народу.
Из Ментоны мы поехали в Монте-Карло, Ниццу и Канны; там мы совершали много незабываемых прогулок по берегу моря.
Затем, 27 января, мы уехали в Лондон и остановились в отеле «Мэйфэр». Спокойный и строгий Лондон представлял собой менее разительный контраст России, чем легкомысленный Париж, и Тедди чувствовал себя там гораздо лучше. К нему приходила масса народу. Он посетил Рамсея Макдональда и Уинстона Черчилля, с которым спорил о социальном и военном значении России; по словам Драйзера, Черчилль преуменьшал его. Он заявил, что Драйзер совершенно неправ и что он, Черчилль, уверен, что Советская Россия просуществует еще лет семь, и на этом все кончится. Драйзер утверждал, что Россия является мощной военной державой и ее социальная программа будет успешно выполнена. Он критиковал положение заводских рабочих в Англии и рассказал о своем посещении фабричного района и о разговорах с рабочими. Черчилль сказал, что Англия собирается употребить половину государственных доходов на улучшение условий труда.
– Возможно, вы и собираетесь, но никогда не сделаете этого,- ответил Драйзер.
Из рассказа Драйзера об этом визите я заключила, что Черчилль остался не особенно доволен своим гостем. Зато Драйзер был чрезвычайно доволен, когда несколько позднее Черчилль, наконец, заявил, что Россия является «наиболее передовой военной державой в мире» *.
Отто Киллман, сотрудник издательства «Констейбл энд компани», устроил нам поездку в Бат через поэтические сельские местности Англии. Мы остановились в тамошнем отеле «Палтни», в котором были картины Ватто, Тициана и Вела-скеса. Вместе с мистером Киллманом и его женой мы осматривали Уэллский собор.
Следующей нашей поездкой была экскурсия в Гластонбери, где под сенью гигантских арок, поднимавшихся прямо из сочной зеленой травы, каждый из мае воссоздавал в своем воображении древний собор. Здесь не было ни плит, ни эпитафий, ни молитвенников, только священная земля, на которой высились развалины старинной церкви, свидетельствующие об ушедшей жизни и прошлых временах.
Мы заехали выпить чаю в знаменитую гостиницу «Джордж инн». Там, сидя перед очагом, в котором весело потрескивали дрова, мы пили превосходный английский чай с пшеничными лепешками и слушали рассказ мистера Киллмана о том, как однажды ему явился в видении святой Грааль. Полунемец, полуангличанин, он с одинаковой симпатией относился и к прошлым поколениям, и к современному, усвоившему быстрый темп жизни поколению англичан.
Вернувшись в Лондон, мы побывали в Кембридже и навестили Джорджа Мура, которому в то время было уже далеко за восемьдесят. Он нас совершенно очаровал. На следующий день ему предстояла серьезная операция, но он был настроен очень весело и после оживленной беседы подарил нам свой перевод «Дафниса и Хлои» Лонга.
11 февраля 1928 года мы отплыли из Саутгемптона на пароходе «Гамбург». По пути в Америку Тедди работал над черновиками статей о России, впоследствии вошедших в его книгу. Несколько статей были уже совсем готовы. Переписывая их, я стала гораздо яснее понимать то, за что Тедди боролся всю свою жизнь,- необходимость установления равенства между всеми людьми на свете. Тедди чувствовал, что эксперимент, осуществляемый в России, является первым практическим шагом к этой цели.
Глава 18
По возвращении домой мы вскоре возобновили наши неофициальные приемы по вторникам, которые начали устраивать незадолго до отъезда за границу. На этих вечерах всегда бывал интересный народ: представители науки и искусства встречались у нас не только со своими собратьями, но и с людьми совершенно противоположных профессий. Нас посещали писатели всех стран, выдающиеся ученые, композиторы, оперные певцы из театра «Метрополитен», артисты балета, режиссеры, актеры и актрисы, поэты, индусские йоги, художественные и литературные критики, фельетонисты, исследователи, педагоги, издатели, иногда – политические деятели и всякие поклонники знаменитых и полузнаменитых людей.
В огромной мастерской со стенами, покрытыми деревянными панелями, и мягким боковым освещением была чрезвычайно подходящая обстановка для таких собраний. Выходящее на север окно освещалось голубоватыми огнями соседней электрической вывески, удивительно напоминавшими лунный свет. В белом готическом камине потрескивали дрова, создавая приятную домашнюю атмосферу, в которой гости чувствовали себя очень уютно. Каждый, входя в эту комнату, сразу ощущал, что здесь обитает живая человеческая мысль. Часто, оглядывая оживленную толпу гостей, я думала о тех временах, когда Драйзер одиноко сидел в своей комнате; его массивная фигура склонялась над квадратным письменным столом, переделанным из рояля; он работал над своими произведениями, а за окном высились строящиеся громады нью-йоркских небоскребов.
Иногда мы устраивали званые вечера. Однажды мы пригласили двести человек смотреть символические танцы, исполняемые группой туземцев из Нигерии. Они приехали в Америку всего несколько месяцев назад; Каролина Дадли, всегда интересовавшаяся всем необычным и первобытным, взяла на себя нелегкую задачу- собрать их, установить порядок исполнения танцев и внушить им элементарные правила этикета, то есть научить прилично себя вести в мастерской и вне ее.
Ознакомившись с гротескными, но чрезвычайно художественными танцами туземцев, мисс Дадли задумала составить африканскую программу, которая должна была поразить и восхитить зрителей своей необычностью и смелостью. Чтобы предоставить танцорам достаточно места, часть мастерской была отделена канатом. Когда туземцы спускались по лестнице, ведущей в мастерскую из соседней комнаты, они представляли собой поразительное зрелище: некоторые из них были совершенно обнажены, если не считать бус и набедренников из перьев; другие были одеты в фантастические костюмы самых невероятных цветов; один нарядился в длинную, широкую, развевающуюся тунику, а на волосах его красовалась голова аллигатора. Несколько туземцев, усевшись в ряд на корточках, стали бить в примитивные, обтянутые кожей барабаны, остальные закружились и завертелись в стремительном танце, напоминающем пляску дервишей. В их чересчур усердных, страстных движениях чувствовался символический смысл, и это придавало танцам особое очарование, которое трудно описать. Они исполнили эксцентричный танец с мечами; быстро и ловко размахивая ими в воздухе под оглушительную ритмическую дробь барабанов, они то и дело ударяли мечами о пол. Этот танец произвел огромное впечатление на восхищенных гостей. Даже Отто Кан, присутствовавший на вечере, был изумлен и потрясен смелостью и оригинальностью затеи Драйзера.
Мы часто бывали на вечерах, которые устраивал в своем издательстве Хорас Ливрайт. Все помещение издательства предоставлялось в распоряжение гостей. Тут были писатели, художники, фельетонисты, карикатуристы, актеры и самые разнообразные люди. На этих вечерах всегда бывало весело и интересно
В этот период Драйзер отдавал много времени и энергии задуманному им плану-ему хотелось добиться приглашения на гастроли в Америку балета Московского Большого театра. Спектакли балетной труппы в Москве произвели на него такое впечатление, что он решил сделать все от него зависящее для ее приезда в Америку. Московский представитель Ассошиэйтед Пресс посоветовал Драйзеру заинтересовать этим проектом Отто Кана, что тот и сделал, предварительно заручившись согласием советского правительства на гастроли балета в Америке.
Но, несмотря на свои связи и влияние в артистических кругах, Драйзер не был антрепренером. Вскоре он обнаружил, что осуществление этого смелого плана отнимает у него слишком много времени и энергии; с девяти часов утра до двенадцати ночи у него происходили встречи с людьми, которых он старался заинтересовать этим предприятием, и вдобавок он убедился, что, для того чтобы уладить ряд мелочей чисто делового характера, необходимо создать специальную организацию. Фрэнк Кроуниншилд уговаривал его передать это дело какой-нибудь организации, вроде Оперной ассоциации.
– Боюсь, Драйзер,- сказал он однажды,- что вы не отдаете себе отчета, за что беретесь. Дело в том, что вы писатель, а не делец и не прожектер.
Однако Драйзер продолжал изыскивать средства и пытался всюду заручиться поддержкой. Он и не заметил, как наступило лето и начался обычный массовый отъезд манхэттенцев из города. Поняв, что большинства людей, которых можно было бы заинтересовать этим предприятием, теперь уже не найти, и чувствуя, что энергия его иссякает, Драйзер с большой неохотой решил, наконец, отказаться от своей затеи и вернул все пожертвования тем, кто согласился поддержать его.
В такие беспокойные времена наша деревенская усадьба, где все еще шли переделки, казалась мирной гаванью. Там можно было соприкасаться с исцеляющей душу природой, бродить по густым лесам, окружавшим озеро, сажать цветы, доставать воду из колодца и купаться в свежей родниковой воде. Войдя в ворота нашей усадьбы «Ироки», мы сразу же подпали под ее очарование, а через четыре-пять недель совершенно воспрянули духом.
Драйзер стал все больше и больше интересоваться научными исследованиями и открытиями. Это не было новым увлечением, так как Драйзер и раньше поддерживал связь с учеными. Его справочная библиотека состояла из самых разнообразных научных книг, причем большинство из них было с надписями от авторов. Поэтому, когда Гидробиологическая лаборатория, находившаяся в Вудс-Холе, штат Массачусетс, пригласила его присутствовать на летней сессии, во время которой ученые всех стран должны были проводить научные опыты, он с радостью принял приглашение.
Мы выехали из своей усадьбы 2 июля 1928 года и, проделав на машине двести пятьдесят миль, с удовольствием убедились, что нам приготовлено уютное помещение в очаровательном поселке среди леса, на берегу моря. Никогда еще я не видела, чтобы Драйзер был так увлечен и с таким жадным интересом относился ко всему происходящему. С другой стороны, работники лаборатории в один голос утверждали, что все ученые были чрезвычайно довольны присутствием Драйзера при их опытах. Они говорили, что он возбуждает их творческое воображение так, как это не может сделать ни один профессиональный ученый, ибо Драйзер не руководствуется общепринятыми научными законами. В конце концов, многие опыты стали нарочно назначать в такое время, чтобы Драйзер мог присутствовать на них; а потом в лаборатории и вне ее шли интереснейшие дискуссии.
Я помню одну такую дискуссию, длившуюся три часа во время прогулки по берегу моря. Доктор Калвин Бриджес, профессор генетики, старался объяснить Драйзеру, который по поводу всех тайн жизни неизменно спрашивал, «почему», что наука не ставит перед собой вполне законного вопроса – «почему». Только – «как». Он сказал, что знание устремляется в одном направлении, проходит мимо всех уже известных пунктов, движется дальше от одной видимой цели к другой – как корабль, плывущий всегда на запад и возвращающийся к исходному пункту,-без начала и без конца. Драйзер расспрашивал его о генетике и заинтересовался, почему они используют для своих наблюдений именно фруктовую тлю. Доктор Бриджес объяснил, что она очень быстро размножается и дает им возможность за короткий период времени наблюдать гены и хромосомы многих поколений. В ответ на дальнейшие расспросы Драйзера, касающиеся изменений наследственных признаков за определенный период, он сказал, что на протяжении многих поколений существуют постепенные отклонения от характерных признаков, но иногда происходит случайная мутация, резкое отклонение в сторону, и такой представитель вида совершенно отличается от своих родителей.
В другой раз один из ученых высказал мнение, что если жизнь абсолютно механистична, то, по крайней мере, отрадно сознавать, что вся ее субстанция заключается в человеке, а не зарождается извне; что в процессе химических изменений, постоянно происходящих в природе, человек превращается в нечто совершенно иное.
В качестве отдыха иногда устраивались пикник на берегу моря; обычно ими руководил доктор Бриджес, оказавшийся талантливым организатором этих интересных, полных художественной выдумки пикников, во время которых аппетитная еда готовилась на живописных кострах. С наступлением темноты пели у костров песни и рассказывали интересные истории под аккомпанемент волн, плещущих о песчаный берег.
Однажды мы с несколькими учеными и их женами отправились на принадлежащей лаборатории моторной лодке из Пензенс-Пойнта на острова Элизабет. Когда по морю протянулась дорожка лунного света, мы уселись у костра, слушая доктора Сена, молодого индийского ученого, который нараспев, очень музыкально и ритмично декламировал из Веды. Классические черты его лица и черные волнистые волосы, освещенные пламенем костра, представляли собой яркое зрелище.
Вдруг доктор Хейлбрюнн указал на надвигающийся туман и заявил, что надо возвращаться как можно скорее. Мы торопливо собрали вещи, быстро уселись в лодку, но не успели мы достигнуть берега, как нас окутал плотный туман. Мы долго и безуспешно пытались войти в гавань и, наконец, добрались до Пензенс-Пойнта. Там мы сели в машины и заторопились в Вудс-Хол, но та машина, где находились доктор Хейлбрюнн, его супруга, я и Тедди, проехав несколько миль, вдруг остановилась, и никакими силами нам не удавалось завести ее. Так как было уже очень поздно, а поблизости не виднелось никакого жилья, мы решили идти пешком. Мы прошли около мили, как вдруг хлынул ливень, и до самого Вудс-Хола мы шли по щиколотку в воде. Может быть, только потому, что всю дорогу мы шутили и смеялись, никто из нас не простудился.
Перед отъездом из Вудс-Хола мы устроили для наших друзей-ученых чай в Тауэр-отеле, в Фалмут-Хейтсе. Нам хотелось выразить им благодарность за время, проведенное в их обществе, за то, что они дали нам так много нового и интересного. Все должны были разъехаться в разных направлениях: одни жили совсем недалеко, другие – на противоположной стороне земного шара. Но этим летом мы все перезнакомились, обменивались мыслями и впечатлениями и пережили несколько таких моментов, которые не забудутся никогда в жизни.
Глава 19
В канун нового 1929 года мы с несколькими друзьями ужинали в знаменитом старинном типично немецком ресторане на 14-й улице. Драйзер с удовольствием бывал в этом ресторане, где он обычно встречался с кем-нибудь из своих старых знакомых.
Позже мы поехали на костюмированный бал, устроенный редакцией «Ныо Мзссиз». На это необычное празднество съехалось много интересных людей самых различных профессий и направлений – художники, писатели, поэты, журналисты, политические деятели, социалисты, радикалы, педагоги, музыканты, драматурги и другие люди, так или иначе связанные с Гринвич-Вилледж. Я никогда не бывала на таких балах, и мое любопытство, естественно, было возбуждено. В течение вечера многие гости подходили к нам (мы сидели в одной из лож, расположенных между ярусами танцевального зала), чтобы перекинуться несколькими словами с Драйзером, и в перерывах между танцами, длившимися до утра, завязывалось немало интересных разговоров. Мы не надели специальных маскарадных костюмов, но на мне было платье из мягкой белой шерстяной домотканной материи, сшитое наподобие русского казакина. Платье было прелестно вышито традиционным русским узором – вышивка была спереди сверху донизу, на рукавах и стоячем воротнике. Ослепительно-белый головной убор в русском стиле завершал ансамбль. Мне нравился этот наряд больше всех моих прежних платьев.
Танцуя, я обратила внимание на очень высокого и красивого молодого человека, возвышавшегося, как жираф, над большой группой людей, наблюдавших за танцующими. Когда музыка смолкла, он подошел и пригласил меня на следующий танец. Он оказался изящным, веселым и остроумным человеком.
Когда я повела его в нашу ложу, где был Драйзер и остальные, он отрекомендовался как его преподобие Маккарл Нилсен, священник унитарной церкви.
Драйзер спросил:
– Так вы проповедник? И что же вы проповедуете в наши дни?
Нилсен, застигнутый врасплох, пробормотал что-то о необходимости любить своих врагов. Драйзер, усмехнувшись, ответил:
– Ну, это как раз легче всего. Гораздо труднее ужиться с друзьями.
В первые месяцы 1929 года мы попали в нескончаемый водоворот нью-йоркского зимнего сезона. Драма, опера, концерты, лекции и художественные выставки, а также различные домашние вечера следовали друг за другом.
Около года назад Вейман Адамс нарисовал портрет Драйзера, который он закончил в два сеанса. Первый сеанс длился целый день, а к концу следующего дня портрет был готов. До сих пор я дорожу этим портретом как самым ценным сокровищем.
В разгар сезона Вилл Дюрант дал обед в честь Джона Коупера Поуиса в «Романи Мари» на Вашингтон-сквер.
На обеде выступали Вилл Дюрант, Драйзер, Поуис и многие другие. Тедди в этот вечер произнес речь с большим подъемом, так как он не только восхищался Поуисом, но и любил его. Пока он говорил, я наблюдала за внимательно слушавшим Джоном; на лице его, беспрестанно менявшем свое выражение, было написано глубокое волнение. Наконец наступила очередь Джона.
«Когда поднялся Драйзер, казалось, что это монолит Стоунхенджа обращается к нам с речью. Вот он, этот монолит!» – произнес он с низким поклоном в сторону Драйзера, весь как бы падая ниц перед ним, что придало особую выразительность его словам.
. Мне часто приходило в голову, что Тедди подобен незыблемой скале. Ничто не могло поколебать его по-настоящему. Он высился словно сфинкс, и человеческие эмоции разбивались о него, как волны о скалистый берег. Это был, однако, добрый, благожелательный и все понимающий сфинкс, но как бы слепленный из противоположных элементов: доброты и жестокости, теплоты и холодности, вежливости и грубости, щедрости и бережливости, стремления к созиданию и стремления к разрушению, наивности и хитрости, целомудрия и развращенности. Я начинала понимать, что гений подобен солнцу. Оно может согревать человека, питать его, поддерживать и придавать ему силы или, наоборот, причинять ему страшные ожоги и даже убить его, ибо оно не сознает, как действует на людей. Оно просто существует.
Ноябрь 1929 года был трагическим месяцем. Внезапно, без всякого предупреждения, на бирже произошел крах, повлекший за собой самоубийства и хаос. Казалось, будто мчавшийся на всех парах экспресс был внезапно и резко остановлен силой всех тормозов. Люди пришли в смятение, впали в истерику. Некоторые из наших друзей, ходившие по самому краю пропасти, были начисто разорены. Даже Драйзер серьезно пострадал, ибо он тоже поддался уговорам хитрого спекулянта-биржевика, убедившего его вложить деньги в какие-то акции и облигации, цены на которые «должны были наверняка подняться до небывалой высоты». Вместо этого многие из них совершенно обесценились. К счастью для нас, у Драйзера на руках никогда не бывало подолгу много денег и он не мог вложить их все; к тому же он был настолько благоразумен, что купил загородный участок в 35 акров.
Было ясно, что всю страну ожидало резкое падшие уровня жизни; и все же, хотя каждый ощущал эту неизбежную перемену, мало кто представлял себе всю глубину падения, какое предстояло испытать стране в последующие годы.
Глава 20
Когда в январе 1930 года в Америку приехал граф Михаэль Карольи, бывший премьер-министр Венгрии, некогда считавшийся единственной надеждой демократических сил этой страны, мы устроили в честь него прием.
Во время пребывания его в США у нас было с ним несколько интересных бесед; он рассказывал нам занимательнейшие истории из своей жизни в Венгрии.
Вскоре после вечера, посвященного Карольи, Драйзеру захотелось проехаться по Соединенным Штатам с востока на запад и посмотреть, как реагирует страна на перемену в ее экономическом положении. 20 марта он выехал из Нью-Йорка в Таксон (штат Аризона) через Сент-Луис (штат Миссури). Я собиралась присоединиться к нему несколько позже в Галвестоне (Техас), откуда мы должны были отправиться в продолжительное путешествие на автомобиле. За время отсутствия Драйзера я сдала наш загородный дом в аренду, и 3 мая моя машина была уже погружена в трюм парохода, принадлежащего компании «Маллори лайн».
Когда корабль вошел в порт Галвестона, я различила в отдалении знакомую фигуру Драйзера – синее пальто норфолкского сукна, белые брюки, панама и трость. Он заметил меня на верхней палубе, и едва машина была снята с парохода, как мы уже были на пути в Хьюстон.
Тедди рассказал о своем пребывании в Аризоне. Он взял напрокат машину у одного доктора, пытаясь научиться управлять ею, чтобы иметь возможность спать в пустыне на свежем воздухе для поправки своего здоровья (которое за это время заметно улучшилось). С ним, однако, произошел несчастный случай: пытаясь избежать удара о другую машину, непрерывно вихлявшую на плохо утрамбованной дороге, он резко повернул свою в сторону и ударился коленом о рычаг. После всякого рода испытаний и волнений ему, наконец, удалось научиться управлять машиной, и теперь он собирался купить новый автомобиль. В различных городах, встречавшихся на его пути, он давал для газет интервью по поводу экономического положения страны.
На следующий день мы двинулись дальше. Мы проехали десять тысяч миль через Техас, Нью-Мексико, Аризону, Калифорнию, Орегон, Айдахо, Вайоминг, Монтану, Южную Дакоту, Миннесоту, Висконсин, Иллинойс, Мичиган, часть Канады, Пенсильванию, Нью-Джерси и Нью-Йорк.
Из Сан-Франциско мы поехали в Сан-Квентин, чтобы повидать Тома Муни, который отбывал там тюремное заключение за приписанное ему участие в инциденте с бомбой во время военного парада в Сан-Франциско 22 июля 1916 года. Хотя его признали невиновным (он установил свое алиби, доказав, что был в это время в другом месте), он все еще находился в тюрьме по так называемым политическим мотивам.
Мы ожидали несколько минут в приемной, пока не вышел Муни. Он прекрасно владел собой, и его быстрые и уверенные движения были полны юношеской энергии.
После того как мы обменялись несколькими теплыми словами приветствия, он покинул нас и прошел, как того требовали строгие тюремные правила, в комнату для свиданий. Там должен был состояться его разговор с Драйзером. Мы сидели по одну сторону решетки, разделявшей комнату, а он сел напротив нас – по другую сторону ее. Тщательно изучив свое дело за время длительного заключения, Муни был исключительно хорошо осведомлен о всех его деталях. Он был знаком со всеми юридическими тонкостями, и из разговора с ним мы вынесли впечатление, что он может прекрасно защищать себя в любом суде, если когда-нибудь суд состоится. Он сказал, что страстно желает выйти на волю, чтобы иметь возможность бороться за рабочее дело.
Драйзер обещал сделать все, что было в его силах, чтобы помочь ему в этом.
Наш приезд в Орегон был для меня большим событием: меня ожидало свидание с матерью и сестрой. Мы прожили у них почти две недели, и я с радостью заметила, что у моей сестры развился голос – прелестное лирическое сопрано. Мы проводили целые часы за пением и убедились, что во многом можем помочь друг другу. Я научилась от нее более свободной, естественной манере пения, а она, в свою очередь, была благодарна мне за мои советы в области интерпретации того или иного произведения и дикции. Во всяком случае, я была в сильно приподнятом настроении, так как люблю пение, а теперь я знала, что мы с сестрой могли бы организовать концертное турне, взять с собой маму и путешествовать по всей стране. И когда мы снова тронулись в путь по холмам восточного Орегона, мне было о чем помечтать, и я с радостью обдумывала этот план.
В Йеллоустонском парке мы были буквально потрясены обилием представших перед нами подлинных чудес природы: тут были гигантские горные кряжи, красочные каньоны, водопады, гейзеры, горячие источники, ручьи, полные форели, и различные виды диких растений и животных.
В Монтане мы выдержали в течение пяти или шести часов опасную и тяжелую борьбу с размокшей от дождя, вязкой почвой, засасывавшей машину до середины колес. Пришлось ползти в темноте по три мили в час, и колеса все больше облеплялись грязью, затвердевавшей, как глина. Когда мы проделали таким образом около двадцати миль, терпение Драйзера лопнуло, и он впал в самое свирепое состояние духа, заявив со злобой:
– К черту путешествие! Утром мы погрузим машину на пароход и поедем обратно поездом в Нью-Йорк.
В Чикаго мы остановились, чтобы захватить с собой брата Тедди – Рома. Тедди уже давно платил за его содержание в меблированных комнатах средней руки, где жили одни мужчины, но только теперь он впервые получил возможность посмотреть, как тот живет. Его всегда заверяли, что деньги, которые он посылает, расходуются по назначению и брат его окружен уходом и вниманием, но, когда мы увидели Рома, мы были потрясены его видом. Он выглядел совершенно заброшенным: одет в какое-то старье, шляпа от дождя полиняла, сапоги рваные. Он ходил согнувшись, привыкнув принимать униженную позу, и мы заметили, как быстро он состарился.
Ром оставил родной дом, когда ему не было еще двадцати лет, и многие годы вел скитальческую, полную приключений жизнь, связанную с железными дорогами, пока, наконец, не осел в Чикаго. От истощения и отсутствия забот о нем память стала изменять ему, но все же у него сохранилось много воспоминаний о периоде его деятельности на железных дорогах, о семейных делах и некоторых событиях его жизни. Когда его наталкивали на эти воспоминания, он мог с достаточной занимательностью рассказывать о них. Но от него ускользала нить, связывающая все эти события. Он упорно называл Тедди «Полем», возможно потому, что очень любил Поля и помнил о его вошедшей в поговорку щедрости.
Первое, что сделал Драйзер,- это купил для него лечебный корсет, надеясь выпрямить его фигуру. Затем Ром получил новый костюм, новую шляпу, новые ботинки, белье, носовые платки – словом, все, что требуется человеку, чтобы он чувствовал себя принадлежащим к приличному кругу.
Он выглядел необычайно счастливым, сидя на заднем сидении нашей большой машины, когда мы проезжали по Детройту, канадской территории, западной части штата Нью-Йорк, штатам Пенсильвания и Ныо-Джерси. Теперь он почувствовал себя с нами более свободно, стал называть Тедди «Тео», а меня «Элен»; затем вдруг заговорил о матери. Воспоминания о ней навели Тедди на грустные мысли, но он был рад, что ему удалось спасти «заблудшую овцу» из ее стада.
По приезде в Нью-Йорк мы жили под свежим впечатлением от нашей поездки и были убеждены, что страна, владеющая такими богатейшими естественными ресурсами и обширными пространствами необработанной земли, способная достаточно хорошо обеспечить население, в три или четыре раза превышающее ее теперешнее, обладает также неограниченными потенциальными возможностями и может способствовать прогрессу во всем мире. Но контроль над прогрессом, думали мы, должен находиться в руках народа, который пользовался бы его благами, а не сосредоточиваться в руках гигантских монополий.
Мы отвезли Рома к его сестре Мэйм Бреннан, так как она дала Теодору согласие принять Рома в свой дом и заботиться о нем, получая месячное содержание. Хотя Мэйм начинала уже стареть, она хотела сделать это, потому что, по ее словам, не могла примириться с мыслью о полном одиночестве Рома. Решившись взять его к себе, она следовала своему обычному правилу любви и милосердия, и Ром был окружен в ее доме теплом, уютом, имел хорошее питание и, прежде всего участие, в котором он так нуждался. И какой горячий отклик это находило в его сердце! Когда через некоторое время мы заехали к Бреннанам, жившим тогда в Астории, Ром буквально сиял от счастья и производил самое трогательное впечатление. Он рассказывал свои любимые истории из тюремной жизни, и порою в его словах чувствовался незаурядный ум, а когда подчеркивал отдельные места своего рассказа непроизвольным движением густых бровей, он очень походил на представительного епископа. Ром жил у Мэйм до самой своей смерти, наступившей десять лет спустя, когда он был уже на пути к полному выздоровлению.
Глава 21
Летом Тедди вернулся к работе над частью своей автобиографии («Заря»), охватывавшей его юношеские годы. Он проделал большую работу над ней еще много лет назад, но отложил ее, решив, что нельзя опубликовывать столь откровенное описание событий из своей ранней молодости, пока еще живы некоторые члены его семьи. Теперь он снова взялся за эту работу, с тем, чтобы закончить ее; Луиза Кэмпбелл, с которой он был связан по литературной работе в течение ряда лет, приехала из Филадельфии для совместной работы над рукописью,
Время от времени мы бывали на интересных вечерах в Нью-Йорке и его окрестностях. Одним из самых замечательных салонов, посещавшихся нами, был салон мадам Алмы Клейберг, гостеприимной женщины, обладавшей весьма разносторонними интересами и даром соединять в своей гостиной людей различных профессий.
10 декабря Тедди повел меня познакомиться с Рабиндранатом Тагором, индийским поэтом, гостившим в Соединенных Штатах. В этот день Драйзер, только что имевший неприятное интервью, был в очень раздраженном состоянии. Когда же ему пришлось дожидаться в вестибюле отеля «Элмхерст» на Парк-авеню, в связи с тем, что произошла какая-то путаница с назначенным ему часом, он буквально пришел в ярость. Но несколько минут спустя нас ввели в гостиную номера, занимаемого Тагором, и вскоре он сам вышел к нам, шутя, смеясь и извиняясь за невежливость обслуживающего персонала. Он шел нам навстречу плавной, но быстрой походкой и, подойдя к Тедди, посмотрел на него своими глубоко сидящими карими глазами.
Тагор, пожалуй, больше всего известен своими прекрасными лирическими стихами, но его стихи – это только одно из проявлений его исключительного и разностороннего таланта. Искусный драматург и рассказчик, он был также романистом, художником, лектором, социальным реформатором и педагогом. Когда в 1913 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе, он употребил деньги на нужды Международного университета, основанного им в 1901 году близ Калькутты. Университет, известный под именем «Вишва-Бхарати», превратился в мировой центр культуры, и Тагор считал это одним из своих величайших достижений.
В этот день Тагор и Драйзер говорили о многом, но поскольку в то время Россия была у каждого мыслящего человека на уме, они вскоре затронули и этот вопрос. Тагор с восторгом говорил о России и восхищался успехами советского правительства. Он рассказал, как он лично разрешил вопрос о кастовой системе со своими студентами в Индии. По его словам, он сказал им: «Вы вольны поступать, как хотите; можете изолировать себя, если вы этого желаете».
Далее он объяснил, что, предоставив им такую свободу действий, он через неделю добился их всеобщего объединения. Он считал, что «умонастроение всего мира должно быть изменено» и что «человека будущего следует воспитывать в глубокой вере в широкий братский союз всех людей». Его постоянным стремлением было добиться гармонии между духовными богатствами Востока и научными знаниями Запада. Он сказал: «Россия – это чудо, и когда она проникнется большей уверенностью в своем успехе, ее наглядный урок окажет свое влияние на весь мир – это самое меньшее. Вся Азия окажется под влиянием этого наглядного урока, и она нуждается в нем».
Он заговорил далее о впечатлениях, вынесенных им из его пребывания в Соединенных Штатах. Он считал нас самым тираническим народом в мире, с точки зрения индивидуума; самым аристократическим – высокомерно аристократическим. Его огорчил недружелюбный прием, оказанный ему здесь.
«Я задержался на две недели сверх предполагавшегося срока,- сказал он,- и меня оштрафовали. Я не говорю уже о неприятностях, которыми сопровождались мои хлопоты о предоставлении мне возможности продлить свое пребывание здесь…»
Я была очень расстроена его словами. Передо мной сидел человек почти семидесяти лет от роду, рисковавший многим, когда он отважился на такое длинное, утомительное путешествие, и, вместо того чтобы приветствовать почетного гостя, вступившего на ее берега, Америка действовала подобным образом!
Тагор чувствовал, что должен уехать – это место не для него. Ни одно его интервью не было опубликовано в том виде, как он давал его. В статьях за его подписью сплошь и рядом появлялись фразы, которых он никогда не писал, а если он брал на себя труд опровергать их, его опровержения печатались мелким шрифтом на последних страницах газет.
Что можно было ответить на это находившемуся среди нас иностранцу – и к тому же знаменитому? Могла ли я сказать, что такого рода случаи не часто повторяются в нашей стране? Вспомним инцидент с графом Карольи, которого не пускали в Соединенные Штаты в течение четырех лет, а потом разрешили въезд сроком на шесть недель. Вспомним о великом русском писателе Максиме Горьком, которого задержали на острове Эллис для допроса, так как он осмелился путешествовать с женщиной-другом, госпожой Андреевой, которую называл своей женой. Власти смотрели на это иначе, и хотя иммиграционные чиновники не выдвинули против него формального обвинения, ОНИ всячески досаждали ему и публично ставили в такое неловкое положение, что, возмущенный, он вынужден был прервать свое пребывание в США и вскоре уехал отсюда.
Вот каким бывает иногда американское гостеприимство!
Я решила переехать в «Ироки» и попытаться как-то наладить жизнь в большом, только что отстроенном доме, если вообще теперь можно было наладить ее где-нибудь. К тому же в условиях депрессии требовалось соблюдать известную экономию. Срок арендного договора на нашу городскую квартиру истекал осенью, а для того чтобы устроиться как следует на новом месте, необходимо было потратить большую часть лета. Нужно было наблюдать за планировкой сада, кое-что побелить и покрасить, сшить занавески и позаботиться о других мелочах. Я написала матери и сестре, прося их приехать помочь мне: необходимо было осуществить все эти приготовления и разрешить целый ряд вопросов, связанных с устройством дома.
В середине июня 1931 года они приехали ко мне, и мы перевезли большую часть вещей, включая картины, книги, литературный архив, мебель, посуду и т. д. в наш новый «постоянный» дом. Часть мебели была оставлена на городской квартире, так как Тедди намеревался прожить в мастерской до октября – времени истечения срока аренды.
Драйзер в это время сотрудничал в Международном бюро защиты труда, а также принимал активное участие в выработке программы социальных преобразований, составленной Лигой американских писателей. Впоследствии он стал председателем этой Лиги.
Мы были приглашены на закрытый просмотр фильма по мотивам «Американской трагедии», только что выпущенного «Парамаунт пабликс корпорейшн (бывшая «Феймоуз плейрс Ласки корпорейшн»). Просмотр картины сильно разочаровал Драйзера. Первоначально «Феймоуз плейрс Ласки корпорейшн», приобретя в 1926 году право на экранизацию романа, пригласила из России Сергея Эйзенштейна для создания киносценария и постановки картины. Сценарий Эйзенштейна, однако, не был использован, и он вернулся в Россию. Наконец, четыре года спустя для постановки картины был приглашен Джозеф фон Штернберг. Драйзер и X. С. Крафт вылетели тогда на Запад, чтобы обсудить с постановщиками, как лучше всего передать на экране содержание романа. После просмотра в Нью-Йорке готовой картины Драйзер, пытаясь приостановить ее выпуск на экран, подал в суд на «Парамаунт корпорейшн», но дело было им проиграно.
Когда предварительное устройство дома «Ироки» пришло к концу, все вещи стали выглядеть иначе. Мы построили большой дом на новом месте, рядом с бассейном для плавания и озером, ибо прежний в наше отсутствие сгорел дотла год назад. Венгерский художник Ральф Фабри сделал многое, чтобы превратить наш дом в чудо красоты. Окончив его, он построил рядом с ним дом для гостей и соединил его с главным зданием каменным мостиком. Он частично декорировал внутри главное здание и даже воздвиг исключительно оригинальные арки с каменными колоннами, расположенными в среднем зале на первом этаже. На эти колонны должна была в будущем опираться столовая на втором этаже. Генри Пур, известный мастер лепных украшений, проектировал и размещал всю осветительную арматуру. Уортон Эшерик соорудил чугунные решетки для каминов и несколько других искусных изделий из металла и дерева. Но когда, наконец, бюст Джона Коупера Поуиса был установлен в оконной нише кабинета Драйзера, наша усадьба «Ироки» вдруг ожила. До этого она была просто местом, куда можно было приезжать. Теперь она стала домом-центром, откуда можно было действовать.
Она была приведена в полный порядок к тому времени, когда Тедди приехал туда провести свой первый после моего переезда уик-энд. Бродя по дому, он осматривал все и порою останавливался, с радостью заметив знакомый предмет в новой обстановке. Он, казалось, впервые открывал для себя «Ироки».
Кончалось лето 1931 года. Тедди приезжал в деревню отдохнуть на уикенд. Большую радость доставляли ему посещения друзей. Но когда он оставался один, то становился озабоченным и раздражительным.
1 октября он снял на зиму номер в отеле «Ансония», состоящий из кабинета и спальни. Кроме того, он позаботился, чтобы рядом была еще одна комната для меня с отдельным входом, если я захочу приехать в город. На третьем этаже отеля он держал контору для своей секретарши – мисс Эвелин Лайт, которая отвечала на все телефонные звонки.
Его «Заря» вышла в свет, и теперь он заканчивал свое социально-экономическое исследование «Трагическая Америка»; мисс Кэтрин Сейр помогала ему в редактировании и подыскивала материалы.
Друг Драйзера Чарлз Форт ранней осенью 1931 года очень часто посещал нас в Маунт-Киско. Драйзер познакомился с Фортом еще в 1905 году.
Форт не любил разношерстной компании; ему нравилось приезжать вдвоем с Драйзером в «Ироки», где они проводили вместе много интересных часов. Они были людьми с сильно развитой интуицией, ценность которой, как они оба предполагали, была безмерна. Форт рассказывал, как однажды, когда он работал в Англии в небольшой двухкомнатной квартире на втором этаже и был погружен в изучение собранных им материалов по научным вопросам из числа «проклятых» или отвергнутых учеными, дверь внезапно отворилась и вошел Драйзер. «Когда появился Драйзер,- говорил Форт,- сама жизнь, со всеми ее компонентами, вошла в комнату».
Я посетила Форта незадолго до его смерти. Он был еще не очень стар, но быстро угасал от белокровия. Форт говорил о своей болезни, как о каком-то сознательно действующем таинственном паразите, который впился в него и от которого он не может избавиться. Он был твердо убежден, что смерть приближается к нему, и она наступила две недели спустя, 3 мая 1932 года.
В конце октября Драйзер как председатель Национального комитета защиты политических заключенных получил от Международного бюро защиты труда написанный на 32 страницах документ о злоупотреблениях и преступлениях, совершенных по отношению к бастующим шахтерам Харланских угольных копей в штате Кентукки. Международное бюро защиты труда признавало, что оно не в состоянии пробудить внимание общественного мнения к этим массовым зверствам, и поэтому спрашивало, не может ли Драйзер организовать комиссию из членов Национального комитета и направить ее в Кентукки не только с тем, чтобы допросить представителей местной власти, но и попытаться таким путем привлечь к делу внимание публики и этим улучшить бедственное положение шахтеров, если не совсем покончить с ним.
В июне 1931 года Драйзер по просьбе Уильяма 3. Фостера и других посетил шахты в районе Питсбурга; они оказались в ужасном состоянии. И теперь, в ноябре, не сумев добиться поддержки некоторых видных лиц, он созвал заседание Национального комитета защиты политических заключенных и спросил, кто из его членов добровольно возьмется за это дело. Члены вновь образованного комитета прежде всего заявили в печати, что отправятся в округ Харлан и восточный угольный район штата Кентукки. Заручившись военной охраной у губернатора Флема Д. Сэмпсона, они поехали в Пайнвилл, округ Белл, а затем – в округ Харлан. В Пайнвилле Драйзера приветствовали мэр города и судья Джонс. Члены комитета опросили шахтеров, а также шерифа, прокурора района и судью округа. Заседания комитета проводились открыто, на них свободно допускалась как публика, так и представители печати. Однако комитет по расследованию натолкнулся на сопротивление, которое выражалось даже в угрозах применить насилие; за членами комитета была установлена постоянная слежка.
10 ноября, взяв с собой машину, я отправилась на пароходе в Норфолк, где должна была встретиться с Драйзером в отеле «Монтиселло». На обратном пути Драйзер несколько раз давал по дороге интервью. В округах Харлан и Белл его жизни угрожала опасность; ему грозили смертью за то, что он осмелился привлечь внимание всей страны к ужасным несправедливостям, которым подвергались шахтеры. «Большое жюри» округа Белл обвинило Теодора Драйзера и других членов драйзеровского комитета в «преступном синдикализме». Ходили слухи, что власти Кентукки будут пытаться арестовать Драйзера для предания его суду. И в самом деле, был выдан ордер на его арест, в случае если он вздумает снова вступить на территорию штата Кентукки. Все это с невероятной быстротой стало широко известно. Франклин Д. Рузвельт, в то время губернатор штата Нью-Йорк, заявил, что он даст Драйзеру возможность выступить в суде при открытых дверях, а Джон У. Девис согласился взять на себя защиту драйзеровского комитета. Однако благодаря широкой гласности, которую приобрело дело, 1 марта 1932 года все официальные обвинения против Драйзера и его комитета были сняты.
Вернувшись в «Ироки», Тедди с удовольствием занялся работой в саду вместо физических упражнений и своего рода отдыха, в котором он сильно нуждался. Приближалось рождество, и многие наши близкие друзья приехали навестить нас. Кругом лежал белый снег, и было похоже на то, что он выпадет снова; из окон нашего дома виднелся великолепный зимний пейзаж. Яркий огонь горел в камине в кабинете Драйзера, а другой – прямо над ним, в столовой на втором этаже.
Глава 22
В январе 1932 г. Тедди получил письмо от Джуг (миссис Драйзер), на которое ответил из «Ироки», продиктовав мне ответ.
Поскольку оно непосредственно касается моего повествования, я частично процитирую его:
Дорогая Джуг!
…Когда мы расстались в 1909 году, это произошло потому что мы не сошлись характерами… А раз наше общение прекратилось, тем самым было полностью прекращено и состояние брака.
Вы не были больше моей женой в любом смысле этого слова и теперь не являетесь ею… Тем не менее, на протяжении долгих лет вы упорно настаивали на сохранении за вами фамилии, которая ни в глазах широкой публики, ни в глазах любого мыслящего человека в действительности больше не принадлежит вам… В настоящее время, как вы знаете – если вы искренне хотите смотреть в лицо фактам,- брак и развод резко отличаются от того, чем они были двадцать три года назад. И я вполне убежден, что скоро наступит время, когда жизнь порознь по мотивам несходства характеров в течение длительного периода будет означать развод, то есть свободу, которую вы отказывались предоставить мне вопреки вашему устному согласию сделать это…
В момент нашего расставания… как вы знаете, я отдал вам абсолютно все, что имел. Себе я оставил только то, что мог заработать своим пером,- в среднем от 125 до 150 долларов в месяц. И все же, несмотря на это, когда в 1914 или 1915 году наступило такое время, что я не смог продолжать выплачивать вам еженедельное пособие, вы пытались силой заставить меня сделать то, что я не мог сделать. Только после того, как я показал представительнице суда по вопросам семейных отношений (она пришла ко мне от вашего имени с целью привлечь меня к ответственности) письмо, которое вы сами мне писали, где вы признавали все, что я для вас сделал,- ваш иск был признан недействительным. Ибо сама представительница суда заявила, что ваши тогдашние требования, учитывая то, что вы уже получили от меня, были возмутительны. Я до сих пор храню это письмо…
Необходимость платить вам деньги по нашему второму соглашению (200 долларов ежемесячно, начиная с 1927 года) представляла для меня тяжелое бремя… За тот период времени, когда вы получали от меня эти деньги – тем более, что сами вы тогда работали и вам приходилось заботиться только о себе,- вы имели полную возможность создать себе необходимое обеспечение на будущее. Кроме того, вы никогда не шли мне навстречу ни в том, чтобы прекратить публичные выпады против меня, ни в том, чтобы выполнить ваше обещание дать мне развод.
Я считаю соглашение между нами точно сформулированным и окончательным.
Однажды вечером Тедди позвонил мне в «Ироки». Его голос звучал нервно и напряженно. Он сказал, что не знает, что предпринять, но дальше так продолжаться не может.
На следующее утро я приехала в мастерскую Драйзера в отеле «Ансония». Он сидел за своим столом, переделанным из рояля палисандрового дерева. Мы обсудили с ним многие вопросы, в частности вопрос о том, что ему необходимо еще больше сократить свои расходы. Он предполагал отказаться от номера в «Ансонии» и вести всю свою работу в «Ироки». «Трагическая Америка» не принесла большого дохода, и он хотел теперь закончить «Стоика», третий том своей «Трилогии желания». Он говорил, однако, что должен вести большую, активную работу как сторонник социальных преобразований и дела свободы, что это связано с митингами и требовало его личного присутствия то в одном, то в другом месте. И его беспокоило, как пойдет эта работа, если его не будет в городе в нужный момент.
Он говорил, что его работа составляет для него самое главное, и все, что так или иначе мешает ей, должно беспощадно устраняться из его жизни.
В течение следующих недель Тедди проводил много времени в «Ироки». Приехала мисс Лайт, чтобы привести в порядок его справочную библиотеку. Художник Хьюберт Девис, которого он очень любил, нарисовал несколько цветных панно для нашей новой столовой, в то время еще только строившейся.
Депрессия наложила свою печать на все и на всех, и Соединенные Штаты в целом, казалось, находились в состоянии сонной болезни. Всякая деятельность была парализована, и люди резко сокращали свои расходы. Повсюду на окраинах больших городов, включая Нью-Йорк, возникали так называемые «гувервилли» – голодные лагери, где удрученные нищетой люди были вынуждены ютиться в жалких лачугах, наспех сколоченных из больших упаковочных деревянных ящиков и обрезков железа. Ветераны войны организовали поход в Вашингтон с требованием выплаты пособия и подверглись обстрелу со стороны войск и полиции.
Драйзер принимал все более активное участие в движении сторонников социальных преобразований, и, наконец, его уговорили выступить публично в ряде мест. Ему было что сказать, он хотел говорить, и его желание нашло себе выход.
Я помню, как впервые ему пришлось говорить на официальном собрании, где он рассчитывал на небольшую аудиторию и предполагал, что его выступление будет носить неофициальный характер. Когда дверь открылась и Драйзер появился в зале, он вдруг увидел вокруг множество людей, с нетерпением ожидавших его появления. Зал, вмещавший свыше 400 человек, был битком набит. Сидя вместе с Мэртл среди публики, я беспокоилась, какое впечатление произведет на Драйзера многолюдная аудитория. Когда он поднялся на трибуну, я почувствовала в нем прежнюю знакомую нервозность, появлявшуюся всегда, когда ему приходилось выступать. Но на этот раз я была поистине изумлена, увидев, как быстро он (после того как его представили аудитории) не только справился со своим волнением, но и сумел найти своеобразную обаятельную манеру держать себя, которая с тех пор всегда сопутствовала его публичным выступлениям. Аудитория была заинтересована, живо и сочувственно реагировала, и Драйзер сразу почувствовал ее электризующее воздействие. Он быстро овладел вниманием своих слушателей, заставляя их то смеяться, то становиться серьезными.
Когда выступление кончилось и он ответил на вопросы, заданные ему, я сказала:
– Ведь ты совсем не волновался. Ты можешь выступать где угодно.
– Да,- ответил он,- теперь я могу выступать где угодно, перед любой большой аудиторией. Но напрасно ты думаешь, что я не волновался. Вначале меня трясло как в лихорадке. Но когда я поднялся на трибуну и понял, что неизбежно должен встретиться с аудиторией, всегдашняя застенчивость вдруг исчезла и, я убежден, никогда больше не вернется ко мне. С ней покончено.
Так оно и было, и с тех пор Драйзер стал часто выступать перед публикой.
Некоторые члены коммунистической партии в этот период часто приезжали в «Ироки». Шли горячие споры, длившиеся часами, а потом Драйзер неизменно рассказывал мне о них. Он искренне уважал Уильяма 3. Фостера и всегда называл его «своего рода святым», ввиду многочисленных жертв, которые тот принес ради избранной им цели. Что касалось его самого, то Драйзер говорил, что он не вступит никогда ни в какую партию, полагая, что его влияние в области социальных преобразований будет более эффективным, если он сможет по-прежнему свободно высказываться по любому предмету.
В мае Тедди отправился в путешествие по Аризоне и Ныо-Мексико. Он хотел побыть некоторое время вдали от Нью-Йорка. В одном письме он вспоминал «Ироки». «Я мысленно вижу его перед собой и гадаю, взошла ли уже трава и появились ли цветы. Этим летом он будет выглядеть прекрасно – впервые почти в законченном виде». Я написала ему, чтобы он скорее возвращался. Весна в деревне действует опьяняюще, и он должен быть здесь.
В июле, ровно через два месяца после его отъезда из Нью-Йорка, Тедди появился в «Ироки». Моя мать и сестра собирались вернуться к себе на Запад, но им не хотелось уезжать, пока он был в отсутствии. Теперь, когда он вернулся, они успокоились и через несколько дней уехали.
Этим летом Тедди как-то сказал мне, что написал завещание в мою пользу, сделав меня единственной наследницей своего имущества. Он также передал мне свою собственность в Маунт-Киско и в Калифорнии. Я была совершенно потрясена и с трудом могла осознать всё значение его поступка. До этого я не имела ни малейшего обеспечения. Он понял из моих слов, как глубоко я благодарна ему, и сказал: «Я хотел, чтобы тебе было известно, как обстоят дела, если со мной что-нибудь случится. Ведь ты знаешь, жизнь – ненадёжная штука».
Только многие годы спустя, в 1947 году, когда я разбирала его корреспонденцию, я узнала из его письма к своему адвокату, Артуру Картеру Хьюму, что Драйзер заезжал в его контору в Йонкерс 6 мая, за день до своей поездки на юг, чтобы подписать завещание, которое Хьюм составил по его просьбе.
Глава 23
Драйзер теперь засел за работу над «Стоиком»; большая часть книги была написана им от руки, остальное он диктовал своей секретарше – мисс Кларе Кларк.
В конце августа мы пригласили на обед в «Ироки» Жоржа Жана Натана и Эрнеста Бойда. За обедом обсуждалось проектируемое издание нового литературного журнала «Америкен спектейтор». Выход первого номера намечался в октябре. «Америкен спектейтор» должен был' стать солидным журналом. В нем не будет никаких реклам и объявлений, и, следовательно, он станет органом свободного выражения эстетических, художественных и научных взглядов как во всеамериканском, так и в международном масштабе. Это будет журнал, предназначенный в первую очередь служить трибуной для обмена мыслями и взглядами между известными писателями Европы и Америки. Такой обмен взглядами мог бы оказать серьезное влияние на образ мыслей предубежденных людей как на родине авторов, так и в других странах и рассеять свойственные этим людям предрассудки.
Драйзер с энтузиазмом взялся за это дело. Он очень часто вспоминал о своей редакторской работе, которой занимался в молодые годы. Словно он тосковал по ней и жалел, что ему пришлось в свое время с ней расстаться. Поэтому не удивительно, что он всей душой отдался работе в журнале.
«Не может быть сомнения, – говорил он, – что духовное общение между выдающимися писателями всего мира, как бы ни были противоречивы их взгляды, может принести только огромную пользу». Наконец-то, по его словам, у него имеется печатный орган для выражения мыслей – орган, достойный серьезных усилий. Он пожертвовал даже своей очень способной секретаршей – мисс Эвелин Лайт, переведя ее в главную редакцию журнала «Америкен спектейтор» в Нью-Йорке.
В сентябре мы посетили Харланвилл (штат Нью-Йорк), чтобы получить от Джона Коупера Поуиса статью для первого номера журнала, который должен был выйти 20 октября 1932 г. Публика очень тепло откликнулась на новое издание (тираж 40 000), и Драйзер намеревался посвятить журналу большую часть своего времени. В течение двух лет он был одним из редакторов журнала, но потом ушел из редакции. Редакционная коллегия решила согласиться на опубликование в журнале реклам и объявлений, и это убедило Драйзера в том, что существовавшая до сих пор политика свободного выражения мыслей должна подвергнуться теперь известному воздействию.
Когда Драйзер получил приглашение из Калифорнии выступить в Сан-Франциско в качестве главного оратора на массовом митинге в защиту Тома Муни, намечавшемся на 6 ноября, он вспомнил об обещании, данном им Муни, и тотчас же согласился. Прилетев в Сан-Франциско, он выступил в Гражданском зале перед аудиторией в 15 тысяч человек. На обратном пути в Нью-Йорк он заехал в Лос-Анжелос, где 10 ноября подписал контракт с «Пара-маунт пабликс корпорейшн» о продаже ей права на экранизацию «Дженни Герхардт»; картина была позднее поставлена Беном Шульбергом.
Драйзер обладал настолько разносторонним умом, что наряду с его живым интересом к изданию «Америкен спектейтор» и успешной работой над «Стоиком», а также его многообразной деятельностью в защиту социальной справедливости, он находил время работать и над реалистической киноэпопеей под названием «Восстание». В основу сценария предполагалось положить эпизоды из истории табачной промышленности Соединенных Штатов. Действие должно было происходить в окрестностях Хопкйнсвилла (штат Кентукки), где в 1905 году шла настоящая война между табачными плантаторами Юга и табачным трестом «Дьюк». Кинооператор X. С. Крафт, представитель «Сэнитас Фандоши компани» Дж. Фишлер, постановщик Эмануил Дж. Розенберг и режиссер Джозеф Ротман заинтересовались этой темой и создали корпорацию для съемки картины. Драйзер, Крафт и Ротман поехали на юг собирать материал для постановки. Я намеревалась приехать позже вместе с Хьюбертом Девисом, предполагавшим сделать серию зарисовок для картины, и мисс Кларой Кларк, которой было поручено вести секретарскую работу.
Мы выехали на машине из Нью-Йорка в феврале; дороги обледенели, и наше путешествие превратилось в сплошную цепь приключений. Стекла машины заиндевели, и сквозь них мы с трудом могли разглядеть полуразрушенные и заброшенные жалкие домишки в долине, но даже эти промелькнувшие пейзажи не пропали даром для профессионального глаза Хьюберта Девиса, ибо много времени спустя после нашего возвращения в Нью-Йорк я увидела некоторые из замеченных нами сцен ожившими, словно по волшебству, на полотне.
Местом нашего назначения был Нашвилл (штат Теннесси). Я и мисс Кларк остались там, а остальные поехали в Хопкинсвилл (штат Кентукки). По пути на север мы останавливались в Уинстон-Сейлеме, в Дареме, Ашвилле и других местах, где подробно осмотрели несколько предприятий табачной промышленности. Табачное дело – одно из наиболее интересных явлений американской жизни, какие мне приходилось видеть. На аукционах продавцы певучим голосом выкрикивали названия своих товаров и продавали их покупателю, предлагавшему самую высокую цену. Большие корзины были наполнены различными видами табака, тщательно рассортированного в соответствии с размерами, цветом и формой листа. Некоторые сорта были специально отобраны для сигарет, другие – для дорогих сигар. Людям, занимавшимся сбытом табака, достаточно было бросить беглый взгляд на корзину, которую приволок в город какой-нибудь мелкий табаковод, чтобы определить, куда именно пойдет этот табак и сколько даст прибыли.
Мы с радостью вернулись в «Ироки», где могли отдохнуть немного, пока разрабатывался общий план сценария и отдельные кадры для «Восстания».
В начале 1933 года у нас было много гостей. Среди них Дороти Дадли, автор книги «Забытые границы», только что вышедшей в свет и вызвавшей к себе большой интерес, особенно в литературных кругах. Приезжали также О. О. Макинтайр с женой, Алма Клейберг и другие.
После одного из таких визитов Макинтайр написал статью, в которой говорилось:
"Предметом разговора, где талант его [Драйзера] проявляется с особым блеском, неизменно служат отталкивающие явления жизни, такие, как торговля белыми рабами в Рио или злоупотребление детским трудом. При этом лицо его багровеет до апоплексического оттенка.
После одной из таких вспышек он пригласил меня посмотреть выкопанную им канаву, куда он отвел воду из пруда. И как он был горд этим нехитрым достижением! Теперь он опять превратился в того смирного «Тедди», каким его знают близкие. Скромный работяга, гордый делом рук своих!
Было поздно, и месяц висел в небе, как тонкая кривая сабля. Когда машина, увозившая нас, въехала на гору, я оглянулся. Драйзер сидел в своей качалке, освещенный сбоку лунным светом, быстро раскачиваясь и яростно комкая в руках свой платок. Силуэт большого серого волка!"
_______________
В июне мы отправились на самолете в Чикаго на «Выставку века прогресса». Это было моим, первым путешествием по воздуху и настоящим приключением для меня. Но когда я откинулась назад в кресле, чувствуя, что сейчас мне станет плохо, Драйзер стал поддразнивать меня: «Какой смысл возить тебя на самолете? Ты что это, так и собираешься лежать всю дорогу?»
Однако после остановки в Кливленде, проглотив тарелку супа, я снова почувствовала себя хорошо. По правде говоря, мне страшно понравилось это путешествие среди облаков. Для меня это было самое интересное путешествие за последние годы. Драйзер к этому времени был уже ветераном воздушных полетов и всегда предпочитал летать на самолете, где это было возможно.
Выставка с ее залитыми огнями каналами, постройками в стиле модерн и интересными экспонатами была удивительно красива. Мы провели большую часть времени в научных павильонах, так как Драйзер в это время занимался собиранием научных данных для своих философских очерков, которые он собирался издать в одном томе. Он дал сборнику ориентировочное название «Формулы, которые называются жизнью». Некоторые из подзаголовков звучали так: «Миф индивидуальности», «Миф свободной воли», «Миф реальности», «Миф обладания», «Трансмутация личности», «О добре и зле», «Необходимость контраста», «Необходимость тайны», «Изменения», «Неизбежное уравнение»- Когда он начал собирать научные данные, факты, вырезки из газет и журналов, которые проливали свет на его интерпретацию жизни или подкрепляли один из его тезисов, он снимал с них многочисленные копии на машинке и раскладывал по этим подзаголовкам. Он намеревался подобрать данные и примеры, наилучшим образом поясняющие его выводы, прежде чем приступить к написанию какого-либо очерка. Таким методом он подготовил те очерки, которые ему удалось закончить. По его мнению, отбирать следовало только очень немногие факты.
Драйзер работал восемь лет над этой рукописью; начав её, он не мог отложить её в сторону или прекратить подбор материалов. Конечно, он рассчитывал окончить её, но года за два до своей смерти стал часто говорить: «Когда меня не будет, сделай то-то или поступи так-то с «Формулами». В 1940 году он перестал работать над рукописью «Америку стоит спасать» и в 1941 и 1942 годах вернулся к книге очерков, отложив ее в 1943 году, когда возобновил работу над «Оплотом». Предисловие к этому посмертному изданию, которое теперь выйдет под названием «Заметки о жизни», было написано по моей просьбе Джоном Коупером Поуисом.
Каждый сезон в «Ироки» имеет свою особую отличную от другого прелесть. Я никогда не могла решить, в какое время года он мне больше всего нравится – в новизне весны, в пышной зелени лета, в бронзовом сиянии осени или в ясные, холодные зимние дни и ночи. Зимой 1933-1934 года выпадали такие дни, когда наш дом почти заносило снегом, и во время прогулки до почтового ящика на расстоянии всего тысячи шагов легко было отморозить нос и уши. Иногда снежные сугробы на лестнице, ведущей вниз со второго этажа, были так глубоки, что собакам приходилось выкапывать себе проход, а затем скатываться кубарем вниз. Они возвращались домой с бахромой из сосулек, свисавшей с их «бакенбардов».
Наши собаки Ник и Бой доставляли Драйзеру немало развлечений. Его особенно забавляла одна из привычек Боя. Когда все отправлялись спать, а Драйзер оставался у себя в кабинете, Бой спускался по винтовой лестнице к нему в кабинет (где ярко горел огонь, так как Тедди продолжал работать) и начинал вертеться вокруг большого стола, подвывая тихо, но настойчиво до тех пор, пока Тедди не переставал писать и не вступал с ним в разговор. Тут завывания Боя становились все громче и громче, пока, наконец, Тедди не отодвигал свои бумаги в сторону и не клал перо на стол.
«Ну, ладно, старина, – говорил он обычно, – я пойду спать, иначе ты не успокоишься. Пойдем скорее!»
Бой обычно начинал прыгать вне себя от радости и торжествующе скакал впереди него по лестнице на второй этаж. Бой всегда умел заставить Драйзера пойти спать, когда считал, что огонь в его кабинете горит слишком долго.
Этим летом внимание всей страны привлекла трагическая история Фреды Маккечни и Роберта Эдвардса из Уилкс-Барре (штат Пенсильвания), представлявшая собой параллель драйзеровской «Американской трагедии». Редакция «Нью-Йорк пост» обратилась к Драйзеру с просьбой описать этот случай. Убийство произошло на Харвис-лейк, небольшом озере около Уилкс-Барре. Мы отправились туда вместе с секретаршей Тедди, мисс Генриеттой Хелстон, чтобы познакомиться с делом. Отель «Стерлинг», где мы остановились все трое, буквально кипел от возбуждения. Эдвардс обвинялся в том, что ударом дубинки убил Фреду Маккечни и сбросил ее тело в озеро – всё это с целью избежать последствий ее приближающегося материнства; Фреда являлась препятствием на пути к предстоящей свадьбе его с Маргарет Крейн, учительницей музыки, в которую он был влюблен. Драйзер, отнюдь не удивившись сходству между убийством в Уилкс-Барре и сюжетом своего романа, заявил газетным репортерам:
"Пресса в своих заголовках называет дело Эдвардса «американской трагедией». Газеты со всех концов страны телеграфировали мне, прося разрешения использовать отрывки из моей книги. Это подтверждает мое глубокое убеждение, что я выбрал типичный случай. Именно поэтому я и назвал свою книгу «Американская трагедия». В свое время мне было довольно трудно заставить издателей принять это название. Теперь я знаю, что был прав".
Далее, на вопрос, не считает ли он, что чтение этой книги могло натолкнуть молодого Эдвардса на тот поступок, в котором его обвиняют, Драйзер сказал:
"Конечно, это вполне возможно. Но мы можем только строить предположения, поскольку мы не знаем этого наверняка. Люди заимствуют свои идеи из многих источников – у родителей, у друзей, из книг, пьес или кинокартин. Было бы нелепо утверждать, что мы должны отказаться от всякой творческой работы только потому, что она может натолкнуть людей на мысль последовать избранному нами сюжету".
__________________
После смерти Хораса Ливрайта Драйзер порвал все связи с этим издательством и перешел в издательство «Симон энд Шустер».
Из-за несостоятельности «Ливрайт корпорейшн» Драйзер был втянут в арбитражное дело, которое длилось годами, пока, наконец, он не был вынужден уплатить крупную сумму денег издателям, чтобы избавиться от них.
Это судебное дело сильно утомило Драйзера, и весной 1935 г. он заявил, что хочет поехать проветриться в Калифорнию.
Он мечтал увидеться со своим любимым другом Джорджем Дугласом, который в то время работал у Уильяма Рандолфа Херста; он писал передовые для «Лос-Анджелес икзаминер». Дуглас сообщал Драйзеру, что он соскучился по интеллектуально близким ему людям и радуется возможности обсудить с Драйзером его «Формулы, которые называются жизнью». Он будет счастлив, если Теодор остановится у него в доме и будет здесь писать. Это. предложение так понравилось Тедди, что мы решили сдать наш загородный дом и уехать на лето в Калифорнию.
Глава 24
Дом Джорджа и Молли Дуглас выглядел очень привлекательно; в нем жила вся семья Дугласов, состоявшая из Джорджа, Молли и их двух дочерей – старшей Холли, писавшей киносценарии, и Дороти, балерины. Джордж был любящим мужем и отцом, но он страдал от отсутствия в Лос-Анжелосе близких ему по духу людей. В сравнении с этим его жизнь в Сан-Франциско, где он так долго жил и работал, была более красочной и способствовавшей творчеству, ибо там он общался с писателями, художниками и критиками. По существу он знал всех, кто играл какую-либо роль в культурном мире Сан-Франциско; он имел свободный доступ во все его культурные центры, включая знаменитый Богемиен-клуб.
Молли, имевшая какие-то дела в Сан-Франциско, этим летом очень часто уезжала из Лос-Анжелоса, и Драйзер вдвоем с Дугласом прекрасно проводили время; хозяйственная проблема была тоже разрешена, потому что Драйзер нашел очень добросовестную женщину, согласившуюся вести хозяйство. Несколько раз в неделю они ужинали дома; в остальные вечера – где-нибудь в другом месте. Часто я ужинала вместе с Джорджем и Тедди, а однажды, когда выяснилось, что дни рождения того и другого почти совпадают, мы вместе с Молли устроили веселое празднество в честь наших двух «новорожденных».
Письмо, написанное Тедди несколько месяцев спустя из Нью-Йорка Джорджу, даст более яркое представление о проведенном нами лете, чем могу это сделать я:
Маунт-Киско, штат Нью-Йорк, вторник, 28 января 1936 года
Джордж, дорогой!
Благодарю за письмо. Я всегда читаю написанное тобой, как страницы из Платона, Хаксли, или Спенсера, или кого-либо из моих любимых комментаторов жизни. Мне хотелось бы сидеть сейчас с тобой в саду за домом в качалке и наблюдать птиц у пруда или звезды на небе. Мы были безмерно счастливы вдвоем, и мне тяжело думать, что ты теперь снова один. К тебе так идет роль центральной фигуры какого-либо джонсоновского кружка! Его просто следовало бы создать для тебя. Я часто с большой любовью возвращаюсь мысленно к проведенным с тобой вечерам – вспоминаю наши прогулки под тихими деревьями и то, как мы повторяли снова и снова, что жизнь есть то, что она есть. А помнишь, как, вернувшись домой, мы открывали томик Суинбэрна, или Шекспира, или Китса, или Стерлинга, или Шелли! Бамбуковые деревья высятся за окном! В полночь раздается крик пересмешников! Перед моими глазами – зеленые светящиеся слова электрической рекламы над крышами домов! А ты сидишь я читаешь или рассказываешь о богеме Сан-Франциско.
Привет, Джордж! Я благодарен тебе. И чуть не плачу.
Т.Д.
Р. S. Мы собираемся снова приехать в Л.-А.- самым серьезным образом. Как мне хотелось бы провести побольше времени с тобой. У меня накопилось уже достаточно материала по всем вопросам, которые я хочу обсудить с тобой.
Когда Тедди чувствовал потребность отдохнуть несколько минут от работы за письменным столом, он обычно шел в сад позади дома, где был красивый садок для рыб. Он сидел на краю его и подолгу наблюдал за жизнью рыб и птиц. Потом он любил рассказывать, как обращаются птицы со своими птенцами – как они учат их летать с ветки на ветку, ловить твердые крошки хлеба, которые Тедди бросал им в воду, чтобы они размокли, как они обращают внимание своих птенцов на червячков или насекомых и как они наказывают и бранят их, когда те совершают какие-нибудь серьезные ошибки. Все животные привлекали к себе внимание Тедди. Много лет назад, когда он жил на 10-й Западной улице в Нью-Йорке, у него на столе в клетке сидел мышонок. Тедди кормил и поил его, забавляясь с ним в течение нескольких месяцев. Затем однажды он решил, что держать мышонка в клетке жестоко, и поехал с ним на такси до ближайшего поля под Нью-Йорком, где он выпустил мышонка на свободу. Однако мышонок, к этому времени лишившийся всякой инициативы и, несомненно, предпочитавший заключение превратностям жизни на свободе, бросился бежать за Тедди и пищал, когда тот от него уходил. Тедди долго вспоминал об этом эпизоде, подвергая сомнению правильность своего поступка и размышляя о судьбе мышонка.
Бренетта Йерг, очаровательная молодая женщина, которую мы встретили в Ментоне, во Франции, в 1928 г., стала вести секретарскую работу у Драйзера. Том Тринор, молодой журналист, погибший в Европе при авиационной катастрофе в период второй мировой войны, как раз в те дни, когда он писал серию блестящих очерков для «Лос-Анджелес тайме», жил тогда рядом с нами и время от времени заходил навестить Драйзера и Дугласа. Доктор Д. П. Маккорд, брат Питера Маккорда тоже часто посещал нас этим летом, как и доктор Калвин Бриджее, работавший тогда в Калифорнийском технологическом институте.
Среди лета Дугласу удалось организовать благодаря любезности известного астронома доктора Эдвина П. Хаббла экскурсию в обсерваторию «Маунт-Вилсон» в тот вечер, когда там не было посетителей. Мы приехали на Маунт-Вилсон уже в сумерки, и, прежде чем показать нам звезды, на которые был направлен в эту ночь гигантский телескоп, нас провели по всей огромной обсерватории, в те времена крупнейшей в мире. На меня самое большое впечатление произвел тот способ, каким в астрономии использовалась фотография. Огромное, медленно вращающееся зубчатое колесо, делающее оборот в течение 24 часов и управляющее движением телескопа, направленного на какую-нибудь определенную звезду или галактику, было рассчитано до самых минимальных делений, чтобы изображение в телескопе было ясным, нерасплывчатым и фотоснимки получались отчетливыми. Огромный труд и время затрачивались на уход за этим гигантским зубчатым колесом, чтобы соразмерять скорость его вращения со скоростью вращения земли и направлять телескоп на избранную для данного вечера звезду. Двойная звезда Антарес была похожа на огненный шар, а Вега казалась бело-голубым бриллиантом. Млечный Путь и другие галактические системы были похожи на звездную пыль, рассыпанную по небу рукой божества в какой-то расточительный момент вечности.
Мысль о том, что каждое светящееся пятнышко представляет собой небесное тело, заставляла нас ощущать себя более ничтожными, чем самая маленькая песчинка на этой бесконечно малой планете.
Домой мы ехали в необычном для нас молчании, размышляя, несомненно, о виденных нами чудесах. В последующие недели мы совершили еще ряд интересных экскурсий в различные места, например, в такие научные центры, как Калифорнийский технологический институт и Хантингтонская библиотека в Сан-Марино.
Увидев сдававшееся в наем небольшое бунгало на Розвуд-авеню, Тедди выразил желание снять его на остаток лета. Устроиться в маленьком домике нам было легко, так как у нас с собой было мало вещей – всего несколько больших чемоданов и ящиков, наполненных драйзеровскими записями по «Формулам», над которыми он хотел работать. Но этот наш маленький временный дом, впитав в себя тепло гостеприимной натуры Драйзера, вскоре стал притягивать к себе Джорджа и других наших друзей. В свободное время Тедди поливал сад, оказавшийся в совершенно запущенном состоянии. В саду росло несколько высоких розовых кустов, на которых под любящей и заботливой рукой Тедди распустились прекрасные розы.
Однажды, проезжая по бульвару Уилшайр, я подъехала к перекрестку, где все движение было приостановлено, так как какая-то машина делала огромный разворот в виде буквы «U», против движения. Я высунулась, как и все, из машины, чтобы посмотреть, кто это проделывает такой отчаянный трюк, и увидела Драйзера, поворачивавшего свой бьюик столь удивительным способом. Просто не могу понять, как ему удалось избежать штрафа за нарушение правил уличного движения! Очевидно, все регулировщики находились где-то далеко. Я ему вначале ничего не сказала, но такое забавное происшествие невозможно было долго держать в секрете, и, когда я упомянула о нем, Драйзер воскликнул: «Как, черт возьми! Неужели ты видела? А я то думал, что мне удалось проскочить так, что никто не заметил. Оказывается, ты все видела». Мы много смеялись, но Драйзер продолжал водить машину сам.
Наступил октябрь, мы вспомнили о приближении осени на востоке и стали подумывать о нашем неизбежном возвращении туда. Драйзеру было жаль расставаться с Джорджем.
Через несколько месяцев после нашего отъезда из Лос-Анжелоса до нас дошла печальная весть о его внезапной смерти, и мы вспомнили горькие слова, которые он пророчески произнес в ту минуту, когда мы собирались уезжать: «Во всяком расставании есть привкус смерти».
На обратном пути мы решили ехать по южной дороге, так как погода становилась просто угрожающей. Все шло хорошо, пока мы не достигли штата Арканзас, где в течение многих дней уже шли ливни. Весь день мы двигались под потоками дождя, застилавшими стекла нашей машины, и наконец почувствовали, что вынуждены сделать остановку на некоторое аремя. Тедди беспокоился о своих записях, которые он вез в ящиках в багажнике своего автомобиля. Ему хотелось проверить, не проникла ли сырость в ящики. Найдя подходящий домик в городе Литл-Рок (штат Арканзас), состоящий из двух комнат и ванной, мы распаковали ящики. Записки действительно намокли, и оставалось только разложить их в одной из комнат, где в печке ярко пылали дрова. Никогда не забуду ту ночь, когда за окном шумел ливень, а мы возились с сотнями листков, расправляя их, раскладывая по всему дому: на кроватях, стульях, ящиках,- развешивая на веревках, которые Тедди натянул от стены к стене по всей комнате. Это была какая-то фантастическая и в то же время мучительная ночь, ибо мы буквально были засыпаны этими листками и очень волновались из-за них. Однако мы решили не падать духом и просидеть в Литл-Рок до тех пор, пока все листки не просохнут окончательно и мы не сможем снова спокойно запаковать их.
В такую погоду нечем было заняться, но нам посчастливилось найти славный ресторанчик, где нам подали приготовленного по-деревенски жареного цыпленка и бутылку очень хорошего вина. Многие дороги в окрестностях были совсем затоплены, и, как нам сказали, можно было ехать только в одном направлении. Проезжая по городу, мы были вынуждены сворачивать с одной улицы на другую, так как погружались в воду глубиной до двух и более футов. И мы были рады, что имели возможность задержаться здесь на ночь и на следующий день.
Мысли Тедди, естественно, вернулись к Лос-Анжелосу и Джорджу Дугласу, к его надеждам, если не на счастливую, то хотя бы на сносную жизнь. Он стал вспоминать проведенное вместе с ним лето, их долгие сложные философские дискуссии и многие счастливые часы, проведенные вдвоем. Драйзер высказал уверенность, что Джордж не может быть счастлив, работая изо дня в день над передовыми статьями. Он мечтал стать независимым, как мечтает об этом всякий незаурядный писатель, чтобы иметь возможность свободно высказываться по любому избранному им вопросу. Дуглас часто выражал ему свою неудовлетворенность работой по составлению передовых для какой бы то ни было газеты и признавался Драйзеру в своем страстном желании избавиться от этой работы. Но необходимость зарабатывать деньги на содержание своей семьи лишала его возможности вступить в число независимых писателей. Никто более, чем Драйзер, не мог сочувствовать этому, ибо в течение многих лет он сам вел отчаянную борьбу за право для себя и других писателей сохранить свободу высказывания и ясное понимание вещей в мире предрассудков, застарелых традиций, обычаев и поднятий, душивших прогрессивный ум.
Когда черновые наброски к «Формулам» высохли, мы тщательно собрали и запаковали их и на следующий же день сели в машину и двинулись на север, в «Ироки», через штаты Теннесси, Кентукки, Огайо и Пенсильванию.
Глава 25
Летом 1936 года была инсценирована «Американская трагедия» под названием «Дело Клайда Грифитса»; инсценировку сделали Пискатор и Лена Гольдшмидт. Премьера состоялась 13 марта в нью-йоркском театре Этель Барримор; ставил спектакль Милтон Шуберт, играли актеры Театральной группы.
Это было выдающееся событие в театральной жизни, привлекшее к себе общее внимание. Инсценировка, переведенная с немецкого языка на английский Луизой Кэмпбелл, была впервые поставлена Джеспером Дитером на сцене театра Хеджероу в Мойлане, штат Пенсильвания, в апреле 1935 года. В первой инсценировке романа, сделанной Патриком Кирни вскоре после выхода первого издания книги, главные роли исполняли Морган Фэрли, Мириам Хопкинс и Кэтрин Вилсон; в инсценировке же Пискатора и Гольдшмидт в главных ролях были заняты Моррис Карновский, Александр Кирленд, Феба Брэнд и Маргарет Баркер.
С начала тридцатых годов материальное положение Драйзера становилось все хуже и хуже. Расходы на путешествия, жалованье секретарям и оплата работы по подбору материалов, налоги, содержание поместья «Ироки» – все это поглощало значительную часть его заработка. У меня зародилась мысль сделать киносценарий о жизни брата Тедди Поля Дрессера, и использовать в фильме его знаменитые песенки. Я стала перечитывать произведения Драйзера, в которых он вывел своего брата,- «Двенадцать» («Мой брат Поль»), «Каникулы индианца», «Книгу о себе самом» и «Зарю». Мэйм, близко дружившая с Полем в годы его творческой работы, отнеслась к моему замыслу с большим энтузиазмом и рассказала мне много интересных случаев из его жизни. Когда я сообщила о своем плане Теодору, он одобрил его, но выразил сомнение, смогу ли я получить согласие остальных членов семьи; кроме того, необходимо было учесть закон об авторском праве на исполнение песен, ибо Поль не оставил никакого завещания. Однако перспектива возможных осложнений не охладила моего рвения: я была уверена, что смогу доказать семье всю выгоду такого фильма, если он получится удачным.
Я решила обратиться в Музыкальную корпорацию Пауль-Пайонир и в корпорацию Эдварда Б. Маркса, издававшие песни Поля Дрессера, и изложить им мою идею об использовании этих песен в биографическом фильме. Издатели отнеслись к этой идее с восторгом и оказали мне большую поддержку, тотчас же заключив контракты. Кроме меня, в этих контрактах в качестве другой стороны фигурировали Теодор Драйзер и Мэри Френсис Бреннан (Мэйм).
В 1937 году, уладив, наконец, все формальности, я решила поехать в Калифорнию и добиваться там постановки фильма под названием «Моя подружка Сэл»,- так называлась одна из песенок Поля. О том, как был приобретен киностудией этот сценарий, как он спустя три года был поставлен в Голливуде, и о том, сколько умственных и физических сил было затрачено на его постановку, можно написать целую повесть.
Во время моего пребывания в Калифорнии Тедди принял приглашение Лиги американских писателей участвовать в Международной мирной конференции, которая должна была состояться в Париже. В то время в Испании шла гражданская война, и Драйзер чрезвычайно волновался за исход этой борьбы. Он писал мне из Парижа, что его крайне удивляет подчеркнутое равнодушие, проявляемое демократическими представителями на Мирной конференции по отношению к испанским республиканцам. Позже он мне рассказывал, что в своем большинстве делегаты настолько не сочувствовали его взглядам, что даже пытались сорвать его выступление, поместив его имя в самом конце длинного списка ораторов. Однако Драйзер расстроил их планы. Когда он увидел, что многие из присутствовавших, устав от нескончаемых речей и полагая, что заседание уже заканчивается, двинулись к выходу, он встал и громко сказал: «Не уходите! Не уходите! Я должен сказать вам нечто важное!»
Услышав эти слова, люди, направлявшиеся к дверям, стали возвращаться на свои места. Драйзера словно подстегнула попытка заглушить его голос, и он произнес взволнованную речь. Это было одно из самых страстных выступлений на конференции. Он говорил о несправедливом отношении к испанским республиканцам, находившимся в трудном положении, и о необходимости прекратить бомбежку открытых городов. Все вечерние газеты напечатали речь Драйзера на первых страницах.
По приглашению группы испанских республиканцев Драйзер отправился в Барселону. Город подвергался бомбежке, повсюду на улицах падали бомбы – одна даже попала в отель, где остановился Драйзер, но он, рискуя жизнью, во что бы то ни стало хотел непосредственно убедиться в том, как велики страдания испанского народа. Вернувшись в Америку, он описал бедственное положение, голод, нищету испанского народа. На многих это произвело огромное впечатление, и испанские республиканцы приобрели немало сторонников, но, к сожалению, слишком поздно. Драйзер однажды даже поехал к президенту Рузвельту на его яхту «Потомак» и во время рейса по реке Гудзон, за завтраком, положил перед президентом разработанный им проект помощи испанским республиканцам. Рузвельт внимательно просмотрел проект и воскликнул: «Вот это действительно прекрасно составленный документ! Если б мне всегда подавали отлично разработанные проекты, вроде этого, вероятно, я многое мог бы сделать».
Рузвельт сказал, что он лишен возможности поддерживать какую-либо сторону в этой борьбе, но, тем не менее, обещал сделать то, что в его силах, и впоследствии выполнил это обещание, послав в помощь Испании два или три нагруженных судна, после чего Драйзер написал ему следующее благодарственное письмо:
Глендейл, Калифорния, 5 января 1939 года
Дорогой мистер Рузвельт!
С величайшим удовлетворением я прочел в «Нью-Йорк тайме» о проведенном Вами мероприятии в связи с бедственным положением женщин, детей и стариков в Испании – о той помощи, которую Вы, сохраняя полное беспристрастие, нашли возможным им оказать.
После того, как я имел случай ознакомить Вас с действительными фактами, я сделал все что мог, чтобы создать сильную и вполне беспристрастную комиссию. Не называя имен, могу Вас заверить, что двенадцать известных американцев, обладающих богатством и влиянием, относясь с большой похвалой к этому замыслу как к новому средству осуществления гуманитарных идей, которое сможет быть полезным не только теперь, но и в будущем, все же из боязни, что их причислят либо к фашистам, либо к коммунистам, отказались от участия в этом деле. Каждый из них советовал мне обратиться к кому-либо другому. Однако я все же пытался доказать им ценность этой идеи следующими словами: «Любой избыточный продукт, уничтожаемый в ходе конкуренции, может облегчить страдания жертв войны или какого-либо стихийного бедствия, и я думаю, что отныне такая продукция будет использоваться именно для этих целей». Я не прекращал своих попыток до тех пор, пока мистер Руфус Джонс не заверил меня, что Вы намерены организовать помощь через Красный крест.
То, что Вы сумели с такой точностью и эффективностью претворить в жизнь предложенный Вам план, преодолев все препятствия, на которые неизбежно наталкивается любой обыкновенный гражданин, ясно доказывает, насколько важно, чтобы пост президента занимал человек с крупным административным талантом, и какую исключительную ценность он представляет для страны во все времена и особенно в периоды крайнего напряжения или каких-либо перемен.
Приношу Вам свою глубокую благодарность. Вы сделали то, что я всей душой хотел бы сделать для Вас.
Искренне преданный Вам Теодор Драйзер.
Перед отплытием в Америку Драйзер поехал в Уэлс навестить Джона Коупера Поуиса, жившего в Корвене, в Мерионет-шайре. Он сообщал мне из Корвена, что это посещение доставило ему много радости, и описывал чудесные прогулки, которые они совершали вдвоем по лесам.
Проезжая через Лондон, Тедди посетил Рэдингскую тюрьму и на стене камеры, где когда-то был заключен Оскар Уайльд, написал следующие стихи:
Дух свой с парусом скрепи,
Ветер призови,
К сводам Рэдингской тюрьмы
По волнам плыви.
Здесь погиб плененный ум -
Весть ему я шлю:
«День придет, и мы с тобой
Будем жить в раю!»
Тем временем я находилась в Голливуде; моя идея создать киносценарий о жизни Поля Дрессера встретила там самый лучший прием, но продать сценарий и довести дело до конца оказалось нелегкой задачей. В это время кинопромышленность переживала период реорганизации, и это затягивало деловые переговоры. Я решила поехать в Портленд и погостить несколько месяцев у матери, пока в Голливуде не установится более или менее нормальное положение. Туда в ноябре 1938 года ко мне приехал Тедди, проделавший путь из Нью-Йорка в Портленд специально для того, чтобы сказать мне, что ему хочется совершенно изменить образ жизни, упростить его и ограничить себя самым необходимым. Он сказал, что устал от сложностей нью-йоркской жизни и уверен, что, если я соглашусь следовать за ним, мы могли бы начать новую жизнь, поселившись в Калифорнии.
Я согласилась, и 3 декабря 1938 года, когда жара в Калифорнии достигала девяноста трех градусов по Фаренгейту, мы вернулись в Лос-Анжелос. Прежде всего, мы решили найти себе подходящую, но недорогую квартиру, что по тем временам было довольно трудно. Тедди хотелось жить в Глендейле, где восемнадцать лет назад началась наша совместная жизнь. Поэтому, когда нам попалась небольшая квартирка с уютным двориком на Лоррэн-авеню, неподалеку от домика, в котором мы жили когда-то, мы сняли ее не задумываясь.
Тедди возобновил работу над «Формулами, которые называются жизнью», но он не мог оставаться равнодушным к тому, что происходит в мире,- к неустойчивому экономическому положению в Европе, угрозам диктаторов, плачевному положению голодающего населения Испании, роли, какую играла Британская империя в международных делах,- и предпринял турне по Тихоокеанскому побережью, выступая с лекциями в городах.
«Международная обстановка в настоящее время сложилась так, что я не помню, чтобы мне приходилось слышать или читать о более угрожающем положении,- говорил он.- Не может быть сомнений в том, что надвигается война. И самое печальное – это то, что Соединенные Штаты к войне не готовы. Наш народ ходит в кино, танцует фокстрот и читает юмористические журналы, вместо того чтобы готовиться к обороне в случае международного конфликта».
«Пробудитесь же, будьте готовы к войне! Пора покончить с благодушием!» – предупреждал он людей всюду, где ему приходилось бывать1.
Однажды в Окленде в ответ на вопрос о том, что он думает о жизни, Драйзер сказал:
Прежде я считал, что жизнь жестока, несправедлива, опустошительна, а счастье – только иллюзия. Быть может, таким представлением я был обязан окружавшей меня с юности обстановке. Я считал несправедливым, что мои родители должны были уплачивать церковную десятину, в то время как у нас в доме не было даже картофеля. Когда я был в Нью-Йорке репортером, меня возмущало то, что считалось самым важным в газетной работе: жадный интерес ко всему нездоровому и сенсационному в жизни богатых людей. Когда я пробовал писать о страданиях угнетенной бедноты, меня поднимали на смех. Я бросил газетную работу и стал писать о социальной несправедливости. Я выдержал упорную борьбу. Из нее я вышел не озлобленным, но морально подавленным.
А когда его спросили, не религии ли он обязан переменой во взглядах, он ответил:
Религия? Да пропади она пропадом! Нет, не религии я обязан, а чему-то другому, что заменяет нужду в религии. Лет десять назад я решил заняться самообразованием, ибо в юности проучился в колледже всего один год. Я стал заниматься науками, изучать философию, бывал в лабораториях, беседовал с образованными людьми. Ведь каждый из нас – ничто, никто из нас не является творцом; нам дано только быть субстанцией, через которую действуют и проявляются силы природы. Наших пяти чувств недостаточно, чтобы определить, являются ли эти силы эманацией божественного разума, гораздо более великого, чем наш, или они просто случайны. Я не беру на себя смелость утверждать, что знаю это. Вселенная настолько необъятна, что смешно думать, будто мы на нашем крохотном земном шаре способны хотя бы приблизительно угадать природу этих сил или разума. Мы можем только приспособиться к ним. Но никто из нас, богат он или беден, не может избежать горестей и царапин; каждый получает свою долю…
Однако мне радостно видеть, что, судя по всему, наступает конец такому положению, при котором аристократы ставят себя выше всех и смотрят на всех остальных, как на муравьев, слуг и рабов. Эта проблема стоит сейчас в повестке дня и, надеюсь, скоро вовсе перестанет существовать… И если имущие не сделают какого-нибудь более великодушного шага в сторону неимущих, то мы, в конце концов, вероятно, выйдем на улицы и будем решать этот вопрос в рукопашной схватке… А если нам предстоит уничтожить эту штуку, которая называется цивилизацией, то я нисколько не возражаю против подобной потери. В сущности, это ничего не изменило бы. Не человек создает цивилизацию – им управляют силы природы, заставляя делать то, что нужно. На свете было немало цивилизаций, которые удовлетворяли современников так же, как нынешняя удовлетворяет нас. И на свете еще будут цивилизации, вполне отвечающие запросам своего времени, даже если нынешняя будет завтра уничтожена.
Когда ему задали вопрос, что он думает о президенте Рузвельте, Драйзер сказал: «За всю мою жизнь это первый президент, который что-то сделал для страны. И, по правде сказать, сделал он уйму».
Хотя на афишах лекции Драйзера назывались: «Что я думаю о жизни», он часто переходил на тему о социально-экономических бедствиях, потрясавших в то время мир, особенно если накануне лекции ему приходилось вести какой-нибудь интересный разговор или спор на подобную тему, как это было с ним в Портленде (штат Орегон). Перед своим выступлением в Мейсоник-Темпл (16 февраля 1939 года) он разразился беспощадной тирадой против Англии; консервативный городок долго еще помнил эту речь. Она вызвала резкие нападки на Драйзера.
В целях удобства мы решили переехать в Голливуд и вскоре нашли двухэтажную квартиру на Хэйворс-авеню, близ бульвара Сансет, за очень умеренную плату.
Драйзер начал всерьез развивать общественную деятельность. Он ездил в Вашингтон и в Нью-Йорк читать лекции для Общества друзей Советского Союза и Американского общества борьбы за мир. Он обращался к народу, выступая в Вашингтоне и Нью-Йорке по радио. Он писал листовку за листовкой на всевозможные темы, которые казались ему достаточно важными и к которым он считал необходимым привлечь внимание американского народа; он писал их по собственной инициативе, издавая за свой счет и тысячами распространяя среди своих друзей и прогрессивно настроенного населения Соединенных Штатов.
Но даже подобные статьи не удовлетворяли его. Ему хотелось написать книгу на экономическую тему. Всюду и везде люди требовали от него нового романа, но он говорил: «Какое значение может иметь какой-то роман в это катастрофическое для всего мира время? Нет, я должен писать об экономике». Так появилась книга «Америку стоит спасать». Это был не роман, а боевая книга, построенная на фактах, в которой прямо ставился вопрос о кризисе Америки – должны ли мы держаться в стороне от неминуемой империалистической войны? Решительно да, утверждал Драйзер. В качестве своей платформы он взял Декларацию независимости и конституцию Соединенных Штатов.
«Америка стоит того, чтобы ее спасать,- призывал он. – Не ввязывайтесь в империалистическую войну». В одной статье о книге Драйзера говорилось:
Он не только протестует против нашего участия в войне. С ловкостью адвоката, с точностью статистика и пытливостью историка он приводит целый ряд доказательств, убеждающих нас, что эта война не является борьбой за демократию, а представляет собой лишь очередную безумную империалистическую драку за прибыли и власть. В сущности, Драйзер дал в своей книге катехизис и энциклопедию мира для Америки:
Каковы практические соображения отказа от участия в войне? (Драйзер посвящает этому целую главу).
Любит ли нас Англия?
Насколько Англия демократична?
Демократизировала ли Англия народы своей империи?
Не пороча английский народ, Драйзер приводит точные факты из истории, доказывающие жестокость, антидемократичность и надменность правящего класса Британии, который только на словах преклоняется перед демократией, а в то же время грабит весь мир в целях наживы. Не щадит Драйзер и Гитлера, и французских фашистов, и врагов народа, существующих как в Америке, так и за границей. Он пишет о них в своей книге, называя по именам, раскрывая их коварные и преступные козни; это зловредные паразиты – миллионеры Англии, Франции, Германии и Америки.
Но в те годы события развертывались быстро. Когда Германия напала на Россию, а Япония подвергла бомбардировке Пирл Харбор, Драйзер стал призывать американцев напрячь все силы и довести войну до победного конца, и всю свою деятельность направил к этой цели.
Стесненное материальное положение в конце концов сказалось на здоровье Тедди. С ним случился сердечный припадок, и ему пришлось пролежать в постели два месяца под наблюдением постоянного врача и специалиста по болезням сердца.
Однажды утром Драйзеру, уже полтора месяца лежавшему в постели, позвонил мистер Э. Дориан Отвос, занимавшийся продажей права на экранизацию романа «Сестра Керри», и сообщил, что ему удалось продать его Кинорадиокорпорации. Продажа «Сестры Керри», написанной сорок лет назад, является еще одной главой любопытной и необычной истории этого романа. В издательских кругах ходили уже легенды о трудностях, связанных с его опубликованием.
«Сестру Керри» Драйзер начал писать в конце 1899 года при поддержке своего старого друга Артура Генри. В начале 1900 года он закончил роман, окончательно отредактировал его с помощью того же Артура Генри и послал в издательство «Харперс», которое ответило ему отказом.
Тогда Драйзер обратился в издательство «Даблдэй, Пэйдж энд компани» и вручил рукопись самому Фрэнку Даблдэй. Тот, уезжая с женой в Европу, передал рукопись Фрэнку Норрису, автору «Мак-Тига» и других романов; в те времена он работал в издательстве Даблдэй. Норрис пришел в восторг от «Сестры Керри» и рекомендовал ее к опубликованию. После него рукопись прочли Генри Ланьер и Уолтер Хайнс Пэйдж, компаньоны фирмы; был составлен и подписан договор, и книга уже пошла в набор, но тут вернулся из Европы Фрэнк Даблдэй с женой. Даблдэй взял почитать гранки расхваленного романа домой, и, естественно, они попали в руки его супруги. Она пришла в ужас. Книга показалась ей не только вульгарной, но и безнравственной, и, следуя своим собственным моральным принципам, она стала решительно добиваться того, чтобы Драйзер был уведомлен о расторжении договора. Тогда он стал отстаивать и книгу, и свои права по договору. Адвокат Даблдэя Томас X. Макки посоветовал фирме издать книгу небольшим тиражом, не беря на себя никаких обязательств по ее продаже и распространению. В конце концов, издательство выпустило тысячу экземпляров, и хотя Норрис разослал больше сотни экземпляров для рецензий, ни в газетах, ни в журналах не появилось ни одного объявления о том, что 8 ноября вышла из печати новая книга. В результате было продано всего 465 экземпляров.
В числе издателей, получивших от Норриса экземпляры романа для рецензий, был лондонский издатель Хейнеман, выпустивший «Сестру Керри» в серии «Долларовой библиотеки американских писателей». В английской прессе появились хвалебные отзывы о книге, и Драйзер воспрянул духом. Через некоторое время Джозеф Тэйлор, директор фирмы «Дж. Ф. Тэйлор», купил у Даблдэя матрицы «Сестры Керри», но так и не напечатал книгу. Чарлз Эгнью Маклин из фирмы «Стрит энд Смит», у которого Драйзер работал в качестве редактора детективных рассказов и приключенческих романов, выходивших в дешевых изданиях, купил матрицы у Тэйлора за пятьсот долларов. Маклин был в хороших отношениях с Ормандом Смитом, с которым Драйзер вскоре познакомился и подружился. Служа в этой фирме, Драйзер вместе с ним придумал и разработал план издания двух новых приключенческих журналов: «Смит мэгэзин» и «Попюлер мэгэзин». Драйзер с большим юмором рассказывал мне, как он, бывало, брал рукопись какого-нибудь длинного романа со всякими леденящими кровь ужасами, разделял ее пополам и дописывал к первой половине конец, а ко второй сочинял начало.
В 1906 году Драйзер, работая редактором у Бена Хэмптона в «Бродвэй мэгэзин», купил у Маклина матрицы «Сестры Керри». Затем, в 1907 году, Бен У. Додж, владелец фирмы «Б. У. Додж энд компани», издал книгу Драйзера, который был в то время связан с этой фирмой. Позже, когда Драйзер заключил с издательством «Харпер энд бразерс» договор на издание «Дженни Герхардт» и «Финансиста», издательство купило у фирмы Додж права на «Сестру Керри» и выпустило ее в 1912 году, поместив о ней объявление с цитатой из статьи Арнольда Беннета, в которой говорилось, что «пожалуй, «Сестра Керри» является самым выдающимся американским романом». Это было через двенадцать лет после того, как роман впервые был представлен к изданию.
Глава 26
В декабре 1940 года, проезжая по Норс-Кингз-род в Голливуд, мы увидели уютный домик, на котором висело объявление о продаже, и остановились, чтобы расспросить об условиях. Войдя в гостиную, мы сразу же поняли, что это именно то, чего нам хотелось, и тут же договорились о покупке домика. Через месяц три больших багажных фургона перевезли из «Ироки» на новое место жительства мебель, литературный архив и библиотеку Драйзера. Отстраивалось новое помещение для литературного архива, надежно защищенное от сырости, а за домом разбивался сад, соответствующий вкусу Драйзера. Все кустарники и цветы были пересажены так, что они окаймляли ровную лужайку, на которой росли только два дерева авокадо с длинными изящными ветвями. В другой части сада росли лимон, слиза, грецкий орех и несколько банановых деревьев. Белый дом в мавританском стиле был целиком сложен из цементных блоков; помимо особой прочности, такая кладка отлично защищала летом от жары, а зимой от холода. Из гостиной открывались двери в столовую и музыкальную комнату; эта анфилада создавала впечатление большого простора. Тедди нравился этот дом, так как он был нам вполне по средствам.
На Кингз-род мы зажили сравнительно хорошо. Тедди снова мог работать за своим любимым столом из рояля палисандрового дерева – его поместили в северной части дома, состоящей из кабинета, спальни, ванной и внутреннего дворика с отдельным выходом в сад. Там он написал несколько оригинальных киносценариев и коротких рассказов, продолжая в то же время работать над своими «Записками».
Тедди пользовался каждым удобным случаем, чтобы побывать в Калифорнийском технологическом институте; он присутствовал при опытах, беседовал с учеными и знакомился с их последними открытиями. Однажды мы посетили доктора Эдисона Петтита, известного астронома, работавшего в обсерватории «Маунт-Вилсон». У себя дома и в своей личной лаборатории в Пасадине он показал нам поразительные фильмы, снятые в мичиганской обсерватории Макмас Халберт. Это были одни из первых киносъемок солнца, показывающих, как оно выбрасывает огромные протуберанцы высотой 400-500 тысяч километров, а затем снова втягивает большинство из них в свою расплавленную массу; мы были захвачены этой потрясающей фантастической картиной.
Доктор Теодор фон Карман, выдающийся теоретик воздухоплавания, руководивший опытами с аэродинамической трубой, обсуждал с Драйзером технические и научные проблемы воздушного потока. Много раз мы бывали и в других интересных лабораториях, работающих над раскрытием некоторых тайн вселенной.
В этот период Драйзер много работал, не переставая, однако, общаться с друзьями и знакомым». Миссис Элизабет Кокли, сестра драматурга Патрика Кирни, исполняла у него обязанности секретаря вместе с миссис Байрон Смит из Глендейла. Миссис Смит занималась также подбором архивных материалов. Она собирала старые журналы, в которых на протяжении многих лет печатались статьи и рассказы Драйзера. После его смерти она подарила это собрание Публичной библиотеке в Лос-Анжелосе.
Лилиан Роздейл Гудман, написавшая музыку к песням на стихи Драйзера из сборника «Настроения», перевела свою вокальную студию из Чикаго в Голливуд. Ее дружба с Тедди началась еще в те времена, когда он писал «Дженни Герхардт»; теперь он возобновил эту дружбу и близко сошелся со всей ее семьей. Много чудесных вечеров мы провели в ее доме и студии на Пилгримэдж-Трэйл, и я нашла в ней не только талантливую актрису, но и глубоко преданного друга.
Огромное удовольствие нам доставило свидание с Элеонорой и Шервудом Андерсоном, попавшими в Лос-Анжелос проездом; мы провели длинный вечер в тускло освещенном старом Китайском городке, слушая рассказы Шервуда и Теодора. Они когда-то были соседями по Гриивич-Вилледж, и у них было много общих воспоминаний. Мы с Тедди, однако, обратили внимание на то, что Шервуд выглядел больным и усталым, поэтому нас не слишком поразило известие о его смерти 8 марта 1941 года в госпитале Колон в Панаме. Драйзер написал некролог на смерть Андерсона.
У нас установились дружеские отношения с Эстер Маккой, жившей в Санта-Монике, и мы часто бывали на ее вилле, расположенной у самого моря. Сердечная и добрая женщина самых либеральных и гуманных взглядов, она всегда приветливо и радушно принимала у себя гостей. В то время она столкнулась с финансовыми трудностями и переживала душевный кризис, но, тем не менее, сумела создать себе красивую, артистическую, без излишних прикрас жизнь. Она писала короткие рассказы, и я всегда с нетерпением ждала их. Хотя ее рассказы и не получали общего признания, Тедди постоянно уговаривал ее писать и каждый раз отправлять эти рассказы редакторам журналов, сколько бы те ни возвращали их ей обратно. Он верил в нее как писателя и всегда служил для нее источником вдохновения. Эстер слушалась его советов, и вера друзей в то, что она одержит победу, оправдалась, так как ее рассказы в конце концов стали пользоваться значительным успехом. Она написала роман и много других удачных произведений.
Страшным ударом для меня было известие о самоубийстве моего любимого друга и учительницы пения Марии Сэмсои. После смерти мужа, доктора Белла Васе, скончавшегося в Нью-Йорке, она переехала в Калифорнию, где приобрела миого хороших учеников и искренних друзей. Ее безвременная смерть была тайной для всех, кто знал ее, ибо Мария обладала красотой, здоровьем и прекрасным голосом. Тедди, которого она нежно любила, произнес трогательную речь на ее похоронах.
Мы часто бывали на приемах в советском консульстве, где встречали много своих друзей. Там мы близко познакомились с Уной и Чарли Чаплином. Тедди относился к Чаплину с глубоким уважением как к большому художнику, мыслителю, гуманисту и великому комедийному актеру.
Молодые начинающие писатели часто искали встреч с Тедди, чтобы поговорить с ним, спросить совета или просто повидать его. Очень часто при виде его они проникались благоговейным страхом. Однажды он сказал мне, что меньше всего на свете ему хочется вызывать в литературной молодежи и вообще в людях благоговейный страх. «Я буду чувствовать себя одиноким от этого, и мне станет очень грустно,- сказал он.- Делай всегда так, чтобы они чувствовали себя совершенно непринужденно и могли, свободно приходить ко мне в любое время. Я хочу, чтобы это было именно так». И я знала, что это правда – сколько раз он предпочитал оставаться в обществе незамеченным и неизвестным для тех, с кем он разговаривал, чтобы иметь возможность свободно наблюдать и накапливать впечатления.
В сентябре 1942. года Драйзера пригласили выступить в Городском лекционном зале Торонто, в Канаде, но ему очень не хотелось принимать это приглашение. В конце концов он все же дал согласие на поездку, ничего, однако, не зная о реакционно-феодальных группировках, существовавших в этой части страны. Не успел он приехать в город, как его проинтервьюировали, и несколько его «чудовищно искаженных высказываний» с быстротой молнии облетело земной шар. Распространились слухи, что Драйзер – сторонник нацистов. Ему запретили выступать в Канаде, угрожали арестом, и, наконец, он подвергся жестоким нападкам со стороны Военной комиссии писателей. По возвращении в Соединенные Штаты он послал этой комиссии письмо в Индианаполис, штат Индиана:
Недавно меня пригласили в Торонто выступить в Городском лекционном зале. У меня не было ни времени, ни особого желания путешествовать из Лос-Анжелоса в Торонто, чтобы удовлетворить желание этих славных людей. Но после усиленных просьб с их стороны я неохотно принял это предложение и согласился выступить. Я предполагал, что аудитории лекционного зала города Торонто хорошо известны мои взгляды на социальные проблемы вообще и на Россию в частности. Мои убеждения не составляют военной тайны; с этим чувством я, выполняя свое обещание, и предпринял длинное путешествие в Торонто. Приехав туда, я был проинтервьюирован группой корреспондентов, которые в своих сообщениях приписали мне якобы высказанное мною желание, чтобы Гитлер победил Англию и стал управлять английским народом. На основе этого сообщения так называемый департамент юстиции Канады издал приказ о моей высылке. Это меня нисколько не удивило. Удивил меня тот факт, что Военная комиссия писателей, пользуясь искаженными сообщениями и даже не потрудившись узнать от меня, что же я на самом деле говорил, поспешила опубликовать заявление, открыто обвиняя меня в том, что я вдруг стал союзником Гитлера. Таким образом, она взяла на себя роль обвинителя, судей и присяжных заседателей и обрекла меня на газетную травлю, уготованную для антикапиталистического класса. Я бы не обратил на это внимания, зная раболепство этой комиссии перед британским торизмом, если бы не два важных факта: 1) огромная опасность разрыва наших отношений с теми именно людьми, которые разрушили планы нацистов, стремящихся покорить мир, и 2) Ваше обвинение, Перл Бак. Вы также подписали заявление Военной комиссии писателей, после того как изъездили вдоль и поперек Дальний Восток и наглядно описали результаты нашей политики – политики бизнеса. Я имею в виду бомбы и бензин, которыми мы снабжали японцев свыше четырех лет, что дало им возможность сжигать китайские города и убивать китайских женщин и детей. Вы также видели и правдиво описали жестокую эксплуатацию британскими тори колониальных народов Дальнего Востока.
Как же Вы могли поставить свою подпись под такого рода документом, не поинтересовавшись даже, что в действительности было мною сказано? Вместо этого Вы присоединились к хору, провозглашающему, что в этой войне нам необходимо единение. Единение вокруг чего? Вокруг «режима кнута»? Это приводит нас к тому, что было сказано мною в Торонто. В чем существенное различие между карательными отрядами Гитлера в завоеванных странах и черчиллевским «режимом кнута» в Индии? Можем ли мы позволить, чтобы народы Индии, России и Китая естественно предположили, что мы, обходя молчанием этот вопрос, одобряем «режим кнута», когда это вовсе не так? Соответствует ли это нашей истории, традициям, идеалам? Но Вы скажете, что мы находимся в состоянии войны и не можем оскорблять наших союзников. Каких союзников? Британских тори, которые более чем кто-либо иной ответственны за кровопролитие, совершающееся в мире, или огромные массы Индии, России, Китая и простых людей Англии, которые в свое время героически боролись против Мюнхена и сейчас приносят миллионы жизней на алтарь свободы? Я не говорил, что я был бы в восторге, если бы Гитлер покорил английский народ в целом. Я не уступаю никому в любви к своей стране или человечеству. Мой вклад в борьбу против нацизма слишком известен, чтобы о нем говорить. Но в том, что мы упорно плетемся вслед за британской политикой, политикой бизнеса, я предвижу возможность конечного поражения нашей страны.
Многие сведущие американцы утверждают, что если подвести сейчас баланс, то мы уже проиграли войну. Мне представляется, что единственный способ выиграть войну, отстоять свободу и всеобщий мир – это немедленное объединение наших сил с народами России, Индии и Китая. И еще одно: пришло время, когда мы должны смело выступать против несправедливости и вероломства, где бы они ни проявлялись и из каких бы источников они ни шли. Мы должны отречься от «режима кнута» Черчилля. И как раз по этому поводу я хотел бы спросить: почему из американских газет вдруг исчезло всякое упоминание об Индии именно в тот момент, когда американский народ проявляет искренний интерес к ее освобождению, видя в нем честное и разумное толкование Атлантической хартии и одну из основных целей нашей борьбы,- четыре свободы для всех народов мира?
Что касается того, как истолковывает Черчилль свое соглашение со Сталиным касательно второго фронта, то я не знаю ни одного факта в истории Америки, когда бы наша страна уклонилась от выполнения соглашения или оправдывала его невыполнение так, как это делает Черчилль, утверждающий, что соглашение между Россией и Англией, предусматривающее открытие второго фронта в 1942 году, вовсе не имело этого в виду.
Принимая во внимание эти факты, я считаю, что вежливость или, скажем проще, приличие требует, чтобы те, кто распространил эти лживые утверждения, вызвавшие мой протест, извинились передо мной публично. Частные письма ни в какой мере меня не устроят.
Заявление, публикуемое ниже, появилось в «П. М.» в воскресенье 27 сентября 1942 года.
ШОУ О ДРАЙЗЕРЕ
Джордж Бернард Шоу сказал в субботу в Лондоне, что виденные им в печати высказывания Теодора Драйзера о том, что он скорее предпочел бы видеть в Англии немцев, чем «помешавшихся на верховой езде снобов», которые правят ею сейчас, не дают достаточного материала для комментариев. Но он добавил:
«Сказать, что высказывания Драйзера в отношении войны на редкость неточны, значит только сказать, что они похожи на любые другие высказывания о войне.
Мы, англичане, осуждаем преступления, совершаемые германским рейхом, ибо не знаем, что наша Британская империя сама совершила так много подобных преступлений, что нам не к лицу напускать на себя вид морального превосходства, если только мы искренне не раскаиваемся в нашем прошлом; но мы еще ничем не доказали миру, что по существу изменились.
Хоть англичане и не знают своей истории, зато ее знают американцы, знают ее ирландцы, знают ее индийцы по собственному опыту. Нет основания предполагать, что ее не знают и немцы. Драйзер, очевидно, тоже знает ее и бурно возмущается, когда мы, подобно Гитлеру, становимся в позу господствующей нации.
Волноваться, на мой взгляд, совершенно не из-за чего. Если Драйзер твердо укрепился в своем желании видеть провалившимся в тартарары прежде всего Адольфа Гитлера, то он может говорить что угодно о гадкой старой Англии. Мы можем позаботиться о себе с помощью Америки или, в крайнем случае, даже без нее».
Ответ Драйзера Шоу:
10 октября 1942 года
Дорогой Шоу!
Благодарю за то, что Вы любезно бросили спасательный круг совсем, по-видимому, утопавшему критику доброй старой Англии. Только я еще не собираюсь идти ко дну. И я думаю, что для нашей прародины было бы весьма кстати, если бы мы воспользовались Вашим намеком и дали бы ей возможность спасти себя в этом действительно крайнем случае. К тому же, я думаю, мы стали бы лучше к ней относиться. Например, «руки, протянутые через моря» – это наши руки, непрерывно переправляющие на восток снабжение своей дорогой прародине. Одним словом, Вы сами все понимаете. Даже дети иногда восстают против чересчур требовательных родителей.
Ирландцы должны все это понимать.
Мне кажется, я знаю одного ирландца, который все это понимает, и чувствую, что могу обойтись без дальнейших намеков.
С неизменным восхищением и любовью
Теодор Драйзер.
Когда Тедди, наконец, вернулся в Калифорнию и все тревоги и волнения улеглись, он стал заметно спокойнее. Поездка на восток, сопровождавшаяся шумными инцидентами, сказалась на нем, несмотря на то, что он выработал в себе невосприимчивость к любым враждебным.нападкам. Он был охвачен желанием взяться за такую работу, которая была бы настоящим творчеством. Он уже высказал свое мнение по социально-экономическим вопросам. Он изъездил всю страну, читая повсюду лекции. Война была в полном разгаре, и в стране уже были проведены необходимые мероприятия. Ввиду этого он пришел к выводу, что неотложная необходимость в выступлениях по социально-экономическим вопросам миновала. В нем зрело желание посвятить себя работе над окончанием большого романа «Оплот», которого в течение многих лет требовали от него издатели и поклонники его таланта. Он разыскал в своем литературном архиве рукопись. «К черту все,- сказал он,- я буду работать над романом, и хотел бы я видеть того, кто сможет оторвать меня от этой работы!»
С этими словами он спокойно, но решительно принялся за работу.
Глава 27
Рукопись «Оплота», извлеченная Драйзером из архива, составляла около двух третей задуманной им много лет назад книги. В рукописи было два варианта романа; тщательно перечитав оба, Драйзер решил писать все заново. Он начал с первой главы и работал каждый день, пока не написал сорок глав, которые потом были сокращены до двадцати четырех, составивших первую часть книги.
Тедди описывал атмосферу квакерского быта, к которому он относился с уважением и почтением, описывал предания и обычаи, царившие в Сегуките, Мэне и Дакле близ Филадельфии, где жили действующие лица его романа,- и я видела, что он, сам того не замечая, все более и более увлекался книгой и отрешался от мира, охваченного злым недугом войны.
Тедди работал в маленьком дворике перед музыкальной комнатой, за небольшим ломберным столом. Там его можно было видеть ежедневно, он с увлечением работал над книгой, столь близкой его сердцу. Да и могла ли она не быть ему близкой, если прообразом его героя, Солона Барнса, являлся его собственный отец? Правда, отец его был не только фанатично религиозным, но и ограниченным человеком, который, по воспоминаниям Теодора, требовал, чтобы его дети слепо подчинялись догмам церкви.
Теодор с самого детства отличался незаурядными умственными способностями и большой чувствительностью, о чем, несомненно, хорошо знала его мать. Она видела, с какой жадной любознательностью он принялся за учение и за чтение. Тереза, более начитанная, чем другие сестры, была его любимицей и помогала ему в выборе литературы. Но она умерла совсем молодой. Кроме нее, некому было руководить чтением Теодора, и ему оставалось только положиться на собственное чутье. Однажды он отправился на исповедь, и священник сказал ему, что он должен прекратить чтение всякого рода литературы, включая и научные книги, иначе он не будет допущен к причастию. В течение нескольких дней Теодор обдумывал этот ультиматум. В день причастия, проходя мимо дверей церкви по противоположной стороне улицы, он спросил себя: «Как мне быть: войти в церковь и тем самым отказаться от любимых книг или никогда больше не переступать церковного порога?»
Будучи честным и серьезным мальчиком, он тяжело переживал эту проблему. Он думал о своем отце, о том, как он предъявлял семье неразумные требования, заставляя делать пожертвования на церковь даже в те времена, когда они жили впроголодь. А потом он подумал о том, как много может дать мальчику или юноше чтение, как оно воспитывает ум и сколько дает знаний. Мысли его снова вернулись к исповеди и причастию, и, рассказывал мне Драйзер, он принял твердое решение в пользу книг.
Но та ожесточенность, с какой отец противился его стремлению к знаниям, запомнилась Драйзеру на всю жизнь. Много раз вспоминал он слова отца: «Из-за своих книг ты попадешь в ад. Имей в виду: ты плохо кончишь».
Отец и сын никогда не могли понять друг друга, зато к матери Теодор питал глубокую любовь – эта любовь поддерживала его до последних дней жизни. «Поэтическая мать», как он часто называл ее, понимала и поощряла в нем талант рассказчика. Однако после смерти отца Теодор и в нем стал находить такие черты, которые вызывали восхищение: его честность, строгий немецкий образ жизни,- и в нем постепенно назревало желание вывести такого человека в одном из своих произведений. Но с тех пор как в 1913 году он рассказал о задуманном им романе «Оплот» Джону Коуперу Поуису и Эдгару Ли Мастерсу, Драйзер успел глубже изучить квакерство. Тогда он решил вывести в своем романе не католиков, а квакеров. Он считал, что таким образом ему удастся изобразить психологию ограниченного религиозного человека и вместе с тем избежать в своей книге того озлобления, которое непременно чувствовалось бы в книге, если бы он описывал католическую церковь, игравшую такую большую роль в жизни его отца.
Во время работы над «Оплотом» Драйзер согласился позировать итальянскому скульптору Эдгардо Симоне. За исключением портрета Драйзера, написанного Борисом Шаляпиным, это было единственное произведение искусства, для которого Тедди позировал во время пребывания в Калифорнии. Нарисованный Шаляпиным портрет вошел в коллекцию, собранную писателями Индианы и принесенную потом в дар Индианской государственной библиотеке.
Два раза в неделю Тедди посещал студию Симоне. В результате появился очень интересный скульптурный портрет Драйзера. Скульптор получил за него несколько первых премий, а позднее Тедди купил у него оригинал. Впоследствии я заказала с него бронзовую копию и подарила ее музею искусств «Метрополитен».
Однажды Симоне пригласил нас в одну из киностудий посмотреть съемки фильма «Ночь в раю»; для декораций к этому фильму были использованы несколько его крупных скульптурных работ. Это был экзотический фильм с лебедями, плавающими по глади озер, яркими птицами, с женщинами-цветами, красивыми рабами и золотыми колесницами. В киностудии Тедди несколько раз фотографировали вместе с актером, игравшим Турханбея. Агенты по рекламе упросили Тедди сообщить свое мнение о фильме, и Тедди закончил свое высказывание шутливым замечанием: «Это блистательно, но бессмысленно». На следующий день эти слова появились во всех местных газетах.
Тедди снова начали беспокоить денежные дела, так как он истратил значительную часть денег, полученных за право экранизации «Сестры Керри», на покупку дома в Голливуде, на перевозку вещей из Нью-Йорка, стоившую огромных денег. Он почти перестал получать какой-либо доход от продажи книг, так как во время второй мировой войны они не переиздавались. Когда он поинтересовался возможностью переиздания, ему ответили, что, прежде всего, необходимо поскорее напечатать «Оплот», чтобы оживить интерес к его прежним книгам. Драйзера так рассердил этот ответ, что он решил вернуть издателю аванс в три тысячи долларов за «Оплот» и получить возможность работать спокойно, не думая ни о каких сроках. После того как он возвратил аванс, издательство перестало его торопить, и он с новой энергией взялся за работу.
Но тут произошло событие, которое сразу изменило наше материальное положение. За последнее время Драйзеру не раз приходилось читать сообщения о широком распространении его книг в России. Всякий раз, когда в печати появлялись сведения о продаже книг в России, он находил свое имя среди первых пяти писателей, книги которых пользуются огромной популярностью. И хотя Драйзер не получал никаких денег из СССР с тех пор, как подписал договор с Государственным издательством в Москве в 1927 году, он не требовал гонорара, ибо больше всего ему хотелось, чтобы Россия успешно довела до конца свой социальный эксперимент. Теперь же он считал, что положение в России стало иным, и он вправе получить причитающиеся ему деньги. Он стал выяснять вопрос о выплате гонорара другим писателям США, и ему доверительно сообщили, что некоторые американские авторы действительно получают перечисления из России. Драйзер пришел домой и тут же продиктовал длинное письмо, адресованное лично премьеру Сталину, в котором объяснил свое положение и просил перевести ему гонорар за прошлые издания его книг.
Через два месяца один из главных банков Лос-Анжелоса известил его о поступившем перечислении. Так как Тедди передал тогда мне ведение всех своих финансовых дел, я вскрыла письмо. Его в это время не было дома, но, когда он вернулся, я показала ему извещение. Там не было указано ни страны, ни каких-нибудь других данных – ничего, кроме поступившей на его имя суммы, а так как мы привыкли время от времени получать небольшие суммы, Драйзер прочитал:
– Три доллара сорок шесть центов. Стоило трудиться, чтобы переводить такую сумму!
– Тедди, там вовсе нет десятичной дроби,- сказала я.- Прочти-ка как следует.
Внимательно вглядевшись в обозначенную сумму, он произнес:
– Тридцать четыре тысячи шестьсот – что это такое? Позвони в банк, выясни! – с волнением воскликнул он.
Я позвонила в банк, там подтвердили, что эти деньги пришли из России. Лицо Драйзера горело от радостного возбуждения. Вряд ли что-либо могло доставить Драйзеру такую радость, как этот быстрый отклик на его письмо.
– Больше не стану ни о чем беспокоиться. Этого мне хватит до конца,- сказал он.
На следующий день мы пошли в банк, чтобы получить деньги. Но это перечисление из СССР не было последним. В 1946 году, через три месяца после смерти Тедди, меня посетили три представителя русского правительства; прочитав завещание и убедившись, что я являюсь законной наследницей, они на другой день вручили мне семь тысяч долларов наличными деньгами.
Весною 1944 года Драйзер получил письмо от президента Американской Академии искусств и литературы, в котором тот сообщал, что каждые пять лет Академия награждает американского писателя, не являющегося членом Академии или Института, почетной премией, медалью и суммой в тысячу долларов за выдающиеся достижения в области литературы. В этом, 1944, году Академия присудила Драйзеру премию за его книги «Сестра Керри», «Американская трагедия», «Двенадцать» и другие произведения (следовал длинный перечень), а также и за его мужество, честность и смелость, благодаря которым он первый сумел показать в своих произведениях настоящих живых людей и настоящую Америку.
Когда он сообщил президенту Академии, что принимает награду, его пригласили присутствовать на церемонии. Он высказал желание, чтобы я поехала с ним, да мне и самой очень хотелось поехать, тем более, что, по-моему, он чувствовал себя слабым и боялся, что поездка в Нью-Йорк еще более подорвет его силы. Но в это время мне сообщили, что моя мать серьезно больна и имеются опасения, что она не выживет, поэтому я сочла неразумным ехать сейчас на восток.
Перед отъездом в Нью-Йорк Тедди сказал мне, что, по его мнению, для удобства нас обоих следовало бы по его возвращении узаконить наш брак.
– Конечно,- сказал он,- вокруг этого поднимется много шума, но не все ли равно?
– Разумеется,- ответила я,- тем более, что мы венчаемся так поздно. Но мне кажется, я смогу устроить все так, что никакой шумихи не будет.- Я сказала это, не имея ни малейшего представления о том, как я смогу это сделать.
– Отлично, ты будешь просто волшебницей, если тебе это удастся,- сказал он.- Займись этим и, когда все устроишь, дай мне знать. Я встречу тебя там, где ты укажешь, только пришли телеграмму.
Итак, мы с Тедди разъехались в разные стороны: он – в Нью-Йорк, за получением почетной премии от Академии искусств и литературы, а я – в Орегон, к матери. Пребывание в Нью-Йорке и необходимые визиты и встречи очень утомили Драйзера. Я всячески приветствовала и с радостью согласилась на предложение Маргарет Тьядер Харрис исполнять обязанности секретаря Драйзера во время его пребывания там, а когда он написал мне, что его племянница Вера Драйзер, нью-йоркский врач-психоневропатолог, настояла на том, чтобы он показался доктору Шейлеру Лоутону и тщательно проверил состояние своего здоровья, я была ей глубоко признательна.
Когда он приехал в Нью-Йорк, его сестра Мэйм была серьезно больна и лежала в больнице. Он проводил много времени у ее постели и был у нее незадолго до того, как она навсегда закрыла глаза.
Я решила воспользоваться свободным временем, чтобы организовать продажу нашей усадьбы в Маунт-Киско. Было отправлено и получено много писем и телеграмм, прежде чем сделка была совершена и наше имение «Ироки» перешло к другим владельцам.
Затем я стала подыскивать место, где бы мы с Тедди могли спокойно обвенчаться. Один адвокат, приятель Мэртл, сообщил мне, что это можно сделать в маленьком тихом городке Стивенсон, штат Вашингтон. Через несколько дней мы с Мэртл поехали в Стивенсон, расположенный на реке Колумбия; оттуда открывался великолепный вид на Орегонские холмы на противоположной стороне реки.
Получив письмо, в котором Тедди сообщал время своего приезда, я протелеграфировала ему, чтобы он сошел в Стивенсоне, в пятидесяти трех милях к востоку от Портленда, мимо которого должен был проходить его поезд, следующий на Западное побережье. Затем я сняла две комнаты, разделенные коридором, в отеле Сэмпсона, забавной старомодной гостинице, пользовавшейся в свое время большой популярностью.
Поезд Тедди приходил в 5.55 утра. Когда я пришла на вокзал, мне сказали, что это очень длинный состав и что Тедди выйдет, вероятно, за пределами платформы. Я прошла довольно большое расстояние и наконец увидела сияющего от радости Тедди.
Мы направились под руку к лужайке перед отелем Сэмпсона и сели на старую простую деревянную скамейку – на таких обычно влюбленные парочки загадывают желанья; должно быть, в прошлом здесь сиживало немало пар.
Вдруг став застенчивым и почти робким, Тедди опустил руку в карман и вытащил маленькую коробочку, которую передал мне.
– Это тебе. Я привез это для тебя.
Я открыла коробку. В ней находилась большая, круглая, похожая на золотую монету медаль, которая была вручена ему Американской Академией искусств и литературы.
– Но, Тедди,- воскликнула я,- она же твоя!
– Нет,- сказал он,- она в такой же мере твоя, как и моя. Я хочу, чтобы она была твоей. Мне только жаль, что тебя не было со мною, когда я получал ее.
Слезы увлажнили мои глаза, когда я прочла слова: «Удача, Вдохновение, Достижения», выгравированные вокруг фигуры Аполлона, держащего в одной руке лиру, а в другой – лавровую ветвь. На обратной стороне были выгравированы слова, окруженные венком из листьев и цветов: «Американская Академия искусств и литературы – Почетная премия». По краям медали шла надпись: «Присуждена Теодору Драйзеру в 1944 году за выдающиеся успехи в области литературы».
Мы долго сидели на скамье и разговаривали; он рассказывал мне о своей поездке, а я ему – о том, что сделала за это время. Потом мы пошли в кафе «Игл» на углу главной улицы и там продолжали беседовать. Я думала о том, какой у него живой, юный ум и какое счастье выпало мне на долю иметь такого спутника в жизни. Вот и пришел конец нашим долгим странствиям, и скоро мы предстанем перед мировым судьей, который официально скрепит нашу долголетнюю связь, выдержавшую так много испытаний.
– Церемония несколько запоздалая,- сказал Тедди,- но необходимая ради узаконения твоего положения в этом мире придуманных человеком прав, кодексов, декретов и тому подобного.
В гостинице Тедди очень понравилось каучуконосное растение, росшее в большом горшке. Оно было длиною около 60 футов, и ползучий ствол его вился вдоль проволоки по потолку веранды, окружавшей дом. Мистер Сэмпсон, владелец отеля, посадил его тридцать пять лет назад, когда приехал в Стивенсон.
Мы решили совершить церемонию обмена кольцами в присутствии Гертруды Браун, местного мирового судьи. И на следующий день, в субботу, Тедди отправился к ней, чтобы подать соответствующее заявление и выполнить все необходимые формальности. Мэртл приехала в Стивенсон проведать нас, а заодно быть свидетельницей во время подписания бумаг. Она согласилась приехать снова через три дня, 13 июня 1944 года, вместе со своим женихом Честером Батчером и присутствовать на нашей свадьбе.
В течение этих трех дней, ожидая, пока будут выполнены формальности, мы проводили большую часть времени в экскурсиях по окрестностям. Мы посетили известный Индийский серный источник, к которому каждый год съезжаются тысячи людей. Затем мы ездили в отель «Гордж» на берегу реки Колумбия; из него открывался несравненный вид на всю местность, напомнившую нам Норвегию.
В назначенный день приехали Мэртл и Честер; оба были в очень приподнятом настроении. Прекрасные белые орхидеи и шампанское, которое мы пили перед выходом из отеля, создали атмосферу торжественности. По пути к миссис Браун Мэртл и Честер устроили нам сюрприз – они вдруг стали осыпать нас рисом, который захватили с собой специально для этого случая. В последний момент я стала нервничать – вдруг в городе узнают Тедди, хотя он всюду подписывался, как Герман Драйзер, вместо полного имени – Герман Теодор Драйзер, которое было дано ему при крещении. По-видимому, это помогло сохранить инкогнито, так как, хотя миссис Браун была начитанной особой, судя по книгам на столе в ее гостиной, она все же не обратила внимания на фамилию Тедди.
Когда все это было кончено, мы переехали на моторной лодке через реку на орегонский берег и устроили там свадебный ужин, после которого мы с Тедди отправились в Портленд, прожили несколько дней в отеле «Конгресс», а затем вернулись в Голливуд.
Глава 28
По возвращении в Голливуд Тедди нашел дома много писем и телеграмм с поздравлениями по поводу получения Почетной премии. Отдохнув две недели, он снова принялся за работу над «Оплотом».
Я получила письмо из Нью-Йорка от Маргарет Тьядер Харрис; она сообщала, что Тедди выразил желание, чтобы она приехала в Голливуд для совместной работы над книгой, и спрашивала моего согласия. Я ей написала, что, насколько мне известно, Драйзер нуждается в помощи редактора и я буду очень рада видеть ее у себя.
Вместе со своим сыном Хилари она приехала в Голливуд в августе, как раз ко дню рождения Тедди, который я решила отпраздновать, устроив прием в саду. Сначала он согласился отпраздновать свой день рождения только при условии, если я ограничусь приглашением нескольких близких друзей, но потом, наблюдая за приготовлениями к вечеру, он то и дело подходил ко мне со словами: «Знаешь, раз уж мы зовем гостей, так не пригласить ли такого-то?»
Список гостей увеличился до шестидесяти человек. Тедди любил своих друзей, а у него их было много, и никого из них ему не хотелось исключать из числа приглашенных.
Тедди был в хорошем настроении, а когда он бывал таким веселым и общительным, становилось тепло на душе у тех, кто его любил. Говард Росс, один из учеников Лилиан Гудман, стоя на лестнице, ведущей из музыкальной комнаты в сад, спел любимую песню Теодора – «Темнокудрая Дженни». Позже все собрались в столовой; на столе стоял торт с зажженными свечами и сделанной из сахарной глазури раскрытой книгой, изображавшей «Оплот». Когда Тедди стал разрезать торт, спрятанная под ним круглая музыкальная шкатулка пришла в действие, торт стал медленно вращаться, и послышались звуки песенки «Поздравляем с днем рожденья». Все присутствующие подхватили припев. Это был один из самых удачных больших вечеров в нашем доме, но ему было суждено оказаться последним.
Вскоре Драйзер с головой ушел в работу над книгой и часто обсуждал с нами события и действующих лиц романа.
По вечерам, когда он уставал от работы, я читала ему вслух «Авраама Линкольна» Карла Сэндберга, великолепную книгу, которую Тедди любил так же, как и я. Все мы сообща старались сохранить его силы, чтобы он мог закончить роман: миссис Харрис часами просиживала над рукописью, редактируя ее и внося исправления Драйзера.
Однажды я показала ему обширный библиографический список его произведений, составленный мною совместно с миссис Смит. Увидев название «Чикагский дренажный канал, Эйнсли, февраль 1899 г.», Тедди воскликнул:
– Боже мой, неужели я писал и о дренажном канале?
– Как видишь,- ответила я.- Это одна из твоих ранних статей.
– Знаешь,- продолжал он,- когда я в последний раз по пути на запад проезжал Чикаго, мы ехали вдоль канала, и я задумался о его чудесном будущем. Я сказал себе: «Какую превосходную статью можно было бы написать о Чикагском канале! Надо будет запомнить это и как-нибудь на днях написать». И вот, оказывается, я уже написал статью, да к тому же сорок пять лет назад! Ну и ну!
В мае следующего года «Оплот» был закончен, и издательство «Даблдэй энд компани» заключило с Драйзером договор через его литературного агента Элвина Мануэля, жившего в Голливуде. Маргарет Харрис вернулась в Нью-Йорк, а Теодор послал экземпляры рукописи Луизе Кэмпбелл для отзыва и, если понадобится, для дальнейшей редакторской правки. Луиза Кэмпбелл переслала сделанный ею сокращенный вариант вместе с оригиналом Доналду Элдеру, редактору издательства «Даблдэй энд компани». Элдер счел нужным восстановить некоторые из выброшенных кусков, и в конечном счете получилось нечто среднее между двумя вариантами рукописи, чем Тедди был очень доволен.
Зная, что его писательской манере свойственны многословность, растянутость и склонность к повторению, Драйзер был убежден в необходимости сокращений, и хотя сам обладал большим редакторским опытом, но часто говорил о том, как полезно и важно для него, когда кто-нибудь свежим глазом прочтет рукопись, над которой он работал много времени. Однако он давал читать свои новые произведения только тем людям, характеры и литературные вкусы которых были ему хорошо известны, так же как и их художественные достоинства или недостатки. Но, как было отмечено в предисловии к «Американской трагедии», Драйзер нелегко соглашался на исправление стиля и структуры своих произведений. Я сама видела, как он терпеливо переделывал заново главы, отредактированные кем-то другим, зачастую исписывая все поля страниц новыми вариантами.
В июне Драйзер стал думать о возможности вступления в коммунистическую партию. До того времени он всегда говорил, что не намерен присоединиться к какой-либо партии. Но он был убежден, что коммунистам удастся уничтожить фашизм во всем мире. «Они впервые подняли свой голос против агрессии в Китае, Эфиопии и Испании, и их голос звучал наиболее отчетливо»,- говорил он.
Зная, что приближается последняя глава его жизни и что вскоре он уже не сможет выступать против фашизма и несправедливости во всем мире, он чувствовал, что вступление в коммунистическую партию будет служить веским доказательством того, что он всецело на стороне простых людей. Но неверно утверждать, что он был в курсе внутренней политической работы, которую вела в нашей стране коммунистическая партия. Драйзер рассматривал этот вопрос с точки зрения мировых гуманитарных идей. «Вера в величие человека и благородство его натуры всегда была основным принципом моей жизни и работы»,- писал он.
Тедди крайне устал и понимал, что ему необходим отдых, но он говорил: «Жить на земле мне, наверное, осталось недолго, и я хочу закончить «Стоика». Я знаю, что мне уже не суждено закончить «Формулы», но «Стоик»- это неотложная часть моей литературной программы».
Его намерение во что бы то ни стало закончить «Стоика» очень огорчало меня, так как я беспокоилась за его здоровье. Поэтому я предложила: «Давай уедем куда-нибудь на месяц, а когда вернемся, я буду делать все что могу, чтобы помочь тебе».
Он согласился, и мы поехали на машине в Портленд, к моей матери.
Пока мы гостили там, Тедди отдыхал и с каждым днем, казалось, становился крепче. Но все же он поставил в тени деревьев ломберный столик и продолжал работать над набросками к будущему роману; никто не в силах был уговорить его не делать этого.
Как-то вечером моя сестра пела в гостиной перед собравшейся у нас публикой, которая слушала ее с огромным вниманием. В этот день она была в голосе и пела, как никогда. Сначала она спела оперную арию, потом исполнила ковбойскую песню, затем балладу и несколько легких вещей на бис, продемонстрировав многообразие своего таланта и высокую технику, которой даже я от неё не ожидала. Быть может, и публика, перед которой она пела в этот вечер, вдохновляла её. Тедди, как и все остальные, был просто поражен.
Он спросил меня потом, сознательно ли она придает своему пению такую художественную выразительность или это только случайно. Я ответила, что, по-моему, она делает это сознательно, она всегда была артисткой в душе, и я всегда знала это.
– Хорошо, – сказал Тедди, – мне хотелось бы поговорить с ней о её будущем.
– Это будет просто чудесно, милый, – ответила я. – Конечно, поговори.
На следующее утро он долго беседовал с ней в саду, а потом пришел ко мне и сказал: «Эта девушка действительно понимает, что такое искусство пения, и я готов оказать ей протекцию и материальную поддержку, если она приедет в Голливуд».
Но я знала Мэртл лучше, чем Тедди. Я с самого начала стала сомневаться, что она приедет в Голливуд. Она была влюблена в своего жениха, скотовода, владельца ранчо, и жизнь на ранчо интересовала ее не меньше, чем пение. Мне думалось, что личные интересы возьмут в ней верх. Так оно и случилось.
Вернувшись домой, Тедди, не теряя времени, засел за работу над «Стоиком». После такой книги, как «Оплот», нелегко было вернуться к «Трилогии желания», два тома которой были написаны и изданы много лет назада. Но я знала,- если уж он начал, то будет продолжать в том же плане, в каком были написаны два предыдущих романа, стремясь к одной цели – довести эту эпопею до конца.
Ему предстояло столько же работы, сколько в свое время над «Оплотом», так как он написал уже две трети романа «Стоик». Но почти всю свою творческую энергию он израсходовал на «Оплот» и не накопил еще достаточно сил, чтобы браться за следующую книгу. Я садилась за машинку, и он обычно диктовал мне; в процессе работы мы обсуждали отдельные эпизоды, поступки действующих лиц, композицию романа, и Тедди быстро уставал. Я чувствовала, что ему нужна сильная поддержка, и напрягала все свои силы, стараясь помочь ему в этой последней борьбе. День за днем мы работали с ним, сидя друг против друга за его длинным рабочим столом; Тедди покачивался в старомодном желтом кресле-качалке, а я печатала на машинке. Иногда нам не хватало места, чтобы разложить перепечатанные страницы, тогда мы переходили в столовую и устраивались за большим испанским столом. Тедди тащил за собой кресло-качалку, усаживался в него и, покачиваясь, продолжал диктовать. Упорство, с каким он работал, было просто невероятным; в сущности, за редкими исключениями, его ничто больше тогда не интересовало.
По утрам, пока я готовила завтрак, он принимал ванну, брился, потом, безукоризненно одетый, шел в кухню, чтобы выпить что-нибудь, перед тем как сесть за стол. И каждое утро его появление радостно удивляло меня, как некое чудо; его присутствие всегда меня вдохновляло.
Из Нью-Йорка пришли два экземпляра гранок и отредактированная рукопись «Оплота», напечатанная на машинке. Когда гранки были прочитаны, он отослал их по почте в издательство и тотчас же возобновил работу над «Стоиком».
Никогда за всю нашу двадцатишестилетнюю совместную жизнь между нами не было такой духовной, интеллектуальной и физической близости, как в эти последние годы его жизни. Мне выпало счастье заново пережить воскресшую любовь, сочетавшуюся с новой и очень тесной духовной близостью. И самое удивительное, что Тедди, в свою очередь, окружил меня нежной любовью. Он хвалил мои поступки, о которых я давным-давно забыла, и проявлял нежность в разных мелочах,- я никогда даже не подозревала, что он способен на это. Когда я подымалась наверх, в свою комнату, чтобы поразмыслить о своих делах, Тедди иногда приходил туда вслед за мной, усаживался в мое кресло-качалку и разговаривал со мной о чем угодно, начиная с платья, которое я собиралась надеть к обеду, и кончая задуманной им главой нового романа. Я была совершенно счастлива и знала, что это счастье будет сопутствовать мне до самого конца. Жизнь моя теперь была полна, и, наблюдая за Тедди, я убеждалась, что он тоже, наконец, доволен своей жизнью.
В понедельник 27 августа мы в последний раз отпраздновали день его рождения, пригласив самых близких друзей, всего человек пятнадцать. Правда, этот обычно так радостно справляемый праздник был омрачен отсутствием близкого друга Тедди – Дориана Отвоса, который скончался за два дня до этого. Его не было среди нас, и мы уже не могли больше смеяться его шуткам и каламбурам.
Тедди пригласили выступить 8 декабря в университете города Лос-Анжелос, но я сомневалась, что он будет в состоянии поехать туда. Тем не менее он ответил согласием, и университет поспешил напечатать его имя в заранее приготовленной программе. В день выступления, за завтраком, он попросил меня сообщить по телефону в университет, что он не приедет, так как неважно себя чувствует. Зная, как будет разочарован весь преподавательский состав университета, я с большой неохотой стала звонить туда. На следующее утро, сидя с Тедди за завтраком, я, к своему удивлению, заметила на глазах у него слезы. Легонько стукнув кулаком по столу, он сказал:
– Да, вероятно, у меня сейчас нет силы выступать перед публикой, но я во что бы то ни стало буду опять говорить о том, о чем я непременно хочу говорить!
– Я не знала, что это выступление так важно для тебя, Тедди,- ответила я.
– Да, для меня оно очень важно,- сказал Тедди.
21 декабря мы были на свадьбе Бернике Дороти Тэкер, дочери мистера и миссис Тэкер, с лейтенантом Джорджем Б. Смитом, сыном мистера и миссис Смит. Тедди там фотографировался, и это была последняя его фотография. Венчание состоялось в церкви в парке Форест-Лоун, откуда все мы отправились в Глендейл, на квартиру Смитов, где была отпразднована свадьба.
В первый день рождества мы завтракали у Гудманов в их доме на Пилгримэйдж-Трэйл. Завтрак носил семейный характер, и, казалось, все были в самом лучшем настроении. Днем мы были с визитом у Клер Каммер и ее дочери Марджори. Клер, выдающаяся женщина-драматург и композитор, написавшая много хороших песенок, была женой Артура Генри, с которым Тедди дружил в те дни, когда писал «Сестру Керри»; его связывала с Клер тесная дружба. Мы всегда любили бывать у нее. В тот рождественский день Тедди сел подле нее у рояля, как это он делал всегда, и внимательно слушал ее последнюю песенку, которую она пела небольшим, но очаровательным голоском. Тедди нравились ее песенки, и она с большой радостью пела ему.
На следующий день мы были приглашены на чай в Беверли-Хилс, к Барбаре Вайда, театральному режиссеру; поставленные ею пьесы заслужили общее признание. Вечером мы с Тедди пообедали в маленьком кафе на бульваре Санта-Моника. Тедди вспоминал Гринвич-Вилледж и говорил о том, сколько друзей и знакомых он, бывало, встречал каждый раз, когда отправлялся туда. Я понимала, что он скучает по старому Нью-Йорку времен его молодости. Мы решили, что в мае непременно поедем в Нью-Йорк на несколько месяцев, но я все время думала о том, как он будет разочарован, если ему не удастся найти там прежней, знакомой ему атмосферы. Но, решив обязательно поехать в мае в Нью-Йорк, мы оба сразу повеселели.
В эти дни мы занимались редактированием некоторых заключительных глав «Стоика». Тедди послал рукопись на отзыв рецензенту, и тот сделал несколько замечаний, с которыми Тедди полностью согласился. Собственно говоря, прежде чем посылать рукопись, он намеревался написать еще две главы, но чувствовал себя настолько слабым физически, что решил пока не писать и немного отдохнуть. Однако, когда рецензент вернул рукопись, Тедди принялся переделывать конец, в котором хотел дать авторский монолог, подытоживающий все три книги «Трилогии», и 27 декабря он писал предпоследнюю главу. Проработав до пяти часов, он предложил мне поехать на машине к океану подышать свежим воздухом, и мы отправились на побережье. Мы доехали до конца бульвара Вашингтон и полюбовались изумительным закатом – по небу, переливавшемуся всеми оттенками бледносерого и голубого, проходили полосы бирюзового и вишневого цвета. Идя по дощатой дорожке, проложенной по пляжу, я загляделась на силуэт Тедди, великолепно выделявшийся на фоне заката.
«Он хорошо выглядит,- подумала я.- Должно быть, скоро он совсем поправится. Ему нужно немножко отдохнуть, вот и все».
Побыв у моря около часа, он высказал желание, овладевавшее им всякий раз, когда ему приходилось бывать на берегу океана. «Давай съедим горячих сосисок»,- сказал он.
Мы подъехали к киоску на бульваре Вашингтон и пришли в восторг от жизнерадостного и словоохотливого человека, который нас обслуживал. Он рассказал нам, что у него пятеро детей, которых он содержит, торгуя в этом киоске бутербродами и горячими сосисками; детишки бегают к нему так часто, что он вынужден гнать их домой, чтобы они ели там домашнюю пищу, приготовленную его женой. По дороге домой мы с Тедди говорили о веселом нраве и кипучей энергии этого человека, который умеет быть благодарным за то немногое, что получает от жизни,- вроде этого киоска с горячими сосисками, дающего ему возможность содержать всю семью.
Мы приехали домой в половине седьмого, и я чувствовала себя настолько освеженной, что решила еще немного поработать. Но Тедди заявил, что пойдет вздремнуть, и ушел в свою комнату. Я стала вносить его исправления в главу, над которой мы трудились в этот день, и к девяти часам вечера закончила эту работу. Захватив главу, чтобы прочесть ему вслух, я вошла к нему и испугалась, увидев, что лицо его влажно и покрыто какой-то особой бледностью, бросившейся мне в глаза, как только я зажгла свет.
Стараясь, чтобы он не заметил моего волнения, я сказала:
– Знаешь, милый, лучше я тебе прочту эту главу завтра утром, на свежую голову.
– Нет,- ответил он,- я хочу послушать ее именно сейчас.
Пришлось прочесть ему вслух всю главу. Он остался доволен ею, сказав, что она стала гораздо лучше. Я включила радио, чтобы он мог послушать известия, передававшиеся в десять часов, и ушла в свою комнату готовиться ко сну. Когда я сошла вниз, Тедди пожаловался мне на боль в области почек. Я предложила ему погреть больное место лучами инфракрасной лампы; через полчаса он сказал, что ему немного легче, и попросил потушить свет.
Не знаю, что было дальше,- я крепко заснула, но вдруг проснулась и увидела, что он стоит посреди комнаты в халате.
– Элен,- позвал он,- у меня сильные боли.
Я вскочила с кровати, но в этот момент он со стоном, корчась от боли, упал на пол. Обезумев от ужаса, я схватила в охапку подушки, одеяла, подложила ему под спину, стараясь, чтобы он оперся головой о кровать, и выпрямила ему ноги. Я принесла немного бренди, налила в ложку и хотела дать ему выпить, но зубы его были крепко стиснуты. Не помню, как я добралась до телефона и позвонила Лилиан Гудман, зять которой, доктор Гиршфельд, был постоянным врачом Тедди. Я сказала ей, что Тедди очень плохо, и попросила немедленно прислать доктора. Она ответила, что сию же минуту пришлет его и сама приедет к нам со своим мужем Марком.
Я бросилась к Тедди, и наконец мне удалось уложить его поудобнее. Он сказал, что хотел бы пройти в ванную. Как мне удалось провести его туда, просто не знаю. Не успел он выйти из ванны, как пришли Лилиан и Марк, а следом за ними – Рубен Чир, ассистент доктора Гиршфельда, так как самого доктора куда-то вызвали. Они помогли Тедди добраться до постели, и доктор Чир сделал ему укол, чтобы прекратить боли.
Через несколько минут боль стала меньше, и Тедди сказал:
– О, от такой боли можно умереть!
Лилиан, Марк и доктор Чир пробыли с нами всю ночь. Под утро я пошла к себе наверх, чтобы одеться; вскоре приехал и доктор Гиршфельд. Вместе с доктором Чиром они осмотрели Тедди, и, выходя из комнаты, доктор Гиршфельд сказал мне:
– Надежды мало. Он очень плох. Немедленно нужно достать кислородную подушку.
Тотчас же были присланы два санитара, принесшие кислородную подушку и медикаменты. Утром пришла Эстер Маккой, хотя никто не сообщил ей о болезни Тедди. Он поздоровался с нею и, когда она спросила, как он себя чувствует, ответил: «Довольно скверно». Потом приходил доктор Хантер, пастор голливудской конгрегационалистской церкви. Тедди был в полном сознании и, казалось, даже чувствовал себя чуточку лучше, но просил меня ни на минуту не выходить из комнаты. Вскоре вернулся доктор Гиршфельд. Он побыл немного возле больного, и потом я пошла проводить его до машины.
– Я просто не верю своим глазам,- сказал он.- Ему стало гораздо лучше от кислорода. Значительно лучше. Быть может, все обойдется.
– Я знала это,- ответила я.- Я знаю его организм. О, благодарю вас, доктор!
Я вернулась в дом полная надежды и сказала Лилиан, что теперь она может спокойно пойти домой и отдохнуть, так как всю ночь она не спала. К этому времени пришел санитар, и я сказала всем, кто был у нас, что, по словам доктора, Тедди сейчас лучше, и я могу одна справиться. Пусть они придут попозже. Потом я позвонила Маргарет Харрис и попросила ее сына передать, чтобы она пришла к нам, как только вернется домой. Все ушли; около Тедди остались только я и санитар. Тедди лежал спокойно, но я заметила, что руки его холодны как лед; они были холодны с того момента, как он упал, и я никак не могла согреть их.
– Поцелуй меня, Элен,- вдруг сказал он. Я поцеловала его. Пристально глядя мне в глаза, он прошептал: «Ты красавица». Он часто говорил мне это, но сейчас я испугалась, потому что он просил поцеловать его, и я подумала, не кажется ли ему, что он умирает. Если это так, то значит, он не хотел пугать меня даже в такую минуту, ибо больше он ничего не сказал.
Санитар все время внимательно следил за ним. Тедди задремал.
Так прошло два часа. Вдруг санитар вскочил, побежал к телефону и вызвал врача. Я слышала, как он сказал: «Приходите, пожалуйста, скорее. Дыхание стало прерывистым, а кончики пальцев посинели».
Я вгляделась в Тедди и убедилась, что это правда. Я взяла его руки, они были холодны и влажны, и я ощущала, что жизнь уходит из них. Я почувствовала себя страшно беспомощной: он умирал. Вокруг его закрытых глаз легли глубокие тени. Но по лицу его разливалось такое мирное спокойствие! Мир и покой, недоступные человеческому пониманию, снизошли на него. В его кончине было великолепное благородство, словно каждый атом его тела обрел полный покой.
Дыхание его становилось все слабее и слабее, пока не замерло совсем. Он скончался. Приехал врач и констатировал смерть, наступившую в 6.50 вечера. Я все еще не могла поверить этому и просидела возле него полтора часа, пока он не стал холодеть. Потом за его телом явились люди из Форест-Лоунской похоронной ассоциации и унесли его из дома. Я пошла в гостиную. Когда его проносили через ту самую дверь, через которую он столько раз проходил, я пережила самый страшный и мучительный момент в моей жизни. Вместе с ним уходила огромная и лучшая часть моей жизни. Я чувствовала, что гибну. Приходили люди, но я их не замечала. Я знала только, что он никогда уже не войдет в дом, не стукнет дверью, и, однако, когда его уносили, я чувствовала, что он не ушел, что я снова найду его здесь, в этом доме, в котором он оставил такую большую часть самого себя, возле письменного стола в его кабинете или в саду. И я писала эти воспоминания за его столом из палисандрового дерева; я явственно и близко ощущала его присутствие, особенно когда мне бывало почему-либо тяжело. Сила его духа была, очевидно, настолько велика, что, должно быть, ее воспринимали все неодушевленные предметы в доме…

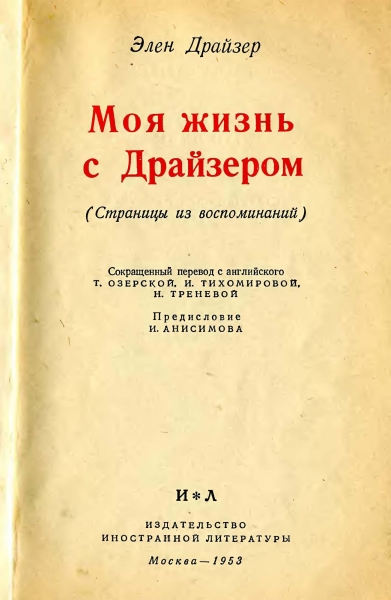

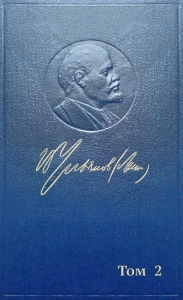
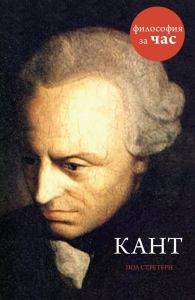
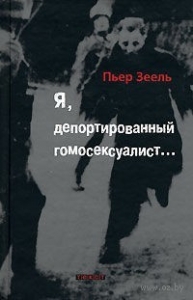




Комментарии к книге «Моя жизнь с Драйзером», Элен Драйзер
Всего 0 комментариев