Наталья Боброва Юрий Богатырев. Чужой среди своих
© Н. Боброва, 2016
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2016
© «Центрполиграф», 2016
* * *
Читателям
Четырнадцать лет назад вышло первое издание этой книги. И тут же разлетелось, как стая ласточек. Оказалось, что люди почти ничего не знали об этом артисте как человеке. О том, как он жил, любил, страдал… Тем ценнее пришлась информация из первых рук – от тех, кто его знал, ценил, любил. От родных, друзей и коллег. Печально только, что за это время – четырнадцать лет – некоторых уже не стало… Но радостно, что нашлись и другие, что потом стали выходить статьи, книги, фильмы, телевизионные передачи об этом легендарном артисте. Мои герои, что называется, пошли в народ. И это автору очень приятно.
Но признаюсь: тайна это мощной титанической фигуры все равно осталась до конца неразгаданной. Потому что Богатырева, как русского человека, умом стандартным не понять и никаким аршином общим не измерить. Его талант, «особенная стать» плюс совсем непримерное поведение до сих пор остаются загадкой, которую еще долго будут разгадывать и его современники, и потомки. Рожденный в семье коммуниста, верил не в Бога, а в искусство как религию. Мечтающий играть героев, играл характерные роли. Как многие спасаются храмом – пытался спастись сценой, экраном, кистью… «Современник», MXAT, кино, радио, телевидение… Везде был востребован, желанен. Хотя любому актеру всегда кажется, что главное еще не сыграно… Что птица удачи вот-вот вспорхнет на его плечо – плечо Егора Шилова из «Своего среди чужих, чужого среди своих», Стасика из «Родни», Ромашки из «Двух капитанов», Штольца из «Нескольких дней из жизни И. И. Обломова» и так далее…
Знаете, как люди радовались, когда их спрашивали о Юрии! Его имя, как секретный код, легко открывал и двери, и сердца. Каждый вспоминал о нем с радостью и удовольствием – как будто он еще рядом, слышит, улыбается, шутит, грустит… А между тем в будущем году ему исполнилось бы семьдесят лет…
Вглядимся же еще раз в эту яркую комету, так досадно быстро мелькнувшую на небосклоне российского искусства.
Спасибо всем, кто помог мне в этом.
Автор
Глава 1. Золотая лихорадка
Бессмертный Егор Шилов ■ Чужой среди своих ■ Люди гибнут за металл ■ Товарищи не понимают ■ Капустные котлеты ■ Залог успеха ■ Лось номер два ■ «Ничто нас не может вышибить из седла!» ■ «Юра, сожми кулак!» ■ «Получай, гад, за Нелю!»
…Он вышел на пригорок.
Весенний ветер развевал ковыль… И его волосы цвета золота… Того самого рокового металла, который он вернул товарищам.
Бесконечно усталый, выпрямился во весь рост. И замер… Крикнуть уже не мог… Да и товарищи далеко, не услышат.
Шилов просто стоял и молча смотрел им вслед.
И вдруг один из них, слегка отстав, оборачивается… А потом все – и Забелин, и Сарычев, и Кунгуров – несутся назад, к нему… Обнимаются, смеются – они снова молоды… они снова счастливы… они снова вместе…
…На такой высокой романтической ноте заканчивался фильм Никиты Михалкова, ставший визитной карточкой Юрия Богатырева, – «Свой среди чужих, чужой среди своих», посвященный борьбе людей за маленький «золотой» саквояжик. Блондин-чекист Егор Шилов стал в нем главным героем и пружиной действия. Напомним, что его вроде бы убивают, но он загадочным образом воскресает – чтобы доказать «своим», что он «свой»… А золото тем временем переходит из рук в руки, чтобы в конце концов оказаться в руках красных, которые должны обменять его на хлеб для голодающих…
Сюжет фильма весьма запутанный – не случайно многие зрители жаловались, что ничего в картине не успевают понять. Ясно было одно: «свои» – это красные, чекисты. Среди них – и герой Богатырева.
Артист, следуя общему режиссерскому замыслу, играет своего мужественного героя скупо и лаконично. Мы можем только догадываться о его богатой внутренней жизни… Ни единый мускул не дрогнет на его аскетичном лице во время погонь и перестрелок… Его чекист Шилов – почти робот, человек-автомат, невозмутимый фанатик, ради будущего счастья человечества оставляющий после себя пустыню… Но и ему не чуждо ничто человеческое – вроде привязанности к товарищам? коллегам? соучастникам?
За жестким образом угадывается драматичная судьба, непростая биография и особый, мужественный нерв…
Забегая вперед, скажем, что подобных «маскулинных» ролей в кино у Богатырева больше не будет…
* * *
Кстати, тогда, в 1974 году, «Свой среди чужих, чужой среди своих» был воспринят зрителями вовсе не на ура.
Сложный авантюрный сюжет, рваный монтаж, «темные съемки», загадочный облик героев, костюмы, стилизованные под западный вестерн, – все это определяло оригинальную стилистику картины, но одновременно несколько раздражало советского зрителя, не привыкшего к такому «трудному» кино.
В журнале «Советский экран» в начале 1975 года вокруг картины разгорелась настоящая боевая полемика.
«500 тысяч рублей золотом, которые герои фильма таскают с собой на протяжении всей картины, весят 260–280 кг. По объему это золото ни в какой саквояж не влезет. Вызывает недоумение и применение в начале 20-х годов дискового ручного пулемета», – удивлялся недалекости кинематографистов один зритель.
«Оригинальность нередко превращается в оригинальничанье, фильм движется скачками, остросюжетные эпизоды перемежаются с длиннотами», – возмущался другой[1].
Так встретил «простой советский народ» картину, которая считается сегодня культовой. И голосовал, как водится, ногами: выйдя на широкий экран в 1974-м, фильм в прокате занял двадцать второе место…
Это 23,7 миллиона зрителей. Для того времени – почти позор… Его опередили такие «шедевры», как «Неисправимый лгун», «Океан», «Пятьдесят на пятьдесят».
Можно предположить, что зрителя смущало два обстоятельства.
Первое. Политическая ангажированность. Картина о подвигах красных, о «гадах белых», о набившей оскомину Гражданской войне. Что тут может быть нового и интересного? Вариация на тему «Неуловимых мстителей»? Надоело…
Второе. Это был полнометражный режиссерский дебют представителя прославленного клана Михалковых… А многие помнили, что «на детях гениев природа отдыхает».
* * *
Мало кто знал, что сюжет фильма имел реальную историческую основу. Он был навеян небольшой заметкой в одном из журналов, где рассказывалась реальная история путешествия из Сибири в Москву поезда с золотом, реквизированным у буржуазии. Оно было захвачено белогвардейским отрядом, переходило из рук в руки, пока наконец не было отбито чекистами… И именно по этим мотивам Никита Михалков и Эдуард Володарский напишут повесть «Красное золото». А затем по ней – два варианта сценария. Второй – двухсерийный, потому что первый изобиловал банальностями. Причем не под конкретного режиссера. Но когда Михалков окончил режиссерский факультет ВГИКа и у него появилась реальная возможность снять свою картину, соавторы начали срочно «ужимать» материал и подгонять его под себя.
* * *
К тому времени Юрий Богатырев и Никита Михалков уже были знакомы. Мало того – успели вместе поработать. Об этом мне рассказал Никита Сергеевич в своем офисе «Тритэ».
– Я познакомился с Юрой в Щуке, потому что мы учились вместе, – вспоминает Михалков. – Он учился на два курса младше меня. И я помню его невероятно дородную внешность… Помню его в самостоятельной работе по «Подростку» Достоевского – он приготовил отрывок и замечательно там играл…
Но мы как бы не дружили… Меня исключили из Щуки из-за участия в съемках и за то, что я не стал извиняться (так как нарушил правило). И тогда я перешел во ВГИК. К тому же я не хотел после училища три года работать по профессии (что было обязательно по тогдашним законам). Мне не хотелось терять время, мне хотелось заниматься режиссурой. Поэтому я сделал все, чтобы меня все-таки выгнали. И поступил в мастерскую Михаила Ромма, сразу на второй курс.
В то время я жил у Сережи Никоненко в его комнате в коммунальной квартире. Это было совсем недалеко от Щуки, на Сивцевом Вражке. И поэтому вся щукинская команда, как теперь говорят, тусовка у нас дневала и ночевала… В общем, все подряд «бесчинствовали» в этой квартире…
В училище я ходил на самостоятельные показы – смотреть дипломные работы студентов, – все это было близко мне по духу. Как мне тогда казалось, актерская школа ВГИКа не могла идти в сравнение с Щукинским училищем. Так, собственно, все считали. Когда мы учились в Щуке, нам ведь вбивали в голову: в стране есть только одно училище – Щукинское, где по-настоящему учат быть артистом.
И мы с Юрой пересекались на этих показах-спектаклях. Юра там играл, а я смотрел.
Уже тогда он считался очень перспективным актером. К тому же у него еще было дарование художника. А также замечательный юмор, деликатность в обращении. То есть это был как бы образ артиста начала XX века – мхатовской школы, с интеллигентными манерами и веселыми шутками…
Но мы не были еще близко знакомы…
А когда я начал снимать свою дипломную работу «Спокойный день в конце войны», то совершенно естественно обратился к своим однокашникам – Сереже Артамонову, Вале Смирнитскому, Саше Пороховщикову… И конечно, к Юре Богатыреву (это была одна компания). Тогда-то Юра и попал к нам на съемочную площадку в первый раз.
У него была очень маленькая роль. У других, правда, еще меньше, но там были хоть какие-то слова. Но зато у него была замечательная фактура – белоголовый, голубоглазый, с русой щетиной… Потрясающая фактура уже тогда…
Потом я начал готовиться к «Своему среди чужих…». Вместе с Эдиком Володарским мы написали сценарий. И конечно, уже тогда в нем была роль для Юры. Потому что я видел его на экране и уже знал – по отрывкам из Достоевского, которого он очень любил, и по очень смешным ролям в водевилях, – какой он универсальный артист, какой замечательный характер. Но… я ушел в армию, и все отложилось на год с лишним.
* * *
Уезжая на Камчатку, Михалков попросил Богатырева не сниматься до его возвращения, пообещал хорошую роль. Тот поверил и стал ждать. И худеть. Потому что понимал: чекист Егор Шилов не может быть толстяком! И несколько месяцев, к изумлению соседей по общежитию, Богатырев обреченно ел капустные котлеты. Без хлеба. Он чувствовал, каким внешне должен быть его Шилов – поджарым, мускулистым…
* * *
Михалков вспоминает:
– Когда я вернулся, у меня столько накопилось энергии и жажды работы, что мы тут же включились и стали всех пробовать… Но на роль Шилова я никого не пробовал, кроме Юры.
Его физическая форма вызывала у всех уважение. Если группа называла меня «лось номер один», потому что я очень много бегал, занимался спортом, то его – «лось номер два». Он был совершенно фантастической выносливости. Его огромные руки все называли «верхние ноги» – они были с гигантскими кистями и толстыми, мощными пальцами.
Вообще, Господь одарил его совершенно невероятной фактурой. Юра был сложен так потрясающе, что, когда мы снимали финальную сцену, где он бежал в свитерке навстречу товарищам, то он, никогда не занимавшийся спортом, выглядел настоящим ширококостным атлетом с рельефными мышцами…
* * *
Михалкова во время съемок больше всего поразили два обстоятельства.
Первое. Богатырев так сидел в седле, как будто родился ковбоем. Михалков, выросший на конном заводе и с детства ездивший верхом, не мог поверить, что за неделю можно стать таким ловким наездником.
– Помню, спросил его, – продолжает Михалков, – «А верхом ты ездишь?» – «Никогда не ездил…» – «Ну и как ты?» – «Я научусь».
И он сделал это просто в считанные дни, и виртуозно – сел на коня и тут же поехал.
Второе, что поразило Михалкова, – неумение Богатырева драться. Это режиссера очень напугало: фактура есть, а как снимать?
– Однажды я испытал шок, когда мы должны были снимать сцены, где он сжимает кулак, – говорит Михалков. – Я увидел, как он абсолютно по-женски сжал кулак, прижав большой палец к ладони, и был совершенно потрясен. Я спросил: «Юра, ты что? Ну-ка, ну-ка, сожми кулак. Ты что, никогда не дрался?»
И он признался, что да, никогда. Я понял, что он действительно никогда не дрался. И пришел в ужас, потому что в картине ему предстояло играть много чего – там были и бои, и пот, и кровь, и все такое мужское…
Мы начали репетировать сцену драки – и он все сделал потрясающе, абсолютно точно.
* * *
Кстати, сам Богатырев запомнил этот эпизод на всю жизнь.
В этой сцене он действительно никак не мог ударить Александра Кайдановского, да еще с требуемым воплем: «Убью тебя, паскуда!»
– Он потом мне об этом рассказывал, – вспоминала его подруга юности Нелли Игнатьева. – Он очень переживал, что подведет группу, – Никита нервничает, аппаратура простаивает… И ему тогда помогло одно воспоминание. Как-то незадолго до этого мы вместе с Юрой входили в ресторан ВТО, которое располагалось тогда на улице Горького. А в этот момент выходил Кайдановский и по неосторожности отпустил тяжелую дверь, которая прищемила мне руку и снесла ноготь с пальца… Я просто закричала от боли.
И вот когда Юра мучился с той сценой, он вдруг все это вспомнил. И тогда все получилось. И вопль, и удар – вот тебе, гад, получай за Нелю! «Убью тебя, паскуда!»
Никита был рад:
– Попал!
* * *
– Это была восхитительная, но тяжелая работа, – вспоминает Никита Михалков. – И что самое ужасное – съемки шли именно там, где потом шла война. Урус-Мартановский район, Ачхой-Мартановский район, Ведено, Комсомольское, Толстой-Юрт – там снимался наш фильм… Эти названия я запомнил на всю жизнь…
Когда мы закончили картину, я еще раз убедился, что был прав, выбрав Юру. Я просто не представлял себе, где еще можно было бы найти такое свежее лицо и такие гигантские актерские возможности, как у него… С этого началась наша серьезная совместная работа. Дальше уже все писалось для Юры…
* * *
Именно на съемках «Своего среди чужих…» Сергей Шакуров познакомился с Богатыревым. Он убежден, что Михалков правильно тогда подобрал к нему ключик.
Психологически подготовил, попросив не обращать внимания на корифеев, не тушеваться. Никакой робости у него не было, убежден Шакуров. На равных всё было… Хотя у Никиты это была первая большая картина. Он собрал абсолютно разных артистов из разных театров. Солоницын – одной школы, Кайдановский – второй, Шакуров – третьей и так далее. И всё это надо было соединить.
А жили они на съемках кибуцем – дружной, большой семьей. Чечня тогда еще была мирной, зажиточной… Население относилось к артистам с любовью, помогало, чем могло. Поэтому те давние съемки вспоминаются сегодня Шакурову как какой-то очень светлый праздник. Хотя и при безумных энергетических затратах у каждого, и при строгом режиме – ведь требовались немалые физические нагрузки. Плюс верховая езда.
Глава 2. Мистическая шапка
Питерский замес ■ Она звалась Татьяна ■ Вальс со стулом ■ «Будьте моей женой!» ■ Занимательная география ■ «На тридцать восемь комнаток всего одна уборная…» ■ «Будет Юрка!» ■ Кот на плече ■ «Кто этот белокочан?» ■ Лунный мальчик ■ Не по Сеньке шапка ■ «Ты будешь Мальвиной!» ■ Фатальное соседство
…Сразу оговоримся: эта глава в прошедшем времени. Потому что главной ее героини – Татьяны Васильевны Богатыревой – уже, увы, нет с нами…
…Утопающая в зелени типовая пятиэтажка на далекой окраине Санкт-Петербурга, вдали от его дворцов и мостов… Скромный подъезд хрущобы… Обшарпанные лестничные пролеты… Несколько шагов наверх – и дверь открывает хозяйка – Татьяна Васильевна Богатырева. Она рассказывает, как по этим ступенькам не раз взбегал ее сын – студент, а потом молодой, но уже известный артист… В «красном углу» комнаты – домашний мемориал с его фотографиями. А рядом портреты других, самых близких, дорогих людей в жизни Татьяны Васильевны – дочери Риты, мужа Георгия Андриановича…
Тогда, в начале 2000-х, пережив их, она осталась в этой квартире вместе с Таней – внучкой-студенткой, дочкой Риты. Другой внук – Володя, моряк, – служил в Мурманске.
* * *
Татьяна Васильевна всегда отличалась слабым здоровьем. Пережила две серьезные операции. И призналась мне: теперь все реже накрывает большой гостеприимный стол. А когда-то вся семья собиралась за ним. Звенел смех, звучала музыка, пахло пирогами – она вкусно готовила, выпечка – ее конек. Ведь у нее настоящая рабоче-крестьянская закваска.
Родилась будущая мама артиста 22 декабря 1917 года в деревне Кипрово Бологовского района Калининской области десятым (!) ребенком. Правда, выжили в те трудные времена лишь восемь детей – четыре девочки и четыре мальчика. Поэтому, спасаясь от голода, семья перебралась в Питер.
– Квартира на 10-й линии, где я выросла, предназначалась для одиннадцати семей, – вспоминала Татьяна Васильевна. – И там была всего-навсего одна кухня! Представляете, что творилось, когда собирались все хозяйки? Сейчас там осталась жить внучка моей сестры. Жизнь, конечно, была трудная, но кому тогда было легко? Учиться в старших классах считалось роскошью. Прибавив год, пошла работать на знаменитый Козицкий завод – нужно было помогать родителям. А вечерами училась в школе для взрослых…
* * *
Татьяна Васильевна подливает чай и на минутку задумывается:
– У нас в роду вообще-то ни художников, ни актеров не было. Но я очень любила танцевать и в клубной самодеятельности первая была с шестого класса! В Доме культуры имени С. М. Кирова на Большом проспекте танцевала все: венгерку, мазурку, вальс-бостон, венский вальс, танго и многое другое. Тем более кавалеров хватало – Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Как-то забрел туда с товарищами на вечер и курсант Георгий Богатырев. Он изрядно робел, глядя на умопомрачительные па девушек. И начал упорно учиться танцевать – со стулом, чтобы грамотно пригласить приглянувшуюся девушку на тур вальса и не опозориться.
Он был такой влюбленный, – улыбается Татьяна Васильевна. – Все твердил друзьям: лучше ее нет! И вот я пришла к ним на выпускной вечер – и мы так хорошо провели время: танцевали до упаду.
Им было о чем поговорить – ведь Георгий Андрианович тоже оказался из многодетной семьи: рядом с ним росли четыре брата и одна сестра… И тоже, кстати, из деревни – он родился 13 февраля 1914 года в удмуртской деревне Верх-Позимь Боткинского района… У них оказалась идеальная разница в возрасте – три года…
* * *
После двух недель усиленных ухаживаний Георгий Андрианович сделал предложение, а Татьяна Васильевна, подумав, его приняла. Некоторую скоропалительность своего замужества она объясняет тем, что на танцах сразу же заприметила курсанта, взиравшего на нее издалека с немым обожанием. А знакомство лишь завершило то, что уже было решено на небесах.
8 октября 1937 года они зарегистрировались в обычном районном ЗАГСе, посидели в кафе – жених, невеста, друг жениха, подружка невесты. И потом для родственников, которых у жениха и невесты набралось пол-Ленинграда, была сыграна веселая свадьба в пятидесятиметровой комнате невесты.
И началась занимательная история с географией.
Сначала супруги уехали по распределению во Владивосток. Потом экскурсанта Богатырева отправили в Ленинград на высшие курсы, потом снова на Дальний Восток, в Находку. Затем он поступает в Военно-морскую академию имени К. Е. Ворошилова.
И тут – война. У Богатырева как слушателя академии – бронь. Академия эвакуируется в Самарканд. Туда и перебирается вся семья. Там Георгий Андрианович заболевает брюшным тифом. Кстати, именно в этом далеком узбекском городе Богатыревы узнали, что такое голод. Впрочем, шла война, и голодала вся страна. Татьяне Васильевне приходилось иногда продавать одежду, чтобы купить хлеб для семьи, – тогда уже появилась на свет Рита, старшая из детей…
* * *
В 1945-м в числе пяти выпускников Георгий Андрианович успешно оканчивает штурманский факультет. И становится настоящим «морским волком».
Его законная акватория теперь – Балтийское море. Они переезжают в Балдарай – живописное местечко, окруженное соснами, в сорока километрах от Риги. Деревянные домики, проселочная «дикая» дорога…
И снова коммуналка. Они получили двадцатипятиметровую комнату в квартире на пятнадцать семей. Георгий Андрианович неделями пропадал в море. Татьяна Васильевна оставалась с дочкой Ритой.
– Но Георгий очень хотел сына, – продолжает Татьяна Васильевна. – А я не беременела два года… Как только у меня задержка, муж всем говорит: «Ну, будет Юрка!» И писал друзьям: «Скоро у нас Юра будет». Хотели только Юру… И наконец я забеременела. Не знаю, что помогло…
Татьяна Васильевна вспоминает март 1947 года:
– Вечером я еще танцевала в клубе с друзьями-офицерами… А в шесть часов утра у меня начались схватки… Муж побежал на базу, и выяснилось, что помочь некому – все в увольнении. Потом все-таки нашли какого-то моряка с грузовиком. Я сижу, жду машину, а муж тем временем от волнения заснул в Главном штабе – так перенервничал! Еле добудились! Но вот наконец меня доставили по назначению, и я в рижском роддоме… Муж побежал что-то покушать… А я тем временем взяла и родила! Он возвращается, а его все поздравляют: «Георгий Андрианович! С сыночком! Богатырь у вас! Вес – четыре килограмма, рост – пятьдесят один сантиметр!»
И крестили сына там же, в Риге. Тем более что имя было выбрано уже давно…
* * *
Георгий Андрианович был счастлив. Хотя времени для общения с сыном у него было мало – флагманский штурман бригады, потом капитан, он все время проводил в походе, в море. Возвращался домой лишь на короткие побывки. И уже в раннем детстве Юра очень хорошо начал понимать, что такое подводная лодка.
Как во многих тамошних моряцких семьях, в семье Богатыревых сложилась традиция торжественных встреч на причале.
– Мы всегда ходили встречать папу, когда он возвращался домой из похода, – вспоминала Татьяна Васильевна. – Мне сообщал начальник, что, мол, лодка вашего мужа прибывает. Мы шли и кота собой брали. Так и стояли все вместе, всматриваясь в горизонт.
А спустя некоторое время белобрысый четырехлетний Юрик Богатырев уже выступал перед первыми зрителями на вечерах в Военно-морском клубе. Живой, непоседливый, он лихо плясал в матросском костюмчике – и «Яблочко», и «Цыганочку», и «Барыню».
Взрослые дивились:
– Кто этот белокочан?
Татьяна Васильевна гордо отвечала:
– Да это мой сын!
Неизвестно, где юный танцор подсмотрел фигуры танца, но все его движения были точны – и руки шли назад в «Яблочке», и «веревочка» вилась…
Тогда же он начал читать стихи на бис – правда, картавя. «Артист» не выговаривал букву «р». Но однажды увидел очень красивую спелую бруснику – и пристал к взрослым:
– Что это? Блусника?
Те поддразнили. Он же целыми днями завороженно твердил вслух «блусника, блусника»… Пока не получилась именно «брусника».
* * *
Потом Георгия Андриановича перевели служить в Москву. Вся семья поселилась на Левобережной…
И там родителям пришлось порядком понервничать.
По ночам пятилетний Юра регулярно вставал во сне и ходил по квартире, нарядившись в шелковый халат с черными страусами на голубом фоне. Картину завершала мамина шляпа с пером, вуалькой и мушками. Потом все аккуратно снимал и как ни в чем не бывало ложился спать дальше.
– Ведь как аккуратно вешал халат на место! – поражалась Татьяна Васильевна. – Кочерга стояла рядом с халатом и не падала! Мы в таких случаях его никогда не будили… Потом только спросим:
– Ты помнишь?
– Нет.
Отец, конечно, боялся за него – форточка же была открыта… С годами этот лунатизм как-то сам собой прошел… Но осталась более серьезная проблема, о которой мало кто подозревал: после скарлатины, перенесенной в детстве, у него развилось осложнение – порок сердца. Эта болезнь долго не давала о себе знать, только после смерти отца, которую Юра очень тяжело пережил, возобновилась с новой силой…
* * *
Кем мог стать Юрий, если бы не стал артистом? Татьяна Васильевна говорит, что с первого класса в его дневнике красовались одни пятерки, чем мама очень гордилась. А он ужасно хотел быть как папа – моряком. А где «делают» моряков? Конечно, в Нахимовском училище. Набор – в четвертом классе.
Поэтому, когда Юре стукнуло десять лет, его отправили в Питер – поступать в Нахимовское. Причем одного. Там его встретил один из многочисленных дядей и лично привел в училище. Юра поступил.
Спустя некоторое время дядя зашел его проведать:
– Где мой племянник?
– Богатырев? Да в лазарете он.
– Что случилось?
– У него понос и рвота.
Оказалось, мальчик заболел на нервной почве. Отличник Юра прежде никогда из дома не уезжал. А тут такой стресс. Плюс нервотрепка на экзаменах, а еще у него куда-то пропали шапка и носки. Кто-то из мальчишек стащил – решили так подшутить над новичком. А на дворе уже гремел питерский ноябрьский мороз…
Юра тогда твердо заявил дяде:
– Я возвращаюсь домой!
* * *
7 ноября в квартире Богатыревых, как всегда, собрались гости за праздничным столом. Татьяна Васильевна помнит даже теперь, что сварила холодец плюс разносолы – тогда ведь гуляли ноябрьские серьезно, по три дня. Пришли сослуживцы Георгия Андриановича, его друзья. И все почему-то стали пенять хозяину: зачем, мол, отдал Юрочку в Нахимовское училище?
Георгий Андрианович расстроился.
Татьяна Васильевна решила подбодрить мужа:
– Да не плачь! Юра вернется!
И тут вдруг, как в сказке, открывается дверь, и на пороге Юра – худой, без шапки, счастливый и расстроенный одновременно. И главное – очень самостоятельный: уехал один и приехал один…
С того дня мечту о море у него как отрезало. Он понял, что через казарму пройти не сможет.
– Если бы не украли эту злополучную шапку и носки, – вздыхает Татьяна Васильевна, – судьба у него, может, со всем по-другому сложилась бы…
И вспоминает, что его всегда дразнили «девчоночником».
* * *
Дружил он почти исключительно с девочками. Причем творчески. Так, уже в Москве, на Левобережной, придумал для подружек «кукольный театр» во дворе – в беседке, обвитой хмелем. Там стоял столик-сцена, шторы играли роль занавеса.
Сам всем руководил: сшил платья куклам из маминых халатов, распределил среди девочек роли: «Ты – Мальвина, ты – лиса Алиса, ты – Буратино». Дворовые «артисты» и их мамы с нетерпением ждали, когда «режиссер» вернется из школы и откроет свой «театр». А уж какие аплодисменты устраивали после «премьер»!
Тем не менее дорога «в артисты» оказалась совсем не прямой. Потому что, помимо сцены, его безумно привлекала живопись.
– У нас была соседка, пожилая художница, – вспоминала Татьяна Васильевна. – У нее Юра просиживал допоздна, наблюдая, как она делает батик. Получались на ткани такие красивые цветы – розы, гвоздики, астры… Юра просто влюбился в нее. Просиживал часами, рисовал, рисовал – с детства это у него очень хорошо получалось. И одновременно мучился размышлениями о будущем.
Он действительно не знал, кем быть – художником или артистом. Мы с отцом говорили: «Юра, кем хочешь – тем и будь». И вот он поступил в Художественное училище имени М. И. Калинина… Но как оказалось, выбор этот был не окончательным…
Глава 3. Свой среди своих
Заразная живопись ■ Бедный Юрик ■ Лесные таланты ■ Кукольные гастролеры ■ «Покажи певицу!» ■ Смешинка – это серьезно ■ Неожиданный Маяковский ■ Ленинградские посиделки ■ Две бутылки на десятерых ■ «Как денди лондонский…» ■ Дискотеки с боем ■ Дистанция огромного размера
Художник или артист? Казалось бы, выбор сделан – Юрий поступает в художественное училище. Но сомнения продолжают его терзать. Спустя много лет он поймет и признается в одном интервью: «Чтобы по-настоящему заниматься живописью, надо посвятить этому всю жизнь, целиком».
Оказывается, он был к этому не готов.
«Поэтому я никогда не стану профессиональным художником. Для меня рисование – увлечение, которое появилось в моей жизни очень давно и к которому я отношусь достаточно серьезно».
Такое трепетное отношение к изобразительному искусству сложилось у него еще со школьных лет – во многом благодаря усилиям школьного учителя рисования – Владимира Ильича Тарасова.
О нем он будет вспоминать с благодарностью и любовью. Но… вместо положенных пяти лет он проучился на художника только три года. Театр победил окончательно. Но не сразу.
* * *
Тинейджерам, как известно, всегда не хватает денег на карманные расходы. Гордый Юрий предпочитал не клянчить у родителей, а подрабатывать на археологических раскопках. Там зарисовывал для ученых найденные «сокровища» – остатки женских украшений, монеты, черепки от глиняной посуды…
Из одной такой экспедиции он привез домой… настоящий человеческий череп. Сестра Рита, учившаяся на стоматолога, сначала ахнула, а затем весьма практично использовала это «учебное пособие» для подготовки к экзаменам в институте. Тогда же на самостоятельно заработанные деньги Юрий сделал первые самостоятельные покупки: купил нейлоновый коричневый плащ. Но будущее с археологией все-таки не связывал. Когда в дом приходили гости – его всегда просили почитать стихи, попеть. Он никогда не отказывался – воспринимал это как очередную репетицию.
* * *
…Живописный лес за подмосковным Тучковым. Разрытый курган. Многочисленные палатки археологов вокруг. Именно здесь произошла судьбоносная для четырнадцатилетнего Юрия встреча. В соседних с ним палатках оказались мальчики и девочки из детского кукольного театра Дворца пионеров и школьников на Ленинских горах. Послушаем одного из них.
Александр Нестеров, филолог-переводчик:
– Наше знакомство с Юрой состоялось летом в начале 60-х годов. Он был тогда студентом художественного училища и каждый сезон работал в археологической экспедиции в Подмосковье, старательно зарисовывая все, что там обнаруживали ученые, – бусины, осколки сосудов, остатки древнего оружия… Каждый день в составе взрослой бригады археологов Юра ходил на холм, где велись раскопки. Какой студент не воспользуется возможностью подработать? Тем более такое красивое место под Москвой.
А недалеко от этого холма раскопок был разбит летний лесной лагерь московского Дворца пионеров и школьников. Маленькие палатки, несколько деревянных строений – там помещались кухня и какие-то подсобные помещения. Этот лагерь существовал несколько лет и пользовался огромной популярностью у ребят. Вместе с детьми самого разного возраста туда выезжали и руководители коллективов. Они могли в это время общаться со своими подопечными более тесно, чем зимой, когда встречались на занятиях два-три раза в неделю. В лагере кипела бурная деятельность. Кто-то из ребят конструировал там технические модели – самолеты, катера, кто-то занимался радиоделом, фотографией, шахматами…
Я тогда занимался в кукольном театре. И мы отправлялись в этот лагерь не только чтобы отдохнуть, но и репетировать, выступать. Наша небольшая бригада ездила с куклами по близлежащим пионерским лагерям и давала там концерты. Этим, кстати, мы и отличались от других ребят.
У наших ребят в лагере открылись разнообразные таланты. Кто-то вдруг начал играть на музыкальном инструменте – баяне или гитаре. Кто-то из девушек вдруг стал петь. А в кукольных спектаклях мы использовали в основном элементарные, так называемые «перчаточные куклы». И у нас сложился, по сути, целый маленький спектакль из отдельных номеров, в основном юмористических и сатирических.
Например, помню, была у нас красивая кукла – пародия на известную певицу. Довольно сложное устройство внутри – наклонялась голова, открывались и поворачивались глазища, растягивались в улыбке пухлые губы, двигались руки, ноги… Наш кукольный концерт был дан и для обитателей лагеря. Мы хотели, чтобы все знали, на что способны.
А еще мы дежурили на раскопках по определенному распорядку. И кстати говоря, ходили туда с восторгом – было действительно интересно. К тому же сразу по приезде ученые нам устроили подробную лекцию о том, что это за поселение.
И вот наши репетиции с куклами привлекли внимание молодого студента-художника. Именно та самая сложная кукла, изображающая певицу, и вызвала тогда у Юры живой интерес. Увидев маленький концерт в нашем подшефном лагере, он очень заинтересовался. После окончания концерта Юра подошел ко мне и попросил разрешения посмотреть поближе куклу: «Покажи!» Я показал. Он взял в руки куклу, было видно, что ему страшно интересно – за что держать, как надо двигать, чтобы поворачивалась голова…
Так я познакомился с Юрой Богатыревым. Потом уже он показал нам свои рисунки. Мне тоже было очень интересно встретить настоящего художника – хоть и будущего. Каждый день мы встречались и разговаривали. А в сентябре, когда лето кончилось, начались занятия в школе и по кружкам, Юра пришел к нам, к руководителю нашего кружка Владимиру Михайловичу Штейну, выдающемуся деятелю искусства, многогранной личности, у которого сложилось свое представление о возможностях кукольного театра вообще и детского в частности. И его спектакли серьезно отличались от традиционных работ кукольников.
* * *
– Помню наши разговоры с ним той поры, – продолжает Нестеров. – Они в основном касались его будущей профессии – живописи. Тогда он еще видел себя художником. И даже рисовал эскизы к некоторым нашим спектаклям. Они, кстати, были вовсе не детские. Мы же взрослели, и наш руководитель совершил переход от детских спектаклей типа «По щучьему велению», «Кошкин дом» к более серьезным постановкам. Может быть, это было веянием времени, не знаю… У нас стали ставиться пародийные сатирические мини-спектакли. Среди тогдашних авторов детского кукольного театра оказался и Марк Розовский. Мы ставили номера на его тексты. И Юра тут оказался очень нужен. И в спектакле по басням украинского писателя Феликса Кривина Юра тоже участвовал в качестве кукловода.
Но у него иногда возникала «техническая» проблема – попадала «смешинка в рот». Причем он так заразительно смеялся! Во время репетиций еще куда ни шло. Но во время спектакля это же невозможно! Там требовалась стопроцентная серьезность по отношению ко всему происходящему и перед ширмой, и за ширмой. Требовались тишина и внимание. А Юра каждый раз, давясь от смеха, что-то изображал. У нас с ним получалось много смешных номеров, но ему приходилось постоянно сдерживаться. Поэтому я понимал, что он все-таки не кукольник.
Тогда еще он только присматривался. Ждал своего часа… Если мы что-то пели – подпевал… И час этот наступил.
* * *
Штейн решил ставить спектакль по стихам Владимира Маяковского. И Юру выбрал ведущим. Начались серьезные репетиции.
Юра очень хорошо выглядел, выразительно декламировал, четко двигался. Но он еще не умел читать текстов в определенной сценической стилистике, тем более осознанно двигаться на сцене.
Начался процесс обучения. Мы занимались и друг с другом, и по отдельности. Нельзя сказать, что у Юры все получалось легко и сразу. Вовсе нет. Многие вещи давались ему с большим трудом. Но Штейн видел, что у Юры получается все же лучше, чем у тех ребят, которые уже давно занимались, у которых были поставлены голоса, дикция, движение. Они знали цель спектакля, чувствовали драматургию… Тем не менее на главную роль он выбрал его – неопытного парня, который многое на сцене еще не знал, не умел.
Юра сначала отчаивался от того, что многое у него не получается. Стоял в уголке и грыз ногти, выслушивая критические замечания Штейна, который был достаточно строгий педагог. Творческая дисциплина была для него обязательна.
А задача для Юры была поставлена непростая, интересная – артист из-за ширмы от участников спектакля выходил к зрителю… И наоборот… Такое постоянное перевоплощение. Это необычно для кукольного представления – ведущий находился то на сцене перед зрителями у ширмы, то за самой ширмой.
Тем более что оригинально были подобраны и стихи. Напомню, что тогда многие произведения Маяковского проходили в школе. Само имя поэта не вызывало особого восторга. Но Штейн предложил малоизвестные стихи, которые совсем не ассоциировались с расхожим представлением о поэте и вызывали живой интерес, а не хрестоматийную скуку.
Соответственно и ведущий должен был интриговать, привлекать внимание. С другой стороны, в его обязанности входило и вплетение в канву «верноподданного» стишка, чтобы спектакль разрешили показывать, – например, патриотических «Стихов о советском паспорте». И Юра с этой двойной задачей блестяще справлялся.
* * *
Нестеров считает, что, возможно, именно тогда и родилось у Юрия желание изменить будущую профессию.
– Мне кажется, что именно в тот период у него произошла переориентация интересов с живописного творчества на творчество театрально-художественное. А до этого необходимости что-то менять не было. Он же прекрасно рисовал, учился в серьезном художественном училище. Но у него появились серьезные внутренние причины на этот шаг.
Во-первых, Юра оказался под мудрым творческим руководством. Владимир Михайлович Штейн никогда не был ограничен чисто «кукольными» интересами.
Во-вторых, у нас было активное «культурное» общение друг с другом. Мы вместе ходили в театры, в кино, на концерты. Каждый год на зимние каникулы ездили в Ленинград – проводили целые дни в самых серьезных и знаменитых музеях. А вечером разговаривали об искусстве.
Штейн, конечно, знал намного больше нас, и свои педагогические акции проводил очень ненавязчиво. Получалось как бы само собой, что вечером мы обсуждаем увиденное днем в музеях.
Так Юра оказался под чутким и строгим руководством замечательного педагога, который за короткий промежуток времени сумел научить способного парня читать стихи, прозу, правильно двигаться на сцене, преодолевать стеснение… Именно Владимир Михайлович открыл ему, что он может быть артистом…
Хотя не все шло гладко, сбои у него случались. В спектакле по стихам Маяковского он иногда убегал не в том направлении. Мы стоим за ширмой и ждем, когда он скажет положенные слова и аккуратно уйдет за кулисы, чтобы нам начать свое действие. А он совсем не туда идет. И ничуть не переживает – напротив, все это вызывает у него приступы веселья. Но каких-то серьезных провалов у него не было.
* * *
Нестеров ностальгически вспоминает о том времени:
– Наш коллектив «Глобус» был очень яркий, хотя и небольшой – около пятнадцати человек. Кто-то уходил, поступая в институт, кто-то приводил новеньких… Но особенность нашего театра была в том, что нас всех связывала тесная дружба.
Мы много общались. Хотя времена для этого были не самые удачные. Возможности для встреч были весьма ограниченные. Мало кто из нас жил в отдельной квартире, жили в основном в коммуналках. Мы часто собирались дома у наших девочек – у Греты Аснис, Нины Турчак, Тани Майдель, ее одноклассницы Нели Якубовой. Устраивали вечера вскладчину: две бутылки вина на десять человек, винегрет. Неля всегда приносила что-нибудь вкусное – например, печенье, сделанное своими руками по татарскому рецепту. И эта вечеринка – в квартире с соседями: надо вести себя достаточно тихо, чтобы не вызвать их неудовольствия. А хотелось и потанцевать, и попеть.
Ведь дискотек тогда просто не существовало, – вспоминает Нестеров. – Если во Дворце пионеров устраивали танцы, то коллективы, которые занимались там, должны были выделить здоровых парней-дружинников на охрану входа, потому что люди рвались на танцы как сумасшедшие. И Юра тоже зачастую стоял в оцеплении. Он, как и все, подежурит, а потом сам сходит потанцевать…
* * *
Каким он был тогда?
Александр Нестеров задумывается:
– Открытый, веселый человек. И достаточно заводной. Это потом уже стал более скрытным. Влияние среды, возможно. А когда мы общались – этого вовсе не было.
Хотя с другой стороны… Бывают люди, которые всем рассказывают о своих влюбленностях. А есть такие, которые полагают, что не следует этого делать. Он был из числа последних. Наверное, у него были увлечения, но он не откровенничал с нами, никому не поверял свои личные проблемы. И в памяти у меня осталась только очень приятная сторона общения с ним – чисто дружески-творческая… А может, все дело было в том, что все-таки мы были еще школьниками, а он – студентом. И выглядел иначе. Следил за модой – завел себе костюм, носил рубашку с галстуком. Узнал, где находится хорошая парикмахерская, и был всегда аккуратно пострижен.
Главное – он был не пустой. Его начитанность, определенный уровень культуры были видны сразу. Но никогда не стремился показать свое превосходство в чем бы то ни было. К тому же он понимал тогда, что любые амбиции в нашей компании вызовут только иронию. А несколько ребят нашего круга могли шутить очень изощренно… И Юра не рисковал подставлять себя под шквал дружеской, но нещадной критики.
* * *
Александр Нестеров окончил школу, поступил в Институт иностранных языков, затем поехал учиться за границу.
– И наше с Юрой общение прервалось… И вот в один из коротких летних приездов в Москву я оказываюсь на тогдашней улице Кирова (ныне Мясницкой) у Главпочтамта. Смотрю, кто-то знакомый идет навстречу, выступая чересчур горделиво. Юра! Уже студент Щукинского училища, он шел в сопровождении двух сокурсниц. Он был совсем другой. У него даже осанка изменилась. Мы немного поболтали.
А следующая наша встреча состоялась уже после того, как я вернулся в Москву после учебы и службы в армии. Юра стал уже достаточно известным артистом. Мы с товарищем собрались в кино, в новый кинотеатр. Я даже не знал, как фильм называется. И, увидев Юру на экране (это оказался «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова), изумился, вспомнив его первые шаги на сцене. Скачок колоссальный. Впоследствии, посмотрев его работы в «Современнике», я еще раз в этом убедился. Я видел огромную разницу между тем, каким он был в начале своей актерской карьеры, и тем, каким он стал спустя шесть лет…
Воспитанный друг корректно соблюдал дистанцию:
– Я никогда не пытался прорваться к нему за кулисы и напомнить о себе. Мне рассказывали, какая у него непростая жизнь. И мне казалось, что не стоит лишний раз отвлекать человека на всякие мелочи. Вокруг большого артиста и так много людей… И я не стремился к общению с ним, как некоторые наши общие друзья, которые шли за кулисы и передавали ему от меня приветы. На мой взгляд, надо было немножко пощадить его.
Я считаю, что крупный актер – достаточно сложно организованный и функционирующий организм, в котором и физическая, и эмоциональная, и духовная жизни тесно переплетены и существуют в постоянном напряжении… А поклонников и поклонниц Юре и так хватало.
Глава 4. Кукольный дом
Как у Шекспира ■ Спят курганы тихие… ■ «Можно, я приду?» ■ «Шинель» Петровича ■ Библейские сюжеты ■ Паника, радость, отчаяние ■ Книжный запой ■ От Оки до Мещеры ■ Оберег на удачу ■ Против Станиславского ■ Клюквенная кровь ■ Улыбка лягушонка ■ Оазис творчества ■ Колечко на счастье ■ «Куклы могут все!» ■ Юрис играет Штрауса ■ Небритый, но довольный ■ Арийский типаж ■ Тайный враг
В начале 2000-х я сидела в кабинете главного кукольного волшебника с печальными глазами – в Театре детской книги «Волшебная лампа» у Сретенских ворот. Слушала неторопливую речь заслуженного артиста Республики Башкортостан, художественного руководителя Театра детской книги «Волшебная лампа» Владимира Штейна. Юру Богатырева он запомнил очень хорошо. А буквально через полгода Штейна не стало. Вот что он успел мне тогда рассказать:
– В начале 60-х у меня уже был свой детский кукольный театр: сначала при Дворце пионеров в переулке Стопани, затем мы переехали во Дворец пионеров на Ленинских горах, – вспоминал Владимир Михайлович. – Причем наш коллектив был даже не детский, а скорее молодежный. И назывался наш театр-студия «Глобус» – как у Шекспира. Мы были уже довольно знамениты и уже играли на престижных театральных площадках – в ЦДРИ, Доме актера, Библиотеке имени Ленина, Доме культуры МГУ.
И тогда же, летом, мы стали ходить в длительные походы. И брали с собой наш складной кукольный театр. Там мы не только отдыхали, но и показывали в деревнях и селах наши спектакли, причем под музыкальное сопровождение – с нами был юный баянист Витя Коробов.
А в 1962 году Дворец пионеров организовал под Москвой тренировочный лагерь для всех туристов – и «водников», и пеших. Мы жили в палатках, грелись у своей самодельной печки. А рядом с нами оказались члены археологической экспедиции, которая раскапывала курганы – скифские поселения. Мы показали этим археологам, среди которых оказался и Юра Богатырев, тогда студент художественного училища, свои спектакли.
* * *
Помнится, идет наш спектакль-концерт. Юра сидел на траве – такой громадный, с большими, как лопаты, ручищами, невероятно обаятельный. И жутко смеялся по любому поводу. Все ему очень нравилось. А в конце представления он взял кукол и начал ими «работать». Затем подошел ко мне и серьезно спросил: «Владимир Михайлович! А можно, осенью я приду к вам заниматься?»
Парень с такой фактурой, с такой потрясающей внешностью, голосом, обаянием… Конечно, вопросов не было, я сказал: «Приходи».
И он пришел. И занимался в нашей студии четыре года. Во многих кукольных спектаклях играл, был очень талантливый. Правда, я не так подробно помню его кукольные роли, потому что это были, скорее, этакие интеллектуальные капустники. Но вот его портного Петровича из «Шинели» по Гоголю помню до сих пор… Он сыграл его неожиданно гротескно…
Но наиболее ярко он работал в спектакле по Маяковскому. Причем «живьем» – был ведущим, «молодым Маяковским», читал стихи. Он был чрезвычайно убедителен, читая «Историю Власа – лентяя и лоботряса», «Шесть монахинь», «Прозаседавшихся», «Блек энд уайт» – весь этот советский набор назывался «С рифмой наперевес». Кстати, с точки зрения кукольной профессии подборка стихов не совсем обычная…
* * *
– В основном мы играли такие спектакли-концерты, – вспоминал Штейн. – В них трудно выразиться актеру – у каждого лишь отдельные «номера». Например, был у нас спектакль, который назывался «С божьей помощью». Писатель с Западной Украины Феликс Кривин выпустил несколько сборников очень смешных маленьких рассказиков. И среди них – сборник анекдотов на библейские темы. Он брал библейские сюжеты и переиначивал их на современный лад. И мы из них сделали целый спектакль.
Показывали мы свои работы в школах, в институтах, в домах творческой интеллигенции. В то время наш театр просто гремел. Мы были почти знаменитостями.
А Юра… Мне стало очевидно сразу, что из него не получится артиста кукольного театра. Но я был, наверное, не самый плохой театральный педагог. И ему у нас показалось интересно. Мы делали очень нестандартные для кукольного театра вещи: ставили Маяковского, Гоголя, Федерико Гарсиа Лорку, «Дневник Анны Франк», «Белый пароход» Чингиза Айтматова, «Капитанскую дочку» Александра Пушкина. То, что не принято было делать в кукольном театре. Я всегда старался работать с большой, серьезной литературой. И Юру это привлекало.
И уже тогда он проявлял качества профессионала. Он был очень ответствен. Мог меняться внутри одной роли, импровизировать. А так как он был еще и художник, то начинал с того, что рисовал своего героя. У меня долгое время хранились его эскизы.
Я запомнил непосредственность его реакций. Он мгновенно на все откликался: мгновенно впадал в панику или, наоборот, в бурную радость, когда менялось его настроение, когда случалось что-то смешное… Эмоции не прятал в себе.
* * *
Штейн задумывается. И продолжает:
– Уже тогда Юра был совсем не похож на наших ребят – он очень быстро понял свое предназначение в жизни. В нашей студии артистами хотели быть все, но стали единицы – например, Алик Черетянский, который после десятого класса с моими куклами пришел к Сергею Владимировичу Образцову, показался там – и его приняли. Саша Бродецкий сейчас режиссер, преподает в театральной школе. Лена Плотникова окончила режиссерский факультет и ныне руководит кукольным театром в том же Дворце пионеров.
Но артистов не так много вышло, хотя многие из ребят стали замечательными педагогами. Настоящим актером стал только Юра, который был по-особенному целеустремлен. К тому же он был очень начитанный мальчик. Читал буквально запоем и очень разное. Часто брал у меня книги, особенно просил издания по театру…
Его у нас в студии очень любили. Хотя по характеру Юра был не очень-то открытый человек, скорее «внутренний», сосредоточенный в себе. Он не слишком подпускал к себе людей, держал на расстоянии даже товарищей.
Но ему все-таки повезло с друзьями. Тогда вокруг студии сложилась своя тусовка – замечательная компания старшеклассников. Почти все свободное время они проводили у нас в театре. Да и потом старались бывать везде вместе. Каждый год мы ходили в походы, причем далекие. У нас было пять больших «экспедиций», по месяцу каждая. Мы разрабатывали дальние маршруты. Скажем, первый – по Оке от Серпухова до Калуги. Шли по берегу, с палатками, с рюкзаками, набитыми консервами…
Второй поход был по Мещере от Гусь-Хрустального до Рязани, третий – по Десне от Брянска до Киева. И во всех Юра участвовал.
Вообще он был очень спортивным мальчиком. У меня было два таких богатыря – Саша Нестеров, ставший впоследствии крупным филологом-германистом, и Юра. Именно они носили на себе наш театр – ширму-чемодан. Ездили мы и «на гастроли» за границу, в Чехословакию, – и Юра тоже.
* * *
– Он уже тогда понимал, чего хотел, – продолжает Штейн. – Как-то подошел ко мне и сказал, что хочет поступать в театральный вуз. Я отнесся с пониманием, помог ему подготовиться к экзаменам. Он читал мне свою программу для поступления. Кажется, это был Гоголь – «Мертвые души». Сонеты Шекспира. Басни Крылова. Стихи Маяковского из нашего спектакля. У него было несколько разнообразных чтецких программ. Интересно, что он взял с собой на экзамен в Щукинское училище куклу… И поступил к Юрию Васильевичу Катину-Ярцеву.
Мы и потом поддерживали с Юрой отношения. Он регулярно приходил ко мне в театр, приглашал меня на все свои студенческие спектакли. После очередного экзамена мы всегда долго гуляли по Арбату, и я рассказывал ему свои впечатления.
* * *
Штейн считает, что «до конца» Юрия понимал лишь Никита Михалков, увидевший в нем и Штольца («Несколько дней из жизни И. И. Обломова». – Н. Б.), и Шилова («Свой среди чужих, чужой среди своих». – Н. Б.).
– Михалков попал под обаяние его фактуры, его характера. Я, конечно, видел все фильмы с его участием. Особенно меня поразил «Свой среди чужих…». Помню, сразу после просмотра позвонил, поделился впечатлениями. Юра замечательно сыграл и Штольца в фильме Михалкова «Обломов». Особенно сцену прощания с отцом, когда молодого Штольца отправляют учиться в гимназию. Это было сделано грандиозно. У Михалкова всегда в фильмах случаются неожиданные взрывы действия, наполненные криками, музыкой. На этот раз получилась этакая «симфоническая картинка для Юры с оркестром». Совершенно блестящая сцена.
Но почему-то из Юриных киноработ, – продолжает Штейн, – мне больше всего запомнился его Манилов в телевизионном фильме по «Мертвым душам» Гоголя. Александр Калягин там играл Чичикова. А Богатырев – Манилова. Юра же был очень красив. И как художник, он в этом фильме спародировал свою красоту. И кстати, работал он там очень «по-кукольному».
Чем отличается артист кукольного театра от артиста драматического?
Станиславский говорил, что актер в драматическом театре должен играть по схеме: «я» в предлагаемых обстоятельствах. Но в кукольном театре так не получится. Там артист работает по схеме: «он» в предлагаемых обстоятельствах. Артист должен наблюдать за тем, что держит в руках.
Это очень интеллектуальное творчество. Оно предполагает некую отстраненность создателя от своего творения. Не зря же Пушкин удивлялся когда-то своей героине: какую шутку выкинула моя Татьяна – вышла замуж за генерала!
И такой «авторский» взгляд со стороны на свое создание, мне кажется, присутствует в Манилове Богатырева. Там не было этого «я» в предлагаемых обстоятельствах. Там был точно придуманный Богатыревым (или режиссером Швейцером) образ. Богатыревского Манилова приводит в восторг буквально все – любая букашка или цветочек. И артист, как художник, получал от этого удовольствие.
* * *
Последний раз учитель разговаривал с бывшим учеником после фильма «Родня».
– Мне понравилась его работа на грани гротеска. Он же все время именно так играет. И даже в драматических ролях вроде Шилова. В этом сказалась его «кукольная кровь». Ведь артист-кукольник должен передавать самые яркие, характерные черты своего персонажа, иногда сознательно утрируя.
Юра прекрасно знал эти «кукольные» законы. Он ведь всегда живо интересовался моей работой. И часто бывал на наших спектаклях. Я тогда поставил в театре под руководством Образцова сказку «Солдат и ведьма» – этим спектаклем открывалось новое здание театра на Садово-Самотечной улице. Юра и другие ребята – все дружно пришли на премьеру…
Режиссер задумывается.
– Не думаю, что я был для него настоящим учителем. Учителем Юры, скорее всего, был замечательный педагог и великолепный актер Юрий Васильевич Катин-Ярцев. Но его поиски в актерском творчестве во многом связаны с тем, что он делал у нас. Именно после прихода к нам он стал всерьез думать о профессии актера. И наверное, в этом я ему немного помог… Жаль только, что я надолго уехал из Москвы в Башкирию, и наша связь на десять лет прервалась…
* * *
– Во Дворце пионеров занималось много ребят, у которых также могло бы быть очень яркое театральное будущее, – добавляет вдова Владимира Штейна, ныне художественный руководитель театра «Волшебная лампа» Марина Грибанова. – Но, увы… Жизнь у всех сложилась по-разному, хотя из наших ребят получились очень хорошие люди. Юре повезло больше. Я запомнила его молодым, красивым, добрым, настоящим великаном. Его большой рот всегда улыбался, как у доброго лягушонка. Невероятно обаятельный – с первой минуты.
Он был не только очень хороший актер, но и интересный художник – у меня до сих пор хранятся его рисунки. Конечно, если бы он не попал в театральную среду, был бы профессиональным художником. Мы его «совратили» театром.
Но… Напомню, что он тогда учился на художника по коврам. Что его ждало? В лучшем случае он делал бы ковры у себя в мастерской. В худшем – работал бы на Люберецкой ковровой фабрике. Вот что его ждало и, скорее всего, порядочная нищета. А он стал знаменитым артистом…
* * *
Еще одна ученица Владимира Штейна – Елена Плотникова – сегодня занимает кресло, которое занимал когда-то Штейн: Елена руководит студией Театра кукол Дворца творчества детей и юношества на Воробьевых горах. Но те давние события прекрасно помнит:
– Владимир Михайлович Штейн увидел меня на городском кукольном фестивале в детском коллективе пионеров. Я там показывала номер с Петрушкой, псом Тузиком и с Котом. Мое выступление его заинтересовало. Так я пришла в Театр-студию городского Дворца пионеров и школьников – чуть раньше, чем Юрий Богатырев.
Тогда Владимир Михайлович был очень молод, не намного старше нас. А наша группа считалась молодежной – нам было лет по пятнадцать – шестнадцать.
Я ни секунды не сомневалась, идти ли к Штейну, – обстановка в студии была удивительная. Она просто притягивала всех думающих людей.
В то время у молодежи была жажда общения на высоком интеллектуальном и культурном уровне, все испытывали дефицит такого общения. И искали особое место, где можно было бы встречаться и разговаривать. Наша студия и стала одним из таких оазисов. Поэтому когда Юра познакомился с нами, то у него также возникло желание влиться в наш коллектив.
* * *
Впервые она увидела его в Тучкове.
– Это было летом, – вспоминает Елена. – Там раскинулся палаточный городок, в котором мы жили и готовились к будущей гастрольной поездке. Там же работала и археологическая экспедиция. Помнится, мы с Сашей Нестеровым нашли тогда «клад» – кольцо-проволоку. А Юра как раз работал в этой экспедиции – зарисовывал находки.
И вот однажды он пришел на наш концерт. Я делала тогда два номера с куклами. Номера были очень детские, простые. Но почему-то они больше всего привлекли его внимание. Юра уверял меня – и не раз! – что они не такие простые. Что-то он увидел в этом особенное. И потом сказал, что тоже хочет заняться кукольным театром.
С этого момента, можно сказать, и началась его актерская биография.
– По-моему, это не случайно, – размышляет Плотникова. – В Юре всегда жило что-то детское, какое-то особое ожидание радости, чуда. К театру он относился так же, как дети – к куклам. Он был очень добрый человек. Ни разу ни о ком не сказал ни единого нелицеприятного слова. Всегда ко всем относился с большим интересом и доброжелательностью. И мы это на себе испытывали.
Кстати, он гордился «кукольным» началом своей творческой биографии. Всегда говорил: «Начинал я во Дворце пионеров, в театре кукол». И вспоминал с нежностью это время…
У нас был необыкновенный кукольный театр. Например, мы участвовали в устных выпусках журналов в Доме актера (тогда еще не сгоревшем). Там собирались художники, режиссеры, актеры театров. Это были очень интересные вечера. На эти устные выпуски было трудно попасть – битком набивался зал, люди стояли во всех проходах. А нас туда часто приглашали выступать, потому что у нашего руководителя Владимира Михайловича Штейна было кредо: «Куклы могут все».
* * *
– Юра стал активно у нас работать, – продолжает Плотникова. – Помню его ведущим поэтических программ – по Маяковскому, например. А еще ему очень импонировал номер «Диспут», придуманный Марком Розовским. Юре очень нравилось играть в нем ученика Трепаченкова. А моя героиня Джульетткина там говорила о любви…
Мы впервые делали этот номер с не совсем обычными куклами. У нас были особые мимирующие куклы, у которых могло меняться выражение лица, была мягкая мимика. Это открытие Сергея Образцова для многих стало откровением.
И вот наша художница Марина Грибанова сделала из поролона очень смешных кукол. И Юра с восторгом брал их в руки! Я смотрела, как он «осваивает» этих кукол, и понимала, что ему гораздо больше нравится играть ученика Трепаченкова, чем быть ведущим в поэтическом спектакле.
Этот спектакль мы возили даже на гастроли. Помню, как-то зимой ездили в Прибалтику на каникулы. И там Юре тоже довелось играть… Кстати, тогда я не знала, что он родился и когда-то жил в Риге. Юра нам рассказал кое-что – скупо, буквально в нескольких фразах. Помню, там он называл себя Юрис, пел нам почему-то вальс Штрауса – играл на фортепьяно и пел.
А потом мы с нашим «Диспутом» и с этими мимирующими куклами выступали на телевидении. Был «живой» эфир – вечер сатириков в телевизионном театре на площади Журавлева. И Юра снова играл и Трепаченкова, и ведущего, который объявлял номера, например: «Выступает ученик Трепаченков», «Выступает ученик Самокопаев», «…ученица Джульетткина». И при этом успевал еще и с куклой поработать. Что технически было не так-то просто…
* * *
Юра великолепно держался, и его очень хорошо принимали. Вообще он был очень одаренный. Прекрасная внешность, отличный голос, замечательная дикция, музыкальность. Когда он пришел к нам заниматься, выяснилось, что он играет на фортепьяно. Потом мы узнали, что он учится на художника. Мы даже как-то ездили к нему в училище на какую-то встречу… И он показывал нам там театральных кукол…
А потом мы поняли, что он думает о перемене профессии. Это как-то само собой получилось. Видимо, внутренне у него все шло к этому решению – оставить живопись, уйти в театр. Может, как раз потому, что заниматься в студии действительно было очень интересно. Атмосфера у нас была творческая. Конечно, благодаря нашему руководителю, который недаром учился у Образцова на Высших режиссерских курсах и работал в театре Образцова режиссером. Потом Владимир Михайлович Штейн стал одним из ведущих в стране режиссеров театра кукол. А тогда он много экспериментировал, искал. И конечно, Юре как художнику это было очень интересно – студийные эксперименты, поиски формы…
* * *
После того как Юра поступил в Щукинское училище, он к нам часто заходил, интересовался новостями. Помню, когда он только пробовал сниматься, то пришел к нам на занятия рассказать, как прошли пробы. Он сказал, что ему все очень понравилось и что он подходит для роли: режиссеру требуется такой светлый типаж – глаза, волосы, кожа…
Одно время мы довольно часто пересекались с ним в книжном магазине «Дружба» на улице Горького. Он туда регулярно заходил за хорошими альбомами по искусству.
Помню, как была поражена, встретив его однажды в этом магазине. Юра всегда был аккуратен, подтянут, очень элегантно одет. А тут я его даже не сразу узнала – какой-то худой, небритый, заросший, неопрятный… Сказал, что только что приехал из экспедиции и забежал за книгой по живописи, которую он ждал. Как потом узнала, он тогда снимался в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» – фильме, который и принес ему широкую известность…
Последний раз я встретила его в метро. Мы поздоровались на перроне. Он сказал:
– У меня все хорошо… Но есть один человек, который меня ненавидит… А так у меня со всеми прекрасные отношения…
Глава 5. Они шагают по Москве
Янтарный браслет ■ От Бродского до Высоцкого ■ Танцы до упаду ■ Винегрет – лучшая закуска ■ Ноги вверх ■ Многоуважаемый шкаф ■ Конкурс женихов ■ Ночное рандеву ■ Щука побеждает ГИТИС
Москва 60-х. Время свежего ветра хрущевской «оттепели». Всенародного ликования по случаю первого полета человека в космос. Еще – легких прогулок по любимому городу в стиле «Я шагаю по Москве».
И юный артист постигает жизнь во всех ее проявлениях в обществе новых «кукольных» друзей. Веселой компанией они часто собираются в коммуналках Сретенки. Когда он опаздывает на электричку, остается ночевать у друзей. Влюбленные, окрыленные, уверенные в своем великом будущем, они шутят, поют, смеются. Их не волнует коммунальный быт, отсутствие денег, перспектив и вкусной еды.
В их компании все знали, что он ухаживает за красивой и хозяйственной Нелли Якубовой. Гулял с ней по вечерней Москве, танцевал на вечеринках и не давал никому приблизиться к своей даме. Забегая вперед, скажем, что замуж подруга вышла все равно за его товарища по «кукольному дому» – Лешу Игнатьева. Но осталась верным другом – «птичкой-Неличкой» – на всю жизнь. Именно к Нелли и Леше Игнатьевым, в их дом в Марьиной Роще будет потом он приходить – и когда ему будет очень хорошо, и когда совсем наоборот…
– Юра, как и мы все, любил тогда встречаться в неформальной обстановке, – вспоминает Нелли Игнатьева. – С четырнадцати до восемнадцати лет мы постоянно встречались у нашей подружки Нины Турчак на Цветном бульваре. Таня Майдель-Травинская приводила из редакции еженедельника «Литературная Россия», где она тогда работала, интересных журналистов, литераторов. Кого там только не было – вплоть до Бродского, Высоцкого, Визбора, Галича! Они читали стихи, пели нам свои песни. Мы играли на гитарах. Так справляли вместе все праздники – 7 Ноября, Новый год… Мы с Таней все организовывали, обзванивали ребят, собирали деньги (обычно скидывались по трояку), ходили закупать продукты.
И вот начиналась вечеринка… Юра всегда был в центре внимания. Настолько он был одарен во всем – прекрасно пел, музицировал, играл на фортепьяно. Он был красив, очень раскован, потрясающе танцевал. Сейчас я понимаю, как нам тогда повезло. А тогда… Когда это рядом, близко, то особенно не задумываешься, не ценишь. Мне тогда казалось, что у всех компании такие талантливые. Мы же все играли – кто в драмкружке, кто в кукольном театре.
И танцевали все. И как! Поскольку Юра был очень высокий, он мог схватить нас в охапку, повертеть и так, и сяк… Помню, там был двухметровой высоты шкаф, так мы, танцуя рок-н-ролл, ухитрялись ноги на него закидывать: такая была у нас игра – кто выше ногу забросит.
Юра жил за городом. Чтобы не ездить ночными электричками, частенько оставался ночевать у Танюши в ее огромной комнате на Сретенке, у меня, у моего будущего мужа в Печатниковом переулке, у Нины Турчак…
* * *
Нелли Игнатьева напоминает, что все школы тогда были восьмилетними:
– И после восьмого класса мы должны были идти в техникум или работать. И мы все оканчивали вечернюю школу. А когда мне исполнилось восемнадцать, Юра торжественно пришел ко мне чуть ли не как официальный жених. И подарил мне янтарный браслет. По тем временам – шикарный подарок. Тогда мальчишкам в голову не приходило принести девушке букет цветов. А тут такое внимание!
Нелли вспоминает, что за нее развернулась настоящая борьба:
– Юриным соперником стал его друг Леша Игнатьев. Они даже были чем-то похожи – оба губастые, белобрысые. Правда, Юра был выше Леши. А я никак не могла выбрать, кто из них мне больше нравится. Юра вел себя очень интеллигентно – ездил с подарками, нежно и трепетно за мной ухаживал. Он не пил ни грамма, абсолютно. У него папа никогда не пил. Пить его впоследствии научили во МХАТе…
Но явно я никого не предпочитала. Я со всеми своими поклонниками одинаково ровно дружила. А в тот день рождения получилась история. После празднества Юра пошел ночевать к Леше, моему будущему мужу. Два часа ночи. Леша жил в коммунальной квартире. И кстати сказать, хорошо «поддавал» в этот период конкурентной борьбы. Да и Юра порядком опьянел на вечеринке. И когда они пришли к Леше домой, стали раздеваться, то свалили огромную старинную деревянную вешалку. Выскочили соседи, начался шум.
Потом они еще полночи просидели на кухне, решая по-честному, кому я все-таки достанусь. Как они там разыгрывали меня между собой, я уж не знаю, но понимаю, что мой хитрый будущий муж постарался. Юра после этого серьезного разговора почему-то надолго исчез из моего поля зрения…
Прошло время. Мы с ним снова возобновили наши отношения совершенно случайно. Тогда я уже работала в Министерстве культуры СССР. И Юрка все время просил меня познакомить его с кем-то из актеров, режиссеров. Со мной тогда работала Нина Петровна Панкова, родная сестра Татьяны Панковой, актрисы Малого театра. Она была секретарем приемной комиссии ГИТИСа. Я ее познакомила с Юрой. Он ей очень понравился, дорога в ГИТИС была открыта для него, но Юра больше тяготел все-таки к Щукинскому училищу.
Глава 6. В поисках «дупла»
Учиться, учиться, учиться! ■ «Смотрите, кто пришел!» ■ От Прохожего до Иисуса ■ «Бело-розовый пельмень» ■ «Конфетки-бараночки…» ■ «Он первый поверил в меня» ■ Иллюзии «Иллюзиона» ■ Правильные мурашки ■ «Парле ву франсе?» ■ Цена упрямства ■ «В нем был камертон…» ■ Шампанское – лучшее лекарство от больных зубов ■ Чародеи в «Чародейке» ■ «Я вам спою…» ■ Рыцарь под балконом ■ «Дупло» на Суворовском бульваре ■ Циник в белом халате ■ Божья искра?
Однако дорога в заветное Театральное училище имени Б. В. Щукина оказалась для будущего народного артиста не такой гладкой. Требовался аттестат о среднем образовании. А его не было.
Потому что, напомним, в 1964 году девятиклассник химкинской школы № 6 Юрий Богатырев, увлеченный изобразительным искусством, ушел в Московское художественно-промышленное училище. В 1966 году он покидает его «по собственному желанию».
А аттестат? Тут пришла на помощь школа рабочей молодежи. В сентябре 1966 года Богатырев поступает в 11-й класс московской вечерней школы № 138. В следующем году он получает вожделенный аттестат о среднем образовании, который сейчас хранится в архиве Щуки.
И вот я держу его в руках.
При «отличном поведении» с пятерками у выпускника Юрия Богатырева было не особо густо – только по всеобщей истории и черчению. В основном везде четверки. А точные науки – типа алгебры, геометрии, физики – тянули только на «удовлетворительно», что вполне объяснимо. Похоже, он решил тогда сосредоточиться на главных для себя гуманитарных предметах.
Это подтверждает и характеристика, данная директором школы:
«Богатырев Юрий Георгиевич поступил в школу № 138 рабочей молодежи в сентябре 1966 года. За период учебы в школе проявил себя как старательный и прилежный ученик, упорно овладевал знаниями. Дисциплина отличная. Принимал активное участие в общественной работе школы. Организовал литературный «Огонек» и принимал активное участие во всех школьных вечерах и радиопередачах. Пользуется уважением товарищей и учителей».
Таким кондовым канцелярским стилем педагог увековечил истинные интересы своего ученика, который летом 1967 года легко проходит все творческие туры и становится студентом Щукинского училища.
* * *
Этот курс там до сих пор помнят как один из самых урожайных. Смотрите сами, кто тогда пришел.
Вместе с Богатыревым сели тогда за парты Наталья Гундарева, Константин Райкин, Владимир Тихонов, Алексей Граббе, Наталья Варлей – звезды, уже горящие на актерском небосклоне Москвы или готовые вот-вот ярко вспыхнуть…
Но он совсем не потерялся на этом сверкающем фоне.
– Впервые я увидела Юру на ступеньках Щукинского училища, – вспоминает Наталья Варлей. – Мы вместе поступали на первый курс. Он стоял в центре толпы абитуриентов – такой большой, вальяжный, громкий, что-то рассказывал и держал внимание всех.
И потом на протяжении всех четырех лет нашей студенческой жизни он так и притягивал всех нас какой-то необыкновенной внутренней силой. Это, наверное, и есть магия таланта.
С ним мы сразу прониклись пониманием. И так невольно получилось, что в нашей общей студенческой жизни главная, ведущая роль была у Юры. Он всегда был в центре внимания. Мы все старались говорить как он, шутить как он, – вкусы всего нашего курса были подстроены под Юру. При этом над ним немножко подсмеивались, подтрунивали, «пельмень» называли его, но с такой любовью, с такой нежностью. Или «бело-розовый»: он был как зефирчик – мягкий, пухлый, уютный, с большими, словно припухшими губами.
И в то же время удивительно легкий. Просто потрясающе легкий.
Я очень хорошо помню, как он танцевал на уроках танцев – просто летал.
Он замечательно пел. У него был прекрасный голос, удивительный слух. До Щукинского училища он занимался музыкой.
И еще на всех занятиях по мастерству он слушал, все время делая какие-то наброски, рисунки, зарисовки, шаржи… карандаш из рук никогда не выпускал.
Однажды нарисовал и меня – висящей головой вниз на трапеции. А лицо получилось перевернутое. Почему-то он так меня увидел. Жаль, что этот портрет у меня не сохранился.
А как мы развлекались! Вот перерыв между лекциями. Юра садится за рояль и играет свои любимые «Конфетки-бараночки».
И тут такое начиналось! Что мы творили – непостижимо просто! Например, Костя Райкин выпучивал глаза и, как обезьяна, скакал по столам. И начинались «джунгли». Шум, крики, хохот…
А ведь было всем нам от семнадцати до двадцати лет – уже не школьники, а взрослые люди. А Юра всему этому безобразию аккомпанировал.
* * *
– Это был первый набор Юрия Васильевича Катина-Ярцева, – продолжает Наталья Варлей. – Он впервые стал художественным руководителем курса, причем очень сильного. А Юрочка, по сравнению со многими, казался опытным артистом – он уже занимался в студии Штейна. А я, несмотря на то что уже снялась в кино, и даже в главных ролях, чувствовала себя безумно закомплексованно. Но это мой характер.
Наталья задумывается:
– На меня ведь как тогда смотрели: «Девочка-звезда, ну а что ты можешь?»
А я комплексовала. И Юра был одним из тех, кто считал, что я способная. Он вселял в меня уверенность в том, что я правильно сделала, что ушла из цирка и начала учиться в театральном институте.
Ну и, конечно, меня поддержал сам Юрий Васильевич Катин-Ярцев. Ведь я несколько раз порывалась вернуться обратно в цирк. И только на четвертом курсе, сыграв в спектакле «Снегурочка» Островского, я наконец поверила в себя.
* * *
В училище мы играли очень много. У нас было бесчисленное количество этюдов, сценок, композиций, всевозможных отрывков. Мы ходили за советом к старшекурсникам, особенно дружили с курсом на два года старше нас: мы были на втором – они на четвертом. Это был тот курс, где учились Леня Филатов, Боря Галкин, Володя Качан… У нас было какое-то единение с ними. Когда мы уже истощались на выдумки, за темами для этюдов бежали к ним, и они нам придумывали темы. Мы жили тогда какой-то странной, нереальной жизнью…
* * *
Леонид Филатов тогда только оттачивал свое перо.
– Я наблюдал Юру со стороны, – вспоминает артист и драматург. – Для их курса я делал пьесу «Время благих намерений», состоявшую из трех новелл. Ее ставили Валерий Фокин и Сережа Артамонов. Там играли Костя Райкин и Юра Богатырев.
Юра был миляга. Невероятно добрый человек. Отзывчивый. Коммуникабельный.
К тому же он так здорово рисовал, что я тогда подумал: ну зачем такому талантливому человеку заниматься нашей легкомысленной профессией? Ему же надо быть живописцем или графиком.
Но, понаблюдав за ним, я понял, что был не прав. Что Юра гораздо глубже и интереснее, чем кажется на первый взгляд, что это действительно неординарная личность.
Он очень вырос уже в училище. Он и раньше был эрудитом-книгочеем, много знал того, чего обычно не знают студенты. А во время учебы он постоянно пополнял свой интеллектуальный багаж. К тому же он был завсегдатаем кинотеатра «Иллюзион» (что требовало достаточного мужества – в те годы туда было очень непросто попасть), писал дневники… Словом, весьма разносторонняя личность.
А ведь многим людям кажется, что артисты – это чуть-чуть дурачки. Бытует такое мнение. Юра же был действительно очень умный человек. И этим многих сбивал с толку. А позже выяснилось, что и артист он замечательный. В училище это стало ясно всем – и сокурсникам, и преподавателям…
* * *
Знаменитую вахтанговскую школу Богатырев постигал не теоретически, а практически. Основоположники потихоньку сходили с бронзовых пьедесталов и становились для него вполне реальными учителями.
Что только он не играл! Сначала – этюды. На первом курсе – «У родильного дома», «Во время концерта» (вместе с Натальей Гундаревой), «В театре». Ректор училища Борис Евгеньевич Захава отметит на заседании кафедры актерского мастерства: «Молодец Богатырев! Работает хорошо».
Потом пошли уже маленькие роли. Например, Збышек из «Морали пани Дульской» Габриэли Запольской, Евдокимов из «Еще раз про любовь» Эдварда Радзинского.
Его заметит сама Цецилия Львовна Мансурова: «Интересный партнер! С точкой зрения!»
На экзамене первокурсник Богатырев сыграет «Сентиментальный этюд», сценки «Выпила» и «В редакции». Напротив его фамилии в протоколе будет стоять отметка «отлично».
На втором курсе самостоятельные работы пойдут уже более серьезные. Богатырев станет грибоедовским Молчалиным, чеховским Орловым («Рассказ неизвестного человека»). И снова этюды – теперь на темы «Деревенского детектива» Виля Липатова.
С особым удовольствием он сдавал зачеты по вокалу – пел «Солдаты идут» Кирилла Молчанова, «Случайный вальс» Марка Фрадкина, «Песню о пехоте» Булата Окуджавы, русские романсы.
Не все сразу получалось – тот же Захава будет ругать Юру и его партнера Костю Райкина за отрывок из романа Генриха Бёлля «Глазами клоуна»: «Я в претензии и к студентам, и к педагогам в этом отрывке. Во взаимоотношениях не было прошлого… Пропадают естественные ритмы, здесь нарушение органики правды жизни… Отрывок затянут»[2].
Уже на третьем курсе пойдут роли, о которых заговорят. Это Версилов в «Подростке» Федора Михайловича Достоевского (Татьяну Павловну будет играть Наталья Гундарева) и Цезарь в «Цезаре и Клеопатре» Бернарда Шоу. И тот же Захава скажет теперь: «На курсе есть студенты, которые достигли исключительных успехов, – Гундарева, Богатырев, Граббе, – они дают основание гордиться ими».
Наконец, 7 апреля 1970 года состоялся показ самостоятельной работы третьекурсников – «Нос» по повести Николая Васильевича Гоголя. Богатырев играл ведущего и так азартно размахивал руками, что все вокруг смеялись: у тебя, мол, не руки, а верхние ноги. Но он ничего не мог с собой поделать – темперамент бил через край. Майором Ковалевым был Константин Райкин.
Педагогам работа понравится. Владимир Георгиевич Шлезингер скажет: «Сфера выразительности решения соответствует парадоксальности автора. Способ общения, течение мысли у ведущего, живой элемент пантомимы и другие исполнители меня все удовлетворили».
Владимир Абрамович Этуш не согласится: «Трудно говорить. Я не понял, о чем произведение, хотя мне нравится то, что я видел. Здесь у меня нет торжества, как было в Достоевском. Автор труден. То ли не хватило красок, то ли подвели актеры, но не всегда понятно. Студент Богатырев злоупотребляет самолюбованием, не хватает такта…»
Богатырев к критике прислушается и уже более внятно сыграет Охотина в светловских «Бранденбургских воротах», Серебрякова в чеховском «Дяде Ване» (снова на пару с Гундаревой – Еленой Андреевной)… А в спектакле Леонида Филатова по его же пьесе «Время благих намерений» в первой новелле «Беглый Иисус» Богатырев будет ни больше ни меньше как… самим Иисусом.
Но больше всего он запомнит работу у легендарной Цецилии Львовны Мансуровой. В «Месяце в деревне» Ивана Сергеевича Тургенева он сыграет Ракитина.
И потом долго будет с восторгом вспоминать репетиции с ней… А настоящий фурор произведет «Пышка» по новелле Ги де Мопассана, которую поставил в училище Валерий Фокин. Спектакль шел… на французском языке. Богатырев переводил реплики персонажей и читал текст от автора.
Вот как писал об этом критик Ю. Смелков: «Он переводил сухо, протокольно точно, механически воспроизводя интонации говорящих – и уже одним таким переводом высмеивались спутники Пышки. Отчуждение получалось необыкновенно точным и наполненным смыслом – людей оценивали объективно, непредвзято, и справедливым приговором им было презрение. Они могли что-то там говорить, как будто стараясь оправдать свою подлость и лицемерие, все их слова выслушивались и принимались во внимание – и тут же переводились на простой язык человеческой совести. И не выдерживали этого перевода, лопались, как мыльные пузыри…»
* * *
Прекрасно запомнит студента Богатырева и народный артист России Александр Ширвиндт, которого я навестила в его кабинете худрука Театра сатиры:
– Я преподаю в Щукинском училище уже сорок три года. И через меня прошли целые поколения. Курсы бывали разные – по двадцать пять, тридцать, сорок человек. В общем, Щукинское училище – это «фабрика», которая печет актеров, как блины.
Вопрос: сколько получается артистов с большой буквы? Если три-четыре человека на курсе – это уже хороший КПД. И я еще занижаю планку. Хотя часто бывает, что студент в училище гений, а потом ничего особенного из себя не представляет. И наоборот – такие случаи тоже встречаются. Но – реже.
А курс, на котором учился Юра, я прекрасно помню. Он был очень плодовитый в смысле талантов. Там же учились Костя Райкин, Валера Фокин, Наташа Варлей… К сожалению, с Юрой я не работал в училище как педагог. В то время я как раз занимался дипломной работой Наташи Вар-лей, – мы работали над очень смешным водевилем. Но все равно Юра, как и остальные студенты, всегда был у меня на глазах.
И уже тогда я приметил необыкновенную его целеустремленность в профессии, а это очень редко встречается. В основном студенты-актеры – этакая «шпана». Поэтому так отличались «упертые»: Костя Райкин, Валера Фокин. И Юра.
Он бесконечно занимался самостоятельной работой. У нас в училище сложилась очень интересная традиция. Практика показала, что самостоятельную, без педагогов, работу студенты иногда делают лучше, чем под опытным руководством.
И вот Валера Фокин самостоятельно поставил как режиссер «Нос» по Гоголю. Это был замечательный спектакль. Юра тоже участвовал в нем и был просто необыкновенный – мягкий, милый, пластичный… Он играл «от автора» – читал монолог в стиле Качалова, в стиле старых мхатовцев. Потом я таким его больше не видел…
Наши актеры вообще очень привязаны к амплуа. И это закладывается уже в училище. Там определяется, что в будущем будет играть эта актриса – инженю, травести, героиню или характерные роли. Хотя мы, преподаватели, много говорим о том, что актер должен быть разноплановым, но представление о типаже, менталитет амплуа – все равно страшно довлеет. Сейчас, правда, меньше…
Что же мог играть Юра?
Все!
Он был совершенно разносторонним. Он мог замечательно сыграть лирического героя. А затем очень легко уходил в характерность.
Юра был очень подвижен внутренне, разнообразен, мягок необыкновенно… Мягкость – это было основное его качество, его приоритет по отношению к другим артистам. При этом он отличался поразительной творческой интуицией: он никогда не позволял себе делать что-то выше той органической планки, которая была в нем заложена.
У него был какой-то внутренний камертон, который не позволял ему «плюсовать», наигрывать, говоря нашим шершавым актерским языком. Он всегда был предельно органичным. И отсюда мягкость. А разнообразие талантов у него было фантастическое. Он не только пел, музицировал, но и замечательно рисовал. У меня сохранились его рисунки – Юра легко их дарил…
И еще. Ему очень повезло с педагогом. Причем Юрий Васильевич Катин-Ярцев был не только замечательный наставник, но и прекрасный художественный руководитель курса. А это вообще отдельная профессия.
Например, есть режиссеры и главные режиссеры. Можно быть гениальным режиссером и никаким главрежем.
Катин-Ярцев был гениальным руководителем курса.
Когда я приходил к нему домой, то видел: на полу лежали этакие простыни-транспаранты. Написано, положим, «Богатырев» – и от этого квадратика с фамилией шли стрелки в разных направлениях к другим квадратикам. Это было обозначение вех творческого пути Юры – что он уже сыграл, что он показывал самостоятельно, куда его вести дальше, где искать материал… Причем Катин-Ярцев делал такую учебную схему-«разблюдовку» на все четыре года для каждого студента!
Я такой скрупулезности в педагогике и представить себе не мог. Поэтому все курсы у Юрия Васильевича Катина-Ярцева были такие же замечательные, как богатыревский, где получилось много хороших артистов.
* * *
Александр Анатольевич задумывается, закуривает свою знаменитую трубку… И продолжает:
– Мы с Юрой редко общались, но я знал, что он ко мне очень хорошо относится. И я отвечал ему взаимностью. Нас не связывали никакие меркантильные отношения, мы вместе нигде не играли… У нас были чисто творческие взаимоотношения и взаимная симпатия друг к другу. И это было прекрасно.
Когда что-то происходило у него в жизни в творческом смысле – будь то выставка его рисунков или новый спектакль, – Юра всегда мне звонил и приглашал. А когда ничего не было, то он все равно звонил и говорил:
– Я звоню вам потому, что мы давно не виделись, а у меня есть такая система обязательности: мне нужно вам позвонить хотя бы раз в месяц.
И мы просто по телефону беседовали.
Он был трогательный и нежный человек с какими-то своими привязанностями. Вот запало ему в голову, что ему нужно со мной регулярно общаться (не знаю, зачем), и он не мог без этого. Возможно, я входил какой-то гранью в его спектр взаимоотношений с людьми, а возможно, просто от одиночества…
На выставке он с готовностью обсуждал свои живописные работы. Театральные – никогда.
Он был человек корректный и очень ранимый. Артисты ведь обычно очень зависимы от чужого мнения. Сыграют спектакль, и за кулисами у них в глазах собачий вопрос: «Ну как?» У Юры этого не было. Он был как бы… над схваткой. Он сам знал, что ему хорошо и что – плохо…
* * *
– Я очень хорошо помню, – продолжает свой рассказ Наталья Варлей, – как мы готовились к экзамену. Кажется, это была история. А может быть, обществоведение. В общем, что-то довольно скучное. А я жила тогда в коммунальной квартире на Суворовском бульваре, на шестом этаже, и у меня был огромный длинный балкон, с которого был виден Кремль и слышно было, как бьют часы на Спасской башне.
И вот мы сидели, зубрили…
Я ему внушала: «Юрочка, слушай!» А Юрочка, вместо того чтобы заниматься, выходил на балкон и восклицал:
– Боже мой, как красиво!
– Юрочка, послушай!
– Нет, я не могу, как это красиво!
Потом он возвращался, потом вдруг обнаруживалось, что у него болит зуб. И мы с подругой Тамарочкой, как две восточные наложницы, укладывали его в постель. Было очень жарко, и мы укрывали его чем-то легким… Он засыпал, а мы сидели и готовились.
И вдруг Юрочка просыпался, и мы кричали: «Ура!» И забрасывали его конфетами и черешней. И он стеснялся, смеялся так немножко застенчиво, как большой ребенок:
– Ну ладно, ну девчонки, хватит… девчонки!
И мы снова сидели и занимались. А потом вдруг раздается звонок и приходит Леня Куравлев – так они с Юрой познакомились. Леня говорит:
– Шел я мимо, решил зайти… вот у меня бутылка шампанского.
Сели мы и выпили эту бутылку шампанского. И уже, конечно, было не до занятий… И пошли мы гулять по Москве. И как сейчас помню, мы шли даже прямо по Садовому кольцу – поздним вечером почти не было машин…
* * *
Свободного времени у нас тогда, по-моему, совсем не было. Откуда? Утром – лекции, в середине дня – мастерство, а вечером – репетиции. Иногда мы выбирались в цирк, на выставки, на спектакли.
В паузах между занятиями бегали в парикмахерскую «Чародейка». Но не стричься. Там был маленький кафетерий, где мы ели яйца под майонезом и подолгу просиживали за чашкой кофе. Сидели и беседовали…
К экзаменам, как правило, мы готовились всем курсом. Собирались всегда у Кости Райкина или у меня. Занимались. Но заканчивалось обычно тем, что кому-то приходило в голову достать бутылку портвейна. А другие принимали эту идею на ура. Чаще всего получалось так, что на фоне застолья я одна сидела и зубрила, а утром всем все рассказывала. Вот такая была добросовестная девочка – все засыпали, а я учила, учила, учила…
У Юры были и свои компании, и друзья. Он очень дружил с Сашей Адабашьяном. Мне кажется, что Саша был ему самым близким по духу человеком. Вроде бы закрытый, и в то же время понимаешь, что эта закрытость – от незащищенности, от внутренней ранимости. Очень тонкий человек, как и Юра.
Я вообще-то не любила больших компаний. Но мой дом на Суворовском бульваре был как бы на перепутье всех дорог. Тогда станции метро «Пушкинская» не было. И если люди шли из ВТО к «Арбатской» и видели, что у меня горит свет, – обязательно ко мне заходили. Так и собирались компании, особенно когда мы еще учились в Щукинском училище. Заглядывали и мои цирковые друзья – Волжанские, Бекбуди. И Юра очень часто здесь бывал.
Мы могли сидеть ночи напролет. А могли на какой-нибудь иномарке поехать в Шереметьево, чтобы там купить бутылку шампанского.
Юра всегда был душой компании. Во-первых, он замечательно пел, играл на гитаре и на фортепьяно. Романсы пел и какие-то иронические песни. Наверное, это были Окуджава, Галич, Клячкин. Их песни были в ту пору модны. Во-вторых, он очень смешно рассказывал анекдоты. В-третьих, замечательно «показывал» наших сокурсников.
У нас на курсе училась Люда Шайковская – очень крупная девушка, к тому же немного странная. Она всегда верила в предлагаемые обстоятельства. Как-то Костя Райкин играл на сцене отрывок и слышит, как кто-то рядом шипит… Костя, разъяренный, выскочил за кулисы. А там Люда держит на руках куклу и укачивает ее: «Ш-ш-ш… Тише, она спит». Юра потом очень точно все это показывал, да так, что мы все умирали от смеха.
Он часто рассказывал что-нибудь смешное, а когда все начинали смеяться, застенчиво улыбался, словно спрашивал: «Ну как, хорошо рассказываю?»
В тщеславии я никогда не могла его заподозрить.
* * *
В Юру, по-моему, были влюблены все. А у него самого были исключительно платонические увлечения. Все знали, что он влюблен в Олю Яковлеву. Этакий «рыцарь под балконом». Он ходил на все ее спектакли – настолько был потрясен ее игрой. Это была не столько влюбленность мужчины в женщину – Яковлева была для него таким театральным божеством.
И еще он очень любил Лену Камбурову. Мы с Леной вместе заканчивали цирковое училище: я – цирковое, а она – эстрадное отделение. Тогда она, кажется, пела на выпуске «До свидания, до свидания, студенческий город Москва!». Интерес к творчеству Лены нас тоже объединял с Юрой. Он очень ценил в творчестве тонкость, духовность, личностность. А Лена Камбурова именно такая. И Оля Яковлева тоже. Внешне неяркие, но изнутри – светятся.
Юра мечтал работать с Анатолием Васильевичем Эфросом, но попал в «Современник». Полагаю, это был не совсем его театр. Хотя здесь он работал с Валерой Фокиным, который тоже пришел в «Современник».
По большому счету он действительно был артистом Эфроса. Его вальяжная природа, его удивительная органика очень подходили театру этого режиссера. Но, увы, не случилось…
* * *
Мы не переставали видеться и общаться с Юрочкой и после окончания Щукинского училища. Он начал работать в «Современнике», я – в Театре имени К. С. Станиславского. Скоро родила Василия…
Я все еще жила на Суворовском бульваре в коммунальной квартире. У меня была соседка, телефон общий, на ночной звонок я выскакивала в коридор, спросонья не понимая, что происходит. А Юра говорил:
– Натуль, можно я приду? Мне очень плохо.
– Приходи.
– А можно я принесу бутылку водки?
– Приноси.
Он мог появиться в два часа ночи. Приходил, рассказывал о своих бедах. И я, хотя водку терпеть не могла, вынуждена была сидеть с ним и как-то поддерживать компанию. Потому что я понимала, что ему нужно было кому-то излить душу. Наверное, как в той сказке, ему необходимо было дупло, куда он мог бы выкричать все, что накопилось в душе и требовало выхода… Юрочка приходил, делился своими переживаниями и просиживал до утра. А потом он шел пешком домой. Тогда по Москве ночью ходить было не страшно.
* * *
А потом мы вместе с ним снимались в картине Владимира Бортко «Мой папа – идеалист». Главную роль, артиста театра оперетты, играл знаменитый артист БДТ Владислав Стржельчик. Юрочка же играл его взрослого сына, который скептически относится к папе-идеалисту, к его романтической любви к девочке из кордебалета, то есть ко мне.
Так как я играла балерину, то похудела для этой картины на восемнадцать килограммов! Я стала невероятно тощая, весила сорок четыре килограмма. Никто не узнавал меня. Внешность была совершенно балетная – длинные волосы, прямая осанка. Я так старательно худела, что режиссер стал уговаривать меня остановиться. Пришлось подчиниться.
Кстати, Юра вошел в этот фильм не сразу. Утвердили сначала другого артиста, Александра Мартынова из Театра имени Вл. Маяковского, он даже начал сниматься.
И вдруг в какой-то момент Владимир Бортко (это была его первая работа в кино) сказал, что Мартынов не справляется с ролью. Что ж, режиссеру видней. Он остановил съемки и пригласил на эту роль нового исполнителя – Богатырева. И Юра, с моей точки зрения, блестяще сыграл этого героя – холодного, циничного медика.
* * *
Варлей рассуждает так:
– Актер – это профессия для максималистов, для очень чувствительных людей. И потому иногда не понимаешь, как можно жить с толстой кожей – откуда, например, такой цинизм у врачей? Только сейчас, кстати, я начинаю разбираться в истоках этого профессионального бездушия – у меня появились знакомые медики, есть среди них и мои друзья. Я наблюдаю за ними и понимаю теперь, что это просто защитная реакция: когда человек ежедневно сталкивается с болью, болезнями, смертями, иначе нельзя, иначе действительно на второй день можно получить инфаркт…
Юра все это очень точно схватил. Он играл врача – такого по видимости циника-скептика, а на самом деле очень ранимого человека, и в конце фильма это раскрывалось в полной мере. Я считаю, что он замечательно сыграл в той картине.
К сожалению, режиссер при монтаже вырезал много и моих, и Юриных сцен, а оставил главным образом сцены с Владиславом Стржельчиком.
Стржельчик, конечно, в фильме блестяще играет. Но когда судьба его героя была дана в переплетении с другими характерами, с другими линиями и жизненными драмами – это было интереснее. А так: папа-идеалист от эпизода к эпизоду демонстрирует, какой он хороший, добрый, открытый, наивный, светлый. Остальные роли стали плоскими, пунктирными. От этого фильм сильно обеднел.
Когда все время бьют в одну точку – теряется напряжение, а следовательно, и интерес. Так и произошло с фильмом «Мой папа – идеалист». Жаль. Картина могла бы быть гораздо серьезнее, глубже, ярче. Да и сам Владимир Бортко на премьере в Доме кино согласился с нами: «Да, вы были правы, вырезать не стоило».
Но что толку от этого запоздалого признания?
* * *
Актриса замолкает. А потом признается:
– Я считаю, что Юрий Богатырев действительно был великим русским артистом.
Трудно объяснить, как он играл. Он выходил на сцену – и происходило чудо, которое невозможно было объяснить. Между ним и залом проскакивала та самая Божья искра.
Я думаю, что у Юры это было от Бога… Потому что природа его творчества была очень добрая. И он умел любить.
Последняя его роль, которую я видела в театре, – Клеант в «Тартюфе» Мольера. Он был такой толстый, смешной, утрированно некрасивый, но играл что-то необыкновенное. Он нашел интересный характерный ход – все монологи своего героя он произносил скороговоркой. Так быстро выпаливал каждый монолог, что это было очень смешно и забавно! Юра играл это гениально. В том спектакле все блистательно играли: и Станислав Любшин, и Анастасия Вертинская. Но Юра мне запомнился больше всех. Он был просто номер один.
Сейчас можно сравнить то, что делал Юра на экране, с тем, что делают сегодняшние знаменитые американские актеры, у которых великая слава…
И понимаешь, что у этих захваленных звезд нет по профессии ничего особенного! Ну, повернулся направо, повернулся налево и сыграл фактурой. Есть артисты, у которых огромное количество приспособлений – не десять, а шестьсот. Предположим, Джек Николсон. Понимаешь, что это его «фирменные» штучки. Когда-то у него получилось – и он это закрепил.
У Юры же, при всей его ярко выраженной индивидуальности, вальяжности, при его своеобразном юморе, – у него таких собственных наработанных механизмов-приемов не было. Они рождались сиюминутно.
Я не знаю, чем это объяснить.
Например, в фильмах Никиты Михалкова в ролях, сыгранных другими артистами, всегда проглядывает сам Никита. Он, видимо, точно показывает, а они точно исполняют. Александр Калягин в «Неоконченной пьесе для механического пианино» играет замечательно, но в его герое очень просвечивает Никита… А у Юры такого не было. Хоть Михалков и жесткий режиссер, у Юры в его картинах рождались какие-то свои, необыкновенные краски, которые навязать ему было бы совершенно невозможно.
Он много импровизировал.
И был настолько интересный, сложный, многогранный человек, и действительно с Божьей искрой, что никакой, самый мощный и талантливый режиссер не мог подавить его своей индивидуальностью…
Глава 7. Особое счастье
Светлая аура ■ Крепостные студенты ■ «Мой дом – твой дом!» ■ Сила этикета ■ Богема с Сивцева Вражка ■ «Кустовая» дружба ■ Душа компании ■ Вам помыть посуду? ■ Не беспокоить! ■ Соблазнитель Ефремов ■ Чистое сливочное масло ■ Медные трубы ■ Два привидения ■ Халтурщики МХАТа ■ Портрет левой ногой ■ Дурное предчувствие
«Квартирный вопрос» начал мучить студента Богатырева буквально с первого курса. В отличие от однокурсников-москвичей, ни собственной квартиры, ни родительской у него в столице не имелось, прописка была красногорская, подмосковная, а значит, студенческого общежития ему не полагалось. Денег снимать квартиру, естественно, не было. И свое большое «кочевье» по друзьям он начал с лучшего друга – Кости Райкина.
По его словам, Юрий сразу очень расположился к нему. И Константину он тоже показался интересным человеком. Обаятельный, красивый, явно умевший тогда больше, чем большинство из них. Он уже профессионально выступал на сцене чтецом. У него была хорошо поставленная речь, красивый, разработанный голос.
По словам Райкина, он создавал впечатление более взрослого, опытного в профессии, в актерском деле. При этом очень доброжелательный, открытый. Со своим взглядом на искусство, своими оценками спектаклей и актеров, которыми охотно делился. Константину казалось, что его друг излучал особую притягательную ауру. И они быстро подружились. Всюду стали ходить вместе. Буквально с первых дней учебы. Потому что стали испытывать глубокий человеческий интерес друг к другу. И дальше это продолжалось на протяжении многих лет.
* * *
Многое тут решил жесткий график занятий в Щуке. Степень загруженности там была такая, как ни в одном другом вузе страны. С 9.30 утра до 10 часов вечера с перерывом на 45 минут на обед. И даже по воскресеньям. И так каждый день в течение года.
А Юрий жил под Москвой, ему было далеко и неудобно каждый раз ездить на занятия. Поэтому он часто гостил, ночевал у друга… Мог несколько месяцев пожить.
У него даже была своя постель в доме друга.
По словам Константина, Богатырев очень легко вписывался в любую компанию. Любил сидеть в гостях подолгу, до утра, бывало. Они вместе часто ходили в гости. Он как-то очень легко адаптировался в чужой квартире, начинал мыть посуду, убирать… К удивлению Константина, вел себя как-то даже странно:
– Я бы сказал, не так, как обычно, мужикам себя вроде положено вести. В стереотипном понимании. Он сразу приобщался к хозяйственным проблемам, помогал их решать и становился сразу очень удобным. Не обременительным…
* * *
Уже тогда Райкин заметил, что его друг очень талантлив в общении с людьми. Что он галантный, элегантный, очень вежливый, даже изысканный по части этикета. Скорее всего, это шло от его артистической натуры, которая проявилась очень рано. Юрий знал, так сказать, галантную сторону этой профессии, связанную с этикетом, с умением себя вести в интеллигентном, светском обществе. Он все это очень хорошо умел. Вежливый, галантный кавалер, производил всегда, даже в самом изысканном обществе, очень хорошее впечатление.
И дело тут не в социальном происхождении. Потому что Юрий вышел, в общем, из очень милой, но простой семьи. Хотя и был чему-то обучен, но он сделал себя сам. Некому его было учить. Он сам говорил, что набирался опыта из жизни: общался с людьми, которые были в этом смысле уже оснащенными. Хотел это впитать и впитывал. Просто хотел таким быть. И очень легко таким стал.
Такое поведение друга напоминало Константину историю его отца, знаменитого Аркадия Райкина. Тот в жизни производил впечатление абсолютного аристократа и интеллигента в десятом колене. А это было совершенно не так. Аркадий Райкин был тоже из очень простой семьи. Его отец был просто лесной бракёр, то есть выбраковывал разные сорта деревьев. Но, поскольку он был настроен на артистическую среду, чувствовал форму, то сумел это в себя быстро впитать и стать таким, каким хотел, считает Константин.
Так же и артистичность натуры Юрия помогла ему легко это сделать своим, а не приобретенным. Он очень органично в этом существовал. И всегда был таким. Когда Константин с ним познакомился, тот уже был чрезвычайно галантным, хорошо воспитанным молодым человеком. Поэтому и отношения с его родителями у него сложились как у очень приятного человека в общении.
Райкина-старшего он совершенно боготворил. И вся семья сразу почувствовала в нем очень приятного и одаренного человека. Поэтому вхождение его в дом Райкиных стало органичным, естественным.
Хотя Юрий был человек не слишком компанейский. Не со всеми дружил, не был душой нараспашку. Очень избирательно общался.
Их курс был не очень дружный, такой «кустовой». Они дружили «кустами». Вокруг лидера кучковались люди. Их куст был «фокинский», хотя сам Фокин был курсом старше. Это Богатырев, Володя Поглазов, Толя Кадомов, Валя Лысенко, Костя Райкин… Фокин ставил у них «Нос» Гоголя, «Пышку» Мопассана, другие спектакли.
* * *
Юрий всегда мечтал о своем угле. Это заметил и его друг. Константин вспоминает, что когда тот переехал в общежитие театра «Современник», то очень уютно оборудовал свою комнату. Стало понятно, что он хозяйственный, аккуратный, чистоплотный человек, очень дисциплинированный в быту.
А вот в общении он бывал разным. Иногда трудным, по словам Райкина. Порой у него бывало неконтактное настроение. Уходил в себя. Подолгу рисовал, не общаясь. Иногда от него исходила такая неконтактная аура в компании. Сидел молча, подолгу, часами, мог рисовать, не разговаривая. Умел закрываться.
* * *
Их совместная работа в «Современнике» закончилась через шесть лет, когда Богатырев перешел во МХАТ. Райкин считает, что друг ушел, потому что был очень честным человеком. А конфликта не было. И работал он там много и хорошо. Все помнят его Орсино в «Двенадцатой ночи».
На сцене он был чутким, замечательным партнером, замечает Райкин. Очень добросовестным в этом отношении. Всегда перед спектаклем, пусть даже сотым по счету, повторял весь текст перед началом. А это не всем нравилось. У каждого артиста свое отношение к профессии. И рядом могли быть просто халтурщики. Юрий их раздражал своей добросовестностью. Он мог злиться, что нарушаются мизансцены, что партнер плохо знает текст. Это его раздражало, он иногда жаловался в сердцах другу на партнеров-халтурщиков…
И в какой-то момент, видимо, ему стало интересней во МХАТе. Тем более Ефремов обладал колоссальной притягательной силой, был совершенно магнетическим человеком, невероятно харизматичным. Давно еще уговаривал их прийти во МХАТ сразу после института. Но первым их пригласил «Современник». Это все и решило. Не помог и визит Ефремова в дом Райкиных. Они решили все же в пользу «Современника».
Но прошли годы. И МХАТ стал для Богатырева более привлекательным. Именно там у него возникли наиболее значительные театральные работы. Из его мхатовских работ Райкин отмечает Клеанта в «Тартюфе» у Анатолия Васильевича Эфроса: «Там он просто блистательно совершенно играл».
* * *
У Богатырева было свое особенное чувство юмора. Вместе с Райкиным они часто дурачились. Однажды загримировали белилами лица и ночью вышли гулять по Москве с совершенно бледными лицами!
Это было очень рискованно. Но, слава богу, обошлось. И это было не ребячество, а творческий порыв. Не розыгрыш – он их не любил. Потому что в розыгрыше всегда есть жестокий момент. Человек, который разыгран, находится в растерянности, не знает, что ему делать. А Юрий любил не разыгрывать, а показывать людей. Обладал некоторым даром имитации: пародировал известных артистов, своих учителей – Сергея Юрского, Фаину Раневскую.
* * *
Райкин не помнит, чтобы его друг отдыхал.
Помнит, что он жил профессией. Что для него искусство – способ жить, по-другому не мог. Среда, без которой он не мог существовать. Способ жизни.
При этом ему сложно назвать Богатырева абсолютно счастливым человеком. Хотя он и видел его очень радостным, и, можно сказать, счастливым. Но это были такие короткие минуты. И были наверняка другие моменты. Юрий производил впечатление человека каких-то очень больших страданий. Но он занимался любимым делом. И в этом было его очень трудное счастье. Невозможное для другого. Так много работать, надрываться и получать за это такое смешное материальное вознаграждение? Это глупо, с точки зрения обывателя. Но эта глупость для другого является счастьем.
* * *
Райкин высоко ценил и художественный талант друга. Считает, что рисовал тот не просто хорошо, а профессионально. И мог бы этим жить. Но в его натуре было столько артистизма, что этого было мало. Куда деть эмоциональность? обаяние? красивый голос? рост? внешность? Нет, это было бы несправедливо, если б он занимался только рисованием. Но это было какой-то гранью его видения мира, возможностью сосредотачиваться, уйти в себя, что-то обдумать, осмыслить.
Причем он воспринимал жизнь очень своеобразно. Видел мир не буквально реалистически, не скучно. Ему нравились мирискусники и примитивисты. Такая смещенная реальность его увлекала, ложилась на душу. Он и рисовал в таком духе. Райкин говорит, что его он рисовал просто уже просто «левой ногой», так изучил его лицо… И очень похоже, хотя нереалистично, шаржированно. У него осталось несколько рисунков. И теперь понимает, что никто потом так похоже его не рисовал…
* * *
Райкин считает: его друг по мощи таланта, по энергии, по голосовым и внешним данным был абсолютно театральный артист. Мог «вживую» подчинить себе большое количество людей. Без всяких технических средств, какими богато кино – технический вид искусства.
Актерское искусство в чистом виде – это театральное искусство. Театральный артист создан для того, чтобы играть на сцене, а уже потом сниматься в кино, на телевидении. Но его друг вдруг очень увлекся кино. Потому что хотел быть знаменитым. Момент тщеславия, говорит Райкин. Но это естественно для артиста – хотеть быть знаменитым. И он им стал. Радовался от того, что его узнают. Притом он снимался у замечательных режиссеров, о которых можно было только мечтать, – у Михалкова, у Авербаха…
Да, ему хотелось большей известности, чтобы его узнавали на улице. Райкин уверен, что потом он понял бы, что это не самое важное в профессии и вообще в жизни. Но тогда ему хотелось отведать этого блюда. Надо было это пройти. Но он не успел утолить этот голод…
…И предчувствовал свой ранний уход – интуиция. Не раз об этом говорил другу.
Константин тогда считал, что он таким образом как бы интересничает. А тот говорил о своих предчувствиях как-то житейски, без всякого трагизма. Мол, я знаю, что я рано умру, знаю, что проживу недолго. По касательной как-то, к слову. Серьезно к этому никто не относился, все воспринимали это как забавную Юрину странность…
Глава 8. Детские обиды
Открытие передвижников ■ Калорийная булочка ■ «Сегодня я вегетарианец!» ■ «Меня не узнают!» ■ Грим не нужен ■ «Я бездарность!» ■ Читать, читать и читать! ■ Почему у Волчек всегда чистая машина ■ Раб настроения ■ «Уйду в монастырь!» ■ Чеченский киноальбом ■ Пригоршни адельфана ■ Принципиальная беспринципность ■ Несколько робинзонов ■ Как художник художнику ■ Как снять стресс ■ В шубе, с тростью, не спеша…
С Александром Адабашьяном Богатырев познакомится на съемках михалковской дипломной работы, где тот работал художником картины. Эта дружба продлится многие годы…
– Юра играл там маленькую эпизодическую роль немца, но играл очень хорошо и сразу стал заметен. И потом он работал практически в каждой нашей картине. А по-настоящему мы с ним сблизились на почве изобразительного искусства. Он же учился в художественном училище, а я уже закончил к тому времени Строгановку. Но Юра отошел от этой художественной среды довольно давно. И остался еще в том фрондерском состоянии, когда обожал исключительно русский авангард, а все остальное не считалось искусством. Третьяковская галерея для него вообще была не местом для посещений. Ну а я все-таки «поварился» в классике…
Я помню, что для Юры стали откровениями мои рассуждения по поводу мирискусников и передвижников. Когда мы начали разговаривать на эти темы, то стали вместе ходить в Третьяковку и Пушкинский музей.
* * *
Как уже было сказано, Богатырев не имел права на общежитие, потому что у него была подмосковная прописка. Дорога занимала полтора часа, а репетиции иногда заканчивались в час ночи. А на следующий день – репетиция в десять…
Конечно, все это было неправильно. Я знал, что он уже в течение полутора лет живет у Кости Райкина. И кстати, чувствовал страшное неудобство. Костя его не выгонял, нет. Но Юра был человеком чрезвычайно щепетильным, и это ощущение себя как нахлебника для него было невыносимо.
И он у нас как-то очень легко прижился. Однажды я пригласил его остаться ночевать в нашей квартире на Новом Арбате. В той комнате, где сейчас кухня, стоял диванчик. Там он у нас и ночевал. Даже какое-то время жил. Тогда еще были живы мои родители. Он с ними быстро нашел общий язык.
Я помню, что Юра никогда не приходил домой с пустыми руками, обязательно что-то принесет – хоть калорийную булочку. А потом придумал себе, что обожает мыть посуду. Поэтому, даже когда он приходил домой и, допустим, у моих родителей были гости и Юра дожидался, когда все уйдут, он врывался на кухню и кричал: «Нет, нет, я сам, я обожаю мыть посуду!»
Но это, как я понимаю, у него была такая форма компенсации, что ли, за кров и за стол… Он чувствовал себя крайне неловко – не деньги же предлагать, в конце концов! Никто их не возьмет. Продукты таскать тоже неудобно. И он придумал себе форму защиты: якобы обожает мыть посуду…
* * *
Помню, однажды он пришел домой из магазина сильно расстроенный, с глазами, полными слез. И трагически молчал на кухне, сев за стол. Было видно, что ему явно требуется участие. Я спросил, в чем дело.
– Меня не узнают на улице! – с отчаянием выговорил он.
Это его расстраивало. Юра тогда уже снялся в нескольких картинах. А на улице прохожие его действительно не узнавали.
Почему? На мой взгляд, именно этим он и был замечателен: не было в нем ни одной яркой характерной черты – весь белесый. Но, по-моему, это совершенно замечательное качество актера, когда нет ярко выраженной внешности, когда из «материала» можно лепить что угодно.
И я ему об этом говорил. До сих пор не понимаю, как он этого достигал, но Юра был совершенно не похож на своих персонажей, хотя снимался почти без всякого грима. В кадре он буквально физически менялся.
Его трансформация была поразительной. Если поставить рядом его героев и сравнить – разные люди!
Он мог одновременно играть в двух разных фильмах полные противоположности – обрюзгшего толстяка и мускулистого подтянутого супермена. Он практически нигде и никогда не был похож на себя. Это ценное актерское качество.
Я помню, когда Никита Михалков пригласил его на «Свой среди чужих…», он был такой… рыхлый бело-розовый блондин. Он плохо загорал, кожа сразу становилась розовой, белесые брови выгорали. Он не занимался никаким спортом, был весь какой-то аморфный. Но в картине получился спортивный, жилистый, замечательно держался в седле.
Потом в «Неоконченной пьесе для механического пианино» он вдруг снова предстал абсолютно бесформенным, расслабленным. Правда, небольшой животик ему там подкладывали, но все равно… физиономия абсолютно другая. А Штольц – опять строгий, сухой, подтянутый, весь спортивно-«англичанский».
Эти его мгновенные переходы удивительны. То же самое с ним происходило в театре. Притом что он никогда не пользовался никаким пластическим гримом или париками.
* * *
Он не мог быть никем другим, кроме как актером. Это совершенно точно.
Актерство было его постоянным состоянием. Он актерствовал всегда, но это была не работа на публику с конкретной прикладной или прагматической целью – чего-то достичь, иметь какую-то выгоду… Это была форма его существования.
Так, он абсолютно искренне играл в вегетарианца. В этом вовсе не было никакой позы. Он мог подробно объяснить, почему он вегетарианец, почему он ест только травку, а мясо не может. И через неделю вы могли его встретить на улице с двумя килограммами вырезки. И это было продолжение темы. Он уже кричал с тем же грубоватым темпераментом: «Какого хрена траву эту есть! Надо есть мясо! Нужна сила!» Это означало, что в данный момент Юра – по своей жизни – в какой-то другой роли.
Ему просто нужно было разрядить свой актерский аппарат. Бродившие в нем несыгранные, неконкретные, невоплощенные герои мучили его – их надо было выплеснуть. Вот он и доигрывал самого себя. Но все время разного. То он скромный, несчастный, то, наоборот, наглый, уверенный в себе, то сверхрациональный, то – эдакий сумасшедший безумец не от мира сего.
* * *
Как-то собралась у нас компания. И все, подшучивая, шептались: он сумасшедший… Сначала Юре было очень приятно, пока он не начал понимать, что над ним смеются. И стал играть обиженного. И хорошо играл, искренне.
У Юры была внутренняя физическая необходимость все время быть разным.
То он в меланхолическом состоянии сообщал, что понял, что он бездарность, очень плохой актер. Нужно было его успокаивать. Это был процесс несложный. Я говорил:
– Что ты, Юрочка, ты замечательный актер.
– Правда? Ты так думаешь? – И очень быстро утешался. Ему нужно было сыграть это…
Или наоборот – он приходил домой уверенный в себе, поносил своих коллег… Кстати сказать, вся его критика, все его любови-нелюбови ровным счетом ничего не стоили. Потому что все было абсолютно по-детски.
Он делал для себя какие-то загадочные заключения и делился ими с окружающими:
– Этот вообще не режиссер, а тот вообще не актер, и нельзя ему искусством заниматься ни в коем случае.
Почему?
Оставалось догадываться.
А все дело, оказывается, было в том, что этот человек был у него на спектакле, но не зашел за кулисы поздравить и ничего приятного не сказал.
Абсолютно детская обида раздирала Юру.
Потом, через три дня, это мнение менялось на противоположное. Как? Он, к примеру, встречал этого человека на улице, и тот извинялся:
– Извини, у меня не было времени, после спектакля я сразу уехал. Но все было так замечательно, ты играл гениально.
И все. Тут же мнение Юры об этом человеке становилось совершенно другим. А когда я напоминал ему о прежних словах, он искренне удивлялся:
– Неужели я это говорил? Да нет, я не мог этого о нем сказать. Он просто гениальный человек…
Такое абсолютно детское отношение.
И главное – это никогда не влекло за собой никаких поступков. Это все были только слова. Он никогда не мог сделать подлости. Донести, настучать, нашептать. Он по-детски обижался и так же по-детски эти обиды прощал.
* * *
Он был человеком, в общем, довольно одиноким по своей натуре, хотя и постоянно окруженным людьми, которых он называл друзьями. И если он дружил, то влюблялся абсолютно – не важно, какого пола было это существо.
Так, влюбившись в Галину Борисовну Волчек, когда работал в театре «Современник», мыл ей машину. Все там на него косились – думали, что это подхалимаж: молодой артист, пришедший в театр, моет машину главному режиссеру… А это получалось у него совершенно органично. Потом он ушел из «Современника» во МХАТ к Олегу Николаевичу Ефремову, правда, уже машину мыть не стал… Но нашел себе другие обязанности.
* * *
Он был абсолютно человеком настроения. При этом на профессию это не влияло. Просто он существовал как актер все время в любом состоянии.
Я никогда не мог знать, каким его сейчас увижу. Вот я расстался с ним неделю назад, он рассказывал, что репетирует, на его взгляд, все замечательно получается, режиссер доволен, коллеги говорят, что все прекрасно, его приглашают сниматься… И через неделю ты полагаешь, что встретишь того же довольного жизнью человека, с той же интонацией. И вдруг – попадаешь на совершенно другого. Вдруг он печален, думает о том, чтобы бросить эту профессию, уйти из театра, не сниматься больше в кино…
И ты не понимаешь, что на самом деле происходит. А у Юры просто другое настроение.
Насчет ухода из театра – это, конечно, были все пустые разговоры. Куда он мог уйти? В этом было что-то такое… детское. Как ребенок, упавший с качелей, плачет не потому, что ему больно, а потому, что ему необходимо, чтобы его пожалели, чтобы все видели, что он самый несчастный, что он больнее всех ударился.
Вообще, очень много детского в нем было, несмотря на его фактуру, внешность. Я думаю, что такие «детские» искренность и наивность – необходимая принадлежность профессии актера.
* * *
Юра был человеком далеко не глупым, образованным, начитанным, что, в общем, в театральной среде вещь не очень частая. Он регулярно и много занимался. Читал книги – и из нашей библиотеки, из родительской в Красногорске. Часть из них он таскал с собой по всем квартирам, где жил. Причем у него были очень хорошие, дорогие книги по искусству. Он тратил много денег именно на это. Книги и альбомы доставляли ему огромное удовольствие. И он часто их дарил.
* * *
Так он прожил у нас год с чем-то, пока не получил в «Современнике» комнату в общежитии – прямо напротив Кремля.
Тогда я часто ходил в «Современник». Смотрел все премьеры. Но поначалу Юра там играл довольно мало. Как молодой артист, бегал в массовке.
Вот тогда-то у него наступил большой период разочарования. Потому что в училище все молодые актеры блистали – и он, и Костя Райкин… Там все были звездами. У каждого – своя публика, свои триумфы, свой маленький выстроенный мирок.
А дальше приключилась очень «обыкновенная» история, когда кончается «радость песочницы»… Попадая в профессиональный театр, молодой артист окунается совершенно в другую, жесткую жизнь и сразу сползает на десять социальных ступенек вниз. Он становится простым актером массовки.
Как первое время Юра радовался «Современнику», который находился тогда у станции метро «Маяковская»! А потом долгое время как страдал от того, что никаких ролей не было, даже не главных – второстепенных! И всерьез начал подумывать о том, чтобы бросить все, о том, что ему уже не надо заниматься театром… Но подоспело кино – он снялся в фильме «Свой среди чужих…».
* * *
На тех съемках все было такое рисковое, молодежное, лихое… Ни на что особенно мы не рассчитывали, работая очень весело и вкусно. Атмосфера была замечательная…
По жанру это практически вестерн. Хотя история очень простая – о четырех друзьях, которым сложно в мирной жизни найти себе место. В экстремальной же ситуации, когда нужно бежать, хватать, стрелять, – они как рыба в воде. Кстати, все без каскадеров.
А знаменитый эпилог фильма, кстати, придумал наш оператор Паша Лебешев. Был финал самый простой – герои встречались, обнимались… Не хватало эмоций. И Никита Михалков ломал голову, всех теребил: думайте над концом! у нас его нет! И Паша придумал – друзья бегут друг к другу сегодня, а встречаются в прошлом. Съемки шли уже к концу, когда пришла эта идея, и срочно досняли кусок, когда они обнимаются – молодые.
* * *
Александр Адабашьян признается:
– Эту картину сейчас я не могу смотреть как кино. Я смотрю ее так, как смотрят альбом старых фотографий. Все вспоминаю, что было в этом кадре, что перед ним, кто на заднем плане… Кого-то не видел сто лет. Кто-то уже умер… А когда смотрю на массовку, в которой участвовало много чеченцев, гадаю: где они сейчас? живы ли? что с ними сталось?
Потом в «Современнике» ему все-таки начали давать какие-то роли. В спектакле про современную молодежь «Свой остров» он сыграл Януса. Играл в спектакле «Валентин и Валентина» – этот спектакль имел очень громкий резонанс, главную роль там исполнял Костя Райкин.
При этом я не могу сказать, что ему были как-то особенно близки принципы «Современника». Юра был человек абсолютно без всякой «идеологии». Прежде всего, он был очень хороший профессионал. Я думаю, что он мог бы играть абсолютно в любом театре. И по форме он мог быть и очень острым, и очень пластичным, и очень музыкальным… Он замечательно пел, играл на рояле, прекрасно двигался, несмотря на свою не очень ловкую на первый взгляд фигуру. Он же успел еще поучиться в эстрадной студии…
У него был совершенный актерский аппарат, которым он потрясающе владел. Поэтому не было у него никаких «принципов» – в смысле играть только в определенном театре. Он просто любил играть. И умел хорошо это делать.
Какой ценой – другой вопрос.
«Мне иногда кажется, что актерская профессия вообще исключает отдых», – как-то обронил он.
На «Тартюфе», например, ему часто приходилось за кулисами горстями пить адельфан – так было плохо с давлением…
При этом у него никогда не было проблем с дисциплиной. Он был чрезвычайно дисциплинированный человек. Я вспоминаю, что на съемках «Обломова» и «Механического пианино» работали идеально только Юрий Богатырев и Андрей Попов. Они всегда знали текст, всегда появлялись на площадке вовремя, полностью готовыми к работе. Никогда нельзя было видеть их на репетиции бродящими перед камерой со сценарием в руках, повторяющими текст. Юра всегда готовился заранее, текст знал наизусть. То же самое было и в театре.
* * *
Была ему свойственна и ирония – это замечательное актерское качество. Он понимал, что все время нужно себя контролировать. Ни в коем случае нельзя все принимать всерьез. Все время должно быть некое «недреманное око», которое пощелкивает тебя по носу, когда тебя начинает непроизвольно куда-то заносить.
В этом смысле он был совершенно идеальным актером. И во всем, что бы он ни делал в жизни, он всегда был актером.
Я думаю, если бы его на месяц поселить где-нибудь на необитаемом острове – он бы все равно там лицедействовал. К тому времени, когда за ним приехали бы, на этом острове можно было бы найти следы существования четырех или пяти Юриев Богатыревых: отчаявшегося и пытавшегося покончить жизнь самоубийством, и, наоборот, какого-нибудь трудолюбивого Робинзона, и сибаритствующего бездельника, и старого морского волка… Там все было бы. Причем активность этого пребывания подтверждалась бы весомыми зарубками, кострищами, недостроенной хижиной… Это был его способ жизни, способ существования.
* * *
Он никогда ни у кого не просил помощи ни по какому поводу. Ни денег в долг, ни тем более квартиры…
Моя мама, которая его очень любила, часто сама предлагала помощь:
– Юрочка, если что надо, ты говори.
– Нет-нет, спасибо…
Потом, когда он получил новую квартиру на улице Гиляровского и там уже устроился, он пригласил родителей на новоселье. Они поехали. Он был счастлив – наконец свой собственный угол, а не общежитие ради Христа. Там на стенах висело много его картин, афиш, было огромное количество книг, наконец, стоял стол, где в идеальном порядке лежали краски. Маме очень понравилась квартира, и она была рада, что Юрочка наконец-то устроился.
* * *
Последний раз мы с Юрой много общались на съемках фильма «Очи черные». Это было в Костроме, где снимались его сцены. Он тогда произвел на меня достаточно грустное впечатление. Последний период своей жизни он явно был не в своей тарелке…
…У него всегда был большой круг друзей обоего пола, постоянно менявшихся. В основном коллеги или люди, которых он встречал в театре, на съемочных площадках. Там возникали и влюбленности, и творческое общение, и дружба. Мог смертельно по-детски обижаться на кого-то и затем прощать… Все знали, что он очень верный и преданный друг. Компании одновременно и любил, и не очень жаловал – порой с удовольствием ходил в гости и в то же время часто сидел дома в одиночестве… Но нередко устраивал застолья и у себя – такое тоже было.
* * *
Говорят, он пил.
Последнее время действительно выпивал прилично. Но алкоголиком не был, а был, скажем так, бытовым пьяницей. Пил он не от потребности выпить, а таким образом снимал стресс – надо было организм как-то освобождать. Но в принципе, я думаю, он с этим бы справился. У него не было ничего такого фатального… К тому же он ложился лечиться в больницу, откуда его возили в театр на репетиции.
Видимо, все, что ему мешало как актеру, организм отторгал автоматически. Так же с курением – он то начинал, то бросал. В общем, он не курил. И без всяких усилий бросил бы пить окончательно, как только у него бы упорядочились отношения с самим собой…
То, что с ним происходило, думаю, было связано с его внутренним разладом…
Не было покоя в его душе. Не было гармонии, не было согласия с самим собой.
* * *
Я думаю, сегодня его карьера расцвела бы вовсю. Ему были бы подвластны любые жанры. У него был бы огромный успех у публики.
На самом деле он прекрасный комедийный актер. Думаю, на него многие делали бы ставки, особенно в антрепризах. Мало того, что коммерчески это имя звучало бы, но и диапазон был бы мощный. При его фактуре, позволяющей что угодно играть – начиная от Гамлета и кончая опереточными персонажами, – это вполне реально.
Сейчас артиста такого масштаба и такого калибра просто нет.
Сегодняшние инфантильные актерские девочки и мальчики – все-таки другие. При всем моем уважении к их профессионализму, не могу себе представить Юру в одной компании с ними… Как-то не сомасштабно.
А Юра был действительно совершенно органичен во всем. Таких уникальных артистов теперь нет.
Для режиссера всегда очень важно понимать, что артист не может. У Юры этого так и не обнаружилось за время профессиональной работы. Было совершенно непонятно – что же он не может. Он мог делать все что угодно, и все – блистательно и легко, казалось, совершенно без всякого труда. Все у него легко перетекало из жизни на сцену или экран – и обратно.
* * *
Когда уходит относительно молодой человек – трудно представить его стариком. Можно ли представить старого Лермонтова? Или старика Есенина – заслуженного поэта, члена Союза писателей?
А вот пожилого Юру – можно, и даже замечательно. Почему-то уже в Щуке все представляли, каким чудным народным артистом он будет в восемьдесят лет.
Входит этакий благородный дивный красавец-старик, старый артист МХАТа, в дорогой распахнутой шубе… С холеным лицом, естественно, с тростью в руках… И начинает вести курс…
Или в этой же шубе, с тростью идет по Камергерскому прогуляться до автомобиля…
Встретившись с ним, можно поговорить о том, как ужасна нынешняя молодежь, как стало невыносимо работать. Или, наоборот, он будет счастливо хохотать и восторгаться замечательной молодежью, которая у нас растет.
И он будет абсолютно органичен во всем.
Я так легко представлял себе его благополучную старость, не делая над собой никакого усилия.
А вот Бог судил иное…
Глава 9. Профессия: самосожжение
Ночь в Щуке ■ Питерские откровения ■ Я тебя рисую ■ Хороший подлец ■ Память на сердце ■ Собачка Юрочка ■ Рубашку на смену ■ Общий стол ■ «Здравствуй, папа!» – Незаменимые – есть!
В 1970 году Олег Ефремов переходит из «Современника» во МХАТ. Театр лишается своего идеолога, лидера и режиссера. Художественное руководство театром берет на себя Галина Волчек. И делает нестандартный шаг: приглашает ставить спектакли прославленных мастеров, в том числе Георгия Товстоногова, Анджея Вайду… И в это же время присматривается к молодым «дипломникам» – Валерию Фокину, Иосифу Райхельгаузу. Они-то потом и станут штатными режиссерами «Современника».
А все началось, когда Галина Волчек пришла однажды в Щуку посмотреть дипломный спектакль Валерия Фокина.
Там была занята группа молодых ребят, которые показались ей интересными артистами. И она сразу всех их – Богатырева, Райкина, Поглазова – пригласила в театр.
Фокин начал репетировать с ними «Валентина и Валентину».
* * *
Не сразу, но и он находит свое место в этом коллективе. Сначала – неизбежная массовка. Затем Богатырев выходит на довольно заметные роли – Курский («Большевики»), Янус («Свой остров»), Треугольников («Всегда в продаже»), священник («Тоот, другие и майор»), гном Суббота («Белоснежка и семь гномов»), Семин («Четыре капли»), наконец, Орсино («Двенадцатая ночь»)…
Играет не только у Галины Волчек, но и в спектаклях Олега Табакова, Валерия Фокина, Георгия Товстоногова, Александра Алова и Владимира Наумова, Иосифа Райхельгауза, англичанина Питера Джеймса и других.
Самыми заметными работами артиста стали герцог Орсино и Марк («Вечно живые»). Первый – большой ребенок, захваченный вихрем любовных переживаний, наивный и трогательный. Второй, что называется, отрицательный герой, но отнюдь не однозначный. Не случайно автор пьесы Виктор Розов как-то заметил артисту, что сыгранный им Марк – лучший из всех. Он получился даже сложнее, чем написан. Богатырев сумел сыграть не человеческую подлость, а человеческую слабость, человеческую трагедию…
Высоко оценила его Марка и Галина Волчек: очень хорошая его работа, настоящая. В своем отрицательном герое Юра находил какие-то человеческие черты. И многим нравился в этой роли. Именно потому, что пытался оправдать то, что оправдать трудно. То есть искал человека…
* * *
Режиссер сразу отметила его особую индивидуальность. Скромность, даже стеснительность. Манеру опускать глаза вниз, когда она его о чем-то спрашивала. У них сразу сложились теплые доверительные отношения. На гастролях в Питере они шли из театра пешком в гостиницу и много разговаривали об искусстве… А еще – о его семье, маме, папе, сестре… Она поняла, что за его внешней закрытостью скрывается доверчивая и добрая душа.
Как-то она узнала, что он рисует ее портреты. Попросила показать. Тот, засмущавшись, отказался – это же не профессионально, просто хобби.
Потом это «хобби» помогло ему в оформлении спектаклей, «капустных» газет.
И в избавлении от некоторой актерской зажатости. А вот зачем потом он написал ее портрет на своей майке и носил ее – он так и не мог ей объяснить.
* * *
Галина Волчек сейчас уже не может объяснить, какой импульс у него был для ухода из театра. Может, кино, может, что-то еще. Потом она уже узнала, что он работает в Художественном театре. И часто видела его на экране. И всегда какое-то тепло разливалось в душе. А он звонил ей каждую новогоднюю ночь с поздравлениями, хотя они потом почти не виделись… Но она запомнила его светлым, искренним, удивительно теплым, родным человеком.
И убеждена: останься он в «Современнике», может, трагедии бы не случилось.
Кстати, в этом с ней солидарен и Сергей Шакуров, который считает, что переход Богатырева из «Современника» во МХАТ сослужил ему недобрую службу.
– Мы иногда встречались, иногда Юра просто звонил, когда у него была какая-то тоска на сердце, – вспоминает Шакуров. – Я чувствовал, что его что-то не устраивало в жизни, в работе. Мне кажется, он не в свой театр тогда попал… Несмотря на то что у него было много работы, что тоже плохо, когда артист завален ролями. Когда нет отбора, а играешь всё, что тебе предлагают. Актеру надо выбирать.
Тот период во МХАТе, когда он там начал раскручиваться, был непростой. Всё там было не то. Кажется, в то время там дисциплина хромала. Короче, он не туда попал. МХАТ не послужил ему добрую службу.
Шакуров размышляет:
– Вообще, театр – это тяжелое бремя. Тяжелейшее. Его ни с каким банком, ни с каким заводом не сравнить. Это даже не шахта. Самоуничтожение – такая профессия. И ничего не остается после тебя. Ни скульптуры, ни картины, ни даже коронок, как у дантиста. Только память…
* * *
Народная артистка России Людмила Иванова не раз выходила с Богатыревым на одну сцену.
– Мы вместе с Юрой играли в «Вечно живых». У нас было много исполнителей роли Марка. Все они были в большей или меньшей степени, но все-таки ближе к отрицательному герою. Допустим, Михаил Козаков… как он ни старался, совсем не вызывал симпатии у зрителей. А Юра настолько глубоко играл трагедию Марка, что я глубоко сочувствовала ему. Я понимала, что Марк абсолютно штатский человек, что он музыкант и что он не создан для того, чтобы стрелять… Я понимала, что он любит Веронику и для него трагедия, что она его не любит, и что он ходит к Антонине, чтобы спастись от одиночества, от того, что его не любит жена, от того, что он как бы совершил предательство по отношению к брату… Вечная тема одиночества человека, его счастья, долга…
* * *
– Он был очень интеллигентным артистом, – продолжает Людмила Иванова. – Возможно, потому, что ленинградец. У меня много друзей-питерцев – это особая каста: они интересные, порядочные, люди с традициями, культурой.
Юра был очень вежлив, дисциплинирован, никогда не срывался. Ни малейшего хамства, какое бытует среди артистов, не позволял себе.
Всю его жизнь составляли театр и кино. Работал он всегда серьезно. Поэтому прорабатывал все свои роли подробнейшим образом, очень глубоко.
Есть такие актеры, которые работают как бы левой ногой. А есть такие, которые все время работают на сто процентов. Такой актер у нас Валентин Гафт. Таким был и Олег Ефремов – безоглядно тратил свою душу, свое сердце.
Для меня Юра Богатырев – эталон артиста. Ему были подвластны трагедия, комедия, фарс, трагикомедия, драма – все жанры. Все, что он играл, было замечательно.
У нас, к сожалению, при жизни не могут прекрасного актера назвать великим. Редко кого настигает достойная слава. Лишь после смерти оценивают сполна…
У Богатырева была самая высокая планка таланта. Его талант сказывался и в человеческих отношениях – они были честные, порядочные. Он был очень добрым, отзывчивым человеком, умеющим себя тратить. Не эгоистом, не стяжателем. Самые хорошие человеческие качества я видела в нем. И это не идеализация. Так было на самом деле…
Глава 10. Он напряженно вглядывался в горизонт
Воронья слободка им. Инессы Арманд ■ Игра в бутылочку ■ Яичница или закат? ■ Портрет из будущего ■ «Почему не летают самолеты?» ■ «Не морочь мне одно место!» ■ Моя дорогая сволочь ■ Депрессия – королева болезней
– Есть такая известная фотография Валерия Плотникова, на которой Юра Богатырев сидит на балконе и за его спиной Кремль, – вспоминает народный артист России, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. – Этот снимок был сделан из моей комнаты в общежитии театра «Современник», где мы тогда жили. Это знаменитая квартира Инессы Арманд на Манежной улице, в которой было много комнат. В этой общежитской коммуналке обитали тогда мало кому известные Стасик Садальский, Оля Богданова, Володя Поглазов, Руслан Ковалевский, Юра Богатырев. Одно время там жил даже Валентин Иосифович Гафт.
Была замечательная компания. Было прекрасное время. Сейчас я бы не задумываясь отдал свою квартиру во дворе Дома кино и дачу, чтобы вернуть ту комнату и то время.
У нас там был общий телефон. Юра часто разговаривал со своими родителями, и все было слышно. Он замечательно с ними разговаривал. Для меня это во многом определяет человека. Есть люди, которые родителей стесняются. Но не Юра. Он с ними всегда был очень нежен. Мама жила в Ленинграде, папа – в Подмосковье. «Здравствуй, папа! Это твой сын Юрий Богатырев». Он звонил практически ежедневно, хотя это стоило денег, а их всегда не хватало.
У нас была такая игра – в шкаф складывали пустые бутылки. И тот, у кого первым заканчивались деньги, шел и сдавал эти бутылки. А уж если кто-нибудь из нас получал какую-то премию (в те времена это уже случалось) или неожиданный заработок сваливался (так я вдруг получил огромную сумму за спектакль по повести Константина Симонова «Из записок Лопатина»), то, естественно, гуляла вся наша общага на Манежной.
* * *
Райхельгауз задумывается.
– Юра выпивал, как многие молодые люди. Тогда казалось – все можно. Мы находили время веселиться и выпивать при бешеной нагрузке: утром репетиции в театре, днем съемки на телевидении, вечером – спектакль, занятия со студентами… Мы все очень рано начали преподавать, Олег Павлович Табаков позвал нас в свою студию…
Талантливый человек талантлив во всем. Юра потрясающе готовил на нашей коммунальной кухне. Из чего можно было готовить? Из зеленого горошка, картошки, куска самого дешевого мяса… Он выходил на кухню, где все собирались после спектакля, в широком зеленом халате и начинал импровизировать. Я хорошо помню, как он жарил яичницу. Если там были кусочки колбасы, Юра выкладывал их в определенной композиции. И лук тоже выкладывал в определенном сочетании. И во всем этом была строгая художественность…
Юра был «объемным» творческим человеком. Он всегда задавал некий уровень. Было о чем говорить. О чем спорить. О чем фантазировать.
Казалось, что он причастен ко всему прекрасному. У него был удивительный слух, он играл и умел слушать музыку. Он чувствовал живопись и отлично рисовал.
* * *
Наверное, у него не было врагов. С чего? Завидовать ему было глупо – он такой большой, красивый, талантливый…
За свою длинную режиссерскую жизнь я убедился, что, когда артист – только артист, он все-таки «плоский». А вот когда артист умеет еще что-то делать руками – это совсем другое дело. У Юры в руках была кисточка.
Иногда он по два дня не выходил из своей комнаты, и потом оказывалось, что он написал большую картину и еще сделал двадцать эскизов костюмов и декораций. У нас с ним случались замечательные творческие игры. Он много работал в «Современнике» и был занят во всех спектаклях, где я был режиссером. Как только я приходил с идеей новой пьесы, Юра тут же начинал обдумывать декорации, хотя художником спектакля он не был. Сохранилось много его набросков.
Специально для него я принес в «Современник» пьесу молодого драматурга Александра Ремеза «Автопортрет» – пьесу о художнике. И очень хотел, чтобы Богатырев, играя художника, каждый спектакль создавал новую картину. К сожалению, театр не согласился на постановку. Позже я все-таки поставил эту пьесу в Театре имени К. С. Станиславского и до сих пор считаю «Автопортрет» лучшим спектаклем в моей жизни…
* * *
Райхельгауз вспоминает, как несколько лет подряд Юрий приезжал на дачу к его родителям:
– Они тогда жили в Одессе. Их домик на берегу моря можно было назвать дачей весьма условно. Обычно Богатырев отдыхал там один. Уходил на берег, где почти не было людей, что-то обдумывал, записывал… А иногда вдруг говорил: «Давайте я почитаю Булгакова, „Мастера и Маргариту“». И устраивались читки. Собирались мои родители, родственники, соседи. Все поднимались на второй этаж. Внизу плескалось теплое море, плыли корабли… Юра с упоением читал «Мастера…», причем долго, большие главы. У него был волшебный голос. По сути, это были моноспектакли.
* * *
Однажды – это был 1977 год – мы с моей женой Мариной Хазовой приехали в Одессу. Юра должен был прилететь самолетом.
Мы его ждали, но он не появлялся. Днем нет, вечером нет. Мой маленький племянник, которому тогда было шесть лет, с нетерпением спрашивал: «Где Богатырев? Почему он не летит?»
На следующий день мы уже стали звонить в аэропорт. Оказалось, что самолеты не летают – не было керосина. Прошел еще день, и мы поняли, что Богатырев не прилетит. Звонили ему в Москву, но там тоже никто не отвечал. И вдруг приходит странная телеграмма: «Самолеты не летают. Едем машиной. Не беспокойтесь. Ваш Богатырев».
И удивительное дело – он появился глубокой ночью на каких-то стареньких «Жигулях». Оказалось, что в аэропорту он уговорил своих попутчиков – это были муж, жена и ребенок – ехать в Одессу на их машине. Рассказал им, что в Одессе у него есть друзья. И за несколько дней они доехали. Замечательные люди! Мы всю ночь тогда жгли костер и ловили какую-то рыбу. Юра не ловил. Он лежал на берегу и смотрел вдаль.
* * *
У нас там была соседка, типичная одесситка, толстая, огромная, такая Сонька Золотая Ручка. Звали ее Фаня Наумовна. И говорила она с сильным акцентом.
Как-то Юра, по обыкновению, лежал на берегу и вглядывался в горизонт. А она подошла к нему и сказала:
– Слушай, я тебя где-то видела!
Юра к тому времени уже успел сняться в одном или двух фильмах, но не сознавался:
– Не знаю где.
Потом, правда, они очень подружились. И вели удивительные диалоги, над которыми все хохотали. На правильном русском языке с прекрасным произношением Юра ей что-то объяснял, а она ему отвечала:
– Ой, не морочь мне одно место…
И дальше шли типичные одесские обороты, которые Юра даже записывал.
Увидев, что мы своего племянника обучаем грамоте, Фаня Наумовна решила заняться тем же со своим внуком и все время призывала к этому Богатырева. Она старалась обращаться с внуком очень вежливо, но все равно не могла не употреблять «нехороших» слов. Самые нежные из них были:
– Геночка, какая это буква? Какая это буква, сволочь?! Посмотри, вот этот дядя из Москвы. Он знает все буквы, негодяй!
Дальше уже шли совсем нехорошие слова. Тогда Юра, как «дядя из Москвы», вмешивался и давал комментарии и советы.
* * *
Одну историю с Фаней Наумовной Юра рассказывал потом в Москве как анекдот. У нас была очень своеобразная дача, ее ремонтировали так: прибьет кто-нибудь досточку, вот и хорошо. Юра как-то решил «прибить досточку». Фаня Наумовна высунулась из-за забора и нежно, потому что она очень уважала Богатырева, сказала ему:
– Юрочка, перестань стучать, сволочь! У меня же ребенок спит!
Юре это ужасно понравилось. И в Москве, когда кому-надо было ночью утихомирить соседей, он высовывался в коридор и стыдил:
– Перестаньте кричать, сволочи! Я же сплю!
Это была Одесса.
* * *
Иосиф Райхельгауз вспоминает давние гастроли:
– Для молодых артистов это было больше, чем сегодняшние поездки в дальнее зарубежье. Ну как еще попадешь в Хабаровск? Владивосток? Сочи? Ялту?
С раннего утра мы шли смотреть архитектуру, потом местный рынок с дешевой рыбой или фруктами и встречались с людьми. Вечером – спектакль.
После спектакля собирались все вместе в гостинице, пили чай или что-нибудь покрепче. Бесконечные разговоры, идеи, обсуждения, часто до самого утра… До сих пор поражаюсь, как у нас на все хватало сил.
* * *
Я видел Юру и в депрессии. Причиной была нормальная творческая неудовлетворенность, как у всех молодых людей. Ролей было мало. Я так и не помню ни одной мощной роли Юры на сцене «Современника». Все были какие-то эпизоды. У Кости Райкина были роли, у Юры – эпизоды.
С Галиной Борисовной Волчек у них было два периода отношений. Первый – очень нежный. Галина Борисовна Юру любила и всегда эту любовь проявляла. Юра по-своему любил Галину Борисовну. Он много ее рисовал, и над столом в ее кабинете была буквально выставка работ Богатырева. А потом прошло время, и их отношения охладели. По каким причинам, мне сейчас трудно сказать. Потом он ушел во МХАТ. Если бы в «Современнике» была для него работа, если бы он чувствовал, что необходим театру, наверное, бы остался.
Во МХАТе у Юры было все в порядке. Хотя он часто говорил, что хочет оттуда уйти. Это нормальное состояние для творческого человека – все время хотеть куда-то уйти. И для Юры оно тоже было нормальным.
* * *
Помню день, когда Олег Павлович Табаков получил звание народного артиста. Мы пришли его поздравлять. Мы – это Костя Райкин, Валерий Фокин, Марина Неелова, Юра Богатырев, Гарик Леонтьев. Табаков казался нам пожилым человеком, ему было за сорок. Директор театра «Современник», знаменитый артист… мы на него смотрели восторженно, а он был печален и сказал:
– Вы знаете, я уверен, что лет через двадцать вы все станете народными артистами. Но тогда это не будет вас радовать, и вы будете вспоминать это прекрасное безответственное время, когда большинство из вас жило в общежитии. Когда вы были легки, молоды…
Я недавно вспоминал эти слова Табакова. Действительно, все мы стали народными артистами – Неелова, Фокин, Райкин… Богатырев умер народным артистом…
* * *
В последние его годы мы общались меньше. Он ушел из «Современника», я уже работал в Театре имени К. С. Станиславского, потом в Театре на Таганке. Он как-то позвонил и сообщил, что получил квартиру. Позвал нас с Мариной в гости. Я сказал: «Обязательно, но потом». Как всегда. Ведь кажется, что все еще будет, все впереди, жизнь длинная.
Однажды я встретил Юру на улице, и он меня буквально затащил к себе на несколько минут: «Давай зайдем!» И мы зашли. Такая же квартира, как на Манежной. Все в книгах, в рисунках, все очень тесно. Квартира в рабочем состоянии. Тогда я видел Юру в последний раз.
* * *
Трудно сказать, есть ли сегодня актер, сопоставимый по масштабу с Богатыревым. Артист – это явление, существующее во времени. После того как артист уходит, остается легенда. Поэтому сейчас сравнение будет некорректным. Это будет сравнение с легендой, а не с артистом.
Мне кажется, сегодня он был бы востребован. Открывал бы свои выставки, был бы нужен злополучной антрепризе, которая ищет лица. Много работал бы на телевидении – он мог бы замечательно вести передачи…
Всем отпущен свой срок. Можно только догадываться какой.
Можно проклинать судьбу или кого-то, кто распоряжается жизнью, за то, что мало отпущено.
А можно благодарить ее за то, что Юра успел сняться в фильмах, что остались его картины, остался его голос, остались воспоминания друзей.
Слава богу, что было это. Жаль, что не было больше.
Глава 11. Крестный отец
Наркотик «Михалков» ■ Звезда с обложки ■ «Вольтер, маман и Глинка…» ■ Спасибо плоскостопию! ■ Жирный мазок ■ Штольц тоже человек ■ Благодать унижения ■ Как стать плешивым? ■ Царь или генерал? ■ Полтора метра риска ■ «Юрочка, ты великий!» ■ И кнут, и пряник ■ Герой Ренессанса
Друзьям Богатырев не раз признавался:
– У Никиты я готов сниматься всегда, и даже бесплатно…
А все потому, что Михалков стал крестным отцом Богатырева в кино. Актер самым натуральным образом «подсел на иглу» Михалкова. У него развилась творческая зависимость от талантливого режиссера… Теперь само понятие «кино» для Богатырева означало «кино Михалкова». А приглашение на любую роль в его картине становилось настоящим профессиональным праздником.
«Раба любви». Здесь для актера не нашлось большой роли. Но он с радостью отдал свой образ звезде немого экрана Владимиру Максакову (его прототип – знаменитый Владимир Максимов). Богатырев там появляется только на фото как кумир миллионов. Как сейчас бы сказали – своеобразное камео.
Вот как сам Михалков объясняет свой выбор:
– Мы уже настолько сблизились, настолько уже не могли друг без друга существовать в творчестве, что я предложил: «Юра! Там тебе играть совершенно, абсолютно нечего. Но пускай твой образ будет все время с нами – некий мифический возлюбленный Ольги Вознесенской на обложке журналов. Пусть он все время фигурирует в картине».
И он согласился присутствовать в фильме как фотоартист.
* * *
Никита Сергеевич вздыхает, встает, поправляет лампадку у иконы:
– Это был наш мостик к следующей картине «Неоконченная пьеса для механического пианино», где для Юры уже просто писалась роль. И сумасшедшее удовольствие была эта работа – то, как мы искали и находили образ Войницева… Мы понимали, что Серж – это такое большое, трогательное, глупое, наивное, слабое и в то же время очень искреннее и честное существо – такой Пьер Безухов, только глупый.
Но глупость тоже бывает разная. Это была, скорее, такая звенящая ограниченность. Труднее всего играть это. Потому что Серж говорит простые банальные вещи. И в общем, людям нормальным эти мысли могут показаться естественными: «Вольтер, маман и ты… впрочем, еще и Глинка…»
Все это никак не резало ухо обывателя. Человек любит Вольтера, маман, свою жену и Глинку – чего уж тут поделаешь? Самое сложное – так сыграть, чтобы это стало смешным. И Юра делал это ювелирно, на каких-то невероятных полутонах.
Его образ родился от походки героя – это Юра предложил сам. У него было плоскостопие, поэтому ему специально делали очень большие ботинки. А еще он поджимал пальцы на ногах, поэтому его походка становилась такая… шлепающая. Он шел, как ходят плоскостопные люди, – шлепая. И как только он пошел этой походкой, все слилось в один образ: и шляпа с высокой тульей, и огромные руки, и трость, и косоворотка. Все сразу заработало…
* * *
Михалков высоко ценил актерское мастерство друга:
– Юра тончайший артист. У него были потрясающие интуиция и вкус. Он точно чувствовал тонкость юмора. Он не мог играть средне: мол, это проходная сцена… Он не мог быть просто тупо органичным артистом, который очень хорошо произносит текст и все делает очень мило…
Он был по-настоящему театральным артистом – но в самом прекрасном смысле этого слова. Поэтому все его реакции, все повороты характера его героя были удивительно крупны. Но эта крупность была не театральным нажимом, а выразительным мощным мазком – как у художников «Бубнового валета», скажем. Такой жирный, сочный, очень на своем месте.
И в то же время он держал тонкость паузы. Вдруг – дрогнувший голос, вдруг – наполнившиеся слезами глаза… Это он делал просто ювелирно. И в этом отношении сегодня я не знаю такого актера. Может, только Олег Меньшиков…
* * *
– Ему совсем не мешала его театральность, – размышляет Михалков. – Вообще, многое тут зависит от режиссера. Я не о себе, любимом, но, в принципе, артист это чувствует и знает, как эту «театральность» убрать…
Другой режиссер скажет: «Ну что вы так наигрываете? Давайте полегче!»
А ведь это тоже можно использовать. Надо просто не останавливать артиста, а на той же скорости пустить чуть в другую сторону. Ведь его можно напугать, остановить – и он не будет знать, что делать. А можно подкорректировать: отлично, только чуть левее возьми – и все!
Юра был как выезженный скакун. Он мог по ходу импровизировать – достаточно было из-за камеры ему шепнуть, что делать, и он мгновенно разворачивался, и это было абсолютно органично. Он был совершенно мастерский импровизатор. Хотя он, как и я, любил импровизацию хорошо подготовленную, а не просто спонтанную – оттого, что не знаешь, что делать…
* * *
После «Неоконченной пьесы» был «Обломов». И все заранее знали – Штольца будет играть Богатырев. Хотя, по-моему, он хотел пробоваться и на роль Обломова. Но было много тех, кто хотел и имел право на это, в том числе и Александр Калягин. Но уже как бы априори Обломова должен был играть Олег Табаков. Это должен был делать именно он – хорошо ли это, плохо ли, молод он или стар… И он сыграл, на мой взгляд, достаточно убедительно.
Мне кажется, что Юра очень очеловечил Штольца. Он сделал из него не бездушную машину, а человека, который просто искренне не понимает, что такое русская душа. Он знает точно: то, что он предлагает, – это правильно, это хорошо. И не может заглянуть за эту границу, дальше. И в этой незыблемой убежденности Штольца, что именно так хорошо, так правильно для Обломова, Юра достиг высокой убедительности.
Квинтэссенция этой роли – эпизод, когда отец провожает мальчика Штольца учиться. В сцене прощания с отцом Юра сыграл безупречно точно. И конечно же для меня чрезвычайно важна сцена в бане. Эти две кульминации Юра провел замечательно.
* * *
На площадке Юру ждали всегда. Шептались: «Идет, идет…» Когда он приходил – сразу занимал огромное количество места. Такой необъятный шар вкатывался.
Бывало, он капризничал… Бывало, ждал особого внимания… Бывало, обижался. Бывало, даже требовал унижения. Юра был из тех артистов, которых нельзя жалеть.
Но! Его можно было жалеть и помогать ему – в жизни. Например, он страдал оттого, что его не узнают. Но на площадке он сразу лишался этой привилегии. Он мог долго искать решение сцены, но, когда появлялся результат, все снималось мгновенно. То есть после всех этих скандалов, унижения, криков: «Стоп, снято!» – получалось то, что надо.
Потому что Юра был человек творческий. Ему было важно понимать, что все его труды и все унижения – не просто так, а чтобы достичь цели, желаемого результата. Нельзя просто так унижать артиста и быть с ним жестким лишь для того, чтобы самоутвердиться за его счет…
* * *
В «Родне» у него была абсолютно характерная роль Стасика, в которой Юра просто купался. Она не такая большая, но каждый раз все в группе ждали его с нетерпением… Мы ему сделали потрясающий парик – придумали яйцевидную голову с плешью, грим, накладной животик… Там столько было всего придумано – и то, что он коряги собирает, и как одет… Все сплошная импровизация. И он сам предлагал, и Нонна Мордюкова – в этом отношении она тоже человек замечательный. Знаменитый танец в ресторане, правда, специально ставили. И ему, и ей. Получился гротеск на грани буффонады…
* * *
Для Юры главное было – поймать точную интонацию. Когда ловил – дальше уже все катилось само собой… Он очень страдал до того момента, пока не находил эту интонацию. До тех пор все было мучительно, он жутко ныл: ну как? как? Но стоило ему ухватиться за деталь, вроде поджатых пальцев ног, – все, уже можно было оставлять его спокойно.
Для него была написана роль генерала Радлова в «Сибирском цирюльнике»… Это в дальнейшем вызвало определенную проблему. Алексею Петренко об этом сказали. Он правильно предположил: если писалось для Юры – мы уже проиграли в голове все, как это должно быть, как генерал должен себя вести… И умный Петренко, еще не зная концепции образа генерала, уже сразу отказался: только не требуй от меня того, что делал Юра, он замечательный артист, но я совсем другой…
В результате он сделал все то же, что я хотел от Богатырева, – конечно, с определенными коррективами в сторону таланта Алексея Васильевича… Кстати, идея с прорубью была его: «Ну как? Давай сделаем!» Не знаю, пошел бы на это Юра.
* * *
Богатырев на все рискованные предложения Михалкова всегда вначале отвечал отказом: «Что? Нет, никогда!» А потом соглашался. Он мог, например, спрыгнуть с девятнадцатиметровой высоты в реку на съемках фильма «Свой среди чужих…».
Кстати, они не знали глубины реки – мерили камнем, и получалось очень глубоко. А потом ужаснулись, потому что не рассчитали, что камень уносится течением. Оказывается, глубина там была всего метра полтора… С такой высоты прыгать было очень опасно. Могла случиться беда…
– Рисковали, азарт был, но Господь управил, – вздыхает Михалков.
* * *
– Он был абсолютно бесстрашен. – Не то чтобы храбр, а именно бесстрашен, подчеркивает режиссер. – Храбрость – это когда человек знает об опасности и осознанно идет на риск. А бесстрашие – когда он ее не чувствует. Юра был замечательно наивен. Он был убежден – раз друзья просят сделать это, значит, они за него отвечают и надо делать, потому что все будет нормально.
Это удивительно. «По вере вашей и воздается вам». В этом отношении он был совершенно доверчивым человеком, которому все давалось как бы легко. Первый раз сесть верхом – и сразу аллюром в поля!
При всей его грузности, неспортивности – иллюзия создавалась потрясающая… Не знаю, как он чувствовал себя в седле – наверное, плохо с его ростом… Когда он по ушам бил Александра Кайдановского – работала вся его фактура, вся его мощь.
Как он управлялся с этим? Не знаю. Потому что практически он не был гибким и внешне пластичным – хотя и был удивительно пластичным внутренне. Именно это очень многое компенсировало.
Если бы тогда не закрыли «Сибирского цирюльника», Юра, конечно, успел бы сняться в этом фильме. Он знал о замысле, читал сценарий… Также для него, умного, тонкого артиста, мы писали Николая I в «Грибоедове»…
* * *
В 1987 году были сняты «Очи черные». Михалков продолжает рассказывать:
– Там Юра великолепно сыграл городского голову. Потом «Автостоп» – уже без него. Еще Юра снялся в нашей совместной с итальянцами рекламе пасты «Барилла». И все… Дальше у него пошли роли в картинах Ильи Авербаха, Виктора Титова… И там он был снова совершенно неожиданный. Юра действительно обладал редкостной неузнаваемостью. Он как-то мне жаловался: «Вот сволочи, что за люди! Каждый день в кино снимаюсь, а вчера вот встал в очередь за туалетной бумагой (тогда это была тяжелая проблема) и рожей все крутил-крутил, ну никто не узнал, никто не пропустил… Простоял в очереди три с половиной часа! Ты можешь себе представить, какие мерзавцы?» И все это на полном серьезе.
Кстати говоря, его «неяркость» была его великим преимуществом – он был из тех актеров, которые могли быть любыми. Он был как бы стерт. Зато из него можно было делать что угодно.
Трудно найти другого такого актера, который мог бы играть и Шилова в вестерне, и Войницева в «Неоконченной пьесе», и Штольца в «Обломове», а потом Ромашина в «Двух капитанах». Юра именно тем и потрясал. Я ему это объяснял:
– Юрочка, ты великий!
– Да?
– Да. Ты великий.
– Ты правду говоришь?
– Да, ты великий артист!
Он сомневался и не понимал, что это актерское счастье – когда тебя не узнают. Иначе он был бы как Миша Боярский – хороший артист, но «приговоренный» к шпорам и ботфортам. Сыграть Вафлю в чеховском «Дяде Ване» ему было бы немыслимо…
А Юра действительно был гениальный артист. Я имел счастье и смелость говорить это ему в лицо и считал, что ему очень важно было это слышать. Ему нужно было, чтобы его ценили. Ему не хватало внимания. Он не умел за себя бороться. Не умел выбивать в месткоме путевки и квартиры…
* * *
Когда он о чем-то спрашивал Михалкова, тот давал ему совет, помогал, где можно… При этом работал с ним достаточно жестко.
– Потому что, хотя он нуждался, чтобы его называли гениальным артистом, это был единственно правильный путь, – объясняет Михалков. – Потому что Юре, как никому, был нужен режиссер. Ему был нужен не только пряник, но и кнут. Он был достаточно дисциплинирован и аккуратен в своем отношении к делу… Всегда. Но определенного рода насилие по отношению к нему давало ему новый импульс, новый толчок к тому, чтобы по-актерски фонтанировать.
Он не требовал понукания, нет. Но иногда зацикливался на какой-то идее, фразе, на чем-то своем, и для того, чтобы сбить его, нужно было резкое движение, а потом опять поглаживать: «Да, Юра, ты прав, хорошо, хорошо».
И он не обижался. Понимал, что это не было желанием утвердиться за счет артиста как режиссера. Я сам артист, и знаю, как иногда нужна встряска. Бывают такие моменты, когда тупо повторяешь одно и то же, и не знаешь, как играть… Понимаешь, что все не то… Тут очень важно верить в режиссера, потому что бывает и так, что режиссер сам не знает, чего хочет.
Но я всегда знал, чего хотел. Мы никогда не начинали снимать до тех пор, пока не знали точно, что нам надо. Поэтому вся наша «лабораторная работа» проходила вне чужих глаз и ушей.
* * *
В последние годы он был поглощен театром. Михалков же в это время писал сценарий «Грибоедова». Они кружились по разным орбитам. Хотя не ходили друг к другу в гости каждую неделю, но созванивались. Не теряли контакта, просто он не был таким плотным, как раньше. Проблемой стала и скрытность артиста.
– Он был очень скрытный человек, – говорит Михалков. – Я ничего не знал о его личной жизни и никогда не пытался узнать. Я вообще взял себе за правило никогда не интересоваться личной жизнью другого человека: если ему нужно – он тебе скажет, а если не нужно – чего лезть?
* * *
Михалков убежден, что сегодня было бы великим счастьем видеть его на сцене. Неясно только, что бы он играл сейчас? Классику? Возможно. В кино – точно бы сыграл у него генерала Радлова, которого для него и писали.
– Ведь сила Юры заключается в том, что он глубок и неожиданен внутри поставленного рисунка. Он лишь уточнял: надо так? И опять копал вглубь.
Михалков признается, что знает сейчас лишь несколько артистов подобного калибра: Олега Меньшикова, Алексея Петренко, Владимира Ильина, Марину Неелову, Инну Чурикову, Александра Калягина… Но трудно с кем-то сравнивать Богатырева. По степени возрожденческой одаренности, блистательному артистизму, тонкому вкусу…
Глава 12. Жизнь или профессия?
«Пламенные» студенты ■ «Вольтер, ты и маман!» ■ Шампанское – залог дружбы ■ Почему встает мужчина ■ Анемичная мимика – фирменный знак ■ По рецепту Эйзенштейна ■ Шерочка с Машерочкой ■ Кто воет на луну ■ Незваные гости в татарском стиле ■ Полушубок от дворника ■ Завидный жених ■ Летающий шкаф ■ Творог и кефир ■ Фанатики профессии ■ Доброта не всегда хороша ■ Слезы на Тверской
Еще студенткой ГИТИСа Татьяна Догилева бегала в кинотеатр «Пламя» на площади Восстания, чтобы в очередной раз посмотреть культовую «Неоконченную пьесу для механического пианино». Эта картина стала любимым фильмом ее курса.
Настолько, что все как один бесконечно цитировали героя Богатырева:
– Господи, как я счастлив! Вольтер, ты и маман, больше мне ничего не нужно! Впрочем, еще Глинка.
Именно эту фразу они потом будут к месту и не к месту вставлять в дипломный спектакль по Шекспиру – «Много шума из ничего». И радоваться своему хулиганству. А все потому, что к ним на спектакль тогда пришел Юрий Богатырев.
Он стал для них легендой. Новой звездой, на которую надо было равняться. Горой. О такой карьере они могли только мечтать. Им казалось – нет ничего прекрасней, чем оказаться в обойме Никиты Михалкова.
* * *
А вскоре этот «человек-гора» нежданно-негаданно станет ее партнером по фильму… «Нежданно-негаданно». Впервые они встретились у режиссера Геннадия Мелконяна в гостинице на Мосфильмовской.
Оба старались произвести друг на друга достойное впечатление. А потом выпили шампанское. И как-то быстро подружились.
Актриса вздыхает:
– С Юрой нельзя было не дружить – он был абсолютно очаровательным человеком. Он был талантлив, красив, вежлив и невероятно воспитан. Причем естественно.
Когда в комнату входила любая женщина, даже пожилая костюмерша, он вставал. В первый раз я посмотрела на него с удивлением. И он объяснил: «Я не могу, когда женщина входит, надо вставать». И он действительно вставал. Даже если женщина вползала в рафик, он и там пытался встать! Это было у него абсолютно естественно и искренне.
* * *
Они начали работать. По сценарию у них была любовь. Но… пошли проблемы.
– Режиссер страшно нервничал, везде искал какие-то подвохи, интриги. Материала нам не хватало. И хотя Юра был уже вроде звездой, но его интеллигентность и скромность мешала дать отпор нападкам. А бестактный режиссер мог запросто сказать, что фильм получается хороший, но он все портит. На что Юра вежливо спрашивал:
– Что же, деточка, тебя не устраивает в моей игре?
– Твоя анемичная мимика, – говорил Мелконян актеру МХАТа, где, в общем, не принято «хлопотать лицом».
Но эти проблемы на фильме нас с ним очень подружили. Мы держались друг за друга, потому что нам доставалось обоим. Мы с ним страшно сблизились на этом фильме.
Тогда Догилева, как неопытная актриса, думала, что картина будет ужасающая – по тем скандалам и истерикам, которые закатывал режиссер. Она была настолько уверена, что это плохо, что даже не пошла на премьеру фильма в Дом кино, чтобы избежать позора.
– А Юра пошел, он был мудрее меня. Потом позвонил, говорит: «Ты знаешь, Эйзенштейн прав: кино – это искусство монтажа. Он что-то там смонтировал, и получилось очень даже ничего!»
* * *
Эта дружба продолжилась и после съемок, что нечасто встречается у артистов. Догилева смеется:
– Мы везде ходили с ним как Шерочка с Машерочкой – за ручку, в обнимочку. И даже пошел слушок, что мы вместе. Как-то на телевидении нас кто-то напрямую спросил: «Вы поженились?» Но наши взаимоотношения не были настолько близки…
Уже тогда ее поражало, как он переживал трудные периоды без съемок:
– При мне он держался с юмором, с иронией, искал какие-то другие пути.
Много работал на радио, читал цикл стихов Есенина. Помню, вспоминал, как Качалов читал «Дай, Джим, на счастье лапу мне…». Его удивляло, что Качалов читал стихи так радостно.
– Представляешь, – говорил мне Юра, – человек говорит: «повоем». Как ему плохо, что только выть на луну осталось…
* * *
По словам актрисы, в такие минуты он воспринимал окружающий мир минорно.
– У него были очень тяжелые периоды, потому что он был очень одинок – несмотря на бурное окружение, большое количество друзей и приятелей. Настоящих друзей у него было немного. Его квартира на Гиляровского всегда была полна каких-то странных людей. А Юра был настолько мягок, что не мог их выгнать. А те мотивировали свое присутствие в его доме заботой о Юре. Иногда просились «пересидеть» до поезда. Но я нечасто бывала в его квартире. Мы больше встречались у меня или в гостях у его друзей.
* * *
Догилева убеждена, что у Богатырева врагов не было.
– Если и были, то, скорее, он их придумывал. Но я не помню, чтобы он говорил, что ему кто-то завидует. Он ведь никому не делал зла, был очень беззлобный человек. Ему, в принципе, кроме ролей, немного было надо. Хотя зарабатывал очень прилично. Ведь одно время он снимался не переставая. По советским временам это были немаленькие деньги. Но у него никогда не было денег – даже купить себе зимнее пальто или дубленку. Тогда это был дефицит, он ходил в полушубке, который ему продал дворник театра. Все деньги улетали с гостями…
Но с ней он вел себя галантно, по-мужски.
И никогда не обращался за помощью. Мог только пожаловаться, что на ту роль взяли не его, а другого артиста. Это значит, такой плохой период у него наступил…
* * *
Женским вниманием Богатырев обделен не был.
– Мои подруги очень часто на него претендовали – это был завиднейший жених. Особенно в период, когда он играл героев, когда еще не перешел на характерные роли. Он от таких атак защищался по-своему. Отговаривался легендарной женой-архитектором. Когда я спрашивала его, почему он не женится, он печально отвечал мне, что женат, подразумевая какую-то трагическую историю Средневековья, – рассказывает Догилева. – Я не верила, смеялась: «Перестань!» – «Честное слово, я женат». – «Ну, а где твоя жена?» – «Моя жена – архитектор Зина».
И мы начинали хохотать. Хотя мне было непонятно, правда это или нет.
Но на этом мы остановились. На архитекторе Зине. И нам было удобно, что у него мифологическая жена. Потом уже я узнала о реальной жене Наде, но ее конкретного следа я не ощущала. Я ни разу ее не встретила в его квартире. И не слышала о каких-то общих бытовых проблемах. Может быть, они жили прекрасно и чудесно, но в нашем общении это был какой-то символ.
* * *
Догилева вспоминает, что отдыхать Юрий не умел и не любил. Говорил, что урбанист, что любит город и ненавидит сельскую жизнь.
– Ему профессия заменяла всё. Наверное, это была большая ошибка. Но он из профессии сделал религию. И как только кончалась профессия, то жизнь для него становилась неинтересна, депрессивна и скучна. И тогда он подстегивал себя алкоголем. В то время это не считалось грехом, – вздыхает Догилева. – Тогда все пили, это считалось модным, даже знаком протеста. Но одни как-то справлялись, а Юра в пьяном состоянии был неуправляем. И понимал это, называя себя «летающим шкафом». Совершенно невозможно с ним справиться было в таких ситуациях…
Но когда он работал, ни о каком алкоголе не могло быть и речи. К тому же ему надо было худеть, у него была очень широкая кость. Лишний килограмм делал его уже очень толстым. Поэтому, чтобы быть героем, он месяцами сидел на твороге и на зелени. А как только начинал выпивать, то терял контроль над аппетитом. И тут уже начиналось чревоугодие. Тем более что он готовил хорошо.
* * *
Догилева не может назвать ни одной роли, которую бы он сыграл плохо:
– Он ведь никогда плохо не играл. Все играл хорошо. И видимо, ждал, что это оценят. Что ему дадут еще более интересные роли. А наша актерская жизнь совершенно непредсказуема. Тут нет пропорциональной зависимости. Поэтому у него бывали периоды простоя, когда он просто не знал, куда себя девать. И тогда вокруг него появлялись странные люди… Но это была его жизнь, с его падениями и взлетами. И ничего в ней изменить было нельзя…
* * *
Актриса задумывается.
– Возможно, мы были слишком большие фанатики нашей профессии. Из-за этого очень много трагедий в актерских судьбах, когда люди жизнь подменяли профессией. Но нас так учили. Наверное, в этом была ошибка. А жизнь важнее профессии.
Может быть, Юра успел бы это понять, если бы так трагически не переживал уход из «героев», период простоя. Его терзали несбывшиеся мечты. Например, он каждый раз тихо обижался, когда его не брал в свой фильм Михалков, потому что он обожал его. Михалков был для него «номер один».
И успех тех его первых фильмов невозможно забыть. И для Юры это было каждый раз ударом, обидой, стрессом.
Видимо, его так воспитали, что профессия – главное в жизни. А это неправильно, жизнь сложнее. Я пришла к этому. Может быть, он тоже к этому пришел бы. Но он многое успел сделать. Он действительно представитель прекрасной актерской школы, он незаменим, второго Богатырева нет. Его не забудут, потому что фильмы, где он снимался, – это уже классика. Их будут смотреть, ими будут восхищаться. Юра уже из легенды. Юра Богатырев – это нежность в сердце, это теплота. Потому что, помимо блестящего таланта, он был прекрасный, добрый, светлый человек.
* * *
Кстати, о доброте. Именно ее как основную черту характера Богатырева отмечал и Сергей Шакуров:
– Он был человек позитивно добрый. Доброты бесконечной. Любил делать людям неимоверные подарки. Такие, какие могли выйти только из его светлой головки. Что-то придумывал. Я так не умею. Я бы голову себе сломал, а он из «ничего» мог сделать приятный сюрприз. Очень личный и совершенно бесценный. И ты понимал, что это очень здорово. Это была одна из его грандиозных способностей. Например, так бутылку шампанского дарил, что ты понимал: это не бутылка шампанского, а восторг. У меня осталось много его новогодних открыток – целая поляна цветочная…
Такая была у него внутренняя широта, энергетически емкая, позитивная. Это был очень добрый человек. Он всех любил, и не держал это в себе, не скрывал, обязательно говорил добрые слова. Причем так естественно, просто и адекватно, что, конечно, его все тогда любили.
Но, может быть, ему не хватало эгоизма. Артист должен быть эгоистом, понимаете? Иначе он начинает разваливаться. Но я не могу себе его представить другим.
* * *
Татьяна Догилева помнит их последний телефонный разговор – как он жаловался на скачущее давление. Она советовала отдохнуть. Он отшучивался… А на следующее утро она встретила на улице Лену Майорову. Та плакала.
– Ты слышала, что Юра умер?
– Какой Юра? – не поняла Татьяна.
Актрисы стояли, обнявшись, на улице Горького и плакали…
Глава 13. Это сладкое слово – эфир!
Планета ТВ ■ Трамплин для славы ■ Мартин Иден против Ромашина ■ Картина маслом ■ Радийная культура ■ Артист-изумруд ■ Страдающий муж ■ «Можно еще дубль?» ■ Бархатный голос ■ Обаятельный Остап ■ Деликатный темперамент ■ Репетиция на подоконнике ■ Последний звонок
Телевидение всегда манило артистов. А уж в застойные 70-е годы – особенно. Как трамплин, с которого они стартовали в большое кино. Например, актер мог годами играть в Театре сатиры и быть никому не известным. Затем выйти один раз в популярнейшем «Кабачке «13 стульев» – и сразу же прославиться на всю страну.
Поэтому попасть на голубой экран стремились все. И Богатырев не стал исключением – он, будучи театральным артистом, считал работу в Останкино для себя необходимой. И его дарование органично вписалось в новый формат.
Ему повезло с режиссерами, среди которых оказался и Анатолий Эфрос. Повезло с материалом – в основном это была классика, русская и западная.
Мужественный Мартин Иден из экранизации одноименной повести Джека Лондона. Подлый Ромашка из каверинских «Двух капитанов». Темпераментный Твинг из «Когда-то в Калифорнии». Сдержанный, даже флегматичный Марк из «Вечно живых»…
Он тонко использовал всю палитру красок, заставляя зрителя задуматься о плюсе в минусе и о минусах плюса. Его «положительные» герои вовсе не так хороши, а «отрицательные» совсем не так уж плохи… Николай I из «И с вами снова я…». Орсино из «Двенадцатой ночи». Шипучин из «Кое-что из губернской жизни». Манилов из «Мертвых душ». Они – живые, объемные образы, выписанные щедрыми живописными мазками, благо исходный материал – классическая литература – только того и требовал.
Но при этом сам актер считал, что не всякому режиссеру классика по плечу, что за классику может браться, прежде всего, человек образованный и интеллигентный.
Что важнее выразить не букву, а дух произведения.
Манилов, сыгранный Богатыревым в швейцеровских «Мертвых душах», поразил как почитателей Гоголя, так и поклонников артиста. Образ получился совсем не хрестоматийным, а новым, свежим, необычным. Манилов у Богатырева – не томно мечтающий о мосте русский барин, а фонтанирующий энергией, темпераментный гедонист. Авторы сделали его более активным, но не в совершении каких-то поступков, а именно в своих несбыточных мечтаниях.
* * *
А еще он был убежден, что есть и особая, радийная культура. Потому что работа на радио стала для артиста не только и не столько побочным заработком, но и ответственным творческим процессом.
В 70–80-х годах актера часто можно было видеть в знаменитом Доме радиовещания и звукозаписи на улице Качалова. Здесь он работает перед микрофоном. Панов в пьесе К. Симонова «Жди меня». Военкор Незлобин в «Науке расставания» В. Каверина. Сальери в «Моцарте и Сальери» А. С. Пушкина. Отец Вики в «Завтра была война» Б. Васильева. Графа в «Выстреле» А. С. Пушкина. Все эти персонажи говорили его голосом.
Он участвует в радиокомпозициях по знаменитым театральным спектаклям – «Двенадцатая ночь» У. Шекспира («Современник») и «Мятеж» Д. Фурманова (МХАТ). С удовольствием читает у микрофона стихи Леонида Мартынова и Тициана Табидзе, Каноата Мумина и Сергея Есенина, Габдуллы Тукая и Надсона…
Именно на радио он наконец читает прозу, о которой мог только мечтать, – «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, «Утро помещика» Л. Толстого, «Дым отечества» К. Симонова, «Прекрасную нивернезку» А. Доде, новеллу «Банкет в честь Тиллотсона» О. Хаксли… А еще – ведет различные передачи. После эфира в редакцию литературно-драматического вещания Всесоюзного радио идут потоком благодарные отклики слушателей.
* * *
Это время прекрасно помнит тогдашний «повелитель эфира» – бывший главный режиссер радиостанции «Радио-1 – Культура», народный артист России Эмиль Верник:
– С 1958 года я начал работать на радио. Вначале режиссером политического вещания, долгие годы работал в редакции науки, а в 1969 году меня пригласили в редакцию литературно-драматического вещания в качестве главного режиссера.
Верник делает паузу:
– На радио мне посчастливилось встречаться со многими замечательными актерами: Михаил Астангов, Лев Свердлин, Анатолий Кторов, Алла Тарасова, Ангелина Степанова, Вера Марецкая, Олег Ефремов, Олег Табаков, Юрий Яковлев… Но из поколения молодых, с кем мне довелось работать в те годы, Юрий Богатырев занимает, пожалуй, совершенно особое место. Это такой дорогой для меня изумруд – все, что связано с ним, вызывает теплое чувство.
Причем об этом артисте я знал еще до нашего сотрудничества. Он был пленительно-заразительным, очень органичным, естественным артистом и на сцене, и в кино. Не могу забыть его в спектакле «Тартюф», где он блестяще произносил огромный монолог.
Я присматривался к нему. Для приглашения нового артиста на радио всегда необходим соответствующий материал. И вот в 1983 году я начал его приглашать – вначале для чтения стихов Надсона, Тютчева, потом рекомендовал его другим режиссерам, которые работали в нашей редакции.
А в 1984 году, когда собирался ставить радиоспектакль по пьесе Константина Симонова «Жди меня» к 40-летию Победы, пригласил Юру на одну из центральных ролей – Панова, человека ранимого, безумно любящего свою жену, человека с неудачно сложившейся личной жизнью.
И Юра передавал страдания своего героя так искренне, правдиво, такими удивительно сдержанными и одновременно пронзительными красками своего голоса…
Когда в последней сцене к умирающему Панову прибегала жена, просила прощения за причиненные муки, в скупых ответных фразах больного, умирающего человека Богатырев выражал такую гамму чувств, что слушать его без слез было невозможно. Он работал потрясающе. И очень органично вписывался в замечательный ансамбль актеров. В этом радиоспектакле были заняты Олег Ефремов, Марина Неелова, Ростислав Плятт, Ангелина Степанова, Петр Щербаков. Это один из самых дорогих для меня радиоспектаклей.
* * *
Эмиль Верник отмечает удивительное внимание артиста:
– Во время записей Юра всегда внимательно прислушивался к каждому замечанию. Он мог, например, проиграв сцену, вдруг неожиданно попросить: «Эмиль Григорьевич, а нельзя ли повторить снова?» Он отличался тем, что был очень требователен к себе во время работы.
Он любил работать на радио, где артист выражает себя только голосом, а он обладал великолепными голосовыми данными. К приглашениям на радио Юра никогда не относился формально, как некоторые актеры: что греха таить, ведь воспринимали приход на улицу Качалова как лишнюю возможность заработать – быстро записаться и быстро уйти.
У Юры я ощущал иное… Он относился к своей профессии очень серьезно.
* * *
– После выхода в эфир радиоспектакля «Жди меня» у нас с Юрой завязались дружеские, теплые взаимоотношения, – продолжает Эмиль Верник. – Мы часто перезванивались. Беседы наши проходили в основном в ночное время. Он звонил часов в одиннадцать – двенадцать. И всегда деликатно осведомлялся: «Эмиль Григорьевич, извините, можно? Не поздно?»
Богатырев был удивительно деликатным человеком. Интеллигент в высоком понимании этого слова. В одной из наших ночных бесед я предложил записывать «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Он с радостью согласился. И мы начали работать.
В фондах радио есть разные записи глав из «Двенадцати стульев», исполненные очень хорошими актерами. Но исполнение Богатыревым отличается неповторимой богатыревской манерой в раскрытии характеров героев произведения. Он обладал очень красивым, бархатным, «радийным» голосом. Его Остап был неповторим: авантюрист высочайшей марки, но… очень человечный, обаятельный.
В эфире «Двенадцать стульев» прошли с большим успехом. Много благодарных писем пришло к нам в редакцию. В них особо отмечалось чтение Юрия Богатырева.
* * *
Верник вспоминает, что заметные работы у Богатырева получились в двух спектаклях по произведениям Вениамина Каверина – «Открытая книга» и «Наука расставания». Там сложился великолепный тандем: Олег Ефремов – Юрий Богатырев.
– И опять с помощью только голоса Богатырев находил возможность раскрывать сложные характеры своих героев. Слушателя подкупала мягкая, интеллигентная, можно сказать, деликатная манера его исполнения. И в то же время он бывал чрезвычайно эмоциональным, темпераментным, просто взрывным, когда это требовалось по роли.
Я видел, что он работал много и очень успешно. Каждая его роль становилась событием. Не только в театре и кино, но и на радио. Юрочка раскрывался какими-то новыми, неожиданными гранями своего таланта. Радиосцена дарила ему возможность по-новому и как-то по-особому выразить себя только через голос.
Радиоискусство отличается от других видов искусства тем, что процесс работы происходит в более убыстренном темпе, отсутствует видеоряд, выразительным фактором является только голос – одним голосом артист передает целую гамму чувств. И голосовая палитра Богатырева была очень широкая. Стихи он читал, проникая в суть каждого поэта. Он был сдержан и в то же время очень наполнен – наполненно сдержан.
Верник вспоминает, как он приходил в студию, как сосредоточенно готовился:
– Он не распылялся, не растрачивал себя, как некоторые актеры. Помню его в коридоре Дома радиовещания и звукозаписи на улице Качалова сидящим на подоконнике с карандашом в руке, что-то внимательно штудирующим… Он иногда шутил, осторожно острил, кого-то чуть-чуть поддевал, но все это по-доброму, по-товарищески.
Во время работы он не любил распущенности, расхлябанности – всего, что мешало делу. В этом он был очень схож с Верой Петровной Марецкой, которая просила Ростислава Яновича Плятта, любившего пошутить и похохмить: «Слава, ты на радио ас. А я должна сосредоточиться. Не хохми».
И Богатырев, работая у микрофона, тоже любил по-настоящему сосредоточиваться, ни на что не отвлекаясь…
* * *
– Последние годы Юра погрузнел, располнел, – продолжает Верник. – На репетициях и записях буквально обливался потом. Он страдал, мучился – я чувствовал это, – но работал с полной отдачей. Помню, что он всегда звонил в Ленинград маме, чтобы она обязательно послушала ту или иную радиопередачу. Ее мнение для него было очень важно… А я познакомился с Татьяной Васильевной, когда Юры уже не стало, и передал ей кассеты с его голосом…
В 1984–1989 годах мы с ним часто встречались в радиопостановках, в чтецких работах. Он с радостью отзывался на любое мое предложение. К великому сожалению, на радио он сделал значительно меньше, чем мог. Задуманная запись «Золотого теленка» не состоялась.
…Я понимаю, что ушедшего из жизни в 1989 году Богатырева молодое поколение мало знает. Но очень хочется, чтобы его имя не было забыто. Он вошел в историю театрального, кино-, теле– и радиоискусства нашей страны.
…1 января 1989 года Юра позвонил мне, поздравил с Новым годом. Мы разговорились об отзывах на передачу «Двенадцать стульев», и я предложил ему продолжить наши встречи на улице Качалова, приступить к записям «Золотого теленка». Он был счастлив. И мы расстались на том, что в феврале начнем работать. Увы…
Глава 14. Психологический этюд
Тест на талант ■ Скорая психологическая помощь ■ Как получить квартиру ■ Письмо на съезд ■ Интроверт с психастенией ■ Кто полюбит жирную свинью? ■ Зачем нужны уши? ■ Сыр и курага ■ У кого поехала крыша ■ Призрак депрессии ■ Стул из реквизита ■ Халат им. Плюшкина ■ О чем говорит кавардак ■ Сам себе психолог ■ Доверяй, но проверяй ■ Опытным путем ■ По секрету всему свету ■ Семья не для него ■ Каждая – единственная ■ Поросенок в душе ■ Сила проклятья
Среди близких друзей артиста был и врач-психолог Сергей Трофимов (его, увы, недавно не стало). А познакомились они в 1976 году, когда Трофимов проходил специальные курсы в 12-й городской больнице.
– У меня была дипломная работа, посвященная определенным психологическим методикам тестирования, – вспоминает Сергей Владимирович. – Мне надо было подобрать несколько актеров для того, чтобы определить норму. Случайно выбор пал на Колю Еременко, Юру Богатырева и Олега Шкловского. Так мы и познакомились. Ну, а потом уже постепенно мы стали с Юрой Богатыревым близкими друзьями.
Сергей Трофимов стал личным психотерапевтом Богатырева.
– Насколько это было возможно, я помогал ему по-человечески и профессионально. Юра нуждался в психологической помощи. Тем паче что человек он был незаурядный. Он был очень легко раним, необыкновенно гостеприимен, радушен, щедр просто до беспредела. Все эти качества способствовали нашему сближению. Хотя мы встречались потом, после общей психологической работы, достаточно редко. Но общение было очень интересное.
Именно благодаря Трофимову у артиста появилась своя квартира на улице Гиляровского.
* * *
– Юра, будучи уже заслуженным артистом республики, жил в общежитии «Современника» напротив Кремля, – рассказывает Трофимов. – И как-то я, как бы шутя, пристыдил его. Как же так, заслуженный артист, а живет в таком помещении, это просто стыд и срам!
А Юра отвечал:
– Что же я могу поделать, если наше государство не заботится об артистах?
Трофимов тогда работал в поликлинике спецуправления, где лечились партийные и комсомольские работники. И там ему один опытный человек посоветовал: пусть Юрий напишет письмо на очередной съезд КПСС (шел как раз 1976 год).
– Я вам даю гарантию сто процентов, – сказал этот человек, – что Юра получит квартиру.
Трофимов говорит, какого труда ему стоило уговорить друга это сделать:
– И вот он под мою диктовку написал это письмо. И все время смеялся: «Неужели ты веришь в эту ерунду? В то, что это поможет?»
А результат? Через две недели он мне звонит и сам не свой кричит в трубку: «Ты знаешь, Серега, меня вызвали в Моссовет, пристыдили, что я их раньше в известность не поставил, и мне дали квартиру!»
Это было по тем временам, конечно, чудо. Он получил очень хорошую однокомнатную квартиру на улице Гиляровского. И там провел основной период своей жизни.
Я понимаю, что помог не я, а скорее Всевышний. Это было дело случая. Помогло то, что это письмо пошло не общей почтой, а его персонально передали в секретариат. Вот в этом, может быть, и моя заслуга какая-то есть. А там уже наложили резолюцию. А тогда все наши резолюции, тем более съезда КПСС, принимались как обязательные к исполнению.
* * *
Трофимов, как опытный психотерапевт, уже тогда разглядел особенности личности друга.
– Без сомнения, он был интроверт, – говорит Сергей Владимирович. – Но с долей определенной психастении. Он был склонен к сомнениям, к самобичеванию, особенно если в его жизни что-то не получалось. Невероятная ранимость. Причем он всегда искал подтверждения правильности своих выводов, умозаключений в отношении и ролей, и людей. Помню, он часто, бывало, звонил Никите Михалкову и просил его подтверждения, что он одаренный актер.
На это я ему говорил:
– Юр, глупо спрашивать об этом, если ты принят везде.
– Нет, мне нужно подтверждение, чтобы он сказал. Я все-таки сомневаюсь. Может быть, просто вы мои друзья, поэтому вы мне льстите, а сам я ничего не стою…
Еще пример.
Мы идем по улице. Он вдруг:
– Как ты думаешь, меня узнают или нет?
– Юр, ну конечно узнают.
– Нет, ты знаешь, по-моему, я так изменился, превратился в такую жирную свинью, которую никто уже не узнает.
Но тем не менее его, конечно, узнавали. И он тогда был не просто рад, а счастлив. Ему, как артисту, нужно было внимание.
* * *
Трофимов уверен, что у них произошло, так сказать, взаимное проникновение душ:
– Я проник в его душу, он проник в мою. Мы почувствовали, что в какие-то периоды времени мы можем действовать друг на друга. И когда случалась какая-то острая ситуация, мы созванивались и встречались. Если он был, конечно, свободен.
Юре были нужны уши, которые бы его не критиковали. Принимали таким, каков он есть. Слабым. Слезливым. Без мишуры. Он ждал успокоения. Чтобы кто-то ему сказал: ну что ты, мой дорогой, всякое в жизни бывает, да брось ты, ложись спать, завтра мы с тобой разберемся. И ему этого было достаточно, что его воспринимают не как знаменитость, а как обычного, простого человека. Это же очень ценно, когда нас воспринимают так, как мы есть на самом деле.
* * *
Кстати, психолог считает, что переживал Богатырев из-за своей фигуры зря.
– Все было в его руках. И жизнь это подтверждала. До «Обломова», в котором он сыграл Штольца, он был достаточно полным человеком. Но когда ему поставили условие, что он должен похудеть, Юра изменил свой рацион питания. Помню, при его радушном гостеприимстве у него в доме тогда был только сыр и курага, больше ничего.
– Юра, что такое?
– Мне так нужно питаться.
И он действительно похудел, стал совершенно другим человеком. Но потом все вернулось на круги своя. Он снова пополнел. И конечно, переживал. Но у него уже не было цели в жизни…
* * *
Психолог отмечает своеобразное чувство юмора друга.
– Такое, знаете, с долей сарказма. Вот мы с женой, например, недавно, перебирая вещи дома, нашли двусторонний деревянный гребень, который был подарен ей Юрой на 8 Марта. У нее день рождения 8 марта. И Юра зашел и подарил ей этот гребень. На нем написано поздравление и – приписка: «Не бей мужа!»
Иногда он внезапно звонил: «Это психиатр Трофимов? Вам звонит Юрий Георгиевич Богатырев. Будьте любезны, сможете ли вы меня проконсультировать? У меня крыша поехала». Ну, конечно, выяснялось, как она поехала, и я собирался к нему… Такие эпизоды были достаточно часты. Причем мы могли полгода или год не общаться. Потом вдруг такой звонок. Я собирался и ехал.
И мне тогда было ужасно стыдно, что я забыл о своем одиноком друге. Но он вспоминал обо мне только в те редкие часы, когда был один. Но я не могу сказать, что это была депрессия. Это был, скорее всего, вынужденный отдых от всей суеты, в которой он пребывал.
* * *
Он убежден, что «классические депрессии» его друга настигали редко:
– Считанные разы за шестнадцать лет общения. Но склонность к депрессии у него постоянно присутствовала. То есть, если малейшая какая-то неудача или малейший какой-то конфликт, он сразу впадал в уныние, как ребенок. И его, как ребенка, погладишь, подскажешь ему, он успокоится. И всё, уже радостный. Не я, так кто-то другой. У Юры были такие запасные варианты – Андрей Мартынов, Елена Соловей, Никита Михалков.
* * *
По каким-то бытовым мелочам врач видел, в каком состоянии его друг:
– В общежитии у него была просторная комната, в центре которой стоял большой стол. Под потолком висела огромная старинная лампа. Старинные стулья. Как я потом понял, все это была мебель из театрального реквизита. Дома он ходил в удобном махровом, с дырами, халате. Ну, как у Плюшкина, наверное. Когда он одевал этот халат, у него сразу становилось другое состояние. Он сидел вальяжно так в кресле.
Трофимов понимал:
– Если в доме все вылизано, все чисто, значит, Юра в отличном психологическом состоянии. Если все валяется в беспорядке, значит, у Юры легкая депрессия, значит, что-то не получилось, нужно вмешиваться уже. И я уже как специалист входил в эту ситуацию.
* * *
Психолог консультировал его и по проблемам здоровья.
– Юра очень не любил болеть. И если перед ним маячил вариант больницы, какого-то лечения, он спрашивал совета, стоит это делать или нет. Если он получал подтверждение, что это нужно и несложно, то с удовольствием ложился.
Ему важно было в любом деле подготовиться к этапу, проиграть в уме варианты. И тогда уже этот черт, которого он ожидал, становился не таким страшным, как его малюют. То есть он как бы планировал запасные ходы. Собственно говоря, он был с этой точки зрения уникальным психологом для самого себя. Но, будучи мнительным, он нуждался в подтверждении своих мыслей.
* * *
Как известно, в квартире артиста на улице Гиляровского почти не закрывалась дверь от гостей. Как психолог Трофимов видел в этом определенные проблемы.
– Я думаю, что это компенсация определенного рода. Он как бы через этих людей старался все-таки от своей интровертности уйти.
По-моему, основная проблема Юры как личности была склонность к сомнениям. Он очень много сомневался. Думаю, что в этом есть и свой плюс. Задавая себе вопрос, так это или не так, человек еще больше оттачивает свое мастерство, еще больше добивается чего-то. А Юра еще был очень восприимчив к советам, хотя и очень творчески подходил к своей актерской работе. Он создавал совершенно разные образы. А это очень сложно.
Я видел многие его спектакли, начиная от «Двенадцатой ночи» в «Современнике» до «Тартюфа» во МХАТе. И многие его фильмы. И Юра был одинаково хорош как на сцене, так и на экране. И как художник, кстати. Он меня тоже рисовал. Причем он ценил себя, знал, что рисует хорошо.
* * *
– Обладая достаточно широкой душой, он был лишен, думаю, чувства зависти, подозрительности, даже осторожности. Он не верил, что люди могут сделать что-то плохое в отношении его. Поэтому он, может быть, был излишне откровенен со всеми окружающими людьми. Очень доверчив. Всегда в человеке старался увидеть хорошее. Не хочу никого осуждать, но зачастую рядом с ним оказывались люди недостойные. Те, кто пользовался им. Такие вампиры, кровососы. Но, слава богу, их было немного.
Трофимов задумывается.
– Это сложно объяснить… Но, думаю, позже он бы свои взгляды пересмотрел. И тогда его окружение оказалось бы более избранным. А в тридцать лет часто окружаешь себя людьми недостойными. Вероятно, жизни нужно, чтобы человек прошел все этапы своего общения. Чтобы научился различать свет и тени. Плохо, конечно, что мы учимся на своем собственном опыте.
* * *
Иногда в наших беседах всплывали интимные факты его личной жизни. Ему просто нужны были уши, чтобы вылить свои переживания. Случались и слезы, и раскаяние, и самобичевание… Ну, обычная такая человеческая слабость, наверное. Кстати, я не припомню ни одной его роли как слабого человека. А в жизни он был как раз таким. И я не могу сказать, что это плохо. Может быть, благодаря тому, что он был таким чувствительным, он и стал замечательным артистом.
Но то, что он изливал мне душу, вовсе не значило, что он просил помощи. Он обращался за помощью только исключительно в житейских ситуациях. Я видел, что он не приспособлен для обычной, бытовой жизни. И к сожалению, рядом не было человека, который бы ему этот быт наладил. Дома он всё делал сам. Был удивительно аккуратным человеком. У него всё стояло на своих местах. К тому же он хорошо готовил. Вот этим, видимо, и объяснялась его полнота.
* * *
Семья? Он был слишком рационален для этого. К идее семьи относился отрицательно.
Он считал, что в семье есть не только плюсы, но и минусы. Говорил, что у него на семью времени нет. При этом очень любил детей, нянькался с ними. Кажется, у его сестры Риты был ребенок, и он удивительно нежно к этому ребенку относился. Как и к детям своих друзей.
Я не могу сказать, что ему не хотелось иметь своих детей. Может, и хотелось бы. Но он рационально думал, что не вытянет это. Что это будет ему мешать. Вот дружба – это другое.
* * *
Были у него свои кумиры. По словам Трофимова, он очень уважал Фаину Раневскую. А та – его.
– Она Юру просто боготворила. Писала ему новогодние открытки и сама (!) приносила их на проходную во МХАТ. Меня так это тронуло. Но Юра никогда об этих отношениях не говорил. Считал их личными. Даже я, будучи близким человеком, об этом узнал совершенно случайно.
У них было немало общего, – считал Трофимов. – Она всю жизнь была популярнейшей из актрис, и при этом самой одинокой женщиной по жизни. И он – тоже. Похожая ситуация. Похожее самоощущение у него и у нее. Хотя женщин вокруг у него хватало, как в отношении любого популярного актера. Но мне тогда казалось, что многие женщины общаются с ним, чтобы как бы поднять свою самооценку. А он вел себя так, что каждая думала, что она единственная. Это была уже особенность его как личности. Он не хотел никого обижать. Показывал, что обожает и любит всецело. Хотя я чувствовал, что это просто очень хорошая актерская игра.
Он мог быть джентльменом необыкновенным, мог упасть на колени, поцеловать ей руку, посмотреть в глаза, сделать комплимент… Хотя ему это было все равно. Потому что витал всегда в своих мыслях, в своих переживаниях. Но нужно было как-то изображать. Как Фаина Георгиевна говорила, что имитирует здоровье. А Юра имитировал светского человека. Хотя это было ему и не очень нужно.
* * *
Рисовать – это была потребность. А не мода. Не в угоду кому-то. Просто ему было важно запечатлеть состояние своей души. Вот, например, для того, чтобы он нарисовал мой портрет, мне нужно было положить его в больницу. Он лежал там и вспоминал, что вот такой Трофимов, негодяй, упек его сюда. И нарисовал меня.
На его ироничном портрете в розовом цвете я получился со здоровым носом, тонкой шеей. С усами, с голубыми глазами. Очень похожий. По сути – шарж. Такая у него манера. Но это произведение искусства.
Когда я это увидел первый раз, мне очень не понравилось. «Ой, какой ужас, говорю, это не портрет, это какой ужас вообще». А потом понял, что это был я, к сожалению, такой розовый поросенок. И портрет мне потом нравился больше и больше.
* * *
В конце нашего разговора Сергей Трофимов поведал мне то, что его мучило годами. Это имело отношение к одному из приятелей Юрия – так называемому Саше-бармену. Сергей его… проклял.
– Я узнал, как тот недостойно себя повел той ночью: при остывающем уже теле Юры начал складывать в сумку его вещи – одежду, одеколоны. Тогда на него набросился с кулаками Андрей Мартынов. Затем тот Саша появился на похоронах в Юрином плаще…
И тут уже взорвался Трофимов. И все высказал. И проклял. А спустя месяц… Саша повесился…
– У меня до сих пор есть чувство вины, – говорил мне Трофимов. – Я понимаю, что это самовнушение просто ужасное. Но это мне не дает покоя, хотя я этот грех уже отмолил как православный человек.
Глава 15. Мятежник в Камергерском
Развод с «Современником» ■ «Сниматься, сниматься, сниматься!» ■ Остатки – сладки ■ Комиссар из квартиры Инессы Арманд ■ Жизнь – копейка? ■ Прогон или загон? ■ «Я хочу это играть!» ■ «Знакомьтесь: Фурманов!» ■ С днем рождения, артист! ■ Мятежный дух ■ Как репетировать Толстого? ■ Уникальная универсальность
Напомню: «роман» с «Современником» у Богатырева заканчивается весной 1977 года. 18 мая 1977 года на стол Галины Волчек ложится заявление актера об уходе по собственному желанию. По сути, в никуда.
Но не зря в анкете, которую он будет чуть позже заполнять при поступлении во МХАТ, в графе «Место работы» Богатырев четко выведет: «1977 год – „Ленфильм“, киноактер».
И кино артист отдается со всем пылом. К этому времени относятся пять его больших работ в кино и на телевидении – Войницев в «Неоконченной пьесе для механического пианино», Ромашов в «Двух капитанах», Филиппок в «Объяснении в любви», Марк в телеверсии «Вечно живых»…
Но театру он был нужен. И театр его нашел. И какой! МХАТ им. Чехова! Приход Богатырева во МХАТ стал триумфальным.
* * *
– Работа над спектаклем по повести Дмитрия Фурманова «Мятеж» началась с того, что мы с соавтором и другом Иваном Менджерицким уехали в Киев и там засели за письменный стол, – вспоминает постановщик спектакля, актер и режиссер, народный артист России Всеволод Шиловский. – Сложность заключалась в том, что нужно было писать под конкретных артистов. А в то время во МХАТе готовился спектакль по пьесе Александра Гельмана «Обратная связь». И Олег Ефремов уже распределил артистов в основном туда.
Я же понимал, что спектакль на революционную тему могут вытянуть именно актеры. Причем те, которых я хорошо знал и в которых был уверен. Мои друзья – Юрий Пузырев, Владимир Кашпур, Виктор Петров, Виктор Новосельский.
А вот самого Фурманова не было. Так получилось, что артист, на которого я рассчитывал, не смог участвовать в этой постановке. Я начал лихорадочно искать – и среди мхатовцев, и среди артистов других театров. Но безуспешно.
И вдруг тогдашний замдиректора МХАТа Леонид Иосифович Эрман говорит мне:
– Всеволод Николаевич! Вы знаете, есть один артист, причем свободный. Не работает сейчас нигде, не надо переманивать, – это Юрий Богатырев. Мне кажется, что он вам подойдет.
Я не был знаком с Богатыревым и совершенно не представлял себе его даже внешне. Так случилось, что еще не видел фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Леонид Иосифович взялся нас познакомить.
И вот раздается звонок.
– Всеволод Николаевич? Это Юра Богатырев.
– Юра! Как ваше отчество?
– Георгиевич.
– Юрий Георгиевич! Где мы с вами можем встретиться?
– Я живу недалеко от МХАТа, на Манежной улице. Вы можете ко мне подъехать?
И я пришел к нему. Встретил меня очаровательный светловолосый худощавый молодой человек, ввел меня в комнату-пенал, увешанную удивительными картинами. Я словно попал в другой мир…
И начался долгий разговор.
– Юрий Георгиевич! Присядьте! Сейчас я произнесу монолог, а дальше вы уж решайте сами…
И я произнес речь – нарисовал ему то, что совершенно не относилось к фурмановскому «Мятежу», а относилось ко мне и к моей жизни. Я поделился своими соображениями по поводу тех событий. Потому что просто «в лоб» ставить Фурманова казалось мне тогда чудовищным и безнравственным. Я знал тогда уже подоплеку истории этого мятежа. Там ведь большевиками было расстреляно пять тысяч человек – не виноватых ни в чем. Просто они сражались за советскую власть в Семиречье, и вдруг их вызывают на польский фронт. Они отказались: «Почему нас? Там своих нет?»
Я очень хорошо изучил материал, разговаривал со специалистами, очевидцами событий. Дело ведь не в комиссаре, а в стоимости человеческой жизни. Тенденция там была страшная. Девяносто процентов людей должны погибнуть во имя революции, а десять – получить достойную жизнь. Жизнь не стоила ни копейки…
Поэтому «революционный» пафос я скорректировал. Попытался выделить главное – ценность человеческой жизни.
Юра выслушал и говорит:
– Я не вижу там для себя роли.
– Юрочка! Давайте сделаем так. Я соберу весь спектакль и прогоню его… Вы посмотрите и тогда решите.
Он согласился.
* * *
Но как можно репетировать без главного героя? И я попросил одного хорошего артиста помочь мне соединить постановочно весь спектакль. Я попросил, чтобы он просто репетировал эту роль Фурманова. И он, как настоящий друг, согласился и очень помог.
В спектакле были мощные постановочные решения, хороший художник, замечательный композитор… В общем, все получилось прекрасно, на очень высоком уровне, особенно колоссальная народная сцена, которой заканчивался спектакль. В этой сцене участвовали практически все студенты Школы-студии МХАТа плюс еще две трети труппы Художественного театра. Громадные людские резервы были заняты.
* * *
И вот назначен прогон всего спектакля. Я позвонил Юре, пригласил. Он пришел и сел в зале… Закончился прогон. Я всех поблагодарил:
– Спасибо, вы свободны до следующего сезона… – и подчеркнул: – Сезон начнется с прогона.
Не все придали значение этим моим словам – ведь нет центровика, какой еще прогон? И в таком расслабленном состоянии все актеры разошлись.
Спускается Юра… Я вижу, что глаза у него стали просто громадными… Пунцовые щеки… Весь возбужден донельзя:
– Я хочу сыграть эту роль! Я ее вижу!
И началась наша безумная работа над спектаклем – у него дома, в домашних условиях. У нас было репетиций двенадцать – в основном ставили рисунок роли, еще без движения…
Можно ли в таких условиях «сделать» роль?
Наверное, нельзя, если не знать, что он – вахтанговец. А вахтанговская школа – это в идеале синтез глубочайшего содержания и феноменальной формы. То есть Вахтангов, в принципе, пошел еще дальше Художественного театра.
И Юрочка обладал этими качествами. «Вполноги» он ничего не умел делать вообще. Если рисовал – жил этим. Если снимался – жил этим. Если репетировал – жил этим. Он не мог работать, просто обозначая существование.
* * *
И вот начался сезон. Традиционный сбор труппы на центральной сцене. А в фойе висит объявление: «В двенадцать часов – прогон «Мятежа» в филиале».
Ко мне подходят взволнованные артисты:
– Всеволод Николаевич! Это что, серьезно, после сбора труппы – прогон «Мятежа»?
Никто не верит…
И мы все идем в филиал. Собирается целый партер… Все артисты сидят озадаченные… Юра скрывается в задних рядах…
Я говорю:
– Дорогие мои! Мы делаем сегодня полный прогон с новым героем нашего спектакля, который будет исполнять роль Фурманова, – с Юрием Георгиевичем Богатыревым. Юрий Георгиевич, подойдите сюда!
И он идет через весь партер, подходит ко мне и кланяется залу…
Все замолчали и стали очень внимательно его разглядывать. Весь партер заполнен… Я прервал паузу:
– Вот Юрий Георгиевич Богатырев… Знакомьтесь… А сейчас все, пожалуйста, переодевайтесь – идет полный прогон!
У всех, естественно, был шок: как это? Они же вообще не репетировали с ним!
И тогда все увидели, что может настоящий артист, когда он готов, когда он действительно талантлив…
Когда закончился первый акт – он стоял, опустив голову, большой, худой, красивый (он тогда был непьющий, некурящий, вегетарианец). Затем подошел ко мне:
– Ну что?
– Юра, потом поговорим. Готовимся ко второму акту. Пятнадцать минут перерыва.
А во втором акте – шумная, громадная сцена со стоп-кадром идет двадцать пять минут. И сцену ведет он один – это неимоверная нагрузка. Смысл этой сцены в том, чтобы зритель поверил: Фурманов – угол этого образовавшегося человеческого треугольника, он способен повернуть его в другую сторону… И это действительно произошло.
Юра играл человека невероятной чистоты, который может повести за собой людей, – настоящего вождя с харизмой, о котором люди мечтали. И зрители поверили, что он смог не просто повернуть эту десятитысячную массу в другую сторону, но и сделать каждого из них индивидуальностью.
В финале он говорил:
– Коммунисты, шаг вперед!
И вся эта человеческая махина делала шаг вперед.
И зал замирал.
А тогда раздались не просто аплодисменты, а шквал аплодисментов, настоящая овация.
Я спустился в зал, повторив почти фразу моего учителя Виктора Яковлевича Станицына:
– Я могу сегодня поздравить Художественный театр с рождением нового большого артиста – Юрия Георгиевича Богатырева.
* * *
Шиловский вспоминает:
– Резонанс у «Мятежа» был мощнейший. Спектакль шел на аншлагах. Причем это не были зрители какой-то одной определенной возрастной категории. В зале были и пожилые зрители, и люди среднего возраста, и молодежь… И ни одного спектакля Юра не сыграл вполсилы. Только на сто пятьдесят процентов!
Особенно уникальный успех был у нас в Алма-Ате – в тех местах, где происходили события повести. Там мы испытали просто триумф.
«Мятеж», к счастью, снят на пленку. Я это сделал сам – все свои спектакли я снимал сам. И иногда его показывают по телевидению. Но редко, сейчас это не приносит доходов.
А когда я встречаюсь с бывшими мхатовскими студентами, которые сегодня стали известными мастерами – Юрой Морозом, Сашей Балуевым, Сережей Гармашом, – то слышу:
– Всеволод Николаевич, мы, «мятежники»…
Они прошли через этот спектакль. И запомнили этот опыт на всю жизнь…
* * *
А потом у нас с Юрой случилась еще одна интересная работа: «Тихо! Репетируем Толстого!» – феноменально искренний спектакль про нашу актерскую жизнь. Наверное, поэтому Министерство культуры СССР и ЦК КПСС посчитали, что это очень негативное восприятие действительности. Спектакль запретили. Мы его так ни разу и не показали на мхатовской сцене. А между тем там сыграл свою последнюю роль Анатолий Петрович Кторов… А Юрочка Богатырев играл там режиссера.
Но! Как-то был мой творческий вечер в Доме актера. Я вышел на сцену и «схулиганил» – взял и объявил:
– Вы сейчас увидите сцену из неосуществленного спектакля «Тихо! Репетируем Толстого!». Роли исполняют: Анастасия Зуева, Анатолий Кторов, Юрий Богатырев…
Кторов заохал:
– Севочка, что это такое? Я не пойду.
Он тогда уже плохо себя чувствовал. Я обращаюсь к Юре:
– Юрочка, ты можешь сесть на авансцену и выложить ему первую фразу?
А у Богатырева феноменальная память.
И вот он вышел на сцену… Тишина… И вот – шу-у-у-у-у – пошла первая фраза… И Кторов всколыхнулся… Все замечательно сыграли – был очень большой успех.
* * *
Шиловский продолжает:
– Мы с Юрой просто дружили. Он мне очень часто звонил. В принципе, он был очень одинок… Но художник интересен своим творчеством, а не личной жизнью. Ведь после себя он оставляет произведения.
Юра на сцене был чистейший, мощнейший художник с громадным диапазоном…
Сейчас даже боюсь сравнить его с кем-нибудь. Он мог сделать рывок в героику, в романтизм – и тут же сыграть что-то острохарактерное. Так было и в театре, и в кинематографе, и в художественном творчестве. Так было и в сказках для детей – чем он занимался в последнее время на телевидении. Это были очаровательные задумки. И везде он выкладывался до предела.
Последние годы ему во МХАТе очень везло в смысле творчества – было много работы. Я бы даже сказал, был некоторый перебор… Главное – он никогда ни от чего не отказывался, не умел этого делать. Он работал просто на износ.
И при этом был всегда недоволен собой. А когда его хвалили прямо в лицо – он опускал глаза, начинал сопеть, и чувствовалось, что ему неудобно. Требовательность к себе у него была невероятная. Ничего вполсилы…
* * *
Что такое настоящий артист? Тот, который может все и везде. Юра работал на телевидении – с полной отдачей. В кино с его крупными планами – замечательно чувствовал камеру. В театре на тысячу двести человек – виртуозно владел залом, заполняя собой все это огромное пространство.
Он был уникально универсальный артист.
И при этом он был абсолютно не приспособлен в бытовом плане. Он не мог ничего достать, пробить, что было немаловажно в те времена. Он никогда не пользовался своим именем. Не торговал лицом.
Юра стал народным артистом России в сорок один год, не ударив для этого палец о палец. Все делалось как бы само собой – просто потому, что нельзя уже было ему не быть «народным». Он столько выдавал на-гора, что людям становилось просто стыдно…
Что еще интересно – он совсем не умел бунтовать.
Он ни о ком не говорил плохо. «Ты негодяй!» – этих слов никогда нельзя было услышать от него. Вообще, он не был способен «заклеймить» оскорбительным словом кого-то конкретно. Но мог, как романтик, возмущаться несправедливостью. Это был большой ребенок…
Когда Бог забирает к себе такого человека в сорок два года – это горько. Ведь аналогов Богатыреву пока нет. Хоть и говорят, что незаменимых нет, – но есть неповторимые.
А Богатырев, ушедший в расцвете сил, – неповторим. Он – мощнейшая страница нашего искусства. И сейчас он работал бы очень много. И в кино, и на телевидении, и в театре. Этот человек имел фантастическую ауру, которая притягивала всех, самых разных людей – и плохих, и хороших… Он непременно был бы востребован и сейчас. Не мог не быть…
Глава 16. Народный или инородный?
Неистовый Клеант ■ Зависть коллег ■ Красавица Настя ■ Муза Ия ■ «Кто меня защитит?» ■ Губит людей не пиво… ■ Ночное рандеву ■ «Все мое – твое!» ■ Рассадник народных ■ Гражданский темперамент ■ Более чем достоин ■ Пора в народные!
Но судьба во МХАТе сложилась у него не очень блестяще. После достаточно «проходных» ролей в 1981 году артист получает роль Клеанта в постановке Анатолия Эфроса «Тартюф». Обычно этого резонера считали личностью тусклой и серой, в отличие от главных героев мольеровского шедевра.
А Богатырев сделал так, что о Клеанте заговорила вся театральная Москва…
Многие из его друзей и коллег до сих пор убеждены, что это была его лучшая роль на сцене.
– В «Тартюфе» он с дикой пулеметной скоростью произносил две страницы текста, причем без всякого смысла, – вспоминает Александр Адабашьян. – Это было невероятно смешно. Безумный неистовый словесный вулкан стал высшим пилотажем – открытием…
– Его игра – это было что-то невообразимое, – добавляет Нелли Игнатьева. – Роль-то никакая! Другое дело – Тартюф. И того зачастую играют плохо… А тут – Клеант! Ну что там можно было сыграть? А он играл так, что, как ни обидно звучит для партнеров, забивал главных героев. Люди ходили на этот спектакль посмотреть не столько на Тартюфа – Любшина или Оргона – Калягина, сколько на Клеанта – Богатырева.
* * *
Двенадцать лет работы во МХАТе принесли артисту и радостные, и горькие минуты. Да, он стал мастером со своей собственной системой взглядов на искусство. Но такой стремительный профессиональный взлет не мог остаться незамеченным внутри коллектива. Увы, далеко не все коллеги здоровались с Юрием в коридорах театра…
– Грустно, но у него было достаточно завистников, – вздыхает Нелли Игнатьева. – Ему безумно завидовали менее успешные коллеги. Завидовали и тому, что у него столько ролей, и тому, что он неплохо зарабатывал: ведь Юра много снимался. Завидовали, занимали деньги и не отдавали долги. Завидовали его внешне железному здоровью. Завидовали даже тому, что он одинок, а они связаны женами и детьми, которые постоянно что-то требуют. А Юра как бы никому ничего не должен…
Игнатьева уверена, что ее друг был совсем не так уж счастлив:
– Он безумно страдал – и от этого, и от многого другого. Но сам Юра никогда ни о ком не говорил плохо. Никогда! У него все были хорошие! Он всех любил! «Настя Вертинская? Она такая красавица! такая хорошая! У нее такой хороший сын! Я мечтал бы иметь такого сына, как Степа!», «Ия Саввина? Это моя муза».
* * *
Помню, когда они вместе с Саввиной снялись в одном фильме, мне бросилась в глаза их большая разница в возрасте. И я как-то ему говорю:
– Юр, вы там играете мужа и жену, но у вас такая заметная разница в возрасте…
Он так серьезно на меня посмотрел и довольно жестко сказал:
– Знаешь что, птичка, я тебя прошу впредь никогда больше плохо о моих друзьях не отзываться.
– А что я плохого сказала? Что она старше тебя? Это же правда.
– Нет! Я ее обожаю. Это моя муза…
* * *
– В театре у него особых заступников не было, – замечает Нелли Игнатьева. – Может, поэтому во мне как в друге детства он видел чуть ли не маму. Может, поэтому часто меня умолял: «Неличка, пожалуйста, иди работать к нам в театр». Он хотел, чтобы я пришла во МХАТ на какую-то административную работу именно для того, чтобы его там защитить. У меня действительно неплохие продюсерские способности. И я действительно за него могла бы постоять. За себя – нет.
Но в театр я, конечно, не пошла: у меня была своя интересная работа. И потом… Я знала, что там тоже не все просто. Работники прославленного коллектива были подвержены известным человеческим слабостям…
Юра первое время просто приходил в ужас от того, с чем столкнулся в МХАТе. Он даже иногда просто рыдал в телефонную трубку: «Я не могу! Я не вынесу!»
Например, он не мог выносить алкоголь в таком количестве. А среди мхатовцев, увы, пьянство доходило до того, что считалось, что не пить нельзя: «Кто не пьет – тот продаст».
Напомню, что тогда водку ночью продавали по бешеным ценам. Иногда спившиеся актеры, у которых не было денег на водку, ночью ловили таксистов с водкой и на этом же такси приезжали к Юре с бутылкой! И Юра шел расплачиваться и за такси, и за водку! И потом вместе с ним начинали пить…
А потом он приходил ко мне и плакал, рассказывая это:
– Представляешь, вчера ко мне приехал М. с другом. Я уже сплю – три часа ночи. Они ввалились пьяные. Я должен был встать, идти оплачивать их такси и водку, готовить закуску. И потом еще с ними сидеть и пьяные их бредни выслушивать.
Он робел сказать: «Нет! Не хочу! Пошли вы… Какое имеете право?»
Выгнать человека он не мог никогда. А бессовестные люди этим пользовались. И спаивали его. Он ведь и так был добрым человеком. А пьяным – до безрассудства. Широко открывал шкаф и отдавал деньги, какие были, дарил свои вещи, одежду. Просто раздаривал – и многие этим пользовались…
* * *
Интересно было его отношение к официальным званиям. Он не искал их – они его находили. Так, заслуженным артистом РСФСР актер стал еще в 1981 году. Во МХАТе, «рассаднике народных», где чрезвычайно сильна служебная иерархия, он и не думал хлопотать о том, чтобы подняться на одну ступеньку выше. Полагал, что все должно получаться само собой.
Так и вышло. Правда, не сразу. Лишь спустя семь лет руководство театра предприняло некоторые шаги. В личном деле артиста, которое ныне хранится в Музее МХАТа имени А. П. Чехова, аккуратно подшито несколько страничек за подписью административного, художественного, партийного и профсоюзного руководства театра. Это ходатайство тогдашнему министру культуры СССР В. Т. Захарову о присвоении Юрию Богатыреву звания народного артиста РСФСР.
Вот какие слова поддержки нашлись у директора МХАТа В. Анурова, художественного руководителя О. Ефремова, секретаря парткома МХАТа А. Степановой и председателя профкома театра А. Борзунова:
«Первая же роль Богатырева Ю. Г. в Художественном театре – Фурманов в спектакле «Мятеж» – принесла артисту заслуженный успех. Артист интересной творческой индивидуальности, обладающий благодарными сценическими данными, Богатырев Ю. Г. в равной мере владеет драматическими и комедийными красками, точно чувствует авторскую интонацию, ему присущи гражданский темперамент и глубокое, вдумчивое отношение к драматическому материалу. Все эти высокие актерские качества позволили Богатыреву Ю. Г. за десять лет работы на мхатовской сцене создать целый ряд значительных образов в ролях современного и классического репертуара. Это трагический характер Алексея Турбина в спектакле «Дни Турбиных», мудрый и обаятельный Илья Николаевич Ульянов в спектакле «Путь», неутомимый в своем пустословии Клеант в спектакле «Тартюф» и суховато-сдержанный Виктор Каренин в спектакле «Живой труп», талантливый, но безвольный Тригорин в «Чайке», новоявленный мещанин от интеллигенции Петр Полуорлов в «Старом Новом годе», одержимый до самозабвения учитель Киро в «Попытке полета», туповатый и педантичный Хеммерлинг в «Юристах» и другие.
Наряду с театральной деятельностью Богатырев Ю. Г., начиная с 1970 года, много и успешно снимается в кино и на телевидении, его имя сегодня хорошо известно широкому советскому зрителю по его своеобразному и многообещающему таланту, открывшемуся в его героях сорока кино– и телефильмов.
Богатырев Ю. Г. – постоянный участник общественной деятельности коллектива. Он часто и охотно встречается со зрителями, выезжает на предприятия, в молодежные аудитории. Неоднократно участвовал в шефских бригадах по обслуживанию воинов Советской Армии. За заслуги в области советского киноискусства Богатыреву Ю. Г. были присвоены почетное звание заслуженного артиста РСФСР (1981 г.), звание лауреата премии Ленинского комсомола (1979 г.)»[3].
Эти слова, а главное – дела артиста убедили высокое начальство. И 24 марта 1988 года «Ведомости Верховного Совета РСФСР» № 12 (1534) печатают указ № 356 о присвоении Богатыреву звания народного артиста РСФСР. Отныне в театральной программке перед его фамилией будут стоять заветные буквы – н. а. РСФСР.
Глава 17. Я вас пишу – чего же боле?
Особый реализм ■ Добрые шаржи ■ «Потом будет похоже!» ■ «Ранний Богатырев» ■ «Неужели это я?» ■ Маргарита без Мастера ■ Кого вызывает Таймыр ■ «Ваши пальцы пахнут ладаном!» ■ Роковая встреча ■ Товарищ заяц! ■ Тореро на проволоке ■ «Лучшая натура – в цирке!» ■ Ноги на фоне дачи ■ От Протасова до Тартюфа ■ Вылитый Филиппок ■ Пропавшие картины
Если сегодня многие артисты (Алла Демидова, Станислав Говорухин, Лев Прыгунов и др.) рисуют в свободное от спектаклей и съемок время, то в 80-х годах артист-художник был явлением неординарным. Тем более если он не следовал законам пресловутого социалистического реализма.
«Для меня рисование – средство выразить свое отношение к тому или иному человеку, персонажу, литературному произведению, показать, как я его воспринимаю, чувствую, – говорил Юрий Богатырев в одном из интервью. – Я никогда не пишу больших холстов, маслом, мои инструменты – коробка акварели, белила, гуашь и лист небольшого формата, и этого мне вполне хватает… Я люблю рисовать тех, кто рядом со мной, с кем работаю в кино, театре…
Да на меня и не обижаются обычно: мои шаржи не злые, я никогда не рисую человека, который мне несимпатичен, я делаю шаржи на людей, к которым хорошо отношусь, интересных мне по человеческим, творческим качествам. Рисуя, пытаюсь проникнуть в их суть… Я часто утрирую, но всегда рисую реалистично. И вообще я сторонник в живописи реалистического направления, ведь я актер, а это искусство настолько конкретно, реально…»[4]
* * *
Портреты Богатырева некоторые принимали за шаржи. Их осталось великое множество. Некоторые из них, как хорошее вино, «доходили» десятилетия.
Удивительная история случилась одновременно с двумя портретами, написанными Богатыревым в самом начале его артистической карьеры. Это изображения Сергея Никоненко и Иосифа Райхельгауза.
Во время подготовки к съемкам картины Никиты Михалкова «Спокойный день в конце войны», в которой участвовал и Никоненко, он и познакомился с Юрием Богатыревым. Богатырев снимался там один-единственный день. По роли он спрашивал Никоненко: «Кто там? Ку-ку!» И получал от него пулю в лоб.
Тем не менее после своей сцены артист не уехал, а остался и внимательно смотрел, как работают другие. Они с Никоненко подружились. И потом он написал его портрет. Посмотрев его, озадаченный Сергей Никоненко сказал:
– Юра! Чего-то не очень похож-то!
На что тот ответил:
– Знаешь, наверное, потом будешь похож.
И спустя много лет Никоненко встретил эту же фразу, читая о Микеланджело. Мастер как-то написал одного епископа. Тот также засомневался в «похожести». Микеланджело его успокоил: «Ничего, через сто лет будет похож»…
После этого Никоненко призадумался, почему Богатырев написал его именно таким. Ведь спустя годы портрет действительно стал больше похож на оригинал. И теперь артист очень дорожит им: «Это ведь „ранний Богатырев“!»
* * *
Портрет Иосифа Райхельгауза кисти Богатырева нынче хранится в Бахрушинском музее.
– Этот портрет мне очень нравится, – говорил мне Иосиф Райхельгауз. – Нам было тогда лет по двадцать пять. Но почему-то Юра, тогда глядя на меня, нарисовал меня пожилым человеком. И я все смотрел на этот портрет и думал: неужели я когда-нибудь буду так выглядеть?
И вот прошло двадцать пять лет… И я «перерос» портрет. Что интересно – теперь я вижу, как удивительно точно Богатырев смотрел в будущее своего персонажа. На его портрете – абсолютно угаданный тип с моим характером, профессией, темпераментом… Хотя, естественно, тогда нас не занимало будущее. Мы жили только тем, что происходило здесь, сегодня, сейчас.
* * *
В общежитии на Манежной улице он мог не выходить из своей комнаты целыми днями. А потом появляться с новой картиной или с двадцатью новыми эскизами к спектаклю… Именно тогда он стал «увековечивать» своих коллег – соседей по квартире. Среди них была и народная артистка России Ольга Богданова.
– Он много рисовал и часто просил, чтобы я позировала, – вспоминает Ольга Богданова. – А мне было все некогда: потом, потом! И как-то Юра сказал: «Я тебя все равно нарисую – по памяти!»
Я не придала значения этим словам.
Получилось так, что судьба нас сначала развела, а потом опять свела: уехав с Манежной, мы через какое-то время снова стали соседями, когда Юра переехал на улицу Гиляровского.
Внешне он уже стал другим – более грузным, более ярким, более разговорчивым… И вот как-то он пришел ко мне и принес портрет: «Я тебя все-таки нарисовал!»
Помню свои первые ощущения: это была и я, и не я – в образе Маргариты с желтыми цветами. Но друзья говорят, что похожа. Сегодня я так счастлива, что эта картина у меня есть, – единственная зримая память о Юре.
* * *
Остался необыкновенный портрет и у актрисы Елены Кореневой. Она познакомилась с Богатыревым, когда тот только что окончил Щукинское училище и стал артистом театра «Современник».
– В 1971 году я поступала в Щукинское училище, – вспоминает Елена Коренева. – Естественно, переживала и волновалась. Ожидая на лестничной площадке, пока меня вызовут, я заметила, что двое молодых людей внимательно смотрят на меня. Вдруг один из них, высокий блондин, подошел и спросил: «Простите, это вы снимались в фильме „Вас вызывает Таймыр“?» А это была моя первая роль в кино, и сам фильм только что показали по телевидению. Получив утвердительный ответ, высокий незнакомец просиял улыбкой, которую я помню до сих пор, и наговорил мне уйму комплиментов.
Так состоялось мое знакомство с Юрой Богатыревым, который тогда только что окончил Щукинское училище. Его слова были огромной психологической поддержкой, первым вниманием ко мне как к актрисе и очень хорошим знаком. Естественно, после такого я не могла завалить экзамен.
Второй раз мы встретились с Юрой на гастролях театра «Современник». Однажды я расхворалась и сидела у себя в гостиничном номере. Юра неожиданно зашел и попросил разрешения нарисовать меня. Получился совершенно прелестный портрет, который много лет спустя Юра включил в свою выставку. Он готовил ее в год своей смерти. Но не дожил до открытия. На портрете Юра нарисовал мои пальцы очень вычурными… Тогда мне, молодой девчонке, это показалось странным. И только позже я поняла, что в этой пластике, в этих руках он очень точно уловил мой характер.
Что интересно, ему не надо было позировать. Я сидела на кровати, разговаривала с кем-то, а Юра устроился напротив меня, что-то такое выводил в свое удовольствие. Это было так быстро, легко! Мне очень приятно, что среди портретов его друзей есть и мой портрет.
…Когда после долгого отсутствия я вернулась из Америки, совершенно случайно попала на рок-концерт. И среди столпотворения, к моему удивлению, я встретила Юру Богатырева, для которого посещение подобного мероприятия тоже было нетипично. Тем страннее была эта встреча. Лет десять мы не виделись, и я была просто счастлива, увидев родное лицо. Слушать этот концерт было очень тяжело, ушные перепонки страдали, я в шутку ему кричала сквозь грохот: «Юр, ты еще жив?!» Это было за полтора месяца до его смерти. После концерта, чтобы поправить здоровье, собрались было отправиться в ресторан. Но Юра отказался, сказав, что он недавно лежал в больнице и ему строжайше запретили пить…
Мне очень нравятся его роли в фильмах «Свой среди чужих…» и «Родня». Среди всех наших артистов он выделялся своей статью, какой-то скандинавской красотой, чувственностью лица, талантом, умом. Для меня он всегда останется первым человеком, одарившим меня вниманием, первым художником, нарисовавшим мой портрет, и первым, кого я встретила после долгой разлуки с близкими друзьями…
* * *
На стенах квартиры народного артиста России Владимира Стахановского тоже висят несколько работ кисти Богатырева. В основном это графические рисунки на «цирковые» сюжеты. В том числе и одна акварель, на которой хозяин квартиры, цирковой артист, запечатлен испанским тореро в фиолетовом плаще, танцующим на проволоке.
– Как-то, устав от своих мыслей при подготовке нового номера, я попросил его сделать эскиз, – вспоминает Владимир Стахановский. – «Как ты меня видишь?» – спросил я Юру. Он ответил: «Я вижу что-то испанское, что-то от тореро…» Я попросил: «Ты нарисуй – я подумаю…»
Он быстро сделал рисунок в таком стиле. Но тогда я так и не придумал номер в этом «испанском» ключе. Сейчас, может быть, воплощу эту мечту в учениках…
Вообще, он всегда хотел почувствовать мою работу на проволоке не как зритель, а изнутри профессии. Он хотел понять, как артист может не просто идти по струне, а создавать образ. Он всегда хотел глубоко вникнуть в то, что же это такое – цирк.
Как-то он сказал: «Да, это великое искусство, я понимаю всех художников, которые любили цирк…»
Чтобы все это лучше понять, он в цирке рисовал. Причем начинал всегда с натуры. У него была такая специфическая техника – все прорисовывал вначале филигранно карандашом. Затем карандаш почти стирал. И дома уже заканчивал работу.
* * *
Владимиру Стахановскому, как и остальным друзьям и коллегам, Юрий будет писать на каждый Новый год «астрологические» портреты в виде кроликов, драконов, котов… Каждый раз штук по тридцать. Будет сопровождать их подписями – трогательными и глубоко личными.
Будет писать пейзажи (однажды напишет летний пейзаж со своими босыми ногами «в кадре» – так сидел на даче у приятеля), натюрморты, иллюстрировать классические произведения русской литературы. Например, «Пиковую даму» – его интересовала графиня и в старости, и в молодости. Сделает смешные шаржи на пьяного Федю Протасова – Александра Калягина. На роковую Эльмиру Анастасии Вертинской и иезуита Тартюфа Станислава Любшина в «Тартюфе».
Критики считали его художником театральным. И не только потому, что большинство работ его – портреты товарищей, партнеров, сцены из спектаклей. В них фантазийно запечатлен мир театральной жизни, яркой, праздничной, красочной, чуть-чуть карнавальной, маскарадной. Просто все эти работы созданы настроением сцены и съемочной площадки, пропитаны воздухом костюмерных и артистических. В них и пестрота декораций, бутафории, реквизита и грима, и веселое актерское шутовство, как бы мимолетом, мимоходом, в паузе между съемками, в антракте, посреди репетиции.
* * *
– Когда Юрий Богатырев пришел ко мне на пробы Филиппка, снял свою штопаную дубленку и стал довольно горячо о чем-то говорить, жестикулируя, когда в первый раз его огромные руки взвились передо мной в воздух, в моем воображении возник – как я теперь понимаю – определенный тип живописца, и я отчетливо представил его мастерскую, ощутил запах красок, – вспоминал режиссер Илья Авербах. – И мне сразу же в нем почувствовалась какая-то тонкость, даже изнеженность, невзирая на его крупные черты. Что потом, когда я посмотрел его картины (a он, как выяснилось, хороший художник), оказалось совершенно точным. Богатырев не выносит мощной, грубой живописи, а любит мирискусничество, Борисова-Мусатова, Бердслея, любит Ватто, которого, на мой взгляд, любить нельзя, им можно любоваться, но как всерьез приходить от него в восторг – не понимаю. А Богатырев и сам рисует весьма изысканно: сидит дама в ниспадающих одеждах, и сама она и фон прочерчены и заштрихованы перышком, тоненько-тоненько. Все это мне в нем почудилось изначально, породило ту историю, которая и повела к Филиппку. Почему он мог стать героем нашего фильма? Потому что в нем есть крайне любопытные несоответствия, парадоксальность, и за ним с первого взгляда вставал его «образ», который был в чем-то родствен Филиппку.
* * *
Всего восемь живописных работ Юрия Богатырева находится сегодня в Бахрушинском музее. Между тем общее их количество исчисляется десятками, если не сотнями. Я, к примеру, видела их в доме Олега Даля, Зинаиды Поповой, Надежды Серой, Клариссы Столяровой…
Артист щедро дарил их своим друзьям, коллегам и поклонникам… Причем не всегда охотно и с радостью. На самом деле художник достаточно болезненно расставался со своими работами. Сегодня большинство из них рассыпаны по частным коллекциям. Самую большую собрала-забрала его двоюродная сестра Татьяна. В 90-х годах она ездила с выставками по всей стране. Но сейчас следы этих картин, увы, потеряны…
Глава 18. Скромное обаяние арены
Ваше место на ступеньках! ■ Танцующий с Бахом ■ Филиппок хочет кушать ■ Золотые руки Регины ■ Постоянное непостоянство ■ Чемоданное царство ■ Манежная семья ■ Если звезды зажигаются в минской больнице… ■ «Мама, открой глаза!» ■ Канатоходец – это просто! ■ Кровавые перчатки ■ «Идите в цирк!» – До свидания, «Мистер Икс»! ■ Порода романтиков ■ Личностью надо родиться ■ Виды на Кремль ■ «Меня никто не любит!» ■ Сломанная карета
Было еще одно увлечение в его жизни, о котором знали только самые близкие люди.
Это цирк.
Призрачное царство манежа с его бесстрашными обитателями стало вторым домом артиста. Сюда он будет приходить в радостные и горькие минуты своей жизни. Здесь его всегда встретит поддержка, внимание и понимание друзей… А познакомила его с этим миром Наталья Варлей еще в далекие студенческие годы.
– В Щукинское училище я пришла после циркового училища и очень по цирку тосковала и поэтому ходила буквально на все программы, – говорит Наталья Варлей. – И мне тогда очень хотелось поделиться своим отношением к цирку, заразить им моих друзей. Я водила на Цветной бульвар Костю Райкина, Тамару Абдюханову, Юрочку Богатырева. Мы сидели скромно на ступенечках и смотрели представление…
Но я всегда бурно реагировала. Потому что знала, что здесь, к примеру, Бекбуди может уронить булавы… здесь может упасть с лошади… здесь Волжанский может потерять баланс… Я очень волновалась за своих друзей-коллег. И Юра впитывал это мое волнение и радость за других артистов и, наверное, заражался ими.
Похоже, я действительно влюбила моих друзей в цирк. И они стали приходить туда уже без меня. Юра очень подружился со Славой Бекбуди – цирковым жонглером на лошади из очень известной цирковой семьи (сейчас он работает со слонами и тиграми). Еще он очень дружил с Волжанскими. У них тогда был замечательный номер под куполом.
Все это были артисты, которые составляли славу нашего цирка. Тогда советский цирк действительно был лучшим в мире. Это сейчас его растаскали на отдельные номера. А тогда у нашего цирка было настоящее достоинство и слава. Как и у нашего балета, театра, кино. И Юра застал этот великолепный момент…
* * *
– Мы познакомились с Юрой в 1970 году, – вспоминает народный артист России Сарват Бекбуди. – Вместе с Юрой Дуровым, моим сводным братом, мы пришли в гости к Наташе Варлей. Там были Юра Богатырев и Костя Райкин. Мы очень понравились друг другу. И мы пригласили их в цирк. Они пришли, посмотрели представление (тогда я работал жонглером на лошади) и настолько увлеклись, что стали приходить почти каждый день.
Юра узнал всех моих животных, всегда стремился чем-то помочь. Обычно я кормил их после работы. Юра посмотрит мой номер – и тут же спешит в конюшню угощать лошадей и слонов. Ему очень нравилось это делать.
Его очень полюбили мои ассистенты – иначе как Юрочка его никто не называл. Он со всеми был в прекрасных отношениях.
В цирке Юра с Костей обычно смотрели некоторые номера программы – те, которые им особенно нравились, а остальное время сидели у меня в гардеробной. Тогда он был еще никому не известен. Они с Костей даже стеснялись выходить из нашей гардеробной. Они ведь тогда еще были студенты, учились в Щукинском училище. Кстати, мы тоже ходили на все их спектакли – помню «Нос», «Бабьи сплетни», «Снегурочку».
А у меня Юра, как всегда, рисовал – он запечатлевал буквально всех. Кстати, делал мне эскизы костюмов. В одном таком – красном, с белыми вставками, а-ля ковбой – я проработал, наверное, лет десять, если не больше. Жена говорит, что он мне больше всех шел…
Кстати, и первые эскизы на мои аттракционы с жирафом и носорогом делал именно Юра. Эти эскизы в цирке предназначаются для того, чтобы наглядно представить поведение животных во время номера. Он подсказал мне очень простую технику – акварелью, фломастером, карандашом и шариковой авторучкой. А дальше я уже сам рисовал, благодаря Юре.
* * *
Он любил тогда рисовать шаржи. Например, на моего брата Юру Дурова, к которому он часто приходил. И на его дни рождения рисовал на него шаржи. Меня Юра тоже рисовал, но остался у меня всего один рисунок. Он подарил его мне на день рождения в 1970 году. Я там сижу в халате в гардеробной. Сначала он его сделал карандашом, а спустя несколько лет повторил в красках и подарил мне в день рождения…
* * *
Бекбуди вспомнил забавный случай:
– Однажды, вернувшись после гастролей по Бельгии, мы пришли к Косте домой. Там были Аркадий Исаакович, какой-то почитатель его таланта – рабочий завода, жена Райкина Руфь Марковна, работник нашего посольства в Японии и мы, молодежь, – Костя, Юра, Юра Дуров, я… Мы сидели в гостиной, потом Аркадий Исаакович пригласил всех за стол.
А Юра Дуров привез из Бельгии всякие забавные штучки, которые он тогда купил в магазине розыгрышей. У нас этого еще не было. Он купил там маску, сигареты, которые взрывались, и в том числе искусственную, простите, соплю, которая вставлялась в нос… И вот мы договорились… Все сели за стол, Юра задержался в другой комнате. А тогда у него была богатая борода и усы. И вот он появляется, прерывает разговор, встает в красивую театральную позу, скрещивает руки и говорит:
– Аркадий Исаакович! Вот вы знаете, когда я последний раз посетил Париж…
Все в недоумении. Во-первых, он прервал разговор. Во-вторых, все знают, что в Париже он никогда не был! А он продолжает:
– В Париже я гулял долго по городу. Я был в Лувре, наконец-то увидел Джоконду…
И он начинает долго-долго говорить про эту Джоконду. Никто, конечно, – ни Руфь Марковна, ни Аркадий Исаакович – не могут понять, что происходит…
Юра говорит, говорит, говорит… потом делает так: «Апчхи!» – и вставляет это себе в нос.
И продолжает говорить как ни в чем не бывало. Надо было видеть этих двух актеров: один начинающий, другой – корифей. Как Аркадий Исаакович пытался показать Юре, что у него из носа торчит на усах! Как тот делал вид, что ничего не понимает, и чесал дальше про Лувр, про Париж и так далее…
Потом, конечно, мы раскололись, и все стали жутко хохотать.
* * *
Когда я уехал, мы немножко потерялись, а затем в 1976 году я возвратился в Москву. Тогда уже и Юра, и Костя стали довольно известными. Они снялись в фильме «Свой среди чужих…», по телевидению как раз шел «Мартин Идеи». Юра, кстати, тогда был более популярен, чем Костя…
И вот мы опять встретились. И Юра снова стал ходить в цирк буквально каждый день, за исключением тех случаев, когда у него были спектакли. Тогда я его познакомил со многими артистами, в том числе и с Волжанскими, с которыми он тоже подружился…
В конце 1976 года на телевидении снимали новогодний «Голубой огонек». И мы должны были там работать со слонами. Съемки были назначены в выходной день. И Юра тоже пришел в цирк. Марк Соломонович Местечкин распорядился срочно ехать в Останкино.
Юра загорелся:
– Я поеду с вами!
А туда пускали только по пропускам. Мы заказали на него пропуск как на нашего рабочего. Кое-как, с большим трудом подобрали на него униформу – он же длинный, руки большие. И никто ничего не мог понять: вроде бы лицо знакомое – «Мартин Идеи» тогда уже шел, не говоря о «Своем среди чужих…». И вдруг среди циркачей – он помогал нам убирать тумбы как униформист. В кадре его нет, к сожалению, – я несколько раз смотрел эту передачу…
* * *
Мы не то чтобы дружили… Он практически был членом нашей семьи. И когда мы приезжали в Москву, день и ночь были вместе. Ведь у цирковых артистов бывает свободное время, лишь когда животные идут из одного города в другой. И когда мы с Юрой совпадали, то он все время был у нас дома. Он очень любил поесть, мы делали хороший стол, но он обязательно должен был сам потом мыть посуду. Это почему-то ему очень нравилось…
* * *
Мы вместе проводили много времени и, как хорошие друзья, вместе же иногда страдали. Два раза нас забирали в милицию.
Первый раз я взял у приятеля машину, и мы поехали в Шереметьево купить что-нибудь покушать – ведь тогда все было закрыто ночью в Москве. Там мы купили поесть и вышли с ним попить газированной водички… А в машине сидели Костя Райкин и Наташа Варлей. Подошли милиционеры:
– Это ваша машина?
– Наша.
– Пройдемте.
Забрали нас в отделение, а у меня документов на машину нет. Ни Богатырева, ни Райкина никто еще не знал. А Наташу Варлей в темноте не узнали. Милиционеры даже поинтересовались:
– А почему вы детей с собой в такой поздний час возите?
– Каких детей?
– Да у вас там в машине сидят дети!
– Вы что, какие дети! Это же Наташа Варлей и Костя Райкин!
Но отпустили.
Потом 7 Ноября он пришел к нам домой, и мы договорились вечером пойти в цирк. Правда, Юра колебался:
– Мне так неудобно, я не одет…
А мы как раз приехали откуда-то из-за рубежа. Юра высокий, я на две головы ниже его. Но мы нашли для него какой-то красивый свитер, расфуфырились все и прямо из-за стола поехали в цирк. Я был за рулем. Доехали только до перекрестка – нас остановили и спрашивают, с какой улицы мы едем. Я отвечаю:
– С С-с-супруна…
И меня забрали в милицию. Оказывается, недалеко от нашего дома угнали точно такого же цвета машину. Но все обошлось, меня отпустили. Но Юра очень переживал! Кому он только не звонил, чтобы меня выручить, – вплоть до Олега Даля! Он искал, у кого есть знакомства в ГАИ.
* * *
Его очень любили в цирке. В 1980 году я участвовал в программе, подготовленной к столетию цирка. Меня попросили записать Юру – чтобы на параде звучал его голос. Так и получилось – все артисты шли под его голос…
В цирке же он набирался и новых впечатлений для работы. Тогда, помню, он снимался в телеспектакле «Когда-то в Калифорнии». И вдруг мне говорит:
– Ой, мне надо обязательно посмотреть у вас один комический номер – мне образ нравится. Хочу его использовать в «Калифорнии».
А я, к своему стыду, ни разу не был на его спектакле – ни в «Современнике», ни во МХАТе. Потому что когда у нас выходной – у него нет спектакля, когда у него спектакль – мы работаем. Тогда ведь был один выходной. Единственный раз, когда у нас совпали выходные, мы ходили в Театр эстрады на представление Аркадия Исааковича Райкина.
* * *
Когда он наконец получил квартиру, мы были у него на новоселье. В принципе, там больше никого и не было. Еще приехала моя сестра. Тогда, помню, он очень расстроился из-за звонка из Ленинграда – ему сообщили о том, что у Павла Кадочникова погиб сын. И Юра тут же начал звонить знакомым, сообщать эту печальную новость, давать телеграмму с соболезнованием в Ленинград… Такое получилось грустное новоселье…
Он никогда не обращался за помощью.
Я к нему обращался. Брал деньги в долг. Мне нужны были деньги – я хотел купить дачу. К кому ни обратишься – отказ. Последняя надежда на Юру.
– Славочка, конечно, все, что у меня есть.
Тут же поехал со мной в сберкассу на Пушкинской площади. Он входит – там его все уже знают: «Ой, здравствуйте!» Он снял все деньги, какие у него были (а было немного, три тысячи – он был типичный бессребреник), и отдал мне без разговоров.
* * *
Последнее время мы уже не так тесно общались. Увы, он все время был выпивший. И в связи с этим стал реже к нам приходить, у него образовались другие компании…
Последний раз я говорил с ним по телефону.
Я задумал тогда делать один спектакль, и мне нужны были хорошие костюмы. И я хотел, чтобы это делал Слава Зайцев. А поскольку они дружили, я обратился к Юре:
– Юра, можно я от твоего имени позвоню Славе?
– Да, Славочка, пожалуйста, звони от моего имени…
Но к своему великому огорчению, я чувствовал, что он был очень нетрезв. И это был наш последний с ним разговор…
Я так и не смог прийти к нему на похороны: о его смерти узнал на границе – мы с цирком ехали на гастроли в Австрию. Я позвонил в Москву насчет нужных документов и узнал, что Юры нет…
* * *
Именно цирк свел Богатырева с заслуженным артистом России, лауреатом международных конкурсов, в прошлом танцором на проволоке, а ныне – режиссером-постановщиком Центра циркового искусства, руководителем мастерской «Пластический цирк» Владимиром Стахановским.
– Однажды Юра сам пришел к нам на спектакль, посмотрел представление. Это был обыкновенный цирковой дивертисмент, в старом цирке на Цветном бульваре. Тогда я как режиссер готовил номера – характерные танцы на проволоке, классическое адажио, воздушные полеты, танцы на проволоке на велосипеде и многое другое.
В тот вечер я танцевал на проволоке ре-минорную «Токкату» Баха. Это Юру очень поразило – балет в цирке! И он пришел за кулисы, мы познакомились. Тогда я уже видел «Свой среди чужих…». Так завязалась наша дружба. Он тогда еще работал в «Современнике». Это были 70-е годы.
И начались его регулярные визиты в цирк – буквально через день. Он стал часто приходить и рисовать – многих наших артистов, не только меня. Делал огромное количество различных набросков.
Такое отношение для меня не было чем-то исключительным – к искусству цирка всегда тянулись очень многие интересные люди. Но Юра привлек меня тем, что удивительно серьезно относился к нашему искусству. Юра потом неоднократно мне повторял: «Площадное искусство – это великое искусство, оно было, есть и будет всегда». И для меня это были не выспренние слова, а искреннее признание. Поскольку я сам в это очень верил, то он казался мне очень близким человеком.
Так началась наша дружба, которая длилась много лет.
* * *
Когда ему было плохо, он всегда заезжал к нам домой – поправить настроение. У нас ему никто не мешал, он как-то естественно влился в нашу семью. Моя дочка Настя звала его только Филиппок – она считала «Объяснение в любви» его лучшим фильмом. Кстати, мне кажется, что там он сыграл как бы самого себя.
Почему моя семья его так любила? Потому что он казался нам очень простым, открытым, домашним человеком. Он приходил в дом абсолютно как член семьи. Отдыхал, кушал, смотрел видео. Он очень эмоционально воспринимал фильмы – все проигрывал внутри себя. Юра чувствовал себя у нас на «Аэропорте» абсолютно своим.
Но! Когда люди, случайно попавшие в нашу компанию, развязно пытались перейти на «ты» – его это сразу отталкивало.
Если он уставал, он звонил куда-то и говорил: «Не поеду я на ваши съемки, идите вы к чертовой матери, все, я устал, не хочу». Но, естественно, наступал следующий день, он вставал и утром ехал работать…
Моя жена, Регина Михайловна, очень вкусно готовит. И он бывал просто счастлив, что мог хорошо покушать, – с удовольствием все пробовал, хвалил… Регина его кормила на убой. На отсутствие аппетита он никогда не жаловался. Но если нужно было для роли – легко худел.
Например, на съемках у Никиты Михалкова он похудел на двенадцать килограммов! Потом, помню, перешел на вегетарианство. Все ради работы. Личная жизнь как бы мало его интересовала…
* * *
Его увлекало искусство во всех проявлениях. Как художник, он очень тонко все чувствовал, все малейшие нюансы человеческих отношений… И это стало основой нашей дружбы.
Есть такое выражение – «публичное одиночество». Это – о нем. Но и обо мне тоже. Эта человеческая черта, видимо, была свойственна и мне. Поскольку я по своей природе тоже человек достаточно замкнутый, я его хорошо понимал. Поэтому мы и подружились.
Он часто советовался по поводу работы, которую он делал в театре. Причем не спрашивал совета – ему просто надо было выговориться, он как бы себя проверял. А от меня требовалось выслушать его соображения и подтвердить – верно или неверно.
Я думаю, что так он изливался наверняка не только мне, но и другим людям. Знаю только, что мне он доверял. И в ответ я ему тоже доверял безоговорочно, поскольку вообще у меня было мало друзей среди цирковых. В основном я дружил с художниками, актерами…
Дело в том, что цирковые люди очень замкнуты – они как бы существуют в своем мире, в своем пространстве. Это накладывает отпечаток на личность. Цирковые артисты не менее чувствительны, чем остальные. Просто по характеру деятельности они более мобильны. Цирк обязывает быть в состоянии готовности – в походном состоянии. Жизнь циркового артиста – это постоянные чемоданы, постоянные переезды, отсутствие своего угла. Разные города, разные оркестры, и всегда рядом дети – такая постоянная непостоянность.
В театре – стабильный коллектив, все на своем месте, жизнь как бы плавно течет.
А здесь жизнь образовывается на какой-то короткий период времени, дней на тридцать, потом все это снова распадается: попадаешь на новое место – опять как бы новая семья. И так постоянно, всю жизнь. В свои московские квартиры мы приезжали только в отпуск!
Я часто работал в хороших цирках таких городов, как Минск, Ленинград, Сочи, куда МХАТ часто выезжал на гастроли или где часто проводились съемки, – Юра тогда особенно часто снимался на «Ленфильме». И он не только всегда к нам приходил, но и приводил всех своих друзей и знакомых. Он просто как бы заставлял всех идти в цирк в обязательном порядке! Помню, Никиту Михалкова приводил, Олега Даля…
* * *
Его очень привлекали в цирке животные, отношения между ними и дрессировщиками. Он старался узнать все изнутри, самому разобраться…
Ведь о цирке говорят много пустого: врут, что там мучают животных, родители издеваются над детьми, у которых нет нормального детства.
Его поразило, что это совершеннейшая неправда.
Когда он увидел этот мир открытой большой семьи, где все друг за друга переживают, он был потрясен. Он мне говорил:
– В театре этого не будет никогда. Театр – совершенно другое. Вот здесь действительно семейные отношения!
Его такая открытость поражала. Ему этого, видимо, не хватало – в театре артист должен себя вести более собранно, быть всегда начеку…
* * *
Юра очень полюбил цирк. И это было взаимно, поскольку и цирковые актеры к нему очень тепло относились.
Еще его поражала лаконичность формы циркового номера.
Ведь театральный спектакль рассчитан, как минимум, на два часа.
Когда он видел, что мощную идею можно выразить в восемь – десять минут, ну, максимум, в пятнадцать, и прочувствовать это все полностью, – для него это было просто откровением.
* * *
Как-то мы были в Минске на гастролях. И я там упал с проволоки, у меня оказалась серьезная травма. Меня положили в больницу. A MXAT как раз приехал в Минск на гастроли. И вот человек восемь ведущих актеров МХАТа во главе с Юрием вваливаются в клинику, где я лежал. Все врачи, сестры и больные просто выстроились в ряд! И про меня забыли. Потом, правда, меня просто носили на руках.
И в Ленинграде, когда он приезжал, все контролеры и билетеры, конечно, бежали ко мне со всех ног: «Володя, там Юра пришел!» А он обычно приводил с собой группу приятелей…
* * *
К моему несчастью или счастью, я очень легко работаю на проволоке. Как моя мама говорила: «Ты по ней ходишь даже лучше, чем по земле». Кстати, она меня никогда не смотрела «живьем», только в телевизионной записи. Переживала.
Как-то он пришел ко мне на репетицию. В отличие от мамы он смотрел на меня широко распахнутыми от восторга глазами. И с кем-то из друзей, кого он привел в тот раз с собой, поспорил, что тоже пройдет по проволоке:
– Да что там, запросто. Я встану и пройду.
– Ну, давай.
Проволока была натянута на высоте трех с половиной метров. А я в этот день репетировал наверху, под куполом. И говорю Юре:
– Я тебя привяжу на лонже, иди, не бойся, ты застрахован, но, если ты будешь падать, за проволоку не хватайся, потому что струна как тетива лука – порежешься.
А у Юры вес большой. Я советую:
– Ты просто придержись, тебя будут страховать на веревке, и ты спокойно спрыгнешь.
– Ладно, что ты мне говоришь…
Он сверху встал на мост и, когда это все увидел, естественно, испугался. Но поскольку поспорили на коньяк – он пошел. И сделал три или пять шагов. Естественно, его заболтало, естественно, он стал падать и схватился за проволоку, чего нельзя делать. Он своим весом маханул вниз – и она у него из рук вырвалась. Вся кожа на ладонях слетела…
Я сначала этого не увидел. Он встал – и стоит молча.
– Чего ты стоишь?
Он протягивает руки в крови. Просто кровавые перчатки. Ужас!
А вечером он уже играл спектакль «Мятеж» и вышел с забинтованными руками – как будто принимал участие в боях. Заживала эта рана долго, он ничего не мог взять в руки – ведь вся кожа, как перчатки, слетела.
После этого он никогда больше не пытался пройти по проволоке, но зауважал меня просто до неприличия. Все удивлялся:
– Я не понимаю, как ты это делаешь. Сознаю – и не понимаю.
Он хотел сам почувствовать, вникнуть, понять, как человек может идти по этой струне и создавать образ, танцевать:
– Когда я встал на проволоку – то понял: это невозможно! А ты на этом канате танцуешь «Токкату» Баха, пляшешь русские и цыганские танцы, делаешь сальто, всякие пируэты… Как?
Понять этого он не мог. А я не мог объяснить.
Этот случай стал толчком для него – он понял, что цирк действительно великое искусство. Он потом всех призывал:
– Идите в цирк и учитесь, как надо работать. С какой самоотдачей, на каком уровне. Каждый день там премьера – это принцип, закон цирка.
* * *
Юре приходилось очень нелегко, поскольку его внутренний и внешний миры были абсолютно различны. Я понимал, что нельзя было судить о нем только по ролям, которые он с блеском играл. На телевидении это был просто потрясающий «Мартин Идеи». Или Манилов в «Мертвых душах» – он так увлеченно работал над Гоголем! В кино – «Объяснение в любви», конечно, «Свой среди чужих…», «Обломов», «Родня»… Но это все роли, пусть и прекрасно сыгранные.
Его внутреннее «устройство» было намного сложнее.
Да, он был просто гениальным артистом – и в театре тоже. Во всяком случае, равных ему я не знаю. Кстати, он не любил обсуждать свои театральные работы. А например, от «Тартюфа» все были просто без ума – так эмоционально заразительно он выдавал свой бешеный монолог… Мне тогда показалось, что в этом спектакле его роль – лучшая. Хотя там все были хороши – и Анастасия Вертинская, и Станислав Любшин…
* * *
Он очень много работал, все остальное его как бы отвлекало. Поэтому, если у него было свободное время, он рисовал. В силу своей популярности он уже не мог свободно ходить по общественным местам…
Но! Он никогда не был доволен. Это звучит банально, но это чистая правда. Я редко его видел довольным. Причем ничье мнение его особо не интересовало. Может быть, потому, что он был высокообразованным, интеллектуальным человеком.
* * *
Я считаю, что личность рождается сразу. Личность – от рождения. Потом уже начинаются нюансы – она попадает в определенную среду, ее как-то используют…
Юра был личностью от рождения. И жил он категориями очень глубокими, великими… Набоковым… Пастернаком, которого читал постоянно. Он выстроил внутри себя очень тонкий мир.
Я не зря говорю о его «публичном одиночестве», поскольку он даже и при самом активном общении все равно никогда не раскрывался до конца.
Он был достаточно скрытным человеком.
И это не было благоприобретенное качество характера. Это было скорее состояние души.
Да, у него все как-то не складывалось в личной жизни. Но я думаю, что он и не очень-то стремился к какому-то банальному бытовому благополучию.
Он был фаталист – всегда думал, что все в жизни произойдет само собой. А когда это не происходило – как бы терпеливо ждал. Постоянно ждал, но никогда не прикладывал активных внешних усилий… К тому же он всегда был безумно занят.
Иногда мы вместе ходили на Ваганьково. Блуждали там по аллеям, рассматривали памятники… Юра все время говорил мне:
– Смотри, сколько наших людей здесь. После нашей смерти все будет по-прежнему… Только нас не будет.
Я не любил таких разговоров и всегда обрывал:
– Ну, хватит, утирай слезы-сопли, пошли.
* * *
Я бывал у него в общежитии на Манежной улице.
Уже популярный, много снимавшийся, он все-таки жил в общежитии – огромной коммунальной квартире. Правда, у него была одна из лучших комнат. Но ему там приходилось нелегко – слишком на виду. Его стали узнавать. Когда он уже стал популярным артистом, то, естественно, не хотел, чтобы видели, как он кушает или кто к нему приходит…
И он стал после спектакля чаще приезжать к нам. Регина его кормила, и он как бы успокаивался. В знак признательности он дарил нам много своих рисунков. Особенно на Новый год – всяких астрологических зверюшек. Помню, как-то всем нарисовал хрюшек – голубых, розовых, желтых…
Кстати, таксисты денег с него никогда не брали – только автограф и телефон, чтобы попасть в театр. Его везде узнавали на улице. Причем, может, вначале это ему и было приятно, стимулировало, но потом стало раздражать…
* * *
У нас дружба основывалась на совместном «отдохновении». Или у нас дома, или у него.
Иногда я к нему приезжал, чтобы поговорить о чем-то серьезном. Сидим, пьем кофе, он рисует. Мы молчим… Проходит минут двадцать – он что-то спросит… Какое-то успокоение было для нас обоих в таком общении.
Я никогда не слышал от него плохого отзыва ни о ком. Он не выносил сплетни, обрезал: «Меня это не интересует». Сразу прекращал всякие подобные разговоры. А между тем актерам столько комплиментов наговаривал! Матом не ругался – его язык был на удивление чистым.
А ведь Юра был очень раним. Его можно было обидеть просто взглядом. Он обижался на все, что угодно. И сразу уходил в свою комнату, чтобы его никто не видел в этом состоянии.
Разряжался Юра по-своему. Очень много плакал. Видимо, сказывалось нервное состояние возбуждения после спектакля. Он мог просто сидеть на кухне и реветь.
– Ты чего?
– Я такой несчастный! Меня никто не любит…
Он мог наговаривать, настраивать себя сам на эту ноту и часами реветь… Потом это проходило.
Причем он не ждал, чтобы его стали успокаивать. Это даже его раздражало. Видимо, он должен был выплакаться. Потом он брал телефон, звонил друзьям, подругам… Очень уважал Мишу Козакова. С ним разговаривал всегда очень серьезно, к его словам прислушивался.
Все хорошие артисты были для Юры авторитетом. Он уважал труд всех, но не выделял никого. Ему очень нравилось, как работает Саша Калягин, он очень любил Никиту Михалкова. Никита был ему как брат. Их тянуло друг к другу. Они прекрасно понимали друг друга. И Юра готов был откликнуться на любое предложение Никиты. Он его просто боготворил – поскольку Никита и дал ему шанс по-настоящему заявить о себе как об актере. Да и Никита его очень любил. Я слышал их разговоры, по телефону – так могут разговаривать только друзья. Юра был очень ему благодарен и… обиделся, когда Никита не взял его в фильм «Раба любви». И тогда Никита придумал портрет Максакова.
Юра был доволен своей работой в «Неоконченной пьесе для механического пианино». Он вообще очень любил этот фильм. И у меня есть снимок, подаренный мне Юрой на память, – та сцена из фильма, где идет дождь, а Юра сидит в сломанной карете, плачет… На фото он надписал: «А вот я уезжаю за рубеж, и надолго…» Надписи типа «На добрую память» и прочая ерунда были не в его стиле.
А со Штольцем получилось странно – Юра почему-то думал, что будет играть Обломова… Но сыграл Штольца и потом был даже очень доволен.
* * *
У нас с ним появились даже определенные мечты – сделать вместе представление для цирка. Главный режиссер цирка на Цветном бульваре, ныне покойный Марк Соломонович Местечкин, стал готовить для меня спектакль «Мистер Икс».
Мы всерьез занялись этим головокружительным проектом, очень много о нем говорили. И я предполагал, что Юра будет там художником-постановщиком. Он с радостью согласился. Но, увы, не сложилось – Местечкин умер, и эта идея так и повисла в воздухе. Не осуществилась – как одна из многих творческих идей Юры…
Вообще, наше поколение, видимо, отличалось особым отношением к искусству – трепетным, преданным. Меньше всего мы думали о деньгах. Тогда это для нас было нормой. И все мы были увлечены знаменитой плеядой звезд из «Современника»… Это была как бы наша мера в искусстве.
У меня от того времени – 1970-х годов – остались лучшие воспоминания на всю жизнь. Это был период взлета творчества, какой-то всеобщий творческий круговорот. Москва тогда просто бурлила. И хотелось все успеть, все посмотреть, со всеми пообщаться… Мы увлекались именно творчеством, самовыражением… Жизнь вокруг кипела! И было так интересно – все самое лучшее в искусстве рядом с тобой! Протяни руку – коснешься гения…
Глава 19. «Любить – но кого?»
Невесты, ау! ■ Герцог ездит на такси ■ Перемячи для вегетарианцев ■ «На кого это вы так похожи?» ■ Сувенир от Рубашкина ■ Из Венгрии с любовью ■ Вельвет одобрен Зайцевым ■ «Кофейная женщина» ■ «Лиля, я твой папа!» ■ Лучшие в мире жены Михалкова ■ Дети прощают обиды ■ «Кого это вы едите?» ■ Ультиматумы лучше не ставить ■ Снова Надя, снова невеста ■ Платоническая агрессия ■ «Устройте меня в монастырь!»
Отношения с противоположным полом складывались у него непросто. Хотя с детства его окружали женщины – мама, сестра, затем девочки-соседки на Левобережной, потом – одноклассницы, затем – подруги из кукольной студии, наконец, однокурсницы и коллеги по театру. Многие из них искренне считали Юрия Богатырева своим самым близким другом. Он умел дружить с женщинами, но так и не сумел создать настоящую семью. Может, искал идеал. А может, по другой причине…
Мама, Татьяна Васильевна Богатырева, припомнила одну историю:
– Такой любви, чтоб «искры из глаз», у Юры не было. Некогда ему было. Может быть, он «заочно» любил кого-то. Например, он переписывался с немкой из Галле (письма переводила соседка). А когда бывал в Германии, не заставал ее дома. Но у нее, кстати, была семья.
Мама очень расстраивалась, что сын никак не женится. И часто его наставляла:
– Юра, женись, я бы спокойно жила!
Он утешал:
– Если бы я знал, что у меня будет такая семья, как у тебя с папой, – ни секунды бы не раздумывал! Ну, на ком жениться, мама? Все пьют, курят… Или я захочу порисовать, а она скажет: «Ложись спать!»
* * *
Похожие слова он говорил, отшучиваясь, и Нелли Игнатьевой:
– Ну не всем же так в жизни повезло, как твоему Лешке…
Его привлекала необыкновенно уютная атмосфера этого гостеприимного дома. Ему там нравилось буквально все. В Марьиной Роще он отдыхал душой и, возможно, вспоминал лучшие, «кукольные» годы своей юности… Кстати, судьба свела его снова с Нелли – теперь уже Игнатьевой – достаточно случайно.
– Наши отношения возобновились совершенно неожиданно, – вспоминает Нелли Игнатьева. – Я вышла замуж за Лешу Игнатьева, у меня росла дочь… Леша отслужил в армии, только что вернулся домой – они с Юрой как-то потерялись… И вот однажды я пришла в «Современник» на спектакль «Двенадцатая ночь» и увидела, что Юра играет там герцога. Я была страшно удивлена и обрадована, ведь с нашей последней встречи прошло несколько лет, я ничего не знала о нем. Но я оробела настолько, что тогда даже не решилась зайти к нему за кулисы.
Но потом судьба нас столкнула еще раз.
Спустя дней десять после того, как я увидела спектакль, у меня заболела дочь. А обычно в таких случаях я покупала ей пластинки со сказками, чтобы она слушала их в постели. И я поехала в магазин «Мелодия» на Калининский проспект. Накупила там дочке разных пластинок. А было это уже перед Новым годом. Я стояла с сумками на Калининском проспекте – ловила машину до Марьиной Рощи. Напомню, что это было время жуткого дефицита всего, такси в том числе. И вот я останавливаю такси, машина немного проезжает вперед – и вдруг выскакивает откуда-то высокий мужчина в дубленке, открывает дверцу моей машины и садится в нее!
А я с тяжелыми сумками! У меня дома лежит больной ребенок! И вдруг у меня перехватывают из-под носа машину!.. Я, озверевшая, рывком открываю дверь:
– Молодой человек, может быть, вы все-таки уступите мне машину?
Он поворачивается, и я вижу, что это Юра!
– Птичка моя! Тебе куда?
– В Марьину Рощу.
Он не знал даже, где я живу, потому что тот дом на Цветном бульваре, где я жила раньше, снесли (на его месте построили Дом политпросвещения). Юра не знал ни моего нового адреса, ни телефона. А я не знала, где он живет за городом. Так мы и растерялись.
А в этот день он ехал в цирк к своим друзьям. И мы обменялись телефонами. Я пригласила его в гости. И вскоре он позвонил и стал часто приезжать к нам. И так восстановились наши отношения.
Поскольку мы жили рядом – он на улице Гиляровского, а я в Марьиной Роще, – он к нам часто заезжал.
Я любила творчески готовить. Любила хорошо покормить гостей… И вот нажарю ему целую сковородку мяса, а он:
– Нет, птичка, я не могу…
Но он же большой мужчина, крупный. У него всегда хороший аппетит. Юра съедал у меня по пятнадцать наших татарских пирямячей – беляшей по-русски. Ему они ужасно нравились.
* * *
Я уже говорила, насколько Юра вживался в роль и был неузнаваем в жизни. Из-за этого он страдал:
– Ты представляешь, птичка, разве Боярский стоял бы в очереди за водкой?
Тогда была проблема купить водку. Тем более ночами она не продавалась, только с одиннадцати утра. Юра жаловался:
– Я прихожу магазин, приходится толкаться – никто не узнает.
А если после «Двух капитанов» и стали узнавать, то никто не говорил, что это Юра Богатырев. Все говорили: «Ой, гляди, Ромашов!» Это его очень обижало. И поэтому он старался ездить на такси.
* * *
Помню, как-то он приехал ко мне. У меня были гости – брат, его друзья. И мы сидели за столом, смотрели по телевизору фильм с его участием – «Открытая книга». Я испекла наши татарские перемячи, и Юра их ел с большим удовольствием.
А рядом с ним сидела одна важная дама, супруга замминистра. И вот мой брат встал и сказал тост. Он говорил о том, что впервые в жизни испытывает такое чувство нереальности – он сидит за столом вместе с актером, которого тут же показывают по телевизору, и как это странно… И тут эта дама вдруг встрепенулась и говорит:
– Да? А это вы там в телевизоре?
Она очень удивилась. А Юра так томно потупил глаза:
– Да, это некоторым образом я…
Она продолжает:
– Я весь вечер сижу и думаю: на кого же вы так похожи?
Немая сцена.
И таких случаев у него было достаточно.
* * *
Но были и приятные встречи. Юра рассказывал мне, что когда он первый раз со МХАТом поехал на гастроли в Австрию, то там к нему за кулисы пришел певец Борис Рубашкин. А тогда, в советские времена, он был у нас персоной нон грата и в России не появлялся. И вот он пришел после спектакля за кулисы именно к Юре, который понравился ему больше всех актеров. Он подарил ему пластинку, сказал массу всяких добрых слов. Юра был очень этому рад.
А потом они с театром поехали в Венгрию, там продолжились гастроли МХАТа. И вместе с Андреем Мягковым они пошли в ресторанчик. Юра, как культурный человек, повесил сумку на стул, и они пошли помыть руки. А когда вернулся, выяснилось, что из его сумки украли все деньги. И он остался в Венгрии без копейки. А гастроли должны были еще длиться. И он там очень страдал от вынужденной нищеты.
И тем не менее…
У меня был очередной день рождения. А тогда в моду только входили электронные наручные часы, которые за границей стоили копейки. У нас они стоили около тридцати рублей – по тем временам это было много.
Помню, у нас собралась компания, все уже веселые. И вдруг, смотрю, входит Юра, прислонился к двери и стоит, вытянув вперед руку, на которой болтаются часы. Я обрадовалась:
– Ой, Юрочка, ну что ты так поздно? Давай скорей проходи, доводись до нашей кондиции.
Он отвечает:
– Во-первых, я не пью (он тогда уже лечился), так что ты наливай мне в фужер вместо водки воды, потому что никто же не поймет. А во-вторых… Птичка, ты прости меня, пожалуйста. Я ничего не мог тебе стоящего подарить – у меня денежки украли… И я тебе привез эти часики.
И протягивает часы. Я поняла, что он там все-таки наскреб какие-то копейки и купил мне подарок на день рождения. Все это было так трогательно. Сколько времени прошло с тех пор – я это вспоминаю.
* * *
Много у меня друзей. Но Юра был особенный. Какой-то очень нежный, мягкий, добрый. Он никогда не приходил к нам домой с пустыми руками. Не мог просто зайти – обязательно принесет что-то моей дочке (он очень нежно к ней относился и даже называл ее своей дочкой, и мой ребенок всегда ждал его прихода). Мне в подарок – или бутылку хорошего вина, или фужеры, однажды принес молдавский сувенир, игрушку из суровых ниток: мужчина, женщина и ребенок – он тогда решил, что это символ моей семьи. Этот подарок до сих пор украшает мои стеллажи…
А на Новый год он одаривал всех друзей – и именитых, и неименитых – астрологическими открытками, нарисованными собственноручно. Мы все обязательно получали такие рождественские поздравления. Например, будет год Змеи. Он рисовал змею, но непременно со своими глазами, со своими губами и писал какое-то свое четверостишие или личное пожелание. Умел устраивать людям праздник. Умел нравиться, был исключительно галантен. Когда женщина входила в комнату – всегда вставал. Обязательно целовал руку, открывал дверь, подавал пальто.
* * *
Такой большой, уютный… Очень любил уютные вещи – мягкие шарфы, свитера. Не любил и не носил галстуков, строгих костюмов. Как-то пожаловался мне:
– Я совершенно раздет! Не в чем показаться в «Кинопанораме»!
Как «помощник по снабжению» я тут же озаботилась проблемой – ведь Юра должен был вести с Евгением Стебловым очередную «Кинопанораму». И не в чем! И вот знакомые поляки по моей просьбе привезли для Юры костюм – рыжую вельветовую тройку. Причем его, нестандартного, размера.
Юра обрадовался, схватил, а потом засомневался в цветовой гамме – не будет ли он, блондин, сливаться с костюмом? И тут же помчался советоваться к Славе Зайцеву, с которым очень дружил. Радостный, звонит от Славы:
– Я беру костюм! Завтра привезу деньги!
Слава посоветовал Юре надеть коричневую рубашку, подобрать галстук. И в принципе одобрил. Юра был безумно счастлив.
Это был, пожалуй, его единственный официальный костюм – и то уютный, мягкий, вельветовый… Юра любил, чтобы было комфортно. И в одежде, и в обуви. Обувь я ему тоже доставала, прекрасно помнила, что у Леши – 42-й размер, у Юры – 45-й.
А главной моей заботой был кофе. Юра так и звал меня: «Моя кофейная женщина». Потому что хороший кофе в то время был страшный дефицит. Я доставала ему по знакомству арабику, каждый раз по три килограмма. Ему хватало на две недели! Он пил сам, угощал гостей… Потом вдруг звонит:
– Птичка, погибаю, кофе кончается!
И я снова неслась по магазинам.
* * *
…Как-то моя дочь принесла в школу фотографию – она в обнимку с Юрой – и показала одноклассникам. А поскольку Юра очень похож на моего мужа, а моя дочь – копия отца, все ее спрашивали:
– А что, это твой папа?
– Да нет, это друг моих родителей.
Помню, как-то Юра приехал, и я ему подарила эту фотографию. И говорю:
– Представляешь, Лилька носила ее в школу, и там сказали, что вы так похожи… Спросили, не твоя ли она дочь.
Юра почему-то обрадовался:
– А она что сказала?
– Что нет.
Тут он подозвал мою дочку из другой комнаты:
– Лиля! Я тебя прошу впредь говорить, что я твой папа.
Дочка на меня удивленно посмотрела:
– А кто же будет мой папа на самом деле?
Но Юре было приятно.
– Кто ж от такой дочки откажется? Говори всем, что я твой папа.
Он всегда очень трепетно относился к детям друзей. Вообще к детям. В нем всегда чувствовалось желание иметь ребенка – желание одинокого человека…
* * *
Ему везло на партнерш – талантливых, стильных, умных, красивых…
Поэтому Богатырев неотвратимо влюблялся почти в каждую из них. На ком только не хотел жениться! Обожал Елену Соловей, Светлану Крючкову, Екатерину Райкину, наконец, признанную красавицу Анастасию Вертинскую. И завидовал по-белому ее тогдашнему супругу Никите Михалкову. К тому же он очень любил их сына Степу, который встречал ее с гастролей.
– Я мечтал бы иметь такого сына, – как-то признался матери.
Однажды Михалков даже пошутил:
– Юра, женись на моей Насте. Ты ведь так Степку любишь!
Но у Богатырева уже прошел запал: предмет его обожания тогда закрутила роман с Олегом Ефремовым. Ответил другу:
– А ты сам почему больше не живешь с ней? Ну и мне не надо, я ее понял!
…Отвергнутый артист все-таки переживал. И иногда в компании, выпивая, заводился:
– Нет, все-таки она красивая баба. Вот в «Тартюфе» я с ней играю – хороша!
И пытал очередного гостя:
– Ты не женат? Хочешь, я тебя на Вертинской женю?
Это был его коронный номер. Он с отчаяния всех «женил» на Вертинской…
Кстати, ему очень нравилась и другая михалковская жена – Таня.
Татьяна Васильевна Богатырева вспоминает, как сын восторгался:
– На такой хоть завтра женился бы! И завел бы хоть четверых детей! Я таких хороших женщин еще не видел! Умница! Красавица! Все в себе носит, никогда мужу замечания не сделает…
А маме больше всех нравилась его однокурсница Наталья Гундарева. Она советовала:
– Юра! Женись на Наташе! Мне так она нравится!
А он всерьез отвечал:
– Опоздал. Уже вышла замуж. А потом… Характер крутой: как что не по ней – так и вышибет из дома.
* * *
Народная артистка России Светлана Крючкова познакомилась с актером в 1977 году на съемках картины «Объяснение в любви». По сценарию в кадре они должны были есть огромную баранью ногу. И запивать ее как будто самогоном, на самом деле – водой, разбавленной молоком.
А Богатырев в то время был вегетарианец. И все время ей напоминал: «Что это вы, Света, едите? Кого это вы едите?» И доказывал, что это безнравственно.
Ему хотелось, чтобы и остальные разделяли его убеждения.
* * *
Еще в Щукинском училище Богатырев познакомился с Надей Целиковской – младшей сводной сестрой знаменитой актрисы, будущим искусствоведом. Они стали встречаться. Тогда он впервые всерьез задумался о возможной совместной жизни с женщиной…
– Но Надя поставила Юре свои условия – бросить сниматься, – говорит Татьяна Васильевна Богатырева.
Такой жесткий ультиматум ему не подошел.
– Тогда нам с тобой не по пути. На что же мы будем жить? На копейки?
В тот момент он как раз должен был начать работу в фильме «Объяснение в любви»…
К тому же своеобразная внешность Нади весьма поразила ленинградских родственников, когда Юра привез невесту знакомить с родней.
– Я ждала гостей, – вспоминает Татьяна Васильевна Богатырева. – Как было принято, испекла четыре пирога – со свининой, с фруктами, с сырковой массой и с капустой. Юра сидел с Надей. И пришли наши друзья, родственники. Один из них, капитан первого ранга, говорит мне по секрету: «Мы не верим, что Юра на ней женится. Он что, с ума сошел – ведь ее из-за носа не видно!» Но Юра очень уважал Надю. И всегда стоял за нее горой: «Она, мамочка, некрасивая, но очень умная».
Их отношения развивались, несмотря ни на что. Надя стала писать о Богатыреве, изучать его творчество. Он же всегда говорил друзьям, что она его жена. Никто, правда, не видел официального штампа у него в паспорте.
Но «жених» все же не выполнил основного «условия» – не бросил кино. Он приступил к съемкам в «Объяснении в любви». Они расстались. Тем не менее впоследствии Богатырев всегда помогал Целиковской – поддерживал, когда умерла ее мать, ухаживал, когда она тяжело болела…
* * *
Поклонницы…
Не зря все-таки некоторые артисты вздрагивают при этом слове…
Как у любого популярного актера, у Богатырева всегда они были. И не все довольствовались лишь автографами и билетами на спектакль.
Так, одна оригиналка мучила его своими любовными письмами. Просто доводила до белого каления. Она писала буквально каждый день. Почтовый ящик был забит ее конвертами. Богатырев даже как-то пожаловался Татьяне Васильевне:
– Мама, что мне делать?
– Ты посмотри, может, она хорошая.
– Нет, мама, она просто издевается надо мной.
Как-то Татьяна Васильевна гостила у сына в Москве. Звонок в дверь. На пороге – та самая нежданная гостья. Мать артиста спохватилась:
– Вот сейчас придут Юрины друзья…
– Вы меня извините.
– И вроде солидная пожилая дама, а как побежала! – смеется Татьяна Васильевна. – Таких экзальтированных дамочек и сейчас хватает. Так, некая Лена из Новосибирска хочет быть ни больше ни меньше как… вдовой артиста и перебраться в Москву. И настойчиво пишет об этом несчастной матери.
Татьяна Васильевна с трудом сдерживает возмущение:
– Меня всю затрясло, когда я получила ее письмо с просьбой устроить ее в монастырь, чтобы она за Юрочкиной могилой ухаживала как вдова… И я ей ответила. Написала, что мой сын был скромный, воспитанный, необыкновенный человек! И в Новосибирске он никогда не был… Я напомнила, что у нее, наверное, есть мама, папа, бабушка с дедушкой, – как она может уехать из своего города? Я попросила оставить меня в покое – я больной человек, мне восемьдесят два года…
* * *
Мало кто знал, что штамп в паспорте у него все-таки появился: актер вступил в брак – но с другой Надей. Это была его соседка по общежитию «Современника», актриса Надежда Серая.
Глава 20. Коммунальный роман
Исповедь на кухне ■ Смоленский жаворонок ■ «Легенда» двух театров ■ Роковой танец ■ Персы берут Щепку ■ Любовный стоп-кран ■ Таганковская декабристка ■ Таланты и дворники ■ Замечательный сосед ■ Плачущий великан ■ Бригантина на Манежной ■ Деньги жгут карман ■ Предложение, от которого нельзя отказаться ■ Обманный обмен ■ Наезд по-богатыревски ■ Шляпа, перо и тополь ■ Квартирный вопрос ■ Секрет фаршированной рыбы ■ Дефекты фикции ■ «Я могу только любить…»
Наш разговор состоялся в коммунальной квартире в Измайлове, где меня встретила миниатюрная женщина-подросток с короткой стрижкой – казалось, годы не властны над ней…
Легкая походка, приветливая улыбка…
На стенах комнаты фотографии и картины Богатырева…
Ее рассказ оказался долог, эмоционален и порывист – по сути, мини-спектакль маленькой женщины о большой любви.
* * *
– Я родилась в Тбилиси, в семье железнодорожника, – говорит Надежда Серая. – Рано пошла работать на Бердянский завод дорожных машин. Но с детства грезила о театре. И осуществила свою мечту, поступив в ЛГИТМиК на курс к Евгению Алексеевичу Лебедеву. По распределению попала в Смоленский драматический театр. Там работал тогда очень хороший режиссер Александр Семенович Михайлов. Он собрал вокруг себя талантливую молодежь, в театре был достойный репертуар. Михайлов ставил много, в том числе «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса, «Дом Бернарды Альбы» Гарсия Лорки, «Жаворонка» Ануя, в котором я сыграла главную роль Жанны.
* * *
Коллеги по смоленскому театру до сих пор называют ее «легендой нашего театра».
– Вообще-то я «легенда» двух театров – Смоленского драматического и Театра на Таганке, – уточняет Надежда. – И очень горжусь этим. Я работала на износ. Мне говорили: «Ты плохо кончишь – или рано уйдешь из театра, или свихнешься». Но иначе я не могла.
Но… Когда наш режиссер поставил «Двух товарищей» Войновича, в Польше как раз начались политические волнения. Спектакль обвинили во фрейдизме и еще бог знает в чем. Александр Семенович вынужден был уйти из театра. И мы тоже решили разбегаться. Вся молодежь ушла из театра… И я…
* * *
Тогда в Смоленске у меня началась любовь с Мишей Али-Хусейном, артистом нашего театра. Он ходил вокруг меня год. «Высиживал», как говорил потом кому-то из друзей. Однажды мы поехали на гастроли в Вильнюс. Пошли в ночной бар. И когда мы стали с Мишей танцевать, меня обдало какой-то холодной волной… Я поняла – я его люблю!
Вот так я сдалась на милость персам – его дед был персом. Мама Миши была наполовину русская, наполовину персиянка. И оттуда пошла эта фамилия – Али-Хусейн.
Он окончил Щепкинское училище, курс Николая Анненкова. Мы оба были такие маленькие, шустренькие… Так завязался роман. Потом они с другом поехали показываться Юрию Петровичу Любимову в Театр на Таганке. Я поехала им подыгрывать. Друга взяли. И меня.
Мишу не взяли… Миша жутко переживал, что я его брошу. А я не собиралась делать этого. И очень долго не ехала в Москву.
Когда уже в январе собралась ехать – то уже на ходу поезда выбросила свои вещи и спрыгнула на платформу. «Я никуда не еду! Не нужна мне никакая слава, Таганка, никакая Москва. Мой бедный Миша тут будет пропадать!..»
И еще неделю прожила в Смоленске. Всем театром меня уговаривали: «Дурочка, езжай! Ты понимаешь, что такое Таганка?»
Я все прекрасно понимала! Но есть же какие-то обязательства. У меня отношения с театром были любовные. Может быть, театр в себе я много раз предавала, но никогда не предала никого в коллективе. Никогда – общую работу.
* * *
Со 2 февраля 1969 года я приступила к работе в Театре на Таганке по договору. А через полгода уже была переведена в штат театра. У меня высокий лоб, коллеги-артисты шутили: новая артистка маленького Ленина будет играть у нас в театре.
Но сыграла я там немного. Получила роль в «Часе пик». Меня ввели в «Тартюф» – я играла Дорину. А Миша тогда из Смоленска уехал работать в Липецк. Я не была еще за ним замужем, я просто его любила. И однажды он мне позвонил позже, чем обещал, – не в одиннадцать – двенадцать, а в два часа ночи.
– Извини, воробей (так он меня называл), я не смог раньше. Звоню из милиции. Шел из театра, ребята напали, побили, отняли шапку…
На следующий день я пошла и подала заявление об уходе из Театра на Таганке…
После этого меня стали называть в театре декабристкой. Все подруги сказали, что я идиотка, что, если сейчас же не заберу у директора заявление об уходе, мне просто устроят темную, что я не имею права разбрасываться талантом из-за какого-то Али-Хусейна.
Они меня просто втолкнули в кабинет директора и предупредили: «Оттуда без заявления не выходи». Я забрала заявление об уходе. А через неделю опять подала – не могла. У меня душа была не на месте. Я понимала, что Мише там одиноко. А я работаю в знаменитом театре, живу в общежитии Таганки, около Курского вокзала, – и все у меня замечательно складывается. Я думала: «Я его люблю, ему там плохо – почему мне должно быть хорошо? Поеду к нему».
Поэтому теперь я «легенда» Таганки – поскольку никто Таганку не бросал, никто не уходил оттуда сам. А я ушла, да еще как! За любовью уехала!
* * *
Мы расписались в Липецке, потом поехали в Волгоград к нашему первому режиссеру Александру Семеновичу Михайлову. Там я родила дочку Варю. Миша хотел учиться режиссуре. Поехал в ГИТИС, к Марии Осиповне Кнебель, поступил. А работал в Москве дворником, еще и подрабатывал немножко… Через год и я приехала в Москву. Мы жили во всяких дворницких – в Музее революции, в школе на Цветном бульваре…
Но наша с Мишей семейная жизнь не сложилась. У нас испортились отношения. Он мне изменил, а я этого не могла пережить. Даже пыталась кончить жизнь самоубийством. Решила, раз жизнь не удалась, раз самый близкий человек предает – как мне дальше жить? Я больше никому не смогу верить – такие были комсомольские взгляды… Выпила кучу лекарств – слава богу, не тех, что надо. Снотворное оказалось успокоительным. Я просто очень глубоко уснула…
Мы потом помирились, еще какое-то время прожили вместе, но опять случилась измена. И этого я уже пережить не могла. Но я не собиралась кончать жизнь самоубийством – Варьке четыре года уже было… Я отправила ее к своим родителям и ушла от Миши. Но отношения у нас остались дружеские. И Варю он любил.
Тогда я работала в Областном театре имени А. Н. Островского. Скиталась по квартирам… Театр немножко помогал оплачивать… И Миша все время помогал… Он был соседом Юрия Богатырева по общежитию на Манежной улице, они дружили, много общались. И когда Миша оттуда съехал – женился второй раз, – то поселил меня в своей комнате. Варя там жила со мной один год – я забрала ее от родителей, так как очень по ней скучала. Забегая вперед, скажу, что Юра ее совершенно обожал: она помогала ему как «секретарь» – рассказывала, кто звонил. А ходила во второй класс – ей было девять лет. Я перешла работать в маленький театрик профкома драматургов. Затем в театр Аксеновой-Арди при Москонцерте… С ними объездила всю Россию.
* * *
Мы с Юрой жили через стенку. У него была огромная комната метров двадцать пять, без балкона, с окнами во двор. А в комнате с балконом жил его однокурсник Володя Поглазов с женой Наташей. И знаменитый снимок Юры сделан именно на его балконе. Он ходил мимо моей комнаты по коридору. Встречались на кухне. Юра был много выше меня – я ему по грудь… Такой огромный красивый человек, которого я очень любила как актера… Когда посмотрела фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», просто была поражена его красотой и талантом. А еще – потрясающей самоотдачей, необходимым, на мой взгляд, актерским качеством.
* * *
А подружились мы с Юрой очень просто. Однажды то ли на 1-е, то ли на 9 Мая все обитатели коммуналки, естественно, отмечали праздник. Я же старалась никого не отягощать своим присутствием. Вари там еще не было – она жила у моих родителей в Минеральных Водах.
И вот я вышла в коридор по каким-то своим делам – сигаретку ли стрельнуть, к телефону ли. И вдруг смотрю – стоит Юра Богатырев и плачет. Уткнулся в стенку и плачет.
Мне стало так страшно!
У человека, должно быть, горе! Огромное горе!
А я не могу подойти и спросить: «Юра, что с вами?» Мы ведь в общем-то незнакомы.
Но с другими соседями-актерами я уже дружила – пошла к ним:
– Ребята, там Юра Богатырев плачет, что-то надо делать.
– Ой, не обращай внимания!
– Как – не обращай? А может быть, у него горе?
– Да Юра иногда расстраивается, особенно если выпьет. У него тогда слезливое настроение. Не обращай внимания.
Потом я заглянула еще к кому-то, еще. И все мне говорят: «Да ладно, не обращай внимания…»
А у меня болит душа. Ну как это? А вдруг ему помощь нужна? Ведь бывает, человек валяется на улице, все мимо проходят – алкаш! Я никогда не прохожу. Предложить помощь любому человеку – это совсем не стыдно. Стыдно оскорбить. Стыдно предать…
Забегая вперед, скажу: так и случилось с Юрой в конце концов. Он звонил, просил друзей приехать, а те: «Да не обращай внимания, да ладно, у Юры очередное слезливое настроение…» И никто к нему в ту роковую ночь не приехал. А если бы кто-нибудь приехал – может, и не случилось бы этой смерти?..
Так вот, я решила – подойду и спрошу. Скажет: «Надя, не ваше дело» – я спокойно повернусь и уйду. А вдруг ему нужна помощь?
Я постучала в дверь (он уже был в комнате):
– Можно?
– Да, войдите, – ответили мне тихим голосом.
Я вошла. Посредине комнаты стоял накрытый стол. Спиной ко мне сидел Юра. Где-то сбоку еще два человека…
– Ребята, к нам пришла дама. Доставайте!
– Нет-нет, ничего не доставайте, я на одну секунду. Юра, ради бога, извините. Сейчас увидела, что вы плачете. И я подумала: а вдруг вам нужна помощь? Не знаю какая – любая помощь. Может, просто поговорить.
Они усадили меня за стол… Я сопротивлялась, Юра настоял: нет, вы никуда не пойдете. И тут я ему фактически объяснилась в любви… Сказала:
– Знаете, как это страшно, когда такой огромный, красивый, мощный, талантливый человек плачет на твоих глазах – и ты не знаешь, чем ему помочь и как его утешить. Становится не по себе. Я, собственно, думала: может быть, вам нужна помощь? Посмотрите, какие у вас потрясающе красивые руки, какие огромные плечи…
Я подбирала слова – чтобы снять неловкость ситуации… Знаю – любому человеку приятно, когда ему говорят хорошие слова, а уж актеру и подавно…
И выяснилось, что Юра плакал в коридоре потому, что он проводил племянника, – закрыл за ним дверь и заплакал. Ему стало жалко мальчика, который учился на моряка, служил уже на Севере и ему было там тяжело… И по этому поводу Юра очень расстроился – плакал так, как будто у него произошла какая-то жуткая трагедия.
Это я выяснила потом, уже по ходу разговора… Он обожал сестру и племянника. Может, потому, что сам не стал моряком?
Потом, уже позже, я узнала, что действительно такая черта в характере у Юры была: когда он выпьет, на него нахлынут воспоминания… иногда это кончалось слезами.
Пусть так – все-таки это лучше, чем если бы человек кидался с кулаками выяснять отношения… Говорят, что у трезвого на уме – у пьяного на языке. Если человек внутри себя чем-то наполнен или отягощен – в пьяном виде это всегда проявляется.
Так, у Юры всегда проявлялась только любовь – он с нежностью говорил о маме, о папе, о сестре Рите, о своих товарищах! У Юры почему-то болела душа за тех, у кого случались какие-то неприятности. Это ему было дано от Бога – болеть за других. Поэтому он и был таким потрясающим актером – все принимал близко к сердцу.
С этих пор мы как бы подружились…
* * *
Мы провели с Юрой много дней и ночей за беседами-разговорами… Иногда бывало так: отмечаем в общежитии какой-то праздник, сидим, выпиваем… Или Юра сам иногда устраивал праздник для всех. Приносил вино и говорил: «Ребята, сегодня гуляем!..» Он любил сухие вина.
Сидим, например, у Володи Поглазова. Юра «расслабляется». Ребята мне говорят: «Надя, мы тебя очень просим – это может до утра продолжаться. Забери Юрочку к себе, нам ведь завтра на работу. А тебе на работу не идти. Нельзя же сказать: Юра, иди, мы хотим спать… Уведи его, пожалуйста, – и будешь его слушать до утра».
Я забирала Юру, и мы шли к нему или ко мне, там сидели и разговаривали. И он опять рассказывал про маму, про папу, про Риту, про племянника… И все эти истории я выучила наизусть. Знала всю его родню. Всю Ритину жизнь. Он очень переживал за сестру и помогал ей и материально, и морально. Он помогал все время и маме, когда отец умер. Он каждый день звонил Татьяне Васильевне, если не был на съемках… А деньги вообще раздавал направо-налево – одалживал без всяких условий…
* * *
Моя подруга, актриса «Современника» Галя Петрова, написала о Юре стихи:
Завораживая, манежа, Человек плывет по Манежу, И, как белая бригантина, Он вплывает в свою квартиру… К телефонным звонкам подходит, И пьянеет, и колобродит. То застенчивый, то нахальный, То печальный, то эпохальный. Плачет, думает или смеется, Но самим собой остается. А со стен, тихи и раздеты, Удивленно глядят портреты. Словно юные итальянки, Волооки его обезьянки. Твердят поборники архива: «Известность – это динамит! Быть знаменитым некрасиво!» Но он красиво знаменит.Он действительно был как бригантина. И завораживал.
Все эти ночные бдения, слезы, переживания – все это привело нас к близости. И в прямом, и в переносном смысле. Наши отношения зашли далеко и прямо в постель. Как у классика говорится: она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Вообще-то я на это не надеялась – никогда и речи не было, что у нас возможен роман. Хотя какие-то разговоры были, но скорее шутливые… Юра даже намекал: «Надо бы, чтоб ты мальчика родила…»
Он хотел ребенка.
Вася Росляков, один из его ближайших друзей, был в курсе наших отношений. Ему негде было жить, он слонялся по квартирам – то у Юры, то у женщины какой-то… И вот, помню, у Васи должен быть день рождения 31 марта, а я заболела. И они оба стали усиленно меня лечить – как это они без Надиных пельменей, без ее фаршированной рыбы будут отмечать день рождения? Мы никого не приглашали – втроем сели за стол. Они меня немного по-своему «подлечили», Юрка натянул на мое голое тело свой свитер (чистая заграничная шерсть), похлопал по бедрам – эх, такая баба, и не моя! Такой юмор… Но я тогда уже была его.
* * *
…Однажды ко мне приехала подруга из Минеральных Вод. Часов в десять вечера я зашла в ванную – мы уже собирались ложиться спать. А Юрина комната рядом. Выхожу из ванной, а в это время мимо проходят Юра с Севой Шиловским и с Васей Росляковым. Василий схватил меня крепко под мышку и говорит:
– Серая отрава, пошли пить водку!
– Не могу – у меня подруга приехала.
– Сейчас и подругу принесем.
Вытащили ее из раскладушки и к Юре привели.
– Ну, давайте посидим, выпьем.
Сидим, разговариваем, выпиваем. И вдруг за столом Юра говорит:
– Надя! Я прошу тебя стать моей женой!
Причем это прозвучало как-то не очень официально. Было скорее похоже на шутку, Я отвечаю:
– Да? Ну ладно, я подумаю!
Мы были уже разведены с Мишей. На что Сева Шиловский сказал:
– Это надо же! Посмотрите на нее! Тут толпы баб за Юрой бегают, которые мечтают замуж! Он ей делает предложение, а она, видите ли, еще и подумает!
Мне стало стыдно.
– Ну ладно, в таком случае я согласна.
Сейчас мне самой не верится, что все было именно так. Но было. Он сказал эти слова. Он сделал мне предложение.
* * *
Мы не афишировали нашу свадьбу. Расписывались в ЗАГСе на Плющихе – приехали туда на такси. Гуляли в общежитии. Сами готовили стол. Собралось человек восемь – десять, Володя и Наташа Поглазовы, Вася Росляков, соседи по общежитию. Мы никого не ставили в известность. Поэтому многие потом считали, что Юра не был женат.
Но на своих выступлениях Юра очень часто говорил, что он женат. Правда, не уточнял, что у него жена – актриса. Он называл меня то учительницей, то инженером, то еще как-то… И везде, где он получал деньги, он говорил, что у него дочь. Предварительно только спросил:
– Надь, можно?
– Да пожалуйста!
И с него брали меньше налогов. Но Варю я не могла «переписать» с живого отца на Юру!
* * *
Потом случилась история. Я меняла квартиру – я была прописана у бывшего мужа и его мамы. Чтобы получить комнату в коммунальной квартире, где я поныне и живу, нужно было заплатить людям, которые выезжали. И Юра без разговоров выдал мне деньги и сказал: «Заплати».
К сожалению, маклер-азербайджанец, который взялся мне помочь, забрал деньги и исчез. А перед этим Юра его гостеприимно встречал и угощал. Но взаимопонимания не получалось. С нас он содрал большую по тем временам сумму – тысячи две. И оказалось, что большую часть он положил себе в карман. А этим людям отдал лишь четверть суммы, поэтому они долго не хотели уезжать. А мы тогда не знали, в чем дело, – маклер нас предупредил: «Ни в коем случае сами не ходите, я все сделаю».
Обманул всех нас. Я ему регулярно звонила, он все время обещал – да-да-да, вот скоро отдам деньги. Время шло, а результата не было. И никакого обмена соответственно. Стали думать, как забрать деньги у маклера.
И вот что придумал Юра. Сначала «подключил» Петровку, там у него вроде были какие-то знакомые… Он несколько раз звонил маклеру и говорил: «Вами займется Петровка».
Мы знали, где живет этот азербайджанец, сам, кстати, юрист по образованию, но с не очень хорошей репутацией.
И вот Юра его напугал, а в один прекрасный момент объявил: «Приезжаю тогда-то. Если денег не будет – имейте в виду». И мы поехали. Взяли Васю и еще одного Юриного приятеля – очень большого и толстого. Три огромных мужика вошли со мной в квартиру этого маклера:
– Значит, так: деньги на стол… Если нет – будешь иметь дело не только с Петровкой, но и с нами.
– Я верну. Сейчас только нету.
Это был, конечно, чистый «наезд»! Юра его организовал, защищая меня. Потом мы еще раз заехали. Маклера не было дома – его жена отдала нам все деньги. Мы расплатились с людьми и благополучно обменяли квартиры.
* * *
У меня в комнате до сих пор на стене висит портрет элегантной дамы в нарядном платье и шляпе, в которой с трудом можно узнать меня. Так меня увидел тогда Юра.
– Неужели это я? – спросила его.
Он ответил:
– Ты такая и есть. Ты не так к себе относишься, как должна относиться. Ты не такая простушка, как себя преподносишь… Ты такая дама и есть…
На портрете у меня пол-лица в тени, пол-лица освещено – в его комнате тополь загораживал окно, и свет от тополя падал на меня. Причем я не надевала этот костюм – сидела в чем была, на голове была «химия», волосы посветлее. Ну не я! Но сейчас иногда, когда смотрю в зеркало, ловлю что-то похожее…
– Юра, это не я!
– Ты себя не знаешь. Ты себя не видишь.
И этот воротник, и это роскошное перо на шляпе… Меня рисовал, может быть, два-три дня, а перо выписывал чуть ли не месяц – каждый волосок.
* * *
К нашему союзу я относилась больше с юмором. Хотя мы были счастливы. Правда, недолго, очень недолго.
Почему? Была еще маленькой Варя. Мои мама и папа, конечно, все знали. Но ни Татьяна Васильевна, ни Варя тогда не должны были знать. При живом папе я не могла объяснить девятилетней девочке, что у меня появился другой муж, – она и так ужасно страдала.
Татьяна Васильевна тогда перенесла тяжелую операцию. И я подумала: нужна ли ей такая невестка – с ребенком на руках? Причем Юра хотел ей все открыть, но я настаивала на том, что не надо ничего афишировать. О нас знали лишь несколько человек.
У нас с Юрой никогда не было общего хозяйства, у нас была такая дружба-любовь. При этом он очень любил, когда я ему что-то готовила, особенно фаршированную рыбу – щуку, сазана…
К тому времени, когда Варя подросла, наши отношения уже сошли на нет. Я жила теперь в своей коммуналке, Юра – на улице Гиляровского…
Мы не съехались из-за Вари – жить втроем в одной комнате в крошечной квартире было невозможно. Мы все откладывали «на потом» наш съезд – когда поставим Варю в известность, когда сообщим Татьяне Васильевне, когда он заработает какие-то деньги, чтоб купить от театра двухкомнатную квартиру… Мы все ждали. Вот Варя немножко подрастет… Вот маму подготовим… Вот-вот…
А потом уже не надо было никого ставить в известность, потому что наши отношения сошли на нет…
И никто в этом не виноват. Так незаметно мы с Юрой расстались. Я чувствовала, как он отдаляется.
* * *
Юра был особенным, другим человеком. Одиночка по жизни. Весь посвящен работе, и только работе! И наш брак был просто благородный порыв. Хотя однажды он должен был жениться на Наде Целиковской. Они уже подали заявление в ЗАГС, но Надя поставила некоторые условия, на которые Юра не согласился, и, в конце концов, они расстались…
Сегодня Надежда Серая уверена:
– Если бы мы жили вместе – все было бы, конечно, по-другому. Но я не думаю, что это продлилось бы долго – Юре, по большому счету, никто не был нужен… А я все-таки максималистка. Я пошла на этот брак как в игру, в шутку. Почему нет? А давай! Все и закрутилось. Но отношения наши были искренние. И мы были счастливы…
Я понимаю: в том, что меня считали фиктивной женой, во многом я сама виновата. После смерти Юры, на второй день, я приехала на улицу Гиляровского. И увидела его маму в обмороке – оказывается, у ее сына есть жена! Кто такая?
Она ведь ничего не знала! Да мы с Юрой уже не жили – много лет прошло! Ну не сказал он ей об этом, пожалел – мама тогда была больна. Так получилось. И я не хотела ничего афишировать. Я вообще во все это не верила! В то, что все это может быть на самом деле…
И когда Юру похоронили, все его друзья – и Вася Росляков, и Зина Попова – стали настаивать: надо открыть правду. А Татьяна Васильевна говорит: «Никакая ты не жена!» Я подтвердила: «Да, я фиктивная жена!» Потому что ради Юры не хотела больную женщину еще больше расстраивать.
Я поехала, подписала все документы, отказалась от всех прав на имущество, квартиру. Попросила только на память не законченную Юрой картиночку астрологического Змея. И мне ее дали.
Глава 21. Братик и сестричка
«Фурманов идет!» ■ «Мои друзья – твои друзья!» ■ Мебель в пастельных тонах ■ Кофта с царского плеча ■ От Анки-пулеметчицы с любовью ■ «В тот год я была мышкой…» ■ «Давай поставим „Набукко“ ■ «Ты мешаешь смотреть!» ■ Черные очки – не роскошь ■ «Ты гениален!» ■ Горбачев или Тартюф? ■ Стыдно быть жадиной ■ Параллельные страдания ■ «Он меня выгуливал!» ■ Отключенный телефон ■ Поминальное варенье
Особое место среди его друзей в последние годы занимала Зинаида Попова – журналистка, в то время референт-переводчик московского бюро газеты «Лос-Анджелес таймс», дочь той самой Анки-пулеметчицы, соратницы легендарного Василия Ивановича Чапаева (точнее, ее прообраза).
– Мы познакомилась с ним во МХАТе на вечере, посвященном Фурманову, – вспоминает Зинаида Михайловна. – Юру пригласили как исполнителя роли Фурманова. Так как я к Фурманову тоже имею некоторое отношение, то мы там и познакомились. И с первого же момента почувствовали какие-то флюидные связи, возможно, даже духовное родство. Казалось, у нас на любой вопрос всегда предполагается как бы один и тот же ответ.
Видимо, Юре очень понравилось со мной общаться. Он отвез меня на такси домой, узнал, где я живу, и спросил меня, может ли он ко мне заходить, предложил свою дружбу…
* * *
И вот он впервые пришел к нам в дом на улице Горького. И ему у нас очень понравилось. Он познакомился с моей мамой и всегда потом относился к ней с огромным уважением, был ласков и очень мил, гордился, что с ней знаком. Когда он приходил к нам в дом, мама встречала его так: «Фурманов идет!» К тому же Юра работал во МХАТе вместе с моим мужем – Игорем Васильевым.
Что меня подкупило: он с самого начала стал относиться ко мне с каким-то… благоговением. Казалось, был счастлив, что со мной познакомился. И я отвечала ему тем же. Так началась наша дружба…
Он мог после спектакля позвонить и спросить:
– Можно я к тебе заеду поболтать?
И заезжал, и мы могли часа два болтать за чаем. Тогда он не пил совсем – ни грамма. Такой худенький, симпатичный. Кто позже сподвигнул его к питью – не знаю. И он еще жил в общежитии на Манежной улице напротив Кремля. Мы там бывали вместе с моей подругой – режиссером из Ленинграда. Юра познакомил нас с Надей Серой. Я, правда, не помню, была она уже его женой или нет…
Как-то даже мы провели всю ночь в общежитии. Он показывал свои живописные работы. Мы слушали музыку. Было скромное застолье. Помню, присутствовал отец Нади Серой. У Нади была тогда маленькая дочка. Сейчас, видимо, уже есть внуки…
Так мы просидели до утра, затем Юра проводил нас домой. Светило яркое солнце, мы постояли за газетами…
Вообще, театральное общежитие – это все-таки не коммунальная квартира. В общежитии все коллеги были с Юрой в хороших отношениях – он ведь был очень дружелюбным человеком и часто помогал людям…
* * *
Он стал часто приходить к нам в дом на улице Горького. Иногда приводил приятелей (помню, как-то на мой день рождения привел с собой Стаса Садальского). Кто только у нас не был… Но все эти люди прошли мимо. А Юра – нет. Мы друг за друга «зацепились»…
Мы стали перезваниваться. Я ночная пташка, «сова», он тоже. Он звонил обычно поздно вечером или ночью – с часа до трех мы разговаривали. И всегда находилась тема для разговора. Мы обсуждали книги, пьесы, людей…
Потом он получил квартиру на улице Гиляровского. Мы пришли смотреть… Там была, помню, Надя Серая. Юра был счастлив – наконец-то у него появился свой дом.
* * *
Вот ведь парадокс… Он, с одной стороны, упивался своим одиночеством, ему было сподручней, когда он был один, а с другой стороны, ему хотелось общаться с людьми. И у него было много друзей-товарищей. Но, как творческому человеку, ему иногда было очень обременительно это общение, нужно было сосредоточиться, уйти в себя, особенно в периоды подготовки к новой роли. Например, он так тщательно готовился к «Тартюфу», так переживал за роль Клеанта, что несколько раз звонил мне и читал эту роль по телефону, безумный монолог своего Клеанта…
Поэтому он предпочитал жить один.
Хотя раньше еще, кажется, был женат на Наде Целиковской, искусствоведе. Она очень умная женщина, интересная… Но… Некоторые творческие люди, которые много думают и рассуждают о тяготах жизни, сами начинают очень страдать, и болезненно страдать… Мне кажется, Надя была именно из того сорта людей – из «страдательных» женщин.
Они разошлись. Причем они с Юрой не поссорились – встречались, общались. Иногда Юра мне звонил и говорил: «Вот, Надя была…» Он ее жалел.
А через некоторое время он женился на Наде Серой. Кажется, Наде нужно было сделать прописку в Москве… Они были в очень хороших отношениях.
Он вообще людей жалел. И готов был всем помочь. Так, у него никогда не было денег – он всегда всем давал взаймы. Очень добрый, отзывчивый человек, понимал людей, их заботы.
* * *
У нас была плодотворная дружба. Юра вводил меня в свой круг. Ему очень хотелось, чтобы я ходила на премьеры. Брал меня с собой на театральные вечера. И потом всегда провожал до подъезда. Он познакомил меня со многими артистами. Привел в дом к Ие Саввиной. Были у нас и общие знакомые: Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская. Как-то мы встретили на Пушкинской площади Наталью Гундареву, и Юра нас познакомил. Мне очень понравилось ее рукопожатие – такое крепкое, теплое…
Я, в свою очередь, познакомила Юру со своими друзьями. И он относился к ним с подчеркнутым уважением. Например, у меня была подруга – балерина Елена Рябинкина из Большого театра, и он с ней как-то очень мило, очень трогательно общался.
Отношение же ко мне было невероятно трепетным. Встречаясь с моими друзьями, он очень ревностно относился к нашему общению – как бы болел за меня.
* * *
Юра был весь… какой-то пастельный. Он любил именно пастельные тона. И когда я покупала мебель – он поехал со мной в мебельный магазин. Ему понравился спокойный тон обивки дивана и кресел – их мы и выбрали. Одобрил и качество ткани – он не любил бархатные вещи.
Всегда дарил мне какие-то изысканные подарки. Привозил их отовсюду. На день рождения, на 8 Марта, на Новый год… Не любил формальных поздравлений – но обязательно дарил милые подарки. У меня в доме их огромное количество: помимо рисунков, это керамика, платки, музыкальная шкатулка. А когда он ездил за границу, всегда привозил что-то интересное. Он любил делать приятное людям. И учил меня этому. Как-то увидел у меня редкую книжку о Блоке. Тут же попросил: «Подари ее Ие» (Саввиной) – она собирала книги о поэте. И я дарила…
Был очень щедр. Пришел, например, однажды в синей кофте, снял ее и говорит:
– Знаешь, по-моему, эта кофта больше подходит тебе, а не мне. Она тебе больше идет. Я хочу ее тебе подарить.
Снял ее с себя и положил. Я сопротивляюсь:
– Нет, я твою кофту не буду носить.
– Ну, пожалуйста. Я прошу. Мне очень приятно будет. …И сегодня я постоянно наталкиваюсь на какую-то вещь, связанную с Юрой…
Он иногда, например, спрашивал:
– Что мне Ефремову подарить?
Я советовала всегда одно и то же:
– Нарисуй ему что-нибудь – он будет счастлив.
И Юра рисовал и шел к нему на день рождения со своей работой. Наверное, у Олега Ефремова собралась немалая коллекция.
* * *
Его первая выставка готовилась незадолго до смерти. Он позвонил мне и попросил:
– Я сейчас болен, не могу сам зайти за работами. К тебе придет Михаил Михайлович, который организует в Ермоловском музее мою выставку. Отдай ему тогда две работы – «Три сестры» и Раневскую из «Вишневого сада».
Потом я еще отдала на выставку картину «Осень».
Часто он разговаривал со мной по телефону и одновременно рисовал – у него была такая манера. Я даже подарила ему гибкую настольную лампу, чтобы было удобно.
А то вдруг объявлял: «Я начинаю подготовку к Новому году…» Значит, он рисует астрологических зверюшек. Если «мышиный» год – то я получаюсь мышкой со свечкой, в шубке и в сапожках. Он делал такие подарки-рисунки всем своим приятелям, и моим тоже. Просто просил: «Передай, пожалуйста, от меня поздравление…»
Ночью вдруг позвонит:
– Давай будем разговаривать, а то у меня нет вдохновения рисовать.
И вот мы разговариваем, а я представляю, как он одной рукой рисует, выводит изящные черточки, а другой рукой держит трубку, иногда прижимая ее к плечу.
К своему рисованию он относился как к хобби. На самом деле он был талантлив и как художник.
Я считаю, что, если человек талантлив, он талантлив во многих проявлениях.
Юра был именно таким. Он был талантлив во всем – и в творчестве, и во взаимоотношениях с людьми (хотя у него и проглядывали иногда эгоистические черты, но этого не могло не быть совсем у творческой личности).
* * *
Мама моя в это время была уже больна. Сказывался возраст… Но у нее была прекрасная память, и мыслила она отлично. Они с Юрой очень много беседовали. Он относился к ней с почтением, уважал, любил. Моя мамочка тоже очень полюбила Юру. Она даже подарила ему какие-то фотографии с надписью. А вообще она актеров воспринимала с юмором и с какой-то теплой иронией. И они это ощущали.
Юра великолепно играл Фурманова. Но мама моя вообще была человек с гипертрофированным чувством юмора. И, как пересмешник, относилась несколько скептически ко всему, что видела. Мы с ней очень часто подолгу смеялись над разными сюжетами. Юра же не был веселым, жизнерадостным человеком. Он был как вещь в себе, хотя со мной не был особо скрытным, делился многим… И я хранила его тайны. Он мог меня и не предупреждать, и так было ясно: то, о чем мы с ним говорим и что обсуждаем, не должно выходить за пределы этой комнаты.
* * *
У меня очень часто собирались гости: на блины на Масленицу, на куличи на Пасху…
И Юра с удовольствием участвовал в православных праздниках. Но… Я его никогда не видела в церкви молящимся, хотя он относился к религии с пиететом. Я также не видела, чтобы он крестился перед спектаклем. Он не был суеверен. У него было в высшей степени серьезное отношение к своему актерскому делу.
Он безумно переживал, когда умер его отец. Это для него была жуткая трагедия. Он обожал своего отца, капитана первого ранга. А потом заболела мама, и он снова сильно переживал. Он очень любил маму, сестру. И что удивительно – даже спустя много лет после окончания школы дружил с одноклассниками из подмосковного Красногорска.
* * *
Он любил слушать разную музыку, но особенно почему-то оперную. А у меня в то время была записана вся опера Верди «Набукко». Ему безумно нравился хор в третьем акте… И всякий раз, когда он приходил, непременно просил: «Давай послушаем!»
И еще я ему привила любовь к творчеству моего любимого американского певца Ната Кинга Колла (он умер в 1963 году, сейчас прелестно поет его дочь Натали). Он исполнял баллады под джаз. Юре очень нравилось.
* * *
Однажды в ВТО был вечер дочери Аркадия Исааковича Райкина – Кати. Она пригласила Юру. А Юра, естественно, пригласил меня. Мы с ним пошли в ВТО и сидели в первом ряду. А потом, во время перерыва, Юра предложил пойти за кулисы, ему хотелось поздороваться с Катиной мамой и с Аркадием Исааковичем.
Мы отправились за кулисы. Я осталась в сторонке, разговаривала там с актрисой Аллой Покровской, а Юра подошел к Катиной маме… А у меня были светлые волосы и прическа такая же, как у Юры. И вдруг ко мне подходит Катя и говорит:
– Ой, здравствуйте, я хотела с вами познакомиться. Я за вами наблюдала со сцены и сразу поняла, что вы Юрочкина сестра. Вы рядом сидите и так похожи друг на друга – у обоих одинаковые прически.
Она приняла меня за его сестру.
И такой же случай произошел некоторое время спустя.
Я не видела «Обломова», и Юра очень переживал, что я не видела такую замечательную картину, где он так хорошо играет. И вот в каком-то НИИ был вечер, где шел этот фильм. Юра позвал меня.
Туда же приехала Елена Соловей из Ленинграда. Мы стоим, Лена подходит. Юра говорит:
– Лена, познакомься…
А Лена его перебивает:
– Я поняла – это твоя сестра.
А он взял и подтвердил.
Так у нас пошло – сестричка и братик…
* * *
Сказать откровенно, с Ритой, своей родной сестрой, у него не было такого душевного взаимопонимания. То, что мы смотрелись как брат с сестрой, меня очень привязывало к Юре. Его заботливость носила именно такой сердечный, братский характер…
Он любил приглашать меня на всякие «культурные» мероприятия. Особенно часто мы с ним бывали во МХАТе. Однажды, зимой 1987 года, там организовали вечер духовной музыки. Я была рада, что он меня пригласил. И было очень приятно, что я пошла с ним, – было с кем обменяться впечатлениями. Ведь у нас часто случалось так: я начинаю говорить какую-то фразу, он ее заканчивает – и это оказывалась одна и та же фраза.
Тот вечер удался. Тогда, мне кажется, впервые хор под управлением Владимира Минина исполнил на публике молитву. Это была уникальная, роскошная музыка Струминского. Они пели с таким подъемом и вдохновением… Зал буквально был в шоке – это было первое официальное появление церковно-хорового пения в концертном исполнении.
Мы с Юрой сидели рядом, я чувствовала через его локоть, как он весь напрягся, слушая это необычное пение. И не он один – у многих стояли слезы в глазах.
Потом мы вернулись домой, сидели с ним до утра и говорили, говорили, говорили… О жизни, о смерти… И одно за другое цеплялось…
* * *
Однажды он повел меня в кинотеатр на фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Я ничего не поняла: кто свой, кто чужой? Я все время его толкала и спрашивала, что происходит. Он рассердился:
– Больше с тобой никогда в кино не пойду! Ты мешаешь смотреть!
Но интрига там действительно сложная… Он же смотрел этот фильм много раз, и ему представлялось все на редкость простым и ясным.
Кстати, именно этот первый фильм и сделал его популярным. Его стали узнавать на улице.
Однажды он вошел к нам в квартиру взволнованный:
– Меня таксист довез – и, ты знаешь, он меня узнал.
Ему это было приятно. Хотя он был очень скромным человеком.
* * *
Как-то мы решили поехать на дачу к мужу и договорились встретиться с Юрой в метро. Он появился в темных очках. Я спрашиваю:
– Зачем ты напялил эти противные черные очки?
– Это чтобы меня не узнали.
Я, не подумав, выпалила:
– Да никто тебя и так не узнает!
– Неужели?
Вроде как я его обидела…
* * *
Я считала его очень талантливым актером. И хотя, в принципе, я очень не люблю восхвалений, но понимала, что ему нравится, когда его хвалят.
После спектакля звонил и спрашивал: «Ну как?» Я говорила: «Ты гениален!»
И он был совершенно счастлив.
Но в «Тартюфе», я считаю, он действительно был гениален. Как он мог произносить монолог Клеанта с такой невероятной быстротой? Да так, чтобы и слова были понятны? И чтобы еще создавалось впечатление, что все как бы невразумительно? Это было нечто невероятное!
* * *
Его последний «Тартюф».
Ко мне в гости тогда приехала племянница из Пятигорска, и мы собрались пойти на спектакль. Я предупредила Юру. Мне позвонил из театра его товарищ Василий Росляков и говорит:
– На спектакле будет Михаил Горбачев. Поэтому все свободные места будут заняты охраной. Но все равно я сделал вам хорошие билеты.
Горбачев был очень популярен тогда, в 1988 году. А «Тартюфа», кстати, очень редко играли – Александр Калягин уже ушел из МХАТа. В этот раз играла не Анастасия Вертинская, а Елена Проклова, вместо Калягина – Алексей Жарков. И вот мы в театре, у нас оказались прекрасные места. Появился Михаил Сергеевич Горбачев со своей семьей, женой и дочкой, и охраной.
И был совершенно уникальный спектакль, Юра изумительно все сыграл.
В перерыве мы обратили внимание, как живо вел себя Горбачев – разговаривал с публикой, смеялся. Было заметно, что спектакль ему действительно понравился. После спектакля все долго аплодировали. От Горбачева принесли огромную корзину цветов актерам. А на сцене тем временем произошла заминка. Юра вдруг ушел явно недовольный (как потом выяснилось, кто-то его толкнул). Мы вернулись домой, и я стала ему звонить:
– Ты был лучше всех!
– Нет, ты действительно так считаешь?
– Конечно. А знаешь, я заметила, что ты ушел со сцены обидевшись.
– Правда?
Ему надо было все время говорить, что он гениальный артист и художник. Чтобы ему было приятно на душе. Я не думаю, что он был сильно избалован вниманием публики. Его творчество все-таки было очень камерным, и его популярность была скорее элитарной. Я не люблю это слово, но все-таки оно сюда подходит…
* * *
Сейчас многие не знают, кто такой Юрий Богатырев. Может, потому, что он не пел и не танцевал на экране? Хотя он играл и в комедийных фильмах, но все равно это воспринималось как классика.
…В январе он зашел ко мне с товарищем… Я не особенная хозяйка, просто хотела его как следует накормить, зная, что дома он ест одни сосиски или пельмени, потому что живет один. У Юрочки был всегда хороший аппетит. Спустилась в магазин, купила какие-то отбивные, приготовила… Он с удовольствием ел и, как всегда, нахваливал: «Ой, как вкусно!»
Потом я подала чай. Я очень люблю сладкое и поставила на стол подаренную кем-то банку с клубничным вареньем. И он щедро намазал себе на бутерброд варенье. Мне вдруг стало жалко, говорю:
– Подожди. Я тебе дам другое варенье.
А он в ответ:
– А ты любишь это? Ну, на, возьми его!
И я вдруг почувствовала себя жадиной, которой стало жалко прекрасного варенья для прекрасного человека…
* * *
Когда мы с ним познакомились, он был весьма изящен. А в последнее время сильно располнел. У меня сложилось впечатление, что у него ожирение сердца. У него развилось повышенное давление, нарушился обмен веществ. Я бы не сказала, что он много ел. Но бросалась в глаза нездоровая полнота. Он воспринимал мое беспокойство настороженно, недоверчиво и вообще не хотел на эту тему разговаривать.
Той зимой он уехал в Ленинград сниматься, причем больной, простуженный: барахлили легкие, скакало давление. Он отснялся, вернулся…
И вот за три дня до роковой даты мы полночи разговаривали по телефону. Говорили о том, как нам тяжело жить… И зачем вообще человеку дается жизнь – на счастье или на страдание?.. Вот страдание – это была его тема… И моя тоже.
Мы хорошо понимали друг друга. Мне кажется, именно этим я и привлекала его.
Несмотря на то что я человек с юмором и очень жизнестойкий, по сути своей я тоже очень «страдательный» человек. Я родилась такой – меня очень многое волновало и мучило в этой жизни. И он таким же родился. И мы во время наших бесед превращались в неких садомазохистов – получали удовольствие от этих разговоров.
Мы как бы рассуждали: «Я страдаю – значит, я живу. Я страдаю – это мое личное, мое родное, мои страдания. Это Господь Бог послал мне их. А какие-то дураки ходят на улицах, бегут куда-то, суетятся, что-то покупают. Они не страдают, ничем не интересуются и сами неинтересны…»
* * *
Я могла поделиться с ним очень многим личным. Только ему могла сказать: «Ты знаешь, у меня депрессия, мне плохо…»
Ведь никто не понимает, что такое депрессия. Все думают, это плохое настроение. А это болезнь – когда человек не владеет собой. Это как грипп, как насморк, с которым нельзя что-то сделать. Это такое состояние, когда все давит и жить не хочется.
А Юре я могла спокойно сказать: «Я себя плохо чувствую, у меня депрессия». У меня действительно это случалось после того, как ушла из жизни моя мама. Мы с ней были большие друзья. Мне кажется, и сейчас мы с ней как-то связаны. Какие-то невидимые нити меня связывают сейчас и с ней, и с Юрой. Я очень часто вижу сны о них…
* * *
В те роковые дни, помню, я болела – у меня был сильный грипп. И я ему жаловалась на то, какая я несчастная, какая у меня депрессуха (так мы называли депрессию), как мне ничего не мило… И он пытался меня вывести из этого состояния – как раньше, когда в таких случаях звонил и говорил: «Давай поговорим – может, тебе легче станет». Или приезжал ко мне домой, заставлял одеваться, и мы шли гулять вокруг дома.
Обычно говорил: «Пойдем, я тебя выгуляю». И мы шли по Пушкинской улице. Он меня «выгуливал» вокруг нашего квартала. Но обычно ничего не помогало, и я просила Юру уйти, понимая, что я должна сама выйти из этого состояния, что мне лучше побыть одной.
Мне кажется, что он сам тоже иногда входил в такое состояние.
* * *
В тот раз он мне рассказал, как тяжело ему было в Ленинграде, как тяжело ему и здесь, в Москве. Он ведь тогда болел. В наш последний вечер мы снова говорили о театре. Он жаловался:
– Не могу больше! Все! Уйду! Они меня измучили! У меня бюллетень, но я все равно репетирую. Больше не буду! Ухожу!
Он серьезно хотел уходить из МХАТа, и я его уговаривала:
– Не смей этого делать – ты уйдешь из театра и все потеряешь… Театр тебя держит…
И снова он не мог принять решение. И снова я уговаривала его остаться.
Я не хотела, чтобы он уходил из МХАТа. Мне казалось, что для него тогда останется только кино, а кино мне не очень нравилось… Именно театр придавал романтичность всей нашей дружбе. Мы воспринимали его как праздник. Потом, театр – это все-таки коллектив, здесь не испытываешь такого одиночества, как в кино.
Но понимала: что-то не складывается у него в театре, что-то не так. Может, кто-то его уговаривал уйти, может, были какие-то конкретные предложения… Не знаю…
А в этот раз я предложила:
– Давай поговорим завтра…
Честно говоря, я чувствовала усталость от этих разговоров об уходе. В тот раз я была плохим собеседником…
И помню, еще спросила:
– У тебя дома кто-то есть?
Я ведь знала всех его друзей и соседей, включая милиционера Аркадия…
Кстати, когда у него появились приятели, с которыми он пил, я как-то от него отошла. И он переживал, что мы не общаемся, как прежде, и он мне даже это высказывал. Но я человек непьющий. Я не люблю даже смотреть на выпивших людей – у меня это вызывает аллергию. Поэтому я чувствовала, что его загубят приятели, которые вертелись около него с бутылками. Он же жил один…
И наш последний разговор получился такой… нелицеприятный. Я говорила Юре о том, что не надо привечать этих парней, о том, что пора подумать о себе: «Почему ты не обращаешь внимания на свое здоровье?» Я считала, что ему совсем не нужно было ложиться в больницу. Хотя и понимала, что было безвыходное положение – слишком высокое давление. Причем он не сам ложился – его «клали». Он со мной, как всегда, соглашался, а поступал по-своему.
У меня тогда поднялась высокая температура. И 1 февраля я отключила телефон, чтобы немного отдохнуть… И до сих пор себя корю, хотя понимаю, что я ничем не могла ему помочь…
…После того как все это случилось, всех гостей, кто приходил к нам в дом, я угощала клубничным вареньем:
– Ешьте за Юрочку!
Глава 22. «Ласточка моя!»
Ромашка из службы безопасности ■ «Я куплю торт и шампанское!» ■ Кто украл стенгазету? ■ Может ли охранник быть женщиной? ■ Осторожней с таблетками! ■ Коварная «торпеда» ■ Почем пирожки у звезды? ■ «Мой гонорар – твой гонорар!» ■ «Я не ем, а жру!» ■ Новый год без свидетелей ■ Лучшее лекарство – красное вино ■ Дружба или любовь
Мало кто знал, что в последние годы артист оказался буквально в двух шагах от возможного личного счастья. Что наконец-то встретил ту, которую искал всю жизнь. В конце 80-х годов журналистка и переводчица Кларисса Столярова воплотила для него всех женщин мира одновременно. Я сижу в ее гостеприимной квартире рядом с метро «Алексеевская».
– Мы познакомились в 1984 году, – вспоминает Кларисса Столярова. – Во МХАТе тогда собирались ставить спектакль «Юристы» по пьесе Рольфа Хоххута. Это произведение нуждалось в некоторой сценической редакции. И так как руководители МХАТа были моими близкими друзьями, то Олег Николаевич Ефремов пригласил меня и сказал:
– Вот пьеса. И ты уж сама там распорядись с актерами – ты же знаешь наших артистов, может быть, что-то и подскажешь…
Я согласилась. Взяла пьесу, прочитала, сделала сценическую редакцию и предложила роли актерам МХАТа, которых знала очень хорошо, – Борису Щербакову, Елене Прокловой. Олег Табаков, которого я наметила на главную роль, – вообще мой друг юности… В общем, у меня все роли хорошо разошлись. И приглашенный немецкий режиссер Гюнтер Флеккенштайн остался доволен моим выбором актеров.
Но никак не могла найти актера на роль Хеммерлинга из службы безопасности. Спрашиваю Олега Ефремова:
– Ну, кого предлагаешь? Он советует:
– Возьми Богатырева.
Я тогда его совершенно не знала. И поначалу отнеслась настороженно. В фильме «Два капитана», где он играл подлеца Ромашова, он настолько убедительно это делал, что я его ненавидела всей душой.
Поэтому, когда Ефремов такое предложил, я ахнула. А он говорит мне:
– Ну перестань валять дурака. Что ты? Здесь он как раз будет на месте.
– Ну ладно, давай Богатырева.
И мы начали работать над этим спектаклем.
* * *
В театре бывает так: люди иногда работают вместе десятилетиями – и не общаются друг с другом. Я это хорошо знала. Но наш режиссер был иностранец. И пока он утверждал актеров, приезжал, уезжал, мы начали не только работать, но и общаться. Это была моя инициатива.
Когда я пришла на этот проект, то обратилась к актерам:
– Я вас очень прошу меня поддержать. Приехал человек из чужой страны. Он здесь чувствует себя очень одиноко. Я не могу одна каждый день его развлекать. Давайте придумаем, как устроить так, чтобы все по очереди приглашали его в гости, и мы будем общаться в неформальной обстановке…
Первым откликнулся Юра. Он сказал:
– Да, я вас с удовольствием приглашаю к себе в гости. Но, вы уж простите, я ничего не умею готовить – я куплю торт, шампанское…
Так мы оказались в гостях у Юры на улице Гиляровского. Мы провели совершенно очаровательный вечер. Юра, как мог, нас развлекал. И я вдруг поняла, что из того страшного, злобного, подлейшего человека, каким был Ромашов в его исполнении, он – в моем восприятии – превратился в совершенно другую личность. Он был так доброжелателен, так внимателен, так заботлив, так отзывчив, так шел навстречу всем нашим предложениям, что я была просто очарована его человеческими качествами.
С этого момента, наверное, и началась наша очень серьезная и большая дружба…
* * *
Мы сделали этот спектакль. Премьера состоялась в марте 1985 года. Потом был банкет. К этому событию мы вместе с Юрой выпустили громадную стенгазету – как раньше было принято в школах. Мой приятель, очень хороший фотограф из Ленинграда, сделал фотографии. Мы их собрали. Я написала стихи, посвященные каждому участнику спектакля. Юра, как великолепный художник, выполнил все художественное оформление газеты. Там были яркие заголовки, красивые виньеточки к каждому стихотворению, изящные заставочки.
Получилось совершенно изумительное творение. Но потом эта газета, увы, самым непонятным образом исчезла. Кто-то ее, видимо, взял на память. И мы очень переживали – столько вложили в нее наших душевных сил! Очень хотелось, чтобы она сохранилась. Но, увы…
* * *
В работе Юра был человек очень четкий, очень организованный. Скажем, Олег Табаков часто имел проблемы с текстом – то забывал его, то просил:
– Ты напиши еще кусочек, чтобы было поярче, поэмоциональнее…
У меня был карт-бланш – я всю пьесу перелопатила, что-то из текста поменяла местами, что-то эмоционально усилила…
Юра, в отличие от него, всегда знал текст безупречно. Если он и опаздывал на репетицию, то это объяснялось вескими причинами. Но он никогда ничего не делал в ущерб работе. Правда, потом у него начались проблемы…
* * *
«Юристов» мы выпустили. Режиссер уехал. Я считала своей обязанностью «сохранять» это спектакль. И действительно, когда его играли, я ходила в театр как на работу. Ведь актеры иногда что-то комкали, допускали ошибки по тексту, и я следила с карандашом в руке и каждый раз делала им замечания.
Однажды произошла не очень приятная история. Некоторые пагубные наклонности Юры, которые иногда проявлялись публично, привели к тому, что как-то он пришел на спектакль в очень плохом состоянии. И мне стоило большого труда привести его в форму – помогли компрессы, душ… И он вышел играть.
Первый раз нам удалось привести его в чувство. Но в следующий раз мы уже не сумели ничего исправить. Он просто не мог выйти на сцену. У нас за кулисами началась паника. Артисты стали в замешательстве предлагать разные варианты. Даже ко мне обратились:
– Кто знает этот текст? Только ты. Давай тебя оденем – пусть охранник будет женщиной!
Я отвечала:
– Перестаньте валять дурака. Я в его костюм никак не могу облачиться, потому что просто утону в нем.
Спектакль пришлось отменить. Скандал вышел серьезный – зрители очень возмущались. У Богатырева могли быть крупные неприятности. Я поняла, что это дело надо срочно замять.
На следующий день я уложила его в больницу. А когда в МХАТе появились журналисты и пристали к директору-распорядителю Леониду Иосифовичу Эрману с вопросом, что происходит в главном театре страны, тот отослал их всех ко мне: «Вы там сами разбирайтесь со своим Богатыревым…»
Я объяснила репортерам, что артист внезапно заболел. Я очень хорошо знаю, когда человек долго и напряженно работает, тонизируя себя какими-то определенными препаратами, а потом принимает что-нибудь в качестве транквилизатора, который снял бы это напряжение, то несовместимость этих препаратов приводит иногда к тому, что сердце отказывает. И состояние становится такое, что человек уже не контролирует свои поступки… Со стороны он выглядит пьяным.
И когда я привезла Юру в больницу № 12 на Волоколамском шоссе, то просто заставила повторить эту версию. Положение было серьезное, и он согласился с моими доводами. Мы так все и объяснили врачам. Его положили на лечение. И хорошо там подлечили. Он наконец-то отлежался.
Кстати, он совсем не умел отдыхать. Он умел только работать.
* * *
Юра работал постоянно. Приходишь к нему домой, если он не занят ролью – значит, рисует. Просто праздно, без дела, сидеть он не мог. И не понимал, как можно ехать куда-то отдыхать… Не знаю, может быть, раньше он был другим. Но в тот период, когда мы с ним общались, он вообще не знал, что такое отпуск.
Тогда, в первый раз, в больнице его привели в порядок. Злоупотребление алкоголем вызвало у него серьезные проблемы с давлением – оно стало скачущим. И нервная система у него очень расшаталась. Ведь профессия актера сама по себе уже предполагает большую нервную нагрузку.
В больнице его «зашили». Хватило надолго. Потом он снова начал пить, но уже не было такого трагического срыва – он просто «отмечал» какие-то праздники. Я понимала, что на долгое время закрепощать человека тоже нельзя – ведь «торпеда» сильнейшим образом влияет на нервную систему…
* * *
После больницы у него был довольно спокойный период… Несмотря на то что мы вместе уже не работали, продолжали очень часто общаться. И он ко мне приезжал, и я у него бывала, тем более что мы оказались почти соседи: я жила у станции метро «Щербаковская», он – на улице Гиляровского. Он приходил и оставался допоздна. Причем мог сидеть в кресле, разговаривать, а потом просто в нем заснуть…
Однажды, когда так и случилось, моя подруга посоветовала:
– Чего он так сидит? Давай его положим!
И мы с ней вдвоем на руках утянули-таки его в другую комнату, положили на диван. А когда несли, я пошутила:
– «Ох, нелегкая эта работа – из болота тащить бегемота…»
Уложили, закрыли дверь и вернулись на кухню. Разговариваем, пьем кофе, коньяк…
Вдруг открывается дверь и показывается Юра:
– Ты почему меня так обижаешь?
– Ты что имеешь в виду? Как я тебя обидела?
– А ты меня бегемотом назвала!
– Да нет, мой дорогой, это я не тебя назвала. Я просто вспомнила детские стишки.
– Это ты не про меня?
– Нет-нет, не про тебя…
Пошел, успокоенный, улегся снова…
* * *
Кстати, он всегда первый поднимался после застолья и шел мыть посуду. Он был единственный человек, кому я это позволяла. Утром я вставала – у меня на кухне все чисто…
Он обожал все, что я пекла, – пироги, хачапури… Очень любил мой борщ… И все время мне предлагал:
– Слушай, давай сделаем так. Я буду стоять внизу, у метро, ну, все-таки «поторгую личиком», поскольку достаточно узнаваемая физиономия. А ты мне из квартиры в корзине будешь спускать стаканчики с борщом и пирожки… А я буду внизу торговать…
* * *
Помню, однажды на Пасху он сломал ногу. Сидит дома, никуда не может выйти. И с утра уже начинает мне звонить:
– Приезжай скорей, я уже не могу, с голода здесь помираю.
Я говорю:
– Ну подожди, я еще не все успела приготовить…
Я делала тогда какое-то необыкновенно изысканное югославское блюдо – грудинку на косточках с фасолью…
Снова звонок:
– Ну, ты уже едешь?
И вот я выходила со всеми кастрюлями, мисками, пакетами – везла ему еду. Ловила такси (тогда еще можно было ездить на такси – от меня до него за пятьдесят девять копеек). И он встречал меня, зачастую щелкая зубами от голода.
Иногда у меня просто ком в горле застревал. Как-то приехала – а у него уже ничего из еды не осталось. И он на сковороде хрустящие хлебцы размачивает и потом подогревает, чтобы они были теплые… Это происходило в те моменты, когда я была занята и мне некогда было его кормить.
* * *
Юра был очень щедрый человек. Если сам принимал дома гостей, то всегда выставлял всю еду из холодильника, готов был поить и кормить каждого и любого – доброты был необыкновенной. Этим люди зачастую пользовались. Я помню бесконечное количество его друзей-собутыльников, которые слетались на улицу Гиляровского просто на дармовщину выпить, – он никогда ничего не жалел.
Если, например, он получал деньги на телевидении или где-то еще, обязательно у меня дома раздавался звонок:
– Приезжай, будем пить шампанское.
– По какому поводу?
– Я получил гонорар, пятьсот рублей. Триста тебе отдам, а двести себе оставлю.
– А почему так?
– А потому, что в театре я получаю зарплату все время. У меня зарплата – а у тебя ничего нет. Когда заработаешь – сочтемся.
Надо сказать, что я вышла в свободный рынок гораздо раньше, чем все остальные граждане нашего государства. Начиная с 1979 года я жила на гонорарах: зарабатывала журналистикой – делала интервью для журнала «Студенческий меридиан», писала киносценарии короткометражек для киностудии «Ленфильм», работала переводчицей на фирмах. А этот заработок без гарантии – сегодня есть, завтра нет.
Поэтому, конечно, случались моменты, когда у меня ничего не оказывалось в кошельке. И Юра это прекрасно понимал. Он помогал, не дожидаясь просьбы. Не только мне – он всем шел навстречу.
* * *
Осенью 1988-го у меня было очень много работы. Это было начало нашей совместной работы с Петером Штайном над проектом «Орестеи». Петер приехал в Москву для заключения договора, а потом предложил мне прилететь к нему в Западный Берлин, чтобы вместе поработать над текстом…
А тем временем у Юры опять начались затяжные запои. Я позвонила врачу Екатерине Дмитриевне Столбовой и договорилась, что его снова подлечат. И вот он лег в больницу, я с ним попрощалась, сказала: «Давай не скучай» – и стала собираться в Берлин.
Он, конечно, расстроился. Ведь я его немножко избаловала. Когда он лежал первый раз, я практически каждый день приезжала к нему. Питание там было, конечно, не ахти какое, а он привык к моей кухне. Поэтому в больницу я всегда привозила ему всякую-разную снедь. Помню, он говорил:
– Я тебя умоляю, только отвернись, не смотри, потому что я не ем – я просто жру это все… Так вкусно, что не могу оторваться.
И вот его снова кладут в больницу на Волоколамском шоссе, а я уезжаю в Западный Берлин… Прощаясь, я ему сказала:
– Потерпи, я ненадолго, дней на десять, максимум на две недели. Я тебе куплю продуктов, ну а пирогов подождешь, сделаю, когда я вернусь.
* * *
Я приезжаю в Западный Берлин, меня там встречает Петер Штайн, селит на бывшей вилле Бертольта Брехта, и я, с его легкой руки… оказываюсь в больнице: Штайн настоял на серьезном обследовании и срочной операции… Она прошла успешно, и вот я лежу в палате с телефоном, и меня никто не признает за русскую – мой немецкий практически без акцента.
Мы с Юрой оказались одновременно в двух разных больницах двух разных стран! Но его забирали в театр на спектакль – за ним присылали машину и отвозили играть… В репертуаре были спектакли, в которых не было второго состава, и ситуация в театре была такова, что отказаться было нельзя. Нагрузка у него получалась огромная. Но он совершенно безотказно работал – он был очень совестливый и обязательный…
И когда он приезжал во МХАТ, то каждый раз звонил мне из театра в Западный Берлин, буквально рыдая в трубку:
– Ласточка моя, не умирай! Не оставляй меня одного!
– Да что ж ты меня хоронишь раньше времени? Со мной все уже в порядке! Я уже не умру. Врачи обещали мне, что я буду жить…
– Это правда?
– Правда, правда.
– А ты приедешь в Москву на Новый год?
– Приеду!
– Ты обещаешь мне, что мы вместе встретим Новый год?
– Обещаю.
И потом он возвращался обратно в больницу и продолжал свой курс лечения. А вскоре я приехала, хотя еще еле-еле ходила…
* * *
На Новый, 1989 год Юра тоже выписался из больницы. И вот он спрашивает:
– Ты где хочешь встречать Новый год – у меня или у тебя?
– Юра, мне очень трудно куда-то ехать. Давай лучше у меня…
– Хорошо.
А в это время его школьные друзья, которые не виделись очень много лет, решили собраться и справлять Новый год все вместе.
И они, конечно, позвонили Юре. Он отказался:
– Нет, я не могу. Я буду вместе с Клариссой, мне неудобно, мы уже договорились.
Тогда они стали звонить мне:
– Мы вас очень просим. Пожалуйста, подъезжайте вместе, мы столько лет не виделись… Уговорите его приехать…
Я согласилась:
– Конечно, я приложу все усилия, я постараюсь его уговорить…
– Но он без вас не хочет!
– Я не могу… Мне сложно после такой операции… Я физически не смогу…
Этот разговор я передала Юре. Но он отказался:
– Я вообще не хочу туда ехать. Ты обещала, что мы встретим Новый год вдвоем?
– Обещала.
– Я хочу, чтобы мы его и встретили вдвоем.
– Ну хорошо…
Он спросил:
– А что тебе сказали врачи? Тебе нужны какие-то лекарства?
Я отвечаю:
– Юрочка, мне ничего не нужно.
Правда, я потеряла много крови (немецкие врачи боялись сделать переливание) и настолько ослабела после этого, что по ночам меня пять раз переодевали – я была совершенно мокрая от слабости. Так что мой врач посоветовал: «Было бы хорошо, чтобы вы какой-то период времени регулярно пили сухое красное вино. Это очень полезно для крови».
Но когда я приехала, в Москве как раз нигде не оказалось сухого красного вина. Олег Табаков, улетая на гастроли в Финляндию, пообещал привезти оттуда.
И вот мы с Юрой созваниваемся перед Новым годом:
– Я все привезу из напитков, тебе ничего нельзя носить-поднимать.
– Хорошо, я приготовлю стол, а за тобой все напитки.
Нужно было подумать о еде. Естественно, несмотря на болячки, я собралась с силами и что-то приготовила – пироги, салаты… О напитках не волновалась.
И вот входит Юра с двумя огромными сумками:
– Это твое лекарство.
Он широким жестом расстегивает «молнии» сумок. Там было, боюсь соврать, бутылок двенадцать или пятнадцать красного сухого вина «Бычья кровь».
– Вот, нашел только это. Это тебе на курс лечения. А это нам на Новый год. – И открывает вторую сумку.
Там позвякивают бутылки три шампанского, столько же бутылок коньяка… Я в ужасе:
– Ты что, с ума сошел? Как мы это одолеем?
– А ты что думаешь – только одну ночь мы будем гулять? Мы будем долго-долго праздновать: с 31 декабря – до старого Нового года… Так что нам еще придется пополнить запасы…
И мы встретили вдвоем этот Новый, 1989 год…
* * *
Этот Новый год стал рубежом в наших отношениях.
Если раньше наши отношения были чисто дружеские, ничего больше, то в эту ночь произошли серьезные изменения… Я не знаю, было ли это вызвано опасностью ухода человека из жизни… Не знаю…
Но произошло качественное изменение отношений. Если раньше Юра мог меня поцеловать чисто дружески, то сейчас меня уже целовал не друг, а мужчина, который не только дружеские чувства ко мне питал. И Юра начал вести разговоры о том, что нам придумать, чтобы быть рядом…
На Новый год он выпил. Но спросил разрешения:
– Ты разрешишь мне сегодня выпить? Сейчас мне можно?
– Ну, если немного…
Прошло несколько дней…
* * *
В январе 1989 года в Москве проходил фестиваль немецких театров. И с большими трудностями нам удалось добиться, чтобы сюда приехал Петер Штайн со спектаклем «Три сестры» Чехова.
13 января немцы показывали этот спектакль во МХАТе, а потом мы все праздновали старый Новый год в Доме актера на улице Горького. Были, помню, Кирилл Лавров, Марк Захаров, много друзей из театра… Но фестиваль на этом не закончился, я была чрезвычайно занята, работала на нем и днем и вечером… И получилось так, что мы с Юрой почти не виделись.
Он на это время остался один… И опять почувствовал себя очень одиноким. Ведь он так ждал моего возвращения из Берлина, думал, что мы будем часто общаться. Мы же пообщались в новогодние праздники, а потом из-за работы я вынуждена была оставить его… Я переводила до поздней ночи, по четырнадцать – восемнадцать часов в сутки… И конечно, мне было недосуг…
Один раз он меня застал по телефону дома:
– Как здоровье?
– Ничего, спасибо…
Фестиваль продолжался целый месяц…
Глава 23. Клинический случай
Кто заказывал обед? ■ Прогулки в одиночестве ■ Турандот в белом халате ■ Враг режима ■ «Антракт не для меня!» ■ Алкоголь в чужом желудке ■ Типичный экстраверт ■ «Дайте мне выхлопную трубу!» ■ «Доктор, можно я вас нарисую?»
…Тенистый парк в районе Покровского-Глебова. Светлые корпуса знаменитой клинической больницы № 12, в которой регулярно «отдыхали» известнейшие люди страны. Пациента по имени Юрий Богатырев здесь помнят и спустя много лет.
Завотделением неврозов пограничных состояний Екатерина Столбова, которая в 1989 году была лечащим врачом артиста, успела мне поведать:
– От Юры Богатырева у меня осталось, в общем, очень хорошее впечатление, добрые воспоминания. Когда я смотрю фильмы с его участием, все время думаю – а я ведь знала его близко! И у нас сложились хорошие, доверительные отношения.
Я понимала, что он, конечно, человек неординарный, талантливый, творческий… При этом – очень мягкий. И самое главное – очень скромный. Он никогда не требовал к себе особого внимания: никогда не занимал отдельную палату, всегда находился в равных условиях со всеми пациентами. Иногда он даже излишне скромничал – все хотел делать на общих основаниях. А у нас ведь многие артисты лечатся. И некоторые ведут себя… просто неприятно. Требуют какие-то льготы, демонстрируют фривольность, пытаются доказать свое превосходство, гениальность, необыкновенность.
Юра был не такой.
Он очень уважительно и доброжелательно относился вообще к персоналу, независимо от ранга – будь то санитарка, медсестра, врач или заведующий отделением. У нас он показал себя на редкость дисциплинированным человеком. Хотя я понимаю, что по жизни ему, наверное, это с трудом давалось.
К тому же он охотно участвовал во всех наших хозяйственных мероприятиях в отделении – например, помогал разносить обеды больным. Никогда не отказывался от этого. Но когда гулял по нашему парку – старался выбрать самые уединенные местечки, чтобы поменьше встречаться с людьми. Ведь все его узнавали и пытались как-то заговорить. А это было ему достаточно тягостно. Когда он находился у нас в отделении, то старался быть просто незаметным… Но люди к нему тянулись, и он, чувствуя это, постоянно импровизировал… Как артист, он просто обаял нас всех.
* * *
Мало кто знал, что он в больнице рисовал. Выбирал момент, когда было посвободней, когда соседи по палате уходили в лечебный отпуск на выходные. Он раскладывал тогда на больших столах свои листы и писал акварели.
Я понимала, что в своих картинах он как-то реализовывал себя как личность. И в то же время представлял тех людей, кого изображал, совершенно неожиданно. Так, например, он представил меня, как ни странно, как принцессу Турандот. Получилась такая яркая красочная картина… Вообще, как таковых «портретов с натуры» он не писал, хотя некоторых пациентов и врачей рисовал. Его работы отличались большой фантазией…
Наша задача, задача врачей, была поправить его здоровье. И здесь мы сталкивались с противоположной позицией администраций театра и киностудий, которые настаивали на его участии в репетициях, спектаклях, съемках. Я всегда была категорически против. Зачастую я удерживала Юру в клинике почти с боем. Они пытались воздействовать на меня даже через вышестоящих коллег. Так было, к примеру, когда снимали фильм с Юриным участием в Ленинграде, так было с его последним спектаклем, на который его отвозили на машине и привозили обратно…
Но это было уже потом.
* * *
На первом этапе его пребывания у нас (всего Юра лежал у нас трижды), конечно, никакие вылазки на спектакли и фильмы не допускались. У него были проблемы с давлением, с вегетатикой, со сном было плохо – все это в основном от перегрузок. Поэтому он так нуждался в смене обстановки. Наш режим, более упорядоченное времяпрепровождение и общеоздоровительные процедуры давали ему возможность это компенсировать.
Но, увы, к своему здоровью он относился легкомысленно. Он старательно лечился лишь тогда, когда другого выхода уже не было. Он никогда не думал о возможности подлечить себя профилактически. Ведь некоторые больные после курса лечения через год приезжают к нам, чтобы закрепить результаты. Юра – никогда…
Его привозили к нам родственники, когда он уже просто не мог работать… когда отменялись спектакли и съемки… У него уже просто не было сил, сна, эмоции шли вразнос…
У нас в отделении неврозов – спокойная обстановка, как в санатории, много хороших оздоровительных процедур. Здесь никто Юру не дергал, никто ему не мешал лечиться, заниматься собой, если не считать вызовы на спектакли… Но первое время мы это полностью исключали. Разрешали потом, когда его состояние уравновешивалось…
* * *
С врачами он был достаточно откровенен, но я понимала, что есть в его душе, как у каждого человека, какие-то потаенные уголки, которые он оставляет только за собой… Внешние же проявления его общительности были необыкновенны: он регулярно устраивал настоящие маленькие «спектакли в лицах» о жизни отделения, показывал голосом и мимикой коллег, пациентов… Много рассказывал о театре.
Но при всей его бурной, интересной жизни, как я поняла, он был все-таки человеком достаточно одиноким. Таким общительно-одиноким человеком.
Он приходил лечиться, и вопросов «буду – не буду» не возникало. Он был согласен на все… А ведь у него была большая сосудистая патология – как результат употребления некоторых ненужных для здоровья напитков…
* * *
Думаю, что врачи скорой помощи, которые пытались помочь ему в ту роковую ночь, может быть, недооценили ситуацию… Когда общаешься с людьми необычными, творческими, это часто происходит. Может быть, они не поняли, что потерю сознания, криз вызвало именно убийственное сочетание лекарств и алкоголя… Это сочетание всегда очень плохо переносится организмом человека. И врачи срочной медицины просто недооценили положение. Они посчитали, что раз артист склонен к алкоголизации, то именно она и есть причина криза… И не учли еще и другое состояние – терапевтическое.
Но как ни грустно звучит, такой конец был предопределен самим образом жизни. При такой напряженной жизни, при таком безразличном отношении к своему здоровью.
Юру ведь даже в клинику привозили друзья, дальние родственники – катастрофа могла наступить в любой момент. Когда я выписывала его в очередной раз, всегда говорила:
– Юра! Пожалуйста! В любое время приходи – посоветоваться, проконсультироваться…
Он благодарил и исчезал. И появлялся – точнее, его привозили, – когда ему совсем становилось плохо. Такое безразличное отношение к своему здоровью я встречала редко…
А ведь если б он больше берег себя – конечно, смог прожить еще очень долго. Все его проблемы лечатся, поддерживаются. Просто надо было собой заниматься – кроме театра и кино, надо было устроить свою жизнь. Соблюдать режим. А у него была жизнь беспорядочная, безрежимная, с перехлестом эмоций.
* * *
Он был бесконечно эмоциональный человек. И жил своими героями. Их жизнью. Я была на его спектаклях и видела, что он даже в антракте не выходит из роли, продолжает жить в этом иллюзорном мире… Он совершенно не переключался. И сам говорил:
– Я и в антракте остаюсь в своей роли, в отличие от других артистов, которые могут на сцене быть Лениным, а в перерыве спокойно играть в шахматы.
Он оставался в «шкуре» своего героя до конца спектакля.
Но это же сжигает человека. На эмоции реагирует весь организм – давлением, вегетатикой… Поэтому так важно ему было иметь регулярный отдых, режим. А Юра, вместо того чтобы быть повнимательнее к своему организму, после тридцати пяти лет стал особенно активно употреблять спиртные напитки, считая, что он так же вынослив, как и в молодости. Все это безразличие к своему здоровью и обернулось таким кризисом.
* * *
Ее рассказ дополнил Игорь Арцис, врач-ординатор отделения неврозов пограничных состояний:
– Прошло уже много лет, но Юру я помню прекрасно. Впервые он оказался в нашей клинике в 1985 году. Его положили друзья, и он тут же привлек к себе внимание и симпатии и врачей, и других пациентов. Он был не очень-то похож на знаменитого артиста – больше всегда говорил о ком-то, чем о себе… Даже когда его спрашивали конкретно, старался о своих проблемах со здоровьем не говорить. Например, заходил к нашему стоматологу, чтобы что-то ему рассказать из бурной актерской жизни, – всем же интересно…
Он очень любил рассказывать о своем коллективе – труппе МХАТа. Практически с ходу мог нарисовать портрет каждого. Причем он никогда ни о ком не говорил плохо. Обо всех – очень тепло, особенно о Ефремове. Очень сожалел, что тот сам себя медленно убивает, употребляя алкоголь. Он понимал эту проблему Ефремова.
Про себя – не в такой мере, хотя эта же проблема, связанная с чрезмерным употреблением алкоголя, была и у него тоже. Но поскольку он чаще был один на один с собой, то старался скрывать этот порок… Не мог этим поделиться практически ни с кем. Он даже не хотел сам себе в этом признаться, а это вообще свойственно людям, страдающим алкогольной зависимостью… С другой стороны, он страдал и от своего одиночества…
* * *
У самого Юры были психологические проблемы, и довольно серьезные. При всей легкости общения он, на мой взгляд, был в то же время человеком ранимым, незащищенным. Мне, как специалисту, было видно, что у него были определенные проблемы и с самим собой, и с окружающим миром: хотя, казалось, он был довольно общительной личностью: легко разговаривал с людьми на любую тему, причем достаточно искренне, при этом и для людей, и для врачей был достаточно закрыт.
Он был так устроен – старался создать как бы видимость открытости, искренности, чтобы приятно провести время. Это гиперкомпенсация своей внутренней незащищенности, нежелание кого-то посвящать в свои проблемы.
* * *
В нашей практике такое встречается часто. Бывает, что пациент к нам поступает не для того, чтобы поправить свое здоровье, а просто потому, что так сложились обстоятельства, ему необходимо полежать в больнице. В таком случае нормальный врач все видит и понимает – также и то, что нельзя заставить человека лечиться, если он не хочет. Лишь если пациент просит врача избавить его от проблем – тогда доктор включается в процесс. Если нет – то идет этакое формальное общение: врач делает вид, что лечит, а больной делает вид, что лечится.
К сожалению, у Юры был именно такой формальный подход к лечению. Да и клали его в больницу друзья чуть ли не насильно – сам бы он никогда не пришел к нам…
У него была родная сестра, племянница, которую он очень любил и опекал. И в то же время рядом с ним всегда возникало ощущение, что он одинок…
Я несколько раз пытался серьезно поговорить с ним о его состоянии – тогда я еще вел сексологический прием пациентов клиники. Но Юра не шел на откровенность, как к специалисту в этой области ко мне не обращался ни разу. Ограниченный жесткими рамками врачебной этики, я тщетно пытался вывести его на откровенный разговор и помочь… Но, увы…
* * *
Как-то он зашел ко мне в кабинет, мы разговорились, и он рассказал такую историю.
Юра очень любил своего отца и был рядом до последней минуты.
– Когда он умирал, я был рядом с ним. Я видел, как он умирает, я слышал, как он дышит, я вглядывался в уходящее выражение его лица. Но что делает натура артиста! С одной стороны, я переживал, с другой – смотрел, как он это делает! Чтобы знать! Чтобы потом, возможно, суметь сыграть эту сцену!
Такой двойной подход, который, в общем, для обычного человека ужасен, для профессионала вполне понятен.
Тем не менее пребывание в клинике и нужное лечение Юра воспринимал как необходимость, выполнял все врачебные назначения. Но и здесь привносил что-то свое, особенное – он ведь привык ко всему на свете относиться с большим юмором, иронией. Помню, как-то на обходе я спрашивал его о самочувствии. И он отвечал, что это безобразие – находиться в таких условиях. Все замерли. А он как ни в чем не бывало продолжил:
– Здесь такой парк, здесь иначе дышится.
Он очень сетовал по этому поводу:
– Понимаете, просто невозможно дышать таким чистым воздухом: мне все время хочется выскочить на улицу и под ставить рот под выхлопную трубу, чтобы прийти в себя.
Это был, конечно, его неподражаемый юмор.
* * *
Я запомнил еще его максимальное чувство такта, редкую корректность. Я видел, что он не только артист, но и художник, он все время кого-то в больнице рисовал… И мне страшно хотелось, чтобы он меня тоже нарисовал…
Но мне было очень неловко подойти и попросить его. И как-то он сам подошел ко мне, извинился и говорит:
– Если вы не возражаете, Игорь Михайлович, мне очень хотелось бы написать ваш портрет. Не волнуйтесь, я отниму у вас не много времени – минут пятнадцать – двадцать, не больше…
Я, конечно, согласился и внутри ужасно ликовал – мне же очень хотелось, чтобы он меня нарисовал. Юра как бы прочитал мои мысли, почувствовал мое тайное желание… Теперь этот портрет висит у меня дома на почетном месте…
Прошли две недели – лечение более или менее помогло: он вышел из клиники в очень неплохом состоянии. Хотя, думаю, что все-таки не до конца был «реанимирован»… У него были слабые сосуды, скакало давление, подводило сердце. Мне было грустно отпускать его, но мешать было бесполезно…
* * *
…Глубокой осенью 1988 года он еще раз зашел в клинику… Я увидел его и поразился, насколько он набрал в весе, обрюзг…
– Юра, что ты? Почему?
– Да вот последнее время сердце шалит. Не очень хорошо себя чувствую…
И все это проговаривается как-то очень легко, без трепетного отношения к своему здоровью.
Я предложил:
– Может быть, стоит опять лечь?
– Нет, я сейчас работаю… Спектакль готовим…
Последний раз мы с ним случайно столкнулись на улице, это было незадолго до его кончины. Тогда еще мало у кого были видеомагнитофоны, а у нас были. И были любимые кассеты. И мы с Юрой говорили о том, что надо бы встретиться, посидеть, поговорить, посмотреть фильмы, обменяться кассетами…
Не успели…
Глава 24. У черты
Открытие себя ■ Борьба с собой ■ Исповедь по телефону ■ «Мы родились в один день!» ■ Поздравление от Козы ■ «Поговори со мной!» ■ «Депрессия – баловство?» ■ Дизайн… могилы ■ «Ты слишком красива, чтобы тебя рисовать» ■ «Скоро подохну!» ■ «Роман в театре? Никогда!» ■ Жажда уюта ■ Актерство сжигает душу? ■ Роковая воронка ■ «Меня няней не звали…» ■ «Сколько надо – бери!» ■ «Мой дом – твой дом!» ■ «Позвоните Клариссе!» ■ Перечитывая дневник… ■ «Я не умер!» ■ «Защитный скафандр» ■ «Неужели, Юра, это ты?» ■ Таинственная незнакомка
Мы приступаем к грустным, но неизбежным главам. Истории ухода – странного, безвременного, даже нелепого. Но сначала – о некоторых обстоятельствах жизни героя, которые пока маячили в тени.
– Говорить об этом трудно, это больное, – задумывается Александр Адабашьян. – Это связано, скажем так, с его нетрадиционной ориентацией. Свою «непохожесть» Юра переживал очень болезненно, в отличие от нынешних звезд, которые этим даже бравируют. Сейчас ведь даже люди нормальной ориентации с удовольствием прикидываются гомосексуалами – это модно, престижно, практично, – они ведь дружны между собой…
А Юра это «открытие» в себе сделал очень поздно, врастал в это как-то очень болезненно… Он очень страдал по этому поводу, от того, что он не такой, как все… Пил, совершал в пьяном виде всякие глупости, от которых потом безумно страдал и которых стыдился… Это добавляло ему еще как бы дополнительный комплекс вины.
Но, думаю, дал бы Бог ему здоровья побольше – кончилось бы и его вегетарианство надуманное, и пьянка… Если бы он сжился наконец со своей, скажем, «странностью»…
Но это было сильнее его. Это не было ни распущенностью, ни модой. Это было действительно отклонение, с которым он пытался бороться, победить которое никак ему не удавалось.
Жизнь тогда нас периодически сводила и разводила – у каждого из нас было очень много дел. Я часто уезжал, не звонил… А Юра сразу делал вывод: вот, мол, ясно, почему не звонишь, почему не появляешься… В последнее время он почему-то считал, что отношение людей к нему зависит от его проблем…
Иногда ситуация усугублялась. Пьяный, он звонил ночью, начинал извиняться за что-то, уговаривать, иногда даже бывал в этом агрессивен. У нас появилась какая-то непростота в отношениях.
Наташа Гундарева его уговаривала: «Успокойся, да, ты не такой, как все, но это твоя индивидуальная особенность. Ты разве кому-то хуже делаешь? Ты кого-то заставляешь страдать? Кому это мешает? Это твое – и все».
Но тем не менее он болезненно переживал. Я ни в коей мере не сопоставляю, но думаю, что это в большой степени похоже на то, что происходило с Чайковским. Он тоже переживал свою «инородность» очень болезненно, тоже очень страдал от этого. Тогда все эти внутренние муки не выносились на сцену – как сейчас в помпезном театральном шоу Бориса Моисеева, который лежит в гробу в колготках…
Юра, как человек другой культуры, понимал, что это все-таки некое отклонение от нормы в широком понятии…
* * *
Знаменитый российский модельер Слава Зайцев запомнил своего Богатырева:
– Мне трудно с точностью до дня сказать, когда я лично познакомился с Юрой… Это было время, когда я волею судьбы вошел в театральный мир (в начале 70-х годов). И мои кумиры, доселе недоступные, стали моими друзьями, близкими и дорогими сердцу.
Юра был одним из тех людей, общаться с которыми было и желанным, и волнующим.
Он был красив, вальяжен, доброжелателен. Он был интересный собеседник, прекрасно разбирался в искусстве, сам рисовал, да притом удивительно, профессионально, завораживающе. Юру любили, пожалуй, все, кто его знал.
А познакомившись с его актерскими работами и в театре (мне удалось посмотреть несколько спектаклей из репертуара театра «Современник» 70-х годов с участием Юры), и в кино, я был потрясен его искренностью, естеством воплощений, открытостью. Работы в кино – яркие, характерные, точные, без фальши и наигранности, добрые. Его герои запоминались, вызывали теплое чувство, даже отрицательные… И мое восхищение его актерским мастерством стало толчком к дальнейшему общению в жизни.
К тому же Юра был блестящим художником, чем-то напоминающим мастеров начала XX века. В его рисунках подкупало отточенное мастерство линии, изысканной и выразительной. Его портреты были артистично, с большим вниманием к изображенному персонажу, вырисованы. Великолепная композиция, убедительное цветовое решение, утонченный декор. Все говорило об удивительно талантливом человеке, художнике – и было печально, что этим он мог заниматься только в свободное от работы время. А его было мало.
К сожалению, я не был свидетелем его творческого процесса рисования. Дома у него не приходилось бывать. Ну, может быть, один-два раза на улице Гиляровского…
Но он тогда был в несколько другом состоянии души, он был одинок, и люди, которые его окружали, не всегда способствовали его творческим озарениям.
Один из его близких людей – Василий Росляков, – пожалуй, единственный человек, который пытался быть ему полезным.
Иногда Юра звонил мне поздно ночью в диком отчаянии от одиночества и исповедовался. К сожалению, наши жизненные позиции разделялись, и я не мог оказать ему достаточного внимания.
Сейчас, вспоминая его, я исполнен глубокой нежности и признательности этому человеку – человеку доброму, щедрому, светлому, любвеобильному как на сцене, так и в жизни.
* * *
Зайцев продолжает:
– Мы с ним родились в один день – 2 марта – и поэтому всегда поздравляли друг друга в этот день. Ия Саввина была также вовлечена в эти поздравления.
Причем Юра у меня не одевался, но консультировался. Иногда заходил в Дом моды. К моде он относился с уважением, но никогда не делал культа из одежды. Он был скромен и деликатен.
…Однажды в 1978 году, в декабре, 26-го числа, приехав с похорон моей мамы, я у себя среди газет и писем обнаружил поздравление с Новым годом – годом Козы, написанное и нарисованное Юрой. Настроение у меня было ужасное. Я потерял единственного любимого человека – маму, и мое одиночество стало невыносимым.
Новый год я встретил дома один, никого не хотел видеть. Ночью после метаний по комнате я остановился возле рабочего стола.
Среди бумаг, писем, рисунков лежало и поздравление от Юры – рисунок Козы и слова душевные. Присел. Взял бумагу. Отчаяние одиночества обволакивало душу, тело… Какие-то слова рвались на волю, необходимо было поделиться с бумагой. И вот что получилось.
Боюсь я одиночества и темноты боюсь. Воспитанный с рождения в страхе ночи, Невольно понимая разумом Нелепость глупостей, что залезают в голову, Лишь только тишина отчаяньем заполнит мой очаг, Я забиваюсь в уголок к свету И напряженно жду… Что кто-то или что-то Вдруг неожиданно ворвется в дом Или рука Из ничего или ниоткуда Коснется моего плеча. Весь съежившись от напряжения Ужаса мгновенья – я замираю И жду. И в этом состоянии я пребываю и пишу… В столовой форточка грохочет глухо. Себе я объясняю – это ветер, И тут же думаю, Что-то рвется в дом, пустить необходимо. Согреться просится душа, Что затерялась в холоде Ночи, — Бог милосердный, нельзя и нам гневить Его. Глаза Козы с рисунка Странно, напряженно следят за мной, Сверкая блеском отражения света, Что заполняет комнату молчаньем. Разбросаны бумаги на столе. Ищу чего-то. Цифры, телефоны, фразы… Но нет того, что мне сейчас необходимо. А что? Чего я жду? Ответ готов. Хочу тепла, Хочу согреться о кого… Но нет того, кто подарить мне мог бы Покой душе и нежность, Светом озарить… Как быстро улетает счастье… Так долго ждем его, Находим вдруг и думаем, что вечно, — Теряем, не успев запомнить. И вновь бредем по времени. И одиночество среди толпы, Чужой и равнодушной, Мне по сердцу как острие ножа.1978, XII
* * *
– Иногда Юра приходил к нам и с женщинами, но это были случайные знакомые, не из театральной среды, – вспоминает Владимир Стихановский. – Он мне как-то сказал: «Как только у меня завяжется с кем-нибудь роман в театре – об этом будет знать вся Москва».
Он этого совсем не хотел. По-моему, для него была важна прежде всего человеческая личность. То, что эта личность оказывалась женщиной, для него было вторично. Его привлекала именно неповторимость натуры.
И все же я понимал…
Он хотел такой же семьи, как у меня. Домашнего уюта. Тепла и заботы.
Но при этом все же не желал, чтобы у него была жена из театральной среды… Не хотел снова оказаться на виду. Он уже устал от лишних разговоров. Поэтому, наверное, он больше дружил с посторонними людьми, не из мира театра и кино. Там было проще. В театре же его слабость раздули бы до каких-то невероятных величин… Он это знал, и ему было бы больно.
Надо сказать, я отношусь нормально ко всем сексуальным меньшинствам, считая, что все это природа, а человек лишь несет крест. Сейчас это все не ново…
Тогда же «нетрадиционность» Юры его мучила… Он испытывал внутренние страдания – и поэтому тянулся к семье, в которой все органично… К такой семье, как наша. Ему у нас было душевно комфортно. Ведь цирковые артисты меньше лезут в душу. Это открытые люди, у них другая психология, чем у драматических актеров…
Юра хотел, чтобы люди не вмешивались в его творчество, а только заботились бы о нем, помогали ему. И мы старались. Его очень любила моя сестра Наташа, могла долго беседовать с ним. У нас к тому же его всегда вкусно кормили. Он расслаблялся тогда невероятно. У нас сохранилось фото – он плачет, стоя на коленях перед моей женой Региной…
Буквально за два дня до его смерти я уезжал на гастроли. Я заехал к нему домой, сказал, что позвоню, когда вернусь. Там было застолье… Помню соседа-милиционера Аркадия, которого распирала такая ложная гордость – вот, мол, у меня друг-актер…
Кстати, зря говорят, что Юра много пил. Если бы много пил – столько бы не работал… У него было нормальное отношение к алкоголю. Помню его творческий провал – когда он снялся сразу в двух плохих фильмах… Юра пил чаще в это время, но никогда не было такого, чтобы он ходил в магазин, покупал себе водки, закрывался и пил один. Хотя он мог дома разрядиться с товарищами, если на следующий день не было съемки или спектакля. У него был и постоянный собутыльник – Андрей Мартынов…
А в тот день Юра чувствовал себя совершенно нормально. Готовился к спектаклю, еще пожаловался мне: смотри, у меня все дни заняты. У меня, кстати, тоже – я играл по два-три спектакля в день…
* * *
Я похоронил многих друзей… И в происшедшем с Юрой я виню только врачей. Я знаю, что в этой ситуации ни в коем случае нельзя было делать успокаивающий укол… А они сделали… Как мне сказала сестра: «Его успокоили».
А его можно было запросто спасти. Его, наоборот, нужно было стимулировать. Кстати, Юра часто жаловался на боли в сердце – и его жалобы оправдались. Вскрытие показало, что у него было сердце как у шестидесятилетнего человека…
Юра мне не раз говорил: мол, после моей смерти многие будут еще долго зарабатывать на моем имени, на моих картинах… Так и вышло.
Его родственники объявились только после смерти. Когда ему было плохо – никаких родственников рядом не было…
* * *
– Юра по душе своей был очень гармоничный человек, – считает Наталья Варлей. – А физически он жил негармонично… Это факт. Он все время пытался с собой бороться, ломал себя, но ничего не мог с собой поделать. Ему становилось все хуже и хуже…
Когда он, наконец, получил свою квартиру на улице Гиляровского, с одной стороны, у меня была радость за него, а с другой… Он же был человеком очень открытым, незащищенным… Помимо друзей-приятелей, к нему поползла туда всякая нечисть… В своей собственной квартире он стал заложником своей доброты и открытости. И уже ничего не мог с этим поделать… Туда шли все кому не лень, пользуясь его расположением, добротой, наивностью. У него ночевали какие-то случайные люди. Он продолжал сниматься в кино, блистательно играл в театре, получал неплохие деньги – но все они уходили на компании, на выпивки…
Мы в студенчестве все понемножку выпивали. Но предположить, что Юра и еще несколько человек с нашего курса впоследствии станут серьезно пить, было невозможно.
Говорят, соседи по лестничной площадке в его доме на улице Гиляровского очень часто слышали, как Юра ночами плачет… Ему, видимо, было очень одиноко…
* * *
– Юра вряд ли был человеком религиозным, – продолжает Наталья Варлей. – Если был бы, думаю, нашел бы все-таки опору. Хотя он крещеный и его отпевали, но… Если бы он был воцерковленным человеком, наверное, ему было бы легче.
Спустя много лет я разговаривала со своим духовником о том, сколь богоугодна профессия актера – она ведь действительно, как молох, сжирает душу и развивает в человеке качества, которые считаются смертными грехами: тщеславие, зависть в разных проявлениях, гордыню, себялюбие…
И он сказал – поскольку профессия кормит, надо работать. Но стараться не делать того, что не полезно людям. Предлагают тебе роль, ты понимаешь, что, сыграв ее, соблазнишь на что-то очень вредное, – надо стремиться отказываться. Но всякое бывает. Работая в театре, ты не можешь просто так отказаться от роли. Если это не получается, то должна быть четкая граница: вот сцена – там игра, а вот жизнь – тут правда. То есть, сходя со сцены, ты должен возвращаться к жизни по заповедям, к жизни, наполненной любовью к ближнему.
У Юры было много в душе перемешано – мы же атеистическое поколение. Подсознательно душа его просила жизни по светлым заповедям, а жил он совершенно по-другому: тут и профессия, и круг общения… Были в его жизни люди, которых он любил, с которыми хотел и работать, и видеться, и общаться, и разговаривать. Но окружали его какие-то… полукриминальные элементы.
Он жил не так, как он достоин бы жить. И был окружен не теми людьми, с которыми ему нужно дружить. Выпивать – наверное, да. Он все реже оказывался со своими настоящими друзьями – по сердцу, по душе. Стал жить среди случайных людей. Как бы попал в воронку, которая затягивала все глубже, глубже…
Юра делился со мной своими переживаниями.
С одной стороны, его тянуло в ту сторону, но он упирался – ему хотелось идти и в другую… И расплачивался здоровьем.
Подорванное здоровье – от чего? От дисгармонии существования. От чего рвутся сосуды? скачет давление? колотится сердце? Не только от образа жизни. Но и от того, что этот образ жизни не совпадает с твоей эстетикой… А Юра был эстетом… Он, наверное, самым первым из наших сокурсников стал народным артистом… И ушел первым.
Если человек начинает падать, если у него нет сил подняться самому, значит, кто-то должен взять его и поднять. А Юра уже начал падать.
Ему было от этого плохо, отвратительно, противно.
Незадолго до своей смерти он мне позвонил:
– Натуль, ты знаешь, мне так плохо, так одиноко, так хочется с тобой увидеться.
Я сказала:
– Юр! Ну приезжай!
– Нет, я приеду немножко попозже, когда у тебя чуть-чуть подрастет Сашка…
Может, ему хотелось самому вырваться из этой воронки, а не приходить снова ко мне с бутылкой, чтобы плакаться на свою жизнь? Не могу сказать точно… Но ощущение собственной вины у меня осталось. Хотя не могла же я бросить грудного младенца и бежать его спасать? Да, в общем, нянек никто и не звал туда. А сам Юра прийти не захотел:
– Давай ребеночек начнет ходить, и ты сможешь освободиться…
– Ну, мы ребеночка спать положим, приходи, Юрочка, поговорим.
– Нет-нет, немножечко попозже…
А ему уже было плохо. Это было за месяц до смерти.
* * *
Варлей рассуждает:
– Если бы ему удалось вырваться из того порочного круга, из того способа существования! Не знаю как. Может, уехать в другой город… Переменить образ жизни… Если бы нашлись люди, которые бы его увезли, поменяли квартиру! Он бы попал в другую атмосферу… Или если бы он получил какую-то грандиозную роль у Никиты Михалкова?
Как можно вылечить алкоголика или наркомана? Его отправляют в больницу и успешно там лечат. А потом он возвращается домой, и в первый же вечер приходит его друг и предлагает: давай выпьем или кольнемся.
Невозможно ничего изменить, если не меняется среда…
Если бы он вырвался из этой ситуации, то, конечно, мог бы еще многое сделать.
В том-то и дело, что вырваться он не мог…
* * *
– Не могу вспомнить ничего в наших отношениях с Юрой, что бы хоть как-то напрягало, было в тягость, – добавляет Нелли Игнатьева. – Но в последнее время он, видимо, чувствовал, что скоро уйдет… Ему, наверное, хотелось быть поближе к людям, которых он любил, которые любили его… Ведь Юрины мама и сестра жили в Ленинграде, папа уже умер. Он очень любил отца и сильно страдал, когда тот умер. Эта смерть тяжело на него повлияла… И очень любил сестру… Он был тогда, конечно, в тяжелом психологическом состоянии, которое я полностью не понимала…
Иногда он звонил мне ночами, в три-четыре часа, и просто рыдал в трубку:
– Поговори со мной!
А мне на следующий день вставать в семь часов на работу! И я с ним разговаривала. Или просто слушала – а он мне что-нибудь читал…
Моей дочке тогда было уже лет пятнадцать. Однажды прихожу домой, а она говорит:
– Мама, тебя не было, звонил Юра Богатырев, и он сказал: «Лилечка, мамы нет, поговори со мной…» Он мне спел романсы…
Я только сейчас понимаю его состояние… Тогда у меня был муж, семья. У меня было полно друзей. Я не чувствовала одиночества. Никогда не знала, что такое депрессия. Даже осуждала его:
– Как это не можешь взять себя в руки? Как это не можешь совладать с собой? Как это – истерика?
На мой тогдашний характер, депрессия – это было баловство.
Вот теперь, когда у меня в жизни многое изменилось, сейчас я просто казню себя за то, что тогда не понимала Юру… Как мне его не хватает! Так же как и любимой подруги Тани Травинской! Они еще тогда прошли через эти испытания. А я – нет. И теперь я могу лежать часами и смотреть в потолок… И мне тоже хочется позвонить кому-то и выговориться… Потому что нужно, чтобы вокруг тебя были друзья, люди, которые тебя любят, понимают, с которыми можно разделить одиночество.
А Юра был тогда именно в таком состоянии. Многие не понимали его страданий, его одиночества: мол, такой известный актер! так много снимается, играет, зарабатывает!.. Что еще ему надо?
Ведь несмотря на большое количество друзей и приятелей вокруг него, он был очень одинок и безумно раним. Такой человек без кожи… Большой, добрый, одинокий, ранимый человек, который как бы чувствовал свой ранний уход. Он нам часто говорил, что рано умрет… И даже нарисовал могильную плиту, какую он хотел бы видеть у себя на могиле!
* * *
Нелли Игнатьева общалась с ним за две недели до его смерти.
– Он позвонил по телефону и сказал, что приглашает меня на открытие своей выставки в филиале Бахрушинского музея – в Доме-музее М. Н. Ермоловой на Тверском бульваре:
– Приходи, птичка, ты посмотришь мои картины.
Я обрадовалась:
– Юрочка, какое счастье! Конечно, приду!
Это была его первая серьезная выставка…
Я была очень рада за него. Потому что понимала, какое важное место в его жизни занимает живопись, какая это отдушина в его напряженной жизни. Я видела очень многие его работы. И они мне весьма нравились. Кстати, моего портрета он так и не написал… А ведь почти у всех его друзей, кроме меня, остались портреты его кисти. Мне было немножко обидно. Но когда, отбросив ложный стыд, я просила напрямую нарисовать меня, Юра всегда отшучивался:
– Птичка, ну ты же у меня красавица! А ты же видишь, как я рисую, – это настоящие шаржи… Я не могу тебя так рисовать, не могу тебя уродовать. Ты у меня красавица.
И вот так, из-за того, что я красавица, я и осталась без портрета.
А тогда, по телефону, помню, я еще спросила:
– Юрочка, а как ты себя чувствуешь?
Он ведь последнее время часто жаловался на здоровье…
Легко ответил:
– Птичка, очень плохо, наверное, скоро подохну.
Я решила его подбодрить:
– Юрочка, а кто хорошо себя чувствует?
Мой зубной врач обычно в таких случаях говорит: «А кому сейчас легко?» И я Юре повторяю:
– Ну, кому сейчас легко?
– Да нет, птичка, все-таки я серьезно себя плохо чувствую… Если подохну – ты все-таки знай, что я тебя очень люблю.
– Юрочка, ты, как выпьешь, всегда мне в любви признаешься…
– Нет, я сейчас не пью… Мне врачи запретили и пить, и играть…
Я знала, что его действительно возили прямо из больницы в театр. А он тем временем продолжает:
– Но я лучше подохну, но не могу бросить ни того ни другого. Вот сейчас у меня в руках рюмочка коньяка – я хочу чокнуться в трубочку и выпить за твое здоровье…
Я всполошилась:
– Юра, если нельзя, то не пей! Ну зачем?
– Нет, я абсолютно трезв… Ты зря меня обвиняешь в том, что я пьяный. Я тебе признаюсь в любви абсолютно трезвый…
Он чокнулся этой рюмочкой в трубку. И сказал:
– За твое здоровье! Я тебя жду на входе, я тебя очень люблю.
Теперь понимаю: он как бы попрощался…
* * *
О смерти Богатырева Сергею Трофимову сообщил Андрей Мартынов, позвонивший ему часа в два ночи. Трофимов был в шоке. После анализа случившегося сделал, как медик, вывод: это был несчастный случай:
– Потому что Юра был здоровым человеком. Он иногда позволял себе принять определенную дозу спиртного. Я думаю, это никому не возбраняется, он ведь был не пьяница. У него повысилось давление. Вызвали скорую. Врачи сделали укол. И он умер на шприце. Я подозреваю, что ему ввели препарат типа клофелина не с целью убить. Тогда просто не знали, что такое клофелин, он только тогда появился в стране. Не учли, что на фоне алкоголя это смертельный, в общем, препарат…
Трофимов не считает, что Богатырев был алкоголиком и нуждался в лечении.
– Я уверен на сто процентов, что он мог от этого освободиться сам, совершенно элементарно, без стационара. Тем более что я проходил стажировку именно в 12-й больнице и общался там с врачами. Юра освободился от своей проблемы и долго не пил. А в ту ночь выпил. Экспертиза же показала, что содержание алкоголя в крови ноль. Это явная, так сказать, подтасовка. Они спасали честь мундира. Тем более известная личность, расследование… Это чревато последствиями. Хотя я не могу их здесь винить, это не умышленное. Ведь на скорой тогда приехал один мальчик-фельдшер. Он хотел сделать лучше для известного актера. Но… не получилось, Это несчастный случай, я считаю.
Помню, когда его отпевали в церкви на Ваганьковском кладбище, батюшка сказал: «А почему вы решили, что Господу Богу нужны только плохие люди? Бог нуждается и в ангелах тоже». Конечно, я не считаю его ангелом, но он был хороший человек. И Господь Бог прибрал его тогда, когда посчитал нужным.
Глава 25. Уход
Из донжуанов – в фальстафы ■ Допинг от боли ■ Такси как роскошь ■ СПИД не спит ■ Тайна бармена ■ Намечается вечеринка ■ Смертельный укол ■ Кларисса опоздала ■ Халат Обломова ■ Человек-комета ■ Строчки горя ■ Не умер – просто ушел ■ Кто виноват и что делать
То, как в последние годы изменился внешний облик артиста, конечно, не осталось не заметным ни для зрителей, ни для его коллег, ни для друзей, ни для него самого. Хотя сам актер болезненно реагировал на любые намеки и прерывал разговор на эту неприятную для него тему. Но внутренне, видимо, понимал, что «перешел в другую категорию».
Дело было не в самой внешности, а в последствиях. Да, он мог играть все. И все-таки его творческое «я» стремилось к самовыражению в ролях именно героических… Внутренне он видел себя именно героем с большой буквы, терминатором, суперменом – конечно, приложительно к советской действительности. Был готов играть и характерные роли, но как бы для разнообразия, чтобы «не потерять квалификацию»…
А теперь все изменилось. Полный, рыхлый, женоподобный – такой герой был немыслим даже для советских фильмов и спектаклей. Кардинально худеть и приводить себя в порядок он не мог, да и не очень хотел… Да и не было тогда тренажерных залов под рукой…
Фотопортрет Максакова в «Рабе любви» – точное представление актера о своем имидже и своей роли в искусстве… А придурковатый Стасик из михалковской же «Родни» – реальность, которую отныне ему приходилось воплощать и на экране, и на сцене…
Слишком большой и позорный зазор – из донжуанов в фальстафы…
Эту нежелательную трансформацию артист пытался скрыть, испытывая огромные душевные муки, которыми не мог поделиться даже с самыми близкими людьми. Он пытался все это как-то пережить – и не мог обойтись без допинга. Боль от несоответствия мечты и яви гасилась только спиртным и случайным обществом случайных людей. Он как бы перебирал и примеривал на себя другие роли и в социуме: получалось все малорадостно – не то, не так, не хорошо…
* * *
Может, поэтому он с головой нырял в дружбу. Причем круглосуточно и безотказно. Все его приятели знали об этом. И о том, что он зарабатывал по тем временам неплохие деньги – около пятисот рублей в месяц. А особых трат у холостого артиста не было. Ну, кроме такси. Поэтому-то щедро давал в долг. Особенно во время застолья – просто открывал шкаф и говорил: «Сколько надо? Бери!» И брали. На кооперативную квартиру, на машину… Говорят, полтеатра остались ему должны по сей день…
Его собутыльников не очень волновало, что потом артист часто оказывался в больнице. Иногда и в его отсутствие они брали деньги «в долг»… Он не мог отказать. Как не мог не предложить свой кров людям, которые (почти все) поддерживали его склонность к выпивке.
Мне рассказывали его друзья, что, бывало, таксисты привозили его в бессознательном состоянии к кому-нибудь из друзей – узнавали в невменяемом пассажире известного артиста и звонили по телефонной книжке, которую находили у него в кармане…
Одно время у него жил администратор МХАТа Василий Росляков. Похоже, их связывали действительно трогательные отношения. Василий был на два года моложе актера, весьма образованный молодой человек с несколькими высшими образованиями. Но он не надолго пережил друга – в конце 90-х умер от СПИДа в одной из московских клиник.
Не просто часто бывал, а буквально квартировал на улице Гиляровского и некий бармен Саша Ефимов (его-то и проклял психолог Трофимов). Как-то Татьяна Васильевна позвонила из Ленинграда – он подошел к телефону. Она, удивившись его присутствию, спросила:
– А ты кто такой, Саша?
Тот невинно ответил:
– А Юра мне ключи оставил – он на гастролях.
Этот Саша потом появится на похоронах в богатыревском голубом французском плаще. Когда ему сделают замечание, он ответит: «А Юра мне его подарил…»
* * *
Буквально накануне роковой ночи актер развесит картины для своей первой персональной выставки в Бахрушинском музее, точнее, в залах его филиала на Тверском бульваре. Очень будет волноваться и радоваться по этому поводу, еще не зная, что открытия долгожданной выставки так и не увидит…
В тот роковой вечер 2 февраля решит устроить на улице Гиляровского небольшое дружеское застолье… В нем примут участие несколько близких друзей и сосед-милиционер Аркадий, который, видимо, и достанет вино в тот сложный период борьбы с алкоголизмом. Ведь перед застольем Богатырев позвонит Андрею Мартынову с просьбой достать выпивки, тот замнется – и приедет потом, спустя несколько часов, когда уже ничего изменить будет нельзя.
Вот что пишет об этом черном дне и его подоплеке приятель артиста Станислав Садальский в своей книге «И снова – король скандала»:
«У Юры было мало друзей. Но как только он получал деньги, их становилось невероятное количество. Так и в тот раз. Итальянский продюсер отдал Богатыреву гонорар за кинофильм «Очи черные». Тут же в доме появились «друзья», и началось… Море разливанное!
Спектакли во МХАТе, съемки, запись на радио требуют колоссальной отдачи сил, а если еще обильное застолье, то – втройне… Его новый друг Саша Ефимов, увидев, как побледнел Юра в тот вечер, вызвал «скорую». «Скорая» приехала быстро, но, кроме йода и бинтов, на борту машины ничего не оказалось. Вызвали вторую бригаду врачей… Тогда гости еще шутили…
Вторая бригада была оснащена по полной программе. Без долгих разговоров огромной иглой ввели в сердце препарат, несовместимый с алкоголем. Смерть наступила мгновенно.
Неумышленно убитый, в своей маленькой опломбированной московской квартире <…> лежал народный артист РСФСР. Телефон звонил непрестанно…
Приехавшая на следующий день из Питера сестра увидела разграбленную библиотеку (Юра собирал книги по изобразительному искусству), пустой шкаф: вся одежда пропала (и не только – по словам родственников, из тайника исчезли деньги, отложенные артистом на машину. – Н. Б.)… А на стене висел кортик, подаренный отцом.
Через год окончил жизнь самоубийством Саша Ефимов. Почему? Эту тайну он унес с собой»[5].
* * *
У Клариссы Столяровой свое видение того черного дня, точнее, ночи, которым она поделилась со мной:
– И вот наступил этот страшный день – 2 февраля. Мне позвонили ночью – я приехала на улицу Гиляровского, когда там еще были врачи скорой помощи… Я была в шоке: «Что происходит? Почему он не позвонил мне раньше?»
Мне объяснили:
– Он хотел, но…
Оказывается, в компании кто-то его отговорил. Страдающий Юра попросил его:
– Мне так плохо, позвони Кларе…
– Ты что, с ума сошел, ночью звонить!
– Только она знает, что мне делать, что принимать…
– Нет, я лучше вызову скорую…
Юра пытался протестовать:
– Нет, не надо скорую, скорая не знает…
…Когда я приехала – в квартире уже никого не было, кроме врачей и соседа… Врачи были в смятении – ведь они ошиблись…
Чем бы я могла помочь?
Сейчас остается только предполагать…
Прежде всего, приехав, я, конечно, сразу позвонила бы его лечащему врачу Екатерине Дмитриевне Столбовой и проконсультировалась бы с ней. Я могла что-то посоветовать врачам – ведь, кроме меня, никто не знал, какие препараты Юра принимал. По жуткому стечению обстоятельств он пострадал по той самой схеме, с какой он лег в больницу: транквилизаторы (укол врачей) наложились на тонизирующие лекарства, которые он принимал вечером… Плюс, конечно, алкоголь…
…Я знала, что он мечтал о роли Обломова, а сыграл Штольца. В те страшные дни моя дочь, художница по костюмам, сшила темно-бордовый «обломовский» халат; а затем в мастерских театра его быстро подстарили, как это часто делается с костюмами для спектаклей. И мы положили его к Юре: прикрыли его ноги в гробу «обломовским» халатом – как символом его несбывшейся мечты, незавершенной жизни…
…Он ко мне часто приходит во сне… Мне кажется, что там он тоскует…
* * *
– И вдруг шок – неожиданное известие о его смерти, – вспоминает Никита Михалков. – Да, он часто жаловался на здоровье. Поэтому никто не верил этим его жалобам. Уже потом коллеги стали вспоминать, как его «загнали», как, будучи больным, он играл спектакли.
Но я представить себе не мог, чтобы такая мощная «машина» могла чем-то серьезно болеть. Я же помню его пробеги с полной выкладкой на фильме «Свой среди чужих…». Его поведение и выносливость были как у человека, который много и серьезно занимается спортом.
* * *
– Юру я могу сравнить с кометой, ярко блеснувшей на нашем актерском небосводе, – говорит Сергей Шакуров. – И внезапно куда-то исчезнувшей. Как жаль, что он сейчас не с нами. Что нельзя порадоваться его работам… Поговорить с ним – он же парень очень толковый был, со светлой головой. У меня о нем осталось очень светлое и хорошее воспоминание. А ведь не каждому дано в нашей профессии остаться в памяти таким светлым пятном…
* * *
– Он действительно слишком много работал, – убежден Александр Адабашьян. – И слишком рано сгорел. Его смерть для всех была полной неожиданностью. Глупой, несправедливой, нелогичной. Хотя любая смерть нелогична. Но Юра был рассчитан на долгую актерскую жизнь, хотя и не все у него было в порядке со здоровьем. Он был загнан обстоятельствами, самим собой, театром, работой. Ведь когда он лежал в больнице с гипертонией, театр забирал его на спектакль, и он играл больной… Не мог отказаться…
* * *
– Юры мне сейчас очень не хватает, – признается Зинаида Попова. – Я бы с удовольствием с ним сейчас побеседовала. Иногда смотрю телевизор, слушаю новости – и вспоминаю его: вот бы он узнал, увидел, вот бы мы с ним поговорили на эту тему…
Иногда я перелистываю страницы своего дневника, который веду уже много лет. До сих пор не могу без слез читать строчки, написанные в те февральские дни…
«Нет дорогого товарища… Я еще этого не осознаю, не представляю. Ведь говорила с ним вчера – он позвонил в два часа ночи, стал жаловаться на самочувствие и на театр. «Уйду!» – говорит. Я не очень долго говорила с ним: думаю, все, хватит, нервы мои не выдерживают… А он все повторял: «Уйду! Уйду из театра».
Плохо мне, говорю, надо спать… И на следующую ночь по причине плохих нервов отключила телефон. И вот тебе раз – в три часа ночи он умер. Дома.
…Итак, Юры не стало. Это произошло так внезапно, что до сих пор не могу поверить в эту несуразицу. Говорила с ним по телефону, жаловалась на плохое самочувствие, на сердце – а он тоже… И на погоду он жаловался, и на театр. А сердце его в это время с трудом перемалывало огромное количество шлаков, что он в себя засунул.
Вокруг последнее время были сплошные тайны. Встреча Нового года, поездки, звонки. Короче, какие-то безумные тайны.
Он сказал мне, что хочет разойтись с Серой… Конечно, я сразу смекнула, что есть мысли… И мысли были… Ну да Господь с ними со всеми – человек умер. Нет его больше здесь. Дружок, с которым я ночами говорила, ушел к Богу.
В общем, все шло к этому. Странное лечение, после которого можно пить, странные доктора, которые не могут без инфаркта от сердечной недостаточности избавить…
…Столько слез я вылила сегодня из себя – просто не думала, что столько воды может быть во мне… Сказать и подумать, вообразить себе, что случилось, что милый мальчик, несчастный любимый наш Юрик ушел, – невозможно…
…Невосполнимая утрата для всех и для меня. Как я теперь ночью буду жить? Как общаться? Мне некому теперь звонить. Юрка меня обижал последнее время, но не в этом дело. Дело в ужасе, который приключился… Юрик умер. Мой дорогой Юрик! Что я буду без тебя делать?! С кем болтать ночью? Кто меня поймет? Кто будет не спать в три часа ночи? Нет тебе, дорогой мой, в моем сердце замены. Я тебя очень люблю. Ты мне милый, родной братик. И я тебя никогда не увижу больше… Душа твоя ушла к Господу нашему. Она не могла больше здесь тесниться.
…Гнусная сцена на Юрочкиной выставке… Сколько он сделал, и сколько вокруг бардака…
Бедный Юрик! Его все обдирали, вымогали у него деньги и все остальное, пользуясь его влюбленностью и увлеченностью (в людей, в проекты). А он талант. А таланту необходимо вдохновение. Конечно, порой это выходило за рамки. Но что делать? К таланту надо быть снисходительным. А я не смогла.
…Ему стало плохо в двенадцать часов ночи. Юра позвал соседа Аркадия, милиционера, – он жил напротив в том же отсеке. И уже Аркадий вызвал скорую помощь.
Тогда он был еще жив. У него была сердечная недостаточность, сердце останавливалось. Ему надо было возбудить работу сердца… А у него после уколов врачей произошла остановка. Он потерял сознание, когда еще была скорая. И тогда вызвали реанимацию. Но и реанимация ничего не могла сделать.
…На днях видела сон – Юра сидит на кровати в странной квартире и потом выходит на балкон и говорит: «Я не умер».
* * *
Той черной зимой Татьяна Васильевна Богатырева получит письмо от поклонника сына, Евгения Санина. В конверт будет вложен листок бумаги со стихами, посвященными ее сыну, датированными 7 февраля 1989 года.
Хворый снег. Застывшие черты, Колокольный клекот над Москвою. Неужели, Юра, это ты? Неужели это все с тобою? Кто-то скажет: сам себя он гнал. Мол, играл бы без самосожженья. И, дивясь, как ты себя сжигал, Подносил все новые поленья. А друзья? Что ж, были и друзья. От их слез и ныне сердце стынет. Как они оставили тебя? Одного в Москве – твоей пустыне? Было много и иных друзей, Дом твой превративших в карусели. Их бы всех погнать тебе взашей, Да не мог ты – а они наглели. И загнали. Ты теперь вдали. Так вдали, что дальше не бывает… Где не слышно, как поют ручьи, Где не видно утренних трамваев. Между нами тридевять земель — Ни поцеловать, ни дозвониться… Юра, Юра, зимняя капель Над осиротевшею столицей…* * *
…Как-то на Ваганьковском кладбище, у могилы ее сына, к Татьяне Васильевне подойдет незнакомая женщина и скажет:
– Вы знаете, ваш сын умер не своей смертью… Его погубили одна женщина и один мужчина.
Татьяна Васильевна даже не заинтересуется.
Какое теперь это имеет значение?
Актерские работы Юрия Богатырева
На сцене
Московский театр «Современник»
«Свой остров» Р. Каугвера (режиссер Г. Волчек), 1971. Янус.
«Тоот, другие и майор» И. Эрксня (режиссеры А. Алов и В. Наумов), 1971. Священник.
«Валентин и Валентина» М. Рощина (режиссер В. Фокин), 1971. Карандашов.
«Большевики» М. Шатрова (режиссеры О. Ефремов и Г. Волчек), 1971. Курский.
«Всегда в продаже» В. Аксенова (режиссер О. Ефремов), 1972. Треугольников.
«Вечно живые» В. Розова (режиссер О. Ефремов), 1972. Марк.
«Как брат брату» Д. Рейба (режиссер А. Вайда), 1973. Сержант.
«Белоснежка и семь гномов» О. Табакова и Л. Устинова (режиссер О. Табаков), 1973. Гном Суббота.
«Погода на завтра» М. Шатрова (режиссеры Г. Волчек, И. Райхельгауз и В. Фокин), 1973. Работник отдела кадров.
«Принцесса и дровосек» Г. Волчек и М. Микаэлян (режиссеры Г. Волчек и О. Даль), 1974. Водяной.
«С любимыми не расставайтесь» А. Володина (режиссер В. Фокин), 1974. Алферов.
«Балалайкин и К°» М. Е. Салтыкова-Щедрина (режиссер Г. Товстоногов), 1974. Кшепшицюльский.
«Четыре капли» В. Розова (режиссер В. Фокин), 1974. Семин.
«Двенадцатая ночь» У. Шекспира (режиссер П. Джеймс), 1975. Орсино.
«Эшелон» М. Рощина (режиссеры Г. Волчек и И. Райхельгауз), 1975. От автора.
«Вишневый сад» А. П. Чехова (режиссер Г. Волчек), 1976. Лопахин.
МХАТ имени М. Горького (с 1987 г. – МХАТ имени А. П. Чехова)
«Мятеж» по роману Д. Фурманова (режиссер В. Шиловский), 1977. Фурманов.
«Дни Турбиных» М. Булгакова (режиссер Л. Варпаховский), 1978. Алексей Турбин.
«Эльдорадо» А. Соколовой (режиссер О. Ефремов), 1978. Евгений.
«Возчик Геншель» Г. Гауптмана (режиссер В. Салюк), 1981. Зибенгар.
«Путь» А. Ремеза (режиссер В. Саркисов, руководитель постановки А. Васильев), 1981. Илья Николаевич.
«Тартюф» Ж.-Б. Мольера (режиссер А. Эфрос), 1981. Клеант.
«Так победим!» М. Шатрова (режиссеры О. Ефремов и Р. Сирота), 1981. Член ЦК РКП(б).
«Живой труп» Л. Н. Толстого (режиссер А. Эфрос), 1982. Каренин.
«Старый Новый год» М. Рощина (режиссер О. Ефремов), 1983. Полуорлов.
«Чайка» А. П. Чехова (режиссер О. Ефремов), 1983. Тригорин.
«Попытка полета» Й. Радичкова (режиссер М. Киселов), 1984. Учитель Киро.
«Юристы» Р. Хоххута (режиссер Г. Флеккенштайн), 1985. Хеммерлинг.
«Чокнутая» («Зинуля») А. Гельмана (режиссер Н. Скорик, руководитель постановки О. Ефремов), 1986. Федор Иванович.
«Перламутровая Зинаида» М. Рощина (режиссеры О. Ефремов и Н. Скорик). 1987 – Юрик, 1988 – Табак.
На радио
«Курьерский поезд» Д. Буццати. Рассказ.
«В тумане» В. Быкова. Рассказ.
«Завтра была война» Б. Васильева. Радиоспектакль (режиссер Л. Вследницкая). Отец Вики.
«Прекрасная нивернезка» А. Доде. Рассказ.
«Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Главы из романа.
«Наука расставания» В. Каверина. Радиоспектакль (режиссер Э. Верник). Военкор Незлобин.
«Открытая книга» В. Каверина. Радиоспектакль (режиссер Э. Верник). Раевский.
«Простая вещь» по «Рассказу о простой вещи» Б. Лавренева. Радиоспектакль (режиссер В. Хлестов). Капитан Туманович.
«Тобольский летописец» Л. Мартынова. Радиоспектакль (режиссер А. Горовацкий). Карт.
«Выстрел» А. С. Пушкина. Радиоспектакль (режиссер Б. Щедрин). Граф.
«Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина. Радиоспектакль (режиссер А. Эфрос). Сальери.
«Тюльпан, камень, меч» Серда Карлоса и Сангиса Омара Сааведры. Радиоспектакль (режиссер Э. Кольбус). Сальседа.
«Дым отечества» К. Симонова. Страницы повести.
«Жди меня» К. Симонова. Радиоспектакль (режиссер Э. Верник). Панов.
«Утро помещика» Л. Н. Толстого. Главы из повести.
«Мятеж» по роману Д. Фурманова. Радиоспектакль (режиссер В. Шиловский). Фурманов.
«Банкет в честь Тиллотсона» О. Хаксли. Новелла.
«Двенадцатая ночь» У. Шекспира. Радиоспектакль (режиссер П. Джеймс). Орсино.
Стихи Сергея Есенина, Каноата Мумина, Тициана Табидзе, Габдуллы Тукая…
На экране
«Спокойный день в конце войны». «Мосфильм» (режиссер Н. Михалков, сценарист Р. Ибрагимбеков), 1970. Немец.
«Свой среди чужих, чужой среди своих». «Мосфильм» (режиссер Н. Михалков, сценаристы Э. Володарский и Н. Михалков), 1974. Шилов.
«Таня». Телефильм. «Экран» (режиссер А. Эфрос, сценаристы А. Арбузов и А. Эфрос), 1974. Андрей Тарасович.
«Раба любви». «Мосфильм» (режиссер Н. Михалков, сценаристы Ф. Горенштейн и А. Михалков-Кончаловский), 1975. Максаков.
«Там, за горизонтом». Киностудия имени М. Горького (режиссер Ю. Егоров, сценаристы Ю. Принцев и Ю. Егоров), 1975. Дмитрий Жерехов.
«Мартин Иден» по роману Д. Лондона. Телеспектакль. Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ (режиссер С. Евлахишвили), 1976. Мартин Иден.
«Два капитана». «Мосфильм» по заказу Гостелерадио (режиссер Е. Карелов, сценаристы В. Каверин, В. Савин, при участии Е. Карелова), 1976. Ромашов.
«Когда-то в Калифорнии». Телеспектакль. Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ (режиссер С. Евлахишвили, сценарист А. Руденко-Десняк), 1976. Твинг.
«Вечно живые» В. Розова. Телеспектакль. Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ (режиссеры О. Ефремов и М. Маркова), 1976. Марк.
«Неоконченная пьеса для механического пианино». «Мосфильм» (режиссер Н. Михалков, сценаристы А. Адабашьян и Н. Михалков, по произведениям А. П. Чехова), 1977. Войницев.
«Объяснение в любви». «Ленфильм» (режиссер И. Авербах, сценарист П. Финн), 1977. Филиппок.
«Двенадцатая ночь» У. Шекспира. Телеспектакль. «Экран» (режиссеры П. Джеймс, В. Храмов и О. Табаков), 1978. Орсино.
«Открытая книга». «Ленфильм» по заказу Гостелерадио (режиссер В. Титов, сценаристы В. Каверин и В. Савин), 1977–1979. Андрей Львов.
«Несколько дней из жизни И. И. Обломова». «Мосфильм» (режиссер Н. Михалков, сценаристы А. Адабашьян и Н. Михалков, по роману И. А. Гончарова), 1979. Штольц.
«Последняя охота». «Ленфильм» (режиссер И. Шешуков, сценарист А. Макаров), 1979. Сергей.
«Отпуск в сентябре». «Ленфильм» по заказу Гостелерадио (режиссер и сценарист В. Мельников, по мотивам пьесы А. Вампилова «Утиная охота»), 1979. Саяпин.
«Мой папа – идеалист». «Ленфильм» (режиссер В. Бортко, сценарист А. Соколова), 1980. Борис.
«Мятеж» по роману Д. Фурманова. Телеспектакль. «Экран» (режиссер В. Шиловский), 1980. Фурманов.
«Глубокие родственники». Одесская киностудия по заказу Гостелерадио (режиссер С. Ашкенази, сценарист В. Токарева), 1980. Юрик.
«Странный отпуск». Киностудия имени А. Довженко по заказу Гостелерадио (режиссеры Н. Засеев и И. Ветров, сценаристы Л. Лондон и Б. Борисов), 1980.
«Две строчки мелким шрифтом». «Ленфильм», «Дефа» (ГДР) (режиссер В. Мельников, сценаристы М. Шатров, В. Логинов и В. Мельников), 1981. Тишков.
«Этот фантастический мир». Выпуск № 5. Главная редакция программ для детей ЦТ (режиссер Т. Павлюченко, сценаристы A. Костенецкий и Л. Ермилина), 1981. Вулф.
«Этот фантастический мир». Выпуск № 6. Главная редакция программ для детей ЦТ (режиссер Т. Павлюченко), 1981. Никишин.
«Родня». «Мосфильм» (режиссер Н. Михалков, сценарист B. Мережко), 1981. Стасик.
«И с Вами снова я…». Телефильм. «Экран» (режиссер и сценарист Б. Галантер), 1982. Николай I.
«Время для размышлений». Одесская киностудия по заказу Гостелерадио (режиссер С. Ашкенази, сценарист Т. Калецкая), 1982. Андрей.
«Старинный детектив». По произведениям «Похищенное письмо» Э. По и «Пойман с поличным» Ч. Диккенса. Телеспектакль. Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ (режиссер и сценарист П. Резников), 1982. Друг Дюпена, Семсон.
«Возчик Геншель» Г. Гауптмана. Телеспектакль, «Экран» (режиссеры В. Салюк и М. Орлов), 1982. Зибенгар.
«В. И. Ленин. Страницы жизни». Симбирская трилогия 1870–1887 гг. Телефильм. «Экран» (режиссер В. Лисакович, сценарист Е. Яковлев), 1982. Илья Николаевич Ульянов, отец Ленина.
«Карантин». Киностудия имени М. Горького (режиссер И. Фрэз, сценарист Г. Щербакова), 1983. Дедушка.
«Нежданно-негаданно». «Мосфильм» (режиссер Г. Мелконян, сценарист Э. Брагинский), 1983. Нотариус.
«Уникум». «Ленфильм» (режиссер В. Мельников, сценарист А. Житинский, при участии В. Мельникова), 1983. Перебереев.
«Кое-что из губернской жизни». Телефильм. «Экран» (режиссер Б. Галантер, сценарист Н. Фомина), 1983. Шипучин, Любовник.
«Человек из страны Грин». Телеспектакль. Главная редакция программ для детей ЦТ (режиссер Т. Павлюченко, сценарист В. Коростылев по мотивам произведений А. Грина), 1983.
«Мертвые души» по поэме Н. В. Гоголя. «Мосфильм» по заказу Гостелерадио (режиссер и сценарист М. Швейцер), 1984. Манилов.
«Этот фантастический мир». «Знак Саламандры». Телеспектакль. Главная редакция программ для детей ЦТ (режиссер Т. Павлюченко, сценарист В. Шитова), 1984.
«Чужая жена и муж под кроватью» по мотивам рассказов Ф. М. Достоевского. «Ленфильм» по заказу Гостелерадио (режиссер В. Мельников, сценарист В. Валуцкий), 1984. Бобыницын.
«Ералаш» № 50, 1985. Роль в сюжете «Повесть о первой любви».
«Театр И. С. Тургенева». Телеспектакль. Главная редакция научно-популярных и учебных программ ЦТ (режиссер A. Торстенсен, сценарист И. Саввина), 1986.
«Очи черные». «Сильвия Д’Амико Бендико», «Карло Кукки», «Эксчельсиор фильм ТВ РАЙ УНО», «Андриано интернэшнл корпорейшн» (режиссер Н. Михалков, сценаристы Н. Михалков, А. Адабашьян, при участии Сузо Чекки Д’Амико), 1987. Городской голова.
«Фитиль» № 301, 1987. Роль в сюжете «По привычке».
«Первая встреча – последняя встреча». «Ленфильм» (режиссер В. Мельников, сценарист В. Валуцкий), 1987. Майор Гей.
«Кувырок через голову». Киностудия имени М. Горького (режиссер Э. Гаврилов, сценарист А. Хмелик), 1987. Стурис.
«Этот фантастический мир». «С роботами не шутят». Телеспектакль. Главная редакция программ для детей ЦТ (режиссер Т. Павлюченко, сценаристы Г. и А. Капраловы), 1987. Прокурор.
«Доченька». Телефильм. «Экран» (режиссер А. Бланк, сценарист А. Тимм), 1987. Ипатов.
«Презумпция невиновности». «Ленфильм» (режиссер Е. Татарский, сценарист А. Тигай), 1988. Козанец.
«Полет птицы». «Ленфильм» (режиссер и сценарист B. Григорьев), 1988. Разлогов.
«Дон Сезар де Базан». «Ленфильм» по заказу Гостелерадио (режиссер Я. Фрид, сценаристы М. Донской и Я. Фрид, по мотивам одноименной пьесы Ф. Дюмануара и Д’Эннери), 1989. Король. Последняя роль Юрия Богатырева.
Примечания
1
Восторг и разочарование // Советский экран. 1975. № 7. С. 9.
(обратно)2
Протокол № 24 заседания кафедры актерского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина от 25 и 26 мая 1969 года.
(обратно)3
Личное дело Ю. Богатырева. Музей МХАТа имени А. П. Чехова.
(обратно)4
Богатырев Ю. О любви к рисованию // Огонек. 1986. № 52. С. 25.
(обратно)5
Садальский С. И снова – король скандала. М.: Ассоциация «Книга. Просвещение. Милосердие», 1996. С. 214–217.
(обратно)



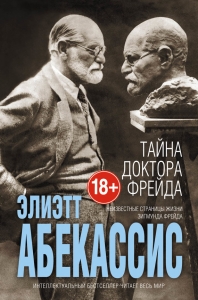

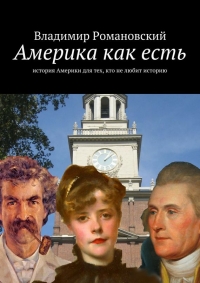


Комментарии к книге «Юрий Богатырев. Чужой среди своих», Наталья Анисиевна Боброва
Всего 0 комментариев