Фаина Раневская «Моя единственная любовь». Главная тайна великой актрисы
© ООО «Яуза-пресс», 2016
Вступление
Свеча трещала и грозила погаснуть от сквозняка также, как тогда в ледяном Симферополе… И храм такой же – Всех Святых, только не на кладбище, а на Ленинградке в Москве.
Робкое, дрожащее пламя как защита, словно если оно погаснет, мир погибнет.
Каддиш ятом читать должен сын, это он поминает отца в годовщину смерти. Если сына нет, можно дочери. А если никого нет? Тогда сгожусь и я. Главное, чтобы не забывали.
Все же поминальной молитве иудеев не место в православном храме.
Но почему-то было понятно, что не выставят и даже не осудят.
Когда сжимала правой рукой свечу, а в кулачке левой крестик, явственно почувствовала пальцы Андрея на своих. Это похоже на сумасшествие, но он держал мою руку сейчас, дотянувшись из того страшного двадцатого года! Слезы сами собой потекли по щекам.
Закрыла глаза и шепотом произносила фразы, кивая при каждом «амен»:
– Йитгадаль вэйиткадаш шмэй раба: бэальма ди вра хиръутэй вэямлих мальхутэй вэяцмах пурканэй викарэв мэшихэй: бэхайейхон увэйомэйхон увэхайей дэхоль…
Что думали при этом прихожане – что я ненормальная? Что в церкви впервые в жизни, несмотря на возраст? Что бормочу проклятья кому-то на незнакомом языке? Я бы на их месте испугалась.
Батюшка подошел, как только открыла глаза после пятого амена. У него взгляд добрый, понимающий, видно решил, что я закоренелая атеистка от рождения, как вести себя в церкви не знаю, и поспешил на помощь:
– Дочь моя, возьмите свечу в левую руку, тогда правой можно совершать крестное знамение…
Что он подумал, когда я в ответ покачала головой: «Я иудейка»?
Но на моей раскрытой ладони тот самый крестик из симферопольского храма Всех Святых.
– А вот он был православным. Потому поминаю здесь.
Священник понял, не разумом – душой, кивнул:
– Поминальную закажите. Напишите просто имя, мы прочитаем, что нужно. Это хорошо, когда среди живых есть кому вспомнить.
Что-то вдруг изменилось в самой атмосфере церкви, напряжение сразу спало. Женщины ведь не слышали, что я сказала, не видели крестика на моей ладони, но поверили спокойствию своего священника.
Решили, что поминаю кого-то, погибшего на этой войне. Кому из них могло прийти в голову, что «идейно выдержанная», как написано обо мне в характеристике, гражданка поминает в православной церкви белого офицера? Его Высокоблагородие, Его светлость и прочее, прочее, прочее…
А я теперь знаю, что каждый год в этот день буду ходить в твой храм и читать свою молитву. Бог не осудит, главное, чтобы была память.
Свеча дрожит в моей руке и воском плачет. Я не пыталась жизнь прожить никак иначе. Не соблазнилась я судьбой обычной женщины. Ведь мы с тобою той свечой навек повенчаны.Уже неделю не дает покоя понимание, что день был особенный.
Конечно, особенный. С утра получила предложение руки и сердца от Федора Ивановича, потом в трамвае услышала слова о храме Всех Святых, нашла его и прочитала там каддиш ятом, поразив всех прихожанок.
Въевшаяся в кровь и плоть привычка разбирать любой поступок или ощущение собственной жизни словно чужие, чтобы извлечь пользу при подготовке возможной роли. Эта привычка – все подмечать, запоминать, анализировать и раскладывать по полочкам – страшно мешает жить. Препарировать саму себя, словно академик лягушку – мазохизм. Я мазохистка? А то нет?
Что необычного в этом дне?
52-летняя некрасивая еврейка без жилплощади (комната с окном в стену не в счет, в ней, кроме меня и тараканов, никто жить не пожелал), не умеющая ни зарабатывать, ни копить деньги, у которой руки не оттуда растут во всем, известная ролями в кино, которые терпеть не может, получила предложение стать супругой маршала.
Если послушать мужчин, то вокруг одни герои и совершенства, на деле же все больше мелкие прыщики. Федор Иванович Толбухин не такой, он настоящий. Этим словом определяется все, настоящие мужчины – вымирающий класс, встречаются редко, а среди холостых особенно. Зачем ему я со своим окном в стену – загадка, но это его дело.
«Расправилась» до нелепости просто – как кокетливая курсистка, попросила время на раздумье и как полная дура определила срок до своего дня рождения, то есть девять месяцев, словно ребенка вынашивать собралась.
Вторая загадка маршала Толбухина – он согласился подождать.
Почти довольная собой, ехала двадцать третьим трамваем (с чего вдруг?), услышала, как одна пассажирка другой рассказывает, мол, живет теперь рядом с «Соколом» у Всехсвятского храма. Услышать о храме Всех Святых в Такой день!
Немедленно пересела в обратную сторону и отправилась до «Сокола».
Храм вот он – на ладошке позади метро, словно нарочно, чтобы не пришлось искать и не нашлось повода трусливо повернуть обратно. И ведь открыт заново совсем недавно.
Что это – судьба?
Не то, не то, все не то! До отчаянья не то.
И не отпускает.
Не дает покоя мысль, что не зря вот так все сразу – Федор Иванович Толбухин, церковь Всех Святых и Павла Леонтьевна с Ирой живут отдельно. Я одна, никто не заглянет через плечо, никто не спросит, почему глаза красные или свет горел до самого утра.
Федор Иванович о Крыме говорит охотно, но о нынешнем. Толбухин освобождал его от фашистов, а в Гражданскую воевал против поляков и в Кронштадте.
О Крыме двадцатого года никто говорить не хочет.
Никто, даже те, кто могут.
И я не хочу.
Дневник тех месяцев порвала в клочки, сожгла, старательно переворошив пепел. Заставляла себя не думать, не вспоминать, это страшно, это опасно, это очень больно.
И вдруг все сразу – свеча в храме, пальцы Андрея на моих и ледяной Крым двадцатого года за московским окном, которое в стену.
Как озарение: вот оно! Я не забыла ни одного дня, ни одной минуты, связанной с тобой. Но не забыть и не вспоминать не одно и то же. Я не имела права не вспоминать. Не порвать тогда дневник не могла – опасно для всех, Андрей, ты поймешь. Но сейчас… Эта свеча в руке и крестик на ладони. Я должна все вспомнить, все. Иначе не отпустит. Иначе получится предательство.
Я не предавала тебя. Никогда.
Чем больше думаю, тем ясней понимаю, что нужно все вернуть – записать то, что еще помню. Не ради публикации (упаси боже!), ради себя, своей памяти.
Когда-то Ниночка Сухоцкая просила записать, чтобы не забылся тот кошмар. Но было еще слишком свежо и больно, да и опасно. За себя не боялась, но потащить за собой близких не хотела.
Хожу кругами и не могу приступить, не могу решиться. Сохранись та тетрадь, просто добавила бы свои замечания с высоты прожитых лет, а так хоть все заново начинай. А может, и лучше – заново. Какая разница, какого цвета было у меня платье или что сказал Павел Анатольевич в ответ на чьи-то слова? Куда важней, что думали и чувствовали в те страшные три месяца осени двадцатого года в Крыму. А это я помню, словно было вчера, а не двадцать восемь лет назад.
Пока еще нельзя говорить многого, но пройдет время, наступит пора, когда правда тех, кто пережил этот раскол, понадобится. Для меня главное – память об Андрее, но ведь есть еще память о том, через что мы прошли проклятой осенью двадцатого года в Крыму.
Забудут Раневскую, но должны помнить Раскол, погубивший стольких.
В русских Расколах никогда нет ни правых, ни виноватых. Правых вообще быть не может, а вот виноваты все. Что допустили это противостояние, что не слышали друг друга, звали на помощь чужих (как это знакомо для Руси во все века! я плохо знаю историю, но тут и знать нечего).
Никогда не интересовалась политикой, терпеть ее не могу, но как вспомню, сколько и каких людей погубили в кровавой междоусобице, страшно за Россию становится. Неужели ей вовек так суждено – чтобы русский на русского, брат на брата до самого конца, до погибели обоюдной?
Сейчас об этом говорить нельзя, но ведь будет время, когда станет можно.
А вдруг мы что-то забудем или, хуже того, вовсе не доживем, некому будет предупредить?
Что-то пафосно получается.
Третью неделю уговариваю себя писать. Третью неделю успешно нахожу разные отговорки – то сначала настроиться нужно, то времени нет, то сумбурно все, мол, чуть-чуть разберусь с мыслями и начну.
Пожалуй, так и собиралась бы, не услышь, как один прозаик советует другому: если не знаешь, что писать или как начать, садись за стол, бери перо, обмакивай в чернила и начинай. Что? Да все что угодно! Дальше мол, само пойдет.
Решила попробовать. А вдруг пойдет?
А еще тоненькая тетрадка стихов. Я не могла ее вытащить на свет, чтобы даже прочитать, опасаясь, что заметят и сунут нос. Не Павла Леонтьевна, она слишком деликатна, чтобы читать чужое без спроса, но Ирина. Я и дневник тогда сожгла, чтобы Ира нос не совала.
Ирина меня никогда не любила, ревновала, считая, что я украла у нее любовь матери, а в подростковом возрасте и вовсе ненавидела. Это понятно, это простительно, в двенадцать-тринадцать лет всем кажется, что мир против них, а уж чужая недотепа, с которой мать носится, как курица со снесенным яйцом, вообще враг.
Я в таком возрасте почти ненавидела всех за любовь к моей старшей сестре-красавице и саму сестру за всеобщую любовь к ней.
Дневник уничтожила, а на стихи рука не поднялась, так и лежала эта тоненькая тетрадочка далеко в тайниках с документами. Это были бумаги, связанные с семьей Фельдман (в том числе телеграммы от мамы о том, что перевела деньги – я хранила, поскольку мечтала когда-нибудь вернуть все, хотя это «когда-нибудь» упорно откладывалось). К счастью, Ирину подобные вещи не интересовали совсем, за тетрадочку можно не опасаться.
А потом я сама не доставала – было слишком тяжело и больно.
После похода в храм открыла ее и поразилась – вот она, летопись моей трагической любви. Наивно, неумело, временами напыщенно, но такова была я тогда, таков был мир вокруг.
Ирине отдать? Нет, ни за что. Может, когда-нибудь Лешке пригодится? Но это только после моей смерти, чтобы прижизненным позором не мучиться. Он меня бабкой считает и Фуфой зовет. Вот это был бы шок – бабка Фуфа и любовь!
А я все запишу и Ниночке отдам! Она молодая, моложе меня на десять лет, меня переживет и сохранит для кого-нибудь. А не сохранит, так пусть все пропадает.
Нет, чтобы пропало, нельзя, я многое помню, должна другим рассказать.
И стихи она тоже поймет, сама в молодости баловалась (кто стихов в юности не писал? только сухарь плесневый). А еще она умница, она сама выберет, что можно другим показывать, а чего нельзя.
Ниночка, это я о тебе, дорогая. Ты у нас умница.
Вот тебе, умница, и мучение – читай, только не ругай меня, я не писательница.
Ниночка даже обрадовалась моему намерению написать о жизни в Крыму.
Теперь у меня есть все – желание, память и адресат. Нелепо было бы рассказывать себе о себе.
Кое-что я рассказывала еще до войны, но никогда об осени двадцатого года. Это настораживало. Теперь открываю секрет.
Ниночка, выбери из всего, что я тебе выложу, что действительно стоило бы оставить. Даю торжественное и клятвенное свое согласие на обработку, переработку и уничтожение всего, что сочтешь лишним, глупым или фальшивым. Я о себе молодой, потому фальши и напыщенности может оказаться много. Твое право кромсать (или не читать вовсе).
Сначала о Крыме двадцатого года. И о Маше Гагариной, без нее куда же? И обо мне, без меня тоже трудно обойтись во всей этой истории
Я Крым не выбирала, я хотела в Москву.
Всегда.
Там Качалов, там Станиславский. А в Крыму даже Чехова уже не было – умер.
Интересно, что со мной стало, останься я дома?
Благовоспитанной барышни из меня не получилось, слишком строптива. Хорошей хозяйки дома тоже не вышло бы – слишком бестолкова и руки из одного места растут, как говорят сейчас, и голова чем угодно забита, только не домашним хозяйством. А ведь Андрей понимал это. Как же он решился? Или просто так сложилось?
А еще упрямство. Представляю, как ярился отец, понимая, что не вышло по его воле. Отец вычеркнул «упрямую ослицу» из своей жизни, оставив нищей. Гирша Фельдман считал свою дочь Фаину «шлимазл» – конченой неудачницей, а шлимазлов в семье Фельдманов быть не должно. Но я даже рада, благодаря этому прожила свою жизнь, пусть тяжелую и неустроенную, но по своей воле, а не по его.
Сейчас пришло в голову, что не будь разрыва с родными и неудач в Москве, я не оказалась бы сначала в Крыму у мадам Лавровской, потом не познакомилась в Ростове с Павлой Леонтьевной, а потом не приехала бы в Симферополь, а значит, не встретила Андрея! Получается, что судьба упрямо вела меня к нему в ту самую церквушку Всех Святых.
Говорят же, кто судьбе покорен, того она ведет, кто противится – тащит.
Меня тащила, хотя не понимаю, в чем именно я ей противилась.
Мы с Павлой Леонтьевной оказались у Рудина в театре, когда в Симферополе власть менялась чаще направления ветра: белые – красные – немцы – белые – красные… Новая власть расправлялась с прежней, казнила, вешала, расстреливала, все реквизировала (попросту грабила) и обещала, что уж теперь у всех нас, несознательных, начнется прямо-таки райская жизнь. Райская жизнь как-то не поспевала за сменой власти, а потому продолжалась прежняя – голодная и страшная.
В Крыму тогда скопилась такая масса народа, какой полуостров не видел в самый разгар курортного сезона. Такой разномастной публики не бывает даже в Москве – от князей до бездомных бродяг, от профессоров до карманников и прочее. Хотя из-за столпотворения растерянных, не знающих, куда им приткнуться, что с ними будет дальше людей и князь вполне мог оказаться бездомным.
Не меньше в Крыму собралось и артистической братии. Гастролировал Шаляпин, в Севастополе пел Собинов… Актеров и даже целых трупп немало. Писатели, поэты, музыканты… Все растерялись в той бурлящей России, им казалось, что в Крыму спокойней, но последний оплот был больше похож на сумасшедший дом, чем на надежное пристанище, а деваться больше некуда. Дальше только море и на корм акулам (в Черном море тогда были акулы не из числа отдыхающих, а просто так?).
Казалось бы, можно радоваться, ведь у крымчан появилась незапланированная возможность послушать лучшие голоса, посмотреть лучшие спектакли. Но это не так, у крымчан не было денег, они собрались не отдыхать, а переждать бурю, бушующую в остальной части страны. Конечно, все верили, что скоро, вот-вот – и прежняя жизнь вернется, а пока продавали свои драгоценности, чтобы как-то продержаться. Большинству не до театров.
Симферополь не был столицей, когда Русская Армия Врангеля перебралась в Крым, барон устроился в Севастополе. Приезжавшие оттуда знакомые делали круглые глаза и рассказывали ужасы. Севастополь превратился в настоящий Вавилон, а верней, Содом и Гоморру вместе взятые. Снять жилье невозможно ни за какую цену, спящие на скамейках в скверах, а то и на земле люди стали привычным явлением. Дороговизна страшная, присутствие огромного количества военных, не желавших на передовую, но желавших жить «красиво», не делало город безопасней.
Аверченко открыл в Севастополе театр. Театры были во всех городах. Мы даже обсуждали идею перебраться куда-то из Симферополя, например, снова в Евпаторию или к Аверченко. Но у него оказался театр-кабаре, там выступал со слезами на глазах Собинов. Драматические актрисы классического репертуара едва ли нужны в кабаре.
Живо представила свою тощую (в то время я от недоедания была тощей!) нескладную фигуру в варьете рядом с Собиновым и поняла, что публика передохла бы от смеха прежде, чем великий тенор успел открыть рот.
От колик из-за хохота севастопольскую публику спасло только мое нежелание выступать в варьете. Я уже попробовала свои силы на серьезной сцене, пусть и в ролях второго плана (эпизодические роли, которые есть на каждой афише – «и др.» – моя стезя), а потому ничего иного, кроме классики, для себя не представляла. Только Чехов, Островский, Гоголь!
Павла Леонтьевна тоже не желала в варьете (кто бы нас туда принял?), мы свысока посетовали на неразборчивость некоторых актеров и актрис и остались в Симферополе в Дворянском театре, как он тогда назывался. Тем более там правил бал Павел Анатольевич Рудин – для нас режиссер идеальный, помешанный на классике идеалист, добрейшей души фантазер. Думаю, его покладистость позволила Павле Леонтьевне пристроить в театр меня, заверив в моей несомненной талантливости (я этот аванс в характеристике до сих пор отрабатываю в поте лица).
В общем, жили мы в Симферополе скудно, голодно, но с достоинством. Но главное – играли!
Ниночка, не тебе объяснять, что это такое – возможность играть классический репертуар, а не новомодные изобретения декадентов. Наверное, в театре ничего лучше русской классики не придумано, даже Шекспир слишком простоват, недаром его так ругал Лев Николаевич Толстой.
Но тут Толстой ни при чем, хотя в нашем доме о нем тоже говорили. Я рассказывала, что граф для путешествия по Черному морю воспользовался пароходом моего отца? Тогда пароход принадлежал другому, но сама память осталась. Меня умиляет вот это: «К этому камню прикасался такой-то». С одной стороны, понятно, что хочется сохранить память на века, с другой, после такого-то к камню прикасалось столько рук, что верхний слой стерся.
Можно бы добавить: «В этом море купался великий Толстой, потрогайте волну, не исключено, что именно она касалась ног Льва Николаевича двадцать лет назад такого-то числа в такое-то время пополудни». Павла Леонтьевна, услышав эти речи, долго смеялась, но потом сказала, что я язвительная штучка. Что есть, то есть.
Что-то я не о том…
Все самое значительное происходит в нашей жизни словно случайно.
Маша или я могли сесть на другое место в трамвае и не познакомились бы даже после того, как он вдруг встал, словно вкопанный, и все посыпались друг на дружку. Это ведь случайность – что я повалилась именно на Машу, расквасила себе нос о ее колено, и ей пришлось останавливать мне кровь.
Не перебеги чертова собака тогда перед трамваем, я никогда не побывала бы в квартире на Екатерининской, где стоял Машин рояль, уютно гудел самовар (у нее имелись чай и дрова) и было много книг.
В нашем доме в Таганроге на полках стояли в основном томики Чехова и толстые книги на арамейском (отец считал, что говорить можно на идиш, а читать только на арамейском, но такую литературу, кроме молельной, не найти).
Мама любила Чехова. Когда он умер, рыдала страшно, словно потеряла самое дорогое. Отец даже обиделся:
– Я умру, так плакать не станешь.
С Павлой Леонтьевной мы книг позволить себе не могли до самой Москвы. Как их будешь таскать с собой, если ехали каждый раз в неизвестность, денег никогда не имели и как долго проживем на новом месте, не знали? Я мечтала о домашней библиотеке – большой-большой, чтобы там было все на нескольких языках (даже на арамейском). До сих пор не получилось.
А у Маши было. Она несколько лет прожила на одном месте, не переезжая, сначала с мужем, потом одна. И книжные шкафы на Екатерининской зачаровывали меня всякий раз, как появлялась там. Даже сейчас, через много лет помню порядок стоявших томов – на этой полке Монтень, там Бальзак, а там Тютчев (Машина любовь)…
Сейчас вдруг осознала, что стала забывать многое, даже Машино лицо расплывается в памяти. Нужно немедленно записать о ней все, что вспомню. Зачем – не знаю, но чувствую, что это очень важно.
Память – штука странная. Кажется, отложилось навсегда, но вдруг выясняешь, что она сама решает, что оставить, а что забыть.
Зря я тогда порвала и сожгла тетрадь, надо было хоть переписать, заменив имена. Или все правильно – что упало, то пропало, не помнится, значит, не нужно?
Но то, что не нужно в одно время, вдруг оказывается очень важным в другое.
Я пытаюсь юлить сама с собой, главное ведь, что в ее доме я познакомилась с Андреем.
Об Андрее я тебе не рассказывала, никому не рассказывала, а вот теперь расскажу. Только тебе, а ты уж сама решать – знать ли другим. Только умоляю, Ниночка, после того, как меня не станет. Я долго не проживу, потому распорядишься моим вот этим наследством, как сочтешь нужным, тебе я верю.
Ну, вот, завещание написала, теперь можно и о моей любви. Написала слово «несчастной» и жирно вымарала, видишь?
Андрей был прав, когда сказал, что несчастной любви не бывает, несчастным может быть только человек, не понявший счастье своей любви.
В большой шестикомнатной квартире моя новая знакомая жила практически одна – муж погиб, брат Матвей бывал только набегами, как и их друг Андрей, они офицеры. У обоих по своей комнате. В небольшой комнатке подле кухни жила прислуга – ловкая, хитрая Глаша. Маша сожалела, что ванная всего одна, это очень неудобно, когда мужчины дома.
Иметь столовую отдельно от гостиной и держать прислугу в такое время – это немыслимо. О ванной вообще говорить не стоило, ведь Симферополь всегда страдал от нехватки воды. Большинство пользовались водой из фонтанов, а то и вовсе ходили на Салгир. Речка мелкая, из нее не только пить – воду для мытья полов брать было опасно. Недаром как раз в то лето разразилась эпидемия холеры, впрочем, в Крыму не первая.
А у Маши ванная. И неудобно, что всего одна и умываться иногда приходится по очереди.
Что-то я слишком подробно о Маше и ее доме.
Но как же иначе?
Во-первых, там я встретилась с совсем другой жизнью. Такую мы изображали на сцене, в действительности не представляя совсем. Это другая жизнь, отличная от моей совершенно.
Во-вторых, я увидела другие взаимоотношения между людьми, услышала совсем иные речи, познакомилась с другими интересами. Дело не в том, что это представители высшего общества. Мы с Павлой Леонтьевной и мои знакомыми были аполитичны и тем гордились. Маша с ее друзьями напротив, гордилась своим патриотизмом и в политике даже участвовала. Она не расклеивала прокламации, не раздавала листовки, не распевала «вышли мы все из народа…», совсем наоборот. Маша была монархисткой, из-за чего над ней часто посмеивался либеральный Андрей.
Но самое главное – у нее я познакомилась с Андреем. Без дома на Екатерининской не было бы моей такой горячей и такой трагичной любви, настоящей, какая бывает раз в жизни и далеко не у всех.
Евреи говорят, что если любовь закончилась, значит, она и не начиналась.
У меня не закончилась даже спустя двадцать восемь лет.
Ее жизнь разительно отличалась от нашей неустроенной и полунищей. Маша Гагарина прекрасно играла на рояле, давая уроки музыки и французского, окончила медицинские курсы и мечтала поступить в университет. Но университет был отложен ввиду замужества. Смогла бы я вот так – оставить сцену ради Андрея, как она поступила с медициной, чтобы быть рядом со своим Павлом?
Впрочем, медицину Гагарина не бросила, она работала в госпитале сестрой милосердия, не получая за это ни гроша. Кормиться уроками музыки и французского с каждым днем становилось все трудней – одни ученицы уезжали из Симферополя, родители других не имели средств для такой роскоши.
Об этом не говорят и не пишут, но при Врангеле (я вовсе не хвалю его, но были и положительные моменты) в Крыму рабочие получали куда больше чиновников и даже военных. О простых служащих говорить нечего.
Наш знакомый печатник хвастал, что получает раза в три-четыре больше офицера. Мы не поверили, но позже я поинтересовалась у Матвея, так ли это. Он ответил, что так – зарплата опытного рабочего в несколько раз больше офицерской.
Почему они тогда офицерство ненавидели? Загадка.
На что жила Маша?
И это раскрылось легко – вовсе не уроками, а на доходы от денег, вложенных в иностранные банки.
Не так уж беспомощно было наше дворянство. Осторожные состоятельные люди загодя перевели свои средства за границу и теперь получали проценты.
Банк, в котором лежали сбережения Машиного мужа (он погиб задолго до нашей с ней встречи), имел представительство в Севастополе, откуда то ее брат Матвей, то Андрей привозили снятые со счета франки и купленное на них золото. Я как-нибудь порассуждаю на эту тему.
У меня началось настоящее раздвоение личности.
Очень тянуло в отличную от нашей жизнь на Екатерининской, но я стыдилась признаться Павле Леонтьевне в новом знакомстве, словно совершала что-то непотребное. «Спасало» только то, что Ира все время болела, у нее слабое здоровье тогда было. Вообще, мы болели по очереди – то я, то Ира, а нашей маме Павле Леонтьевне и Тате приходилось выхаживать. У Ирки сказывался подростковый возраст, когда болячки цепляются особенно легко, потому что организм перестраивается и растет. Она росла, а кушать было нечего, вот и болела.
Но Ирина болезнь в те два месяца позволила мне почаще сбегать к Маше.
Вот какая я эгоистка, а ты всегда считала меня доброй и отзывчивой.
После полукочевой актерской жизни, когда не знаешь, что завтра, когда главное – репертуар предстоящей недели, а единственная неопределенность – будет ли следующий сезон и какие будут премьеры, я попала в совсем иную жизнь. Причем не просто другую, а ту самую, которая у Чехова в пьесах.
Есть такая порода людей – аристократы. Передается по наследству, по крови. У них могут быть огромные имения или не быть ничего, они могут купаться в деньгах или считать каждый рубль, иметь десятки, а то и сотни слуг или разводить огонь в печи сами, но они особенные. Таких не пугают никакие трудности, никакие лишения, ни голод, ни холод, ни опасности. Ни единой жалобы ни на какие житейские трудности. Превыше всего – честь, главный стержень внутри – самодисциплина.
До Маши, Матвея и Андрея я таких видела только со стороны. Состоятельные семьи Гирша Фельдмана и его знакомых несравнимы.
Маше Гагариной было тридцать, но поверить в это, глядя на тоненькую, как у девчонки, стройную фигурку и чистое, без малейших признаков возраста лицо, невозможно.
Она вдова, муж погиб, как я сразу поняла, на фронте в первый год войны.
Об остальном, что касалось ее жизни в Москве и здесь в Симферополе с мужем, она говорить категорически не желала, я не настаивала. Зато с каким удовольствием Маша вспоминала жизнь в подмосковном имении в детстве и юности! Я часто слышала несколько имен: Матвей (брат Маши), Павел (ее муж), Андрей, Владимир, Дмитрий, Никита, Володька-маленький, Николаша, еще одно мужское имя я забыла. И женские: Полина, Лиза, Анна, Даша…
Большая веселая компания сверстников-соседей, устраивавшая шумные праздники, катания верхом и в колясках, чаепития, ставившая домашние спектакли… Такая дружба, еще не обремененная семейными заботами и служебными обязанностями, когда все впереди и все прекрасно, бывает только в юности. Как я жалела, что у меня никогда не бывало таких друзей! Как я завидовала той Машиной счастливой жизни.
Из рассказов стало ясно, что имущественное положение разное, у одних огромное поместье, у других пара деревенек, но это не мешало отпрыскам родовитых семей дружить между собой. Эта дружба сохранилась на долгие годы, а Маша с Павлом и Андрей с Полиной даже создали семьи. Позже я поняла, что Маша сказала «да» Павлу после свадьбы Андрея и Полины.
Конечно, она жалела о детстве и юности, когда все так светло и весело, вся жизнь впереди и самые страшные проблемы тебя не касаются. Хотя самим детям их проблемы кажутся наиважнейшими. Что там с неурядицами всего внешнего мира, если злые мальчишки порвали у твоей любимой куклы платье?
Но у меня и в юности не было таких друзей, в Таганроге мы не ездили большой компанией на речку ловить голавлей, не читали стихи под звездами, не пели романсов под гитару или рояль… А если и ставили спектакли, то не стихийно на даче, а организованно в студии.
В общем, я завидовала Машиной юности.
Из ее рассказов следовало, что самой состоятельной была семья Андрея. Имение князей Горчаковых огромно, оно больше всех соседских вместе взятых. Кроме подмосковных просторов, были еще имения в Малороссии, под Петербургом, особняк в Петербурге, большой дом в Москве и квартира в Вене. Его мать с сестрой, также потерявшей мужа, жили теперь там. Горчаковы не любили съемное жилье, потому, оставаясь в каком-то городе больше чем на полгода, просто покупали там квартиру или дом. Где еще были разбросаны княжеские владения, Гагарина не знала.
Об Андрее она всегда говорила как о друге. Иногда мне казалось, что влюбленность все же присутствовала, но Маша упоминала Полину – жену Андрея, и все становилось на свои места. Позже я поняла, что у них за дружба, и поразило это понимание не меньше всего остального.
Знакомство с Андреем состоялось в мой день рожденья. Он до сих пор стоит перед глазами.
Новая подруга прислала записочку с приглашением на ужин, если только я не устраиваю банкет.
Какой мог быть банкет или даже посиделки, если месячного заработка не хватало на неделю жизни, Павла Леонтьевна и Ирочка температурили, а Тата суетилась вокруг них и требовала, чтобы я вышла вон, поскольку еще одной «заразительной» она не вынесет, с нее хватит двоих. У Павлы Леонтьевны и Ирочки простуда, инфлюэнция, как говорила Тата, ничего «заразительного» в ней не было, но я поспешно выполнила просьбу, объявив, что проведу вторую половину дня у приятельницы, чтобы репетировать какой-нибудь романс. Тата романсы считала пустой прихотью, а потому только махнула рукой.
Платья было всего два, одно повседневное бязевое, которое страшно мялось и превращало меня не то в отставную институтку, не то в мелкую лавочницу, второе – выходное шелковое. Купила его случайно, вернее, выменяла на колечко (намеревалась обменять на хлеб, но потом увидела это шелковое чудо и соблазнилась).
Сидело, словно на меня шито, шло очень, я сама себе в нем нравилась, хотя и понимала, что все очень простенько.
Туфли еще тоже были ничего, подошва не отходила и подметки не сильно стоптаны.
В таком виде я чувствовала себя королевой, а отсутствие свиты объясняла себе просто: надоели!
Королева явилась к новой подруге, гордясь собой, готовая распустить павлиний хвост – Рудин все-таки отдал мне Машу в «Трех сестрах» в новом сезоне, мы много репетировали, и вот-вот премьера!
Я уже играла одну Машу (у Чехова Маш много) – в «Чайке» – и почувствовала себя чеховской героиней. Конечно, это не Нина Заречная, но все же роль со смыслом. Роль, в которой все сконцентрировано на актерской игре, где трагизма ничуть не меньше, чем в главных ролях. Все говорили, что трагическая Маша Шамраева мне удалась, чем я очень гордилась.
Мечта сыграть Раневскую пока оставалась мечтой, но всему свое время.
Одновременно мне предложена роль Натальи в тех же «Трех сестрах». Вот уж чего я не желала! Играть наглую захватчицу, безвкусную и бесцеремонную – увольте! Но Павла Леонтьевна в очередной раз подбросила тему для размышления: актриса не должна ограничиваться однотипными ролями. Это равносильно гибели таланта. Надо играть самых разных людей и в каждом плохом, отрицательном герое пытаться найти то, что оправдывает его поступки, а в каждом положительном подмечать отрицательные качества.
Сейчас эти рассуждения выглядят несколько наивными, но тогда я еще училась и пыталась осмыслить мудрые советы.
Немного подумав, решила, что соглашусь играть обе роли и докажу, что мне по силам любые характеры. Может тогда все поймут, что новую фамилию я взяла не зря?
Но все равно мне больше нравилась «правильная» Маша Прозорова (Кулыгина), чем наглая Наталья.
В общем, я была счастлива, играть ее трагическую любовь к Вершинину так романтично… Кстати, в этой роли блистала сама Ольга Леонардовна Книппер. Если уж она взяла роль, значит, Антон Павлович считал Машу главной героиней пьесы. Мне казалось, что это так, ведь Ирина Тузенбаха хоть и уважает, но не любит, Ольга не любит вообще никого, а о Наталье и говорит не стоит. А у Маши трагичная любовь к Вершинину, тут есть что играть, тут раздолье.
С Натальей куда проще, она понятна, как гривенник, – прибрала к рукам все, до чего только дотянулась.
У меня было отличное настроение, несмотря на болезнь близких мне людей. После всяких эпидемий тифа и холеры простуда казалась легкой шалостью, даже если она с высокой температурой.
Из Машиных окон лилась музыка и слышались веселые голоса. Не будь я в состоянии эйфории, не стала бы стучать в дверь, но ведь даже не подумала, что меня там ждет.
Хозяйка провела в гостиную, повела рукой:
– Фанни, позволь представить тебе моего брата Матвея и нашего давнего друга Андрея Александровича Горчакова.
Матвей молодцевато щелкнул каблуками, поцеловал руку. Я не разбиралась в погонах и званиях, но помнила, что он капитан.
А вот дальше…
Интересно, запомнил ли Андрей наше знакомство, вернее, запомнил ли его так точно, как я?
Высокий подтянутый военный с левой рукой на перевязи каблуками не щелкал, но его выправка была ничуть не хуже. А когда, поцеловав руку, вскинул на меня глаза, я пропала. Вот так в один миг и пропала!
– С днем рожденья.
Даже сейчас перехватывает дыхание, словно моя рука в его руке, а аккуратные усы щекочут кожу.
Помнишь, мы однажды увидели военного, молодцеватого, стройного, и очень благородного вида? Ты тогда спросила, почему я вдруг побледнела? Потому, что он был очень похож на Андрея Горчакова.
И еще ты удивлялась, что я не люблю красивых мужчин. Потому, что их внешность – посягательство на мою память, никто не имеет права быть симпатичней Андрея и даже напоминать его.
Ой, как я у Маши в гостиной покраснела! Смешалась, смутилась, что делать, что отвечать, не знала.
Ты себе такую картину можешь представить – я в краске смущения? Не можешь? А зря, бывало, клянусь!
Выручила Маша, она почему-то обрадовалась, захлопала в ладоши:
– Забыла! Фанни о собственном дне рожденья забыла.
Пришлось делать вид, что не ожидала, что она запомнит дату.
А потом мы праздновали мой день рожденья. От первого глотка шампанского пошла кругом голова – и от вина отвыкла, и недоедание давало о себе знать. Мне подкладывали в тарелку, а я все боялась, что наемся и позорно засну от сытости. А еще боялась, что выдам свой интерес к красавцу подполковнику. До сих пор не могу понять, как не наговорила кучу глупостей и не опозорилась. Может, наговорила, да они вежливо сделали вид, что не заметили?
Знаешь, в тот день я поняла, что дворянская жизнь на сцене и в действительности – это небо и земля, вернее, земля и небо.
А еще поняла, как я далека от них – богатых, красивых, дружных с детства, и моя радость по поводу будущей роли как-то сразу померкла. Если бы не интерес к Андрею, больше не появилась бы в доме на Екатерининской.
Я не из бедной семьи, скорее из весьма состоятельной, но еврейской. У отца был большой дом, небольшая фабрика, еще кое-какие дела, приносившие доход, и даже собственный пароход «Святой Николай». В Таганроге Гирша Фельдман считался богатым евреем, а его дом полной чашей.
Но Таганрог сам невелик, к тому же я уже пять лет жила самостоятельно сначала в Москве, потом в Ростове, а теперь вот в Крыму. Мама присылала небольшие суммы, позволявшие не голодать, но потом связь с домом нарушилась, моя семья села на свой пароход и отбыла в неизвестном направлении.
Не тебе объяснять, что артисты крайне ограничены в средствах всегда, но одно дело быть ограниченной, живя в одной квартире постоянно, и совсем иное – то и дело переезжая. Ты либо ничего, кроме самого необходимого, не имеешь, либо постоянно оставляешь мелочи на прежнем месте жизни.
Мы с Павлой Леонтьевной выбрали первое, потому быт наш был до неприличия спартанским, в нем имелось только то, без чего нельзя обойтись. Заходя в другие мещанские дома, мы видели нагромождение безвкусных вещей, часто никому не нужных. Это помогало чувствовать себя выше глупой суеты, вне толпы, над мещанской радостью. Мы театральные, мы не такие.
Машина квартира была далека от размеров нашего дома в Таганроге и от забитости вещами тоже. Она еще до германской войны жила в этой квартире, а потому имела полный набор необходимого для удобства и постоянно пополняла изящными вещичками. Квартира Маши была состоятельной по совсем иным меркам, чем наш дом в Таганроге.
Ее жизнь и жизнь ее брата и друга тоже.
Я не бывала на балах в Дворянском собрании Таганрога, несколько раз посещала только танцевальные праздники в Коммерческом собрании, обожала карнавальные вечера (при этом мой брат Яков ехидно замечал, что при костюме Бабы-Яги мне маску можно и не надевать), категорически не ходила на вечера в гимназии. Но не потому, что плохо танцевала, как раз это я делала прекрасно, музыка всегда снимала мою зажатость, раскрепощала, просто Гирша Фельдман поощрял детские праздники, походы в театр и занятия музыкой, но не очень жаловал всякие танцы-шманцы-обниманцы. Его право – право отца.
Маша танцевала на балах в Дворянском собрании Москвы, а Андрей и вовсе на всех лучших балах Петербурга, даже в присутствии императора и императрицы. Тебе этого не понять, ты была слишком юной, когда такие балы проходили.
Я им не пара (а Андрею тем более, Маша говорила, что его Полина настоящая красавица).
Нашла листок с таким четверостишьем. Написано явно в те дни.
Ты женат и счастлив? Ради бога! Но любви своей я не стыжусь. Каждому из нас своя дорога. Над собой еще я посмеюсь.Это была неправда, я смущалась того, что с первого взгляда влюбилась в женатого человека, что мы слишком разные, горевала, что никогда не буду ему нужна, что он просто не обратит на меня внимания. Ну, разве что из вежливости, как в тот день – нельзя же не замечать именинницы, ради которой накрыт стол.
Знаешь, Ниночка, как это горько – влюбиться с первого взгляда без памяти и понимать, что совершенно безнадежно. Чем первая любовь похожа на настоящую? И та и другая бывает лишь раз в жизни.
Но не безответность чувства меня терзала, если любишь, достаточно лишь изредка видеть, слышать, просто знать, что он есть где-то рядом. Меня терзало собственное несоответствие. Он блестящий офицер, прекрасно образован, воспитан и смел. Только отличные эпитеты. Понимаю, что были и недостатки, но я влюбленными глазами таковых не замечала, зачем мне его недостатки, когда есть столько достоинств?
Беда была не в нем – во мне.
Образования никакого, гимназию закончила с трудом и то на домашнем обучении, экзамены у меня принимали, закрыв глаза и уши и помня только, что я дочь Фельдмана, попечителя и мецената той же женской гимназии. Меценату, полагаю, в тот год пришлось быть особенно щедрым, чтобы дочь еще раз не осталась на второй год.
Читала много, но сумбурно, никакой системы.
Рослая, нескладная, некрасивая… Словом, сплошной шлимазл.
На следующий день я долго стояла перед театральным зеркалом в рост – изучала себя придирчивым взглядом. Ничего хорошего не нашла и решила к Маше больше не ходить.
Это вообще моя черта – клясться «никогда и ни за что!» и клятву не сдерживать. Я клялась не выходить на сцену, но уже столько лет ее не покидаю. Клялась и понимала, что к Маше пойду и буду с замиранием сердца ждать, придет ли Андрей. А если придет, буду глупо хлопать глазами, краснеть и молчать. И ничего мне с этим не поделать, стоило только вспомнить о нем, как сердце пускалось в галоп, а когда он рядом, вся кровь отливала от сердца к лицу.
По-моему, я тебе рассказывала.
Когда-то в Москве я была страстно (как мне казалось) влюблена в одного красавца. Чего только не делала глупая девица, чтобы привлечь внимание своего кумира! Я даже в обморок падала, честное слово. Это, пожалуй, единственное, что я усвоила из попыток воспитать из меня барышню – умение красиво падать в обморок. Ничего смешного, очень нелегкая наука, да еще и с моим ростом. Попробуй упасть так, чтобы не разбиться, чтобы выглядело красиво и не привело к печальным последствиям.
Я подкараулила своего «принца» в переулке возле его дома и картинно рухнула на мостовую, стоило ему показаться на углу. С тех пор обмороки не изображаю потому, что рухнула крайне неудачно (вот что влюбленность делает – потерять так трудно наработанный навык не шутка) – по-настоящему стукнулась головой. Мало того, на помощь бросились сначала вовсе не те, от кого я эту помощь ждала. Не отбиваться же, крича, что вовсе не ради их внимания падала? Пришлось изображать обморок дальше.
Занесли меня в аптеку, что рядом, дали нашатырю понюхать. Тут поневоле очнешься.
Открываю глаза – надо мной он и участливо интересуется, не слишком ли сильно я расшиблась! Второй раз потеряла сознание безо всяких усилий, но за шею обнять успела.
С тех пор в обмороки падать перестала.
И вот теперь в присутствии Андрея щеки то полыхали огнем, то бледнели против всякой моей воли.
Не помню, как прошла первая половина этой встречи, но потом я несколько успокоилась и стала вразумительно отвечать на вопросы.
Говорили обо всем, Андрей с интересом расспрашивал меня обо мне же. Пришлось признаться, что моя семья отбыла из Таганрога, а я живу с родственницей (не говорить же, что сама навязалась Павле Леонтьевне), служу в театре, в моем репертуаре несколько ролей, в том числе роль Маши Шамраевой в «Чайке». Андрей восторга от такой новости не выказал. Оставалось гадать, что его смутило больше – то, что я актриса, или что семьей брошена.
Матвей напротив, принялся расспрашивать о Таганроге, о Чехове и о «Чайке».
Тут я была на коне!
Я перестала краснеть и бледнеть, с восторгом объясняя, как важна для пьесы и как интересна именно роль Маши. Даже Нина Заречная слишком проста, она бестолково мечется, а Маша с ее безответной любовью к Константину, с ее трауром по погибшей жизни – просто мечта любой трагической актрисы.
Андрей внимательно разглядывал меня все время горячей тирады, но я остановиться не могла. Мало того, поинтересовалась, любит ли он «Чайку». Услышав в ответ резкое «нет!», даже задохнулась:
– Вы не любите Чехова?!
Честное слово, ответь он и здесь «нет», моя любовь умерла бы, едва родившись. Но Андрей насмешливо хмыкнул:
– Чехова люблю, а вот «Чайку» нет. Натянуто. Другие пьесы лучше. И Маша Шамраева глупа. Что она оплакивает, то, что Константин любит другую? Но если бы все, кто страдает от неразделенной любви, ходили в черном, сколько же на улицах монашек и монахов было.
Слышать это невыносимо больно.
Сейчас мне кажется, что не будь того разговора о Маше Шамраевой с ее трауром от нелюбви Треплева, моя собственная влюбленность в Андрея дальше пары полуобмороков не развилась.
Но мы еще поспорили. Андрею не нравилась и Нина Заречная, и Константин Треплев тоже.
– Безответную любовь нужно уметь проживать достойно.
Больше ценил он «Трех сестер». Причем то, как обсуждал, свидетельствовало, что он прекрасно знает текст. Что-то заставило меня прикусить язык и не сообщать со счастливой улыбкой, что я репетирую еще одну Машу – на сей раз именно в «Трех сестрах». Вот состоится премьера, все увидят меня в новой роли, тогда и поговорим.
Сейчас это все кажется смешным, нелепым, детским.
Мне исполнилось двадцать четыре года, взрослая девушка, актриса с серьезными ролями (пусть их мало), а я прятала свой секрет в кулачке, надеясь, что вот-вот сумею показать его так, чтобы взрослым понравилось.
Долго сидеть не получилось, вечером ходить по улицам опасно, и мне пора домой, пока не начали беспокоиться.
Проводить меня вызвался Андрей.
В то время мы с Павлой Леонтьевной и Татой, оставшись совсем без жилья, обретались уже в монастыре в заброшенной келье. Не признаваться же моему новому знакомому в этом. Я попыталась доказать, что мне идти совсем недалеко, потому добегу сама. Андрей только посмеялся и сообщил, что ему еще нужно после зайти по делам к знакомому.
Упоминание монастыря его просто изумило, но недоуменным взглядом все и ограничилось. Только поинтересовался, не монахиня ли моя родственница. Я нелепо пошутила, что во всякой трудности есть свои прелести – у всех квартиры, а у нас целый монастырь. Правда, ванны пока нет ни одной.
Андрей шутку поддержал и обещал подумать над тем, чтобы снять у нас келью. Я помотала головой:
– Не выйдет. Монастырь женский.
Рядом с ним было легко и просто, я расслабилась, а когда я перестаю стесняться, то из меня едкие замечания так и лезут, ты сама знаешь. Андрей смеялся и шутил в ответ.
А потом спросил, где моя семья.
– Не знаю. Они уплыли на пароходе.
Последовало логичное замечание, что любой пароход направляется в определенный порт. Я возразила, что частный плывет, куда пожелает владелец. Когда мы путешествовали в Италию или Ниццу, то останавливались, где пожелаем.
– Ваш отец владелец парохода?
А вот так! Не у одних Горчаковых имения по всей России, Фельдманы тоже чего-то стоят. Удивительно, но я, всегда скрывавшая состояние отца (он сам свои «порносы» – доходы – типично по-еврейски не слишком афишировал), сейчас им гордилась. Но тут же вернула себя на землю, честно признавшись, что пароход один, старый и купеческий.
И все равно для Андрея оставалось загадкой мое положение:
– А почему вы не с ними?
Я только плечом дернула в ответ. Он поспешил перевести разговор на другое, поинтересовавшись, люблю ли я Таганрог.
– Нет.
Как ему объяснить, что с этим добрым городом у меня связаны только тяжелые воспоминания, там я не была успешна совсем, там я не была никому нужна? А где была? Разве в Москве меня приняли с распростертыми объятьями, разве в Крыму я не боролась за свое место? Мне никогда ничего не доставалось не только даром, но и малыми усилиями, только кровью и потом.
Но как скажешь это подполковнику князю Горчакову? Ему наплевать на мои детские беды и страдания, да и на нынешние тоже. Повстречалась забавная недотепа, немного развеялся, завтра обо мне счастливо забудет. Неожиданно для себя твердо решив, что я тоже забуду, стала прощаться. Мы уже пришли, но ведь можно было бы просто постоять, поболтать…
Не постояли и не поболтали, прощаясь, Андрей снова поцеловал мою руку, сказал, что приятно провел вечер, я интересная собеседница.
Топая к своему строгому жилью, я с горькой иронией сообщила сама себе:
– О чем и напишет сегодня своей жене, мол, у Маши появилась забавная приятельница. Вроде обезьянки у фотографа в парке в Евпатории.
Еще через несколько шагов я пообещала, что больше не пойду к Маше. Ни за что! Никогда! С каждым шагом клятвы звучали все решительней.
Ты меня знаешь, я клятвы нарушаю так же часто, как и даю. Хорошо, что это никому не вредит.
Ира, набив рот шоколадными конфетами из роскошной коробки, подаренной мне новыми знакомыми, заявила, что я теперь дружу с буржуями и это нечестно. На вопрос, почему, помотала головой, с трудом пережевывая следующую конфету:
– Не знаю. Нечестно, и все тут!
Павла Леонтьевна промолчала, а Тата только произнесла:
– Ой, барышня…
А что «ой» не объяснила.
Кстати, уже само наличие коробки шоколадных конфет было чем-то из ряда вон выходящим. Еще весной барон Врангель категорически запретил производить в Крыму любые сладкие кондитерские изделия, от чего разорилось немало кондитеров и кондитерских магазинов. Это была вынужденная мера, мы все понимали, ведь немыслимо перенаселенному Крыму не хватало всего – хлеба, сахара, масла, мяса…
Я попыталась вспомнить, что же у нас было.
Хлеб выпекали из пшеничной муки с большой примесью ржаной и ячменя. Это тоже было приказом Врангеля. Наверное, правильно, лучше получать по карточкам до фунта вот такого хлеба, чем из-за спекулятивных цен не есть его вообще.
Еще одна интересная подробность: приказом генерала Врангеля в Крыму ввели целых три постных дня, кажется, это были среда, четверг и пятница, когда мясо запрещено продавать и даже подавать в ресторанах. Конечно, рестораны умудрялись не соблюдать это правило, называя мясные блюда рыбными, а супы ухой. Нас это касалось мало, мы давно забыли вкус мяса, оно слишком дорого, заработков не хватало даже на хлеб.
А ведь говорили, что на побережье еще хуже, к Симферополю, мол, подвозят продукты из деревень и зерно из Северной Таврии, Севастополю и того не достается, там цены растут так быстро, что все нужно брать, не торгуясь. Раньше торгом цену сбивали, а теперь повышали. Выглядело это крайне нелепо: цену на какой-либо продукт называл не продавец, а покупатель. Продавец в ответ отрицательно качал головой. Приходилось добавлять, потом еще и еще, и так до тех пор, пока покупатель не разводил руками, мол, все, больше денег у меня просто нет. Если продавец не видел никого другого, способного заплатить больше, он соглашался, если видел, торг продолжался со следующим. Покупатели старались не уходить с рынка без продуктов, прекрасно понимая, что завтра будет еще дороже и то, что не купил сегодня, не купишь уже совсем, а дома голодная семья.
В общем, жили мы без кондитерских изделий и мяса, ели полуячменный хлеб и носили остатки былой роскоши на рынок, обменивая на съестное.
И вдруг большая коробка настоящих шоколадных конфет!
Я знала, что она куплена на франки в Севастополе, и была рада побаловать своих такой роскошью, но досталась роскошь только Ире, мы даже охнуть не успели, как она слопала всю коробку! Я страшно рассердилась, что не досталось ни Павле Леонтьевне, ни Тате. Тата быстро отказалась в пользу Иры, сделав вид, что не очень-то и хотелось, а Павла Леонтьевна снова лишь грустно покачала головой.
Бессовестная Ирка, сожрав последнюю конфету, поинтересовалась, когда я еще пойду в гости.
Я объявила, что даже если мне подарят три коробки конфет, ей уже ничего не достанется, она свои съела. В ответ она объявила, что мне достаточно и того, что я ем в гостях. Как ей объяснить, что, во-первых, я стараюсь не есть у Маши, в тот день это сделать пришлось, чтобы не опьянеть, во-вторых, больше туда не пойду.
Подарки судьбы нужно заслужить. Это пакостями она балует щедро и без повода
Вмоей жизни любые подарки требовалось заслужить, даже папины в праздник. Разве можно одаривать провинившуюся девчонку? Если провинности не было, ее немедленно изобретали, чтобы потом одарить с позиций милости: «несмотря на твое дурное поведение…» и прочее, прочее, прочее.
Без домашних подарков я научилась обходиться и принимала их с независимым видом, что возмущало отца еще больше, он не любил тех, кто от него не зависит, будучи в действительности зависимым. Но все старания вменить мне в вину еще что-то разбивались о равнодушие. Мне не покупали новое платье? Я обходилась прежним, прекрасно понимая, что Гирша Фельдман не допустит, чтобы его дочь, даже в очередной раз провинившаяся, пойдет на праздник в старом платье.
Хуже стало, когда догадались наказывать отлучением от театра – не пускали или не брали с собой на представления. Но я и тут схитрила. Я терпеть не могла оперу (услышав первой «Аскольдову могилу», дрожала сначала от страха из-за убийств и ожидания городового (убили же!), а потом от негодования, когда убийцы принялись распевать арии над телами своих жертв, и сами жертвы вышли по окончании кланяться совершенно живыми), но сделала вид, что очень хочу послушать. Отец на уловку попался и запрещал брать меня именно на оперу. Сестра Белла догадывалась о моей хитрости, думаю, мама тоже, но обе молчали.
Но это домашние детские хитрости. А как жить вообще?
Я не знала, как нужно это делать, чтобы не провиниться перед судьбой и получать ее подарки. К тому же оказалось, что она не одаривает просто так ради праздника или чтобы соседи не подумали чего плохого.
Когда судьба вдруг милость явит (А так бывает иногда), Я знаю, что она лукавит, Уж заготовлена беда.Это обо мне.
Я уже поняла, что встреча с князем Андреем Александровичем Горчаковым, подполковником тридцати четырех лет от роду, красавцем и умницей, насмешником и прочее, прочее… это подарок судьбы. Понимала и теперь ждала, что же судьба заготовила на сей раз в качестве кнута после показанного пряника.
Я ни на миг не пожалела о нашей встрече, ни один миг из тех, что мы были рядом, не забыла. Через много лет пронесла эту память, а то, что столько лет расплачивалась – так подарок очень дорогой, потому и расплата такая.
Но это я понимаю сейчас. Тогда, в двадцатом году в Крыму, когда мне только исполнилось двадцать четыре года (возраст уже не курсистки, но дамы), я была донельзя романтичной, экзальтированной и жившей театром и только театром, и мир выглядел совсем иначе.
Знаешь, я заметила: несбывшаяся мечта очень притягательная и кажется прекрасной. Сбывшаяся сразу как-то тускнеет и превращается в обыденность. Сама глубокомысленно давала Ире совет мечтать о совершенно несбыточном, тогда прекрасного хватит надолго.
Андрей Александрович Горчаков был мечтой недосягаемой абсолютно, а потому безопасен. Я могла не рассчитывать ни на какое его внимание, он по другую сторону огромной прозрачной стены, через которую мне не перепрыгнуть, сквозь которую не пробиться – он женат и счастлив! Такие люди всегда счастливы в семейной жизни. Он не для меня. Почему же тогда сладко замирало сердце при одном воспоминании об аккуратных усах, щекочущих кожу руки, о его глазах и его голосе?
Рука на перевязи… Значит, ранение…
Очень хотелось расспросить Машу о его семье, что за жена, есть ли дети.
Но, прокрутившись без сна почти до утра, я решила, что не должна думать об Андрее Горчакове. Если он так же далек от меня, как звездное небо, значит, нечего и мечтать! Это глупо, вздыхать почти всю ночь, как девчонка, из-за мыслей о женатом человеке, это нелепо, недостойно взрослой девушки, актрисы, в конце концов!
Сколько я всего передумала, чтобы убедить себя в случайности встречи и в том, что других не будет. Придя к выводу о необходимости выбросить красавца-подполковника из головы раз и навсегда, я даже успокоилась.
Клятву сначала даже выполняла. Не очень долго, но все же.
Два дня я держалась, как партизан на допросе – не позволяла себе даже вспоминать о прошедшем вечере. Чтобы не видеть пустую коробку из-под конфет, которую Ира, не позволив выбросить, поставила на видное место и время от времени нюхала, с утра шла в театр, медленно-медленно дефилируя мимо госпиталя в тайной надежде, что случайно попаду Маше на глаза. Вернувшись домой, излишне оживленно беседовала с шедшей на поправку Павлой Леонтьевной о Чехове, о ролях и о предстоящих премьерах.
Павла Леонтьевна замечательный человек, Нина, ты всегда с этим соглашалась. Она не могла не почувствовать, что со мной что-то случилось. Дождавшись, когда Ира заснет, спросила. К счастью, она решила, что на меня произвело впечатление материальное благополучие моей новой знакомой. Но когда я стала говорить о восприятии героинь «Чайки» Андреем, не называя имени, Павла Леонтьевна удивилась, мол, есть и такое мнение, едва ли оно верное, но каждый имеет право думать по-своему.
Мы беседовали с моей наставницей о Нине Заречной, о Маше Шамраевой, о Треплеве, о том, каково жить с неразделенной любовью, а я все больше чувствовала, что это обо мне. Это моя любовь неразделенная. Это я должна со всем справиться и не поломать при этом свою жизнь.
Можно бы спросить: какую жизнь ломать? Какая жизнь у нас была?
Жизнь неприкаянных, полунищих комедиантов, какие раньше ездили в своих кибитках по городам и весям, развлекая публику в базарные дни? Своего жилья не было, зарплата такая, что и на полмесяца самой скромной жизни не хватит, а впереди зима. Платить за квартиру нечем, я даже шутила, что если в монастырь вернутся его обитатели, нам придется постричься в монахини, чтобы не выгнали на улицу. Шутки были горькими.
Ниночка, ты помнишь мою жизнь до революции, видела меня в Евпатории. Гирша Фельдман денег на ветер не бросал никогда, но обеды закатывал на полгорода, напитки текли рекой, а осетры не помещались на столах. Российские промышленники даже средней руки умели гулять широко. Мой отец не гулял и каждый раз страдал, подсчитывая убытки после широкого застолья, но само застолье бывало широким неизменным.
Все остальное так же. Три женщины Фельдмана одевались у лучших портних Таганрога, но еще чаще привозили наряды из Парижа, внешне скромный дом был полной чашей («Ой, ви гид ци зайн а ид!» – «Как хорошо быть евреем!», как поется в песне).
И вот теперь его дочь экономила не просто на хлебе, но на хлебных крошках. И перспектив никаких. Мы служили в труппе постоянного, а не передвижного театра, это был успех, но театр в любой день мог закрыться, или смениться режиссер, антрепренер, смениться репертуар, и мы снова оказывались на улице без гроша в кармане, а продавать на рынке больше нечего, запасы благополучных дней давно туда снесены.
Единственной отдушиной и надеждой была сцена, выходя на нее, мы забывали о пустом желудке, отсутствии зимней обуви, жилья, всего, что просто необходимо человеку. А еще помогало наше единство, мы поддерживали друг дружку, были крепки этой взаимной поддержкой, иначе не выжить.
Что можно поломать в этой жизни?
Ниночка, ты меня знаешь, я способна поломать даже Эйфелеву башню, попади она мне под руку. Причем совершенно не желая этого. Но как ломать то, чего нет?
С каждой минутой я все больше чувствовала себя готовой сыграть Машу из «Трех сестер». Отчасти я испытывала то же, что и она – любовь к женатому, недостижимому для меня человеку. Ничего, что Вершинин отвечал ей взаимностью, а мне ждать нечего, сама невозможность быть вместе, быть счастливой сближала меня с ролью.
Я даже горько усмехалась: мои переживания помогут мне лучше понять и сыграть среднюю из сестер. Что ж, в страданиях тоже есть своя прелесть, пусть это и зовется мазохизмом.
Алиса Георгиевна как-то сказала, что в детстве мечтала страдать. Я тоже. И не только в детстве. Ведь страдания облагораживают душу.
Пожалуй, это единственная мечта, которая у меня сбылась. И оказалась, как любая сбывшаяся мечта, не такой уж сладкой.
Через неделю я любила Андрея за свои страдания. Сейчас это может показаться глупостью, но, оглядываясь на двадцать восемь лет назад, я понимаю себя тогдашнюю.
Просто влюбиться в умного, блестящего офицера легко, и эта влюбленность мало чего стоила. Полюбить свою безответную любовь к нему – уже трагичней, достойно сценического воплощения. Но полюбить свои страдания из-за безответной любви!.. Боже мой, это же сюжет достойный чеховского пера, настоящей трагедии, великой пьесы!
Хорошо, что я никому не озвучила эту глупость. Просто так сложилось, что ни перед кем раскрыть душу не удалось, на мое счастье.
Ниночка, ты помнишь, какой восторженной идитоткой даже после стольких перенесенных невзгод, лишений, после стольких серьезных ролей я пришла в театр к Таирову и Коонен? Как они отучали меня от то и дело прорывавшихся дурных подвываний в ответственные моменты монологов, как боролись с излишней эмоциональностью, которая не столько свидетельствовала о глубине чувств, сколько мешала зрителям понять вообще что-то.
Я с детства была слишком эмоциональной, даже экзальтированной. На мое счастье, экзальтация вылилась в театральную стезю, а не, например, участие в разного рода революционных деяниях.
А уж влюбленность такой девицы, какой была я, способна сбить с ног любого. Это ураган чувств, эмоций, поступков, обычно безрассудных и даже нелепых.
Не знаю, удержался бы Андрей, к счастью, вся моя бешеная энергия влюбленности сначала оказалась направлена на роль. Только это его и спасло. А заодно и меня. Если мои эмоции никуда не направлять, образуется разрушительная ударная сила. Это опасно для окружающих.
Через неделю я сочла себя внутренне готовой к общению хотя бы с Машей, а потому заглянула к ней в госпиталь.
Мы уже закончили репетиции «Трех сестер», через пару дней должна состояться премьера. Я сама себе в роли Маши Прозоровой очень нравилась, страдала на сцене с упоением и не понимала, вернее, не замечала, как морщится Рудин. У Павлы Леонтьевны в спектакле роли не было (редкий случай, она же настоящая прима), она с трудом приходила в себя после болезни, в театре не появлялась и моих стараний не видела. Когда я дома читала монолог-покаяние Маши, слезы текли сами собой, все выходило вполне душевно (мне так казалось), хотя Павла Леонтьевна хмурилась и просила не переигрывать.
Вторая роль – Натальи – меня почти не интересовала. Я сразу поняла ее хищную натуру, ее расчетливую глупость, провинциальную недалекость. И самое ужасное – Наталья единственная из героинь не стремилась в Москву! Это оправдать невозможно, ты меня поймешь.
Павла Леонтьевна, услышав такие рассуждения, пришла в неописуемый ужас. Она твердила, что нельзя играть роль, не поняв свою героиню, не найдя опорных точек в ее жизни. Что даже настоящее зло себя таковым не считает, каждый человек думает, что он хорош, разве только обстоятельства вынуждают поступать плохо.
Я соглашалась, но твердила, что в том и состоит достоинство человека – не подчиняться обстоятельствам и не оправдывать ими свои недостатки.
Относительно роли Натальи Павла Леонтьевна советовала найти опорные точки в ее судьбе и характере. Почему она плохая? Человек не может быть плох просто так, он почему-то плох. Что ей нужно и права ли она в этом? Как понять, почему она поступает так, а не иначе, чем она сама себя оправдывает?
Постепенно я заинтересовалась, нашла все, что советовала поискать Павла Леонтьевна, Наталья получалась с каждым днем все интересней и осмысленней. Это была уже не наглая захватчица, а женщина, пытающаяся завоевать свое место под солнцем, как она его понимала, не глупая бездушная особа, неизвестно почему ненавидящая золовок, а женщина, просто их не понимающая. В таком возрасте как Ольга и Ирина, давно пора выйти замуж, а они развели тут «люблю – не люблю». Были бы у них семьи, жили своей жизнью в своих домах, так нет, все толкутся в родительском доме, который по праву принадлежит Андрею, он единственный сын. И Маша тоже жила бы со своим мужем-учителем отдельно, это куда лучше, чем страдать от своей любви к Вершинину в доме у брата.
Наталья согласна принимать золовок иногда как гостей, а в доме быть хозяйкой. Но все это не потому, что захватчица, она видит дом владениями своих детей, и сестры мужа ей страшно мешают. А что касается денег за заложенный дом, так она отобрала все у мужа, чтобы не проиграл в карты.
В общем, под поступки Натальи идейная основа подведена, образ от этого усложнился, и играть стало намного интересней. Я ее не оправдывала, не была согласна, но хотя бы понимала.
И все равно Наталья увлекала меня мало, проходная роль, не больше. Главное – Маша Прозорова с ее трагической любовью к Вершинину!
Мне очень хотелось пригласить на премьеру новых знакомых, хотелось, чтобы Андрей увидел страдания моей Маши Прозоровой, понял, что я могу играть неплохо, даже гениально.
С этим и отправилась к Маше Гагариной в госпиталь – пригласить на премьеру.
Она мне обрадовалась, снова позвала к себе и вообще пригласила бывать у них, когда заблагорассудится. В другое время я хотя бы мысленно заметила, что в качестве клоунессы, но в тот момент была занята исключительно премьерой и собственными страданиями.
Я уже открыла рот, чтобы пригласить на премьеру, и вдруг испугалась. Что, если что-то не получится, одно дело репетиции, но, разволновавшись на премьере, я могу забыть слова, сделать неловкий жест. К тому же не тебе объяснять, что премьера – это лишь начало нового этапа работы над образом. Никогда ни одна роль не остается без основательной переработки после премьеры. Почему-то именно перед зрителями выползают все недочеты, незаметные на репетициях, что-то начинает казаться фальшивым, что-то требует смены интонации…
Но было еще одно, я вспомнила монолог своей героини. И вдруг главная его ценность – почти полное соответствие моим собственным переживаниям – ужаснула. «Покаяться» перед сестрами в своей любви к Вершинину в роли Маши на сцене на глазах у всего Симферополя – это одно, а перед Андреем, Машей или Матвеем значило открыто признаться в своих чувствах. Я столько души и сил вкладывала в этот монолог, так старалась, чтобы страдания несчастной влюбленной были понятны даже зрителю, забредшему в театр нечаянно или проснувшемуся прямо перед монологом, что для моих новых знакомых все станет ясно после первой фразы!
Пришлось срочно искать другой повод моего появления в госпитале. Он нашелся, Маша обещала мне какую-то книгу, сейчас уж и не помню, что именно, но в прошлый раз я забыла взять. Она обрадовалась, пригласила заходить в любой ближайший день, чтобы книгу взять, мол, посидим, поболтаем за чаем, мужчин нет, Матвей в Севастополе в ставке, Андрей на фронте (сердце екнуло, ему что же, руки на перевязи мало?).
Я обещала зайти в ближайшие дни.
Еще два дня я терпела из последних сил, но потом сдалась.
Мы действительно пили чай с бубликами, не морковный, не из собранной летом травы, а настоящий чай с настоящими бубликами. И сахар был, и мед в вазочке.
А потом рассматривали один за другим толстенные семейные альбомы фотографий, и Маша объясняла, кто есть кто.
И снова я видела совсем иную, отличную от моей не только тогдашней, но и таганрогской, жизнь. На наших фотографиях во время торжеств отца окружали солидные седобородые люди в черных шляпах, полные женщины держались в стороне либо восседали матронами с множеством детей. Все строго, чинно, все «аф идиш» – «очень хорошо».
На Машиных снимках было веселье, раздолье, душевные посиделки, а если и чинные фотографии сидящих и стоящих, то в глазах все равно искрилось веселье. Какая-то сплошь веселая жизнь.
Фотографии из подмосковного имения, где уже присутствовали Маша с Матвеем не в кружевных детских чепчиках и на руках у нянек, а с их друзьями, оказались во втором альбоме.
С каким же удовольствием я рассматривала эти снимки! Начались бесконечные «а вот…». На каждой фотографии я искала глазами Андрея, если не находила, снимок терял ценность.
– Смотри, каким смешным был Андрей в детстве!
Я ничего смешного не находила. Очень красивый мальчик рядом с очень красивой женщиной. Мама? Маша подтвердила: да. А рядом его сестра Елена, она старше. А тот маленький на руках у няньки – Никита. Можно не объяснять, что младший брат.
И наконец…
– А это мы всей компанией. Смотри, это я, это Матвей…
Меня интересовали две фигуры – Андрей и Полина. Фотографий Полины и с ним рядом, и одной оказалось немало. Очаровательная девушка, сероглазая с толстой косой, чуть курносым носиком и сочными губами, с трудом сдерживающими смех… Полина с теннисной ракеткой в руках, с книгой, облизывающая большую ложку, которой, видно, мешали варенье (ее носик вымазан в малиновом сиропе), Полина рядом с Андреем на скамье – рука в руке, Андрей учит ее кататься на велосипеде, они ловят рыбу…
– Какая красивая пара.
Почему-то показалось, что Маша смотрит на эту пару вовсе не с таким умилением, ее взгляд тоже выхватывал среди всех именно Андрея.
Она вдруг захлопнула альбом:
– Да, красивая!
– А где она живет?
– На небесах. Полина умерла, не сумев родить их ребенка. С тех пор он за десять лет ни на одну женщину не взглянул! Стойкий оловянный подполковник. Ладно, на сегодня достаточно, остальное в следующий раз. Еще чаю хочешь?
Потом мы пели романсы, вернее, Маша играла и пела, а я подпевала. И снова мне показалось, что подруга с особым чувством пела: «…порою я вас ненавижу, на вас молюсь порою я…» Неужели она неравнодушна к Андрею?
Пришлось признать, что это так, причем очень давно. На снимках Маша старалась оказаться рядом, ему улыбалась, с ним кокетничала. А он выбрал Полину…
Неважно, что там за отношения у Маши с Полиной, важно, что Полины уже нет (Андрей вдовец), но в него давно и безнадежно влюблена сама Маша. Наверное, Андрей знал об этом, не мог не знать. Но они остались друзьями, что дорогого стоит.
Только мне рядом делать совсем нечего, если Андрей не обращает внимания на красивую, умную Машу и на всех остальных женщин тоже, то на меня и вовсе не глянет.
Ночью мне снилась Полина. Она лукаво улыбалась. Я очень хотела увидеть и Андрея, пусть рядом с женой, но тот упорно не появлялся. Я расстроилась – он даже во сне мной пренебрегал.
К утру я решила, что это бессовестно – в моем же сне так ко мне относиться!
Мне оставался только театр.
Но теперь к собственным страданиям в роли Маши Прозоровой добавились страдания Маши Гагариной. А что, она ведь тоже москвичка, страстно мечтает когда-нибудь вернуться и пройтись по Тверской, покормить уточек на Патриарших, полюбоваться Москвой от Воробьевых гор… Она любит, но не может быть с любимым…
В общем, моя Маша Прозорова заиграла для меня новыми красками.
О премьере я Маше сказала, хотя вскользь, словно премьеры у меня дважды в неделю. Кстати, в труппе мадам Лавровской так и бывало – мы играли всякую чепуху, но по две премьеры в неделю. Может, потому и развалились в конце первого же сезона, перестав интересовать зрителя?
В день спектакля Павла Леонтьевна пересилила свою слабость и пришла в театр. Ира с Татой остались дома. Позже я поняла почему – Павла Леонтьевна предвидела, что произойдет.
На мой взгляд, все было великолепно – я страдала, как говорят, на полную катушку, буквально упиваясь этими эмоциями. Но публика почему-то… хихикала! Не понимая, что происходит, я усилила накал, потом еще и еще… Смешков тоже стало больше.
Но все равно было много цветов, сентябрь – хорошее время в Крыму, когда ничего не стоит набрать букет в палисаднике. Я, зная, что Павла Леонтьевна сидит в зале, старалась туда не смотреть, и хорошо сделала.
Она появилась в моей гримерке (мне просто отвели закуток размером 2×2 м в клетушке, сплошь забитой реквизитом), когда все разошлись. Я ожидала услышать все, что угодно, но только не то, что последовало!
Ниночка, ты знаешь Павлу Леонтьевну, потому можешь представить мой шок, когда та, чье полное неодобрение выражалось фразой «ты можешь лучше», устроила настоящий разнос!
– Я чувствовала, что ты провалишь роль, но не думала, что настолько! Кто позволил тебе превращать образ Маши Прозоровой в фарс?! Чехов не повод для клоунады!
Я только разевала рот, не в силах ничего вымолвить в ответ.
Из последующего разбора следовало, что я до такой степени увлеклась страданиями, так переиграла, что сами страдания героини стали выглядеть фарсом. То, что мне казалось усилением воздействия, со стороны выглядело пошлой бравадой.
Позже Павла Леонтьевна объясняла, что чувствовать боль и играть ее – не одно и то же. Чтобы боль сыграть, ее нужно пережить, но если будешь переживать на сцене, то не сыграешь ничего. Переживи вне сцены, пока над ролью работаешь, а потом свою память о боли покажи зрителям, это поймут. А рыдать, забыв о тех, кто в зале, просто неуважение к ним.
В общем, Павла Леонтьевна объявила, что премьера оказалась для меня провалом.
– Я уже поговорила с Павлом Анатольевичем, с завтрашнего дня играешь Наталью. Только не вздумай делать из нее трагическую дуру, помни, что я тебе говорила.
Я была очень рада, что не позвала на премьеру знакомых с Екатерининской.
Через день я действительно вышла в роли Натальи. И это был успех. Павлы Леонтьевны не было в зале, это я знала точно, она слишком слаба и осталась дома. Но зрители приняли мою версию Натальи очень хорошо. Негодуя по ходу спектакля (кто-то из зала даже закричал Андрею Прозорову: «Да выгони ты эту дуру!»), к концу уже так не возмущались, а когда вышли на поклоны, мне аплодировали не меньше, чем А.К., игравшей Ирину, и Н., заменившей меня в роли Маши Прозоровой.
Оставалось с грустью констатировать, что каждому свое – Павле Леонтьевне роль Раневской, а мне Натальи Прозоровой. Увы, сие правда жизни.
Ниночка, ты меня поймешь. Сознавать, что трагическую роль, к которой столько готовилась, ты провалила, а роль полукомическая, роль дурной бабы удалась на славу, нелегко.
Еще одним ударом стал красивый букет, переданный лично мне. Это не нарванные в палисаднике цветы, а нарочно созданное произведение искусства с запиской внутри. Н. даже посмеялась:
– У Фанни поклонник появился.
Я демонстративно записку не открыла, а цветы поставила в ведро с водой с таким видом, словно это сто первый букет за пару дней, а записками вообще печь растапливать можно.
Но стоило остаться одной, бросилась разворачивать. Неужели правда поклонник?
То, что увидела, повергло в шок. Записка была от Андрея, он писал «браво!» и приглашал меня завтра с ними на пикник на Салгир.
Я не сразу поняла про пикник, про Салгир, осознала только одно: он был в зале и все видел!
Знакомо? Это ужасно – понять, что твои ошибки видел кто-то, кому ты их вовсе не желаешь показывать.
Следующее чувство – радость, ведь в записке «браво!», и хорошо, что Андрей пришел в театр сегодня, а не позавчера, когда был полный провал. Следом ужас, потому что столь же красивый букет я видела и позавчера, только достался он не мне, а А.К. Что, если там тоже была записка?!
Я метнулась к ней в гримерную. А.К. моему вопросу удивилась: да, букет был, очень красивый, но никаких записок. Ей пришлось повторить трижды, прежде чем я поверила.
Полегчало, в конце концов, не ходит же Андрей в наш театр ежедневно да еще и на один и тот же спектакль? А букет заказной, значит, мог купить кто-то другой. Однако какие у нас поклонники появились…
Вопрос, идти ли на пикник, передо мной не стоял.
Это тоже на меня очень похоже – вчера клясться, что и близко не подойду, и не вспомню, а сегодня уже мечтать о человеке снова. Ну что со мной поделаешь, я такая, и перевоспитываться поздно, остается мучиться с собственным характером. Когда говорят, что кому-то со мной трудно, я отвечаю, что мне с собой еще трудней, при этом другой может и уйти, а я от себя никуда деться не могу.
Чтобы сходить на Салгир, придумала целую историю, уж не помню, что именно говорила, но врала своей любимой Павле Леонтьевне вдохновенно. Ощущение от этого было препоганейшее. Но на пикник отправилась.
Никакого сидения на берегу не получилось, в том году природа словно забыла, что сентябрь в Крыму – это лето, осень пришла на месяц раньше, причем угрожая уже в октябре перейти в зиму. Если бы и весна так же быстро, согласиться можно, но как раз весна не торопилась. О весне мы тогда еще не думали, а по поводу осени Матвей мрачно пошутил, что даже погода перешла на календарь большевиков, ведь у них все на две недели вперед ускакало.
Но и по большевистскому календарю все равно холодновато.
В общем, вместо сидения на мокрой траве мы отправились просто погулять по берегу.
Я с тревогой ждала упоминания о вчерашнем спектакле, но Андрей молчал. Пришлось напроситься самой: поблагодарила за роскошный букет. Он сказал, что роскошных букетов я еще не видела, но если заслужу, то будут.
Матвей тут же сунул любопытный нос с вопросом о букете. Я смутилась, может, Андрей вовсе не хотел, чтобы друзья знали, что он дарит мне цветы? Нет, знали. Разговор пошел о спектакле. Андрей очень хвалил мою Наталью и меня за то, что не сделала ее пустой хищницей, а постаралась понять, чего она добивается.
Я спросила Машу и Матвея, понравилось ли им. Оказалось, в театре был только Андрей.
И тут последовал удар, потому что Андрей тихонько сказал, что, по его мнению, мне больше удаются комические роли, нежели трагедийные. С дрожью в голосе поинтересовалась, был ли он на предыдущем спектакле, и получила ответ, что был, но об этом не следует никому говорить.
– Тогда букета вы не заслужили. Переиграли, перестрадали.
Настроение было совершенно испорчено, он повторял мнение Павлы Леонтьевны, но если к ее мнению я прислушалась, то от его слов хотелось скрыться. Будь Салгир чуть глубже, я бы немедленно утопилась, но речка мелкая, только ноги промочишь. Пришлось жить дальше…
Андрей заметил, предложил взять его под руку, поправил, когда попыталась уцепиться за правую:
– Военных берут под левую, чтобы не мешать отдавать честь.
Но ведь левая рука на перевязи? Андрей успокоил, что если я не буду на ней висеть, а стану лишь опираться, то ничего страшного не произойдет.
Эти слова были сказаны достаточно громко, а следующие уже тихо, только для меня. Андрей выговорил, что я должна научиться принимать критику, тем более доброжелательную, и не обижаться. Если не сумею, то никогда не стану великой актрисой. Я призналась, что замечания, очень похожие на то, что сделал он, уже услышала от наставницы и вовсе не обижаюсь. А плохо мне от сознания, что он оказался свидетелем моего провала.
– Но ведь и вчерашнего успеха тоже. Учитесь, вы хорошая актриса, но можете стать гениальной. А о провале я никому не расскажу.
Я не знала, как к этому относиться. С одной стороны, у нас теперь была общая тайна, с другой – что это за тайна! Я предпочла бы такой не иметь.
Оказалось, что Андрей видел несколько спектаклей с Павлой Леонтьевной и считает, что мне очень повезло учиться у «Комиссаржевской провинции». С этим я была совершенно согласна!
А узнав, что она и есть та самая родственница, с которой я живу в монастыре, смеялся от души. Казалось, теперь Андрей должен попросить познакомить его с гениальной актрисой, но этого не произошло. Почему? Не знаю, не понимаю. Он так хорошо, верно отзывался об игре Вульф, так хвалил ее, но знакомиться не желал. Не хотелось думать, что это снобизм.
Заговорили о провинциальном театре.
Кто только его не ругал! Ругали за дело – за фальшь, за плохое знание актерами текста, за их пьянство, штампы, откровенную халтуру, мало похожую на настоящее искусство. Ругали прежде всего сами актеры. Они же все понимали – и о фальши, и о штампах, и о тексте… Не всегда уважали зрителей, нередко считали, что публика – дура, следовательно, проглотит, что ни подай со сцены…
В нашем театре было немало таких вот актеров и актрис, но не все же! Павла Леонтьевна, например, скорее жизни лишилась бы, чем сфальшивила. В провинции много актеров, для которых сцена – лишь способ заработать на пропитание, но сколько тех, которых охотно приняли бы столичные театры! Павлу Леонтьевну не раз приглашали в Москву, но она считала, что в Художественном придется за каждую роль бороться или выпрашивать, а в нашем Дворянском театре есть возможность выбора. Я думаю, если бы жизнь не заставила ее в молодости уехать в провинцию ради пропитания и много лет посвятить именно таким театрам, она смогла бы стать примой и в Москве.
Павлу Леонтьевну и за ее игру, и за педагогический талант, и за талант знатока человеческих душ (этому не научишься) я боготворила. И бросить на нее тень других недостойных не позволяла никому.
Для меня Павла Леонтьевна – святое, не меньше Качалова или Станиславского. Она действительно гениальна, причем, не только на сцене, но и за кулисами. Павла Леонтьевна сделала из меня актрису, плохую или хорошую – не мне судить, но сделала. Без нее я бы осталась глупой провинциальной исполнительницей идиотских ролей.
А как она играла сама! Все, кто видел ее Лизу Калитину, считали исполнение лучшим.
«Комиссаржевская провинции» – эта характеристика многого стоит.
Но Андрей не собирался критиковать игру Павлы Леонтьевны, напротив, восхищался ею, особенно Лизой в «Дворянском гнезде» – моей любимой ролью у Павлы Леонтьевны. В этом мы с Андреем совпадали во мнении полностью, и я была ему благодарна за восторженные отзывы о своей любимой наставнице.
От прогулки у реки осталось двоякое чувство.
Андрей обещал сохранить тайну моего провала, я благодарна, но лучше бы не было таких тайн. Он хвалил мою игру, но сказал, что я больше комедийная актриса, чем трагическая. Он восхищался игрой Павлы Леонтьевны, но не напросился в гости и даже не обещал прийти за кулисы, чтобы познакомиться.
И разговора о следующей встрече тоже не велось. Я его просто не интересовала, ну разве только как комедийная актриса.
Я уже не полыхала душной краснотой от одного звука его голоса или взгляда внимательных глаз, у меня не садился голос и не дрожали руки. Но не думать об Андрее я не могла. Он одинок, но я совсем не в его вкусе.
Я решила, что даже хорошо, что следующей встречи может не случиться.
Дома не удержалась и рассказала Павле Леонтьевне об отзывах Андрея о ее игре. И о своей тоже.
– Так вот кто иногда присылает такие букеты. Вот в кого ты влюбилась.
Я?! Влюбилась?! Мне казалось, что это никому не видно. Но если даже Павла Леонтьевна, никогда не видевшая Андрея, все поняла, то как же Маша, Матвей и сам Андрей? Я чуть не расплакалась, было обидно за свою такую нелепую влюбленность. Вот во всем я так – что ни сделаю, все невпопад, влюбилась, и то в человека, которого практически не интересую и который мне совсем не пара.
Ветер стылые листья несет по бульвару. Лето осени вдруг уступило свой срок. Для любви своей выбрала вовсе не пару — Это тоже, судьба, твой жестокий урок. Но ведь я ни о чем не мечтаю, Ничего и не жду от него. Лишь одно я наверное знаю: Что любить я могу хоть кого!Твердо решив, что имею право любить, кого пожелаю, хоть императора Наполеона, хоть противного К., от которого вечно пахнет то чесноком, то гнилыми зубами, а уж Андрея тем более, я клятвенно заверила себя, что больше с ним не встречусь! Ни за что! Никакие Машины приглашения меня не соблазнят! И в зал смотреть тоже не буду, чтобы ненароком не встретиться взглядом, когда он придет на спектакль с Павлой Леонтьевной в главной роли! Буду просто как кремень!
Что было бы, сдержи я свое слово?
К счастью (или несчастью?), я совершенно не умею держать данные клятвы.
Но как, скажи, можно вытерпеть, если знаешь, что тот, кто снится, от одного воспоминания о ком кружится голова, совсем рядом?
Я молила только об одном – не выглядеть влюбленной дурой. И очень старалась не быть таковой.
Ира вынесла свой категорический подростковый вердикт: Фаня влюбилась в буржуя и сама такой стала.
Чем это плохо, я не поняла, но в самом слове «влюбилась» звучало столько насмешливого презрения, что объяснять отношение Иры к моим чувствам не было необходимости. Однако отказываться от каких-то деликатесов (а ими тогда было все, кроме грубого хлеба), принесенных от буржуев, она и не думала, только пожимала плечами:
– Если у них есть, пусть делятся.
Чертова политика и ее последствия для любви. А также об эмансипации и папиросах для дам
Я влюбилась с первого взгляда, в Андрея трудно не влюбиться. Но полюбила его постепенно.
Странное сочетание, да? Попытаюсь объяснить.
Ниночка, помнишь, я говорила, что от влюбленности до любви так же далеко, как от меня до Комиссаржевской? Ты тогда еще долго смеялась из-за нелепости сравнения. Сравнение, может, и нелепое, зато верное.
Из меня могла получиться Комиссаржевская, а могла не получиться. Так и из влюбленности может вырасти любовь, а может сойти на нет.
Сначала мне безумно понравился сам Андрей, как я, столь экзальтированная и ненормальная девушка двадцати четырех лет, умудрилась не наделать глупостей, не понимаю. Скорее всего, это его заслуга, Андрей держал меня на расстоянии вытянутой руки от себя, пока не понял, что я уже не столь опасна.
Потом у меня была роль Маши в «Трех сестрах», и я упивалась своим страданием.
А потом вдруг поняла, что все время вижу его лицо, глаза, слышу голос, всех вокруг с ним сравниваю. Нет, конечно, не всех, только лучших. Как можно сравнивать с Андреем, например, К., если тот даже не круглый дурак, а продолговатый? Но, завидев стройную, подтянутую фигуру военного, фыркала: а у Андрея все равно лучше! Это «все равно лучше», словно детское заклинание, не отпускало. Если что-то оказывалось «не лучше», я мысленно объявляла его неважным.
Я подсчитала, сколько раз мы встречались с Андреем.
Получилось девять.
Девять раз. С тех пор прошло двадцать восемь лет, но я каждый тот день помню поминутно, каждую фразу смогла бы повторить, даже будучи разбуженной посреди ночи, каждый взгляд, поворот головы, смех, нахмуренные брови – все помню, словно это было сегодня.
Пройдет еще двадцать восемь лет, два раза по двадцать восемь, три раза… сколько бы я ни прожила, всегда буду это помнить. Кто-то из великих французов сказал, что настоящая любовь встречается только раз в жизни у одного из миллиона живущих на Земле. Про миллион не знаю, но что однажды, подтверждаю. Любить дважды невозможно, разве может встретиться второй Андрей?
Ниночка, я не буду описывать его, если ты была по уши влюблена, то знаешь, что ничто не важно, когда он рядом. Красив? Да, конечно, но бывают и красивей. Умен? Бывают умней. Обаятелен, блестящий офицер, смел (награды-то боевые), честен, принципиален… Могу перечислять еще долго. Да, все не в высшей степени, иначе получился бы идеал, а влюбиться в идеал невозможно. Это все равно, что втюриться в атлантов Зимнего дворца в Петербурге или Александра Македонского заочно по фреске.
Есть ли недостатки? Конечно. Немного сноб, иногда резок, не всегда сдержан, любит командовать, любит, чтобы было по его воле, не терпит возражений… Пожалуй, еще слишком большой аккуратист (есть люди, у которых руки никогда не пачкаются, волосы не растрепываются, подметки не стаптываются, а пыль на обувь просто не садится – Андрей из таких) и педант.
Но когда все вместе – получается Андрей, и этим все сказано.
Я прощала резкость и снобизм, готова подчиниться и даже не возражать (это я-то!). Но у меня не получалось, никак не получалось.
Ты меня знаешь, лучший способ заставить не согласиться – это потребовать согласия.
Андрей не требовал, но я все равно возражала. Стоило оказаться с ним рядом, как во мне просыпался дух противоречия. Уже с третьей встречи, придя к выводу, что надеяться не на что, я почти стала сама собой, то есть превратилась в настоящую язву, сыплющую замечаниями по поводу и без него. Сущее наказание, как меня иногда называла добрейшая Павла Леонтьевна.
Кстати, фраза «Красота – страшная сила» из фильма «Весна», ставшая расхожей, родилась именно тогда. Я стояла перед большим зеркалом в прихожей на Екатерининской и скептически разглядывала свое отражение. Оно не радовало. Высокая тощая фигура (да, я была тощей от недоедания!), крупный еврейский нос, волосы с рыжиной, глаза, конечно, большие и выразительные, но должно же быть у женщины что-то, кроме глаз! Лично я ничего другого не видела.
Была у меня такая привычка – когда никто не видит, кривляться. Конечно, с возрастом корчить рожи или показывать язык перестала, но вот те самые кокетливые ужимки, которые есть у Маргариты Львовны в «Весне», имели место быть и в Машиной прихожей.
Изучив свою несуразную фигуру и в очередной раз не найдя ничего привлекательного, я вдруг объявила сама себе, что – красота страшная сила. Снова окинула отражение взглядом и со вздохом добавила:
– И чем страшней, тем сильней.
От двери послышался смех. Я готова сквозь землю провалиться – Андрей, похоже, наблюдал за мной все это время.
Оказалось, что он искал меня, чтобы пригласить танцевать!
Матвей достал граммофон и поставил пластинку.
Танцевать с мужчиной своей мечты после того, как он застал тебя кривляющейся перед зеркалом… Мне бы сквозь пол провалиться и вообще исчезнуть, но, поняв, что теперь уж все окончательно потеряно, я вдруг тряхнула своими полурыжими волосами и согласилась.
Ниночка, ты на мои ошибки в тексте не обращай внимания, ты меня знаешь – если я что-то делаю, то о правилах забываю. Пишу так же – если увлеклась, то грамматика существовать перестает. А с разного рода запятыми я никогда не дружила.
Написанная фраза становится либо безликой, либо настолько многоликой, что от тембра голоса, которым будет прочитана, может измениться смысл. Писать, как Чехов, чтобы можно прочесть на тысячу ладов и с изумлением понять, что все они верны, я не умею. А то, что пишу, – коряво, все не так, все не то. Хочется переписать, поправить, потому повторяюсь, язык тяжелый, полный каких-то предлогов, междометий и прочей чепухи.
Два человека умели писать без единого лишнего слова – Пушкин стихи и Чехов прозу. Я их все время читаю не только для наслаждения, но и ради сознания собственной бездарности. Очень советовала бы всем.
Опять отвлеклась.
Я пошла танцевать. Я и вальс – нечто несовместимое? А вот и нет!
Когда-то я заикалась, запиналась на гласных. Когда отец меня высмеял, нашла человека, который позанимался со мной. Для всех заик первый совет: пойте и говорите нараспев. Это известно без меня.
Так же музыка, она помогает движению. Павла Леонтьевна научила: чтобы не быть угловатой, раскрепостить свое тело, обрести пластику движений – двигайся под музыку. Не только танцуй, но и все остальное делай либо под звучащий граммофон, либо напевая себе.
Меня музыка действительно раскрепощала, я забывала о собственной неуклюжести, нескладности, забывала, что я шлимазл. Внутри словно отпускалась какая-то пружина, какие-то тиски, становилось легко и свободно. Так я танцевала и с Андреем, музыка облегчила общение. Места в гостиной даже с отодвинутой в стороны мебелью немного, но это не мешало.
У Андрея рука на перевязи, потому он держал меня только правой рукой за талию, но как вел! Да меня и вести не требовалось – порхала, как бабочка над цветком. Я весила тогда много меньше, потому паркет не прогибался и слоновьего топота тоже не было.
Мы менялись парами, Матвей тоже танцевал прекрасно, как и Маша. Мне было обидно, когда рука Андрея так же, как и меня, крепко поддерживала Машу. Я давно устала и чувствовала, что кружится голова, недоедание сказывалось. Очень боялась упасть в обморок. Маша заметила и, выручая меня, объявила, что пора отдохнуть.
После импровизированных танцев разговор как-то сам собой перешел на актерские штучки. Не помню, что именно мы говорили, но хорошо помню, как выполняли обычный этюд – произносили одну и ту же фразу на разные лады, кто больше. Конечно, выигрывала я, чувствуя себя при этом маститой актрисой рядом с неумелыми детьми. Демонстрировала все почти снисходительно. Смеялись много.
Хорошо помню, как «объяснялась в любви» Матвею – то дурашливо, то кокетливо, то патетически, то страдальчески прикусив нижнюю губу, то со слезами на глазах… Когда я своим низким голосом, почти басом проникновенно произнесла очередное «я вас люблю», глядя Матвею в глаза взором голодного удава, Андрей вдруг поинтересовался:
– А меня?
Горжусь собой, в тот момент не растерялась и, одарив таким же взглядом, произнесла «и вас… безумно…», чем смутила даже князя Горчакова. Он хмыкнул себе в усы: «Буду знать, что у вас все игра…».
Вот уж чего я вовсе не желала, так подобного результата. С другой стороны, неплохо, теперь можно не бояться собственного смущения, его тоже воспримут как игру.
Ниночка, помнишь, как мы разыгрывали нашего Р.Т.? Несколько таких выходок, и противный червяк стал шарахаться, едва завидев мою фигуру в конце улицы.
Но Андрея я вовсе не желала отталкивать, совсем наоборот.
Не помню, почему разговор зашел об эмансипации.
Терпеть не могу эту тему, мне кажется, само слово придумали женоненавистники, а их пособницы в дамской среде подхватили. И суфражисток никогда не любила. Мои героини жили в пьесах Чехова, значит, были женственны и ни о какой эмансипации речи не вели, даже если работали и мечтали о деятельной, наполненной жизни.
Но когда Матвей стал высмеивать появившуюся у девушек манеру коротко стричься и курить, я из строптивости принялась их защищать.
Бровь Андрея изумленно приподнялась, Маша тоже удивилась, она не слышала от меня подобных сентенций. А меня «повело», я стала доказывать, что эти женщины, по крайней мере, самостоятельны, они не полагаются на помощь родных, сами зарабатывают на жизнь, сами решают все вопросы…
Постепенно договорилась до равноправия мужчин и женщин, мол, то, что могут мужчины, могут и женщины. Говорила что-то о грядущей прекрасной жизни, где женщины будут владеть теми же профессиями и даже (!) служить в армии.
Маша фыркнула, мол, тогда я настоящая «эмансипэ», ведь я не полагаюсь на родных и решаю все вопросы сама. Осталось только начать курить.
Матвей все это время мне что-то возражал, Маша кривилась, а Андрей внимательно слушал и наблюдал. В какой-то момент, видно, что-то для себя поняв, усмехнулся, в глазах напряженное внимание сменилось легкой насмешкой. Эта насмешка подвигла меня на особенно радикальные высказывания.
Когда Маша упомянула о курении, а я в ответ фыркнула, словно это мелочь, не достойная сомнений, Андрей вдруг достал портсигар, раскрыл и протянул мне, предлагая папиросу. Игру нельзя прерывать на полуслове, я взяла. Доставала не слишком умело, от чего насмешка появилась не только в глазах Андрея, но тронула его губы.
Тогда я не курила, даже в голову не приходило, но храбро поднесла папиросу к губам, все еще надеясь непонятно на что.
В квартире ни Матвей, ни Андрей не курили, Андрей вообще курил очень редко, только в случае сильного волнения, тогда они с Матвеем выходили во двор. Но в тот момент не возразила даже обомлевшая Маша.
Андрей зажег и поднес к папиросе спичку. Я затянулась.
У меня есть фотографии с папиросой в руках еще рядом с сестрой, но это игра. После фотографирования пришлось старательно прочесывать волосы и мыть руки пахучим мылом, чтобы не осталось запаха – Гирша Хаимович оторвал бы мне голову, заметив, что от меня пахнет табаком или дымом! Вся бравада с папиросами действительно была бравадой.
Табачный дым терпеть не могла Гельцер, опекавшая меня в Москве, а потом Павла Леонтьевна объяснила, что либо звонкий голос, либо курение и выпивка. Они несовместимы. Тогда я выбрала голос. Справедливость ее утверждений доказывает хрипота моего нынешнего баса.
Тогда у Маши еще не умевшая курить я допустила ошибку – затянулась довольно глубоко. Горло обожгло, меня захлестнул кашель, даже слезы на глазах выступили. Андрей немедленно отнял и загасил папиросу со словами:
– Эмансипация откладывается.
Открыл окно, выгоняя дымный запах, вернулся ко мне и посоветовал:
– Никогда не делайте того, что вам совершенно чуждо. Женская самостоятельность не в том, чтобы стричь волосы или глотать табачный дым, а в умении мыслить. Для этого необязательно выглядеть вульгарной недоученной институткой, достаточно что-то из себя представлять. Будьте самой собой – это лучшее.
Маша демонстративно удалилась с пепельницей в руках, хотя могла бы позвать Глафиру. Весь ее вид говорил, что идти на такие жертвы ради моего перевоспитания не стоило. Матвей смеялся. Я вообще не всегда понимала его, брат Маши казался двойственным, словно двуликий Янус. Знать бы, что это за двойственность! Даже если бы знала, это ничего не изменило.
Я зареклась спорить с ними на темы, в которых не сильна. Оставался театр, вернее, актерское умение. Но без конца демонстрировать свои навыки означало скатиться до настоящей клоунады.
Большевиков ругали, как только могли.
Я большевиков в глаза не видела, кроме тех, что ненадолго взяли власть в Крыму перед немцами. Но это были местные рабочие, которые никакой мировой революции не совершали, только пытались наладить жизнь путем экспроприации (я три дня училась правильно выговаривать это слово, оно хорошо помогало нарабатывать дикцию), но делали это при помощи бесконечных митингов, лозунгов и работы Советов. Иногда мне казалось, что если бы они меньше совещались, дела пошли бы лучше.
Но у Андрея претензии были куда серьезней. О Ленине и слышать не мог:
– Да его за один Брестский мир на березе вздернуть надо!
Я обомлела. Показалось, что будь у Андрея возможность, так и поступил бы прямо сейчас. Неужели он способен из-за классовой ненависти отдать приказ о расстреле? Оказалось, да.
Я в сочетании «Брестский мир» слышала слово «мир», зная только, что после заключения договора прекратилась война! Это было главным для меня, но не для тех троих, что сидели передо мной.
Андрей понял мое смущение, но расценил его по-своему, извинился, мол, не стоит вести такие разговоры, лучше петь романсы. Но меня интересовало, почему им так не нравится прекращение войны.
До сих пор в мельчайших деталях помню эту сцену, желваки, заходившие на лице Андрея. Маша хотела что-то сказать, но он остановил.
– Фанни, у Маши ранение с той войны, она была сестрой милосердия.
Маша сидела, глядя в пустоту и кусая губы, Матвей замер с самоваром в руках, словно забыв поставить его на стол.
– У Матвея ранение, у меня два. Эти награды боевые, – он кивнул на грудь Матвея и свою и тут же поморщился. – Но не это главное. Нас было семеро друзей, вернулись только трое. Моих людей погибла половина!
И все равно я не понимала. Тем более нужно радоваться, что все закончилось.
– Радоваться? Чему? Мы жизни человеческие не жалели, стояли до конца, чтобы ни пяди земли не отдать, а эти тыловые крысы одним росчерком швырнули немцам все, что мы защищали!
Он встал у окна, долго смотрел на улицу, едва ли что-то видя. Матвей поставил самовар на стол и сел, комкая папиросу в руках. Табак сыпался на скатерть, но Маша не шевелилась.
– Простите, вам неинтересно. Но если б вы знали, каково это – писать матерям, что их сыновья погибли. За Россию, с честью, как герои, но погибли! Больше не вернутся домой, не окликнут. Матвей, пойдем покурим.
Когда они вышли, я осторожно поинтересовалась у Маши о сестре милосердия. Маша скупо ответила, что невеста Матвея тоже была такой. Она погибла. И Андрей прав – все, что защищали с таким трудом и жертвами, брошено в топку революции.
Я почти с ужасом узнала, что Андрей ненавидел большевиков задолго до революции и двоих агитаторов даже приказал расстрелять. Но почему?!
– Знаешь, что в армии главное?
Что я могла ответить? Что снаряды, умение стрелять… Маша фыркнула:
– Ты только Андрею такое не скажи. Главное – дисциплина. Если ее нет, никакие снаряды и умение стрелять не помогут. А большевистские агитаторы разложили армию задолго до революции.
Я была так далека от всего этого! Для меня мир в окопах просто не существовал. Там стреляли, там были раненые, даже убитые, это кровь, страх, боль… Но это где-то так далеко, за пределами моего разумения. А красивая молодая женщина, прекрасно игравшая на рояле, читавшая французские стихи, любительница русских романсов и Тютчева видела весь этот ужас, была ранена, она знала другую сторону жизни, неизвестную мне. И все-таки она не огрубела, не стала жестокой.
Конец вечера был скомкан, чай мы не пили, самовар так и остался на столе остывать. Провожать меня отправились все втроем. Прощание вышло сухим, словно моя вина в Брестском мире тоже была.
Но я обратила внимание на то, куда они отправились, – в собор. Наверняка чтобы помянуть погибших друзей. Вот что у них за дружба… Она не просто с детства, она боевая, самая крепкая.
Я вдруг явственно увидела черту, разделяющую меня и их троих. Это не происхождение, не национальность, не счета в швейцарских или французских банках, это жизненный опыт.
Я восторженная девица, для которой главное – театральные подмостки и такие же страсти. А они хлебнули горя наяву, а не на сцене. У меня тоже был немалый уже жизненный опыт, я познала голод, холод, неприкаянность, страх, неопределенность… Но их опыт был иным, у них героизм и предательство, смелость и трусость, кровь, боль, страх… Мой опыт – это успех или провал на сцене, бытовые неудобства, пусть и серьезные. У них ставки самые высокие – жизнь или смерть.
Но я все равно не понимала, как можно не радоваться миру, пусть и добытому ценой уступок. Я и сейчас не понимаю. Каждый день продолжавшейся войны – это новые убитые чьи-то мужья, сыновья, отцы.
Кое в чем мы так и не сошлись во мнении, но, чтобы понять другого, нужно оказаться на его месте, а места у нас были слишком разными.
Спрашивать у Павлы Леонтьевны не хотелось, да и бесполезно. Она прекрасный человек, и у нее большой жизненный опыт, но опыт театральный, она хорошо разбирается в людях, а вот в политике – совсем нет. Получалось, что и не в политике, а в войне.
Я спросила у нашего Егорыча, которого все звали только по отчеству, поручая самую разную работу в театре. Казалось, что он умеет все, а если чего-то не умеет, то посмотрит, покрутит вещь в руках, крякнет пару раз, почешет затылок и починит. Он знал все обо всем, к тому же воевал, был ранен и демобилизован из-за ранения.
Егорыч вопросу удивился, немного подумал, привычно слазил пятерней в затылок, крякнул и ответил что-то вроде:
– Чего ж… Ваша правда, барышня (он всех артисток называл барышнями). Если бы я узнал, что кто-то те места, что я защищал, где кровь пролил и контузию получил, немцам отдал, я бы того своими руками повесил.
Я поняла, что у прошедших войну князя Горчакова и сторожа театра Егорыча есть своя правда. Спрашивать о Брестском мире не стала, но осмелела и поинтересовалась его мнением об агитаторах.
Последовал ритуал с рукой на затылке, кряканьем, очередным «чего ж…» и «барышней». Суть ответа сводилась к такому: он сам с агитаторами не встречался, поскольку был демобилизован на второй год войны. Но считает это дело крайне вредным, потому как в армии главное дисциплина, без нее никакое оружие не поможет (!). А те, кто агитировал брататься с немцами, и вовсе предатели. Немцу разве можно доверять? Ты с ним побратаешься и домой пойдешь, воткнув штык в землю, а он останется, твоего ухода дождется и ни штыка больше не найдешь, ни окопа, где вшей кормил, ни землицы, за которую кровь проливал.
Продолжая осторожные расспросы, я узнала, что офицеры бывают разные. Есть такие, что из-за мелкого проступка могут шомполами изувечить, а есть, и такие, что лучше отца родного, на погибель зря не пошлет. А полковник он, капитан или поручик, все равно, среди всех и хорошие есть и такие, что рука тянется к его горлу.
Конечно, я решила, что подполковник Андрей Александрович Горчаков относится к числу лучших экземпляров российского офицерства. Было приятно это сознавать, словно моя заслуга в том, что влюбилась в достойного офицера, имелась.
В те два месяца осени я бывала у Маши часто, но Андрей, да и Матвей обычно отсутствовали. Матвей уезжал в Севастополь, а Андрей то в ставку, то на фронт к Кутепову. Врачи запрещали ему снимать лангет с руки, он сердился, доказывал, что уже все зажило, что он и с одной рукой может воевать, но его держали пока на штабной работе, даже не штабной, кем-то вроде советника. Я понимала, что боевому офицеру это трудно вынести, но радовалась, ведь иначе кто знает, что могло случиться на фронте, к тому же иначе он не мог приходить к Маше.
Оказалось, что Андрей у них в квартире не живет, не любит от кого-то зависеть, у него постоянно снят номер неподалеку в «Бристоле», но посидеть с друзьями любит, потому приходит, как только возможно.
«Бристоль» – гостиница шикарная и дорогая, там даже сам император останавливался, когда бывал в Симферополе. Я слышала, что там в номерах ванны мраморные и мясо в ресторане в любой день недели.
У меня хватило выдержки не рассказать о «Бристоле» дома, иначе Ирка подняла на смех или принялась бы напрашиваться в гости. Она очень хорошая, но следовало помнить о возрасте – подростковые четырнадцать лет, да еще у столь эмоциональной девушки – сущее наказание. Ершистая, резкая, несдержанная в словах, наговорит гадостей, а потом сидит в уголке и плачет от стыда за себя.
Ирка гадости не говорила только Тате, которая за нее горой, даже если любимица виновата. Павла Леонтьевна вздыхала, мол, пройдет, нужно только потерпеть.
Я соглашалась, помня саму себя в возрасте четырнадцати лет.
У меня самой было жуткое раздвоение личности – келья в монастыре с нищим пайком в неполный фунт грубого хлеба в день и ухоженная Машина квартира с пусть не обильным, но вполне щедрым столом (Маша всегда старалась подсунуть мне что-нибудь с собой). Дома и в театре холодно – у Маши тепло, у нас голодно – у нее сытно, у нас неприкаянно и полутемно от коптилки – у нее уютно и светло от хороших свечей.
Конечно, дома мне родней, хотя что это за дом, лишь очередное временное пристанище, и к Маше тянуло не столько в уют и состоятельность, не столько в прежнюю обеспеченную жизнь, сколько в надежде увидеть Андрея.
Сейчас я понимаю, что Маша заметила мой интерес к ее другу, невозможно не заметить. Но она посмеивалась над моей влюбленностью, поощряла демонстрацию актерских навыков, даже провоцировала такие сеансы актерского мастерства, однако заметно раздражалась, когда разговор заходил о чем-то другом, и Андрей начинал объяснять мне то, чего я не понимала.
А еще она не желала допускать меня в их прошлое, с грустью вспоминала счастливые годы в подмосковном имении, но расспрашивать не позволяла, словно я могла там покуситься на что-то святое, к чему мне и приближаться нельзя.
У них было множество своих секретов, шуток, каких-то воспоминаний.
Потому открытия у меня случались каждый раз.
Андрей протянул руку к пирогу, который сам и принес, и лукаво поинтересовался у Маши можно ли взять кусочек.
– Бери уж…
– Ругаться не будешь?
Я поняла, что с пирогами что-то связано, но усомнилась, стоит ли спрашивать о секрете у подруги.
Андрей объяснил сам. Сказал, что Маша только выглядит скромницей, а на деле ругается так, что пыль столбом стоит. В то, что сдержанная красавица может произносить грубые слова, действительно не верилось. Но я тут же узнала, что когда Маша после неудачной атаки тащила раненого Андрея, то материлась крепче извозчика, ругая друга за то, что «разожрался», и клялась больше не дать ему ни куска пирога!
И я понимала, что дело не в пирогах, Андрей спокойно обходился без них и был строен, а в Машином отчаянье – ей не хватало сил дотащить раненого друга до окопа, чтобы по пути не убили и помощь оказали скорей. Потому и ругалась матом.
Меня тянуло в этот дом не только из-за красивого подполковника, но, приходя, я надеялась застать там Андрея. Мы довольно часто виделись, хотя у Маши уроки и госпиталь, у меня театр. Кроме того, не хотелось быть навязчивой, я не просто выглядела бедной родственницей рядом с ними, но была словно на ступеньку ниже.
И дело не в состоянии или фамилии, я с трудом окончила гимназию и больше не училась. Конечно, жалела об этом, но тогда само присутствие в гимназии было мучением, учителя казались вредными занудами, только и ждущими случая унизить, соученицы – пустышками, а сами предметы – ненужным пустословием.
Павла Леонтьевна образована хорошо, но и ее знания касались прежде всего театра, литературы и музыки.
Да, я бывала в Париже, но семью Гирша Фельдмана мало интересовали картинные галереи или театральные премьеры. Отец в основном встречался с «нужными» людьми, обговаривая свои коммерческие дела, а мы – мама, Белла и я – гуляли, катались в экипаже и по Сене, осваивали магазины. О театре мама сказала, что он не русский, а значит, ничего ждать не стоит. Подтверждение получили в первый же день, отправившись на какую-то пошлую пьеску. В оперу я идти отказалась – не люблю ее с детства. Магазины были неинтересны. Художники на Монмартре попались сплошь бездарные и вульгарные (нам не повезло).
Скорее всего, я была к Парижу просто не готова. У русского человека начала ХХ века Париж связывался с ожиданием чего угодно, только не настоящего Парижа. Каждый и находил, и не находил ожидаемого, а потому каждый либо разочаровывался, или очаровывался французской столицей.
Не помню, чего именно ждала, но разочаровалась. Первое впечатление самое сильное, перебить его трудно. Помнишь, Алиса Георгиевна рассказывала о своем первом впечатлении от Парижа, куда она приехала уже совсем взрослой, состоявшейся актрисой? Париж поразил ее тем, что ничем не поразил. Вот, меня также.
Помнишь всеобщее «ах, Париж!», «увидеть Париж и умереть!»? Возможно, в Петербурге этого было меньше, а вот в провинции убеждение, что без Парижа и жизнь не жизнь, укоренилось в голове каждой девицы. И то, что я восторга не выказывала, кто-то считал снобизмом, а кто-то тупостью. Как можно любить Москву больше Парижа?!
Нелепо, что так рассуждали те, кто вообще никогда не бывал в Париже, а то и в Москве. Какая-нибудь глупая провинциальная барышня, закатывая глазки, шептала то самое: «ах, Париж!» и добавляла: «фи, Москва!».
У Маши я встретила единомышленников, вернее, не совсем.
Здесь тоже любили Россию, чаще вспоминали подмосковные рощи и всенощную, липовый мед и катание на тройках, русский морозец и блины на Масленой… Заграница хорошо, но душа дома, в России. Я видела, что моим новым знакомым и в Крыму неуютно, хочется в прежнюю жизнь, потому они часто пели русские романсы.
В этом я с ними согласна, какой бы заманчивой ни была заграница, какой развитой, удобной, ухоженной, сердцу иногда милей русская непролазная грязь, чего иностранцам никогда в нас не понять. Блестящий аристократ, говорящий на французском, немецком, английском без акцента, завсегдатай Баден-Бадена и Монте-Карло с удовольствием выпивает стопку водки и закусывает малосольным огурчиком где-нибудь на захудалом постоялом дворе на границе и облегченно вздыхает: «Наконец-то дома!».
Но очень быстро выяснилась одна особенность.
Маша и Матвей – москвичи, когда не отдыхали в подмосковном имении, проживали в доме на Ермолаевском прямо у пруда, там теперь архитекторы сидят.
Помнишь, мы с тобой уточек кормили на Патриаршем пруду, а я все здание разглядывала? Оно новое, когда Машины родители за границу уехали, они дом продали, так на его месте Архитектурный союз и выстроился. Кажется, так.
Маша вспоминала, что из ее окон Патриарший пруд был виден в любую погоду, даже когда все в зелени. Хорошее место. От моего Старопименовского недалеко, так я иногда хожу, представляя, что вон та девочка – Маша, кормящая уточек, а двое мальчишек – Матвей и Андрей, приехавший к ним в гости.
Едва ли Андрей к ним приезжал. В подмосковном имении дружить – это одно, а в городе другое. В этом и состояло различие между ними – Андрей был столичной штучкой. У Горчаковых большой дом на Таврической. Когда была в Питере, нарочно ходила посмотреть. Красивый дом, и вид из окон на сад тоже красивый. Но там все другое, Петербург холодный, имперский.
И вот мы с Машей и Матвеем любили Москву, а Андрей свой Петербург. Он называл Москву большой деревней, а Маша Петербург в ответ ледяной столицей и говорила, что в нем нет ничего русского.
Такие споры между друзьями возникали часто, я оказалась свидетельницей одного из них. Андрей возражал, что русское и российское не одно и то же. Москва – русский губернский город, побывавший однажды столицей и решивший, что это навсегда. Мол, Москва снова столица, теперь у большевиков. И этим все сказано – они разорят остатки европейского лоска, если таковой в белокаменной был, все будет по колено в грязи, а уж район Машиных Патриарших прудов и вовсе превратится в одну сплошную лужу.
На вопрос, почему, объяснил с насмешкой, что булыжник – оружие пролетариата, следовательно, будет (если уже не был) выковырян из мостовой, а мостовая без булыжника – просто грязь!
В те два месяца я бывала у Маши часто, я старалась проводить у нее каждый свободный от спектакля вечер, особенно, если Павла Леонтьевна была занята в театре. Андрея и Матвея заставала изредка. Когда их не было, мы сидели у огня, читали, Маша что-то шила, иногда играла на рояле.
Если дома бывал Матвей, то иногда танцевали, пели романсы, играли в карты или занимались подобной ерундой.
Если же бывал Андрей, разговор немедленно принимал серьезное направление, он словно приносил с собой иной дух – тревожный, мятежный, дух размышлений и страстного желания что-то понять. Маша была этим недовольна, не раз выговаривала, что так нельзя, что даже в редкие минуты отдыха он не дает покоя своим нервам.
Андрей отвечал, что сейчас отдыха быть не может, а в мире происходит что-то, разобраться с чем просто необходимо. Наверное, сказывалось то, что он единственный из нас бывал в то время на фронте и видел, что беда надвигается, несмотря на все бодрые заявления генералов.
Помню, Матвей ругал генерала Слащева, мол, этот буйнопомешанный лучше сидел бы в тылу со своим попугаем, а не лез на передовую. Андрей был категорически не согласен, говорил, что генерал, конечно, употребляет наркотики из-за сильных болей после ранений, но это не мешает ему быть очень толковым военным. А еще, что Слащев мешает Врангелю так же, как сам барон мешал генералу Деникину.
От меня все это было очень далеко, заметив, что я скучаю, Андрей переводил разговор на другое. Но он категорически не желал играть в карты или болтать ни о чем. Чувствовалось, что в доме у друзей ему становилось все неуютней, даже юношеские воспоминания уже так не грели. Я с тоской ждала, когда он прекратит приходить вовсе.
Понимала это и Маша, потому позволяла Андрею обучать азам политики меня, видно, в надежде, что новая неопытная слушательница ненадолго привлечет друга. Тут наши с ней интересы совпадали, я была готова обучаться хоть стрельбе из револьвера по воробьям, только бы у Андрея. Понимала, что в вопросах политики и теории социальных потрясений выгляжу полным профаном, в чем честно признавалась, упирая на страстное желание обновления.
Однажды такой разговор зашел после «Буревестника», которого я прочитала очень (ну очень!) эмоционально. Не помню, почему прочитала, повод нашелся, мне очень нравилось и нравится это коротенькое произведение Горького, а уж в те времена ожидание хорошей бури было совсем кстати. «Пусть сильнее грянет буря!» Что может быть лучше? Для меня буря – это обновление, после грозы всегда так легко дышится, и воздух свеж, и солнце светит особенно ярко, и небо голубое.
Все время, пока я читала, Андрей не отрываясь смотрел в мое лицо. Боковым зрением заметила, что настолько же внимательно смотрит и Маша – только на него. Матвея в тот день дома не было. У меня текст всегда вызывал настоящий восторг, а вот у Андрея – нет. Когда закончила читать, Маша пару раз ударила в ладоши, через пару секунд мучительного ожидания аплодировал и Андрей, но я понимала, что это всего лишь вежливость.
Так и есть, похвалив блестящее исполнение, он вдруг поинтересовался, видела ли я бурю в действительности. Пришлось признать, что нет.
– А ее последствия на берегу?
Но ведь в тексте аллегория! Буря – это обновление. Я поведала о любви к свежему воздуху после грозы, яркому солнцу, голубому небу.
Он кивнул, мол, тоже очень любит эту чистоту природы после разрушения, но спросил, уверена ли я, что нынешняя буря ради обновления и принесет свет, а не тьму? Что разрушения не будут настолько велики, чтобы не оставить всех на груде камней любоваться голубым небом и ярким солнцем без малейшей надежды в скором времени обрести хотя бы крышу над головой? Не будет ли эта буря губительна?
Кажется, я «глубокомысленно» заявила, что все требует своих жертв, в том числе буря.
Тогда Андрей поинтересовался, знакома ли я с теориями этого самого обновления.
Вот уж чем не интересовалась вовсе! Для меня буря и обновление были просто бурей и обновлением безо всяких теорий. А о существовании революционных теорий я вообще не думала, мы с Павлой Леонтьевной гордились своей аполитичностью, тем, что театр выше любой политики, что мы поднялись над толпой, жаждущей разрушения. Обновление к разрушениям не относилось, оно было само по себе – обновление, и все тут.
На вопрос, понимаю ли я, что такое настоящий революционер, по мнению теоретиков нынешней революции, я только пожала плечами, мол, какое мне дело и до революционеров, и до теоретиков.
Андрей со вздохом поднялся, подошел к шкафу, достал оттуда книгу, раскрыл на заложенной странице и прочитал:
– «В революционере должны быть задавлены чувства родства, любви, дружбы, благодарности и даже самой чести. Он знает только одну науку – науку разрушения». Это не барон Врангель сочинил и не Махно, это идеолог разрушения Михаил Бакунин. Фанни, Вы согласны с этим?
Я возразила, мол, не может быть! Андрей положил текст передо мной. Через всю страницу красным карандашом было размашисто написано: «Подлец и преступник!».
Но я очень плохо представляла, кто такой Бакунин, слышала что-то о том, что он анархист, не больше. Политика, снова политика. Без объяснений было видно, что я этим не интересуюсь и ничего в этом не смыслю.
Андрей снова вздохнул:
– Вот потому, что большинство, как вы, ничего не хочет знать и даже слышать, теорию господина Бакунина ныне претворяют в жизнь на огромной территории Российской империи. Хотя какая уж тут империя, только Крым и остался. Поверьте, когда придут последователи господина Бакунина, они не вспомнят ни о родстве, ни о любви, ни о чести… А они придут, потому что даже в Русской Армии больше тех, кто не хочет вспоминать о главенстве у революционеров науки разрушения либо просто желает отсидеться.
Ниночка, я столько лет не могла и сейчас не могу написать правду о Крыме тех месяцев, потому, что воочию увидела, что Андрей прав. Об этом нельзя говорить, это не отрицается, оно просто замалчивается, словно не было ноябрьского-декабрьского кошмара двадцатого года. О нем нельзя забыть, если и можно вспоминать, то только о расстрелах большевиков по решению суда белых.
И ты об этом молчи, ладно? Опасно. Возможно, то, что я это пишу – глупо, но нужно хоть раз написать, даже для того, чтобы потом сжечь.
Странные беседы для влюбленной девушки, не правда ли? Я слышала, что студенты мучают своих прелестных подружек беседами о физических явлениях, устройствах разных машин или подробностями о физиологии человека и животных, стараясь выглядеть умней, чем они есть на самом деле.
Но здесь была политика, и у Андрея не было необходимости выглядеть умней. Я ненавидела политику, не желала не только заниматься ею, но и слышать о таковой. Но политика пришла в мой дом голодом и холодом, а в мою душу словами Андрея.
Он тоже не занимался политикой, но был вынужден жить, учитывая ее законы. Я поняла, что Андрей знает многие работы революционеров куда лучше тех, кто за революцию выступал и даже ею руководил. Знал и боролся совершенно сознательно. Был контрреволюционером? В душе – наверное. На деле – офицером Русской Армии и просто русским человеком.
Однажды он задал мне вопрос, должен ли человек, не согласный с действующей политикой, ей сопротивляться, продолжать жить со своим собственным мнением или быть уничтоженным за отличные от одобренных властью взгляды. Я ахнула по поводу уничтожения, в ответ мне напомнили, что расстрелянные из-за несогласия с властью Советов уже исчисляются тысячами в одном Петербурге или Москве.
– Так что должен делать человек, если он не согласен с навязанным большинству мнением?
Я не знала ответ на этот вопрос. Думаю, его не знал и сам Андрей.
Я всегда представляла любовь как нежные беседы на скамье под цветущей сиренью, шепот волн (неважно, моря или мелкой речушки), легкий теплый ветерок, крупные звезды в небе… и восторг, обязательно восторг от всего – в душе и на устах. Романтика. И уж конечно, никакой политики. И разговоры только о прекрасном.
Но вокруг был стылый осенний Симферополь, из всего перечисленного – только крупные звезды, а вместо романтики – фронт и та самая политика.
Но любовь все равно была, я изменилась, повзрослев за эти пару месяцев на десять лет и мгновенно растеряв свою идиотскую восторженность барышни, далекой от жизни.
Обычно путают понятия «жизнь» и «быт». Отсутствие еды и тепла – это быт, а вот такие взаимоотношения, когда в сердце восторг и боль одновременно, когда надо решать судьбоносные вопросы и никто помочь не может – это жизнь. Я перешла от вопросов быта к вопросам жизни. Это только из-за Андрея, без него никогда не стала бы разбираться в таком. Впрочем, как и большинство остальных людей в Крыму.
Вот какой необычной была моя единственная настоящая любовь.
Ты удивлена? Подожди, еще не то прочтешь…
Почему-то вспомнилась одна история, которую я рассказывала многим. История о первом в жизни (и неудачном) свидании.
Так вот, рассказывала я ее не совсем так, как было дело. Ты ее слышала. Помнишь, самый красивый мальчик из старшего класса мужской гимназии пригласил меня на свидание. Я собиралась полдня, в сад пришла раньше времени и обнаружила там подле заветной скамейки самую красивую девочку женской гимназии. Мы были едва знакомы, лишь кивнули друг дружке и принялись расхаживать подле скамейки, я размышляла о том, с кем должна встретиться она. Мысленно перебрала всех, и решила, что это кто-то взрослый, из студентов. Мне и в голову не приходило, что кавалер у нас один! Но это оказалось именно так.
Мало того, они сговорились, чтобы унизить меня. Мальчик подошел к нам и взял за руку ее, и они стали надо мной смеяться. Я, стараясь не расплакаться, пошла прочь, а мерзацы принялись бросать мне в спину мелкие камешки и делали это до тех пор, пока я не скрылась за поворотом. Все так, кроме последнего.
Помнишь, ты еще удивилась моему непротивлению. Нина, ты была права. После первого камешка я замерла в недоумении, а после второго, кстати, едва задевшего подол платья (они тру́сы! способны только бросать в спину), шагнула в сторону, подобрала два камня побольше и пошла на своих обидчиков чеканным шагом. Наверное, выражение моего лица не оставляло сомнений в том, что будет дальше, эти двое кинулись наутек. Отбежав немного, девочка остановилась и крикнула:
– Ненормальная!
Камень полетел в их сторону. Мальчик бежал быстрей девочки, это было смешно, я расхохоталась:
– Какой у тебя храбрый кавалер, только пятки сверкают!
И пообещала сохранить второй камень до следующей встречи.
Конечно, после этого в гимназии мне делать было нечего, засмеяли бы. Не станешь же всем рассказывать, как на свидании бросались камнями. Я прекрасно понимала, что им поверят, но не мне.
Не мне, потому что я еврейка. И придется всю жизнь об этом помнить.
«Еврейский вопрос». Как жить жидам, которые виноваты при любой власти
Я еврейка. Но неправильная.
Я Фаина Гиршевна Фельдман.
Гирша Хаимович Фельдман «йидишер коп» – человек, у которого с головой все в порядке, что может подтвердить любой, кто с ним знаком. Что это означает?
У Гирша Фельдмана получалось в жизни все: он женился на красавице Мильке, родившей четверых детей (старшие дочь и сын – папина гордость, младший сын умер младенцем, и я – семейное недоразумение с первых минут жизни), создал и развил (крепко развил) свое дело, имел большой дом в Таганроге (большой по меркам Таганрога, конечно), дачу, даже пароход «Святой Николай», вывозил семью на лучшие европейские курорты, к тому же был уважаемым человеком в своей общине. Меценат, сильная личность, расчетливая умница… Да что угодно, вслед таким говорят «аф алэ йидн гезукт!» – «чтоб всем евреям так было!».
Моя сестра Белла была «шейн ви голд» – «красива, как золото», она «нахес» – сплошное благополучие, с ней «аф идиш!» – все хорошо.
Брат Яков – последователь отца, «зи от ихес» – предмет гордости.
Я же ходячие «цорес» – «неприятности» и «махес» – «болячка», геморрой, проще говоря.
Кто бы знал, что такое быть в еврейской семье младшей некрасивой заикой, настоящим цоресом.
Отец любил Беллу, ей доставалось все внимание, ею гордились, ей прочили великое будущее. А я всегда рядом, вернее, на шаг позади, во второй или даже третьей очереди. Я очень любила Беллу (где она сейчас? как она?) и ненавидела всеобщее внимание к сестре. Страшно ревновала из-за этого, но никак не могла добиться такого же для себя. Меня не просто не замечали – сознательно задвигали на задний план. А что прикажете делать с младшей некрасивой заикающейся дочерью, которая к тому же упряма, как сто ослов, глупа, как такие же сто ослов (не смогла выучить простейшие арифметические действия!) и страшно невезуча? В общем, один сплошной шлимазл.
Но терпеть недотепу в качестве младшей дочери, вынужденной даже обучаться дома из-за неспособности постигать арифметику вместе с остальным классом, – это одно, а услышать от семейного наказания, что оно намерено выставить фамилию Фельдманов на всеобщее обозрение, став кривлякой на сцене!..
Гирша Хаимович был в ярости, он подтащил меня к зеркалу, сунул в него практически носом и кричал:
– Ты посмотри на себя! Посмотри! Уродина! Заика!
Раньше я думала, что лучше бы он меня ударил, но сейчас понимаю, что нет. Удар был бы просто физическим воздействием и означал отцовское право бить меня. А так он дал пощечину моей гордости, моему чувству собственного достоинства.
Я глупа настолько, что неспособна закончить гимназию? – В ответ я вызубрила эти чертовы правила, выучила арифметику и сдала экзамены за курс гимназии!
Я заика? (Это было правдой.) – Несколько месяцев занятий – и от заикания осталась только привычка говорить чуть нараспев и не начинать слово, если чувствуешь, что сейчас застопорится.
С внешностью сложней, мне «шейн ви голд» не досталось, приходилось убеждать себя, что не все актрисы красавицы, кто-то же должен играть на сцене страшных старух?
В Москве в театральных агентствах так не считали, мне с первого дня поставили диагноз: к сцене непригодна! Только упрямая, как сто ослов, девица могла продолжить свои попытки попасть на сцену. И только такому шлимазлу, как я, могло повезти встретить Гельцер и Павлу Леонтьевну Вульф.
А чтобы отец не переживал, взяла новую фамилию – Раневская, и отчество сменила на Георгиевну. Йидишер коп Фельдман мог жить спокойно.
Но спокойно не получилось, грянула революция, и Гирша Фельдман предпочел отправиться подальше на своем пароходе, пока знаменитое плавсредство (на нем когда-то путешествовал по Черному морю Лев Николаевич Толстой) не реквизировали большевики. Об этом мне рассказали знакомые, перебравшиеся из Таганрога в Крым в поисках спокойной жизни. Куда держал путь «Святой Николай» с семьей Фельдманов на борту, они не знали.
Еврейские мамы любят сыновей, еврейские папы – дочерей. Моему папе вполне хватало Беллы, моя мама, жалея свою младшую непутевую дочь, сначала подбрасывала мне деньги. Но после того как она написала, что посылает деньги, чтобы мне было на что покушать и не идти ради еды на панель, я не сообщила ей свой очередной адрес. Моя мама так и не поняла, что я скорее умру от голода, чем пойду зарабатывать таким способом. Связь с мужчиной может быть только по любви либо из каприза (женского, конечно).
Связь еврейской девушки из хорошей семьи с этой самой семьей была утеряна. Надеюсь, не навсегда. Не потому, что хочу еще чего-то от них, просто нужно знать, где твои родные и как они живут. Гирша Фельдман наверняка заранее перевел свои деньги в зарубежные банки и сумеет заработать еще немало, но я никогда не просила и попрошу у него помощи, даже когда голодала, не просила.
Я так подробно о своей семье, чтобы было понятно, что я и впрямь неправильная. Еврейские дети не остаются без попечения родителей, особенно девушки и особенно без «дела в руках», хотя этим делом для еврейской девушки считается удачное замужество и много умных детей. Успех еврейской семьи – в ее детях, если сын продолжил удачное дело отца или создал свое, но тоже дающее приличные гешефты, а дочь удачно вышла замуж, так что зять йидишер коп, и внуки обещают превзойти дедушку – жизнь удалась. Все остальное не считается.
В роду Фельдманов не было актрис, и отец не видел примеров, когда бы кривлянье на сцене приносило гешефты, потому считалось, что дела в руках у меня нет. Честно говоря, у меня его действительно не было, даже если считать моим делом сцену. До самого Симферополя я меняла театр за театром, но и туда меня брали только благодаря Павле Леонтьевне.
Что уж говорить о времени, когда власть меняется чаще направления ветра и жить просто не на что?
Еврейской девушке жить в Крыму двадцатого года было крайне опасно.
В сентябре этого года в соборе начал вещать с амвона (кажется, это так называлось) явно сумасшедший священник, бежавший из Москвы Востоков. Ему было мало Русской Армии и барона Врангеля, он мечтал создать православное воинство, чтобы возглавить самому.
Сидеть в тылу Русской Армии под ее защитой и кричать о своих грядущих победах легко. С кем он собирался воевать, если до большевиков далеко, а немцы из Крыма ушли? Оставались евреи, вернее, как нас называли, жиды. Объявлялось, что еврейство буквально закабалило русский народ, а потому должно быть уничтожено.
Конечно, я слышала о выступлениях Востокова и понимала, чем лично мне грозит новый еврейский погром.
Еврейские погромы и в России, и вообще в мире не редкость. Не буду рассуждать, почему так не любят евреев, такова судьба.
Меня спасало только то, что, уехав из Таганрога, я перестала быть дочерью состоятельного еврея, а на собственные нищенские заработки выглядеть фешенебельно не получалось. Пока удавалось отсидеться.
Беда в том, что в Крыму вообще и в Симферополе скопилось слишком много разного народа, причем такого, у которого не было ничего впереди. Генерал Врангель мог отдавать какие угодно приказы, его помощники могли сколько угодно пытаться организовать производство, торговлю и кооперативы в деревнях – это не помогало. Когда на небольшой территории собирается столько людей, которым некуда деваться, не приспособленных к тяжелому труду, а то и вообще ни к чему не приспособленных, жди беды. Сильных и умелых мужчин уже шесть лет забирали в армию, оставшиеся не могли заменить всех ушедших, а нахлебников становилось с каждым днем все больше. Заводы и фабрики работали на нужды армии, населению доставались крохи, и сколько это продлится, не знал никто, даже барон Врангель.
Нет, думаю, он знал, понимал, что Крым не удержит, а потому лишь старался продлить агонию в надежде заручиться поддержкой англичан и французов для существования армии в эмиграции. Этого я не понимала тогда, не поняла и до сих пор – кому нужна Русская Армия в эмиграции? Если она не сможет удержать Крым, то разве сумеет потом высадиться десантом, чтобы вернуть его обратно?
Но тогда меня это волновало мало, кроме одного: эмиграция означала отъезд Андрея и то, что мы больше не увидимся.
Большое число неприкаянных, неустроенных людей без будущего, которые не представляли, что будут делать, даже если Крым удержат, они каждый день просто выживали, подпитывало какую-то темную, черную силу безнадежности. Эта сила копилась, росла, иногда ощущалась даже физически. Ей нужен был выход.
Ужасно, что носителями этой силы оказывались не солдаты, не офицеры, а простые обыватели, пусть не умевшие обращаться с оружием, но вполне способные учинить погром и убить неугодных. Такими неугодными проще всего объявить жидов. Лозунг «Бей жидов – спасай Россию!» никуда не девался. Почему Россию нужно спасать от жидов – ее граждан – никто не объяснял и не спрашивал. Почему, если поубивать жидов, Россия окажется спасена – тоже.
Но в Крыму в то время жидов оказалось очень много, слишком много, чтобы их просто взять и поубивать. Думаю, что именно это спасло от новых погромов, но у Востокова хватало ума все же призывать к спасению России именно таким образом, вернее, не хватало ума настолько, что призывал.
Сам ли генерал Врангель понял, или ему объяснили опасность еще и такой пучины, но он издал приказ, запрещающий настраивать одних граждан против других, невзирая на национальность. Востокову вообще запретили выступать публично. В сентябре погромы не состоялись, но все понимали, что они лишь отложены. Если завтра что-то случится хоть с одной из пекарен или выдаваемых денег не будет хватать даже на хлеб, жиды пострадают первыми.
К этому все шло.
Востоков уехал в Севастополь (или вообще за границу), евреи получили временную передышку. Все понимали, что временную, никто не знал, когда начнется, но в том, что погромы будут страшными, были уверены все. Злобу и отчаянье из-за собственного несчастного положения люди готовы выместить на ком угодно, евреи прекрасный объект и повод.
С Андреем мы мою национальность не обсуждали. Всего однажды он пожал плечами, мол, Крым такой плавильный тигель, что говорить о предпочтении одной национальности перед другой не стоит вообще.
Ниночка, когда я услышала о причине, по которой меня не утвердили на роль Старицкой у Эйзенштейна (Большаков сказал, что мои семитские черты будут слишком явственно проявляться, и утвердил на роль Бирман!), мне показалось, что я слышу голос Востокова.
Успокоила меня тогда Павла Леонтьевна, она сказала, что я еще много раз получу отказ, но вовсе не из-за семитских черт, а из опасений, что даже в роли второго плана сумею затмить остальных. Было горько и радостно одновременно – от понимания, что так и будет, и от ее уверенности, что я могу своей игрой затмить любого.
Все равно теперь мысленно зову Большакова Востоковым и Эйзенштейну ни за что не прощу обиды.
Я опять отвлеклась, но ты знаешь, как тяжело мне сознавать, что ценят не по таланту или готовности много работать, а по семитским чертам и опасению, чтобы не затмила собой кого-то другого. А ведь какой мерзавец эротоман!
Мы снимались в анненковской «Свадьбе» по Чехову. Там все играли на равных, все отменно, никто не волновался, что кто-то кого-то затмит.
Анненкову и в голову не приходило задуматься, кто в какой семье родился, играли и все.
Мы с Андреем встречались не только у Маши, все же Симферополь город небольшой, особенно если живешь и служишь в центре, можно столкнуться и на улице.
Та встреча получилась неожиданной, но какой!..
Осень в двадцатом году наступила рано, была ветреной, холодной и неуютной. Но в тот день выдался приятный денек – и потеплей, и посуше. Я решила не торопиться домой и пройтись. Сидеть в каменном мешке кельи не слишком приятно, тем более ее невозможно нормально проветрить, а нас трое на небольшой площади. Места в монастыре было хоть отбавляй, но каждый дополнительный метр требовалось обогреть, это расход дров, которых не хватало. Вот и ютились как можно плотней, в тесноте, да не в обиде, воздух не самый свежий, зато теплый.
Я брела по Екатерининской, рассматривая прохожих, пытаясь запомнить чью-то походку, чьи-то жесты, манеру смеяться и прочее. Павла Леонтьевна частенько напоминала, что это полезно.
И вдруг…
– Фанни!
С другой стороны улицы ко мне спешил Андрей! Я мысленно произвела ревизию своего вида, поняла, что если что-то и не так, поправить все равно не успею, и пару раз глубоко вздохнула, чтобы справиться с сумасшедшим сердцебиением.
Он поцеловал руку, улыбнулся:
– Вы прекрасно выглядите. Куда-то спешите?
Я ответила, что просто прогуливаюсь, наблюдаю. Андрей любопытен, как ребенок, хотя уже подполковник с боевыми наградами, поинтересовался, за чем я наблюдаю. Пришлось объяснить, что набираю пластический материал для ролей. Мне нравилось это выражение, услышанное однажды от Рудина.
Андрею тоже понравилось.
– Хотите кофе с пирожными? Или горячего шоколада?
Я изумилась. Приказом Верховного главнокомандующего генерала Врангеля в Крыму запрещено производить любые кондитерские изделия. Мы давно забыли, что такое шоколад или пирожные. Да и кофе тоже.
Андрей объяснил, что в ресторанах есть все, только нужно знать, в каком и как спросить. И, конечно, иметь франки, за крымские рубли вряд ли получится купить.
Я не стала говорить, что франки в последний раз видела, когда мы всей семьей были на Лазурном берегу. Но Андрей и не спрашивал, он повел меня в ресторан гостиницы «Бристоль». Я помнила, что у него самого там роскошный, как Маша сказала, номер. Но если бы он повел и в номер, была бы только рада. Пусть хоть на час стать его женщиной, а там как будет!
Немного позже, в октябре, когда стукнули настоящие морозы (градусов пятнадцать!), я выглядела как настоящее чучело – в большом пальто, платке и стоптанных туфлях с отваливающейся подошвой, но в сентябре еще ходила в жакете и шляпке. Потому привести меня в ресторан «Бристоля», конечно, не очень удобно, но не позорно. Андрея мой вид не смутил.
По тому, как перед ним раскланялся метрдотель, я поняла, что мой спутник завсегдатай. Верно, где же обедать тому, у кого номер в «Бристоли»?
Но нас позвал за свой столик какой-то военный:
– Андрей Александрович!
Андрей встрече обрадовался, повел меня к тому столику, представил полковника Краснокутского Николая Тимофеевича. Я запомнила потому, что у меня в Москве был знакомый студент – полный тезка полковника.
Полковник тут же похвалил котлеты де-воляй, мол, научились делать и здесь. Я помнила эти нежные куриные филе с начинкой из сливочного масла с зеленью, мы ели их в Париже в определенном ресторане, отец говорил, что только там делают настоящие де-воляй. Но при одной мысли, сколько это должно стоить здесь, желудок сжался и категорически запротестовал. На вопрос Андрея, буду котлетку или желаю жаркое, ответила:
– Нет-нет, только кофе, пожалуйста.
Андрей подозвал официанта и тихо поговорил с ним, подав какую-то купюру. Тот согласно кивал.
Пока ждали заказ, говорили ни о чем, полковник оказался хорошим собеседником, не помню почему, но я в лицах изображала сценку в парижском ресторане, когда нам подавали тот самый де-воляй. Андрей смеялся и смотрел на меня каким-то особым взглядом (я обрадовалась, что если уж не интересую его как женщина, то хотя бы занимаю как актриса), а полковник заявил, что я должна играть на сцене, непременно должна! Теперь смеялись мы с Андреем. Узнав, что я так и делаю, Краснокутский обещал прийти на ближайший спектакль.
Теперь Андрей смотрел на меня лукаво, ожидая, что я отвечу. Дело в том, что ближайший спектакль на следующий день, это «Три сестры», и я в роли Натальи. А через несколько дней я играла там же Машу. Под его насмешливым взглядом я пригласила полковника на завтрашний спектакль. Андрей кивнул, пряча улыбку в усах. Меня больше всего порадовала мысль, что он знает расписание моих спектаклей! Это уже чего-то стоило.
Пока беседовали, нам принесли большой кофейник и целую вазу пирожных. Андрей объявил, что кофе нужно выпить, а пирожные съесть. Мы действительно пили хорошо сваренный кофе и лакомились пирожными. Я с грустью думала, что из ресторана не принято забирать еду с собой, как я иногда делала у Маши, та норовила подсунуть мне то мясо, то сладости, а то и просто свечи или масло. Я ела вкуснейший эклер и представляла, как порадовалась бы такому забытому лакомству Ира.
Наверняка Андрей понял мою заботу, наклонился к уху и тихонько сообщил, что сейчас принесут коробку с пирожными для моих родных. Я чуть не заплакала.
Вскоре полковник заторопился, объясняя, что уже и без того опоздал. Мы простились с ним душевно, но без особого сожаления. Тогда я не знала, что еще раз встречусь с этим именем при самых страшных обстоятельствах!
Официант действительно принес большую коробку с пирожными и пакет еще с чем-то. По просьбе Андрея все было завернуто в бумагу, чтобы не привлекать ни чьего внимания. Я восприняла это как сигнал к окончанию встречи, Андрей явно расстроился:
– Вы торопитесь, пора уходить?
Конечно, я осталась. Уже понимала, что никакого визита в номер не будет, но само общение доставляло такое удовольствие, что отказаться от него невозможно. Хорошо, что спектакля в тот день у меня не было.
Он все-таки заказал котлеты, мои протесты не принял. Беседа продолжилась.
И вдруг…
– Фанни, вы не обидитесь, если я задам нескромный вопрос?
Ниночка, тебя когда-нибудь так спрашивал умопомрачительно красивый мужчина? Что сразу возникает в голове? Правильно, мысли о любви и замужестве.
Но это не обо мне даже в данном случае. После того, как я охотно согласилась ответить практически на любые нескромные вопросы, мне пришлось, объяснять, какого черта меня занесло на сцену!
Нет, конечно, нет, вопрос был задан с соблюдением всех норм приличия и речевого этикета, со всеми возможными предосторожностями, но суть от того не менялась.
Я объяснила, что ничего иного для себя не представляла.
– Никогда?
Понятно, что это могло удивить кого угодно. Пришлось рассказать о своей жизни до театра. Я решилась на откровения, понимая, что разговор может стать последним, но лучше уж сразу объяснить ему все.
Рассказала о том, что была заикой, что только речь нараспев и пребывание в чужом образе позволяли говорить, не запинаясь. Что состоятельность моего отца не помогала, а очень мешала маленькой еврейской девочке, только и умеющей замыкаться в себе в ответ на обиды, в то время как остальные нахамили бы. Что невыносимое одиночество было повсюду – в школе, дома, во дворе… Некрасивую дочь богатого еврея не любили в школе, по отношению к которой отец щедро меценатствовал, то есть в немалой степени содержал. Меня не любили во дворе, хотя я не раз раздавала свои карманные деньги просто так, чтобы сделать приятное своим соседям-мальчишкам, у которых этих карманных денег не могло быть. Забирали, покупали на них сладости, а потом меня же и дразнили.
Все вокруг было против меня, я не нравилась миру, как ни старалась. Тогда я перестала стараться.
Но был театр, были другие жизни, в которых я была не я, кто-то иной. И я понимала этих иных, согласно воле автора не могла ничего исправить в их судьбах, но могла хотя бы показать другим их чувства, чаянья, их судьбы.
И оказалось, что «не в своей шкуре» гораздо легче. Если моих героинь не любили, то это ведь не меня! Если их обижали, то тоже не меня. Я рано разделила свой мир и мир представления, мир театра. Это помогло, в любимый мир лицедейства я сбегала из нелюбимого окружающего. Я жила в нем, а в обычную жизнь возвращалась просто по необходимости.
Не помню, как именно объясняла Андрею свои взаимоотношения с миром людей и миром театра, но он понял. Пока я говорила, смотрел и слушал очень внимательно, а потом покачал головой:
– Вы удивительная…
Ниночка, ты можешь представить, что я чувствовала после таких слов?
Кажется, принялась горячо благодарить его. Андрей изумился:
– За что?!
– Обычно смеются, Андрей Александрович.
Он смутился.
Я не помню, чем закончился разговор, но это было неважно. Я открыла душу и не получила порцию насмешек. Андрей подтвердил, что он лучший мужчина в мире.
До монастыря он меня проводил, заявив, что даже если я против, будет охранять сверток с пирожными. Я не была против, наоборот, мечтала, чтобы дорога оказалась в три раза длинней. Но когда замерзнешь или торопишься, до нас очень далеко, а когда рядом Андрей, монастырь бессовестно перемещается к центру!
На прощание он сообщил, что будет в Симферополе еще пару дней и пригласил к Маше на чай с пирожными.
Даже если бы он позвал дрова рубить, я побежала бы рысцой.
Ира, увидев богатство, которое я принесла (кроме пирожных, в свертке оказались кофе, чай и сахар), сначала ахнула, потом поинтересовалась, сколько на холоде могут храниться пирожные. Тата удивилась, зачем их хранить? Ответ был, что съесть все сразу, как те конфеты, жалко, удовольствие надо растягивать.
– Ешь, я еще принесу.
– У Фани поклонник буржуй, денег много, пусть угощает.
Сказать бы ей, что я еще и котлету съела… Но я не стала дразнить.
На следующий день я боялась в зал даже глаза скосить, понадобились немалые усилия, чтобы забыть, что там могут сидеть Андрей и полковник Краснокутский. Павла Леонтьевна тоже была занята в спектакле – она играла Ольгу, это замена, она все время твердила, что прошли времена Лизы Калитиной и чеховских сестер, пора играть Раневскую или Аркадину, мол, каждому возрасту свои роли. Это справедливо, но она все равно прекрасно играла Ольгу.
По окончании спектакля на сцену принесли большущую коробку с просьбой открыть при всех. Я уже знала, что там, догадалась и Павла Леонтьевна, она поинтересовалась:
– Андрей?
Я только кивнула. Но оказалось, что не он один. Когда занавес закрылся окончательно, на сцену пришли полковник Краснокутский, Андрей и еще два капитана. Я сделала все, чтобы не покраснеть. К счастью, Краснокутский первым подошел к моей руке (стояла ближе всех), поблагодарил, выразил восхищение и попросил представить их остальным актерам.
Я представила его и Андрея, капитаны назвали имена сами, я не запомнила, к сожалению. Николай Тимофеевич попросил принять пирожные к домашнему чаю и организовать стол прямо на сцене, поскольку сейчас принесут ужин из ресторана.
Полуголодным актерам предлагался ресторанный ужин! И возможность забрать домой по несколько пирожных, притом, что мы вообще забыли, что это такое. Актерская братия и в мирное время нищая, а тогда многие хлеба вдоволь не ели.
Рудин поспешно занялся организацией застолья, а Андрей попросил представить его Павле Леонтьевне. Поцеловал ей руку и сказал, что видел ее Лизу Калитину в Ростове, впечатлен настолько, что больше не может смотреть этот спектакль.
Пока они беседовали, А.К. подошла ко мне с вопросом. Указав глазами на Андрея и Краснокутского, поинтересовалась, который из них мой поклонник. Я гордо ответила, что оба!
Вечер удался на славу. За импровизированным столом Андрей пересадил меня на свое место, чтобы я оказалась между ним и Павлой Леонтьевной. Беседуя с ней, он невольно чуть склонялся ко мне. Я очень старалась не краснеть.
Потом разговор стал общим, вспомнили Шкаморду с ее халтурой. Ни Павла Леонтьевна, ни я в Москве не застали даже рассказов о ней. Но слышал такое имя Рудин, а наша старенькая И.Н., подрабатывавшая суфлершей (толку от нее не было никакого, но ни у кого не поворачивался язык отказать от места, знали, что умрет от голода), вспомнила. Графиня стала актрисой, а потом суфлершей еще в молодости по зову сердца, знала театральную Москву, со многими знаменитыми актерами и Петербурга тоже была накоротке, а вот теперь перебивалась с хлеба на воду в Симферополе.
Она принялась рассказывать о такой женщине-импресарио (Шкаморда – это фамилия!), в разговор включился Андрей, оказалось, что его двоюродная бабушка тоже упоминала такую даму. Вероятно, эта бабушка была большая театралка…
Когда-то в пост запрещалось давать спектакли. Это сильно подкашивало актеров, вынужденных и без того перебиваться с хлеба на воду. Не играть полтора месяца – это слишком, зимний сезон переживали с трудом. И тогда нашлась Шкаморда. Она рассудила, что играть запрещено спектакли, а сцены из них вовсе нет, и стала собирать на время поста актеров и вывозить их в провинцию. Читали монологи, исполняли известные арии, показывали сцены из любимых спектаклей. Сейчас это называется концертами, а тогда было в новинку.
А чтобы никто не обвинил актеров в участии в представлениях против правил, их фамилии писались особым образом – делились на части. Например, моя писалась бы как Р. А. Невская. Бывали П. О. Годин, З. А. Бельская, Н. Е. Клюдов. Если сокращать не получалось, ставили просто звездочки, и все понимали, кто за звездочками скрывается.
Так актеры подрабатывали. Потом это превратилось в вал и в настоящую халтуру.
И.Н. с Андреем утверждали, что Шкаморда отбирала актеров тщательно и никогда не позволяла работать вполсилы и неуважительно относиться к публике. Платила день в день столько, сколько обещано, никогда не давала в долг – только безвозмездно, но не больше трех раз, нуждающимся актерам помогала безо всяких просьб, даже если сама сидела без денег. А такое бывало, несмотря на огромный спрос на ее концерты. У нее не бывало пустых залов, но иногда после оплаты дороги, содержания и аренды театра, а также положенной оплаты артистам денег не оставалось совсем. Шкаморда могла голодать сама, но недоедать своим актерам не позволяла. Была ли она богата? Едва ли. Была ли честна? Безусловно! И добра. А еще прекрасно разбиралась в хорошем исполнении. Платила честно, условия создавала хорошие, потому с ней с удовольствием работали даже такие корифеи, как Собинов или Южин.
Андрей своими пересказами слов бабушки так очаровал И.Н., что она потребовала пересесть к себе и долго-долго беседовала с ним о прежней жизни. То и дело слышалось ее грассирующее «князь Анд’ей», графиня упорно не желала называть его подполковником. Мало того, обращалась к Андрею с бесконечными «а помните?» Он сидел теперь напротив меня и, внимательно слушая старушку, лукаво переглядывался. А.К. делала круглые глаза, изумляясь его вниманием ко мне. Я млела.
Андрей не просто самый красивый и умный мужчина в мире, он еще и «свой», знающий о театре много, причем, даже то, чего не знали мы сами!
Засиделись за полночь…
Потом нас провожали по домам. Андрей, конечно, нас с Павлой Леонтьевной. Шли медленно, хотя заметно похолодало, беседовали обо всем – довоенном Петербурге, театре, музыке и концертах… Я вспоминала, как в январе 1911 года у нас в Таганроге выступал Скрябин, а Париже мне удалось побывать на Дягилевских сезонах! Как я в детстве ненавидела оперу, потому что там, пронзая противника шпагой, поют, а потом выходят на поклоны живыми. Я даже требовала у мамы, чтобы меня повели в другую оперу, хорошую, где не поют.
Мое заключение, что драма куда лучше всех остальных искусств, заставила Павлу Леонтьевну и Андрея смеяться. Я чувствовала себя девчонкой, счастливой девчонкой.
Андрей напомнил, что завтра ждет меня у Маши, еще раз выразил восхищение нашей игрой и ушел, отказавшись от чая:
– Я все же на службе, дамы.
Глядя Андрею вслед, Павла Леонтьевна поинтересовалась:
– Ты спишь с ним?
Я ахнула:
– Нет!
– Женат?
Я ответила, что уже десять лет вдовец.
– Предложение делал?
– Какое предложение?! Он князь, а я еврейка.
В другое время Павла Леонтьевна непременно посмеялась над таким сравнением, но тут посоветовала, задумчиво покусав губу:
– Будет звать, соглашайся.
Я пробурчала что-то вроде «нужна я ему!» и отправилась в келью.
Но мысль о том, что, по мнению Павлы Леонтьевны, Андрей мог позвать меня замуж, грела. Она хорошо разбиралась в людях и если так сказала, значит, что-то заметила.
Не заметить наши особые отношения трудно, я не ребенок и прекрасно понимала, что Андрей не каждый вечер ухаживает за кем-то так, как за мной. Это словно и не ухаживания вовсе, он обращался по-дружески, с ним легко и просто, я даже перестала краснеть от каждого его слова и взгляда, стала почти самой собой, но разница-то никуда не девалась. То, что сейчас кажется нелепым, тогда таковым не казалось – он князь, а я актриса и еврейка. Это было очень серьезным препятствием ко всему, кроме разве постели. Роман с актрисой – пожалуйста, постель с еврейкой – почему нет? Но жениться?! О нет, тут Павла Леонтьевна демонстрировала полное незнание людей и правил жизни.
Мы словно на разных вершинах двух гор. И дело даже не в том, что вершины разные по высоте, чтобы подняться на соседнюю, нужно сначала спуститься в пропасть между ними (или рухнуть в нее). Можно бы, конечно, перелететь, но какой же крепости должны быть крылья, чтобы это сделать! И что он будет делать на моей вершине? А мне к нему не подняться…
На следующий день Ира поинтересовалась, когда я еще пойду к буржуям в гости.
По тому, как она разговаривала, я поняла, что Ира ничего не знает об Андрее из того, что знает теперь Павла Леонтьевна. И радовалась этому ее незнанию, не то от насмешек деться некуда.
Когда брат в прицеле пулемета. Кто нужен России?
Это страшно. Это так страшно, что страшней только отец или сын.
У русского человека (неважно, русский он или вообще еврей, достаточно родиться в России) самая большая беда – братоубийственная война.
Выражение родилось давным-давно, но продолжает существовать. Хуже ничего нет, когда брат на брата, друг против друга, свой против свояка.
В тот день я пришла в приподнятом настроении. У меня был готов рассказ в лицах о забавном приключении в театре.
Это действительно смешно. Для массовки в спектакль требовались «мужики», причем древнеримские. Раньше на сцене появлялись человек десять, теперь решили, что толпу вполне могут изобразить трое. Этих статистов всегда брали с улицы, многие за стопочку были готовы постоять на сцене, даже будучи обернутыми простыней.
Постепенно сложилась постоянная компания, которая прекрасно помнила всю мизансцену, их не требовалось даже перепроверять. Звали одного, тот скликал товарищей, сами надевали парики, сами оборачивались простынями-тогами и без напоминаний приветствовали императора.
Но из-за нехватки средств и из-за холода в театре количество желающих постоять за великое искусство сократилось до нуля. Пришлось позвать с улицы. Осложнялось все тем, что нельзя брать мужиков с окладистыми бородами или стриженных под горшок. С прической кое-как справились – парики натянули прямо поверх их собственных волос, все равно на сцене находиться недолго, и публике дальше второго ряда ничего не видно. Простыни, изображавшие тоги, тоже обернули поверх исподнего, старательно подоткнув все, что могло выползти.
Народ, в театре ни разу не бывавший, своей экипировке несказанно удивился, но согласился потерпеть на благо искусства.
И вот «толпа» из трех человек в простынях, основательно померзнув за кулисами в ожидании своего выхода, появилась на сцене. Они должны были приветствовать императора просто возгласами, но, решив устроить все по справедливости, один из «римлян» шагнул вперед, размашисто перекрестился и с низким поклоном париком правителю в ноги (свои собственные волосы при этом топорщились во все стороны) выдал:
– Приветствую, ваше благородие. Нам бы по стопочке, не то замерзли совсем в ентих балахонах.
Император прошипел:
– Пошли вон!
«Толпа римлян» не сразу поняла, а потому замерла. Хорошо, что актер оказался опытный, он вальяжно махнул рукой:
– Извольте, граждане, идти за кулисы. Я уже распорядился, водку выдадут.
Наконец, дошло и до заводилы, тот со словами «благодарствуйте, ваше благородие» нахлобучил парик обратно и обратился к товарищам по несчастью, мол, пошли, император сказал, что водку выдадут.
«Толпа» удалилась под истерический хохот первых рядов, понявших, в чем дело, и бешеные аплодисменты райка. И.К, игравший императора, повернулся к публике и развел руками:
– Народ везде одинаков, что в Симферополе, что в Риме. Водки и зрелищ давай.
Теперь взорвался аплодисментами весь зал.
Разве можно это не рассказать? Но я терпела, дожидаясь Андрея.
Андрей пришел поздно, был не просто хмур, а мрачен.
Он, когда раздумывал, часто стоял у окна, глядя в стекло, вернее, в пустоту. За окном у Маши двор, разглядывать там нечего – деревья облетели, серо, мокро…
Маша вопросительно посмотрела на Матвея, тот только пожал плечами, мол, не знаю в чем дело.
– Андрей, что случилось?
Он ответил на вопрос Маши не сразу, мы ждали. Было видно, что ему невыносимо горько отвечать. Наконец:
– Знаете, кто в командирах у большевиков? Никита.
Матвей воскликнул свое «что?!» так, словно услышал, что конец света через пять минут. Маша замерла у двери с чашками в руках. Я молчала, поскольку не знала, кто такой Никита.
Андрей сел за стол, он был бледен, видно, что рука болит. Покрутил карандаш, в сердцах отшвырнул, мрачно усмехнулся:
– Никита – командир Красной Рабоче-крестьянской Армии!
Матвей поинтересовался, уверен ли он, не может ли быть ошибки.
– Нет, не может! У пленного большевика документ с подписью моего брата. Я попробовал расспросить – все верно, это Никита.
Вот теперь ахнула и я – брат Андрея среди его врагов по ту сторону фронта?!
Маша как-то странно молчала. Первым это заметил Матвей, подозрительно поинтересовался:
– Ты знала?
– Догадывалась. Аня писала, что Никита пошел служить к большевикам еще в восемнадцатом.
– Князь Горчаков на службе у большевиков! Отец в гробу перевернется. – В голосе Андрея было столько горечи, что у меня сердце кровью облилось.
Как хотелось взять эту боль на себя, снять ее с души Андрея, помочь ему. Но чем я могла помочь? Да и кто мог? Кто вообще может помочь, если братья по разные стороны фронта?
К тому же я была чужой даже при этом апофеозе горя. Они трое снова стали единым целым, а я была лишней – аполитичная актриса, для которой война – это только когда стреляют.
Позже Маша рассказала о Никите.
Он брат Андрея по отцу. Александр Николаевич прижил Никиту от горничной, после чего супруги Горчаковы стали жить врозь. Но удивительней всего, что после смерти матери мальчика вскоре после родов княгиня Горчакова взяла ребенка к себе и вырастила его как своего сына. Объяснила просто, мол, мужу не прощу, но ребенок не виноват.
Мать Андрея вообще повела себя исключительно достойно, она не сказала дурного слова в адрес Александра Николаевича, не противилась встречам детей с отцом, согласилась, чтобы он признал Никиту, но сама больше никогда с мужем не виделась.
Маша отзывалась о Елене Константиновне в превосходнейших выражениях, говорила, что ее имя нужно писать большими буквами.
Они не развелись, но Елена Константиновна все разделила – отделила свое приданое (она была очень богата сама по себе) и стала вести дела твердой рукой. Только детей всех троих забрала себе. Три года они жили заграницей, не появляясь в России совсем. Только после смерти князя, похоронив его с подобающими почестями, Елена Константиновна осталась на лето в подмосковном имении. И с тех пор до самого четырнадцатого года они проводили там хотя бы месяц. Эти приезды Маша и вспоминала как лучшие дни юности.
Елена Константиновна вела дела очень успешно, состояние семьи росло. Причем, чувствуя приближение чего-то страшного, большинство счетов перевела за границу. Но и имения в России продолжали исправно приносить доход.
Дети разделились – дочь Елизавета вышла замуж в Швейцарии, а сыновья предпочли Россию.
Никита на десять лет младше Андрея, ходил за старшим братом хвостиком, в рот заглядывал, для него Андрей был высшим авторитетом. Он и военным стал по примеру старшего брата. На фронт пошел прямо из юнкерского училища безусым мальчишкой, попросился к старшему брату. Но Андрей никогда, ни разу не сделал младшему поблажки, напротив, даже под арест сажал. За что? А за содействие этим самым большевистским агитаторам.
Второе ранение Андрея вынудило его пролежать три месяца в госпитале, их пути разошлись, а потом и связь прервалась. И вот теперь…
Для Андрея присутствие брата по ту сторону оказалось страшным ударом, он жаловался:
– Теперь не смогу отдать приказ о стрельбе или атаке, будет казаться, что каждый залп предназначен Никите, что любая пуля обязательно попадет в него. И кто из нас Каин, а кто Авель?
Потом признался, что, размышляя о Никите, задумался и о том, что каждый с той стороны тоже чей-то брат, сын или отец. И каждый выстрел может убить своего, русского.
Я помню его внезапно осунувшееся лицо, сжатые в кулак пальцы, бессилие, сквозившее в словах. Андрей говорил, что ничего нет страшней вот этой войны – на уничтожение своих же. На фронте во время германской в окопах по ту сторону были враги, за что воевал, знал – за царя и Отечество. А теперь за что? Царя нет, сам от престола отрекся, а Отечество? Но ведь оно и для большевиков Отечество. На одной земле рождены, одним воздухом дышали, одну воду пили, одних соловьев слушали и жаворонков в небе выглядывали. Почему теперь против? За что воюют те, кто по ту сторону?
Я отвечала:
– За обновление.
– Какое обновление?! В чем оно? В разрушении? «… старый мир разрушим до основанья, а затем…»?
Я пыталась объяснить, что не всегда можно построить здание на старом фундаменте, чаще приходится рушить все до основания.
Он рассказывал: у Никиты было имение, доставшееся от отца. Очень неплохое, ухоженное, управляющий попался толковый и не вор. Имение разорили, управляющий чудом выжил, а семья его погибла. Добрался до Вены с одним глазом, которым без конца плакал, жалея о том, что сожгли и разрушили все, что создавалось трудом стольких людей.
– Хочешь отобрать – потребуй, но зачем же крушить, ломать, зачем жечь? Люди столько труда вложили. Нельзя, Фанни, рушить все до основания, есть то, что вне политики, что сохранить нужно обязательно.
Это я понимала, но объясняла издержками революции.
– А соседку-барыню сжечь в ее доме живьем, заколотив все двери, чтобы выбраться не могла, тоже издержки? Она в своих деревнях и храм, и больницу, и школу построила, и содержала за свой счет. Нашелся один обиженный дурак, которого за дело наказала, подпалил, остальные не его скрутили, а двери подпирали. За что?
Верно, нет ничего страшней русского бунта – бессмысленного и беспощадного. Безжалостного, неуемного… Поистине, «разрушим до основанья», Андрей был прав. Но, возможно, без этой боли нет обновления? Ведь рвать зуб больно, но если не рвать, и того больней будет.
Андрей снова задавался вопросом:
– Я не понимаю их целей, мотивов их поступков. Если бы понял, возможно, смирился. Помогать не смог бы никогда, но смирился и отошел в сторону. Но я не вижу смысла. А Никита увидел. Ведь почему-то же он пошел в Красную Армию, значит, увидел? Что он смог понять, чего не понимаем мы с тобой, Матвей?
– У него мать горничная, по-новому – «угнетенный класс».
– Его только родила горничная, а вырастила и воспитала княгиня Горчакова. Воспитала как князя Горчакова. Что понял один князь Горчаков и не видит другой? Мы же в одном доме жили, одни книги читали, в одном училище учились, одну присягу давали. Почему большевики сумели нас разделить?
Я видела, что для Андрея это самое страшное, и дело даже не в его брате Никите – Андрей не понимал происходившего и мучительно искал смысл.
Брат на брата и друг против друга. Взгляд в прицел, и все цели просты. Почему не научишь нас, Господи, Вместо стен возводить мосты?Ниночка, сейчас я смотрю на все другими глазами, я вижу эту трагедию настоящего русского совсем иначе, чем тогда. Я никогда не была революционеркой, не выступала ни за какие партии, Ж и против тоже. Я аполитична по природе, а трагедия двадцатого года научила меня вообще держаться в стороне от любых политик.
Но тогда я была восторженной девицей, с пафосом читающей «Буревестника», с восторгом стихи Маяковского, мечтающая непонятно о чем. Мне нечего было терять, от отца я ничего не ждала, а своего не имелось. У меня не было мужа и детей, родные покинули Россию без меня. Вокруг меня и у меня был только театр, а в театре эмоции совсем иные.
Кем бы я была без театра? Какой была?
У Павлы Леонтьевны тоже был один лишь театр, даже Ира мечтала стать режиссером. Мы жили в мире, далеком от реального.
А у Маши я встретила иной мир – там было что терять, и дело не только в подмосковных имениях, они теряли саму основу жизни.
Мне что белые, что красные, был бы театр, а им что? Эта трагедия не только Андрея или Матвея, трагедия очень многих. Скольких таких – честных, умных, образованных, но, главное, любящих Россию, – нельзя было ни уничтожать, ни вынуждать покинуть страну. Их ум и талант был использован другими либо загублен, а мог бы пригодиться России.
Тогда я этого не понимала, для меня революция была не разрушением, а обновлением, я верила, что грядет новый день. Революция представлялась грозой, после которой так чисто и так хорошо дышится. Мне не хотелось слышать ни о каких преступлениях, ни о крови, ни о разрушении. Да, разрушим, чтобы созидать, но создадим что-то великое и прекрасное. А в таком большом деле без жертв не обойтись.
Думаю, это была болезнь очень и очень многих не только аполитичных людей, но рьяных революционеров. Так подростки готовы разрушить все созданное их родителями всего лишь из протеста, желая создать свое, но не умея и не понимая как создавать.
– Последний оплот – Крым. А Крым мы не удержим. Не потому, что барон Врангель плох или французы с англичанами денег больше не дают. А потому, что тут только мы – офицеры, солдат тоже много, но их сегодня отпусти, завтра уже домой уйдут. Нас немало, но не все хотят в окопы и под пули. И даже если так, красных все равно во много раз больше. Матвей, понимаешь, там вся Россия. Здесь только маленький Крым, а там огромная страна, которой мы не нужны. Отечество, исторгнувшее нас из своего чрева. Мы выкидыши. Почему, за что? Я всю свою жизнь служил только России, хотел добра только ей и делал это добро. Я ничего не вывез из имений, готов был отдать все, кроме нательного креста и нижнего белья, если бы просто спросили. Но они предпочли выкинуть меня, как ненужную вещь. И Никита теперь с ними. Он присягу приносил, клятву давал. Отечеству служить клялся, но где оно теперь? Почему мой младший брат смог преступить эту клятву и поклясться другому Отечеству? Или оно одно и то же, но нас отторгает? Почему нам вдруг места не стало в этой новой ошалевшей России?
Вопросы, вопросы… Андрей задавал их не Матвею, хотя обращался к нему – задавал себе. И не получал ответа. Пытался понять, почему вдруг оказался не нужен своей стране, своей Родине.
Конечно, я не помню дословно все его тирады, но смысл был такой. Мы сидели, потрясенные его словами, силой его переживаний, не зная ни что ответить, ни как помочь. Да и как тут поможешь?
Матвей не выдержал установившейся тишины первым:
– Если Крым сдадут, то нам только в эмиграцию.
– Какая эмиграция? Я русский, я родился в России, люблю Петербург, но не меньше подмосковное имение, и Малороссию, и наши деревни под Тулой, и имение подле Архангельска тоже люблю. У меня кормилица русская баба была. Много времени провел за границей, да, но всегда возвращался и разве что не землю целовал даже мальчишкой. Я не смогу за границей. Мог, если б знал, что это ненадолго. Но, понимаешь, Матвей, они ведь навсегда. На наш век большевиков хватит. А мы России стали чужими. Чужими на своей собственной родине только потому, что мы князья, графы или бароны. Потому что мои предки не пропили свое состояние, не проиграли в карты, не спустили на любовниц, а приумножили. Никому не во вред, заметь. Но наши подмосковные мужики, живущие лучше многих других, просто за компанию с другими бунтовщиками разорили все имение. Теперь там ничего нет, и поля сорняками заросли, и пастбища загублены, и дом сожжен…
Маша поинтересовалась, откуда он знает. Андрей поморщился:
– Бондарь наш Трофим в плен попал, меня увидел, орал на весь полк: «Ваша светлость, спасите, прикажите, чтобы не расстреливали!». Спрашиваю его, зачем все разорили, теперь самим же восстанавливать. Он затылок чешет, мол, черт попутал. Этот черт в виде большевиков всю страну попутал.
Я не желала слышать о политике, не желала спорить, хотела только обновления, а еще лучше просто играть в театре.
Я не хотела вмешиваться в политику, но она сама вмешалась в мою жизнь. Те, кто пытался обновить нашу жизнь, оказались по другую сторону баррикад с человеком, в которого я влюбилась. Но пока Андрей с горечью рассуждал, я поняла, что он… прав! Обновление получалось каким-то слишком яростным и жестоким. В который раз за свою историю русские вместе с водой выплескивали и ребенка.
И мне уже не хотелось просто взять его боль в ладони, как в начале разговора, и унести с собой. Мне хотелось помочь ему понять, что же происходит, но для этого нужно понять самой. Я допускала, что он ошибается, не понимала еще в чем, но понимала, что это так. Что-то действительно было в революции такое, что в нее пошли не только Маяковский, готовый шуметь и бунтовать, было бы против чего, но и многие достойные люди совсем иных взглядов. Пошел князь Никита Александрович Горчаков, младший брат Андрея…
Мне очень захотелось разобраться и объяснить все любимому.
Спрашивать у Павлы Леонтьевны бесполезно, я знала, что она скажет: «Фанни, театр должен быть выше политики». Театр – да, а жизнь? Куда денешься от вопросов, которые задал Андрей? Я могла бы деться – просто забыть о них, и все. Но понимала, что не сделаю этого и теперь буду смотреть на происходящее глазами тех, кто видит в прицеле своего брата и вынужден решать, нажимать ли на курок.
Разговор получился очень трудным, вернее, говорил Андрей, а мы только слушали. Я поняла, почему у него, кроме смешинок в глазах, такая боль – он не представлял себя выброшенным из жизни Родины, которую так любил, но понимал, что уже выброшен.
Провожая меня, Андрей молчал и, только прощаясь, вдруг поинтересовался, не собираемся ли мы с Павлой Леонтьевной уезжать. Я пожала плечами: куда?
– Фанни… впрочем, потом… Я завтра на фронт, вернусь – поговорим.
Скажи он это в другой день, я бы до самого его возвращения думала, о чем Андрей намерен со мной говорить, придумывала немыслимые темы, дрожа от волнения, мечтала о несбыточном… Но после сегодняшней его тирады легкомысленные мечты отпали сразу, я была настроена на серьезный лад.
– Будьте осторожны, Андрей Александрович.
Я имела в виду его ранение.
– Знаете, кого первым убивают на передовой? Того, кто боится, или наоборот, не боится совсем. Я посередине, за шесть лет войны научился не кидаться в крайности. К тому же сейчас мне не доверяют идти в бой из-за ранения, я стал штабной крысой. Но это ненадолго.
Господи, знал бы он, как ненадолго!
Поздно вечером, записывая свои дневные впечатления при тусклом свете единственной свечки (и та принесена от Маши), я начирикала и во вторую тетрадку:
Как поделить все, не деля, Не отнимая и не руша? Как примириться, не любя, Не превращая в пепел душу?А правда, как? Теперь-то я знаю, что не получилось ни примирения, ни дележа, ни чистых, без пепла, душ. Но тогда казалось, что все возможно. Если каждый, как князь Горчаков, попробует разобраться, то решение обязательно найдется. Не могут же русские люди истреблять друг друга до последнего солдата и офицера? Барон Врангель и его Русская Армия сильна, она будет защищать Крым действительно до последней капли крови, значит, этой кровью окажется залит весь полуостров.
Почему Врангель не может просто договориться с большевиками о разделе территории? И чтоб не мешать после этого друг другу. Кто захочет уйти к красным – пусть уходит, кто пожелает остаться – будет жить в Крыму.
Я понимала, что буду в Крыму, там, где князь Андрей Горчаков. Даже без обновления…
Павла Леонтьевна заметила мое состояние, поинтересовалась, в чем дело.
И тут я совершенно неожиданно для себя спросила, кому теперь принадлежат имения, хозяева которых уехали, разоренные имения? Получила ответ, что народу. Но народу – значит, никому?
Павле Леонтьевне эти расспросы не понравились совсем, она, нахмурившись, заявила, что мои новые друзья очень плохо на меня влияют, я стала думать о чем угодно, только не о театре. Театр вне политики, театр над ней.
Довольно скоро нам пришлось убедиться, что это не так, но тогда казалось, что она права. К тому же умение подняться над суетой – очень хорошее умение. Иногда и подниматься не надо, чтобы не слиться с толпой, достаточно из нее просто выйти.
Все равно размышления, на которые натолкнула тирада Андрея, не давали покоя.
Ниночка, ты понимаешь, что задавать такие вопросы вслух не просто нельзя, но смертельно опасно. Во все последующие годы я могла одним-единственным вопросом или сомнением погубить не только себя, но и Павлу Леонтьевну, и Ирину, и даже Тату.
И сейчас могу погубить.
Но я знаю, что ты умница, какой бы говорливой ни выглядела, никогда не выдашь тайну, тем более чужую. Прошу только об одном: не сейчас, потом, когда я все закончу и отдам тебе, даже когда меня уже не будет на свете, не покажи это другим, пока наверняка не убедишься, что это для тебя безопасно. Не стоит геройствовать, если такое время, увы, не наступит и при твоей жизни, пусть записи дожидаются кого-то другого. Нельзя раньше времени, не только опасно, но и не поймут.
Б.К. и З. ныне герои, их именами улицы называют. Разве можно сказать, что они палачи или убийцы? Я еще о них расскажу, потому и прошу никому не показывать записи. Прочтешь, даже этот абзац вымарай самыми черными чернилами. Я не боюсь, но не хочу, чтобы из-за меня пострадали другие.
Отношения с Машей стали заметно прохладней. Конечно, это из-за Андрея. Мы были обе в него влюблены, но Маша считала, что я лезу не в свой огород. Я и сама прекрасно понимала, что Андрей мне не пара, но попробуй отказаться от встреч с тем, в кого по уши влюблена, если есть возможность встречаться.
Я потом не раз думала, почему Маша вообще не отказала мне от своего дома. Она могла дать понять, что я гостья нежеланная, или даже просто не привечать, я бы все поняла. Я понимала и без объяснений и намеков, но Маша приглашала, и я приходила.
Постепенно догадалась: для нее лучше, чтобы мы встречались при ней, под контролем. К тому же Андрей уже показал, что вполне способен разыскать меня в театре и даже повести в ресторан. Я не рассказывала о ресторане, думаю, он тоже. Я вообще с Машей больше не беседовала об Андрее, а она со мной.
Маша вела себя благородно, это у нее в крови, и, пользуясь этим, я чувствовала себя отвратительно, словно обманывала ее в чем-то. В чем? Я не скрывала, что мне нравится, очень нравится Андрей, не говорила об этом вслух, но и слепой по смущению в моем голосе понял бы, что это так.
Он не скрывал, что ему со мной интересно.
Наша подруга просто терпеливо ждала. Чего? Того, что он сам поймет, что я ему не пара? Того, что необразованная клоунесса перестанет забавлять князя? Того, что Андрей просто перестанет часто бывать в этом доме, если будет переведен в другое место? Или что вообще случится что-то страшное?
Или всего вместе?
Жизнь при генерале Врангеле не была в Симферополе легкой для большинства его жителей. Конечно, имевшие крупные счета в иностранных банках и получавшие доходы во франках, как Андрей, могли позволить себе угостить ужином половину театральной труппы или жить в «Бристоле». Кто-то ездил на машинах и носил меха, рестораны не пустовали, спекулянты привозили любые товары за баснословные деньги, дорогое вино лилось рекой, офицеры, которым завтра на фронт, спускали последние деньги, не надеясь вернуться. Пир во время чумы, не иначе.
Мне вспоминалась Москва. Первый раз я приехала сюда в тринадцатом году, но, не принятая ни в один театр (мне объяснили, что даже страстно желать играть на сцене и быть в состоянии делать это – не одно и тоже), была вынуждена вернуться домой. Окончательно уехала из дома в пятнадцатом. Оба раза Москва произвела на меня странное впечатление. Конечно, я больше интересовалась театрами, но показалось, что Москва гуляет, словно перед концом света. Так и вышло – в четырнадцатом началась война, которая все никак не заканчивался. Россия столько лет жила в кошмаре, что он стал почти нормой, к нему привыкли, и никто не ждал ничего хорошего. Это страшно – жить по принципу «хуже не будет, потому что некуда».
Но одно дело – ни на что не надеяться и спасать свои средства, увозя их за границу, и совсем иное – спешно бежать всем, кто может это сделать, или прожигать последнее, если уехать не можешь. Большинство именно прожигали. Прежде всего офицеры. Вино лилось рекой, благо в Симферополе свой завод Христофоровых, который раньше поставлял вино в Москву и Петербург. Теперь все это оставалось в Крыму, вернее, поступало из винных погребов на Феодосийской в магазины и рестораны Симферополя и Севастополя.
У Христофоровых было хорошее вино, их завод потом просто уничтожили, а новый возродили нескоро, и в Массандре, а не в Симферополе. До революции их вина стоили недешево, но в двадцатом хозяев уже не было в городе, кто-то распродавал запасы вина из погребов. Покупали их не те, кому не на что купить хлеб, но те, кто жил, как в последний день.
Это усиливало ощущение приближающейся катастрофы.
Газеты и прокламации твердили обратное, но это никого не только не убеждало, напротив, усиливало понимание, что конец скоро. О нем открыто говорили, мрачно шутили, делали вид, что ничего не боятся, даже твердили: пусть кто угодно, хоть красные, хоть зеленые, хоть синие в крапинку все равно хуже уже не будет. Хуже просто некуда.
Удивительно вот что: все были готовы к катастрофе, но когда она разразилась, не готов оказался никто. Разумные люди покинули и Симферополь, и Крым давным-давно, остались те, кому бежать некуда, кто бежать не мог и кто вопреки разуму верил во что-то лучшее. Мы относились ко вторым. Бежать? Но куда, если мы в России? За Севастополем только Черное море, а дальше чужбина. Мы даже не обсуждали возможность отъезда из России, куда же мы без нее? Но к третьим, не потеряв головы, мы не относились, не верили ни во что лучшее, несколько лет полного разлада отучили во что-то верить. Надеялись только пережить грядущие перемены и начать все сначала. Павла Леонтьевна твердила, что театр нужен любой власти, а хороший театр особенно. Вот пройдет эта гроза, небо снова станет голубым, а солнце ярким, мы выйдем на сцену с новыми спектаклями или даже с прежними, и театр оживет.
С театром было все понятно, он не умрет, а вот мы?
Главный вопрос, который стоял в Крыму перед всеми от генерала Врангеля до меня: что дальше?
И никто не знал на него ответа.
Этого ответа просто не было, потому что «дальше» для всех свое.
Летом мы были уверены, что Крым – только начало, вот расширит Русская Армия территорию, станет свободней, все как-то наладится. Нутром понимали, что ничего не наладится, но так хотелось верить.
Потом Красная Армия выбила Русскую с Юга России, пришлось отступить за Перекопские укрепления. Однажды Андрей вскользь сказал, что никаких укреплений там толком нет, и если красные начнут наступать, белым не удержаться.
Генерал Слащев обещал не только удержать красных на Перекопе, но и весной начать новое наступление. Андрей на его бравые заявления только морщился еще в начале осени.
Оставалось надеяться на помощь «генерала Мороза», он не раз выручал русских в трудные военные годы.
Вот только кому он поможет на сей раз, если русские и с той, и с другой стороны?
Природа в двадцатом году совсем сошла с ума, не только осень и зима пришли на месяц раньше срока, но и холода стояли такие, что передвигаться оставалось перебежками. Морозы в октябре доходили до пятнадцати градусов! Такое не каждый год в январе – феврале бывает.
Отопить театр не удавалось, скудные средства, выделенные городской управой на дрова на месяц, улетели в печные трубы за неделю, еще неделю Рудин изыскивал возможность топить самыми невероятными способами – мы собирали на улицах все, что могло гореть, переполовинили реквизит, безжалостно пожертвовав «лишними» деталями декораций, топили только в день спектакля и чуть-чуть… Но ничего не помогало, вернее, помогло простыть всем актерам.
Я, пережившая страшную зиму двадцатого года в Симферополе, по-особому сочувствовала тем, кто остался в блокадном Ленинграде. Я знаю, что такое голод и холод одновременно. Когда согреться невозможно ни в театре, ни дома, холод кажется куда более сильным, постепенно он пронизывает все существо, проникает внутрь и медленно убивает желание что-то делать, двигаться, жить. Это очень страшно.
В Симферополе дрова всегда были проблемой и стоили дорого, но теперь стали камнем преткновения. Но мы в таком кошмаре прожили всего одну зиму, а ленинградцы – почти три.
Можно было не репетировать, чтобы сэкономить на дровах и освещении, но не играть нельзя. Однако когда оказалось, что заболевших больше, чем здоровых, и зал тоже заполнен наполовину, Рудин решил взять перерыв, пока не решится вопрос с отоплением. Хоть на неделю.
Эта неделя изменила всю мою жизнь, даже если осталась для всех тайной за семью печатями.
Карета у церкви не стояла, гостей тоже не было… А свадьба была?
Ниночка, помнишь песню «Безумная»? Там есть строки «У церкви стояла карета: там пышная свадьба была…».
В детстве я мечтала о свадебной карете, обязательно белой, с белыми лошадьми и важным кучером. Только чтоб не крыса и не тыква, а настоящая.
Думаю, угоди я своему отцу, Гирша Хаимович приказал не только карету и лошадей, но и кучера выкрасить в белый цвет. Но поскольку я хорошей девочкой не была, обошлась без таких изысков, а учитывая продрогший Симферополь конца октября двадцатого года, так и безо всяких вообще.
Получив неожиданный отпуск на целую неделю, Павла Леонтьевна уехала из Симферополя к В. Была надежда разжиться там какими-нибудь продуктами, нельзя же рассчитывать на Андрея и Машу.
Тату и Ирочку взяла с собой, меня – нет. У Татьяны Николаевны, с которой они отправились, в нанятом экипаже не было лишнего места. От Таты польза есть, от меня никакой, а оставить на меня Иру и вовсе опасно.
Это недалеко, потому обещано вернуться через несколько дней. С меня взято слово, что проживу время их отсутствия тихо, ни во что не вмешиваясь. Но я не противилась, предпочтя вообще перебраться к Маше, чтобы не тратить дрова на обогрев нашей кельи. Павла Леонтьевна согласилась, что так безопасней и экономней.
Маша не выразила восторга от моего намерения пожить у нее, но в приюте не отказала.
В последнее время она не слишком меня жаловала, я понимала почему, но мы ни о чем таком не говорили. Наверное, дело в том, что Андрея не было в Симферополе уже почти две недели. Матвей приезжал из Севастополя и тут же отправлялся обратно, а Андрей не появлялся совсем.
Матвей не говорил ничего хорошего, был задумчив, даже мрачен. Зачем-то отпустил усы и даже бородку. Усы ладно, а вот бородка ему совсем не шла. Маша ругалась, но он не обращал внимания. И зачем это сделал, не объяснял. Я чувствовала, что не все так просто, но было не до Матвея, все мысли о Павле Леонтьевне, Ире и Тате, а еще больше об Андрее. Он на фронте, кто знает, что и как там? Однажды спросила Машу, та хмуро ответила, что не знает.
Конечно, она знала, не могла не интересоваться, но считала, что я лезу не в свое дело.
Маша пропадала в госпитале, ни в холодной келье, ни в нетопленом театре сидеть невозможно, потому я оставалась с Глафирой. Пока Маши не было, мы мыли и чистили все подряд, из меня хозяйка плохая, но я старалась, отрабатывая теплый ночлег.
Закончилось все тем, что Маша простыла, она слегла с температурой. Мы с Глафирой поили ее чаем с липовым медом, кормили малиновым вареньем и кутали в тысячу одеял, хотя печи натоплены жарко. Глаша вздыхала:
– Эх, вас бы в баньку да с веничком, барыня. А раз нет, так пропотейте.
В Симферополе заканчивался стылый октябрь. Сколько раз замечала, что природа чутко реагирует на поведение и чувства людей. В годы, когда идут войны и разруха, зимы куда жестче обычных, ветры дуют пронизывающие, а солнце совсем забывает, что должно хотя бы изредка не только светить, но и греть.
Крым – это море, горы и степь. А Симферополь даже без моря и почти без гор. Стоит подняться северному ветру, и он выдувает не только тепло из домов, но и людей из одежды.
Ветер снова дул со стороны херсонских степей, всем, кто на улице, хотелось одного – в тепло. Но я решила воспользоваться отсутствием Павлы Леонтьевны и сходить на кладбище на могилу недавно убитого Исаака Моисеевича Г. Я узнала о его гибели уже после похорон. Знакома с их семьей не очень близко, но еще из Таганрога, он бывал в нашем доме у отца. Циля сказала, что ее отца убили посреди улицы, за что – неизвестно.
Павла Леонтьевна ни за что не отпустила бы меня на еврейское кладбище, это опасно, Маша тоже сокрушенно покачала головой:
– Фанни, может, не стоит?
Я пообещала быть незаметной, сделать вид, что иду на православное кладбище, а в случае чего сказать, что заблудилась, и даже сыграть юродивую.
Еврейское кладбище тогда прилегало к православному, что в самом конце Пушкинской. Так получилось, что православных стали хоронить с одной стороны небольшой церкви Всех Святых, а иноверцев с другой – южной. Но если подойти к самой церкви, то оттуда можно незаметно проскользнуть к еврейским могилам. На это я и рассчитывала.
Как бы ни гневался барон Врангель, какие приказы не издавал, но евреи чувствовать себя спокойно, когда таковым не был весь город, не могли. Конечно, прежних погромов, во время которых приходилось попросту прятаться, больше не было (надолго ли?), но нелюбовь к евреям всегда витала в воздухе, стоит одному кинуть клич против жидов – остальные поддержат.
Надеяться я могла только на то, что одетая в нелепое пальто, в стоптанных туфлях и большом старом платке женская фигура не привлечет ничьего внимания. Бандиты тоже предпочитают тех, у кого что-то можно взять. Просто так приставать к тетке, каковой я выглядела, никто не станет, на улице слишком стыло, ветрено и пасмурно даже для желающих поживиться чужим добром, все сидят по домам.
Маша, выслушав такие мои доводы, только вздохнула:
– Дай-то бог тебе никого не встретить.
Несмотря на ледяной, пронизывающий до костей ветер, я действительно ходила в стоптанных туфлях, подметки которых держались на месте только из жалости ко мне, шляпку заменял грубый платок, а рукава большого с чужого плеча пальто хоть и позволяли засунуть в них руки, как в муфту, но из-за своей ширины не спасали от холода.
И снова память услужливо словно разворачивает страницу за страницей, только успевай читать и записывать. Не помню, чтобы я это записывала тогда, нет, было что-то дико зашифрованное – одни первые буквы слов. И все равно хранить страшно.
А сейчас вот помню и без шифрованных записей.
Машина квартира от Пушкинской недалеко, но пока до угла добежала, околела не на шутку. А сколько еще до кладбища!.. Мелькнула малодушная мысль вернуться, мол, одеться потеплей не мешает, не то можно простыть и голос сорвать, а мне спектакли пропускать никак нельзя…
Эту мысль я немедленно отогнала сразу по нескольким причинам: во-первых, ничего теплей у меня все равно не имелось. Еще одни носки, даже если я сниму их с ног у больной Маши, приведут к тому, что туфли развалятся окончательно. Во-вторых, спектакли уже три дня как отменены ввиду того, что топить в театре нечем и половина артистов простужены. Но главное – я не могла предать Исаака Моисеевича, который за свою жизнь не сделал никому ничего дурного. Циля не знала, за что и как его убили, скорее всего, не хотел отдать раздобытый им литр масла. Эту бутылку он защищал до последнего вдоха, осколки валялись вокруг, а в руке было зажато горлышко разбитой емкости. Конечно, на его месте мог оказаться любой другой, но легче от этого понимания не становилось.
У Исаака Моисеевича не было сына, а читать каддиш яттом его пугливая дочь Циля не стала бы даже шепотом за плотно закрытыми дверьми и окнами. Я решила сделать это у его могилы, Всевышний услышит. Конечно, из меня чтица никудышная, но поминальную молитву я выучила, когда ее читал мой отец в память дедушки.
Я старалась идти быстро, но так, чтобы не привлекать внимания, того, кто бежит, обычно догоняют.
Середина дня, но пасмурно настолько, что кажется – уже сумерки. Фонарей не зажигали даже на Екатерининской, экономия во всем, а вот в больших окнах свет и музыка. Каждый жил как мог. Я не завидовала всем этим разряженным женщинам, веселым, хмельным мужчинам, всем, кому не приходилось старательно обходить лужи, чтобы не промокли ноги, кто не мерз, не мучился от голода. Не завидовать учила Павла Леонтьевна:
– Зато у них нет твоего таланта.
Поворачивая на Пушкинскую, поймала свое отражение в окне красивого углового дома, шаги пришлось ускорить, поскольку увиденное оптимизма не прибавляло. Подумалось: хорошо, что с Андреем в теплое время познакомились, к такой, как я, сейчас он не подошел бы.
Но уж эту мысль я вообще прогнала, едва та успела робко выползти из закоулков. Мы с ним из разных миров, хотя и у него не легче – война, опасность, кровь, смерть… Вспомнив о смерти, разозлилась сама на себя за эти глупости.
Симферополь жил обычной жизнью, разве только из-за пронизывающего ветра людей на улицах даже днем мало. На Пушкинской призывно окликнул извозчик:
– Поехали, барышня?
Я махнула рукой:
– Мне рядом.
Знал бы он, что у меня нет денег даже на хлеб, не только на извозчика. Вся надежда на Павлу Леонтьевну, которая хоть что-то привезет от В. А вот что с обувью делать?
Чтобы не вспоминать о еде и об Андрее Горчакове (особенно о нем), я стала придумывать выходы из положения. Их оказалось немного, честно говоря, всего один – решила подойти к Павлу Анатольевичу Рудину и честно признаться, что у меня нет обуви, может, позволит взять что-то из реквизита, а я весной куплю и верну. Надежда была слабая, я не из тех, кто очень нужен театру, хоть Рудин и добрый человек, но если он станет раздавать обувь всем нуждающимся актерам, на самой сцене придется играть босыми.
Нет, нужно что-то изобрести самой. Маша дала бы мне свои туфли, но у нее ножка, как у Павлы Леонтьевны, а у меня – как у солдата. Где-то надо раздобыть мужские ботинки, только где?
Память услужливо подсунула картинку: мародеры снимают обувь с убитого посреди улицы человека. Пока подъехала полиция, труп успели разуть и раздеть едва не догола.
Или как стащили сапоги с большевиков, которых по приказу Кутепова развешали на фонарях по всей Екатерининской.
Чтобы прогнать эти ужасы, принялась думать о намерении Рудина поставить «Дядю Ваню», он обещал дать мне роль Войницкой. А еще Маши в «Чайке», а еще… Павел Анатольевич поверил в меня, это значило, что я трагическая актриса, чтобы там ни говорил Андрей Горчаков!
Мысли упорно возвращались к красавцу подполковнику. Андрей не появлялся в Машиной квартире уже больше десяти дней, означало ли это, что с ним что-то случилось на фронте? Или он в Севастополе в ставке? А может, Андрей вообще уже в Вене или в Женеве со своими родными? Что ему делать в ледяном голодном Крыму? Как Матвей сказал? Жить в России нам становится невозможно, остается только эмиграция.
Мой отец решил так же и увез всех, кроме меня, куда-то далеко…
Но Маша не настолько жестока, чтобы не сообщить об этом. К тому же они с Матвеем не могли уехать, оставив Машу одну в стылом Симферополе. Она здесь только потому, что Матвей и Андрей здесь, скорее даже из-за Андрея.
Как я ее понимала! Если бы Павла Леонтьевна вдруг решила куда-то уехать не на неделю, а насовсем, я приложила все силы, чтобы убедить ее остаться или нашла способ задержаться, пока Андрей бывает в Симферополе хоть наездами. Вот уедет совсем, тогда… И было страшно при мысли, что уедет.
Я понимала, что это же держит и Машу, мы были подругами по несчастью (или счастью). Ни я ее, ни она меня соперницей не считали, но каждая по-своему. Маша полагала, что я не более чем каприз князя Горчакова, я считала себя ему не парой, но только не капризом. Наши беседы, то, как он смотрел в глаза, как смеялся, как поддевал меня, вынуждая спорить, словно моя строптивость ему нравилась, как просто брал за руку… – женщина всегда чувствует, если нравится мужчине. Особенно если влюблена в этого мужчину по уши.
Я не ребенок, мечтала стать его любовницей хоть на день, хоть на час. Думаю, Маша тоже.
Но мы обе знали, что в вопросах чести князь Андрей Александрович Горчаков очень щепетилен, он не станет делать этого, поскольку уважает нас обеих. Конечно, он пользовался услугами определенных дам, как это делают все состоятельные холостяки или вдовцы, но это всего лишь требование тела, но не души.
Кажется, мы обе были готовы буквально предложить ему себя, но обе прекрасно понимали, что на этом предложении любые отношения с Андреем будут закончены мгновенно и навсегда. Есть такая порода мужчин – они никогда не воспользуются влюбленностью в них женщины.
И вот в этом мы с Машей точно были подругами – у обеих не было ни малейшей надежды заполучить Андрея хоть на минуту. Но даже здесь я чувствовала разницу – Маша все же могла надеяться когда-нибудь стать его женой, а я нет. Моя любовь безнадежна, а потому особенно сильна.
Я не могла ни репетировать, ни даже играть, боясь однажды произнести его имя вместо положенного по роли. Все мысли об Андрее, о том, почему он не приезжает в Симферополь, не случилось ли чего-то. Я была рада холодам и нетопленому театру, тому, что спектакли на неделю отменили.
Я влюблялась не раз, но любила лишь однажды. Ты должна меня понять – это совсем разные чувства. Влюбляться можно хоть в каждого достойного мужчину, но любить можно только единственного. Для меня это Андрей.
Я честно пыталась перебить мысли о нем другими, злободневными и важными, но упорно возвращалась к нему. Я и к Маше переехала, чтобы хоть нечаянно услышать имя Андрея, увидеть его фотографию, просто чтобы не реветь в голос, что непременно делала бы, оставшись в монастыре одна.
Но Маша разговоров об Андрее старательно избегала, никаких фотографий не показывала, воспоминаниями не занималась. Мало того, она болела и лежала в постели под горой одеял. Думать приходилось в одиночку, зато присутствие подруги сдерживало меня от проявления бушующих внутри эмоций.
Так, размышляя то об отсутствии обуви и перспективы ее раздобыть, то о предстоящих театральных работах, то о Горчакове, добралась до церкви Всех Святых на кладбище. Там, как обычно, народ – кто-то умер, и нужно похоронить, кого-то пришли помянуть на могиле, по кому-то заказать панихиду. Детей в Симферополе рождалось мало, а вот умирало много, и взрослых тоже. Если население и прибавлялось, то только за счет стремившихся в Крым в последней надежде найти спокойное пристанище хоть ненадолго.
Стараясь не привлекать внимания, я скользнула мимо нахохлившихся на ветру у храма старушек к еврейскому кладбищу. Вот где пусто, хотя новых могил немало. Деревья, даже по-осеннему голые, без листьев, надежно скрывали эти могилы от людей у церкви. Я не сразу нашла скромную (новые все такие, родственникам не до гранитных монументов, самим бы выжить) могилу Исаака Моисеевича. Честно, стараясь не торопиться, прочитала каддиш, сама себе кивая при окончаниях «амен», немного поразмышляла о бренности нашего существования и направилась к выходу. Слишком холодно, чтобы философствовать на кладбище.
Стараясь держаться за деревьями, я подошла почти к самому выходу, но остановилась, заметив две могилы рядом с одной датой смерти. Девушки шестнадцати и семнадцати лет. Что могло с ними произойти? Вспомнилась летняя заметка в газете: изнасилованы и убиты…
Что творится с этим миром, в какую бездну он катится, если можно расправиться с юными девушками только за то, что они еврейки? Чем они кому-то мешали своей национальностью?
И вдруг:
– Фанни!
Я в изумлении обернулась на голос. Ко мне приближался тот, мысли о ком не давали ни спать, ни репетировать. Кажется, я чуть не ляпнула о Вене или Женеве, но вовремя прикусила язык, поскольку вид у моего кумира был весьма сердитый.
И все-таки успела поинтересоваться:
– Андрей Александрович? Что вы здесь делаете?
Он схватил меня за локоть и буквально потащил к храму, шипя по дороге:
– Это что ВЫ здесь делаете?!
Таким разъяренным я Андрея не видела, даже на большевиков он рычал мягче. Попыталась оправдаться, мол, навестила могилу знакомого, его убили не так давно.
– И вы не придумали ничего лучше, как прийти на еврейское кладбище сейчас, черт вас подери?!
Я обомлела. Оказывается, ругаться могла не только Маша, но и Андрей.
А он посадил меня на лавочку возле церкви, присел рядом, несколько мгновений молчал, справляясь со своим гневом.
Хорошо, что продрогшие старушки куда-то делись, видно, зашли внутрь храма, где начиналась какая-то служба.
Я гадала, что могло вызвать столь сильный всплеск раздражения. Хотелось спросить, откуда он вообще здесь взялся и как нашел меня. Но второй вопрос я немедленно отмела – не нашел, а просто заметил со стороны, видно, пришел в храм кого-то помянуть. Вспомнила, что меня не было видно ни от входа, ни от русского кладбища. Значит, все-таки искал? Но эту мысль я придушила и вовсе с каким-то мазохистским удовольствием.
– Простите, я был невежлив.
Я попыталась выяснить, что его так рассердило. Андрей повернулся ко мне всем корпусом, внимательно посмотрел в лицо и заговорил так, как разговаривают с глупым ребенком:
– Вы полагаете, что если сумасшедший Востоков перестал призывать с амвона уничтожать жидов, то убийства прекратились? Вы не слышали о том, что они продолжаются?
Я только кивнула, конечно, слышала, но если бояться всего, то жизнь станет невыносимой. Осторожно вести себя нужно, и я осторожна. Но Андрей так не считал.
– И вы пришли проведать могилу, прекрасно понимая, что, попадись на глаза хоть одному антисемиту, сможете оказаться в соседней? Или надеетесь, что сначала спросят документы и решат, что вы – ожившая чеховская героиня?
– Но я… кому я нужна? Что у меня взять?
Андрей хмыкнул:
– Рассчитываете, что из-за бедности одежды не обратят внимания? На улице возможно, но только не на еврейском кладбище.
Слова о бедности одежды задели, я вскинула подбородок:
– Это не игра в бедность, у меня нет другой одежды.
Я замерзла, очень замерзла, еще чуть, и начали бы стучать зубы. Очень не хотелось, чтобы он это заметил, потому я лихорадочно придумывала повод, чтобы поскорей сбежать. Надо же, как неудачно встретились.
Повод нашелся:
– Ой, простите, меня извозчик ждет. Обещала быстро…
Он досадливо поморщился:
– Никакой извозчик вас не ждет. Будь у вас деньги на извозчика, купили бы новые туфли. Спрашивал же, какая помощь нужна. Пойдемте хотя бы в сторожку, там можно согреться, вы совсем замерзли. У меня новости, очень плохие.
Сторож пустил нас внутрь, а сам ушел посмотреть чье-то венчание. Как нелепо венчаться в церкви на кладбище, да еще и в такой ненастный серый день!
В сторожке холодно, но хотя бы не было пронизывающего ветра. Я стояла, прижавшись к едва теплой печке, и слушала Андрея. Он говорил о том, что большевики наступают, что Русская Армия их не удержит, что немного погодя красные будут в городе. Вот тогда начнутся настоящие резня и погромы. Я чуть не сказала, что уже жила при красных. И при немцах тоже жила. И при белых живу. И лично в моем положении разницы незаметно.
И вообще вовсе не такие речи мне хотелось бы от него услышать. Но я понимала, что Андрей, узнав плохие новости, разыскал меня, чтобы предупредить, и была за это благодарна.
А он принялся убеждать меня, что нужно уезжать, сказал, что завтра рано утром увозит документы в Севастополь, мне тоже нужно ехать, оставаться опасно. Пришлось объяснить, что ехать мне некуда, я понятия не имею, где мои родные, и делать ничего другого, кроме как играть на сцене, не умею.
Андрей снова крепко взял меня за локоть:
– Вы должны ехать со мной.
– В качестве кого, Андрей Александрович? Горничной? Поварихи? Я не умею готовить, и вообще руки не оттуда растут.
С трудом сдерживаемые слезы все же выступили на глазах, хорошо хоть, не брызнули во все стороны. А в его глазах появилось что-то такое… насмешливое.
Я не сдавалась:
– А если кто-то узнает, что ваша прислуга – еврейка?
– В качестве моей жены, Фанни.
Я замерла, не в силах не только произнести следующее слово, но и вообще вдохнуть. Это уже удар в самый поддых. Взять себя в руки стоило огромных усилий и пары секунд растерянности, зато усмешка вышла после этого великолепная и донельзя пошлая, даже самой противно:
– И документик выпишете?
Он рассмеялся:
– И документ будет.
На меня накатило что-то такое, чему даже ледяной ветер не помеха, могла пешком не только домой, но и в Москву отправиться, лишь бы подальше от дурацкого положения, в котором оказалась. От горечи горло свело, ком внутри такой встал, что проглотила с третьей попытки.
– Спасибо, Андрей Александрович, что спасаете еврейку, но не надо таких жертв.
Горечью, которая прозвучала в моих словах, можно бы отравить все Черное море.
Я понимала, что это последние слова, что сейчас повернусь и уйду, а как только скроюсь с его глаз – сяду прямо на стылую землю и наревусь вдоволь. Выплачу-выреву сразу все: свою несчастную неустроенную судьбу, трагическую любовь, проклятый передел мира, войну всех со всеми… И даже то, что мне больше удаются комедийные роли, нежели трагические, тоже выплачу.
Не желая, чтобы Андрей увидел мои готовые выплеснуться потоками слезы, я выскочила из сторожки на ледяной ветер, только подчеркнувший мое отчаянье. Он догнал, взял мои замерзшие руки в свои, согрел дыханием.
– Фанни, понимаю, что не место и не время, но другого просто нет. Ты выйдешь за меня замуж?
– Я еврейка.
– Это все, что ты можешь ответить?
Я вскинула полные слез глаза и просто утонула в его зовущем взгляде.
– А если забыть, что ты еврейка, не умеющая даже картошку почистить, а я русский офицер? Забыть про большевиков и все остальное? Ты выйдешь за меня замуж?
Не в силах произнести хоть слово, я кивнула.
– Наконец-то! Я уж опасался, что тебя придется тащить отсюда, перекинув через плечо.
Сцена похожа на роман, да? Нина, я просто попыталась вспомнить и передать мое состояние, отчаянье, нахлынувшую тоску, боль, а потом вдруг такое!..
Я не знаю, как должны признаваться в любви или делать предложение, особенно в такое время (и на кладбище), наверное, как-то иначе, но Андрей прав: другого времени у нас не было, так сложилась жизнь, что не осталось. Потом он сказал, что родным сообщил о своем намерении сделать предложение любимой женщине. Они ответили телеграммой, что примут всей душой. В этом я сомневалась, ведь они не знали, что я еврейка и актриса.
Тогда главным было его признание, если он сообщил обо мне родным, значит, это предложение не спонтанное, не жалость, не желание спасти несчастную актрису-еврейку?
Потом была городская управа и изумленный уставший секретарь, готовый сделать запись о нашем браке в толстенную красную книгу. Почему-то запомнилось, что книга исписана всего на треть, а еще – что в качестве закладки у секретаря павлинье перо.
Я стала княгиней Фаиной Горчаковой.
Смешно звучит?
Мне было все равно, я двигалась словно во сне, ведомая сильными, бережными руками Андрея. Он повел меня еще к одному секретарю, где был выписан заграничный паспорт на мое имя. Окружающие, видно, знавшие Андрея, посматривали на меня с любопытством, впрочем, тут же сменяемым равнодушием. Им все равно, они уже к чему-то готовились. Теперь я понимаю, что к эвакуации, вернее, бегству. Большинство, стараясь не привлекать внимания, пересматривали документы, раскладывали их в разные стопки, что-то даже рвали. Вероятно, они знали то, о чем говорил Андрей: город будет сдан, и нужно срочно уезжать. Население никто в известность пока не ставил.
Но еще до управы была церковь. Та самая – Всех Святых на кладбище, православная.
Андрей попросил набросить на волосы платок, повел внутрь, купив свечки и для меня серебряный крестик. Вложил крестик мне в ладонь и закрыл ее.
В церкви действительно шло венчание. Пока Андрей зажигал свою свечу, а потом от нее мою, я осторожно огляделась. Гостей совсем немного, видно только ближайшие родственники, а еще те самые старушки, что стояли продрогшей кучкой у храма, когда я только пришла.
Кто-то покосился на меня, едва ли их интересовала я сама, скорее красавец-подполковник, что держал мою руку.
– Венчается раба божия…
Андрей тихо произнес над моим ухом:
– …Фаина…
– … рабу божию…
– …Андрею…
Он просто подставлял в речь священника наши имена. Я прекрасно понимала, что это несерьезно, но меня тронуло желание Андрея хоть так обставить все.
Когда новобрачных увели к алтарю, Андрей потянул меня наружу.
– Фанни, я все это серьезно. Я хочу обвенчаться с тобой, когда будешь готова. Но ты моя жена перед людьми и Богом. Крестик останется у меня, когда скажешь, я отведу тебя к священнику, чтобы крестил. Если не захочешь креститься, так тому и быть, я не неволю. Пойдем, госпожа Горчакова, а то ты совсем замерзла. Поехали выписывать документик.
Мне стало просто стыдно из-за своего ерничества, ведь Андрей отнесся ко всему очень серьезно. Я молчала. Он расценил это по-своему:
– Я не стану тебя торопить, когда будешь готова, тогда и крестишься.
Я была совершенно растеряна, пыталась разобраться, что чувствую, и не могла. В такое время никакой свадьбы быть не может, но и то, что произошло, слишком неожиданно и непонятно. Но главное – я никак не могла поверить в исполнение своей самой заветной (кроме театра) мечты. Так не бывает, чтобы раз – и исполнилось! Даже у Золушки было время всего до полуночи. Пугало предчувствие, что моя полночь стремительно приближается.
Андрея мое молчание насторожило.
– Дорогая супруга, не соблаговолите ли сказать, как ко всему относитесь? А то я тебя, как тать в ночи, похитил и к алтарю повел. Фанни, не молчи!
– Я не знаю, что сказать…
– Хотя бы скажи, что ты не против.
– Андрей Александрович…
– А нельзя просто Андрей? Фанни, если бы у нас была возможность собрать друзей и сыграть настоящую свадьбу, я непременно бы сделал это. И мы обязательно сыграем свадьбу в Вене у моих родных, а потом найдем твоих.
– И твоя мама согласится, что я еврейка?
– Она согласна с тем, чтобы я взял в жены любимую женщину.
Я стала женой Андрея. Свершилось то, о чем я даже мечтать себе не позволяла, но, честное слово, я не понимала, как к этому относиться. Даже получив заграничный паспорт на имя Фаины Георгиевны Горчаковой, я не поверила в реальность происходящего, ущипнула себя за руку, чтобы проснуться. Больно было, но ничего не изменилось.
Мой внимательный муж это заметил, рассмеялся на ухо:
– Это не сон, хотя я тоже не вполне верю. Два месяца мечтал повести тебя к алтарю.
Я обомлела, мы познакомились два месяца назад, значит, он выбрал меня уже тогда?! Боже мой, Павла Леонтьевна все поняла правильно, но где же были мои глаза?!
Мы приехали в «Бристоль», Андрей зарегистрировал меня в своем номере под именем своей жены, заказал ужин в номер, но есть со мной не стал, попросил покушать без него, мол, ему нужно срочно на вокзал встречать поезд из Джанкоя, вернется поздно. Попросил располагаться как дома, ложиться спать, его не дожидаясь.
– Фанни, только умоляю: не сбегай! Ты так странно молчишь, что я боюсь.
Я обещала никуда не деться.
И тут Андрей впервые меня поцеловал.
Конечно, я мечтала об этом. Странно было бы мечтать о мужчине и не представлять себя в его объятьях. Я не ребенок, бывала влюблена и с мужскими объятьями знакома, но меня до сих пор пробирает дрожь, как вспомню его руки, его губы. Андрей целовал меня как свою женщину! Женщину, которой он добивался и, наконец, получил.
Я ответила на поцелуй.
Мы едва не оказались в постели, он опомнился:
– Фанни, прости, я опоздаю. Не жди меня, поешь и ложись спать. Вернусь – разбужу!
Он ушел, с трудом оторвавшись от моих губ, а я некоторое время сидела, оглушенная, не в силах понять, что произошло и что со мной творится.
Кушать не хотелось, а вот вымыться не мешало бы. Вернется же Андрей, хоть поздно, но вернется?
В «Бристоле» мраморные ванны, это впечатляло. Вода горячая, мыло пахучее, полотенца пушистые, а банные халаты уютные. Это была давно забытая роскошь дорогого отеля. Когда мы путешествовали всей семьей, отец всегда брал дорогие отели, объясняя это тем, что пребывание на лучшем курорте может быть испорчено из-за влажных простыней или насекомых в кровати. Пусть не мраморная, но ванна в номере у нас с сестрой непременно была (у родителей тем более), как и пушистые полотенца, и уютные халаты.
Я не стала пить шампанское, только надкусила шоколад и забралась с ногами в кресло, кутаясь в халат. Мне требовалось немного подумать.
Передо мной на столе лежал паспорт, в котором было написано, что я княгиня Горчакова. В управе имелась толстая красная книга, подтверждающая, что князь Горчаков и мещанка Раневская заключили брак и отныне носят общую фамилию Горчаковы. Но это все не столь важно, главное – Андрей разыскал меня там, куда и ходить-то не слишком приятно, сделал предложение и в одночасье женился на мне! О таком я не могла мечтать даже в бреду! Ни в каких снах я не становилась Горчаковой, больше как на поцелуи не замахивалась.
Действительность не просто превзошла все мои ожидания, она была какой-то слишком сказочной, чтобы иметь право действительностью именоваться.
Срочно требовалось осмыслить все сказанное и сделанное за этот день, вернее, вторую его половину. Но думать серьезно о документах, даже о столь срочном замужестве не получалось. Мысли возвращались только к тому, что я жду человека, о котором мечтала с первой минуты знакомства, жду в его номере в качестве его законной супруги, а он сказал, что столько же мечтал повести меня к алтарю.
И все остальное было уже неважно. Плевать на чье-то недовольство или зависть, Андрей выбрал меня, и я его женщина!
В радужных мечтах о любимом мужчине я задремала все так же в кресле.
Проснулась от его взгляда. Андрей стоял на коленях перед креслом и внимательно смотрел на меня. Кажется, я даже испугалась:
– Что?!
Он с улыбкой поднял меня на ноги, притянул к себе:
– Ничего. Иди ко мне.
Любая жизнь за пределами комнаты перестала существовать! Все, кроме его объятий, было уже неважно. Даже если бы мне сказали, что за эту ночь утром меня ждет повешение, я бы согласилась. Откуда мне было знать, что почти так и случится? Но меня обнимали руки любимого, моих губ касались его губы, я прижималась к его телу.
Нина, я влюбчивая, ты меня знаешь. Я живая женщина и имею достаточно любовного опыта. Дружу с таким охальником как С.Э., знала мужчин. Но никогда за двадцать восемь прошедших лет ни разу я не сравнила никого с Андреем! Никогда!
Все прошедшие просто мужчины – умней, глупей, опытней, беспомощней, стеснительней или бесстыдней… неважно. Андрей не просто отдельно, выше или в стороне, он из другой жизни. Они все физиология, он – любовь. Настоящая, та, которая раз в жизни у одного из миллиона, которую нельзя ни с чем сравнивать, потому что сравнить не с чем.
Андрей лучше всех в мире уже просто потому, что я его любила по-настоящему.
Волшебная ночь закончилась. Было той ночи всего часа три.
Андрей разбудил меня рано, сказав, что пора. Я не понимала, что именно пора, но спрашивать не стала. Оделась, наспех умылась и причесалась.
Он долго держал меня в объятьях, целуя, гладя волосы, просто стоял, прижавшись щекой к виску. О чем Андрей размышлял тогда? Мне было все равно, мир за пределами этой комнаты перестал существовать еще ночью, и мне было безразлично, возродился ли. Для меня были только эти руки, эти губы, запах его волос, мягкость кожи.
Утренний Симферополь был пуст, но замерзший извозчик дежурил подле «Бристоля». Андрей посадил меня и о чем-то договаривался с извозчиком, я решила, что он хочет отправить меня домой одну, но все еще была в состоянии, похожем на сон. Но мы поехали вместе и почему-то к Машиному дому, который от «Бристоля» в двух шагах, при желании можно дворами пройти.
Я подумала, что в такую рань Маша еще спит, кроме того, появляться там с Андреем было стыдно, Маша сразу все поймет.
Конечно, Маша спала, и ее Глафира тоже спала. Прислуга долго не могла взять в толк, почему должна открыть дверь немедленно, пока Андрей не прикрикнул. Хозяйка квартиры выбежала в прихожую полуодетой, остановилась, с ужасом глядя на нас.
– Маша, мы с Фанни поженились.
– Что?!
Андрей повторил, что теперь я его жена. Сказал, что барон Врангель сегодня объявит эвакуацию, что это очень серьезно, что сам он обязан сопровождать в Севастополь документы, которые сейчас прибудут из Джанкоя, потому через десять минут уйдет на вокзал и уедет. А мы обязаны ехать дневным поездом. Опоздать нельзя, едва ли будет еще состав из Симферополя.
Андрею пришлось повторить нам дважды, чтобы мы, наконец, поняли: последний пассажирский состав в Симферополь отправится сегодня днем, мы обязаны успеть на него и в Севастополе прийти по адресу, который он оставляет. Если вдруг адрес потеряем, нужно идти в штаб или во французскую миссию, он предупредит. Задержаться нельзя, мы обязаны быть в Севастополе завтра. Документы есть у обеих, говорить по-французски можем.
Он инструктировал нас четко, словно отдавал команды.
Маша слушала, в ужасе раскрыв глаза и прижав пальцы к губам.
– Андрей, это эмиграция?!
Он жестко ответил:
– Да.
– Куда?
– Пока в Турцию.
И тут прорвало меня. Я не помню, что именно кричала, намертво вцепившись в его шинель. Кажется, что этого нельзя делать, что мы не можем эмигрировать, нельзя оставить Россию! Что он сам не сможет без России! Не сможет русский человек жить в Турции, там нет Чехова!
Маша ушла к себе в комнату одеваться и собираться, а Андрей сильно тряхнул меня:
– Фанни, прекрати истерику!
Я стала рыдать, мол, что я буду там делать, я же могу только играть в русских театрах?
– Ты моя жена, ты со мной. И русский театр там тоже будет. Мы уедем в Париж, в Вену, найдем твоих родителей…
Ему удалось немного успокоить меня и взять обещание хотя бы приехать в Севастополь, а там мы все решим.
Он объяснял, что военный, что не имеет права не выполнить приказ, потому уезжает без нас, но уже завтра мы встретимся в Севастополе, тогда и поговорим. Если я все же не захочу эмигрировать, то он тоже останется.
Андрей просил:
– Ты только доберись до Севастополя, я вас завтра буду ждать.
Я как полоумная снова твердила одно:
– Нельзя уезжать, Андрей! Россия больна, ее нельзя бросать! Ты себе этого не простишь.
Когда он уходил после крепкого долгого поцелуя, я вдруг отчетливо поняла, что больше никогда его не увижу. Даже если приеду завтра в Севастополь, все равно не увижу. Случится что-то ужасное.
Он ушел, а я сидела и беззвучно плакала, слезы текли по щекам, капали на пальто, но я не замечала.
Вошла Маша, недовольно поинтересовалась, долго ли я собираюсь сидеть.
– Лучше помоги собраться.
Но я решила пока сбегать к нам домой, если Павла Леонтьевна вернулась, то она мне поможет понять, как поступить правильно, а если нет… я должна оставить ей записку! Нельзя же просто так взять и исчезнуть.
Дома никого не было. Немного поколебавшись, я нацарапала совершенно невразумительную записку, из которой следовало, что у меня все хорошо, я вышла замуж и расскажу все, когда вернусь. Достала оставленную Андреем пачку франков и, отделив себе немного на дорогу, остальные вместе с запиской вложила в книгу, которую не дочитала Павла Леонтьевна. Оставлять все просто так на виду опасно.
Поняла, что времени уже много, поторопилась обратно. Когда спешишь, время летит быстрей обычного.
Глафира помогала Маше вынимать из альбомов фотографии и укладывать в жестяную коробку – Маша спасала семейную память. Я обратила внимание, что фотографии Андрея аккуратно вынуты, а те, где он с Полиной или Полина одна, оставлены.
Маша умела собираться, главное – документы и драгоценности, да вот еще фотографии, остальное либо можно купить, либо обойтись без него. Рояль, ноты, книги – все восстановимо, кроме жизни и старых снимков, на которых прошлая счастливая пора.
Они уже заканчивали, видно, очень торопились.
– Ну, вот и все. Присядем на дорожку. Это все твои вещи? – Маша кивнула на мой скромный ридикюль. А что мне брать?
Симферополь пока жил своей привычной жизнью, то есть за последние годы катастрофы стали привычны. Приход красных, белых или каких-нибудь синих в желтую крапинку? Какая разница, хуже уже не будет, хуже просто некуда. Все хотели только одного: пережить предстоящую зиму, а там как бог даст.
Извозчик лихо подкатил нас к вокзалу. Приехали вовремя, поезд уже подавали к перрону. Маша показала наши документы, взяла два билета первого класса, осталось только сесть в вагон и с грустью посмотреть вслед отдаляющемуся вокзалу Симферополя…
– Как тебе удалось заставить его жениться? Скромная, скромная, а вон как сумела.
Я был поражена и вопросом, и тоном, которым он задан. Ответила, что никого не заставляла, что Андрей сам нашел меня и за руку отвел в управу и в церковь.
– Какую церковь, ты же еврейка?!
Поезд уже медленно катился вдоль перрона, наш вагон рядом… Закричали, попросив садиться как можно скорее, сейчас подойдет военный состав, нужно успеть освободить ему путь, иначе потом будем стоять долго, пропуская.
А я вдруг поняла, что они никогда не примут меня, я так и останусь нищей еврейкой, и то, что хорошо сейчас, немного погодя будет казаться негодным.
Но главное – я не смогу уехать из России! Да, я еврейка, но я же русская еврейка! Я не смогу без Чехова, без Москвы, без русского театра. Не смогу без Павлы Леонтьевны, которая спасла мне жизнь, без Таты, даже без Ирки, которая меня не любит.
Не смогу без русской речи. Впервые оказавшись за границей, я рыдала, требуя, чтобы меня вернули обратно, где говорят на человеческом языке, хотя французский понимала.
Я без русского неба не смогу, оно не такое за границей, даже если там голубое и красивое, наше хмурое и серое все равно родней!
Я не смогу без России!
А без Андрея?
И без Андрея теперь тоже не смогу.
Что мне делать? Маша о чем-то спрашивала, но я стояла столбом.
Андрей сказал, что если я решу не эмигрировать, он тоже останется. Но ему нельзя, никак нельзя! Он не сможет примириться с новой властью, не сможет простить большевикам гибель своих друзей, всей своей прежней жизни. Ему нельзя оставаться.
Значит, надо поспешить в Севастополь, чтобы убедить его эмигрировать без меня. Нам никак врозь, но и вместе тоже никак.
В тот момент я проклинала себя за то, что согласилась стать его женой, нужно было отказаться, пусть бы думал обо мне плохо, пусть не было этой ночи любви, даже если бы я сама умерла после этого, то умерла я, а теперь гибель грозит Андрею.
Я помнила, каково бывает при смене власти – противников не жалеют, а уж такого, как Андрей – князя, подполковника с боевыми наградами, в том числе от белого движения… Он не сможет без России, но и в России ему не жить.
Очнулась от возгласа Маши:
– Фанни!
И принялась убеждать ее, что Андрей прав, ему нельзя оставаться, он должен эмигрировать, обязательно должен.
– Да не собирается он оставаться. Сказал же, что ждет нас в Севастополе. Пойдем, сейчас поезд отправится, я отдала вещи в вагон.
Но я не могла уехать с ним, не могла уехать из России. И даже в Севастополь не могла поехать, если останусь я – останется он.
Я стала просить Машу, чтобы она объяснила Андрею, что я его очень люблю и умоляю уехать в Париж без меня. Говорила что-то еще, пока не раздался второй гонг, возвещающий, что поезд сейчас тронется. Маша схватила меня за руку:
– Фанни, это самое умное, что ты могла сделать. Я постараюсь, чтобы он уехал. Фанни, я отправлю свой новый адрес на свой здешний, напиши мне. И забери из дома все, что захочешь. Или переходите жить туда, там удобно…
Последнее она уже кричала мне с подножки вагона.
Глядя ей вслед, я думала о том, что она не напишет. А когда мимо проплыл, набирая скорость, последний вагон, вдруг осознала, что мои новые документы и кое-какие вещи у Маши, то есть уехали. Стало страшно, теперь я просто не смогу попасть в Севастополь, даже если прицеплюсь к последнему вагону следующего военного поезда.
Сколько так стояла – не знаю, подошел служащий, попросил уйти, если я уже проводила отъезжающих, мол, здесь нельзя стоять.
Я зачем-то поинтересовалась, когда следующий поезд на Севастополь. Он только пожал плечами:
– Завтра в это же время.
Это почему-то успокоило. Если завтра снова будет поезд, значит, все не так плохо. Когда плохо, поезда по расписанию не ходят.
Шла по Екатерининской и пыталась понять, правильно ли поступила. Сердце ныло от тоски по Андрею, от желания увидеть его, снова почувствовать на своих плечах его руки, на губах губы. Вдохнуть запах его волос, заглянуть в глаза. Боже мой, что я наделала?! Как я могла вот так запросто отказаться от Андрея?! Если для него опасно оставаться здесь, нужно было плыть с ним, ведь всегда можно вернуться. Сколько раз я бывала за границей и сколько раз возвращалась?
Я даже застонала от отчаянья.
Встречная женщина заглянула в лицо:
– Вам плохо? Помочь?
Я только помотала головой, мне никто не мог теперь помочь.
И вдруг вспомнила о телеграфе! Можно же отправить Андрею телеграмму, сообщив, что приеду завтра. Адрес я помнила.
Но мои деньги уехали вместе с Машей. Решив взять немного из тех, что оставила Павле Леонтьевне, пошла домой.
Не представляя, сколько стоит отправить телеграмму по новой цене, отсчитала половину. Отдав удивленному служащему-телеграфисту почти все, что захватила с собой (он взял франки, не торгуясь), коротко написала на бланке, что приеду завтра. На вопрос, будет ли телеграмма доставлена вовремя, служащий покачал головой:
– Какие ж теперь телеграммы, если власть снова меняется?
Я пришла в ужас – послезавтра будет поздно, но ни я, ни телеграфист ничего поделать не могли. Оставалось надеяться, что телеграмма все же успеет, и я тоже.
То, что власть меняется, Симферополь начал осознавать. Вопреки убежденности, что хуже некуда, немало людей решили не испытывать судьбу и податься куда подальше.
Симферополь вдруг тронулся с места, конечно, не весь, но немалая его часть.
Вообще-то, приказ барона Врангеля тогда еще даже не был опубликован, но что такое публикация? Все всё знают за два дня до того как что-то случится. Кто-то просто был в курсе дел, как Андрей, кому-то шепнули свои люди из ставки, кто-то оказался очень внимательным и заметил, что поезда на Джанкой больше не идут, а вот оттуда просто-таки летят, обгоняя друг друга.
Зимой темнеет рано, и еще вчера симферопольцы старались не выходить с наступлением вечера из дома. В тот вечер было все наоборот – в домах, где жили офицеры и чиновники повыше, горел свет, двери нараспашку, прислуга таскала на подводы всякую всячину. Еще в прошлую эвакуацию я поражалась нелепости сборов горожан, они пытались увезти с собой все что попало – подушки, граммофоны, даже комоды и небольшие скульптуры. От этого подводы превращались в огромные неустойчивые сооружения, в темноте похожие не то на стога сена, не то на перевернутые котлы. При малейшей тряске что-то валилось, громыхало, раздавались крики хозяев и ругань слуг.
Было понятно, что ни быстро двигаться, ни ловко маневрировать эти повозки не смогут, а значит, не дадут другим.
Какая-то женщина истерически требовала погрузить ее любимый рояль, мужчина в ответ предлагал ей самой остаться, поскольку места больше нет. Старушка искала кота, не желая уезжать без него. Мальчишка заталкивал в целую гору скарба игрушечную саблю, она не лезла, он почти плакал, пока я не заметила, что оружие не положено везти с чем попало, его нужно держать при себе.
Симферополь собирался.
Достать подводу, коляску или просто лошадь нельзя ни за какие деньги. Куда они все ехали? И сами не знали, только подальше от скорой новой власти, словно она не придет следом. Крым – окраина, оттуда только в море, а морем только до Турции. Андрей прав.
В управе двери тоже нараспашку, грузили документы на подводы. Я зачем-то пошла внутрь.
В знакомом кабинете перед печкой на коленях стоял вчерашний секретарь и жег бумаги. Толстые тетради не желали гореть, норовя потушить огонь в печи. Он ворошил, ругался, но подбрасывал новые, сбивая занимавшееся пламя.
Я посоветовала ставить тетради домиком и показала как. Секретарь меня не узнал, но совету последовал, и когда пламя охватило следующую тетрадь, обрадовался. Дело пошло быстрей.
Я заметила на полу приготовленные к уничтожению большие журналы, среди них тот самый, в который нас с Андреем записывали. Узнала по торчащей закладке – павлиньему перу. Открыла. Так и есть: «Князь Андрей Александрович Горчаков 1886 г.р. и мещанка Фаина Георгиевна Раневская 1896 г.р. сочетались браком. Общая фамилия – Горчаковы».
Не спрашивая разрешения, я подхватила книгу под мышку и поспешила прочь.
Вот он, документ о браке. Вместе с моим собственным он докажет, что я имею право ехать в Севастополь к князю Андрею Александровичу Горчакову, поскольку я его жена. Выход нашелся, оставалось только дождаться завтрашнего поезда.
Но было еще одно дело. Маша разрешила взять из ее дома все, что сочту нужным, и вообще переехать туда. Останься я в Симферополе, наверное, так и сделала бы, но без меня Павла Леонтьевна перебраться не решится. А вот забрать оттуда кое-что действительно нужно. У Иры и Павлы Леонтьевны ножки, как у Маши, можно взять для них оставленную Машину одежду и обувь, что-то подойдет, а что-то Тата переделает, у нее руки золотые.
Глафира моему появлению несказанно удивилась, замахала руками:
– Ой, барышня, вы только сейчас все берите, а то я тоже уезжаю к родне. Страшно здесь оставаться. Или вовсе сюда переезжайте, не то разграбят же дом.
Я сказала, что завтра тоже отправлюсь в Севастополь, и получила заявление вроде такого:
– Ой, барышня, то и правильно! Андрей Александрович вас к своим родным увезет. Он вас любит, ой как любит!
Оказывается, и прислуга заметила, что любит.
Я немного походила по дому, постояла то тут, то там, вспоминая и прикасаясь к вещам, которых касался Андрей. Могла бы так ходить до утра, но за Глашей пришли, она поторопила:
– Я пойду, барышня, а вы ключ-то заберите, может, кому своим сгодится.
Без Глафиры квартира казалась зловеще пустой, я тоже поторопилась взять кое-что и уйти. Отобрала теплые ботинки для Павлы Леонтьевны, большую шаль, себе нашла ботинки прежней прислуги. Вдруг увидела на полу выпавшую из альбома фотографию. Подняла – красивая девушка чуть лукаво смотрела на меня лучистыми глазами. Полина… Я сунула фотографию в книгу к записи о нашем браке, решив отдать Андрею при встрече.
Вдруг замигал и потух свет. Так бывало и раньше, но это почему-то показалось зловещим знаком. Я поспешила забрать вещи, книгу и уйти.
Симферополь не просто сдвинулся с места, он уже гудел, как растревоженный улей.
Стоило выйти, как свет зажегся снова, но возвращаться я уже не стала, решив заглянуть сюда завтра по пути на вокзал. Если Павла Леонтьевна с Ирой и Татой вернулись, то сразу приведу их. Ире понравится в доме буржуев. И рояль понравится, и все остальное.
Шагавший почти рядом чиновник убеждал своего спутника, что отправляться на вокзал следует утром, а не днем. Поезд обещали, только когда он будет, неизвестно.
Андрей был прав, требуя, чтобы мы уехали дневным поездом 29 октября, уже к вечеру в городе столпотворение, а завтра будет еще хуже.
Задумавшись и заслушавшись, я едва не угодила под лошадиные копыта. Кучер выругался на меня самыми грубыми словами, тяжело груженая повозка чуть вильнула, задев плечо. Я с трудом удержалась на ногах, но выронила то, что прижимала к себе, и уже через несколько мгновений наблюдала страшную картину: грязное колесо проехало по изображению Полины и прямо по записи о нашем браке. В тусклом свете фонаря было видно, что след оставил нетронутым только «Князь Андрей…» и ниже «мещанка Фаина…»
Я подняла книгу дрожащими руками, подошла ближе к фонарю.
Ошибки не было. Чернила не любят грязной воды, остальная часть записи оказалась безнадежно размазана, а на фотографии от лица Полины остались только глаза.
Носиться с испорченным документом не стоило, книга осталась лежать под уличным фонарем, а я, заливаясь слезами, отправилась домой. Вдруг приехали Павла Леонтьевна и Ира с Татой? Мне еще предстояло рассказать о своем замужестве, документальных доказательств которого я теперь не имела вовсе.
Наше крошечное окошко было темным, значит, никто не приехал. Я понимала, что им трудно пробраться в Симферополь навстречу потоку беженцев, потому не удивилась. Но в дверь воткнута записка от Татьяны Николаевны и коротенькое письмо от Павлы Леонтьевны. Павла Леонтьевна сообщала, что они пока задержатся у В. – Ира приболела. Насколько – не знает. Просила меня пожить у Маши и ни во что не вмешиваться.
Татьяна Николаевна сообщала, что приехала только забрать свою маму, предлагала, если я решу бежать, немедленно подойти к ее дому, они до темноты уедут.
Это укрепило меня в решении попытаться завтра во что бы то ни стало уехать в Севастополь. Может, я успею повидаться с Андреем? Ну и что, что я не княгиня Горчакова? Мещанка Раневская тоже имеет право быть эвакуированной!
Заснуть не удалось, свернувшись калачиком и набросив на себя все, что только нашлось (разжигать печь не хотелось, дрова дороги), я вспоминала Андрея.
Очень хотелось вспоминать хорошее – как мы танцевали, как весело беседовали, как он улыбался мне… и, конечно, его руки, его губы, его нежность и ласковую властность. Но это не удавалось, в голову лезли мысли о том, доехала ли Маша, что она сказала Андрею и что Андрей подумал обо мне.
Получил ли телеграмму? Если получил, то станет ли ждать? Как он намерен уехать из Севастополя? Наверное, пароходом, только каким? Если требовал, чтобы мы прибыли в Севастополь вовремя, значит, знает, когда отправление парохода.
В Турцию… Это было ужасно, но я понимала, что ему лучше куда угодно, хоть в Турцию, а оттуда в Вену. Андрею нельзя оставаться, он классовый враг большевикам, хотя вовсе не враг самой России. Ему никто не простит и «светлости», и подполковничьих погон, и несогласия с Брестским миром. Я аполитична, но не настолько наивна, чтобы не понимать угрозы для жизни любимого человека.
Андрей должен эмигрировать. Относительно себя я точно знала, что нет. Зачем же тогда стремилась в Севастополь? Желание увидеть еще раз Андрея, заглянуть в его глаза, сказать, что люблю до безумия, но Россию люблю не меньше и не хочу ему мешать там, в эмиграции, толкало вперед.
Было сомнение, что это стоит сделать, мой отказ плыть вместе с ним мог толкнуть Андрея на опасное решение остаться.
Сейчас я могу признаться честно: в глубине души, в ее закоулках теплилось понимание, что я могу поддаться власти любимых глаз и тоже уехать, то есть сделать то, что не сделала без него. Это не было сомнение, я почти наверняка знала, что так и произойдет, но старательно прятала сама от себя это понимание. Я хотела ехать с ним куда угодно, даже в Турцию, я была готова сделать это. Теперь оставалось только добраться до Севастополя.
Позже я поняла, что следовало одеться потеплей в Машины вещи и отправиться вместе с каким-то обозом еще вечером, а не ждать следующего поезда. От Симферополя до Севастополя верст шестьдесят, я крепкая, несмотря на голод, идти могла. Где-то подвезли бы, где-то сама поторопилась. А если двигаться верст по пять в час, так утром к Севастополю подходила бы!
Даже отчаянье охватило – я могла все-таки увидеть Андрея, но вместо этого ему придется ждать следующего парохода, если, конечно, он получил телеграмму.
К утру досада на себя была столь сильной, что я обозвала себя шлимазлом!
Вспомнив совет чиновника приятелю, услышанный вечером, я отправилась на вокзал, едва рассвело. Дома оставила вместо франков свое колечко – последнее с руки. На видное место поставила принесенную от Маши обувь, положила более толковое письмо с коротким рассказом о своих злоключениях и намерении вернуться из Севастополя, как только повидаюсь с Андреем. Положила ключ с подробным описанием Машиной квартиры (упирала на печки, кухню и рояль) и требованием переехать туда сразу после их возвращения. Взывала в основном к практической сметке Таты, прося ее убедить Павлу Леонтьевну прислушаться к совету. Пригрозила даже, что по возвращении искать их буду только там.
Город не спал в эту ночь вовсе. Всюду брошенные, поломанные вещи, следы от повозок, мусор. Распахнутые двери, мебель, видно, не поместившаяся на повозки, а потому оставленная прямо на мостовой…
Возле фонаря книга регистрации браков. Сломанное павлинье перо заложено на прежнем месте, там, где раньше была запись о нашем с Андреем браке. Я забрала эту книгу, несмотря на то, что запись стерта. Не в качестве доказательства, просто не могла оставить в грязи даже испорченное упоминание о наших с Андреем отношениях, это казалось кощунством. Наш брак просуществовал чуть больше суток…
На телеграфе тоже жгли документы, что-то грузили на подводы. У каждого свои секреты. Я пристала к служащему, увязывавшему вещи на подводе, показалось, что именно он принимал вчера текст телеграммы. На вопрос о том, доставили ли ее, только махнул рукой:
– Что вы, барышня, какие телеграммы? Мы и служебные отправить не смогли.
– А как же заплаченные за нее франки?
– Какие франки? – округлил глаза служащий, и я поняла, что он знал о невозможности телеграфировать еще вчера, но не отказался назвать мне немыслимую сумму.
Я расхохоталась – и тут ничего не получилось!
Шла по Екатерининской и до самого вокзала смеялась. Никто не обращал внимания, сумасшедших в сошедшем с ума городе в городе хватало без меня.
На вокзале столпотворение, никто не спросил документы, билетов ни на какие поезда нет, даже кассы закрыты. Я могла быть княгиней Горчаковой или оставаться мещанкой Раневской, объявить, что я дочь Фельдмана или даже сестра Александра Македонского, это никого не волновало. Служащие вокзала, совершенно одуревшие от вопросов и суеты, отвечали одно:
– Не знаю. Не могу сказать. Неизвестно.
Что они могли еще?
Толпа пассажиров металась со своими чемоданами, баулами, узлами от перрона к начальнику и обратно, прислушивалась, обсуждала слухи.
Один из всезнаек (судя по интонации и манере выражаться – мой соплеменник) учил других:
– Шо ви на то скажете, шо по обеим колеям ихние паровозы таки драпають в Севастополь?
А ведь он был прав – поезда не просто шли с севера на Севастополь, но шли по обеим колеям. Это означало, что встречного движения нет. Драпали? Наверное. Спешили прежде всего военные составы.
Не знаю, сколько прошло времени, мне было все равно, Я думала только об одном: как можно скорей добраться до Севастополя, чтобы еще раз увидеть Андрея. Наконец, подали какой-то пассажирский, вернее, два вагона. Дежурный кричал, чтобы в них не садились, что это просто перестановка, что их отведут на запасной путь, но все напрасно. Толпа бросилась к вагонам так, что я предпочла отойти в сторону, чтобы не оказаться затоптанной в случае падения. Интеллигентные люди, придерживая руками свои шляпы, пенсне и шляпки, толкались локтями, как бабы на рынке, и ругались покрепче извозчиков.
Когда самовольная посадка закончилась, на перроне валялись только сломанные зонтики, раздавленные пенсне и даже чей-то ботинок, места остались только на крыше. Но лезть я уже не рискнула, тем более вагоны продолжали стоять. Грустный служащий покачал головой:
– Сказал же: перестановка. Сейчас поедут на запасной.
Он дал свисток, маленький паровозик потащил два вагона с ликующими пассажирами от перрона. На мой вопрос, когда же будет нормальный поезд на Севастополь, служащий только покачал головой, мол, кто ж его знает? Большевики совсем рядом, с фронта вывозят воинские части, если удастся раздобыть паровоз, а для него дрова или уголь, то будет поезд, а нет, так не будет. И вообще, все решает комитет, созданный в паровозном депо, но совать нос туда он не советует.
Что и говорить, обнадеживающее заявление.
Потянулись часы ожидания, впрочем, очень беспокойные. На вокзале снова выросла толпа желающих уехать. Прошли несколько военных составов, говорили, что поезд Кутепова, потом еще один военный. Для нас паровоз не находился. Мимо проходили, иногда даже не останавливаясь, военные составы, целые бронепоезда. Я поинтересовалась, нельзя ли к каждому такому, особенно к бронепоезду, цеплять сзади всего по одному вагону, мол, тогда бы легко увезли и всех гражданских тоже. Служащий равнодушно посмотрел на меня и пожал плечами:
– Можно… только кто ж разрешит?
Так же ответил и окончательно одуревший от бесконечных требований и крика начальник станции. Зато у него я услышала новость: красные взяли Сарабуз. Это последняя перед Симферополем станция. Предстояла оборона города, только, глядя на спешащие мимо поезда и покидающих город на подводах офицеров, я сомневалась, что кто-то будет обороняться.
Конечно, войска оставались, но когда стемнело и надежда на паровоз для гражданских лиц стала совсем призрачной, я решила отправиться домой. Даже если паровоз найдут, если найдут и топливо для него, в Севастополь я доберусь нескоро. Телеграмму Андрей не получил, значит, ждать не будет. А Машу я сама попросила убедить его уезжать как можно скорее без меня. Маша постарается.
Это рок, я очень хотела встретиться с Андреем еще хоть раз, но моя судьба была против. Может, так и лучше – не рвать душу ни мне, ни ему?
Проходя мимо Машиного дома, пожалела, что с собой нет ключа, могла бы переночевать у нее, предаться воспоминаниям и прикоснуться к вещам, принадлежавшим Андрею. А еще… у Маши оставались продукты. Я видела, что Глафира ничего не взяла, значит, в буфете можно разжиться едой. У меня в желудке пусто со вчерашнего дня, и дома один морковный чай без сахара, который еще нужно вскипятить.
В здании театра было темно, возможно, из-за слишком позднего часа, а возможно, из-за того, что все эвакуировались. Решив прийти завтра днем и посмотреть, отправилась в нетопленную келью.
Монастырь тоже стоял пустой.
Сон сморил только к утру, до этого времени перебирала в памяти каждую минутку рядом с Андреем, потом размышляла, как и где он будет жить за границей. Конечно, в Турции не останется, у них с Машей есть возможность отправиться в Европу. Вдруг вспомнила о Матвее, интересно, а где он?
Уплыли они с Машей или пароходы тоже ходят как придется? Думаю, Андрей знал, что делал, вызывая нас в Севастополь. Ну и ладно, ну и хорошо. Решив, что все делается только к лучшему, я подвинулась ближе к крошечной железной печурке, в которой догорало единственное полено (больше просто не было), и прикрыла глаза.
Без Андрея. Как жить, когда жить невозможно
Рассвет последнего дня октября (а по-новому – 13 ноября) застал меня прижавшейся к чуть теплому боку печурки. Хорошо, что полено было только одно, иначе могла бы сгореть, ведь задремала с ней в обнимку.
На полу было очень холодно, убедившись, что угли прогорели полностью, я закрыла вьюшку, устроилась на кровати, закутавшись в одеяло, и проспала до полудня.
Город притих, только запоздалые беженцы еще тащились со своими тюками куда-то прочь. Это была уже мелочь, у которой не имелось ни собственных колясок или подвод, ни денег, чтобы это нанять.
Повсюду снова валялись вещи, ветер гонял мусор, обрывки сорванных со столбов листовок с приказом барона Врангеля об эвакуации, не полностью сгоревшие бумаги разных ведомств, пепел от костров.
Театр был закрыт, сторож сказал, что никто пока не появлялся, где кто и что будет дальше, он не знает. А еще, что, по слухам, уже сегодня в городе будут большевики.
Знаешь, меня всегда поражали эти слухи.
Секрет их распространения за пределами моего разумения. Телеграф может не работать, телефон тоже, почтовые голуби в такую погоду не летают, но всегда находится тот, кто все знает.
У евреев есть поговорка, что каждый отдельный еврей знает все лучше всех остальных людей. Но это о мнениях, а как со слухами?
Я поспешила по своим делам.
Крым – полуостров небольшой, Симферополь – город хоть и губернский, но тоже не Москва. К двадцатому году на полуострове собралось столько не знавших, куда деться, людей, что он казался муравейником. Как всегда, большая часть скопилась на побережье, все же там климат лучше. Но и Симферополю хватало, особенно в последние месяцы, когда с севера из Джанкоя подтянулись потоки беженцев, но на юг не ушли, веря заявлениям барона Врангеля, что Крым войска Русской Армии отстоят. Несколько дней назад делались именно такие бодрые заявления. А потом вдруг: эвакуация! Русская Армия не в силах удержать Крым, и покидает полуостров, с собой зовет всех, кто посчитает, что им оставаться смертельно опасно.
Но народ побежал за сутки до того, как прокламации и листовки заполнили все столбы. И вот через полтора дня после начала движения город казался вымершим, а значит, огромным.
Я уже замечала, что, когда холодно и на улицах мало прохожих, они выглядят много шире и больше. Тогда, в стылом Симферополе, особенно.
Вдруг вспомнила, что именно в дни эвакуации природа словно сжалилась над людьми и потеплело. Но никто на это не обратил внимания, не до погоды. Говорят, покидать родной дом в дождливый день – к скорому возвращению. Вчера люди уезжали в солнечную погоду. Не вернутся?
Собор Александра Невского блестел своими куполами.
Я остановилась. Помолиться бы, но как?
Совсем недавно с паперти этого собора звучали призывы уничтожить кровопийц-жидов. Теперь храм был закрыт – большевики не жаловали церкви, и священники кто бежал в Севастополь, как тот же яростный Востоков, кто просто спрятался дома в надежде переждать.
Священников нет, но Бог есть.
…Не могу молить – не православная. Защитит любовь пусть как броня. Господи, его спаси – и это главное! Если нужно – забери меня.Я смотрела на купола и кресты, и пыталась представить, что с Андреем. Стало страшно. Тогда и родилось это четверостишье.
Однажды я слышала, как разговаривали две матери. Одна говорила о том, что готова собственную жизнь отдать Господу, только бы сохранил жизнь ее сына. Я готова была так же. Но зачем Ему жизнь иудейки?
Вторая убеждала, что смерти сына не боится, только бы знать, что Господь так решил, его из всех выбрал. «В руки Господа предаю его»…
Тогда мне показалось это совершенным кощунством, как можно соглашаться со смертью дорогого тебе человека, но теперь поняла, что женщина верила по-настоящему, верила, что если выбран ее дорогой мальчик, то не случайно, а избран, это не все равно.
Но разве бывают случайные смерти? С точки зрения людей бывают, а для Господа? Все в его власти – и жизнь, и смерть, значит, все не случайно.
Окончательно запутавшись в своих мыслях и замерзнув, я снова просила Всевышнего оставить жизнь Андрею. Говорят, любящее сердце чувствует боль любимого, мое ничего не чувствовало. Я убеждала себя, что с Андреем все в порядке. И у Маши тоже, она успела на нужную квартиру в Севастополе.
Сердце болело за всех – за Андрея в Севастополе, за Павлу Леонтьевну с Ирой и Татой, которые теперь неизвестно как вернутся в Симферополь, за своих родных, которые из Таганрога уплыли, а вот доплыли ли и куда – бог весть.
Это очень страшно – находиться одной и в неизвестности.
Я сходила в квартиру Маши и принесла оттуда продукты, решив до возвращения Павлы Леонтьевны и Иры с Татой пожить у себя, а переехать всем вместе. Снова походила по квартире, вспоминая, посидела за столом, посмотрела фотографии…
Чтобы не возвращаться в монастырь в темноте, торопилась собрать все, что стоило унести. Этого всего оказалось так много, что сразу не забрать.
Сложила продукты, какие нашла, добавила свечи, мыло и спички. Когда дело дошло до альбома с оставшимися фотографиями, на которых Андрей вместе с Полиной, оказалось, что взять его я могу только под мышку. Наученная горьким опытом предыдущей потери книги, я решила быстро отнести собранное и вернуться еще раз.
Взяла немного, но ноша получилась очень тяжелой для меня в том полуголодном состоянии. И все же я тащила.
Потом задумалась, почему бы не остаться на месте? Но где-то в глубине души чувствовала, что не смогу одна в этой квартире, с Павлой Леонтьевной, Ирой и Татой, пожалуй, смогу, а вот одна нет. Пока они не вернутся, поживу в монастыре. С дровами как-нибудь разберусь, а что кушать, у меня теперь есть. И даже мыло есть и свечи!
Если Павла Леонтьевна поддастся на уговоры и согласится переехать в Машину квартиру, то мы благополучно вернем все на место. А пока я перетащу все, что осилю.
Переноской нужно было заняться прямо с рассветом и не останавливаться, пока не упаду. Это я поняла довольно скоро.
Планировала еще за пару ходок перенести остатки продуктов, свечей и всякой всячины, включая керосин и теплую одежду, оставшуюся от Глаши. Обязательно альбом и вообще все, что могло напоминать об Андрее, часть Машиных книг.
Но ничего этого сделать я не успела…
Никакой битвы за город, как мы боялись, не было. Когда входили немцы, была канонада, дрожали стекла, их приходилось чем-то укреплять, заклеивать и даже затыкать окна всякой всячиной вроде старых одеял или подушек. Но тогда большевики сопротивлялись.
Русская Армия не сопротивлялась, видно, барон Врангель рассудил, что не стоит губить людей, если город и Крым все равно не удержать. Оставив только заградительные части (наверное, это отряды отчаянных, готовых погибнуть, чтобы дать время остальным отойти к Севастополю), Армия действительно отходила к портам.
Мы о том, что творится в Крыму, понятия не имели. Все сидели в своих домах, словно в норах, затихнув в страшном ожидании какой-то беды.
Андрей однажды сказал, что ожидание смерти куда страшней самой смерти. Так и с неприятностями, их ждать куда тяжелей, чем переживать. И тем не менее все норовят любые неприятности оттянуть, как и смерть тоже. Пусть что угодно, только не сейчас, не сегодня, не завтра, когда-нибудь потом.
Сделать еще одну ходку, чтобы забрать альбом, я уже не рискнула – в городе раздавались выстрелы и какие-то крики. К тому же осенью рано темнеет. Ничего, будет утро, пойду снова. Больше не буду сидеть на диване или стоять перед зеркалом, быстренько соберу еще одну коробку и вернусь.
В первый день после эвакуации ничего особенного не произошло, никто не врывался в дома, не выбрасывал полураздетых людей на улицу на холод, не забивал ногами. Собственно, и армии тоже не было, просто не было. Немного постреляли на окраинах и все. У многих уже зародилась надежда, что Красная армия пройдет мимо Симферополя сразу на Севастополь, догоняя Русскую Армию Врангеля. А потом сюда пришлют чиновников, которые наладят жизнь в опустошенном, брошенном городе, где оставались только гражданские.
Большинство оставшихся обывателей вздохнуло свободней: ну вот, а пугали…
Так хотелось верить, что по обе стороны фронта одинаковые люди, только какая-то злая сила бросает их друг на друга, заставляя воевать, убивать, насиловать. Но, может, эта сила уже устала и оставила Россию в покое? Может, устали воевать уже все? Русская Армия не стала сопротивляться, барон Врангель приказал оставить Крым большевикам, не желая множить жертвы и лить кровь. Может, на этом уже все закончится?
Покоя жаждали все, уже все равно под какой властью, только бы жизнь без страха перед завтрашним днем, страха оказаться между молотом и наковальней.
Мы не представляли, что самые страшные месяцы у нас еще впереди.
А еще не знали, что город доживает свой последний спокойный день.
Утро первого дня новой власти выдалось хмурым, холодным, выглядывавшее вчера солнце спряталось за тучами, словно чего-то опасаясь.
Подражая светилу, попрятались и жители города. Повисла какая-то гнетущая тишина. Ночью снова стреляли на окраинах, но никакой канонады не слышно, но к утру послышался шум. Любопытные, высунувшие носы на улицу, или те, кому пришлось там оказаться в этот страшный день (первый из череды не менее страшных), поплатились жизнями.
Красная армия, сильно пострадавшая во время боев на Перекопе, промерзшая (недаром Андрей говорил, что там настоящий ужас), оборванная и голодная не меньше нас, в Джанкое поживиться ничем особенно не могла – городок мал, да и сам пострадал от пребывания там Русской Армии.
Симферополь был отдан на три дня на разграбление, как обычно делалось армиями победителей. Только город ведь свой и не сопротивлялся. Никто не верил, что русские смогут грабить русских.
Смогли.
Об этом не говорят, но грабили так, что мы вспоминали все прежние власти словами сожаления. К счастью, монастырь внимания не привлек, прежде всего потрошили богатые дома и квартиры и магазины. Вернее, в первый день обирали прохожих, отбирая все, что можно отобрать.
Все кто мог, попрятались в свои дома. Улицы опустели. Конечно, в такое время и думать нечего отправляться в Машину квартиру. Мы не ведали, что творится на соседней улице. Я решила подождать, хотя в душе уже понимала, что ничего не смогу забрать. Больше всего жалела альбом с фотографиями – единственную память об Андрее.
А в пустынном Симферополе начало твориться невообразимое. Части с фронта расквартировывались как попало, красноармейцы просто занимали дома и квартиры, безжалостно выставляя вон хозяев, если те мешали. Стоял крик, визг забиваемых животных, перебиты оказались все собаки, сидевшие на цепи, зато для бродячих наступила воля. Закололи свиней, свернули шеи курам – так армия добывала себе пропитание.
Но настоящий кошмар на улицах начался на следующий день – победители принялись грабить магазины, прежде всего винные. Крым всегда славился своими виноградниками и своим вином, оно дешево и вкусно. Сомневаюсь, что те, кто громили винные магазины, разбирались и даже интересовались сортами и вкусом вин, главное – напиться.
Позже Г., жившая на Феодосийской по ту сторону Салгира, как раз напротив винного завода Христофоровых, у которых огромный склад в погребах, рассказывала, что видела через щелку между плотно задернутыми шторами.
Сначала разбили витрину, поскольку дверь в большой магазин была закрыта. Лезли туда, не заботясь о том, что могут порезаться. Вытаскивали бутылки и пили прямо из горлышка. Горлышки отсекали, чтобы не открывать штопором. Потом, видно, стали открывать бочки. Но бочки огромные, в сотню, а то и две литров. Если сбить у такой бочки кран, остановить поток будет тяжело. Это не смущало, не только сбивали краны и выбивали кляпы, но разбивали сами бочки. Из подвала на улицу хлынул поток вина.
Потом поговаривали, что бочки разбивали сами командиры, чтобы вино поскорей закончилось и пьянство прекратилось. Вино из расстрелянных бочек и впрямь потекло в сторону Салгира потоком. Тогда красноармейцы и местные выпивохи принялись черпать его чем попало, ложиться на краю потока и лакать пойло, смешанное с грязью.
Об этом рассказывали потом многие.
Видно, в Красной Армии было запрещено пить алкогольные напитки, потому красноармейцы, добравшись до винного потока, оторваться от него уже не могли. Говорили, что в подвалах Христофоровых двое даже утонули.
Производство, организованное Георгием Христофоровым, поставлявшим продукцию в лучшие магазины не только Киева, но и Москвы, и Петербурга, было уничтожено. Запасы вина вылиты или выпиты, а оборудование разбито. Новой власти вино ни к чему, и торговать им она не собиралась, хотя могла бы продавать за границу.
Неделю красноармейцы расселялись, нередко выбрасывая из своих домов местных жителей, и пили. У нас пострадало трое знакомых в разных краях города, все три семьи посреди ночи безжалостно выбросили из их жилья на улицу, позволив забрать с собой только смену белья. Одна из семей – Л., его больная жена, двое детей и живший с ними старик – перебралась в монастырь. Кельи приютили многих, пустовавшая обитель стала заполняться жильцами, не имевшими к монастырю никакого отношения, людям просто некуда деваться. Ночевать под открытым небом невозможно – снова наступили холода, морозы до пятнадцати градусов. Может, и больше, но мы не имели возможности измерить температуру, да и к чему?
Винные потоки замерзали, а вместе с ними замерзло и немало тех, кто прикладывался к бесплатному питью. На улицах творился кошмар, они были засыпаны мусором, битыми стеклами, обрывками прокламаций старых и новых, где-то валялись трупы животных, стаями бегали бродячие псы, охотясь на всех подряд.
Ни магазины, ни рынок не работали, хлеб не выпекался, во всяком случае, купить его было негде. Не работало вообще ничего. Все сидели по своим углам, прятались в погребах и подвалах, стараясь не попадаться на глаза людям с любым оружием и в любой одежде.
О том, чтобы идти в театр, не могло быть и речи. Я очень боялась, чтобы Павла Леонтьевна, Ира и Тата не вздумали именно в то время вернуться в Симферополь. Не жаль того, что отнимут, но могли и изнасиловать, и убить. В Симферополе царили анархия и насилие.
Мы мечтали о порядке, пусть жестком, но порядке. Мечтали и получили его.
Приказ о регистрации всех, кто служил в Русской Армии или работал на нее, последовал незамедлительно. Регистрацию все оставшиеся в Крыму, причастные к генералу Врангелю, должны пройти в трехдневный срок.
Это было понятно и возражений не вызывало. Даже из Севастополя уплыли не все, говорили, что барон честно признался, что содержать никого по ту сторону моря не сможет, жить будет не на что, союзники поддерживать Русскую Армию перестали. Не желая быть нищими на чужбине, немало офицеров, солдат и особенно гражданских остались. Остались и в Симферополе.
Никто не был против учета и распределения на работы, многие бывшие военные надеялись, что их отпустят из Крыма по домам, они сумеют вернуться в свои города и села и заняться, наконец, мирным трудом. Пусть голодно и трудно, но жить мирно – об этом мечтали все.
Командующий красными в Крыму Фрунзе обещал при сложении оружия полное прощение и возможность одним эмигрировать, другим вернуться по домам. Те, кто не поверил, эмигрировали с Врангелем либо ушли в горы. Большинство оставшихся, на свое несчастье, поверили.
Через неделю на смену пьянству и мародерству пришли расстрелы. Лучше бы они пили дальше!
Город полнился слухами. Что только ни говорили!
Первая важная для меня и обнадеживающая новость: 1 ноября (а по-новому 14-го) барон Врангель эвакуировал из Севастополя всех, кто пожелал уехать. Использованы все оставшиеся суда, и французы помогли.
Это означало, что Андрей где-то в Константинополе. У него есть средства, задерживаться там не станет, сразу отправится в Европу. Маша, конечно, с ним. Я до слез жалела, что не повидалась с Андреем еще раз, но радовалась, что не стала смущать его своим присутствием. Пусть он лучше с Машей.
Где ты теперь – в Париже, в Вене, в Ницце? С кем ты теперь – один или с другой? Неважно где, но только б за границей. Я рада, что ты спасся, дорогой.Это были последние часы жизни прежнего Симферополя.
Следом за самими частями красных в город вошли (побоялись раньше?) Р. З. и Б. К. с товарищами, то есть с палачами.
Когда посреди ночи с окраин послышался треск пулеметных очередей, мы решили, что кто-то из Русской Армии все же оказал сопротивление, но ошиблись. Это начались расстрелы – новая власть уничтожала всех, кто был за старую. Для начала тех, кто за эту власть держал в руках оружие. Потом стали уничтожать всех, кто мог держать оружие, хотя и не держал. Потом тех, кто имел хоть какое-то отношение к тем, кто мог держать оружие. А потом и тех, кто мог быть недоволен расстрелами. Всех. Подчистую, чтобы и памяти не осталось, а если осталась, то одна – страх.
Я сожгла крымские дневники двадцатого года, после того дважды пыталась написать правду об увиденном в Симферополе, всякий раз трусила и сжигала написанное.
Я не боюсь за себя, но хорошо понимаю, что никто не издаст, никто не позволит прочитать эти записи, помимо каких-нибудь чрезвычайных «троек», а они, думаю, и без меня все знают, туда не берут случайных людей. Но главное – за меня, за знакомство со мной придется платить тем, кто мне дорог.
Вот чего я всегда, с первого дня новой власти боялась – что Павла Леонтьевна, Ира и Тата могут поплатиться за мою память.
Я хорошая актриса, очень хорошая. Не столько на сцене, сколько в жизни. Прошло уже двадцать восемь лет, пройдет еще столько же, но никто не узнает, что такое я в действительности. Нет, я не немецкая, английская или японская шпионка, упаси боже! Но помню, я все помню и это страшно.
Я много-много лет играю перед всеми (даже перед теми, кого очень люблю – в их же интересах) аполитичную насмешницу. Никому не придет в голову, что я что-то поняла и запомнила из увиденного кошмара, что сохранила это в себе и способна рассказать. Изменить все равно ничего не могу, а вот погубить дорогих мне людей – запросто.
И эти записи доживут ли?
Вот допишу, прочитаю и пойму – стоит ли хранить, не слишком ли это опасно.
Нина, я знаю о тебе один секрет: за твоей говорливостью скрывается умение не сказать ничего лишнего. Ты можешь не умолкая болтать весь вечер, но если запомнить все речи и подумать над ними, окажется, что ты не сказала ничего из того, чего нельзя было говорить. В том, что, прочитав откровения, ты не побежишь доносить, может быть уверен и тот, кто знает тебя хуже меня, но я знаю, что ты не проболтаешься даже ненароком.
И все равно заклинаю: будь осторожна!
Воспоминания о той осени и зиме уже без Андрея рваные. Объединяет их только холод, голод и ужас, такой ужас, что не дай бог никому! Были минуты, когда малодушно хотелось погибнуть, признавшись в чем-то, за что расстреливают сразу, и больше уже ничего не знать и не ждать, но останавливало все то же понимание, что можно потащить за собой других. Это не круговая порука, когда все отвечают за что-то действительно сделанное одним, это круговая расплата непонятно за что – за происхождение (словно человек выбирает, в какой семье ему родиться), за образование (даже если оно на пользу России), за честную службу (взяточники унесли ноги первыми, в городе остались только честные служаки, без которых работа невозможна), за то, что хорошо одет (буржуй), просто за то, что переехал жить в Крым меньше трех лет назад (бежал от революции)…
За то, что работал при прежней власти, даже если иначе семья погибла бы от голода.
Что не ходишь на собрания или митинги.
За то, что у тебя есть что отобрать.
За неосторожное слово…
Просто за то, что ты есть и попал на глаза в неподходящий момент.
Меня спасло только то, что я Раневская (от фамилии Фельдман отказалась сразу после революции).
Семью купца покинула тоже давно (Павла Леонтьевна посоветовала сказать, что мой отец купец, и об отцовском пароходе молчать; в Таганроге был Фельдман – владелец небольшой лавки, я указала его адрес).
У меня не было образования, я служила в театре, который назвать доходным местом язык не повернулся бы у самого большого лжеца, к тому же театр почти сразу переименовали в Первый советский театр Крыма).
Хорошо одетой не была с тех пор, как уехала из дома, поскольку пришлось продавать с себя все, чтобы купить кусок хлеба.
Наконец, в Крым переехала давно.
В общем, повода расстреливать нас с Павлой Леонтьевной и Татой не было, хотя расстреливали и без повода.
Однажды меня остановили, и дело явно закончилось бы ямой за еврейским кладбищем или в саду Крымтаева, но я нашлась и попросила проверить мои документы поскорей, поскольку в тот день в театре выступала З., и я «боялась» опоздать, боялась, что она заметит мое отсутствие. З. понятия не имела о моем существовании, а я ни в малейшей степени не желала слушать эту «фурию революции», как ее называли – за глаза, конечно. Сработало, отпустили.
Приходилось еще пару раз использовать это ненавистное мне имя. Однажды я просто отрапортовала, что служу в Первом советском театре с благословения З., второй сказала, что спешу на репетицию спектакля, который ей понравился, и намерена внести изменения в трактовку роли по ее совету. Имени этой зверюги было достаточно, чтобы напугать не только ее врагов, но и друзей – соратники боялись Р.З., пожалуй, больше противников.
Город полнился слухами один другого страшней.
Расстреляли бригады ремонтников паровозного депо (вместе с семьями) за «содействие белогвардейцам» – они ремонтировали паровозы вместо того, чтобы портить, способствуя победе Красной Армии.
Расстреляли тех, кто на собрании в депо высказывался, чтобы вывезти из Симферополя в Севастополь всех не желавших оставаться. И тех, кто честно отправлял и обслуживал поезда, торопившиеся с фронта на юг. Даже стрелочника за то, что правильно перевел стрелку, а не пустил поезд Кутепова под откос.
Говорили, что много стали расстреливать за еврейским кладбищем, там удобно и никто не придет на помощь. Как можно прийти на помощь? Но женщины приходили в надежде выручить своих арестованных мужчин и гибли там же.
Шепотом передавали, что расстреляны много женщин с грудными детьми – несчастные надеялись, что плачущие крошки на руках разжалобят людей с оружием, но они ошибались, наличие младенцев не останавливало тех, кто стрелял.
Бывших офицеров Русской Армии расстреливали в саду Крымтаева на берегу Салгира. Почему там? Там очень красивые места, многие гуляли в этом саду…
Снова появились повешенные на фонарных столбах и даже деревьях. Так уже было при Кутепове, когда вешали большевиков или заподозренных в сочувствии к ним. Не знаю о судах и постановлениях, очень хотелось избежать даже мысли о том, что одни люди приговаривают других к смерти из-за разницы в мировоззрении.
Генерала Кутепова всячески проклинали, но теперь не кляли никого. Даже шепотом не кляли – а ну как кто-то услышит?
В трупе на Екатерининской узнала обманувшего меня телеграфиста. При всей его нечестности вешать жестоко. Выпороли бы и отправили куда-то работать.
Вообще, я на трупы старалась не смотреть, пробегала до театра, почти закрыв глаза. Но они стали попадаться прямо под ногами, видно, расправлялись с подозрительными лицами прямо на улице, а убирать некому.
Стаи голодных собак, как волки, рыскали по городу, до утра обгладывая все, что пало, – и лошадей, и таких же собак, и всего остального. Снова расплодились крысы, они бегали по улицам не таясь, словно насмехаясь над беспомощными людьми. Это была самая страшная зима в Симферополе. Меня до сих пор мучают те видения.
Я расспрашивала Федора Ивановича о Крыме после его освобождения от фашистов, втайне надеясь, что услышу нечто лучшее, чем знала. Действительно услышала, как бы ни было тяжело во время оккупации, освобождению радовались, и порядок навели быстро. А тогда…
Из Севастополя приходили вести еще ужасней.
Сначала обнадеживающе говорили, что Русская Армия и все гражданские, кто только пожелал, благополучно взяты на борт подготовленными по приказу барона Врангеля судами и эвакуировались. Я обрадовалась, если уж эвакуировали всех пожелавших покинуть Россию гражданских, то Андрей тем более уплыл.
Шепотом передавали, что эвакуация прошла образцово, никакой паники, словно заранее отрепетировали.
Но уже через несколько дней хоть уши закрывай от ужаса – всех, кто остался, ждало уничтожение! Говорили, что севастопольские рабочие убеждали людей не покидать Крым, мол, они заступятся перед новой властью и не позволят учинить расправу.
Немало нашлось тех, кто поверил в силу рабочего класса и просчитался. Офицеров в Севастополе вешали непременно в полной форме с погонами, чтобы никаких сомнений, что враг! И снимать трупы запрещали.
На побережье расправляться было проще, там море рядом, там топили. Связывали руки и ноги и сталкивали в воду. Связывали попарно, по несколько человек между собой, привязывали к ногам колосники, камни, любую тяжесть и тоже сталкивали в воду.
В Салгире не утопишь, потому в Симферополе расстреливали. Много в саду Крымтаева за Салгиром. Каждую ночь от заката до рассвета. Билась ужасная мысль: скольких же?!
Трупы не хоронили, просто сваливали в ямы и засыпали землей. Далеко не всегда это были трупы, из-под земли и из гор тел подолгу слышались стоны и мольбы о помощи. Тех, до кого добирались, закалывали штыками, но кто-то оставался мучиться под горой трупов.
Люди из домов, что ближе к саду и на другой стороне Салгира, попросту сбежали, потому что волосы от этих криков, стонов и выстрелов вставали дыбом. Один из двух сторожей сада Крымтаева не выдержал увиденного и услышанного и сошел с ума. Второй рассказывал страшные вещи о пытках в их сторожке.
Когда ужас слишком велик, он либо вызывает сумасшествие, либо перестает быть ужасом и становится простым подсчетом. Расстреляли около двух тысяч человек за ночь… расстреляли двести… триста… еще двадцать… шестьдесят… снова полторы тысячи… И было уже практически все равно, какие слышать цифры, понятно, что пока не уничтожат всех, не остановятся. Были те, кто говорил, мол, скорей бы уж и меня, невыносимо ждать.
Хоронить негде, рыть ямы в мерзлой земле не очень получалось даже у самих приговоренных, ямы были мелкими, их быстро разрывали собаки. К собакам присоединились полчища крыс. Стало ясно, что летом эпидемии не миновать.
Рынки просто закрылись, никто из деревень не рисковал привозить что-то на продажу, могли запросто ограбить по дороге. Магазины были немедленно экспроприированы, рестораны закрыты, по крайней мере, надолго, их продуктовые запасы тоже забраны. Кому они достались? Ну уж не нам.
Еще при Врангеле рассказывали, что в Севастополе дамы за кусок мыла, чтобы просто вымыть руки и умыться (волосы давно мыли золой), отдавали бриллиантовые сережки. Теперь эти серьги можно было просто снять, подойдя к даме и приставив к ее груди оружие.
Из Севастополя уплыли очень многие, поговаривали, что сто тысяч только гражданских лиц, но немало и осталось. Кто? Те, кто не представлял себе жизни без России, какой бы ни была ее власть. Кто поверил обещаниям, что расстрелов не будет. Кто просто не мог уехать, точно зная, что там за морем никому не нужен, поскольку стар, слаб и ничего не умеет. Многие и многие тысячи растерявшихся людей, для которых внезапный отход Русской Армии оказался настоящей катастрофой. Не все могут просто взять и уехать в неизвестность без средств и надежды.
Но самые страшные слухи стали приходить где-то через неделю, они касались участи оставшихся в Крыму военных.
Все знали, что Фрунзе предлагал барону Врангелю сложить оружие и обещал, что никаких репрессий для участников Белого движения не будет. Генерал Врангель обсуждать сдачу отказался, но приказал сопротивление прекратить, на фронте остались только те части, что сдерживали напор красных, пока белая армия отходила к портам и эвакуировалась. По сути, требование выполнено не было, но и сопротивления толком тоже не было тоже.
Это ли явилось поводом репрессий или Андрей был прав, больше полагаясь на цитату из Бакунина, чем на обещания большевиков?
Боже мой, за то, что я пишу, можно отправиться не только пилить лес в тайгу, но и просто быть расстрелянной в подвале! Но я так давно молчу, так давно держу в узде эту память, что дольше невозможно. Я напишу и спрячу далеко-далеко, и никому не скажу ни слова. Даже Нине пока не скажу. Только когда будет возможно пусть не опубликовать, но хотя бы читать без страха быть за это расстрелянной, отдам, пусть дальше хранит она. Или не хранит, а просто уничтожит, там будет видно.
Сначала новая власть потребовала срочно зарегистрироваться всех, кто служил в Русской Армии. Кажется, давали три дня. Это было напечатано в газетах и во многих листовках и прокламациях, которые сплошь облепили столбы, заборы, стены домов.
Офицеры пришли, сдали оружие, даже именное, зарегистрировались, заполнили анкеты. Их отпустили, запретив уезжать из городов, где прошли регистрацию. Мотивировалось это необходимостью проверки анкет. Это было справедливо, и никто не противился.
Но потом приказали снова пройти регистрацию.
Что произошло за эти дни, что изменилось в позиции новой власти? Никто так и не узнал, а те, кто пришел на перерегистрацию, даже не успели понять, потому что начались расстрелы. Это было вне разумения, расстреливали тех, кого несколько дней назад отпустили, взяв клятвенное заверение, что не поднимут оружие против рабоче-крестьянской власти.
Нельзя, конечно, поручиться за всех, но большинство так и поступило бы. Война и военное противостояние надоели всем, с четырнадцатого года окопы, выстрелы, кровь, смерть, голод… Кто не принимал эту власть совсем, уехали, остались только те, кто вполне мог бы ей служить. Не с оружием в руках, это необязательно, ведь военные инженеры вполне годились и для работы на заводах. Да и в армию многие записались, имея гражданские специальности, а если не имели, то были вполне толковы, чтобы быстро чему-то научиться.
Сначала слухи о массовых расстрелах казались бредом, выдумкой досужих болтунов. Говорили, что в Севастополе вообще людей ставили на краю мола и стреляли, или привязывали к ногам камни и сталкивали в воду со связанными руками, что набивали битком баржи, выводили туда, где глубже, открывали кингстоны и топили.
Из уст в уста передавали слишком страшные цифры, чтобы им можно было верить – в Симферополе больше 1700 военных расстреляно за ночь! Причем все офицеры.
Все убеждали себя, что этого не может быть. Ладно бы там 17 человек или даже 170, но не 1700 же! Нет, это чья-то идиотская выдумка. И как только у людей язык повернулся такое придумать, а у других передать?
Но именно в тот день – по прежнему календарю это было 9 ноября, а по новому 22 ноября – я не могла найти себе места. Волнение не позволяло не только поспать, но и вообще прилечь – всю ночь я слушала пулеметные очереди со стороны Салгира или еще откуда-то и металась по крошечной монастырской келье.
Я радовалась, что Андрею удалось эмигрировать. Кажется, он лучше меня понимал обстановку и не зря не верил никаким обещаниям. Теперь он, наверное, уже в Константинополе, а то и где-то дальше.
Если они с Машей отправились тридцатого октября или даже тридцать первого, то в Константинополе были неделю назад, я помнила, что туда трое суток хорошего хода. А там Восточный экспресс, и они в Париже. Или где-то еще, неважно, лишь бы подальше от этого пулеметного стрекота, подальше от Симферополя, Крыма, от смерти.
У нас кошмар – расстрелы, голод, холод. У нас беда и очень трудно жить. Но ты в Европе, ты здоров и молод, Пусть без меня. Пусть. Так тому и быть.Да, так лучше. Я смогу выдержать, вынести этот кошмар, должна же новая власть понять, что я им ничем не опасна?
Почему же так терзалось, заходилось черной тоской сердце? Неужели что-то страшное случилось с Павлой Леонтьевной, Ирой и Татой?! Я ведь даже не знала, где их искать, выехали ли они от В., куда смогли добраться. К утру, совершенно измучившись от страха и неизвестности, решила через пару дней отправиться искать своих родных (я считала их своей семьей и родными, пусть не кровными).
Я повторяюсь? Но это потому, что вспоминать слишком страшно. Уже не в первый раз залитый кровью Крым… Как меня угораздило оказаться там в самое страшное его время?
Но если бы не оказалась, не встретилась бы с Андреем.
Но если бы не встретилась… Лучше бы не встречалась!
Я прислушивалась, жадно ловя известия о Севастополе. Кое-что и ловить не требовалось, город оказался оклеен прокламациями с призывом вступать в Красную Армию, приходить на рабочие места и сохранять спокойствие.
В Красную Армию я, конечно, не собиралась, а вот на рабочее место пошла. Следовало узнать, состоится ли сезон этого года, иначе нам крышка, пропадем с голода. Собралась немалая часть труппы, но наше рабочее место оказалось занято!
Наш препротивнейший К. подсуетился и первым перешел к большевикам. Остальные никуда не переходили, решив остаться на прежних позициях, то есть в стороне от политики.
Но не получилось.
В первую очередь из-за К. Ему, видно, хотелось стать начальником при новой власти, но, как сказал Т.Н., «происхождение подкачало» – предки трудились на церковной ниве. Большим начальником не получилось, стал маленьким. Он предложил возглавить театр, но и это не удалось, актеры пригрозили, что проведут выборы и скинут самозваного режиссера, выбрав Рудина.
К. отомстил по-своему, оригинально – предложил новой власти не мерзнуть на улице, произнося воззвания, а с удобством расположиться в зале театра. Нам он заявил, что для театра и старается – ради всяких выступлений, слетов, съездов и прочего зал обещали щедро отапливать. От этих щедрот и нам перепадет, в гримерках не будет вода льдом покрываться.
В тот день новая власть призывала уже в нашем театре, так что мы поневоле оказались почти в центре событий.
После митинга состоялся первый спектакль, который мы дали для бойцов этой самой Красной Армии. Конечно, давали не «Антигону» и не «Чайку», что-то попроще, поскольку половины актерского состава не было, но бойцы остались очень довольны. Аплодировали так, что мы начали опасаться за целостность стен и крыши.
В зале сильно пахло потом и мокрыми шинелями, а также куревом, дымом костра и еще чем-то (потом я узнала, что это запах пороха). Играть было трудно из-за явного неумения новых зрителей вести себя во время спектакля – они подбадривали, комментировали происходящее, советовали, что делать, в общем, принимали самое деятельное участие в спектакле. Было смешно и немного радостно. Красные в городе, но для театра ничего страшного…
Может, права Павла Леонтьевна – театр и впрямь над политикой?
Стоя за кулисами, я внимательно разглядывала сидящих в зале, выискивая офицеров. Среди зрителей мог быть Никита Горчаков. Я не знала, похож ли он на Андрея, но надеялась, что похож и что я его увижу. Не увидела. Зато А.К. подозрительно поинтересовалась, кого я ищу. Пришлось сказать, что не ищу, а пытаюсь понять, что это за люди, что теперь будет и как перед ними играть.
Наш разговор услышал Рудин, вздохнул, мол, ничего, приспособимся, только вот надо название театра сменить, Дворянский не годится никуда. Он предложил Театр актера, но это название не лучше.
В конце концов наш театр назвали Первым Крымским, под таким именем он и остался.
После спектакля новые зрители проводили нас по домам.
Это было очень необычно и даже приятно – они заботились о том, чтобы полюбившихся им артистов не обидели местные бандиты. Один из красных командиров распорядился и пристроил к каждому артисту и служащему театра двух, а к дамам и трех сопровождающих.
Меня провожали трое. Выглядело это так: впереди в своем большом нелепом пальто топала я, а позади бухали сапогами трое бойцов с винтовками на плечах. Почетный эскорт был куда больше похож на конвой, не хватало только встретить кого-то из знакомых, чтобы по Симферополю пополз слух, что меня арестовали.
А они еще и обсуждали, меня ли только что видели на сцене, стало смешно, я призналась, что меня, просто там я играла в легком платьице, а сейчас в теплом пальто.
Мое жилье в монастыре нежданных знакомых изумило совершенно. Пришлось вкратце объяснить, что другого места просто нет, но здесь неплохо, только вот холодно. Дров нет, потому даже чаем напоить не могу.
Бойцы проводили меня до двери, от чая отказались и исчезли.
Я «по-царски» зажгла свечу (у нас уже давно ничего приличней коптилки не было), с тоской огляделась, понимая, что последнее полено за время моего отсутствия не возникло из ничего вновь, а печка остыла окончательно, и мне предстоит всю ночь стучать зубами. Но искать что-нибудь, чем можно хоть чуть нагреть келью, уже слишком поздно.
И вдруг стук в дверь. Требовательный, ясно, что пришли решительные грубые мужчины. Я осторожно поинтересовалась, кто там, хотя понимала, что в случае, если не открою, дверь легко вышибут прикладами, а потом ими же расправятся со мной.
Из-за двери донесся уже знакомый голос, сообщавший, что они «…эта… дровов принесли немного». Я даже не сразу поняла:
– Чего принесли?
– Дровы, печку чтоб натопить. Не бойтесь.
Открыла и с изумлением увидела столько «дровов», что и в келью не поместятся. Бойцы так не думали, один встал на табуретку и поправил неловко, по-женски прилаженную трубу, после чего печка больше не дымила, другой что-то приладил в двери. Третий в это время превратил гору наколотых поленьев в аккуратную поленницу в углу нашей кельи.
Я попыталась их чем-то угостить, предложить чаю, но бойцы смущенно отказались, мол, и без того уже задержались, командиром сказано, чтоб сразу на вокзал, отправляются дальше. Им пора.
Провожая их до выхода из нашей обители, я зачем-то поинтересовалась, как зовут командира. Так не бывает, но ответили:
– Горчаков Никита Ляксандрыч.
– Хороший командир?
– Ага… Наш, не барчук.
Глядя вслед удалявшимся бегом трем фигурам, я расплакалась. Невезение продолжалось. Я была весь вечер в двух шагах от Никиты Горчакова, но не смогла его узнать. «Не барчук»… Знали бы, какой он «не барчук»! Подумалось, что даже к лучшему, что я не узнала младшего брата моего Андрея. Кто знает, как отнесся бы Никита к сообщению, что перед ним пусть и непонятно какая, но жена старшего брата – белого офицера?
Что за жизнь наступила, если нельзя признаться в своем родстве с хорошим человеком? Что или кто так переворошил Россию, все взбаламутил, исковеркал все взаимоотношения, все сломал? Построят ли новый мир и что это будет за мир?
Я не знала, что наступила не жизнь и даже не выживание, наступил полный мрак, который позже назвали светом нового Крыма. Не знала, что еще не раз пожалею, что не бросилась догонять бойцов и разыскивать Никиту Горчакова в надежде на его помощь. Хотя, если он последователь Бакунина, то о какой помощи можно было просить?
На следующий день случился еще один кошмар.
И. пришла на репетицию в таком состоянии, что мы долго не могли привести ее в чувство. Она пила воду, пыталась что-то сказать, но снова и снова заливалась слезами. Незадолго до этого мы слышали выстрелы и теперь решили, что И. просто едва не попала под пули, потому не может произнести и двух слов. Но все оказалось куда хуже.
Будучи, наконец, в состоянии что-то вымолвить, она рассказала, что перед репетицией забежала на минутку к подруге в госпиталь, чтобы отдать какую-то мелочь, а там… Красные расстреляли раненых. Всех без разбора, даже безногих.
Пожалев И., какой-то боец просто вытолкнул ее за дверь, посоветовав идти как можно дальше и быстрей. Подруга И. погибла вместе с ранеными, поскольку лечить белых тоже преступление.
Я плюхнулась на стул и долго сидела, уставившись в одну точку. Это был Машин госпиталь, останься она в Симферополе, могла сегодня погибнуть. Как хорошо, что они с Андреем уехали! Эта фраза: «Как хорошо, что они уехали!» стала для меня молитвенной. К ней добавлялась еще одна: «Только бы с Павлой Леонтьевной, Ирой и Татой ничего не случилось!».
Теперь оставалось ждать возвращения Павлы Леонтьевны, Иры и Таты, а потом сообщения от Маши.
Но через два дня новый слух: расстреляли еще три сотни человек, в основном военных и армейских чиновников. И снова берег Салгира (как из него теперь брать воду?!), испоганенный сад Крымтаева и еврейское кладбище.
Я тоже принялась мародерствовать по-своему.
Поняв, что обитательницы монастыря в него не вернутся, отправилась на поиски чего-нибудь полезного. В одной из кладовок (дверь уже была взломана до меня) нашла большую бутыль с лампадным маслом, почему-то она не привлекла ничьего внимания, притащила в нашу келью. Лампадки, конечно, не самое яркое освещение, но когда нет ничего другого, вполне годились. Павла Леонтьевна и Тата молились Богу, чтобы тот не наказывал за такое кощунство – освещение кельи лампадками, думаю, они не будут наказаны.
Все остальное разворовали до меня, даже большие церковные книги – явно на растопку. Нам хватало прокламаций.
Я сходила на квартиру к Маше, но дом был занят какой-то организацией. Внутрь меня не пустили, а добиваться я не стала, чтобы не оказаться совсем в другом доме. Горько пожалев, что не забрала все, что оставалось, я ушла не солоно хлебавши.
Больше всего жалела даже не оставшихся в буфете и в кухне продуктов, не теплых вещей, сейчас очень пригодившихся даже не нам самим, но для обмена на рынке, а альбом с фотографиями. Там Андрей с Полиной.
Вспомнив об обещании Маши прислать свой новый адрес, я рискнула отправиться в тот дом еще раз.
Начальница заведения была крайне недоверчива. Мой почти слезный рассказ о том, что моя сестра работала в этом доме горничной и была хозяевами чуть не силой увезена заграницу еще до эвакуации, но обещала прислать свой новый адрес, ее насторожил. Следующие полчаса я разыгрывала трагикомедию, описывая, какая у моей сестры была хорошая хозяйка, как она играла на рояле, как едва не пострадала при белых, потому, что помогала красным, пока те были в Симферополе, в ее доме жил комиссар Т.
Это была правда и неправда одновременно. Маша не помогала красным, просто ее предыдущая прислуга Лиза влюбилась в комиссара Т. и действительно привела его жить к себе в комнатку. Комиссар оказался вежливый и воспитанный, его присутствие уберегло Машу от экспроприации квартиры и выселения. Красные тогда продержались недолго, уходя, комиссар Т. забрал с собой и Лизу.
Начальствующая дама вопросительно посмотрела на своего помощника, тот кивнул, мол, такое было.
На вопрос, чего я хочу, поинтересовалась, не было ли сообщения от Маши, которая обещала дать свой новый адрес. Я уже жалела, что ввязалась в эту смертельно опасную игру, понимала, что играю с огнем, но просто взять и сбежать теперь уже не могла – догнали бы и… Павла Леонтьевна всегда учила, что роль надо играть до конца. Главное не запутаться и не переиграть, стоит ей в чем-то усомниться, и я до завтра не доживу. Вернее, дожить могу, только не здесь.
На мое счастье у начальницы не было желания слушать мою исповедь, она недовольно поморщилась:
– Забери вещи своей сестры. Они там, в углу сложены.
Я забрала не только кое-какие вещи Глафиры, но и альбом с фотографиями. Но у дамы возникли новые сомнения. Она поинтересовалась, где я работаю. Вот тут мне играть не пришлось, с гордостью ответила, что служу в театре.
– А почему сестра горничная?
Я кожей почувствовала холодную сталь револьвера… Надо же так глупо запутаться! Пришлось рассказать о встрече с Машей и разбитом носе, только одного не уточняла, что Маша и есть владелица квартиры и дворянка, бежавшая за границу.
Наконец, меня отпустили, я вышла на улицу, клянясь больше никогда не интересоваться Машиным новым адресом.
По тогдашнему Симферополю ходить с тюком одной было не просто опасно, а смертельно опасно. Конечно, я не дошла. Когда встал вопрос: вещи или жизнь, поскольку просто грабить меня двое верзил едва ли стали бы, их усмешки были слишком сальными, я решила, что жизнь дороже. До нашего жилища оставалось совсем немного, но я не сумела бы от них убежать. Пришлось жертвовать добытым. Осторожно ослабив узел, я вдруг швырнула вещи в сторону, отчего все развалилось, и бросилась наутек. Между мной и барахлом грабители выбрали вещи.
К сожалению, выпал и альбом, но возвращаться за ним нельзя.
В тот вечер я долго плакала, жалея, что не уехала с Машей. Была бы сейчас где-то далеко от этого кошмара. А еще плакала потому, что Павла Леонтьевна все не возвращалась и весточку не присылала.
Жизнь какая есть, другой все равно не было. Как жить на краю пропасти
Они приехали через пару дней после того, как прекратились страшные слухи о массовых расстрелах. Изумились поленнице дров прямо в келье, а еще большой бутыли лампадного масла, которой я разжилась в самом монастыре. Привезли немного продуктов, которых, впрочем, хватило дня на три, рассказывали об ужасах, которые видели по дороге.
Павла Леонтьевна радовалась, что я жива и здорова. Рада была, кажется, даже Ира.
Если бы Павла Леонтьевна приехала сразу после эвакуации, я рассказала бы ей, что произошло между нами с Андреем, но прошли почти две недели (кажется, так), за это страшное время я поняла, что за мои проступки (с точки зрения власти) могут поплатиться дорогие мне люди, уже тогда недоносительство считалось страшным преступлением, а потому решила молчать. Больше не существовало никаких доказательств нашего с Андреем брака – мой паспорт Маша увезла, по книге проехалась телега, квартира занята какой-то организацией, там ничего хранить не будут, а остатки альбома давно разметал по улице ветер. Все складывалось против нас с Андреем.
Или так и должно быть? Сама судьба решила, что мы не пара, что с меня хватит и одной ночи любви. Конечно, я очень хотела знать, как Андрей, с кем он, но решила больше не рисковать и в тот дом не ходить. Буду думать, что он с Машей в Вене.
Жизнь вернулась в привычное русло – мы снова пытались раздобыть продукты, боролись с голодом, мерзли и надеялись на лучшее. Играли, поскольку театр пользовался покровительством новой власти, устраивавшей у нас съезды, совещания и даже митинги, а в перерывах между революционными актами нам позволялось давать спектакли.
О Маше я сказала, что она эвакуировалась вместе со своей горничной, тоже Машей. Это на всякий случай, если кому-то придет в голову расспросить моих родных. Конечно, ничего не говорила об Андрее и о своем необычном замужестве. Уже было понятно, что с Андреем мы больше не встретимся, где он, а где я.
Андрей остался у меня в сердце светлым воспоминанием, он был все время со мной, я на все смотрела его глазами, критически оценивая действия новой власти, но никогда не подавала вида, что понимаю происходящее или вообще интересуюсь чем-то, кроме выживания и театра.
И вдруг вызов в КОЧКу!
Крымская Особая ЧК не то место, куда хотелось бы заглядывать почаще. А вызов мог означать, что видишь всех в последний раз.
За это время в Крыму расстреляли стольких действительно врагов и тех, кто таковыми быть просто не мог, кто не сумел что-то объяснить или доказать, просто попал под руку, оказался не там и не в то время…
Вызвали прямо из театра, с репетиции. Актеры смотрели на меня, прощаясь, Павла Леонтьевна умоляла:
– Только не болтай лишнего, ты любишь поговорить.
Я решила молчать как рыба, все равно расстреляют. Павле Леонтьевне успела шепнуть, что они никогда ничего не слышали о Маше и ее доме, даже не подозревали, где я бывала, попросила идти домой и предупредить Тату и Иру. Заметила, как она испугалась. Это то, чего я всегда боялась – потащить за собой дорогих мне людей.
Я понимала, что это за вызов, наверняка начальственная дама из Машиной квартиры навела справки, не до конца поверив в мои россказни, и все всплыло. Самым страшным преступлением помимо участия в белом движении была попытка обмануть ЧК и ее ответственных товарищей. Я ведь даже не поинтересовалась, что за организация расположилась в Машиной квартире, вдруг это вообще что-то связанное именно с КОЧКой?
Когда люди на улице видели человека в сопровождении красноармейца или двух с винтовками, они понимали – в последний путь. Вернее, предпоследний, последний обычно бывал ночью в направлении места расстрела. Все смотрели, но никто не решался ни задать вопрос, за что меня, ни просто посочувствовать, знакомые поспешно отводили в сторону глаза, словно о моем существовании и не догадывались.
Это очень страшно, когда люди поспешно вычеркивают тебя из своей жизни!
Комиссар (я не знаю, как называлась его должность или звание), который меня вызвал, был занят, мне предложили сесть и подождать. Ожидая, когда он освободится, я сквозь неплотно прикрытую дверь услышала страшные слова, которые комиссар кричал кому-то по телефону:
– Да, расстреливать! Расстреливать как можно больше. Лучше потратить на этих нахлебников по одной пуле, чем целую зиму кормить их хлебом.
Мне стало дурно. С трудом взяла себя в руки. Вовремя, потому что мне приказали пройти в кабинет.
Мебель в кабинете осталась та, что была у прежнего чиновника – большая, удобная и вовсе не революционная (хотя я не знаю, как должна выглядеть революционная мебель).
Он вокруг да около ходить не стал, кивнув мне, чтобы села на стул подле стола, сел сам, растер руками лицо и устало поинтересовался, кто такая Маша. Мне не оставалось ничего, кроме как повторить то, что говорила начальнице раньше. Комиссар слушать до конца не стал, протянул телеграмму:
– Пришла на адрес театра на ваше имя. Почему?
Я успела заметить только слово «Вена» и название улицы, номер дома уже не увидела. Внутри все возликовало – значит, они добрались! Они в Вене! Чуть не ляпнула, что остальное все равно. Понадобилось усилие, чтобы спрятать радостный блеск глаз.
Объяснила, что Маша обещала сообщить, когда доберется.
– Почему на адрес театра?
Меня тоже удивило, но я не сдавалась:
– А куда? Мы живем в келье монастыря.
– Где?!
– Своего жилья нет, возможности его снять тоже. В монастыре пусто, мы там и поселились.
Телеграмма лежала сложенной пополам, мне очень хотелось заглянуть, но я не решалась. Комиссар снова поморщился, прижав пальцы к щеке – видно, болел зуб, и посоветовал:
– Если еще будет пытаться связаться с вами, сообщите.
– Едва ли будет, – покачала я головой и вдруг поинтересовалась: – Скажите, а если она попробует вернуться в Россию, ее пустят обратно?
– Нет. Зачем сбежала?
Я стала убеждать его, что девушка влюбилась, так бывает. Но комиссару меньше всего хотелось обсуждать проблему влюбленности какой-то Маши, его мучил зуб. Снизойдя до помощи страшному человеку, я показала ему прием, которому научилась еще в детстве у Изи – нужно ногтями больших пальцев сильно нажать на внешние уголки ногтей указательных пальцев. Это поможет снять острую боль.
Похоже, комиссар мучился давно, он был готов зажимать все что угодно. Лучше бы больной зуб вырвать, но как часто самые жесткие люди до смерти боятся зубных врачей!
Изин рецепт помог, у комиссара посветлело в глазах, он даже посоветовал мне прийти к нему, чтобы подобрать место для жизни, но только не сегодня, он слишком занят. А еще, чтобы я забыла о глупой Маше, уехала так уехала. Пока я ломала голову над тем, как забрать телеграмму, комиссар распорядился по-своему – просто швырнул ее в печку! Позже я поняла, что это к лучшему, если бы я попыталась связаться с Машей и Андреем, то подписала бы сразу несколько смертных приговоров.
А тогда подумала, что ни за каким ордером не приду, а Маша как раз умная, она сейчас в безопасности, не то, что я. Но сообщать об этом комиссару не стала, лишь озабоченно поинтересовалась, помогает ли? Он кивнул, хватая трубку звонившего телефона.
Если на человека, уводимого красноармейцем с винтовкой, смотрели как на смертника, то на вернувшегося из КОЧКи живым – вообще, как на казненного, который решил прогуляться с собственной головой в руках!
Актриса, которая при виде меня с «почетным эскортом» прижималась к стенке, буквально слившись с ней, чтобы не попасть на глаза простому красноармейцу, теперь так же мимикрировала, хотя я была одна. Чего они боялись? Быть расстрелянными за компанию, потому что здоровались с неугодной, потому что просто были со мной знакомы?
Павла Леонтьевна только прижала пальцы к губам, на глазах появились слезы, остальные замерли в ожидании. Я усмехнулась:
– Знакомая сообщила, что добралась до Вены. Вот и все.
– А… куда сообщила? – с трудом выдавил из себя Рудин.
– На адрес театра. Она не знала, где я живу. Это сестра милосердия из госпиталя.
Объяснять, что эта сестра дворянка, а ее друг – князь и мой муж, конечно, не стала. Как и напоминать о том, что Андрей и его приятели однажды устроили для нас пир горой.
– И что теперь?
Я пожала плечами:
– Ничего. Только попросили, если она решится протащить обратно через границу пулемет и пару ящиков патронов и появится с этим у меня, непременно сообщить.
– Фаня! – рявкнула Павла Леонтьевна.
Я и сама поняла, что играю с огнем. Эйфория от полученной новости из Вены сменилась упадком, я рухнула на стул и залилась слезами.
Репетицию и без того прекратили, когда я вернулась, все сидели потерянные, не зная, что делать. Но и теперь репетировать никто не мог. Рудин объявил, чтобы расходились до завтра. Потом подошел ко мне и тихонько посоветовал:
– Ты бы не дружила с кем попало, Фаня.
Я не удержалась:
– А с кем можно? Вы напишите список, Павел Анатольевич.
Он лишь головой покачал и был прав. Плохая тема для насмешек, слишком опасным стало все.
Павла Леонтьевна буквально потащила меня домой, ворча по дороге, что у меня никогда не было головы, а теперь я потеряла ее окончательно. Я решила совсем не рассказывать ей об Андрее и о нашем коротеньком браке. Если Андрей с Машей уже в Вене, то обратного пути им нет. К чему тогда ворошить все, что у меня на душе.
Меня просто раздирали противоречивые чувства – с одной стороны, я была рада, что Маша и Андрей избежали гибели и живут в безопасной, сытой Австрии, с другой – где-то внутри росла и росла тоска от понимания, что я больше никогда его не увижу. Та самая стеклянная, но непробиваемая стена между нами стала еще и непрозрачной.
Павла Леонтьевна очень душевный человек и слишком хорошо меня знала, чтобы не почувствовать эту тоску. Не доходя до дома, остановила и поинтересовалась:
– Твой Андрей там же?
Я только кивнула, что я могла еще сказать?
– Ну, и хорошо, Фаня, так лучше. Со временем ты поймешь, что лучше.
Я кивала, а по щекам текли горькие соленые слезы. Конечно, лучше, главное – для него лучше. Для Андрея лучше.
Такая мысль успокаивала, но слезы продолжали течь.
Закончилась тяжелая, страшная осень, но на смену ей пришла еще более страшная зима. Тогда мы еще не знали, какой она будет, но чувствовали, что очень тяжелой. Казалось, хуже уже некуда, но это еще не предел…
Тяжелые времена раскрывают в людях все лучшее и все худшее в равной степени, это давно известно и без меня. И наблюдать второе поистине страшно.
Кто-то пытался спасти родных или чужих, кто-то старался наладить хоть какую-то жизнь в обледенелом, разбитом, умиравшем городе, кто-то, рискуя собственной жизнью, разыскивал дорогих людей. Делились последним куском хлеба, если его не было, глотком отвара из трав, давно заменявшего чай, просто глотком горячей воды или кровом.
Конечно, новая власть после волны расстрелов попыталась наладить хоть какое-то подобие жизни, но разрушать куда легче, чем организовывать и строить. К умершим людям прямо на улицах мы даже привыкли, как бы это ни было страшно, привыкли к голоду, не могли привыкнуть только к холоду и страху. И я не знаю, что именно больше вытравливало из людей души.
Очень многие говорили «скорей бы уж», чтоб больше не бояться, но на деле были готовы на все, чтобы спасти свою жизнь. Иногда буквально любой ценой.
Главным страхом было ошибиться, чем-то не угодить представителям новой власти.
Это сейчас я понимаю, что для красноармейцев, перешедших Сиваш по пояс в ледяной воде, тех, кто мерз в херсонских степях, кто столько месяцев не жил нормальной жизнью, мы все были врагами или почти врагами. Едва ли у них было желание или возможность разбираться, кто и в чем виноват.
И вот эта слепая способность причислять к врагам всех, кто оказался по другую сторону баррикад, была особенно страшна. Можно не быть в чем-то виноватым ни перед новой, ни перед старой властью, но просто «попасть под горячую руку» и…
Убили нашу бывшую соседку по дому, где мы снимали жилье, когда средств на это еще хватало. Аня лежала посреди улицы, раскинув руки, и смотрела в бледное небо немигающим взглядом. За что? Я точно знала, что она никакой контрреволюционной деятельностью не занималась, что пролетарского происхождения, оружия серьезней кухонного ножа в руках не держала, но вот погибла. На груди расплылось и застыло темное пятно от пули. Издержки революции…
После Симферополя я до смерти боюсь всех революций, потому что видела ее издержки.
А при словах о мировой революции впадаю в состояние неописуемого ужаса. Мир большой, если и он будет ввергнут в эти «издержки», пролитая кровь затопит сердца.
За что погибли люди, причем с обеих сторон? Псы Кутепова вешали большевиков на фонарных столбах, подручные Б. и З. белых расстреливали.
У нас быстро закончилось все: привезенные от В. продукты, Машины свечи, дрова, которые мне притащили красноармейцы… Закончились и вещи, на которые можно что-то выменять. Впереди зима, а у нас ничего. Замаячил настоящий голод.
Ира теперь с тоской вспоминала мои походы к Маше в гости, откуда я обязательно приносила что-то вкусненькое. Она жалела, что съела все конфеты сразу, их же можно было растянуть, по одной в день…
Я невесело усмехалась: по одной в день и на месяц не хватило бы.
Ира соглашалась: хорошо, по две в неделю…
У меня вдруг обнаружилась своя проблема, да еще какая! Задержку в полмесяца я легко объяснила холодом и перенесенным страхом, но к православному Рождеству меня начало мутить по утрам. Единственная ночь любви принесла свои плоды, но я не знала, радоваться или горевать. Случись все на месяц раньше, как бы мы были счастливы! Хотя нет, за месяц до этого Андрей уже уплыл в Константинополь, а я осталась. Нет, вот если бы два месяца…
Но вокруг был замерзший голодный Симферополь, а внутри меня зародилась и начала развиваться жизнь. От Андрея! И с каждым днем становилось ясней, что жизни этой едва ли удастся продолжиться.
Мы приберегли сухарей к Рождеству, не надеясь раздобыть что-то более существенное, оставалось немного лампадного масла и немного дров. Железная печка быстро нагревается, но тепло держит очень плохо, греет, только пока в ней горит огонь. Каменные стены монастыря хорошо держат тепло, но для этого надо хорошо натопить.
У нас не было дров для печки, уже в декабре мы топили ее, только когда что-то готовили. Немного погодя она остывала и к следующей топке превращалась в холодильник, забирая остатки тепла своими холодными боками.
Мы простыли, «бухала» Ира, температурила Павла Леонтьевна, из последних сил держалась Тата – наша палочка-выручалочка во всем, что касалось житейских дел. Я тоже температурила. Мы с Павлой Леонтьевной старались не подавать вида, нужно было играть, каждый пропущенный даже из-за болезни спектакль мог стать судьбоносным, то есть можно было потерять место, что означало голодную гибель. Впрочем, умереть от голода и без того было легко, но с талонами, выдаваемыми нам в театре, сохранялась хоть призрачная надежда зиму пережить. Не играть нельзя, другого дохода просто не было, Тата, совершавшая чудеса в добывании еды, долго так продолжать не могла.
В Симферополе жизнь наладилась очень нескоро, всю зиму народ перебивался непонятно чем или попросту умирал.
Когда начало мутить по утрам, я приписала это голоду и противному запаху касторового масла, на котором Тата что-то жарила. Конечно, запах горячей касторки ужасен, но причина моей тошноты крылась в другом. Об этом догадалась Тата.
Возможно, ни она, ни я не предприняли бы ничего, не накати очередная эпидемия. От полного вымирания из-за тифа и холеры Симферополь спасал холод. У людей не было дров, чтобы прокипятить воду или даже нагреть ее для мытья. А вот вшей и прочей гадости – хоть отбавляй. Вывести их невозможно, чтобы подцепить новых, достаточно прийти в театр, где насекомые кишмя кишели в стульях или креслах, в одежде из реквизита, во всем, чего мы касались или чем пользовались. Попадется среди них тифозная, и все.
Заболела А.К. По театру пронеслось: тиф! Мы каждый день были с ней рядом, заразиться мог любой. По правилам закрыть бы театр, а труппу посадить на карантин, но как?! Не работать, значит, не есть, а тогда смерть. Т.Я. пожала плечами:
– Предпочитаю умереть от тифа, а не от голода.
Она права, если театр закроют, умрем все.
Мы продолжали работать, заменив А.К. в спектаклях и прекрасно понимая, что каждый может оказаться следующим. Павла Леонтьевна температурила, но признаков тифа не было, а вот когда знобить начало меня!.. Я-то вполне могла принести тиф домой из театра.
Но у меня добавлялась еще и страшная тошнота по утрам.
Чтобы на нее не обращали внимания, я старалась улизнуть из дома, едва встав с постели, вернее, выбравшись из вороха тряпья, изображавшего нашу постель. Однажды следом за мной вышла и Тата. Я не могла справиться со своим стоянием и стояла, согнувшись в углу, сотрясаемая очередным приступом. Желудок был пуст, потому исторгнуть не удавалось ничего, но это не мешало ему мучительно содрогаться.
Тата подошла, немного постояла, наблюдая, дала попить водички, спокойно поинтересовалась:
– Сколько?
– Что?
– Сколько недель?
Я попыталась солгать:
– Меня мутит от запаха касторки.
Тата возразила, что уже два дня ничего не жарила, и снова поинтересовалась о сроке. Пришлось признаваться.
Последовал короткий кивок:
– Я дам тебе средство, только Павле Леонтьевне не говори. Никому не говори.
Средство, чтобы избавиться от ребенка Андрея?! Ни за что!
Тата тряхнула меня изо всех сил:
– Ребенка не родишь и сама сдохнешь! А хуже того – родится урод, а ты умрешь! Нашла время рожать.
Я возразила, что ребенок от любимого человека.
– Да хоть от императора Наполеона! У тебя тиф, какой же ребенок?
Она отселила меня в соседнюю келью, чтобы не заразила Павлу Леонтьевну и Иру, и ухаживала, пока я не встала на ноги. И средство дала – просто поставила на стол и ушла.
Два дня я не могла решиться. Собственными руками убить ребенка Андрея?
И все же выпила. Тата была права – самой выжить шансов мало, при лихорадке я бы все равно ребенка потеряла…
Она гладила меня по голове, как маленького ребенка, уговаривая:
– Будут еще дети. Переживем зиму, разыщешь своего любимого человека и нарожаешь от него много детишек. Ты только сейчас выживи…
Я выжила, но Тата ошиблась – детей у меня больше не было. Не потому, что не могла родить, я не могла родить от другого!
И любимого человека не нашла…
Благодаря Татиной заботе я выжила и даже довольно быстро пришла в себя.
Вернулась в театр, правда, не сразу, была слишком слаба, чтобы не упасть прямо на сцене.
И вот в один из дней после возвращения, когда после очередного революционного мероприятия мы давали концерт из сцен из спектаклей (болезнь части труппы временами просто не позволяла играть нормальные спектакли), я вдруг увидела… Нет, это не могло быть! Это галлюцинации из-за температуры, видно, болезнь начиналась снова.
Матвей?! Брат Маши здесь?!
Я посмотрела еще раз и снова не поверила собственным глазам – да, в свите З. стоял Матвей! В красноармейской форме, коротко стриженый, со ставшими уже заметными усами, но Матвей!
Я не удивилась бы, увидев Никиту Горчакова, даже подходить не стала, но как мог оказаться здесь Матвей?
Сразу после спектакля Матвей пришел в мою крошечную заваленную разным театральным хламом гримерку и представился:
– Командир Красной Армии Дмитрий Смирнов. Вы прекрасно играли сегодня.
Я не успела ничего ответить, он быстро прошептал:
– Нужно встретиться. Завтра в полдень на углу Пушкинской и Гоголевской. Придете?
Я только кивнула, не думая, как объясню Павле Леонтьевне присутствие в городе Матвея. А вдруг это провокация КОЧКи?!
Что творилось в этом мире? Почему Матвей здесь под чужими именем? Может, он разведчик? Да, вполне могло быть – прислали из ставки, чтобы разведать планы противника.
Я осадила сама себя: что за глупость? Ставки давно нет, да и для кого разведывать, если самой Русской Армии тоже нет?
С трудом дождавшись полудня следующего дня, помчалась (поковыляла) на оговоренный угол.
Матвей уже ждал, руку не поцеловал, да я бы и не дала. Только поздоровались.
– Почему вы здесь, а не в Вене?
Он как-то раздраженно мотнул головой, мол, на что там жить? Это у Андрея и Маши имелись средства, а у него нет. Я усомнилась: а здесь на что? Матвей был как-то странно беспокоен, словно хотел что-то сказать, но не решался.
Я поняла сама:
– Почему у вас чужое имя? Не бойтесь, я не выдам. В вашей квартире какая-то организация, туда ходить нельзя.
Матвей не мог начать, начала я, сказав, что Маша прислала телеграмму на мое имя в театр, там был указан венский адрес, значит, она в Вене.
Он даже встрепенулся:
– А еще что?
Я только плечами пожала, мол, не читала, а телеграмму видела в КОЧКе, куда из-за нее и вызывали. Но, кажется, кроме адреса там ничего не было.
Он попросил пойти куда-то и посидеть, мол, разговор долгий, но слышать его никто не должен. Пришлось идти в театр и устраиваться в моей каморке, Матвей не Андрей, а нынешнее время не осень, когда еще работали рестораны.
По пути, хотя мы встретились практически возле театра, Матвей снова и снова оправдывался, мол, быть у Маши на содержании нелегко, его здешняя зарплата годилась только на карманные расходы, а в Константинополе генерал Врангель и вовсе не обещал ничего. Да, так честно и сказал, что союзники в содержании Русской Армии отказали, все, кто сел на корабли в Севастополе, могли рассчитывать только на себя. А у него, Матвея, ничего нет. Горчаковы и Гагарины успели продать хотя бы часть имений и деньги перевести, а у него все под Москвой, все потеряно.
Я слушала Матвея и понимала, что он вовсе не о потере имения хочет сказать и вовсе не о меркантильности сестры, у него есть что-то еще, что во стократ важней. Что, имя? Наверное…
Но Матвей вдруг признался, что у него есть семья – жена и сынишка в Ростове. Были, во всяком случае. Они не венчаны, но это неважно. Потому решил не эмигрировать, надеялся найти их и уехать уже вместе. Пусть родственники думают что угодно. Если Андрею можно жениться, то почему ему нет?
Значит, он знал о нашем скоротечном браке. На сердце потеплело, это говорило о том, что Андрей не скрывал не только от Маши и своих родных в Вене, но и вот от Матвея, который со мной знаком.
Я видела, что Матвей очень волнуется и страстно желает облегчить душу. Конечно, кроме меня, ему некому поплакать в жилетку. И я решила потерпеть.
На вопрос, почему не поехал сразу в Ростов, Матвей помотал головой, мол, сынишка умер от тифа, а жена нашла себе другого и уехала. Потом как-то странно дернулся, обреченно вздохнул и встал, словно подчеркивая важность момента.
Если бы было где, Матвей бегал, но в моей крошечной каморке даже по стенам, как муха, не побегаешь – все забито реквизитом. Сидеть он не мог, стоял, комкая фуражку в руках так, что надевать ее после разговора едва ли можно.
Да чего он так?
– Фанни, выслушайте меня, только не судите слишком строго, я сам себе противен, сам себя ненавижу. Готов пустить пулю в лоб, но пока перед вами не исповедался, не могу.
Нужна мне его исповедь! Что он там, убил этого самого человека, чьими документами воспользовался? Небось, пролетарского происхождения жертва была.
Я терпела Матвея и его исповедь только потому, что он последним видел моего Андрея и мог знать венский или парижский адрес Горчаковых. Я не собиралась навязываться ни родным, ни самому Андрею, но, может, когда-нибудь появится возможность просто написать пару строк?
Но с первых слов Матвея стало ясно, что рассчитывать не на что…
Сердце у меня ухнуло вниз и возвращаться не собиралось, оно раньше разума почувствовало беду, но разум гнал это понимание, находил поводы, чтобы не связывать то, что говорил Матвей, с Андреем. Вернее, искал такую возможность и не находил!
Матвей рассказывал, что они решили вернуться в Симферополь. Я уже поняла, что произошло что-то страшное, но возразила:
– Маша прислала телеграмму из Вены!
– Маша – да, но не Андрей.
Не давая мне перебить, закричать, вцепиться в него и трясти, как грушу, Матвей принялся поспешно рассказывать.
Андрей решил вернуться и забрать меня с собой даже силой, Матвей втайне рассчитывал разыскать Никиту, чтобы понять, есть ли какая-то надежда быть нужным новой власти и разыскать своих в Ростове. Другу объяснил просто, мол, тоже ищет человека. Андрею было ни до чего, они оба спешили.
Красным попались уже в Симферополе утром 9 ноября. Они не были зарегистрированы в первые три дня, как полагалось, но готовы сделать это теперь. Требовалось срезать погоны, снять и отдать охране награды, даже полученные в германскую войну, и, конечно, подписать клятвенное обещание не выступать против Советской власти.
Погоны сняли, не уплыв с Врангелем, в Крыму таким требованиям подчиняться надо. И клятвенное обещание подписать тоже согласились все. А вот дальше они разделились: Андрей категорически отказывался снимать и отдавать боевые награды, те, что получены не от генерала Врангеля, а в германскую. Он защищал не власть в России, а Родину.
Еще до ареста они договорились не называть имен, в том числе моего, а если спросят, сказать, что вернулись за Машей, это безопасно, она уже в Константинополе. Еще Андрей запретил упоминать имя Никиты, понимая, что родство с белым офицером может сильно его скомпрометировать. Красная Армия и власть Советов его выбор, пусть живет так, как считает правильным.
Когда стало понятно, что с теми, кто отказался отдавать боевые награды (оружие Андрей оставил в Севастополе у надежных людей, понимая, что его обязательно отберут), будут разговаривать отдельно и не слишком вежливо, Андрей попросил Матвея найти меня и сказать, что не смог уплыть один, а еще, что я права – он без России ничто. И если Россия больна, ее дети не имеют права покидать Родину, спасая собственную шкуру.
Поговорить им не дали, двадцать семь человек, не отдавших свои награды, увели, вернее, их сразу делили на согласных и несогласных.
Вот тогда Матвей понял, что и согласным тоже не выжить, имея дворянское происхождение.
Он рассказывал, что в Севастополе лежал и умер у него на руках его товарищ по боям на германском фронте. Матвей знал о нем достаточно много подробностей, Помнил, что происхождение самое пролетарское – из семьи рабочего, что на фронт попал вовсе не добровольцем, а в Русской Армии почти не воевал, поскольку болел – кашлял после химической атаки еще с германской.
Вспомнил о документах, которые надо бы передать родным, только как это сделать?
И тогда Матвей решил этими документами воспользоваться. Хотя бы в тот момент, чтобы не попасть в тюрьму, потом, вопреки требования Андрея, найти Никиту и с его помощью бежать в Ростов.
Матвей говорил мне, что за границей был бы нищим, жить на содержании у сестры унизительно, что он просто хотел вырваться из-за колючей проволоки на свободу. Он не хотел воевать ни с кем и ни за кого, он хотел только выбраться…
Он говорил, говорил, говорил… А я слышала одно: Матвей сумел выбраться, а Андрея увели за эту самую колючую проволоку. Куда?
– В тюрьму.
– Андрей в тюрьме?! Матвей, он в тюрьме?! Почему же ты только сейчас об этом сказал?!
Я готова была трясти его изо всех сил, чтобы поскорей сообщил, в какой тюрьме Андрей. Кажется, трясла, он не сопротивлялся.
– Когда это произошло? Сколько дней Андрей в тюрьме? Ты будешь отвечать, черт тебя подери?!
Я ругалась и по-русски, и по-еврейски, а он все мямлил. И только после забористого мата выдал:
– Их расстреляли в ту же ночь. Сначала пытали в саду Крымтаева, а потом расстреляли. Всех двадцать семь человек. И еще больше тысячи семисот других…
Я даже выпустила борта его шинели.
– Врешь… за что, за то, что не отдали боевые награды? Но это же не оружие…
Говорила и понимала, что не врет, что точно знает правду.
9 ноября по-старому… в тот день я не находила себе места, а ночью не могла спать. Ходили слухи, что на даче Крымтаева расстреляли много военных. Я малодушно радовалась, что Андрей успел эмигрировать…
Нет-нет! Я могла поверить в колючую проволоку, в тюрьму, во что угодно, но только не в гибель Андрея! Нет, за что?! Он дал слово, а если дал, значит, никогда не поднял бы оружие против новой власти, он человек чести.
Нет! Матвей ведь не видел это своими глазами? Андрей мог остаться в тюрьме, он и сейчас там. Мало ли кого расстреляли? Я должна немедленно разыскать его, я даже знала, к кому пойду – к тому самому комиссару из КОЧКи. Пусть расстреляет меня, если очень нужно, но я сумею объяснить, что Андрею Горчакову можно доверять, что данное слово он сдержит даже ценой собственной жизни. Я слышала, что физически сильных белых офицеров из тюрем начали отправлять куда-то на каторжные работы. Но ведь это не расстрел, там Андрея можно разыскать и… ну, не знаю, помочь бежать, что ли!
От мысли о «собственной жизни» стало плохо – Андрей обещал мне, что если я не приеду, он вернется, и слово сдержал… ценой собственной жизни?!
Наверное, я кричала это вслух или бормотала, неважно. Матвей засуетился снова:
– Я знал, что ты не поверишь, знал. Понимаю, что так легче, надеяться всегда легче. Потому и не шел к тебе столько времени. Не шел, пока доказательство не получил.
– Доказательство?
Он лишь закивал головой. Вытащил из внутреннего кармана бумагу, дрожащими руками развернул, подал мне, поясняя:
– Это копия. Мне списали. Настоящий в ЧК.
Я такими же дрожащими руками взяла лист, он при этом сложился снова, воюя с непослушной бумагой, слышала пояснения:
– Таких списков много, они за одну ночь больше тысячи семисот человек расстреляли. Этот самый маленький, остальные длинные…
Голос Матвея страшно раздражал, хотелось крикнуть, чтобы замолчал немедленно!
Он видно понял, прекратил зудеть.
Лист, наконец, развернулся. Шапка сообщала, что по постановлению чрезвычайной тройки особого отдела ВЧК при РВС 6-й армии от 22 ноября 1920 г. (почему-то подумалось по какому это стилю?) в составе председателя Б., членов Б. и Ц. в Симферополе расстреляно 27 пленных. И список расстрелянных.
Взгляд метнулся сразу вниз, хоть на мгновение оттягивая встречу с фамилией Андрея, и тут же наткнулся на Краснокутского Николая Тимофеевича, полковника, 42 лет. Того самого…
Надеяться не на что, я прочитала. Фамилия… имя… отчество… возраст…
Я прочитала и поняла все, кроме одного – это Андрея расстреляли в числе 27 приговоренных.
Все мое существо протестовало против увиденного, ни ум, ни сердце не желали признать страшную правду. Я видела ошибку в слове «составе» – написано через «а», видела исправленную нумерацию – пропущен номер пять, из-за этого три последующих исправляли, видно тот, кто переписывал, страшно нервничал и торопился. Я понимала текст, но не желала принимать его ни разумом, ни сердцем. Приговоренных было в тот день больше тысячи семисот, но какое мне дело до сотен других, если в самом маленьком списке фамилия Андрея?!
Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я вынырнула из темноты, в которой вдруг оказалась. Нет, я не потеряла сознание, не упала в обморок, я продолжала сидеть с широко раскрытыми глазами, это мир вокруг перестал существовать.
Андрея не было… больше не было… он не эмигрировал, не гулял по улицам Вены, Парижа или Женевы, не пил кофе с матерью, не шутил с сестрой… он даже не с Машей, его расстреляли! Расстреляли за то, что отказался снять боевые награды, поскольку получил их за мужество в бою. Расстреляли за то, что не пожелал отказаться от своей чести.
А Матвея не расстреляли, поскольку тот согласился.
Если бы и Андрей согласился, был бы жив и даже мог служить большевикам, как Матвей. Или как Никита.
Но я понимала, что это был бы уже не Андрей Горчаков, он просто не смог бы жить, совершив такое.
Я застонала: если бы Андрей не возвращался за мной в Симферополь, если бы сразу в Севастополе сел на пароход! Пусть без меня, пусть вдали, пусть даже счастливо с другой, но жил.
Матвей моему стону обрадовался:
– Очнулась, слава богу. Я уж испугался, сидишь и сидишь, как каменная. Фанни, попей водички, а?
Я, ничего не понимая, попила.
– Ну, вот, рассказал, теперь и умирать не страшно. Я тебе еще что сказать хочу…
Матвей снова полез во внутренний карман и достал оттуда крошечный сверток – что-то, завернутое в листок из записной книжки.
– Андрей просил передать это тебе.
Я развернула. Внутри лежал крестик из церкви Всех Святых. На листке карандашом:
«28 октября 1920 г. церковь Всех Святых. Симферополь. Ты – Горчакова».
У меня осталось только это – простенький крестик.
А еще память, в которую я никого не пускаю.
И театр – моя жизнь, мое спасение во все времена.
А может, проще не любить, Не быть любимой? Чтоб после столько лет не жить С бедой непоправимой. Не знать, не ведать, не страдать, Не думать о потере. И много-много лет не ждать, Не плакать и не верить. Пусть соловей не мне поет Весною в роще. Спокойней, если нет любви, Надежней, проще. Я не могла не полюбить, Не быть любимой. Хоть мне теперь всю жизнь платить Тоской неразделимой.Послесловие
Фанни, Фаня – Фаина Георгиевна Раневская (Фаина Гиршевна Фельдман), 27.08.1896 – 19.07.1984 г.
Андрей Александрович Горчаков – имя вымышленное, в записях только инициалы А.Г., как и инициалы его брата Никиты Горчакова.
Гирша Хаимович Фельдман – отец Фаины Григорьевны.
Толбухин Федор Иванович (16.06.1894 – 17.10.1949 г.) – маршал Советского Союза.
Павла Леонтьевна Вульф (1878–1961) – актриса, многолетняя наставница Раневской, благодаря которой Фаина Георгиевна стала актрисой. Ее называли «Комиссаржевской провинции».
Ирина Вульф (Ирина Сергеевна Анисимова) – дочь Павлы Леонтьевны, советская актриса, режиссер.
Нина, Ниночка – Нина Станиславовна Сухоцкая (1906–1988), актриса Камерного театра, племянница Алисы Коонен, многолетняя подруга Раневской.
Имена Матвея и Маши Гагариных тоже условны, хотя имя Матвея в тексте однажды встречается, тот, кто вымарывал другие имена, случайно пропустил его.
Павел Анатольевич Рудин – режиссер Театра актера (Дворянского театра Симферополя), позже Первого Советского театра Симферополя, ныне Крымского драматического театра им. Горького. Спаситель многих симферопольских актеров периода Гражданской войны.
Алиса Георгиевна Коонен (1879–19974) – русская советская актриса, супруга и помощница создателя Камерного театра Александра Таирова. С этого театра началась московская театральная карьера Раневской.
Б. – Бела Кун (1886–1938), венгерский, советский политический деятель. В ноябре 1920 годы руководил Крымским ревкомом, знаменитым массовыми казнями в Крыму. Расстрелян в августе 1938 года в Москве. Реабилитирован в 1955 году.
З. – Землячка – Розалия Самойловна Залкинд (1876–1947), идейный вдохновитель и организатор Красного террора в Крыму в 1920–1921 годах. Идеолог тотального уничтожения всех неугодных советской власти или несогласных с таковой. Репрессиям не подвергалась, прах захоронен в Кремлевской стене.
С.Э. – Сергей Эйзенштейн (1898–1948), советский режиссер.
Судьбы Матвея и Никиты сложились несчастливо.
Матвей не выдержал собственного предательства и пустил пулю в лоб вскоре после признания. Об этом есть лишь короткое, в два слова, упоминание в дневнике Фаины Георгиевны: «М. застрелился». И приписка другой рукой (Нины Станиславовны?): «Так ему и надо!».
Никита Горчаков был расстрелян в тридцать седьмом. Ему припомнили происхождение и знакомство с маршалом Тухачевским. Об этом тоже сказала Нине Станиславовне Фаина Георгиевна – через много лет увидела в списке реабилитированных его фамилию. В записях пометка об этом сделана рукой вероятно Сухоцкой.
Судьба Маши неизвестна. Приезжала ли она в Советский Союз, искала ли брата и Андрея Горчакова? Едва ли. Знала ли она вообще об их судьбах?
Где захоронен Матвей, неизвестно, а на месте сада Крымтаева давно Симферопольское водохранилище. При его создании слои земли, в которых были останки расстрелянных офицеров, увезли, куда – никто не знает.
Давать ответ на предложение маршала Федора Ивановича Толбухина Фаине Георгиевне едва ли пришлось – к назначенному ею сроку он был тяжело болен и в октябре 1949 года умер от диабета в возрасте всего лишь 55 лет.
Нина Станиславовна Сухоцкая ненадолго пережила Фаину Георгиевну, она умерла в 1988 году. Нина Станиславовна была душеприказчицей своей знаменитой тети – актрисы Алисы Коонен, оставившей ей весь свой архив, в том числе и дневники. Душеприказчицей Сухоцкая оказалась серьезной – при ее жизни ничто из оставленного не увидело свет. Даже дневники Алисы Коонен, в общем-то, ничем не угрожавшие новой хозяйке.
Дневники Алисы Коонен серьезно правлены, в них вымараны слова, строчки и удалены целые страницы, буквально вырезаны некоторые имена. Кем? Считается, что самой Коонен, но так ли это?
Записи Фаины Георгиевны тоже исправлены, также старательно замазаны имена, оставлены только инициалы. Но если расшифровать стоящие рядом П.Л., И. и Т. достаточно просто, это настоящая семья Фаины Георгиевны – Павла Леонтьевна Вульф, ее дочь Ирина и Тата (Наталья Александровна Иванова), то определить, кто скрывается под А.Г., невозможно. В списке двадцати семи расстрелянных 22 ноября (9-го по старому стилю) в Симферополе подполковника с такими инициалами нет. А вот полковник Краснокутский есть. Значит, Андрей в этом списке, только под другим именем? Подполковник 34 лет есть, это Плетнев Николай Константинович, но данных о нем мы не нашли.
Разговорчивая Сухоцкая умела хранить чужие секреты, неизвестно, когда попали к ней записи, но ни при жизни Раневской, ни после Нина Станиславовна и словом не обмолвилась о бумагах. Как никому не говорила о многих других откровениях, доставшихся ей по наследству.
Прямых наследников архива Сухоцкой не было. Замечательная подруга Раневской не решилась доверить свой клад кому-либо персонально, тетради «расползлись» по разным домам, иногда даже не подписанными. Какие еще тайны сохранила верная подруга Фаины Георгиевны?
Об этом мы уже никогда не узнаем, ведь сама Нина Станиславовна записей не оставила.



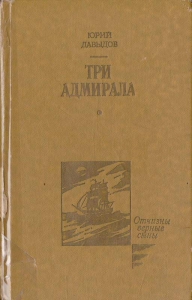
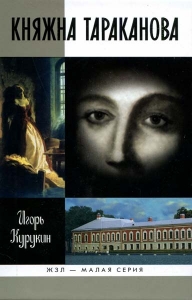
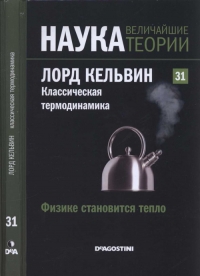




Комментарии к книге ««Моя единственная любовь». Главная тайна великой актрисы», Фаина Георгиевна Раневская
Всего 0 комментариев