Ричард Олдингтон Стивенсон Портрет бунтаря
1
«Что именно влекло человека — не имело значения, раз его влекло к чему-то, одно это почиталось греховным. Все естественное было дурно. Духовенство лишило людей отдыха, развлечений, зрелищ, игр и охоты, подавило всякое веселье, запретило самые невинные наслаждения, прекратило все празднества, закрыло доступ к удовольствиям и погрузило страну в уныние и мрак… Дух превыше плоти! Люди стали тревожными, грустными, замкнутыми; это проявлялось в их каждодневных поступках и даже в самом их облике. Лица их были угрюмы, глаза опущены долу. Не только их взгляды и мнения, но даже поступь, манера держать себя, голос, весь внешний вид изменились под воздействием той смертоносной заразы, которая в зародыше губила искренние и пылкие движения души» (Бокль, «История цивилизации…»).
Возможно, не все согласятся с этим обвинительным приговором целому столетию шотландской истории, но, если мы ставим себе целью проследить путь Роберта Луиса Стивенсона, шотландца по самой своей глубинной сути, правильнее всего начать, сказав несколько слов о той трагической роли, которую сыграла религия в жизни Шотландии. Пуританизм был там куда сильнее, чем в Англии, держался дольше, глубже проник в умы — или, во всяком случае, был серьезнее обоснован теологически — и имел кальвинистский[1] уклон. Правда, к тому времени, к которому относится детство и отрочество Стивенсона (1850–1870), путы церковной дисциплины ослабели. К концу XVIII века общественные нравы заметно смягчились, и вряд ли нужно упоминать о том, что в течение нескольких десятилетий Эдинбург имел все основания считаться более крупным культурным центром, чем Лондон. Однако, хоть и пошатнувшись с годами, религиозная дисциплина все еще была достаточно строгой, особенно для детей: и, едва научившись говорить, Роберт Луис Стивенсон почувствовал это, чему в первую очередь способствовали его отец, Томас Стивенсон, и няня, Элисон Каннингэм (Камми).
Естественно, такую сложную натуру, как Стивенсон, это толкало на бунт и даже на прямое неверие, что приводило к бесконечным и очень мучительным ссорам с отцом. Подобный бунт часто свидетельствует о силе того, против чего он направлен. Действительно, из-под многочисленных масок Стивенсона — будь то маска «эльфа» или эмигранта-любителя, маска ведущего богемную жизнь инвалида или «землевладельца», устраивающего молитвенные собрания на Самоа, — всегда выглядывал неистребимый шотландский кальвинист. Это понимал друг Роберта Луиса Хенли, издевавшийся над молитвами, которые Стивенсон писал в Ваилиме, своем поместье на Самоа. В Стивенсоне, писал он, «крепко засел «Краткий катехизис».[2]
Столь же двойственно и отношение Стивенсона к отцу, который был ему в чем-то очень близок, а в чем-то абсолютно чужд, как мы еще не раз будем иметь случай отметить. Родственные чувства Стивенсона простирались не на одних лишь родителей — он не был бы настоящим шотландцем, если бы не интересовался своей родословной. Мы можем познакомиться с генеалогическим древом Роберта Луиса, начертанным, естественно, в самой схематической форме, от его первого известного нам предка по отцовской линии, некоего Джемса Стивенсона и Александра Бэлфура, ставшего основателем старинного рода Бэлфуров — родичей Стивенсона по матери. Со свойственной Стивенсону несколько аффектированной, а пожалуй, просто мальчишеской любовью к «романтике» и «приключениям» он тешил себя надеждой, что, быть может, ведет свой род от Роб-Роя Мак Грегора[3] или хотя бы от его клана. Доказать это он, разумеется, не мог, и «точное свидетельство», о котором Стивенсон говорит в письме, написанном незадолго до смерти, заключается лишь в том факте — если это факт, — что, когда клан Мак Грегоров был объявлен вне закона, некоторые члены клана стали называть себя «Стивенсоны». Возможно, это и так. Вальтер Скотт пишет, что люди, именовавшие себя «днем Кэмпбэллами, ночью становились Мак-Грегорами».
Поскольку Стивенсону не удалось заполучить себе в предки шотландского мятежника, ему пришлось довольствоваться отцом и дедом — инженерами, строителями маяков. У него достало ума гордиться ими, хотя то, что он делил свои симпатии между разбойником и людьми, сумевшими благодаря знаниям и силе воли найти достойное дело в жизни, показывает, в какой мере Стивенсон был привержен к искусственной, а подчас и дешевой «романтике ужасов», которая портит некоторые его произведения. Переход Стивенсонов от привычной для средней буржуазии коммерции к новому по тем временам инженерному делу, а тем более строительству маяков, вкупе с некоторыми трагическими происшествиями и необычными браками образует любопытную предысторию их литературного потомка.
В конце XVIII столетия жили два брата Стивенсоны, Хью и Аллан; второй из них женился в совсем юном возрасте на некой Джин Лилли, от которой у него был один сын Роберт, родившийся в 1772 году. Братья занимались торговлей в Вест-Индии и оба погибли лет двадцати с небольшим, когда преследовали в открытом море своего компаньона, растратившего все деньги фирмы. Джин с грудным сыном осталась без единого пенни. Как она умудрилась прокормить себя и ребенка, неизвестно, но в 1787 году она снова вышла замуж за жителя Эдинбурга, Томаса Смита, который занимался осветительным делом. За год до того Томас Смит получил должность инженера в только что созданном Управлении Северными огнями (иначе говоря, маяками и буями) и заменил употреблявшиеся ранее угольные светильники керосиновыми лампами с отражателями, которые сам же изобрел.
Роберт Стивенсон (1772–1850) стал учеником отчима и не только сравнялся с ним в искусстве совершенствования прожекторов и строительства маяков на скалистых берегах Шотландии, омываемых вечно бушующим морем, но и далеко превзошел его.
Это был человек неподкупной честности, пользовавшийся заслуженно высокой репутацией в своей профессии. Помимо самих маяков, до наших дней сохранилось письменное свидетельство о его работе, которое внук отредактировал и включил в очерк «Летопись семьи инженеров». «Отчет» Роберта Стивенсона о строительстве маяка на скале Белл-Рокк (восточное побережье Шотландии) в 1807–1811 годах не менее интересен, чем многие произведения, вошедшие в собрание сочинений его внука. На мой взгляд, «Отчет» значительно превосходит романы, которые Луис стряпал вместе со своим пасынком Осборном, и даже кое-что из менее удачных опусов самого маэстро.
Через три года после того, как постройка маяка Белл-Рокк была закончена, специальные уполномоченные Управления Северными огнями совершили инспекционную поездку по северному побережью Шотландии. На борту шхуны, принадлежавшей управлению, находился в качестве гостя Вальтер Скотт, оставивший весьма интересный и занимательный дневник этого путешествия, где он упоминает об «официальном руководителе поездки… мистере Стивенсоне, старшем инспекторе управления, весьма воспитанном и скромном человеке, повсеместно известном своими знаниями и мастерством». Скотт говорит о Роберте Стивенсоне с неизменным уважением, а также особо отмечает «жалобы» жителей островов (которые сами когда-то потерпели кораблекрушение) на то, что со времени постройки маяков корабли перестали идти ко дну и пм больше нечем поживиться! Еще любопытнее для нас следующая выдержка из дневника:
«Выбрался на палубу около четырех часов утра; оказалось, мы обходим с наветренной стороны остров Тири, поскольку мистер Стивенсон решил показать нам гряду скал под названием Скерривор, где он полагает необходимым поставить маяк. Громкие протесты со стороны инспекторов, которые в один голос заявляют, что заранее присоединяются к его мнению, в чем бы оно ни заключалось, лишь бы поскорей вернуться и ступить на твердую землю. Спокойная настойчивость со стороны мистера С, прыжки, дрожь и недовольный скрип яхты, которой, судя по всему, перспектива идти на Скерривор нравится столь же мало, как и инспекторам. Наконец наши усилия вознаграждены, и перед нами возникает длинная скалистая гряда (почти вся под водой), о которую с грохотом разбивается прибой. Страшное и величественное зрелище! На одном конце рифов, тянущихся примерно на милю в длину, есть несколько плоских широких камней. Они немного выступают из воды, хотя буруны то и дело перелетают через них. Чтобы выполнить все формальности, Хэмильтон, Дафф и я решаем высадиться на эти камни вместе с мистером Стивенсоном. С большим трудом выгребаем против высокой волны и приближаемся к черным остроконечным скалам, вокруг которых кипят страшные буруны, покрывая их целиком. Однако нашим гребцам удается завести лодку в спокойную бухточку между двумя рифами, на один из которых мы, основательно вымокнув, умудряемся взобраться… Мистер С. тщательно производит все измерения. Это самое уединенное место из всех, где ставили маяки. Белл-Рокк и Эддистоун по сравнению с ним просто чепуха. Ближайшая земля — необитаемый остров Тири — в четырнадцати милях отсюда. Но хватит о Скерриворе…»
Надо добавить, что в книге судьбы Роберта Стивенсона не было предначертано столь романтическое приключение, как постройка маяка Скерривор. Оно выпало на долю его сыновей Алана и Томаса, отца Роберта Луиса, который считал Скерривор самым большим достижением их фирмы. Пожалуй, здесь будет кстати упомянуть, что и Роберт и Томас Стивенсоны, помимо выполнения своих прямых обязанностей, сделали немало ценных изобретений. Считая, что труд их и время принадлежат правительству, они не брали патентов и не просили денег за свои открытия, хотя многие из них получили широкое распространение. В результате это не принесло им ни наград от короля, ни славы — ведь инженеры и все те, кто пользовался их изобретениями, не знали, кто изобретатели. Все их открытия оказались собственностью английской короны.
Если мы обратимся от Стивенсонов к многочисленным предкам Роберта Луиса по матери, Бэлфурам, то не найдем среди них ни по прямой, ни по боковой линии никого, кто бы обладал солидными, хотя и не «unco quid» (совсем обычными), достоинствами Роберта Стивенсона. Здесь, пожалуй, будет уместно заметить, что некоторые из генетических выводов, которые делались поклонниками Роберта Луиса и даже им самим, выглядят натяжкой. Так, на том основании, что одна из его прапрабабок с материнской стороны, некая Маргарет Лизарс, приходилась (возможно) прапраправнучкой французу по имени Лизар, эмигрировавшему из Франции в XVI веке, утверждают, будто в жилах Луиса течет «чужеземная кровь», оказавшая якобы влияние на его характер и талант.
Сам Стивенсон восторженно восклицает, что он «отстаивал спорную землю, потрясая копьем и испуская боевой клич Эллиотов[4]». Однако его ретроспективное «участие» в пограничных войнах между Англией и Шотландией (иначе говоря, в кровавых, варварских, позорных грабежах) весьма сомнительно, если единственным основанием к этому, как мы узнаем, служит то, что мать прабабки его матери, Сесилия Элфинстоун, была урожденная Эллиот (и, таким образом, двоюродный дед Стивенсона, Джон Бэлфур, приходился пятиюродным братом Вальтеру Скотту!).
Адам копает, Ева ткет И над ними нет господ.[5]Гораздо ближе относится к делу то, что Стивенсон использовал некоего Дэвида Бэлфура в качестве прообраза одного из своих героев, и то, что среди Бэлфуров были пасторы, в том числе дед Луиса, преподобный Льюис Бэлфур из Колинтона. В раннем детстве Роберт Луис знал деда (тот был уже очень стар), и в его сборнике «Воспоминания и портреты» есть великолепный набросок самого пастора и пасторского дома. Старый пастор казался мальчику довольно «грозной фигурой», вселявшей «необъяснимый страх» в души детей, однако он был способен на неожиданные проявления сердечного тепла и нежности, поражавшие его маленького внука. По-видимому, преподобному Бэлфуру в большой мере было присуще чувство справедливости даже в мелочах, к тому же он считал, что ребятам нужна строгая дисциплина. В старости, видимо уже впадая в детство, он после порошка Грегори — тошнотворного снадобья, которым без всякой пользы терзали многие поколения людей, — обычно сосал леденцы из ячменного сахара, внуку же не давал ни кусочка: не принимал лекарства — не получишь леденца… Посмотрите, что делает «романтика». Благодаря давно почившей леди Эллиот Стивенсон потрясал копьями и издавал боевые кличи шотландцев и вместе с тем, как ни старался, не мог «найти в себе ничего общего с почтенным пастором», хотя «без сомнения… он у меня в крови, и нашептывает мне что-то, и проник в самую завязь, самое средоточие моего естества». Затем Роберт Луис принимается размышлять о той роли, какую сыграли в формировании его личности различные предки, все более и более далекие, в том числе легендарный «француз цирюльник, умевший отворять кровь», и… «Гипотетический Арбориал».[6]
А вот об одном Роберт Луис умалчивает, а именно о том, что, когда деду было двадцать лет, у него нашли симптомы «грудной болезни». К счастью, после зимы на острове Уайт, он совершенно избавился от своей хвори и дожил до восьмидесяти лет, произведя на свет больше дюжины детей. Но та же «грудная болезнь» в куда более сильной и зловещей форме была и у его младшей дочери Маргарет Изабелл, которая в 1848 году в возрасте девятнадцати лет вышла замуж за Томаса Стивенсона, седьмого и самого младшего сына Роберта Стивенсона. И этот недуг роковым образом отразился на ее единственном сыне, Роберте Луисе Бэлфуре Стивенсоне (Роберте Луисе), родившемся в Эдинбурге 13 ноября 1850 года.
Ранние годы будущего писателя прошли под неусыпным надзором трех человек: матери, отца и няни. Как всякий единственный ребенок, Роберт Луис, естественно, стал идолом семьи, к тому же начиная с двух лет он беспрерывно хворал. До того как ему исполнилось одиннадцать, он не только перенес все детские заболевания, но и постоянно страдал от простуды и расстройства пищеварения, а также переболел «желудочной лихорадкой», бронхитом и воспалением легких. Как известно, у него развился туберкулез, и он никогда не чувствовал себя вполне здоровым даже на тихоокеанских островах. В течение всей жизни неделями, а порой и месяцами он бывал прикован к постели из-за горловых кровотечений. Поэтому было бы неуместно сожалеть о возможном и даже очевидном вреде, который причинила его характеру эта тройная опека — без нее он бы просто умер, особенно в Эдинбурге, отличавшемся суровым климатом. Помимо «грудной болезни» матери и ее отца, со стороны Стивенсонов тоже не все обстояло благополучно. Из писем Роберта Стивенсона видно, что дети его один за другим умирали еще в раннем детстве. Зловещий факт, но, конечно, сто пятьдесят лет назад детская смертность была устрашающе высока.
Хотя большая доля забот о мальчике падала на няню, так как миссис Стивенсон сама в те времена часто недомогала, а мистер Стивенсон, естественно, был занят служебными делами, не приходится сомневаться в той любви, которая щедро изливалась матерью на чуть теплившуюся юную жизнь. Грэхем Бэлфур[7] сообщает нам трогательный факт: мать Роберта Луиса с 1851 года до самой смерти вела дневник, тетради которого так полны Луисом, его поступками и словами, что в них месяц за месяцем отразилась вся его жизнь. Она хранила каждую страничку его рукописей, попадавшую ей в руки, и, говорят, собирала все газетные вырезки о нем; при его популярности это должна была быть довольно-таки обширная коллекция. И как бы впоследствии они ни расходились во мнениях, такой она осталась до конца своих дней. В шестьдесят лет, уже овдовев к тому времени, ездила вместе с Робертом Луисом в Америку и на острова Тихого океана. Об этих поездках интересно читать в повестях, рассказах и письмах ее талантливого сына, но каково было ей выносить неизбежную изнурительность путешествий, подчас скуку, а иногда и опасность. После его смерти она вернулась в Шотландию, и, когда настал ее смертный час, лицо старой женщины вдруг просветлело, она воскликнула: «Луис!» и, обратись к тем, кто был рядом, добавила: «Мне пора». На следующий день она умерла, так и не придя больше в сознание. Я не хочу сказать, что материнская привязанность — редкое явление, но такая беззаветная, длящаяся всю жизнь любовь достойна особого упоминания.
Мы не можем ожидать столь слепой любви от отца, человека, который находил отдых от трудов в обществе трех любимых авторов. Первым из них был Лактанций, живший в III веко нашей эры в Северной Африке, неофит-христианин, фанатичный приверженец новой веры, оставивший потомству веселенькую книгу «О божьем гневе» и еще одну — о страшной смерти, которая грозит всем гонителям христиан. Вторым был немец-протестант, теолог XVI века по имени Воссий, а третьим — кардинал Бона, чьи произведения мне неизвестны. Странная литература для такого убежденного пресвитерианина, как мистер Томас Стивенсон. Те, кто читал книгу Стивенсона «Странствия с ослом», вероятно, помнят: когда Роберт Луис посетил в Севеннах монастырь «Богородицы на снегах», два мирянина попытались склонить его к католической вере, добавив к прочим резонам, что он и родителей своих обратит тогда на истинный путь. На что Стивенсон отвечал: «Могу представить лицо отца, если я заговорю об этом! Да я с меньшим риском стал бы дразнить льва в логове, чем вступил бы в подобные разговоры с нашим семейным богословом». Но богослов этот читал также и «Гая Мэннеринга» (Вальтера Скотта), и «Помощника родителей», и не приходится сомневаться в его любви к маленькому сыну, несмотря на их разногласия в последующие годы. Известно множество историй, служащих тому подтверждением. Пожалуй, самая непритязательная из них о том, как Лу нечаянно запер сам себя в комнате и, не сумев открыть дверь, стал биться в истерике. Пока кто-то ходил за слесарем, мистеру Стивенсону удалось успокоить мальчика, ласково разговаривая с ним через дверь.
Родительской привязанности не уступала и любовь няни, которой Стивенсон отдал дань в стихотворении «Посвящение», открывающем сборник его стихов для детей. Кое-кто усматривает в нем напыщенность и нарочитость. Возможно, в этом есть доля правды, но искренность его не подлежит сомнению. Элисон Каннингэм еще более рьяно, чем Томас Стивенсон, следовала догматам кальвинизма и чуть не с младенчества развлекала Роберта Луиса рассказами о своих далеких предках ковенантерах[8] и тех преследованиях, которым их подвергали еретики-сектанты, не разделявшие их религиозных взглядов. По ее собственным словам, когда Луис был еще совсем крошкой, она — страшно подумать! — три или четыре раза читала ему библию от начала до конца, а также заставляла его учить «Краткий катехизис», переложенные на шотландский диалект скверными метрическими стихами псалмы, и пересказывала содержание таких книг, как «Повесть о христианских мучениках» Фокса и «Посмертные записки Роберта Марри Макчейна», благочестивого молодого человека, умершего, увы, в нежном возрасте.
Разумеется, эти теологические «пиршества», устраиваемые ему с младенчества, перемежались постами. Но в те ранние годы детства перемена обстановки для Роберта Луиса заключалась лишь в поездках к пастору деду, а основным отдыхом от христианских легенд и книг были рассказы о привидениях, грошовые романы «ужасов» и бессвязные, но оттого не менее страшные фантазии отца. Нечего удивляться, что ребенку снились кошмары Нечего удивляться также, что первые его слова и поступки, о которых нам известно из дневников матери, были связаны с церковью. С глубоким удовлетворением она пишет о том, что сын часто посещает церковь, рассказывает, как он себя там ведет, какие употребляет словечки. Когда ему было два года восемь месяцев, он начал играть в церковь, и это стало его «любимой игрой». Он «делает кафедру из кресла и табурета, затем или сидя читает, или, встав, поет». Благочестивый младенец совершил, однако, одну ошибку: он привлек к этой игре своего маленького друга, ирландца Уолтера Блейки, оставив роль пастора для самого себя. Однажды, когда они играли в доме Блейки, Роберт Луис, стремясь к правдоподобию, опрометчиво добавил к черному няниному плащу, служившему ему сутаной, две белые полоски, спустив их, как у пасторов, с воротника на грудь. Миссис Блейки вошла в комнату в самый разгар представления, и то, что последовало, показывает, насколько находившаяся в кабале у священников Ирландия была ортодоксальней Шотландии.
«Раньше она не возражала против этой игры, но, когда она увидела белые полоски, гнев ее не имел границ. Я помню все это по сей день, — пишет доктор Блейки. — Для нее это было чистым кощунством. Она сорвала с шеи Луиса воротник с полосками и строго-настрого запретила нам когда-нибудь еще играть в церковь».
Мальчик, воспитанный в таком окружении, должен был или опуститься до того же уровня, или, вооружившись сарказмом, восстать к чести Стивенсона, повзрослев, он взбунтовался. Но какой смертный, с самого нежного возраста день за днем, год за годом испытывая воздействие столь ядовитой и фанатической сектантской обработки, ног бы совершенно избежать ее влияния? И, право же, Хейли (которому в детстве не приходилось подвергаться такому «засорению мозгов») следовало бы отдать должное своему другу за то, что он не стал фанатиком, а не упрекать его за невинные проповеди и молитвенные собрания в Ваилиме и за пристрастие к «Краткому катехизису». Стивенсон мог кончить значительно хуже. Он мог уподобиться превозносимой им Камми, которая за границей подбрасывала протестантские брошюры в католические церкви и с возмущением заявляла, что после восстановления пресвитерианской церкви в Колинтоне у нее сделался папистский вид.
Конечно, в этом тягостном режиме бывали и передышки, большую пользу приносили мальчику часы, когда он играл с двоюродными братьями и сестрами или другими сверстниками. Но как редко этому болезненному ребенку, который по ночам, не смыкая глаз от кашля, метался в лихорадке, а днем от слабости не покидал постели, удавалось воспользоваться этими целебными передышками! Из трех взрослых, в обществе которых прошло почти все его детство, самое разумное и благотворное влияние оказывала на него, по-видимому, мать. Камми то твердила ему о негостеприимных небесах, то пугала рассказами о привидениях, ковенантерах и похитителях трупов и портила ему вкус, покупая картонные листы с персонажами кровавых мелодрам для игры в театр; он раскрашивал их, не вырезая, и приходил в чрезмерное возбуждение.
У мистера Томаса Стивенсона, этого достойного филистера, чьи тяжеловесные достоинства, к счастью, облегчались живым чувством юмора, изменявшим ему лишь в тех случаях, когда дело касалось его самого, была странная привычка, трудно объяснимая в последователе Лактанция и Воссия, — убаюкивать себя перед сном не благочестивыми мыслями, молитвой и раздумьями о кончине христианских мучеников, а сочиняемыми им же самим бесконечными историями с продолжением, где были пираты, разбойники, пограничные стычки и вся та а-ля вальтер-скоттовская и эйнсуортовская[9] маскарадная романтика, которую впоследствии перенял его сын и блестяще назвал «героической бутафорией». Есть все основания полагать, что мистер Стивенсон не «успокаивал» нервы мальчика рассказами о предопределении и вечных муках, но и формировал его литературный вкус теми «многосерийными» историями, которые сам придумывал на сон грядущий. Когда больной ребенок пробуждался от лихорадочного сна, со «вспышками бреда» и «такими кошмарами, от которых, слава богу, мне никогда впоследствии не приходилось страдать», отец развлекал его вымышленными «диалогами с участием ночных сторожей, кучеров почтовых карет и хозяев таверн».
Мать водила его днем в зоологический сад, читала ему, помимо библии, такие книги, которые, как он позднее понял, прививали ему хороший вкус, и заражала его своей жизнерадостностью, помогавшей ей вопреки пуританской религии видеть во всем светлую сторону. Несомненно, все три няньки болезненного, истеричного ребенка старались, как и положено нянькам, делать при нем бодрый вид, но мать притворялась меньше всех. Предположение, что наигранный оптимизм в произведениях Стивенсона, за который многие его осуждали, был помимо его воли отзвуком тех дней, возможно, не так далеко от истины, как кажется на первый взгляд.
Если верить воспоминаниям няни, карьера Стивенсона-писателя началась вскоре после того, как раннее знакомство с богословием и посещение церкви породили в нем стремление к лицедейству. По ее словам, ему было не больше трех лет, когда он однажды поманил ее в комнату, запер дверь и театральным шепотом сообщил, что придумал историю, которую она должна записать. «История» оказалась просто «детской болтовней», но Камми честно записала все от слова до слова, а затем прочитала на досуге хозяйке. Миссис Стивенсон не упоминает об атом в своем объемистом дневнике, да и рукопись няни не была найдена. Однако, если даже столь преждевременный литературный дебют лишь фантазия старой женщины, существует на самом деле опус («Житие Моисея»), записанный миссис Стивенсон под диктовку сына, когда тому было шесть лет. Один из его дядьев, Дэвид Стивенсон, обещал своим многочисленным племянникам и их друзьям награду за сочинение на эту библейскую тему. Насчет того, выиграл ли ее Р.Л.С. или нет, мнения разделились поровну.
Читателю, возможно, кажется, что я слишком подробно пишу об этом маленьком мальчике и самых обыденных происшествиях его жизни, но у меня к тому есть два основания. В XIX веке, как и теперь, героев создавала пресса, и Стивенсон во многом обязан своей славой друзьям, которые «мостили» ему путь к литературному успеху и «организовывали» хорошие отклики в печати, а обаяние, остроумие и добродушие Луиса при встречах с людьми еще больше увеличивали его популярность: в результате возник культ Стивенсона, поклонники которого собрали по крохам все воспоминания о нем (многие из них банальные и несущественные) и сохранили для потомков множество мелких штрихов и самых незначительных эпизодов, начиная с его раннего детства. Уже одно то, что это делалось в таком широком масштабе, показывает, насколько силен его культ. Мы знаем куда меньше о более значительных фигурах, но ведь шотландцы всегда отличались приверженностью к своему клану.
Мелочи, о которых я писал, существенны и еще по одной причине. Не так уж часто случается, что основные факторы, повлиявшие на формирование человека, и основные черты его характера можно проследить чуть не с самого младенчества. Мы видим здесь зависимость от преданных ему женщин, объясняющую, почему, начав наконец хорошо зарабатывать и поселившись на Самоа, Стивенсон окружил себя женщинами — там были его мать, жена и падчерица, — готовыми беззаветно служить ему. Его пасынок Ллойд Осборн занял место столь необходимого Роберту Луису товарища по играм, которым раньше был мистер Томас Стивенсон. Конфликт с религией, как внутренний, так и внешний, возник еще в раннем детстве. Все дети поглощены собой, — впрочем, взрослые тоже, — но в маленьком Стивенсоне эта черта была необычайно сильна. Актерство, свойственное ему всю жизнь, фактически началось, когда он трех лет от роду облачился в старый нянин плащ и стал произносить проповеди с самодельной кафедры. Несколько театральная и показная приверженность к псевдоархаическим приключениям была заложена в нем рассказами отца и дешевыми мелодрамами, покупавшимися няней в киоске на Антигуа-стрит. А главное, уже в детстве началась длившаяся всю его жизнь борьба с болезнью.
Если бунт против гнетущей пресвитерианской респектабельности привел его в ряды богемы, пусть и высшего толка, то червь, грызущий его легкие, сделал его нервозным и болезненно чутким и превратил в вечного скитальца по чужим краям. Как можно пройти мимо такого странного воспоминания: однажды, когда мальчику было лет шесть, он лежал в полузабытьи и вдруг начал тихо напевать. Вот что он напевал:
О, если бы не впал в гордыню ангел, Не знал бы мир ни горестей, ни зла, Ни ада — только чистый свод небесный. Тот ангел звался Дьявол О, если бы не ангела гордыня, то Христос Не умер бы распятым на кресте.[10]То, что шестилетнего мальчика мучила проблема «греха» и богословская софистика, придуманная, чтобы его объяснить, указывает на легкомысленную жестокость его духовных опекунов. Нечего удивляться, что у ребенка бывали по ночам «приступы бреда».
«Я испытывал невыразимый ужас перед адом, — рассказывает Стивенсон в «Nuits Blanches» («Белые ночи»), — внушенный мне, я думаю, моей доброй няней; особенно меня терзали страхи в грозовые ночи…»
Значит, не кто иной, как столь превозносимая им Камми, оказала ему эту услугу; тут призадумаешься над последними строками его очерка «О нянях»: «Я верю, что когда-нибудь положение изменится к лучшему, что больше не будет нянек и каждая мать сама станет воспитывать своего ребенка…»
2
Когда пришло время учиться, перед родителями Роберта Луиса встала очень серьезная проблема, вернее, целый ряд проблем. Пусть он и общался с двоюродными братьями и другими сверстниками, ему, как любому (а тем более единственному в семье) ребенку, нужны были присущий школе дух соревнования и школьные товарищи. Однако нельзя было забывать о его слабом здоровье, которое мальчики вряд ли стали бы щадить, и о крайней возбудимости и впечатлительности, вызванных преждевременным знакомством с адским огнем, мелодрамой, христианскими мучениками и похитителями трупов, за что следовало благодарить Камми. Естественно, напрашивается мысль, что самым разумным было бы с ней расстаться и найти опытную няню, достаточно осторожную в обращении с детьми и способную научить его началам чтения, письма и счета.
Были все основания полагать, что Томас Стивенсон предложит именно такое решение, так как одной из его эксцентрических черт, видимо перенятых у Уолтера Шенди[11] и столь любезных впоследствии его даровитому сыну, являлось самое искреннее пренебрежение к формальному образованию. Говорят, что за все школьные и университетские годы Луиса отец ни разу не поинтересовался, как он учится, не похвалил за успехи, не поругал за лень. Сам он в свое время считался средним учеником, однако достиг высот в инженерном деле, которому в его дни не обучали ни в каких учебных заведениях. Тому, что он знал, Томас Стивенсон научился у отца и старших братьев и до конца своей жизни был нетверд в математике: когда ему требовались какие-нибудь расчеты для его усовершенствований и изобретений, он прибегал к помощи друга-математика. Почему бы сыну не пойти по его стопам? Ведь когда Луис был маленьким, да и долгие годы после того мистер Стивенсон не сомневался, что «в книге судеб», то бишь провидением, его сыну предначертано стать строителем маяков и продолжить традицию Стивенсонов, достигших на этом поприще успеха и почета. Мы не знаем, почему в 1857 году решили отдать ребенка в школу, но выбор школы говорит о наилучших намерениях родителей. Мальчика послали в «Кэнон Миллз», имевшую репутацию лучшего учебного заведения для новичков. Соученики вспоминают, что Р.Л.С. взяли в самый младший класс, который вела учительница, и что «маленький Стивенсон» сразу стал «мишенью для насмешек из-за своего чудного вида». Что именно «чудного» было во внешности мальчика, осталось неизвестным, но, возможно, чтобы избавить Луиса от насмешек, его очень скоро забрали из школы. Если, что вполне вероятно, он пробыл там всего несколько недель и ходил туда, в сопровождении няни, то вряд ли он смог оценить как школу, так и ее живописные окрестности. В том же самом году его послали в школу Хендерсона на Индия-стрит, и опять всего на несколько недель. Трудно сказать, почему его оттуда забрали — из-за жестокой желудочной лихорадки или не менее жестоких насмешек товарищей. Один из соучеников вспоминает его в «припадке неистовой ярости», — «поля его соломенной шляпы были разорваны, и соломка висела кольцами вокруг лица и плеч». Конечно, ничто лучше школы не может показать мальчику, «что такое настоящая жизнь». В следующий раз Роберта Луиса отдали в школу лишь два года спустя, в октябре 1859 года. Видимо, у него были домашние учителя (явление в те времена весьма распространенное в Шотландии), так как в восемь лет он обнаружил, что «любит читать», а к 1861 году настолько продвинулся в науках, что смог проучиться два года в частном учебном заведении — так называемой Эдинбургской академии.[12]
Меж тем в летние месяцы, когда позади оставались дни, проведенные из-за болезни в постели, чрезмерная забота родителей, короткие скучные прогулки по улицам Эдинбурга с няней и неприязнь соучеников, вызванная тем, что он был на них не похож, живое воображение мальчика получало иную, более приятную пищу. Пожалуй, главным источником новых впечатлений в те годы был двоюродный брат Луиса Р.А.М. Стивенсон (Боб), неизменный товарищ его детских игр, а позднее союзник и даже предводитель в борьбе за освобождение от «респектабельности», которая мертвым грузом давила на юного Стивенсона. Особенно важными для формирования его характера в ту раннюю пору были месяцы, проведенные в Колинтоне, где он жил каждое лето, вплоть до смерти деда (Луису минуло тогда десять лет). К счастью для нас, горячий интерес Стивенсона к собственному «я» заставил его запечатлеть то время в двух очерках, включенных в сборник «Воспоминания и портреты»: «Пасторат» и «Пасторский дом в Колинтоне», откуда Грэхем Бэлфур приводит подробные цитаты. По этим очеркам нетрудно проследить, какое воздействие оказывали на впечатлительного, наделенного богатой фантазией мальчика и сам Колинтон, и игры, в которые он там играл с двоюродными братьями или один. Уже тогда, в те ранние годы, было ясно, что ему суждено стать литератором. Он рассказывает: «Не раз, помню, я залучал кого-нибудь себе в секретари и диктовал восхитительные истории, не вполне заслуженно преданные забвению. Местом действия одной из них была Аллея ведьм, а в героини я выбрал кошечку. История должна была получиться захватывающе интересной, с призраками».
Больше Стивенсон ничего не говорит нам о «захватывающей и призрачной» кошечке, и мы можем удовлетворить свое любопытство лишь одним прозаическим добавлением — кошечка питалась «гороховой похлебкой».
В другом из превосходно написанных и увлекательных очерков этого сборника («Иностранец дома») мы находим весьма интересный абзац о «шотландском ребенке»; его без натяжки можно назвать автобиографическим, так как автор явно вспоминает о своем раннем детстве. Вот что он говорит о влиянии природы и истории Шотландии на детей:
«В Шотландии ребенку часто доводится слышать о кораблекрушениях, о суровых рифах, стоящих дозором у берегов, о безжалостных бурунах и огромных маяках; о покрытых вереском горных вершинах, о буйных кланах и преследованиях ковенантеров».
Пожалуй, будет простительно заметить в скобках, что этот набор традиционных историй был куда более характерен для семьи Стивенсонов, чем для любой другой шотландской семьи. Но и здесь, как почти всегда, Стивенсон мудро пишет о том, что знает из личного опыта. Обобщение в данном случае — просто литературный прием, призванный оправдать авторский эгоцентризм. Стивенсон продолжает, по-прежнему черпая материал из своего детства:
«Дыхание ветра доносит до него издалека блеяние овец, опустошающих все окрест, и звонкий перестук их копыт. Он гордится далекими предками с крепкой дланью и железным поясом вместо кольчуги, которые довольствовались горстью ячменной муки на обед во время своих молниеносных набегов. Бедность, невезение, предприимчивость и стойкость сплелись воедино в легенде, которую зовут историей его родины. Герои и короли Шотландии родились под несчастливой звездой: самые знаменательные события, оставившие след в шотландской истории — Флодден, Дариен, Сорок Пятый, — кончались неудачей или поражением; из падения Уоллеса и многократных разгромов Брюса,[13] не говоря уж о размерах его родины — этой крошечной страны, он извлекал прежде всего нравственный урок».
Часто, слишком часто для тех, кто хотел бы безоговорочно им восхищаться, в произведениях Стивенсона ощущаются, и довольно явственно, надуманность, аффектация, некоторый наигрыш, что-то от того позера, который, без сомнения, проглядывал в нем самом Но в приведенных строках видна настоящая искренность, хотя патриотизм чаще, чем любое другое из одобряемых обществом чувств, бывает утрированным и даже напускным, Вероятно, только шотландец по тождеству реакций и эмоций может почувствовать, сколь подлинным шотландцем был Стивенсон, хотя англичанин ощущает это не менее сильно, пусть исходя из обратного — из своего несходства с ним.
Циник, пожалуй, заметит, что для человека, столь страстно любящего Шотландию, Стивенсон слишком долго жил вдали от нее. Но тут его здоровье, вернее его болезнь, дает ему полное алиби. Стивенсон хорошо писал на разные темы о разных странах, но нет ничего лучше написанного им о Шотландии и шотландцах, хотя иногда между ним и родиной лежали сотни и тысячи миль пути. Даже в его любви к Франции — одном из самых непритворных чувств в том сложном конгломерате, который зовется его характером и где многое можно счесть позой, — он шотландец, а не англичанин Он любит французов и их литературу, а не французскую кухню и комфорт. Возможно, это лишь мое личное мнение, но мне кажется, за исключением нескольких великолепных миниатюр, стихи Стивенсона, написанные на шотландском диалекте, в целом куда лучше его английских стихов. То же можно сказать о письмах Стивенсона, в особенности относящихся к последним годам его жизни: когда он пишет своему другу Бэкстеру[14] или Бобу Стивенсону на родном диалекте, его послания делаются более живыми и оживляют и наш интерес, хотя порой и не отвечают обычному для него высокому уровню и больше похожи на очерки или проповеди. Зачастую шотландский язык соответствовал его тонкому чувству юмора больше, чем английский, которым Стивенсон владел с таким совершенством.
И все же, как это вообще свойственно Стивенсону, его отношение к Шотландии довольно противоречиво, и в последние годы он открыто говорил о своей нелюбви к Эдинбургу и эдинбуржцам Он любил другую Шотландию — страну романтических пейзажей и легенд. Реальный Эдинбург с его респектабельным обществом и пронзительными восточными ветрами давал куда меньше пищи воображению человека, которому воображение часто заменяло жизнь Однако, бесспорно, поездки по Шотландии, совершенные им в детстве, произвели на него куда большее впечатление, чем длительные путешествия по континенту, которые судьба уготовила ему в юношеские годы.
Среди прочих домыслов психологов существует гипотеза, будто у ребенка развивается (и остается на всю жизнь) чувство бесприютности и неуверенности в себе, если в детстве ему приходится часто и внезапно переезжать с места на место. Стивенсон в большой степени страдал от этого чувства, во всяком случае, он говорит о «страхе перед жизнью», но вряд ли это можно приписать переездам и переменам. Все детство и отрочество Роберта Луиса прошли в Эдинбурге, с мая 1857 года (ему тогда было шесть с половиной лет) семья обосновалась на Хериот-роуд, дом 17 и прожила там до смерти Стивенсона-старшего в 1887 году. Правда, на Хериот-роуд они перебрались с Инверлит-террас, а туда — с Ховард-плейс, номер 8; это было вызвано тем, что дома оказались неподходящими — слишком сырыми — для Роберта Луиса и миссис Стивенсон. Хотя уже в 1857 году мальчика брали в Озерный край, его первое настоящее путешествие было совершено лишь в 1862–1863 годах.
Поводом к нему послужило пошатнувшееся здоровье Томаса Стивенсона, что в 1862 году и вызвало поездку семьи на юг, в Лондон, а затем на остров Уайт, избавивший в свое время от «грудной болезни» преподобного Льюиса Бэлфура Заодно Роберт Луис побывал в Солсбери и Стоунхендже.[15] Тем же летом они поехали на континент в Гамбург (опять ради мистера Стивенсона) и прожили там целый месяц. На следующий год недомогание миссис Стивенсон привело всех троих и двоюродную сестру Роберта Луиса на два месяца в Ментону, а оттуда они отправились в турне по Италии — через Геную, Неаполь, Рим, Флоренцию, Венецию, а затем побывали в Инсбруке и на Рейне. Хоть нам и кажется, что Луис был развит не по возрасту, он, возможно, тогда еще не дорос до такой поездки-пять месяцев, проведенных в красивейших городах Европы, никак не запечатлелись в его памяти. В отличие от эстетов своего и предшествовавшего поколе ний он, должно быть, остался равнодушен к тому, что увидел. Запомнил он главным образом Ментону и уроки французского языка, которые там брал. Читающие Стивенсона удивляются, как при его нерегулярных занятиях и прогулах во время учебы в школе он сумел так хорошо овладеть французским. Умный мальчик, бесе-дующий на иностранном языке с учителем, для которого этот язык родной, узнает за два месяца больше, чем за четыре года механической зубрежки в классе. Первые пять месяцев 1864 года Роберт Луис с матерью опять провели в Ментоне, и, по-видимому, он снова брал уроки разговорного языка у того же или другого учителя. Правда, он не занимался грамматикой, но ведь французские дети тоже сначала просто учатся говорить.
Поездки по Шотландии во время летних каникул были куда короче, чаще всего в окрестности Эдинбурга, но они оставили в памяти Луиса куда более глубокий след: точно так же он запомнил виды Ронской долины и забыл города Италии. Рассказывают, что, когда он жил в Пиблзе, он дрался на дуэли с другим мальчиком на настоящих пистолетах, с настоящим порохом, но без пуль — отличный символ для стивенсоновских «приключений». А в Северном Бервике он якобы увлекся какой-то девочкой, хотя сам Луис говорит, что нравились ему тогда больше всего «долгие сумерки в дюнах и ручей, сбегающий в море по узкой лощине».
Годам к тринадцати здоровье Стивенсона окрепло, но его школьное обучение по-прежнему было несистематическим и не давало существенных плодов. Осенью 1863 года мальчика отправили в Англию в закрытую школу. Написанное им оттуда письмо на «французском», как воображал Луис, языке, кончалось следующей припиской по-английски, предназначенной отцу: «Дорогой папа, ты просил сказать тебе, когда мне будет плохо. Я неважно себя чувствую и хочу домой. Пожалуйста, возьми меня отсюда».
Многие родители, возможно, даже большинство из них, постарались бы устоять против такой просьбы, как бы им это ни было тяжело. Многие, но не мистер Томас Стивенсон. По пути в Ментону он заехал в школу и захватил с собой сына; вот почему первые пять месяцев 1864 года Роберт Луис вновь провел на юге Франции. Знаменательно, что по возвращении в Эдинбург его отдали в школу для «отсталых и болезненных детей», где он числился до семнадцати лет, вплоть до поступления в Эдинбургский университет. Даже посещая занятия, он занимался лишь теми предметами, которые его привлекали; один из его соучеников вспоминает, что Стивенсон как будто изучал французский, латынь и геометрию. А мистер Томас Стивенсон тем временем по-прежнему, остановив на улице школьников и взглянув на учебники, советовал им не забивать себе голову чепухой, а побольше играть и изучать только то, что нравится.
Должно быть, такие же советы давал он и сыну, а если и не давал, можно не сомневаться в том, что Роберт Луис следовал именно по этому пути, не вызывая со стороны отца никаких нареканий. Томас Стивенсон, вероятно, все еще был убежден в том, что сыну предначертано стать инженером, и опасался, как бы из-за слишком усердных штудий в школе он не увлекся бы богословием, юриспруденцией или чем-либо другим и не изменил бы фамильной профессии. Отцу и в голову не приходило, что сын его намерен стать писателем. Для мистера Стивенсона, да и не для него одного, это было равносильно полупраздной жизни, когда человек делает то, что ему вздумается, и перебивается случайным заработком. Опираясь, возможно, на собственный опыт и вспоминая свое детство и юность, мистер Томас Стивенсон думал исправить все недочеты в образовании сына, позволив ему пользоваться своей библиотекой.
Хотя профессиональный педагог, быть может, не согласился бы с ним («vous êtes orfèvre, monsieur Josse»),[16] это было не так уж глупо, потому что даже не очень смышленый парнишка лучше запоминает и больше ценит те сведения, которые сам извлекает из книг, а не те, что навязываются ему в курсе наук, по его мнению, скучных и утомительных. Целью Томаса Стивенсона, признавался он себе в том или нет, было вылепить ум и душу сына по своему образу и подобию. Естественно, библиотека мистера Стивенсона весьма точно отражала его интересы. Он не мог представить, чтобы на полках, где стояли в основном «записки ученых обществ, написанные по-латыни богословские трактаты, энциклопедии и книги по физике, в первую очередь по оптике», крылась какая-нибудь опасность для сына, и потому позволял ему свободно рыться в шкафах.
Какой в этом был риск? Какая там таилась крамола, какие «отзвуки рогов из страны эльфов» (Теннисон) могли увести невинную душу с пути шотландского пресвитерианства и инженерного дела? Абсолютно никаких, если бы Роберт Луис был таким же, как его отец и дед, а не хрупким, болезненным подростком, отягощенным столь опасным грузом, как неустойчивый темперамент и литературное дарование. Даже главный инженер Управления Северных огней небезгрешен, и в его строгой коллекции, которую Чарлз Лэм[17] назвал бы «biblia abiblia» («библиотека без библии»), оказалось несколько книг иного толка. Стивенсон называет некоторые из них. Там были три романа Вальтера Скотта (включая «Роб-Роя»), путешествия капитана Вудса Роджерса,[18] «Синяя борода», «Чертова лужа» Жорж Санд, «Башни Лондона» Гаррисона Эйнсуортэ и четыре тома, составленные из ранних выпусков «Панча»,[19] в которых случайно оказалось несколько произведений Теккерея. Очевидно, одновременно с этими книгами и даже раньше Стивенсон познакомился и с другими. Так, он упоминает о том, что читал «Сказки тысячи и одной ночи», еще когда был жив его дед (то есть до того, как Луису исполнилось десять лет), и о том, как его потряс прочитанный ему матерью «Макбет», хотя это, возможно, произошло куда позднее. Лет около двенадцати, по-видимому, он прочитал «Робинзона Крузо».
В 1887 году, более чем через двадцать лет после того Ввриода, который мы сейчас рассматриваем, Стивенсон опубликовал статью под названием «Книги, оказавшие на меня влияние». Вот книги — или персонажи из них, — запомнившиеся ему на всю жизнь. Если принять во внимание его раннее развитие, вполне можно предположить, что, по крайней мере, некоторые из них были прочитаны, когда ему еще не было двадцати. Начинает он, конечно, с Шекспира, особо выделяя Гамлета, Розалинду и Кента; аатем переходит к д'Артаньяну из «Виконта де Бражелона» и к «Пути паломника»[20] Бэньяна — любопытное сочетание! Он сообщает, что Монтеня узнал рано, но что єто значит? Быть может, читал с учителем в Ментоне? Не исключено. Но, как говорит сам Луис, влияние его «стало ощущаться куда позднее». Мне кажется, в любом случае будет разумно предположить, что такой зрелый автор мог оказать должное воздействие лишь на зрелый ум.
Как ни удивительно, следующей по времени книгой, которая повлияла на него, Стивенсон называет Новый завет, в особенности евангелие от Матфея. Только и остается сказать: «Вот это юноша с открытым, непредвзятым умом и широким диапазоном литературных вкусов», тем более что за евангелием в его списке идут «Листья травы» Уолта Уитмена. Сказав, что в евангелии от Матфея содержатся «заветы, которые, считается, все мы знаем, но следовать которым скромно воздерживаемся», он заявляет затем, что «Листья травы» — это «…книга, сослужившая мне необыкновенную службу; она перевернула для меня весь мир, сдунула паутину ханжеских высоконравственных иллюзий и, опрокинув скинию лжи, вновь утвердила меня на прочном основании существующих искони мужественных добродетелей».
Когда Стивенсон затем говорит нам, что «почти сразу» за Уитменом последовал Герберт Спенсер,[21] а затем «Жизнь Гёте» Льюиса[22] (прибавляя: «не знаю никого, кем бы я восхищался меньше, чем Гёте»), для нас становится ясно, что в университетские годы в его уме царила порядочная неразбериха. Мы не станем утверждать, будто невозможно усвоить и переварить столь разнообразные и даже взаимоисключающие книги, ведь Стивенсону это, бесспорно, удалось, и не без пользы для него, но не приходится удивляться, что он ставил в тупик не одного лишь отца.
В 1871 или 1872 году (когда он только что достиг совершеннолетия) к ранее упомянутым авторам присоединились Гораций, Пепис,[23] Хэзлитт,[24] Берне, Стерц, Гейне, Ките и Филдинг, которых он называет любимейшими, а посему мы можем предположить, что он не просто читал, но изучал их.
Однако чтение составляло лишь небольшую часть той тщательной тренировки в выработке и шлифовке стиля, которую он сам вменил себе в обязанность, по-видимому, с раннего возраста. Чтобы проследить, когда у Стивенсона возникло желание писать и он стал сознательно изучать литературное ремесло, нужно вернуться от лет, проведенных нм в Эдинбургском университете (1867–1873), к более раннему периоду. Мы можем обойти молчанием — кто из нас не сочинял в детстве? — «истории», которые он диктовал няне и матери до того, как овладел грамотой (по-настоящему грамотно писать он так никогда и не научился), и рукописные журналы, которые он «издавал» в школе и дома. Все же небезынтересно, что в 1863 году (когда ему было всего двенадцать) мы видим в этих журналах такие опусы, подписанные его именем, как «История с привидениями», «Потерпевшие кораблекрушение» и — не менее пророческое заглавие — «Остров Крик, или Приключения в Южных морях». Еще интереснее воспоминания его соучеников по Эдинбургской академии Беллиса Бейлдона и Джона Рэмси Андерсона, свидетельствующие о том, что уже в те давние годы Стивенсон не только поставил перед собой задачу научиться писать, но и придумал, как ее решить.
Принято считать, что, создавая свое произведение, каждый художник проходит две стадии: первая — вдохновение, иначе — возникновение в его подсознании таинственных импульсов, и вторая — творчество, иначе — претворение этих импульсов сознанием в соответствующие слова, чтобы читатель мог разделить эмоции автора. Большинство людей почему-то воображает, будто нет ничего легче, чем выразить то, что думаешь, не исказив при том свою мысль. В действительности это исключительно трудно, на что указывал и сам Стивенсон. Многие писатели — и это вполне можно понять — не сообщают миру, откуда они берут свои идеи или каким образом они научились так хорошо или так плохо писать. Возможно, и читателю, и самому писателю откровенничать на этот счет кажется несколько эгоцентричным и даже не совсем скромным, поскольку при этом как бы само собой разумеется, что личность писателя и его работа заслуживают всеобщего внимания. К счастью для нас, Стивенсон слишком интересовался самим собой и всем, что его касалось, чтобы подобные соображения могли замкнуть ему уста. Предположение, будто такие сугубо интимные переживания достаточно ценны для того, чтобы ими делиться с читателем, весьма характерно для Стивенсона, но не менее примечательно и другое — английские и американские поклонники писателя были настолько пристрастны к нему, что безоговорочно восхищались в нем тем, чем возмутились бы даже в Киплинге или Мередите. Каким-то образом с небольшой помощью друзей Стивенсон сумел стать литературным предшественником всех позднейших любимцев публики — этаким душкой, Рудольфо Валентино[25] литературного Парнаса. Однако это ничуть не умаляет исключительного интереса великолепных и единственных в своем роде описаний его творческой кухни и литературной практики.
Описывая процесс своего вдохновения, Стивенсон уводит нас к тому раннему периоду его жизни, где, как мы уже показали в общих чертах, такое большое место занимали болезни и Камми. Ему снились, говорит Стивенсон, «очень живые и страшные сны», — следствие прежде всего его болезненно-лихорадочного состояния, хотя немалую роль играло тут и преждевременное знакомство с догматами жестокой пресвитерианской веры, вселявшей страх в душу впечатлительного ребенка. Две главные тревоги его детства — «ад и божья кара» и «школьные задания» — часто, говорит он, «сливались воедино в тягостных сновидениях». С необычайной силой и выразительностью он пишет о том. как «кошмар хватал его за горло и он, задыхаясь, с громким криком вырывался из цепких объятий сна». Насколько же сильны были страдания ребенка и вместе с тем насколько богата была фантазия, если он испытывал облегчение, когда у него «всего лишь замирало сердце, пробегали мурашки по телу, выступал холодный пот и душу охватывал немой полночный ужас».
Постепенно кошмары сменились более приятными грезами; ему снились путешествия и города, а затем истории из XVIII века, особенно об якобитах.[26] Потом он стал читать во сне книги, видимо, того же «бутафорского» толка, но «настолько более жизненные и увлекательные, чем настоящие, что с тех пор литература оставляла в нем чувство неудовлетворенности». Слова эти не стоит принимать всерьез, ведь всю жизнь чтение было для него одним из самых больших удовольствий. Просто Стивенсон старается показать, насколько реальны были его сны, возможно не совсем понимая, что тем самым раскрывает перед нами мощь созидательных сил своего подсознания.
На какое-то время, вероятнее всего в университетские годы, к нему вновь вернулись кошмары, но они имели чисто физическую подоплеку, о чем свидетельствует тот прозаический факт, что сны его приобрели вполне невинный характер, как только он стал принимать «обыкновенную микстуру», прописанную врачом. Однако именно в это время у Стивенсона возникла привычка «смотреть сны», оставшаяся на всю жизнь, привычка, насколько нам известно, единственная в своем роде, ведь фантастические видения де-Квинси и Кольриджа были навеяны опиумом. Как и его отец, Роберт Луис принялся рассказывать себе перед сном всякие истории и обнаружил, что они продолжаются и во сне, словно их разыгрывают… человечки, похожие не на «настоящих актеров», а скорее на детей, которые играют в «нашем внутреннем театре». Он запоминал все эти спектакли, часто нарушавшие заданный им сюжет. И тут Луис сообщает такой поразительный факт: «человечки» не только дали ему во сне идею «Мистера Джекила и мистера Хайда», но и разыграли оттуда несколько сцен; они же авторы «Олаллы». Он также обрисовывает в общих чертах весьма интригующую историю, привидевшуюся ему от начала до конца, которую он решил не записывать из практических соображений — публика тех времен могла проглотить любое количество кровавых убийств и злодеяний, но не потерпела бы нарушения приличий, сколь бы драматичной, трогательной, даже трагичной ни была незаконная любовь. Этот предрассудок лишил нас книги, которая, обладай Стивенсон моральным мужеством, равным его таланту, была бы, возможно, его наивысшим достижением. «Мы созданы из вещества того же, что наши сны…» (Шекспир). Но кто еще, какой писатель брал образы и сюжеты из призрачной бездны снов?!
Разумеется, не нужно понимать все это безоговорочно и буквально. Очень многие из произведений Стивенсона, и притом самые лучшие и долговечные из них, никак не связаны с этим миром сновидений и возникли в мире бодрствования, где правит разум, а не подсознание. Ни в очерках, ни в таком великолепном образце наблюдательности и верности жизненной правде, как «Эмигрант-любитель», нет и намека на каких-либо призраков или «человечков». И тут нам пора снова вернуться к разговору о дисциплине и тренировке, которым Стивенсон сознательно подчинял себя в течение долгих лет, чтобы стать мастером стиля. Бейлдон рассказывает нам: в школе Томсона у Стивенсона «была твердая уверенность, что его призвание — литература, и удивительно зрелое для его лет представление о том, каким именно образом подготовить себя к этому поприщу». Андерсон менее определенно относит это к периоду Эдинбургской академии. Во всяком случае, он говорит, что Стивенсон «обычно появлялся утром в классе, держа в руке листок бумаги», на котором были написаны стихи, часто высмеивающие его соучеников или учителей. Насчет того, уделял ли Стивенсон столько же внимания стихам, сколько прозе, мнения расходятся, но так или иначе шуточные стишки вряд ли могли занимать большее место в том «курсе самообразования», за который ручается Бейлдон.
И все же, возможно, Роберт Луис начал этот курс именно в Эдинбургской академии, ибо, открывая счет годам своего литературного ученичества. Стивенсон говорит, что оно продолжалось «все детство и юность». Не так часто случается, чтобы мальчик двенадцати-тринадцати лет сознательно и целеустремленно упражнялся, стремясь стать писателем. Потому установление этой ранней даты представляет для нас немалый интерес.
«У меня в кармане, — говорит Стивенсон, — всегда были две книжки, одну я читал, в другой писал». Во время прогулок он подыскивал подходящие слова для описания того, что видел, или придумывал диалоги, в которых сам принимал участие, а удачные реплики записывал; садясь отдохнуть, читал, делал пометки, стараясь запечатлеть окружающий пейзаж, или писал «хромые стихи». Он «претворял жизнь в слова», причем «сознательно, для практики». А затем Стивенсон делает любопытное признание: «Главное не в том, что я хотел стать писателем (впрочем, этого я тоже хотел), а в том, что я дал себе клятву научиться писать». Но зачем это в таком случае нужно? Это достаточно бесплодное достижение, даже если ты добьешься права называться писателем, и уж совсем пустое, если единственная твоя цель — виртуозность ради виртуозности. Наш друг Стивенсон несправедлив по отношению к самому себе, ведь, как мы видели, он все время пробовал свои силы в прозе и поэзии; ему не было шестнадцати, когда он написал краткий исторический очерк «Пентландское восстание», а еще раньше пытался создать на том же материале псевдоскоттовский роман о ковенантерах.
Стивенсон был недоволен тем, что он не научился за эти годы ничему, кроме умения «взять верный тон и найти точное слово». Хорошо писателю, достигшему таких высот, как Стивенсон, смотреть сверху вниз на подобные достижения, считая их низшими, «наименее интеллектуальными» элементами искусства, а сколько еще есть писателей, которые даже не видят этой цели и, уж во всяком случае, не видят к ней ясного пути. И не каждый согласится, что многолетние опыты Стивенсона в подражании знаменитым и любимым им авторам непременно должны были привести его к «успеху на более высоком уровне». При этом существует опасность, которая испугала бы любого другого начинающего писателя, менее уверенного в себе, чем Стивенсон, что результатом этого вполне допустимого соперничества может быть непреднамеренная пародия. Поколение спустя во Франции Марсель Пруст составил целую книгу блестящих пародий на великих писателей — почтительная, хотя и ироническая, дань собратьям по перу. Стивенсон пренебрежительно относился к пародированию и называл его «обезьянничанием», хотя кто знает, не предвосхитил ли он сам в веселую минуту Марселя Пруста. Но это не является ответом на вопрос, следует ли считать подражание великим мастерам верным способом «научиться писать». Возможно, и да, но, с другой стороны, быть может, именно эта практика в какой-то мере повинна в манерности, раздражающей тех читателей Стивенсона, которые не терпят присутствия автора в повествовании и требуют, чтобы он был так же невидим, как кукольник за ширмой его крохотного театра.
Среди своих жертв Стивенсон называет старых любимцев — Монтеня, Хэзлитта, Дефо и Томаса Брауна[27] — и прибавляет к ним Вордсворта, Готторна, Бодлера, «Обермана»[28] и Рескина. Он написал философскую поэму о Каине в подражание «Сорделло» Браунинга (довольно любопытное чтение); сочинил рассказ в стихах «Робин Гуд» в эклектическом стиле — сплав Чосера, Китса и Морриса; имитировал Суинберна и многих лирических поэтов. Самым поразительным и, по правде сказать, ставящим в тупик примером виртуозности Стивенсона были два произведения на одну и ту же тему, одно — трагедия в духе Уэбстера,[29] другое — комедия в манере Конгрива.[30] Сколько ни напрягай фантазию, трудно представить, как «Белый дьявол» мог превратиться в «Старого холостяка» даже в воображении такого самонадеянного юноши, как Стивенсон. И наконец, он утверждает, будто написанная в юности трагедия о Семирамиде стала впоследствии «Принцем Отто», хотя этому все же легче поверить, чем только что упомянутому триумфу его литературной алхимии.
«Только так, нравится это вам или нет, должно учиться писать», — говорит Стивенсон авторитетным тоном и добавляет: «Не мне судить, привел ли он меня к успеху, но путь это верный». Может быть, он и прав, и все же мне кажется, что таков скорее «путь» французского, а не английского писателя, и, хотя у меня нет никаких доказательств, он подхватил эту идею во время одного из своих пребываний в Ментоне.
Но, возможно, я несправедлив и Стивенсон сам разработал свой метод. Что ж, тем похвальнее, если он с самого начала смотрел на писательский труд как на ремесло, которому надо учиться, чтобы им овладеть. А его ответ на неизбежное возражение, будто таким путем не достигнешь самобытности — «Самобытности научиться нельзя, самобытным надо родиться», — неоспорим и может вызвать лишь восхищение. Если бы эту истину удалось внедрить в сознание людей, равно как и другую, столь же очевидную, что оригинальничание не есть оригинальность, даже если вы на время обратили на себя внимание, мир был бы избавлен от многих подделок во всех областях искусства.
Нужно отметить, что Стивенсон ничего не говорит о переводе. Перевод учит передавать мысль, описание, диалог и стиль другого автора на родном языке переводчика без риска прямого подражания. Здесь та же разница, что между копией с картины и гравюры по ней. Бесспорно, у Стивенсона могли быть более ранние переводы, чем упомянутый одним из его друзей рифмованный перевод Овидия в стиле Вальтера Скотта и понятно, у каждого писателя, даже когда он еще только начинает писать, свой метод, с которым он не так-то легко расстается. А уж тем более когда речь идет о Стивенсоне: если он что-нибудь решил, он не был склонен менять свое решение. Мистер Д. А. Стюарт[31] приводит весьма замечательное замечание одного из друзей юного Стивенсона: «Внешне Луис Стивенсон казался воплощением легкомыслия и ветрености, но внутри он был кремень». Это проявлялось и в куда более существенных для его жизни и дальнейшей судьбы вещах, чем метод литературной практики.
3
1867–1873 годы — очень интересный период жизни Стивенсона, период превращения школьника во взрослого человека. В начале его он поступил в Эдинбургский университет, а в конце уехал один в Ментону, надломленный физически и духовно долгой, лишь с небольшими передышками, борьбой с родителями и окружающей средой. Ему приходилось сражаться с упорным предубеждением против избранной им профессии и столь же упорным фанатизмом, делавшим родителей нетерпимыми к любому иному, чем у них, символу веры. Борьба была тем более трудной, что их собственническое отношение диктовалось искренней любовью и привязанностью к сыну. Они хотели, чтобы Роберт Луис пошел по стопам отца, потому что с их точки зрения это было самым естественным и разумным, обеспечило бы ему положение в обществе и материальный успех и удержало бы при них, а верность пресвитерианству служила порукой воссоединения семейного кружка на небесах. Стивенсон был иного мнения, как и многие сыновья из викторианских семей, но вряд ли кому-нибудь приходилось так жестоко сражаться против столь значительно превосходящих сил Борьба с окружением — в данном случае с теми слоями эдинбургского общества, к которым принадлежали Стивенсоны, — ожидает каждого, кто выделяется из обывательской среды, нетерпимой ко всему необычному. Конечно, Роберт Луис имел друзей и соратников, но их было мало, а критиков — легион. И хотя земляки Стивенсона громче других стали восхищаться его талантом, когда он завоевал весь мир, во времена его юности никто в Эдинбурге (за исключением вышеупомянутых друзей) не был о нем особенно высокого мнения ни как о человеке, ни как о писателе, а в Суонстоне[32] так никогда и не признали его заслуг.
Если верить всем свидетельствам, в том числе и словам самого Стивенсона, о той плохой подготовке, которую он получил в школе, естественно возникает вопрос: как же он умудрился попасть в университет. Прежде всего можно предположить, что пробелы в его школьном образовании были не так велики — все мы с восторгом слушаем легенды о том, как человек, добившийся блестящего успеха в жизни, был в школе тупица π лентяй (и невольно сгущаем краски). Даже при нерегулярных занятиях умный подросток вроде Роберта Луиса играючи получит те знания, для приобретения которых другим, менее одаренным детям нужно долго и упорно работать, и куда лучше применит их. Многие из людей, окончивших школу с отличием, могли позавидовать тому, как Стивенсон знал французский язык и литературу, не говоря уже о самой Франции.
Однако и помимо этого нетрудно объяснить, почему недочеты в его образовании, каковы бы они ни были, не помешали ему поступить в университет, а пропуски лекций не помешали его закончить. В те времена в Эдинбургском университете не существовало вступительных экзаменов. Всякий, у кого были соответствующие рекомендации и кто был в состоянии вносить плату за учение, мог посещать лекции, а если студенты их пропускали, против них не принималось никаких мер. К тому же тогда, по-видимому, еще не существовало практики прикреплять студентов к определенным педагогам, что вынуждало бы их работать. Теперь все переменилось, но в те дни людям предоставляли свободу и личную инициативу и считали, что студенты не мальчики, а взрослые люди: раз они пришли работать, они будут работать, а нет — это их личное дело. Если Стивенсон отсутствовал на лекциях, что, несомненно, не раз бывало, то не по вине профессоров. Латынь у них преподавал У. Я. Селлар, великолепный знаток классической филологии; естествознание — физик, работавший с лордом Келвином,[33] а инженерное дело — человек по имени Флеминг Дженкин.[34] Хотя начало их знакомства не предвещало ничего хорошего, Флеминг вскоре стал одним из лучших друзей Стивенсона, другом любящим, хотя и строгим, и Стивенсон очень его ценил.
Рассказывают множество остроумных историй — столь же достоверных, сколь вообще достоверны анекдоты из жизни знаменитых людей — о том, как Стивенсон бездельничал в университете, особенно на последнем курсе, но при всей их апокрифичности нет сомнения, что он действительно почти не занимался. Он мог бы, конечно, сказать в свое оправдание, что слишком углубленные университетские занятия идут впрок будущему профессору, но вредны будущему писателю. Когда Джоуит[35] посоветовал великому эрудиту Суинберну покинуть Оксфорд до получения степени, он, возможно, оберегал не столько нравственность поэта, сколько его талант.
Если верить довольно суровому замечанию, сделанному (в 1880 году в Давосе) другом Роберта Луиса Д. А. Саймондсом, стипендиатом колледжа Бэллиола, окончившим с отличием Оксфордский университет, Стивенсон не извлек большой пользы из своих академических занятий. Саймондс писал:
«Чем чаще я с ним вижусь, тем сильнее ощущаю в нем недостаток солидных знаний. Ему нужны годы упорного труда, чтобы пополнить пробелы по многим серьезным дисциплинам. В конце концов университетское образование имеет свои достоинства. Отсутствие его особенно чувствуется в таких людях, как Стивенсон».
Пожалуй, в этих словах любезного Саймондса есть налет оксфордского снобизма. Еще неизвестно, смог ли бы он при всей его эрудиции написать научный доклад на тему «О термическом влиянии лесов», настолько интересный, что он был прочитан в Эдинбургском королевском обществе, или заслужить серебряную медаль за другой доклад (написанный, когда Стивенсону исполнилось двадцать) — «О новом виде перемежающегося света для маяков». А Стивенсону удалось и то и другое, хотя, конечно, мы не знаем, какую долю внес в эти работы его отец — инженер-оптик и прекрасный специалист.
Оба эти доклада на научные темы, разумеется, ничего не прибавляют к славе Стивенсона-писателя, но они заслуживают упоминания хотя бы потому, что свидетельствуют о его искренней готовности угодить отцу. И все же возникает мысль, не привели ли в дальнейшем такие уступки, пусть и сделанные с наилучшими намерениями, к еще большим осложнениям. Ведь Стивенсон знал, когда писал эти доклады, что никогда не станет инженером Управления Северных огней, и потому в известном смысле вводил этим отца а заблуждение, хотя, возможно, не достигнув еще совершеннолетия, он считал своим долгом подчиняться родительской воле. С другой стороны, совершенно ясно, что Томас Стивенсон смотрел сквозь пальцы на бездельничанье сына в университете главным образом потому, что надеялся увидеть его инженером, как только он повзрослеет и остепенится. Недоразумения и непонимание были с обеих сторон.
Эти научные доклады не единственное свидетельство того, что в университетские годы Стивенсон все же пытался следовать желаниям отца в выборе профессии. Еще в детстве, в 1863 году, он сопровождал мистера Томаса Стивенсона в поездке на маяки, расположенные на побережье Файфа, но вряд ли отец ставил тогда перед собой образовательные цели — мальчик был еще слишком мал; скорее это было продиктованной любовью к сыну уловкой, избавлявшей того от посещения школы. Во время следующей инспекторской поездки с отцом Роберт Луис проделал часть пути, за полстолетия до него пройденного его дедом и Вальтером Скоттом. Летом 1868 года Стивенсон поехал в Анструтер, городок на побережье Файфа, «чтобы набраться хоть немного опыта, участвуя в постройке мола». В письмах домой он делает, пусть слабые, попытки казаться заинтересованным, сообщает отцу, что «каменщики обогнали водолазов», обещает понаблюдать за работой каменщиков и «посмотреть, сколько времени им требуется на обработку этого файфского камня, о котором ты писал», просит сказать, «на что нужно обращать внимание». Он упоминает, что был занят расшифровкой и перепиской спецификации каких-то судостроителей, «самых безграмотных писателей, с которыми мне доводилось иметь дело». Но истинные его чувства полностью раскрываются в письме к матери.
«Мне страшно надоела эта серая, угрюмая, заливаемая морем дыра. У меня небольшой насморк и слезятся глаза; ты не можешь представить, как мне здесь тошно, как хочется обратно туда, где есть деревья и цветы, прочь из этой бессмысленной, холодной и суровой пустыни».
А в очерке «Случайные воспоминания», где упоминается этот эпизод его юности, Стивенсон подчеркивает, что к тому времени он «уже твердо решил для себя стать писателем», и добавляет, что «работал он по-настоящему только в те часы», когда «был свободен от работы». Это относилось к Анструтеру и в равной степени должно было соответствовать истине, когда он переехал оттуда в еще более мрачный и ветреный «субарктический городок Уик» в Кейтнессе, «самый гадкий из созданных людьми городишек, расположенный на самом голом из созданных богом заливов». Спору нет, в своих письмах он по-прежнему делает вид, будто его интересует работа, и предлагает «измерить камни, которые были сдвинуты морем, и подсчитать их примерный вес». Но тут же невольно выдает, как элементарны его познания в инженерном деле, неосторожно спрашивая отца, сколько весит квадратный фут морской воды и сколько фунтов в тонне! Будущему строителю маяков на опасных, наполовину скрытых водой рифах, и портовых сооружений в бурном море следовало бы знать немного больше! Все же он честно работал, ободрал с рук кожу, вытаскивая мокрый перлинь, и даже (возможно, скорее из любопытства, чем из чувства долга, и, уж конечно, вопреки желанию отца) спустился вместе с водолазами под воду, туда, где ставили стену. Однако, читая отчет Луиса о разрушениях, причиненных штормом, мы сразу видим, что писал его не инженер, а будущий писатель. Обратите внимание на красочность и выпуклость языка.
«В конце дамбы видны проломы, пирамиды из десятитонных глыб, вырванные из гнезд и перевернутые камни… Проезжая часть дамбы разрушена, там и тут раскиданы шпалы, крестовины и сломанные доски, изгрызенные и изжеванные, точно их пытался съесть изголодавшийся медведь, с торчащими из них щепками, словно их строгали зазубренным рубанком. Взад-вперед раскачивается выдернутая из дна свая. В одном месте поручни скрылись под водой не меньше чем на фут. И это еще нельзя назвать сильным штормом, волнение было не так уж велико. Все же, когда мы стояли в конторе, я вдруг почувствовал, как подо мной дрогнула земля: это огромный вал с грохотом обрушился на дамбу у противоположной стены, построенной в прошлом году».
Нам теперь кажется странным — все мы задним умом крепки, — как это Томас Стивенсон не увидел по письмам сына, что перед ним прирожденный писатель, и не внял этому предостережению. Но человек становится слеп, когда вобьет себе что-нибудь в голову, а уж тем более если человек этот — викторианский отец семейства, для чад и домочадцев которого, по утверждению сына, «каждое его слово и желание было свято». По-видимому, мистер Стивенсон твердо верил в то, что Роберт Луис станет согласно его желанию инженером, вплоть до того самого дня (8 апреля 1871 года), когда услышал из уст сына, что тот не может считать инженерное дело делом своей жизни. Как мог мистер Стивенсон поверить в это потрясающее заявление (основой которого был «кремень» в характере Роберта Луиса), тем более что их разговор произошел сразу после того, как Роберт получил медаль за научный доклад!
Тяжело было, вероятно, и той и другой стороне. Как ни эгоцентричен был Луис Стивенсон, он не мог, даже в самый разгар битвы, забыть о безграничной любви, внимании и заботе родителей Само собой, они совершали ошибки, но нужно было быть тупым и бесчувственным человеком, чтобы не видеть, что все их помыслы направлены на сына, что в нем смысл их жизни.
Томасу Стивенсону тем труднее было примириться с беспричинным нарушением славной традиции служения науке и обществу — а именно так воспринял заявление Роберта Луиса его отец — еще и потому, что он питал величайшее презрение к профессии литератора и, как истинный шотландец, не верил в талант сына. Чтобы показать это, достаточно двух примеров. Патрик Кэмпбелл, присяжный стряпчий, знавший Роберта Луиса с 1861 года, рассказывает, что на каком-то званом обеде в Эдинбурге он представил мистеру и миссис Стивенсон своего друга, молодого пастора — преподобного Александра Уайта.
«…И я никогда не забуду удивления отца, когда он услышал щедрые похвалы сыну из уст серьезного молодого священника, и недоверия, с каким он слушал все то, что тот говорил».
К сожалению, Кэмпбелл не сообщает, когда произошел этот эпизод, а ведь чем позднее это было, тем знаменательнее для нас. А вот второй пример: в 1879 году, когда отчуждение между Робертом Луисом и отцом было всего сильнее, старик откровенно беседовал об этом с профессором Эдинбургского университета Джеймсом Дьюаром, говоря «с гневом и тревогой о поездке сына» (в Америку, чтобы жениться на миссис Осборн) и его «намерении изменить фамильному поприщу и вступить на неверную и бесплодную стезю литератора». Профессор Дьюар рискнул не согласиться с ним и отчасти в шутку, отчасти всерьез, предложил пари, что через десять лет Роберт Луис будет зарабатывать такие деньги, какие не снились почтенной инженерной фирме.
«К его удивлению, мистер Стивенсон впал в страшную ярость и отверг все попытки профессора к примирению».
Через шесть с половиной лет Томас Стивенсон, стоявший уже одной ногой в могиле, потребовал, чтобы его отнесли к старому другу — он хотел перед ним извиниться, так как стало ясно, что прав был сэр Джеймс, а не он. Два эти эпизода, настолько достоверные, насколько вообще можно верить биографическому материалу, дают нам некоторое представление о том, какие почти непреодолимые трудности стояли перед Луисом Стивенсоном в его борьбе с обывательскими предрассудками и узким практицизмом отца. Как много говорит ярость, с которой тот встретил предположение, что какой-то «писака» сможет заработать больше, чем такой великолепный инженер, как он, да и сам критерий оценки, когда о достоинствах человека судят по количеству заработанных им денег! Нечего удивляться, что Роберт Луис с радостью пошел на компромисс и согласился готовиться к адвокатуре, хотя должен был понимать, что при его темпераменте и правдолюбии адвокат из него выйдет еще худший, чем инженер.
Как ни глубоко мистер Томас Стивенсон был привязан к сыну, он исполнял свои родительские обязанности с непреклонностью, характерной для его суровой религии, и не всегда проявлял при общении с Луисом то чувство юмора, которым он так славился. В числе многих примеров мелочной тирании отца можно привести два случая, пустячных, но тем более возмущавших горячего юношу. Мистер Стивенсон назначил штраф в одно пенни за каждое жаргонное слово, которое Роберт Луис произносил при нем. Во-первых, это было обременительным налогом на карманные деньги Луиса, составлявшие два с половиной шиллинга в неделю в студенческие годы и все еще не превышавшие фунта в месяц, когда ему было уже двадцать три. Во-вторых, молодежь все время слышит жаргон, говорит на жаргоне и со временем бросает эту привычку, но для такого тонкого и умного человека, как Луис Стивенсон, поставившего себе целью овладеть всеми пластами языка и стиля, жаргон — это языковая руда, сырье, которое завтра, возможно, станет разговорным, а послезавтра литературным английским языком. Если бы мы убрали из нашей речи все, что, начиная со времен Аддисона,[36] считалось в ту или иную пору жаргоном, мы бы теперь говорили и писали на очень странном, высокопарном и архаичном языке. И все равно придирки мистера Стивенсона ни к чему не привели. Флора Мэссон (дочь эдинбургского профессора английского языка) пишет в дневнике об обеде, данном Стивенсонами в университетские годы Роберта Луиса. Она сидела между отцом и сыном. Луис говорил о Бальзаке, о котором мисс Мэссон никогда не слыхала, а Томас Стивенсон если и слыхал, то не ставил ни в грош! Говорил Луис блестяще, вызывая у отца, как ей показалось, «одновременно раздражение, родительскую гордость, восхищение и досаду». Разговор обратился к иностранным словам, которые мистер Стивенсон, конечно, хотел бы все изъять из языка, и это «побудило Луиса Стивенсона с поразительноп быстротой и изобретательностью нанизать целые цепочки слов, пришедших в английский из всех языков мира. Он произносил фразу за фразой, утверждая этим нелепость такой концепции, да и полную ее неосуществимость. Отцу пришлось замолчать, но был момент, когда он чуть ли не со слезами доказывал свою правоту».
Другой случай произошел, когда мистер Стивенсон обнаружил, что его сын является членом клуба молодых студентов, первым правилом которого было пренебрегать всем, чему их учили родители. Вместо того чтобы посмеяться над ними и попросить включить его в списки клуба, образцовый отец набросился на сына с бранью и тем самым превратил шутку в нечто куда более серьезное. Так или иначе, но реакция мистера Стивенсона на эти и тысячу других симптомов «повзросления» Роберта Луиса не только не потушила, но, напротив, разожгла естественный бунт против суровой религии, в оковах которой прошло его детство, и порожденного этой религией чопорного, кичащегося богатством общества, погрязшего в условностях и подавлявшего всякую живую мысль.
Пустяки вроде вышеприведенных, несущественные сами по себе, показывают, как далеко разошлись во взглядах отец и сын и как трудно было Томасу Стивенсону представить, что он ошибается, а Луис — прав. Ко всему прочему вызов, который его сын в те годы бросал эдинбургскому обществу и мрачной религии, стоявшей за ним, привел к тому, что гордости мистера Стивенсона были нанесены еще и иные раны. Начать хотя бы с того, что большинству сограждан Роберта Луиса не нравились его внешность и то, как он одевался. Один из них вспоминает его «тощим, долговязым юношей с длинными волосами и болезненным цветом лица», другой говорит, что он был «сутул и узкогруд». Д. А. Стюарт приводит слова неизвестного «друга», который идет еще дальше:
«Прежде всего он был очень нескладно сложен, не парень, а какой-то цеп для молотьбы, одни суставы, локти, колени и журавлиные ноги… Он так был похож на огородное чучело, что, казалось, вот-вот заскрипит при ветре». Эдмунд Госс,[37] который не был эдинбуржцем и познакомился со Стивенсоном в 1870 году, тоже считал его некрасивым. Однако другой очевидец, правда, на этот раз женщина (Маргарет Мойес Блэк), говорит, что он был весьма интересным — «стройным и изящным», с «колоритной и характерной» внешностью.
Возможно, я пристрастен, но мое личное впечатление после того, как я внимательно пересмотрел довольно мно-ючисленные фотографии Стивенсона, скорее совпадает с мнением дамы, чем с мнением друзей-мужчин. Конечно, фотография неверный свидетель — аппарат обычно лжет, но в более поздние годы у Стивенсона было исключительно привлекательное лицо, умные глаза и улыбка, которая подсказывает нам, почему столь многие считали его «обворожительным». Как ни странно, с возрастом внешность его делалась лучше, отчасти из-за того, что он привел в порядок зубы, и это сильно украсило его рот, отчасти из-за того, что его перестали угнетать Шотландия, родной дом и воскресные службы. Если основываться только на ранних фотографиях, нельзя отрицать того, что Стивенсон выглядел тогда довольно «невзрачно», но не потому, что у него был (как утверждают некоторые) «изнуренный» вид, а из-за неровных зубов и какого-то запуганного выражения лица. «Изнуренным» он не выглядит, во всяком случае на ранних фотографиях.
Во многих из этих воспоминаний есть душок, показывающий, чего на самом деле стоило елейное «о мертвых или ничего, или…» бесчисленных апологетов Стивенсона, которые, не запнувшись, утверждают то, чего не было, и, не задумавшись, утаивают то, что было, лишь бы нарисовать сусальный портрет. Есть много свидетельств того, что раны, нанесенные его вызывающим поведением в юности, зудели еще много лет после смерти Стивенсона и его канонизации в качестве героя английской «публики». Казалось бы, скромный студент мог позволить себе некоторую небрежность в одежде, не вызывая этим какого-то поистине мстительного раздражения, но не надо забывать того, что, насколько англичанам нравится «лэрд» (шотландский землевладелец), настолько же им противен «артист». «Он выглядел, как знахарь или цыган», — говорит один «друг», с осуждением описывая его костюм, состоящий из «парусиновых брюк и черной рубашки с открытым воротом и галстуком, который походил на лоскут, оторванный от выброшенного на помойку ковра». Отмечали, что его черная бархатная куртка всегда казалась «старой и потертой», сочувственно объясняя это тем, что «в семье, должно быть, существовал сундук со старой одеждой, которую и донашивал Луис». Даже Маргарет Блэк с сожалением говорит о его «странном одеянии».
Это предубежденное отношение к его манере одеваться последовало за ним в Лондон. Однажды, прогуливаясь днем по Бонд-стрит в черной рубашке с красным галстуком, черной куртке и бархатной шапочке, Стивенсон встретил Эндрю Лэнга,[38] и этот оксфордский сноб, хотя и превосходный писатель, в шутку попросил Стивенсона уйти и не «компрометировать» его своим обществом. Пристрастие Стивенсона к просторному и удобному костюму отнюдь не свидетельствует о его излишней скромности. И Хенли, и Флора Мэссон отмечали, что Луис Стивенсон никогда не проходил мимо зеркала, не полюбовавшись собой.
А вот высказывания, говорящие о еще более глубокой антипатии: «Он всегда позировал…», «Его жеманство было еще смешнее, чем его костюм…», «У него не было друзей!..», «На университетских лекциях он вел себя безобразно и рисовался тем, что смотрел на всех с оскорбительной и вызывающей насмешкой». Безымянному свидетелю, утверждавшему, что у Стивенсона не было друзей, противоречат слова мистера Патрика Кэмпбелла, который в ответ на вопрос, почему он мало общался со Стивенсоном в университете, сказал: «Я вовсе не стремился к его обществу, а еще менее к обществу друзей, окружавших его. Не все, пожалуй, к счастью, слеплены из одного и того же теста».
Утверждение анонимного свидетеля, что у Стивенсона в университетские годы «не было друзей», абсолютно противоречит истине. За это время Луис обзавелся такими друзьями, как его блестящий, хотя и несколько сумасбродный, кузен Боб Стивенсон, как Чарлз Бэкстер, оставшийся на всю жизнь его советчиком в юридических и литературных делах, как Уолтер Симпсон, сын известного шотландского врача, открывшего хлороформ, и как профессор Дженкин. Это были его эдинбургские друзья, а в Англии в 1873 году он познакомился с миссис Ситуэлл и Сидни Колвином.[39] Бэкстер и кузен Боб были вместе с Робертом Луисом инициаторами некоторых студенческих проделок, которые в двадцать лет кажутся куда смешнее, чем в сорок. Боб Стивенсон к тому времени уже побывал во Франции и был гораздо эмансипированнее, чем Луис; именно он, по-видимому, научил Луиса носить красный шарф — столь обычный предмет туалета среди крестьян на юге Франции. Бобу никто бы не отказал в находчивости. Приехав как-то на железнодорожную станцию, он обнаружил, что ему не хватает денег на билет. Он тут же пошел в ближайшую ссудную кассу, назвавшись мистером Либеллом, заложил брюки от вечернего костюма и поспел на поезд. Роберт Луис пришел в восторг от «мистера Либелла», и оба юноши потратили безрезультатно много энергии и изобретательности, чтобы заставить своих сограждан поверить, будто такая личность действительно существует. Они «произвели на свет» также двух типичных эдинбуржцев: Томпсона и Джонсона, которые впоследствии иногда попадались в письмах зрелого Стивенсона, написанных по-шотландски. Шутки такого рода — обычное развлечение студентов и вообще молодых людей, которому они предаются, пока рука времени и коммерции не охладит в них пыл молодости, — право, не заслуживают такого уж серьезного осуждения. Однако отзвуки столь легкомысленных забав, долетавшие до мистера и миссис Стивенсонов, не могли не вызвать неудовольствие этих почтенных людей, для которых была очень и очень небезразлична их репутация в обществе. Более чем двадцать лет спустя на Самоа мать Стивенсона волновалась, как бы он не принял участия в войне «охотников за головами», так как это может отразиться на престиже их семьи! Вряд ли и в 1870-е годы родители могли одобрить «Либелла» или «непристойные выдумки» с Томпсоном и Джонсоном. Мы знаем, что, связав религиозные сомнения Роберта Луиса с его бездельем в университете и злополучными мистификациями, мистер Томас Стивенсон гневно обрушился на Боба, обвиняя его в том, что он разрушил веру Луиса, — обвинение это он честно снял, когда, успокоившись и поразмыслив, увидел его несправедливость, ибо такой человек, как Р. Л. С, не нуждался в подстрекательстве к бунту.
Мистер Кэмпбелл, стряпчий, который поздравлял себя с тем, что он «вылеплен из другого теста», чем Стивенсон, был куда ближе к истине, чем анонимный свидетель. Если бы мы в то время спросили родителей Роберта Луиса, они бы почти наверняка согласились с мистером Кэмпбеллом в том, что у их сына не только не мало друзей, но, напротив, слишком много, причем весьма неподходящих. То ли религиозные сомнения и желание познать самого себя привели Луиса к неприятию лицемерия и самодовольства его класса, то ли в его литературную «практику» входило «изучение жизни низов», но Стивенсон сам рассказывает нам, что проводил время в подозрительных местах среди подозрительных людей. Среди них были воры и уличные девки, и частое посещение подобных мест «навсегда портило репутацию молодого человека в глазах почтенных обывателей, зато упрочивало его положение среди бунтарей». Среди завсегдатаев его любимого «howff» (притона) Стивенсон был известен под кличкой Бархатная куртка. Роберт Луис с гордостью пишет о том, что женщины никогда не были с ним грубы и он мог в любой момент отдать им на хранение все свои деньги без малейшего риска их потерять. В письме, написанном гораздо позднее, он вскользь упоминает, что завоевывал сердца всех «harridans» («чертовок»). И не только «чертовок». Во время поездки в Иарейд в 1870 году Стивенсон, которому тогда еще не было двадцати, заметил своему попутчику, что любит путешествовать один, так как это дает ему возможность встречаться и «заводить дружбу» с новыми людьми. «Ах, — сказал тот, — у вас такая приятная манера… вы совершенно покорили мою старуху, право так… она только о вас и говорит». И популярность Стивенсона-писателя во многом объясняется тем, что он сумел вложить эту «приятную манеру» и в свои писания.
Что же делал Стивенсон в этих «howffs»? Кто знает? Сам он говорит, что брал туда записную книжку и сочинял лирические стихи. И верно, мы чувствуем отголосок бунтарского духа, который гнал его в подобные места, в таких, например, строках:
Ты любишь, набожный народ, В багрец и злато нарядиться. Курю, кривя усмешкой рот: Милей мне мытарь и блудница.[40]Если вам покажется странным, что изучение Монтеня и евангелия от Матфея привело к подобным результатам, не забывайте о стивенсоновском, несколько утрированном культе «романтики» и о том удовольствии, с которым он всю жизнь, соответственно нарядившись, исполнял перед самим собой ту или иную роль. В студенческие дни в Эдинбурге он был нищим художником, богемой, изображал из себя беспутного Роберта Фергюссона,[41] а на Самоа представлял — и согласно этому одевался — богатого плантатора-джентльмена. Пожалуй, будет только справедливо отметить, что те, кто суровее всех порицал Стивенсона за это невинное тщеславие, были обычно люди, совершенно лишенные воображения, слепо следующие моде.
Посещения «убежищ греха» и игра в порок являлись частью того «безделья», за которое так осуждали Стивенсона в его студенческие годы, хотя, казалось бы, для юноши, которому грозил туберкулез, нужней всего был полный отдых. Позднее, когда стали известны стихи вроде вышеприведенных и письма к миссис Ситуэлл, которые в течение многих лет скрывались от глаз публики, Стивенсона обвинили в якобы бывшем у него желании вступить в брачный союз с юной проституткой, упоминаемой в этих стихах и письмах под именем Клэр. Эдинбургские сплетники, болтовней которых так широко пользовался мистер Стюарт, расшили канву мельчайшими подробностями. Когда юный Роберт Луис не мог больше выносить осуждения эдинбургского общества, когда его выпады против церкви заставляли мать плакать, а отца сердито хмуриться, он находил убежище в «howffs» y, как их называл Стюарт, «бесстыдных дочерей Венеры», причинивших будущему писателю «неизгладимый вред». Какой именно вред, «биограф» не говорит, и читатель может представить все, что подскажет ему фантазия. Настоящее имя Клэр — Кейт Драммонд. Это была якобы простая девушка с севера Шотландии. Она рассказывала ему легенды горцев, услаждая его слух «теми забавными и причудливыми оборотами речи и мягкими, мелодичными модуляциями голоса, которые ей достались в наследство от кельтов». Интересно, как теперь, по истечении сорока-пятидесяти лет, можно знать и даже утверждать это?! Так или иначе, говорят, что Стивенсон хотел жениться на Кейт, но не смог, поскольку у него не было денег, а отец (вполне резонно) отказался финансировать такой «дикий» поступок.
Быть может, история эта имела под собой какие-то основания. Яростная реакция на эдинбургское фарисейство могла привести юношу к подобному проекту. Но, вероятнее всего, это была еще одна мистификация в духе «Либелла» или Томпсона и Джонсона, в которую на этот раз поверили серьезнее, чем рассчитывал ее автор. Твердо мы знаем одно — даже после того, как Роберт Луис достиг совершеннолетия, ему выдавался на карманные расходы один фунт в месяц. За все, в чем он нуждался, платили, но на руки он не получал ничего. Возникает вопрос: искал ли Стивенсон «низкую компанию» потому, что у него было так мало денег, или ему выдавалось так мало денег, потому что отец знал, с какой он водится компанией? Стивенсон намекает на первое, но объяснение, быть может, кроется во втором. История с Кейт Драммонд скорее всего лишь злая сплетня, хотя неопубликованные стихи и письма на первый взгляд подтверждают ее; но, если в ней была какая-то доля истины, самое малое, что мог сделать отец, — постараться, чтобы сын не имел денег на покупку обручального кольца и на уплату за брачное разрешение, правда, деньги можно было взять в долг. Мораль ясна: замалчивание нежелательных для семьи биографических данных — практика, которой придерживаются отнюдь не одни викторианцы, — в конечном итоге приводит к обратным результатам, ведь у людей возникает подозрение, что худшее так и осталось скрытым. Тем более что, несмотря на историков и прессу, со временем правда просачивается наружу. Из коммерческих соображений его отцу Томасу Стивенсону, его редактору Колвину, его биографу Бэлфуру да почти всем друзьям приходилось с самого начала «подправлять» репутацию Роберта Луиса. Жена Стивенсона Фэнни была достаточно деловой женщиной и слишком заинтересованной в его гонорарах, чтобы не понимать, что легковерную публику, сделавшую из Роберта Луиса святого («…счастливого, как короли»[42]), нужно и дальше водить за нос. Из-за шума, поднятого вокруг эпизода с Клэр, можно подумать, что юношу обвиняли в растрате четырехсот фунтов (как забавно рассказывает об этом Р. Л. С. в «Злоключениях юного Джона Николсона»), а не в романтическом намерении жениться на падшей женщине, которое, если все действительно было так, как говорят, хотя и противоречило здравому смыслу, делало честь его сердцу.
4
Война или, во всяком случае, вражда между Стивенсоном и его родителями вкупе с респектабельным Эдинбургом угнетала Роберта Луиса не только в университетские, но и в последующие годы; по правде говоря, гнет этот ослабел только после женитьбы Стивенсона, давшей ему относительную свободу. Несомненно, молодой человек частенько бывал «утомительным», щеголял своей приверженностью к богеме и ее взглядам и твердой решимостью не подчиняться общепринятым нормам: он вечно попадал в какие-нибудь истории, докучал матери просьбами о деньгах и так или иначе, сознательно или бессознательно, возбуждал к себе неприязнь, которая оказалась долговечнее, чем его успех и посмертная популярность, созданная сусальными биографами. Прибавьте к этому его колебания в вере и отказ стать инженером, и вы поймете, как он раздражал властного и деспотичного отца и оскорблял мать, свято верившую в авторитет мужа. И все же со стороны юноши было только разумным отказаться от профессии, которая его не интересовала. Даже мистер Стивенсон, вкладывавший всю душу в свое дело, не справился со строительством портовых сооружений в Уике. Более чем вероятно, что Роберта Луиса, лишенного в дальнейшем помощи и советов отца и не увлекавшегося этой работой, ожидали бы катастрофы похуже. Он проявил благоразумие, уступив настоянию отца изучать юриспруденцию, и даже умудрился в конце концов — бог весть как — получить звание адвоката. Ну и что же, имеем мы все основания спросить, не принес ли его мистер Стивенсон в жертву «респектабельности» и тому, «что скажут люди»? Ведь положение адвоката без практики ничем не лучше, чем положение автора, книги которого не пользуются спросом. В том, что Томас Стивенсон смотрел на писательский труд как на безделье (воспеваемое Робертом Луисом в одном из очерков), повинны невежество и мещанство, столь обычные в те времена, да и не только в те. И конечно, юноша, как и любой другой, имел право выработать свой догмат веры. Его «преступление» или ошибка, как мы увидим, состояли в том, что он был слишком честен, чтобы скрывать свои мысли.
Однако, как ни тяжело было положение Стивенсона, не следует представлять его в еще более мрачном свете. Одна из самых больших трудностей состояла в том, что Роберт Луис не мог покинуть дом отца и добиться независимости собственным трудом. Пусть ему нечего еще было «поведать» людям, увлечение Луиса литературой оказалось настолько сильным, что мешало сосредоточиться на чем-либо другом, а слабое здоровье не позволяло участвовать в драке-свалке на ниве журналистики или коммерции. Впоследствии сам Стивенсон — этот неисправимый оптимист — задавал себе вопрос: не удалось ли бы ему преуспеть на юридическом поприще? Но тут же с юмором замечал, что, верно, оказался бы в могиле задолго до этого проблематического успеха. Человек физически слабый, единственный сын обеспеченных родителей, он имел все основания рассчитывать на их материальную поддержку; они и помогали ему, но проявляли при этом слишком большую подозрительность и скупость. Мистер Стивенсон даже сказал позднее, что язычник не может рассчитывать получить в наследство деньги христианина.
Так что Роберту Луису ничего не оставалось, как приспособиться к существующему положению вещей. Студенческая жизнь дарила ему и приятные минуты, в ней имелись и свои преимущества. У нею были Суонстон, каникулярные поездки, «Умозрительное общество», любительские спектакли в доме у Дженкинов, неизбежный студенческий журнал (и, конечно, не менее неизбежное разочарование после его провала). А в конце этого периода у него появились новые друзья, открылись новые перспективы, несколько ослабла тягостная опека родителей.
Коттедж в Суонстоне, возможно, как и многое другое в биографии Стивенсона, был представлен публике в чрезмерно романтическом виде. Суонстон находился всего в нескольких милях от центра Эдинбурга, хотя тогда он еще не входил в черту города, как сейчас. Мистер Стивенсон арендовал коттедж в мае 1867 года, и в течение четырнадцати лет семья жила там летом. Роберт Луис проводил в Суонстоне немало времени с родителями или с кем-либо из друзей, а то и один, Воспоминания о нем занимают важное место в творчестве Стивенсона, являясь наряду с прочим источником для тех произведений, которые основаны на его личном опыте и представляют для нас самый большой интерес. Там он встретил старого шотландца-садовника, там же познакомился с пастухом, который в их первую встречу накричал на него за то, что Луис распугал боязливых овец, а потом стал ему другом. Там он увидел пейзаж, который вспомнил много лет спустя, когда писал «Сент-Ива». Трудно удержаться и не привести хотя бы один или два отрывка из Стивенсона, где он показывает себя с самой привлекательной стороны, ибо здесь его острая наблюдательность и мягкий юмор не скрыты за излишествами стиля, который подчас несколько тяготеет к манерности. Иногда говорят, что садовник Роберт Янг кое-чем обязан скоттовскому Эндрю Фэрсервису,[43] но на самом деле объединяет их лишь место рождения. Трудно не разделить чувств Луиса, которые вызывал в нем его соотечественник.
«При нем даже само место, где он работал, словно становилось меньше; рядом с его фигурой, преисполненной достоинства и подержанного аристократизма, небольшой садик выглядел просто жалким. А сколько у него было рассказов о тех великолепных поместьях, где он раньше служил! О замках и парках он говорил с уничижающей вас фамильярностью. Он мог поведать вам об усадьбах, где младшие садовники трепетали от его взгляда, где были пруды и садки для лебедей, где под его надзором находились лабиринты тропинок и необъятные заросли унылого кустарника. Вас невольно охватывало чувство, что, согласившись ухаживать за вашим скромным садиком, он оказывает вам величайшее снисхождение. Ваше положение в самом деле было незавидно. Вам сразу давали понять, что вы воспользовались нуждой, в которую впал высокодостойный человек. и что перед вашей плебейской властью склоняется его бедность, но не воля».
Портрет этот заслуживает внимательного изучения, ибо мало кому удавалось так благожелательно и вместе с тем так безжалостно показать, как слуга, быть может сам этого не сознавая, пытается вознаградить себя за нынешний удел рассказами о былом (и вымышленном) величии, дабы поставить на место хозяина со всем его, увы, вполне реальным превосходством. Ныне почти исчезнувший с лица земли английский дворецкий был довольно искусен в этой величественной пантомиме, но даже он не мог сравниться с «гордым шотландцем»; возможно, это одна из причин того, почему так мало «гордых шотландцев» находится в услужении за границей. Сравните кичливость этого слуги с внутренним достоинством одинокого пастуха Джона Тодда, который «помнит дни, когда он был гуртовщиком»; ему даже довелось попасть в тюрьму за драки, неизбежные между соперниками-пастухами, гнавшими стада по тропам, где пастбища и места для ночевки испокон веков служили источником раздора.
«Лицо его никогда не меняло своего выражения и оттенка; ветер и дождь окрасили его деревянные черты в красновато-коричневый цвет — скорее маска, чем живое лицо; однако в нем чувствовалась какая-то напряженность, затаенная угроза, естественная для человека, который все время настороже и истомлен неусыпной бдительностью. Он изъяснялся на самом сочном диалекте, какой мне случалось слышать; каждое слово приводило меня в восторг, а порой в изумление, и я часто возвращался из наших объездов с новыми приобретениями… О чем бы он ни заговорил, он все расцвечивал яркими красками; когда он описывал что-нибудь, вы видели это воочию; когда он повествовал (что бывало чаще всего) о своем древнем занятии, пастушеская жизнь неожиданно окрашивалась в самые романтические и фантастические цвета. Он рассказывал о «кланах» овец — каждый на отведенном ему участке в горах, и о том, как при помощи ежегодного убоя и приобретения новых голов между гуртами поддерживалось определенное равновесие; о ночном выпасе, о приметах погоды, о трудностях снежных зим, о редкой глупости овец и редком уме собак — и все это живописалось с такой человечностью, с таким вкусом к жизни и таким ее знанием, что вы слушали его с неослабным интересом».
Хотя знакомство со старым садовником и пастухом относится к студенческим годам Стивенсона, он завершил своп очерки значительно позднее, и размышления его скорее всего принадлежат более зрелому человеку. Принято обвинять Стивенсона в том, что его произведения почти всегда автобиографичны или, во всяком случае, содержат автобиографические элементы, но, мне думается, это не такой уж большой грех, как утверждают «объективные» критики-педанты. Даже если признать, что Стивенсон был эгоцентричен и в какой-то мере тщеславен, нельзя не видеть положительной стороны в его стремлении опираться на личный опыт. И действительно, даже в таких порожденных фантазией книгах, как «Остров сокровищ» и «Доктор Джекил», куда больше личных воспоминаний, чем кажется на первый взгляд.
Так или иначе, дружба с Робертом Янгом и Джоном Тоддом наглядно показывает одну черту Стивенсона, весьма важную как для его творчества, так и для него самого, а именно — умение нравиться совершенно различным людям и находиться с ними в прекрасных отношениях. Художники и писатели обычно стремятся заводить друзей среди себе подобных, и это естественно, так как здесь они находят самое глубокое понимание и, следовательно, самую крепкую дружбу. Однако преимущества, особенно для писателя, дружеского общения с людьми из других сфер настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в доказательствах (одной из самых роковых ошибок интеллектуалов является как раз непонимание этого факта). Вместе с тем Стивенсону было чуждо свойственное политиканам фамильярное панибратство с первым встречным. По правде говоря, если он и произвел какое-то впечатление на остальных обитателей Суонстона, то оно было не в его пользу. Они считали Роберта Луиса «чудным» и пришедшую позднее к нему славу полагали результатом бесед с Джоном Тоддом, из которых он почерпнул-де весь свой материал!
Мы можем пополнить эту беглую картину дней, проведенных в Суонстоне, откровенно личным воспоминанием Стивенсона.
«В следующий раз я смог читать вволю зимой, когда жил один на Пентландских холмах. Под вечер я возвращался вместе с пастухом из очередного дозора… Верная собака кидалась наверх, чтобы принести мне домашние туфли, и я усаживался у камина при свете лампы и проводил в одиночестве долгий и тихий вечер с «Виконтом де Бражелоном»… Нить этого эпического повествования вплеталась в мои сновидения… С тех пор никакие дальние страны не могли сравниться с очарованием, которым дышат эти страницы, и даже мои друзья кажутся мне не столь живыми, а пожалуй, и не так дороги мне, как д'Артаньян».
Большинству людей это восхваление Дюма и «Виконта де Бражелона» может показаться незаслуженным, тем более теперь, когда мы знаем, что Дюма был скорее литературным синдикатом, чем личностью. Почему же такому автору и такой книге придается столь большое значение? Над этим вопросом стоит поразмыслить. Стивенсон как человек и писатель представлял собой очень сложный конгломерат. В нем был наблюдательный реалист и сознательный стилизатор, позер в искусстве и в жизни, слегка утрированный романтик, подлинный, хотя и слишком «гладкий», поэт и усердный работник, решивший во что бы то ни стало добиться успеха и вместе с тем, как всякий настоящий художник, боящийся его. Я думаю, мы имеем право сказать, что одним из честолюбивых желаний Стивенсона-романиста было сочетать в своем творчестве стилистический блеск со спецификой Скотта и Дюма. У них есть то, чего так часто не хватает стилистам, — дар повествования, постоянное движение, динамика действия, — а что такое роман, как не личность в действии? Стивенсон считал, что у Скотта и Дюма есть «жизнь». В каком-то смысле верное представление, хотя это совсем не та «жизнь», с которой мы сталкиваемся в «Сентиментальном воспитании» Флобера, «Моби Дике» Мелвила и колоссальной русской эпопее «Война и мир». У Скотта и Дюма «жизнь» часто искусственна, характеры банальны, действие заключается обычно в беспричинных драках, погонях и сражениях, чувства столь же грубы и примитивны, как рекламные плакаты. Смерть миледи в «Мушкетерах», гибель Мордо в «Двадцать лет спустя» и похищение Монка в «Виконте де Бражелоне» — примеры типичной мелодрамы. А сколько в этих многотомных (франк за строку) романах воды!
Никакая формулировка или «критическое определение», как бы непреложно они ни звучали, здесь не подойдут, но я бы хотел привлечь внимание читателя к следующему отрывку из письма Р. Л. С. матери, написанного, когда ему еще не было двадцати двух лет:
«Опера для меня куда правдивее самой действительности. Мне, видно, никогда не приестся сценическая иллюзия, а в особенности эта самая условная и трудноусваиваемая иллюзия из всех — опера. Fr ли бы жизнь была оперой, я бы хотел быть персонажем одной из них!..»
Я нахожу, что это признание проливает свет и наводит на мысль, но прошу читателя делать вывод самому.
Считается, что Суонстон сильно повлиял на жизнь и творчество Стивенсона. (Целое издание его произведений даже было названо «Суонстонское».) Все это правда, однако мы не должны забывать об эдинбургской деятельности Стивенсона в эти студенческие годы, хотя бы по той причине, что она дает, пусть неполный, ответ на болтовню о его непопулярности и дурной славе.
В 1869 году Стивенсон был избран в «Умозрительное общество», существовавшее с XVIII столетия, в котором в свое время состояли Вальтер Скотт и Джеффри.[44] Поскольку число членов «Общества» было ограничено тридцатью и оно ставило перед собой чисто интеллектуальные цели, избрание Стивенсона говорит об уважении, которое питали к нему его современники, тем более если припомнить, что он удостоился еще более высокой чести быть принятым в Консервативный клуб университета. Спору нет, Стивенсон частично, если не в основном, использовал комнаты «Общества» для увиливания от обязательного посещения лекций. По какой-то необъяснимой аномалии комнаты эти были неподведомственны совету университета, хотя и находились в университетском здании, и «Умозрительное общество» давало прибежище студентам, не желавшим подчиняться постановлению, запрещавшему курить в стенах университета. Все это так, но Стивенсон участвовал также в собраниях «Общества», на которых читались и обсуждались литературные и политические эссе. Не раз указывалось, что эпизод из «Уира Гермистона», где сын судьи-вешателя выступает против смертной казни, написан по воспоминаниям юности Стивенсона, внесшего подобное предложение на обсуждение «Умозрительного общества», но не встретив его ни у кого поддержки. Для прошлого века требование это было настолько скандально, что биографы Стивенсона сочли себя обязанными извиниться за него перед публикой и поспешили добавить, что впоследствии, когда такой законопроект рассматривался парламентом, Стивенсон не одобрил его.
Мы узнаем от самого Стивенсона, что именно тут, в «Обществе», был задуман новый журнал их колледжа, который они с друзьями намеревались сами составить и издавать, журнал, при помощи которого они надеялись достичь если не богатства, то славы, вечный «ignus fatuus»[45] сменяющих друг друга поколений студентов. И это начинание, как случалось почти во все года, скоро было предано забвению. Впоследствии Роберт Луис перепечатал один из своих опусов, включенных в него; это оказалось не чем иным, как великолепным наброском о «Старом шотландце-садовнике», Роберте Янге, знакомом нам по Суонстону. Стивенсон, вероятнее всего, отредактировал этот ранний очерк, прежде чем знакомить с ним широкую публику, которая к тому времени жадно глотала все, что он публиковал, но, как бы ни был слаб первоначальный вариант, он, вероятно, значительно превосходил макулатуру, которую обычно выпускали студенты. Трудно поверить, но в университетские годы, по-видимому, никто не обратил на этот очерк внимания; Роберт Луис даже специально упоминает, что тогдашняя дама его сердца приняла от него этот дар без единого слова похвалы. Но разве доктор Джонсон[46] не заметил однажды, что на свете поразительно «мало литературы», имея в виду, конечно, умение публики ценить ее и разбираться в ней.
Во всяком случае, знакомство, а в дальнейшем тесная дружба с профессором Дженкином и его семьей завязались отнюдь не благодаря скороспелым талантам Луиса. По правде сказать, он завоевал их расположение еще до того, как вступил в «Общество», и не литературными опытами, а «очень приятными манерами», насчет которых он шутя говорил, что они никогда не были для него источником существования. Я в этом не так уж уверен. Благодаря этим «очень приятным манерам», очаровывавшим случайных знакомых, Стивенсон приобрел друзей на всю жизнь, и они не только всегда горячо защищали Роберта Луиса, но, переплавив его образ и отлив в форму собственного представления о нем, создали того Стивенсона, какого хотела публика, — «чаровника» Стивенсона, против которого протестовал Хенли. А это весьма способствовало продаже его книг. Я думаю, Стивенсон подозревал, чем он им обязан, еще до того, как достиг популярности. Д. Э. Саймондс записал одну из своих бесед с Р. Л. С, когда он, Саймондс, доказывал, что, по его мнению, автор может добиться признания собственными усилиями, а Стивенсон ему возражал. Карьера того и другого показывает, насколько более прав был Стивенсон. Наличие влиятельных «поклонников» почти необходимое условие успеха любого литератора, независимо от жанра его произведений, если только ему не посчастливилось родиться, получив популярность в дар свыше, как Диккенсу, Эдгару Уоллесу[47] или Киплингу. Любой Клаузевиц,[48] занимающийся стратегией на литературном поле брани, подтвердит вам это.
Завоевание семейства Дженкинов началось, естественно, с миссис Дженкин, которая подробно описала их первую встречу; на этом стоит особо задержать внимание, ибо тут мы наглядно видим, как и почему Стивенсон с первого взгляда привлекал к себе других интеллектуалов. Миссис Дженкин зашла с визитом к миссис Стивенсон и застала ее, как ей показалось, одну в комнате, освещенной только огнем камина… В памяти сразу всплывают дни — сто лет назад, — когда еще не было электричества. «Вдруг из темного угла за камином раздался голос, своеобразный ломающийся голос — голос мальчика, подумала я сперва». Миссис Стивенсон представила сына, и посетительница спросила себя, кто же такой этот «юный Гейне с шотландским акцентом», который говорил так, как писал Чарлз Лэм. Когда она поднялась, чтобы уходить, Роберт Луис проводил ее до дверей, и тут, при более ярком свете, гостья увидела «стройного, смуглого, длинноволосого юношу с большими темными глазами, сияющей улыбкой и мягким, скорбным наклоном головы». Она пригласила его к себе в гости и рассказала за обедом домашним, что «открыла» поэта.
Подобно многим другим воспоминаниям о недавно умерших друзьях, это воспоминание также приукрашено и подсахарено, но нет никаких причин сомневаться в том, почему именно нерадивый студент, прогуливавший лекции, а затем дерзко требовавший, чтобы ему выдали свидетельство об их посещении, стал близким другом профессора Дженкина. Тот, в свою очередь, произвел такое глубокое впечатление на Роберта Луиса, что он впоследствии написал биографию профессора, потратив немало времени и сил на книгу, которая вряд ли могла заинтересовать кого-либо, кроме близких друзей. Правда, один из них зашел так далеко, что утверждал, будто это лучшее из произведений Стивенсона.
В течение значительного времени Стивенсон, по-видимому, был частым гостем в этом доме, где царила более веселая атмосфера, чем под родным кровом на Хериот-роуд и где в компании сверстников он развлекался участием в домашних спектаклях. Дженкин оказал юноше и куда более серьезную услугу, он дал ему свободно высказать все мучившие его религиозные сомнения, не обрушивая на него гневных и мрачных диатриб, как это делал Томас Стивенсон. Дженкин действовал куда тактичнее и эффективнее, умело контратакуя крайне антиортодоксальные взгляды Стивенсона. Однако влияние Дженкина оказалось недостаточным для того, чтобы удержать Стивенсона от посещения «howffs», и воровских притонов, и от интрижек с девицами, попадавшимися на его пути.
Из всего вышесказанного у нас возникает впечатление, что студенческие годы Стивенсона (1867–1873) можно назвать праздными лишь в том смысле, что он уделял мало времени обязательным занятиям, которые в дальнейшем должны были привести к материальному успеху и соответствующему положению в обществе, но без дела он не сидел. Ему пришлось, пусть немного, заниматься юриспруденцией, в противном случае он не окончил бы университет, а главное, он неустанно трудился над изучением литературы и оттачивал свое мастерство. К этому добавлялось общение с друзьями самого разного толка, «Умозрительное общество» и мало ли что еще. При всем том, хотя Стивенсон не чувствовал себя в полном смысле несчастным, такая жизнь не удовлетворяла его. Как бы он ни идеализировал впоследствии свой родной Эдинбург, несомненно, в то время он страстно мечтал расстаться с ним. Сколько раз Роберт Луис ходил на центральную железнодорожную станцию и с тоской смотрел на уходящие на юг поезда, а по ночам далекие гудки паровозов казались ему «отзвуками рогов из страны эльфов». Понять его нетрудно, труднее сказать, чем ему можно было помочь, учитывая характер родителей Стивенсона. Они старались держать его в полном повиновении и обращались с этим на редкость одаренным и умным юношей так, словно он был дурной, легкомысленный, но при этом нежно любимый подросток, упорно заставляли его готовиться к профессии, неинтересной ему, исповедовать веру, фанатизм которой был для него неприемлем, и покорно принимать напыщенное филистерство, против которого восставало все лучшее в нем.
Положение было тяжелое, а временами и мучительное для обеих сторон, хотя и вполне тривиальное, так как являло собой еще один из множества примеров извечного конфликта между детьми и отцами — бунт повзрослевшего сына против затянувшейся родительской опеки и стремления водить его на поводу, что докучало ему и срывало его планы. Нечего удивляться, что при всей душевной тонкости и умении стать на чужую точку зрения, благодаря которым он невольно сочувствовал родителям, Стивенсон постоянно пытался найти какой-нибудь веский предлог, чтобы уехать от них хотя бы на неделю или на две.
Летом 1872 года он решил, что выпал идеальный случай. Его друг, сэр Уолтер Симпсон, также изучавший юриспруденцию, предложил провести летний семестр в немецком университете. Роберт Луис ухватился за эту идею, тем более что все, казалось, говорило в ее пользу. Можно представить, как горячо, возможно, слишком горячо, он умолял разрешить ему эту поездку — он выучит немецкий, он познакомится с немецким правом, он сможет общаться с молодыми людьми, принадлежащими к другой культуре, и в то же время будет в компании — так и хочется сказать «под присмотром» — баронета, и, конечно же, поведение его будет образцовым, и он обещает регулярно писать домой и отчитываться во всем… Не забывайте, он уже был совершеннолетним и, естественно, имел все основания думать, что сумеет сам позаботиться о себе в течение нескольких недель, проведенных за границей. Ничуть не бывало! Мысль даже о такой скромной эмансипации привела ею. мать в столь сильное волнение, что Луису пришлось довольствоваться всего двумя или тремя неделями во Франкфурте в обществе Симпсона, а затем присоединиться к родителям в Баден-Бадене. По-видимому, до тех пор, пока родители платили за него, ему предстояло ходить на короткой сворке. Вполне возможно и даже вероятно, что в противном случае он бы «попал в беду», но, как сам он отмечал с присущим ему юмором, пусть лучше у юноши будет сломана шея, чем сломлен дух.
Эта неудачная попытка добиться свободы на какой-то более длительный срок не стоила бы и мимолетного упоминания, если бы поездка в Германию не послужила источником ряда писем домой, один отрывок из которых я хочу здесь привести. Опубликованные письма Стивенсона, которые адресованы по большей части матери, дышат весельем и хорошим настроением. В одном из них он описывает поездку за город, в Wirthschaft,[49] и то, как он был удивлен, когда его спросили, не шотландец ли он. Стивенсон не стал этого отрицать, и тут на него оглушительным потоком полились дифирамбы некоему шотландскому Doktor — «профессору… поэту… который писал книги… gross wie das[50]…», примечательной личности по имени как будто бы Скоби (Стивенсон никогда раньше не слыхал о нем), который «каким-то таинственным образом был связан с королевой Англии и одной из принцесс». Далее Стивенсон пишет:
«Он жил раньше в Турции и женился там на сказочно богатой женщине. А какие книги он сочинял! У них просто слов не хватало, чтобы изобразить их величину. Благодаря жене или еще как-то он приобрел огромное состояние, и лишь одно, по-видимому, омрачало его жизнь, — родная дочь, которая ушла тайком в Kloster,[51] прихватив хороший кус материнских Geld.[52] Даже после того, как первый поток похвал истощился, Doktor то и дело, кстати и некстати, вновь всплывал на поверхность нашей беседы вплоть до ее конца; так, например, один из крестьян, вынув изо рта трубку, заметил вдруг ни к селу ни к городу даже с каким-то вызовом, словно кто-то ему возражал: «Er war ein feiner Man, der Herr Doktor»,[53] а другой отвечал ему: «Yaw, yaw, und trank immer rothen We'n».[54]
Слишком хорошо, чтобы можно было поверить, но, с другой стороны, сочинить такой диалог мог лишь настоящий художник. Независимо от того, сделаем ли мы Стивенсону комплимент за удачную выдумку или похвалим лишь за передачу беседы немецких крестьян с точностью, достойной Босуэлла,[55] несомненно одно: чтобы написать это, требовался зоркий глаз и умелая рука. В той сноровке, с какой он обращается тут со словом, в умении приправить дружеский смех каплей яда и в безграничном удовольствии, с каким он смотрит на участников этой комедии, чувствуется уже зрелый Стивенсон. Хорошенькое «безделье», если литературная выучка позволила ему так умело, всего несколькими штрихами нарисовать эту сценку, когда ему еще не было двадцати двух лет. Не знаешь, чему удивляться больше — тому ли, что он уже так хорошо писал, или тому, что его родители, судя по всему, не видели в этом ничего особенного. Письмо было бережно спрятано матерью в «сокровищнице», где лежали листочки, испещренные детскими каракулями маленького «Лу», его неумелые юношеские опыты и все остальные письма. Если бы родители видели, что это письмо предвещает ему блестящее литературное будущее, вряд ли произошел бы упомянутый нами эпизод, когда Томас Стивенсон, услышав из уст молодого пастора похвалу литературным способностям сына, даже не попытался скрыть свое искреннее изумление и недоверие.
Большинство писавших о Стивенсоне сходится в том, что 1873 год был решающим как для его личной, так и для литературной судьбы. В этом году религиозные разногласия между Робертом Луисом и родителями (особенно отцом) достигли кризиса, что отразилось на здоровье всех троих, и больше всего на его собственном. Однако в том же году «романтика судьбы», подобно легендарному копью Ахиллеса, ранящему и исцеляющему одновременно, дала ему новых друзей на всю жизнь, благодаря которым он впервые добился настоящей свободы и стал печататься в настоящих журналах.
Началось с того, что Боб и Луис Стивенсоны в компании с еще гремя или четырьмя студентами организовали частный «клуб» с таинственным названием «С.С.У.», собиравшийся (довольно редко) в таверне, которую, по преданию, посещал Берне. «С.С.У.» ставил перед собой, казалось бы, не заслуживающую упрека, хотя и нелегкую, цель: добиться «Свободы, Справедливости и Уважения» — отсюда происхождение таинственных инициалов. Столь похвальной утопии они собирались достичь при помощи «социализма», «атеизма» и (между прочим) отмены палаты лордов. Программа эта случайно попала в руки Томаса Стивенсона, у которого волосы встали дыбом от ужаса, тем более что там содержалась уже приводившаяся нами фраза о «неуважении ко всему, чему нас научили родители». Как я говорил, самым разумным для мистера Стивенсона было бы посмеяться и попросить, чтобы его приняли в «клуб», но он предпочел отнестись к этому незрелому и инфантильному документу серьезно. Эпоха домостроя еще и сейчас не кончилась на задворках нашего общества, а в те дни был ее расцвет. Отец набросился на сына, который чуть не со слезами пишет об их разговоре Чарлзу Бэкстеру в письме от 2 февраля 1873 года:
«Гром грянул, и какой гром!.. В пятницу вечером, после того как мы с тобой расстались, отец задал мне по ходу разговора несколько вопросов, касающихся моей веры, и я откровенно ответил ему. Мне так ненавистна сейчас всякая ложь, — после моей последней болезни меня, неизвестно почему, вновь обуяла честность, — что я ни минуты не колебался. Но если бы я знал, какой меня ожидает кошмар, я, верно, солгал бы, как и много раз до того. Я думал лишь об отце, но позабыл о матери. А теперь! Они оба больны, оба молчат, оба в таком подавленном состоянии, словно… не могу подобрать сравнения. Представляешь, каково мне! Я был бы рад взять свои слова обратно, но, увы, слишком поздно, и к тому же неужели вся моя жизнь должна быть сплошной ложью! Конечно, отцу это хуже чем ад, но что я могу поделать? Они не хотят понять, что для меня все это тоже не шутки, что я не беспечный и легкомысленный безбожник (как они называют меня). Я верую так же, как они, только веруем мы с ними в разные вещи; я не менее честен в своих взглядах, и пришел я к ним после долгих раздумий, многого (как я сказал им) я еще окончательно не решит, так как мне не хватает знаний; но называть меня «ужасным атеистом», по-моему, несправедливо, и, признаюсь, мне трудно проглотить то, что отец ежедневно обрушивает на меня все громы господни».
Вопрос о том, прав или но прав был Роберт Луис, отвечая на вопросы отца решительным заявлением о своем «неверии», относится к области этики. Во время знаменитого процесса Тичборна, происходившего в то же десятилетие, председатель суда Кокбурн официально заявил, что бывают исключительные обстоятельства, оправдывающие ложь, против чего категорически выступил защитник. Было ли положение, в которое попал Стивенсон, настолько сложно и запутанно, что давало ему право на ложь? По-видимому, такая мысль приходила в голову Роберту Луису, раз он говорит об этом в своем грустном письме. Однако, если бы он солгал, он бы неизбежно запутался еще больше, еще глубже погряз в невыносимом (для такого честного человека) и отвратительном притворстве и был бы вынужден выполнять крайне неприятные для него религиозные обряды. Нет, он должен был открыть истину, но ценой каких раздоров и горя!
Насколько грозным и разрушительным был гнев отца, этого фанатичного последователя Камерона,[56] можно увидеть из другого примечательного письма Роберта Луиса, написанного в сентябре 1873 года, через семь месяцев после того, которое мы только что приводили. Чтобы объяснить ситуацию, нужно сказать, что один молодой родич Стивенсонов был в то время серьезно болен и, лежа на смертном одре, послал за Томасом Стивенсоном и предупредил о том, что Боб подрывает веру его горячо любимого сына. Пожалуй, правильнее было бы сказать — «поддерживает в неверии», поскольку Роберт Луис уже признался отцу в том, что утратил веру. Вот еще одна безобразная сцена, устроенная благочестивым отцом, которую описывает Луис:
«Я сидел у себя, читал Джона Нокса,[57] как вдруг распахнулась дверь и в комнату вошел Боб: закрыв лицо руками, он рухнул в кресло и разрыдался. Сперва он почти не мог говорить, но наконец к нему вернулся дар речи, и я узнал, что он пришел повидаться со мной, но по дороге встретил отца и между ними произошел только что окончившийся разговор. Теперь есть, по крайней мере, один человек, который знает, с чем мне приходится сталкиваться каждый день, и какую бурю чувств может поднять мой отец, когда он сам в волнении. Я так устал душой и телом, что не могу писать дальше, чтобы рассказать вам сегодня, к чему привела их беседа. Расстались они мирно, отец сказал, что желает ему всяческого счастья, но умолял его, как об единственной милости, которую Боб может ему оказать, никогда больше не показываться ему на глаза».
Tantaene animis caelestibus irae? («Возможен ли столь великий гнев в душах тех, кто посвятил себя небу?»). Действительно, почему такое глубокое благочестие должно приводить к столь яростному гневу? И с какой целью была устроена эта ужасная сцена, неприятная для обеих сторон, но в особенности для ничего не подозревавшего беспечного Боба? По словам Роберта Луиса, продолжившего свое письмо на следующий день, «…единственным практическим последствием их беседы было обещание Боба никогда не говорить со мной о религии. Какая нелепость! Ему, бедняге, тяжко пришлось, он и не подозревал, что на свете бывают подобные вещи, хотя я не раз рассказывал ему, — мой отец на коленях и всякое такое».
При всей искренности и силе религиозных убеждений мистера Стивенсона и чистоте его мотивов, нельзя отделаться от мысли, что подобные сцены — из слов Роберта Луиса видно, насколько часто они происходили, — отчасти вызывались и усугублялись беспомощным гневом этого отца-викторианца из-за того, что отпрыск его подрос и намерен жить по своему разумению. Вероятно, мистер Стивенсон почувствовал, что с Бобом он немного перегнул палку, так как на следующий день написал ему, «прося прощения за резкие слова», но — как это характерно для людей, подобных мистеру Стивенсону, — «оставаясь верным своему взгляду на сущность их беседы». Он, должно быть, сильно отравлял жизнь ближним, потому что дальше в том же письме Роберта Луиса мы читаем:
«Если бы у меня был менее легкий характер и я не умел так увлекаться тем, что делаю в настоящий момент, поверьте, в этой ужасной атмосфере я бы давным-давно сошел с ума. Внешнее спокойствие нашей каждодневной жизни обманчиво, все время ощущаешь какую-то внутреннюю дрожь и скрытую горечь. Я стараюсь не думать об этом, ведь думай не думай, а от судьбы не уйдешь… Но вы не огорчайтесь. Мне не впервой, и весь этот год было не лучше, а теперь хоть есть кому излить душу».
Не останавливаясь на том факте, что в этих ранних и куда более живых письмах наш заядлый стилист еще не обращает внимания на мелкие погрешности в стиле, факте, имеющем чисто литературный интерес, давайте взглянем мельком на ту, которой было адресовано его письмо, так как на этом этапе истории нашего героя она сыграла немаловажную роль. Был ли Роберт Луис влюблен в Фэнни Ситуэлл? Конечно, был. С тех пор как отрывки из его писем к ней, изъятые Колвином, стали для нас доступны, в этом не осталось ни малейших сомнений. А то, что она потребовала от Роберта Луиса уничтожить ее письма к нему, говорит об ее взаимности. Однако скорее всего это был один из тех «платонических» романов, которые иногда встречаются не только в книгах, ибо миссис Ситуэлл куда больше интересовалась Сидни Колвином. Именно через нее Стивенсон познакомился с Колвином, и не кто иной, как Колвин, помог молодому Стивенсону избавиться по-настоящему от тирании любящих родителей и начать печататься.
В июле 1873 года Роберту Луису разрешили поехать к кузине (в девичестве Мод Бэлфур) в Сассекс, где ее муж, преподобный Черчил Бабингтон, был пастором в Какфилде. Там-то он впервые встретился с Фэнни Ситуэлл, которая столь же быстро оценила его редкие качества, как и миссис Дженкин за несколько лет до того. Миссис Ситуэлл написала Колвину о «прекрасной юной душе», которую она открыла, и Колвин ускорил свой приезд, чтобы встретиться со Стивенсоном. Пожалуй, будет справедливее предоставить слово самой миссис Ситуэлл (леди Колвин), ибо, помимо матери и жены, ни одна женщина не сыграла в жизни Стивенсона такой большой роли. Рассказав, что миссис Бабингтон упомянула о молодом кузене, которого она ожидает из Шотландии, миссис Ситуэлл продолжает:
«Я лежала днем на диване возле окна и вдруг увидела, что по аллее идет стройный юноша в черной бархатной куртке, соломенной шляпе и с рюкзаком за спиной».
Это, конечно, был Стивенсон, который сперва сильно дичился, но тут сын миссис Ситуэлл повел его посмотреть пруд, где можно удить рыбу, и… «вернувшись через некоторое время, они, судя по всему, были уже закадычными друзьями. С этого момента Луис почувствовал себя свободно. Не прошло и суток, как мать мальчика сделалась ему таким же закадычным другом, как сын, и оставалась верной этой дружбе до конца его дней».
Дальше она с восторгом пишет о том, что «никогда не слышала, чтобы кто-нибудь так говорил», подтверждает, что написала Колвину, чтобы он приехал как можно скорее и встретился с «блестящим и несомненным юным гением». Описание их встречи, положившей начало дружбе между Колвином и Стивенсоном, она заканчивает следующим образом:
«Около трех лет после того Луис писал мне чуть не ежедневно, изливая в этих письмах все многочисленные горести и напасти той поры. Часть этих писем была опубликована целиком или с купюрами в томе писем, изданном Сидни Колвином, еще большая часть, слишком священных для меня и слишком интимных для печати, все еще находится в моем личном владении».
Месяц отдыха от религиозных споров и необходимости заниматься тем, к чему у него не лежала душа, оказал на Луиса благотворное действие. Не следует полагать, будто Колвин и миссис Ситуэлл так уж превосходили по своему уровню тех, с кем Стивенсон встречался в Эдинбурге, но они отличались большей широтой взглядов, а главное, они любили его и сочувствовали его желанию стать писателем. В миссис Ситуэлл Стивенсон нашел тактичную и культурную женщину, готовую от всего сердца помочь ему в его неприятностях (даже если, как некоторые полагали, речь шла, например, о Кейт Драммонд), а в Колвине — незаменимого литературного покровителя. Сассекс был чужд Стивенсону — «между Англией и Шотландией лежит бездонная пропасть», — тем не менее он сообщал матери, пожалуй необдуманно, что он «слишком счастлив», чтобы писать письма, хотя и пытался убедить себя и ее, будто «немного занимается юриспруденцией» и «порядочно — немецким языком».
После быстро промелькнувших блаженных дней в кругу людей, близких ему по духу, Роберту Луису стало еще труднее выносить сцены вроде той, что произошла между отцом и Бобом. Стивенсону сильно повезло, что у него был такой крепкий внутренний стержень, так как подобные сцены повторялись все чаще, хотя в отсутствие отца он отлично ладил с матерью (даже однажды ходил с ней в ресторан). Луис упоминает еще об «одной неприятности» всего через три недели после возвращения. Он говорит, что плохо себя чувствует, но не теряет бодрости и работает над очерком, и сообщает важную новость: генеральный прокурор предложил ему в присутствии Томаса Стивенсона отправиться в Англию для изучения английского права. Сейчас невозможно сказать, чем был вызван совет всемогущего служителя Фемиды — тем ли, что он считал Роберта Луиса Стивенсона не очень ценным приобретением для шотландского сословия адвокатов, или тем, что, зная немного о его положении, предложил поездку в Англию в качестве спасительного выхода. Во всяком случае, Роберт Луис ухватился за эту мысль и готовился в середине октября поехать в Лондон, как вдруг свалился «с больным горлом, лихорадкой, ревматизмом и признаками плеврита».
Хотя Луис пытается утверждать обратное, он, по-видимому, был еще не совсем здоров, когда все же уехал в Лондон, так как весил всего восемь стоунов шесть фунтов (пятьдесят три килограмма). Во всяком случае, Колвин и миссис Ситуэлл убедили его показаться известному врачу того времени, сэру Эндрю Кларку, о котором родители Роберта Луиса были, по необъяснимым причинам, такого же высокого мнения, как о генеральном прокуроре. Вполне возможно, что сэра Эндрю предупредили об обстановке в семье, усугублявшей болезнь Стивенсона; во всяком случае, он поставил диагноз — нервное истощение, заявив, что Луису грозит туберкулез (к сожалению, он не ошибся), — и потребовал, чтобы пациент получал усиленное питание и уехал за границу один, желательно на Французскую Ривьеру. Когда миссис Стивенсон попыталась настаивать на том, чтобы сопровождать сына, сэр Эндрю решительно воспротивился этому. «Кларк славный малый», — радостно писал Роберт Луис, собираясь в Ментону. Родители, добавлял он, не намерены отпускать его больше чем на шесть недель, но, «думается, я сумею их обмануть». А чтобы не придавать особого значения легенде о слепой любви матери, прочтите следующий отрывок из письма: «Сегодня мы с матерью немного повздорили насчет того, куда я пойду завтра. Она сказала: «Тебе не удастся всегда поступать по-своему, уверяю тебя». Я сказал: «Я этого и не жду, но неужели я не волен спать там, где мне хочется». Она тут же пошла на попятный и попросила в виде одолжения выполнить ее желание, на что я поспешил согласиться и обещал сделать, как ей хочется».
Роберт Луис мог позволить себе быть великодушным, потому что с помощью миссис Ситуэлл, Колвина и врача он получил наконец свободу, право на которую имел уже давным-давно. И даже теперь, если бы не категорический запрет сэра Эндрю, он отправился бы, как маленький мальчик, вместе с матерью на юг Англии, в Торки! Правда, родители неоднократно пытались снова его поработить, но с тех пор Луиса никогда не оставляла надежда повернуть жизнь по-своему и заняться искусством. В дополнение к вышеприведенному отрывку читаем:
«Завтра я еду в Дувр. В четверг вечером буду в Париже, в пятницу — в Сансе, в субботу — в Маконе, в воскресенье — в Авиньоне… Я с таким нетерпением жду встречи с солнцем, меня переполняет такое удовлетворение…фу! Какое слабое слово… такое животрепещущее счастье, что я с трудом удерживаю его в моем потрепанном непогодой теле».
Сослан на юг! Для многих жертв того чахоточного века это было всего лишь отсрочкой смертного приговора. Но хотя Стивенсону вполне реально угрожала чахотка, не приходится сомневаться в том, что он воспринял пугавший всех приговор если не как освобождение из тюрьмы, то, уж во всяком случае, как временную передышку. Трудные эдинбургские годы все еще не окончились, но Луис чаще и чаще будет иметь возможность спасаться бегством, пока не покинет нас навсегда. Крошечный мирок тех, кто все еще питает какое-то уважение к литературе, находится в неоплатном долгу перед сэром Эндрю Кларком.
5
Луис Стивенсон был превосходный путешественник; этим частично объясняется, почему его путевые заметки до сих пор привлекают, мало того — очаровывают куда большее число читателей, чем думают интеллектуалы. Он почти никогда не спешил, он готовился к поездке заранее, знакомясь с языком и историей страны, куда лежал его путь, у него был зоркий глаз на все новое и дар сходиться с людьми. Мы не обидим его, если добавим, что, судя по всему, он не знал, да и не хотел знать архитектуру и изобразительное искусство чужих стран, и, несмотря на «стилизованность» и некоторую претенциозность его манер и одежды, Луиса правильнее будет причислить к богеме, а не к эстетам. Мы не должны забывать, что он почти всегда прихварывал и часто был по-настоящему болен, а какое занятие, кроме физического труда, так утомительно, как осмотр достопримечательностей?! Он мог порой долго ходить пешком, но у него не было ни сил, ни желания тратить энергию на музеи и картинные галереи.
Нам может показаться, что все вышесказанное находится в противоречии с его очерком «О дорогах» — дебют Стивенсона в «настоящей» литературе, — напечатанным благодаря влиянию Колвина в ноябрьском номере «Портфолио» за 1873 год. Очерк этот, известный нам по позднейшему переизданию, кажется слишком многословным, в нем еще слабо чувствуется рука Стивенсона. Он сентенциозен, расплывчат по форме и, пожалуй, слишком обобщен по содержанию. Мы бы предпочти последовать за Стивенсоном по одной определенной дороге, а не слушать глубокомысленные рассуждения о дорогах вообще — этакие абстракции в духе Уитмена. Но ведь это юношеская работа, и сам автор жалуется, что, пересматривая ее впоследствии, был очень болен и ему казалось, будто он стоит на голове. Очерк этот заслуживает упоминания хотя бы потому, что хронологически открывает список его публикаций. Начиная с ноября 1873-го вплоть до смерти Стивенсона не было ни одного года, чтобы в печати — в журнале или отдельной книгой — не появилось какое-нибудь его новое произведение. Роберту Луису повезло в том смысле, что у него были доброжелательные и умные друзья, которые помогли ему пуститься в плавание, — ведь писателя среди многих других подводных камней подстерегает опасность неудачно начать, во-первых, и быть вынужденным писать после того, как он перестал нравиться публике, во-вторых. Стивенсон избежал и того и другого.
В одном из писем, рассказывающих о неторопливом продвижении от Дувра к Ментоне, Стивенсон сетует на отсутствие в них «стиля». О вкусах не спорят, но если под «стилем» Стивенсон понимал манеру, — чтобы не сказать манерность, — отличающую очерк «О дорогах», то читатели, свободные от ига литературных теорий, могут только радоваться, читая эти свежие и непосредственные письма, к счастью, не пострадавшие от «стиля».
Второй опубликованный очерк Стивенсона «Сослан на юг» (май 1874 г.), явившийся результатом его зимнего пребывания в Ментоне, куда его отправили на поправку, далеко оставляет за собой «О дорогах». В нем есть куски, свидетельствующие о наблюдательности и хорошем слоге, есть мысли, стоящие того, чтобы искать для их выражения «точное слово». Но если мы хотим узнать о самом Роберте Луисе и его жизни, мы должны обратиться к письмам. Стивенсон пересек Ла-Манш 6 ноября (1873 г.), и его счастье, что он хорошо переносил море, так как было сильное волнение и большинство пассажиров страдало от морской болезни. В Париже ему было холодно и, пожалуй, немного одиноко. В Сансе самое большое впечатление на него произвел не собор и его знаменитая сокровищница, а слепой поэт, продающий на улице свои книги. В Авиньоне — конечно, мистраль. И хотя он оценил великолепный вид, открывающийся с Роше де Дом, и отметил, что в Вильневе за Роной «яростно палило солнце», он тут же признается, что нигде не может найти себе места и «легко выходит из душевного равновесия».
Небольшой эпизод, происшедший вскоре после его приезда в Ментону, свидетельствует о том, до какого состояния дошли его нервы в результате религиозных споров с любящим отцом. Луису нужно было съездить в Ниццу показаться специалисту по легочным заболеваниям, и, хотя врач подтвердил мнение сэра Эндрю Кларка насчет того, что у Роберта Луиса нет пока активного туберкулезного процесса, поездка эта совершенно выбила его из колеи.
«Я совсем забыл французский язык, во всяком случае, не рисковал обратиться к кому-нибудь, так как боялся, что вдруг не смогу сказать ни слова, поэтому не знал, когда уходит поезд. Наконец я дотащился до станции и сел на ступеньках, купаясь в солнечном тепле и свете, пока не наступил вечер и не похолодало. Этот длительный отдых меня приободрил, я благополучно добрался до дома и хорошо поужинал».
Он, по-видимому, был близок к нервному расстройству; позднее Стивенсон жалуется в письме к миссис Ситуэлл, что не может наслаждаться окружающей его красотой, что душа его слепа и глуха, что он еще «не возродился к жизни», как мыслящее существо, и добавляет:
«Если бы вы знали, каким стариком я себя чувствую. Я уверен, что все — это безразличие, эта разочарованность, эта бесконечная физическая усталость — признаки старости. Мне не меньше семидесяти лет. О Медея, убей меня или возврати мне молодость!»
Несомненно, нервы его были в плохом состоянии. Неделей позже он с огорчением вспоминает в письме к Колвину о досадной ссоре с пастором, который ему даже нравился, и затем в совершенном упадке духа просит Колвина высказать ему откровенное мнение, потому что если «я в скором времени не смогу зарабатывать на жизнь литературой, то откажусь от своей мечты и (как ни ужасна для меня сама мысль об этом) пойду служить в какую-нибудь контору…». Да, для того, чтобы юноша, которому столь недвусмысленно было «предначертано» стать писателем, так глубоко разочаровался в собственных силах, нужны были веские основания. Отчасти это можно объяснить приступом «хандры», вызванной недомоганием и одиночеством, которая тут же исчезла, когда появился Колвин, но дело было не только в этом: Луиса мучили угрызения совести, и, по-видимому, уже давно, поскольку он говорит о них в превосходном, но, к сожалению, не законченном очерке «О мирской морали». В наше время, когда есть множество людей, которые убеждены, будто общество обязано предоставить им ни за что ни про что средства к жизни, и возмущаются, когда этого не происходит, терзания Стивенсона могут показаться надуманными, но с точки зрения его современников, ставивших на первое место старомодное теперь чувство долга, они делали честь молодому человеку. При посредстве отца, считал Луис, общество ссудило его деньгами, как бы выдало аванс, и если ему грозит умереть, как он тогда полагал, молодым, то он не выполнит своих обязательств. Поэтому Стивенсон решил жить как можно скромнее, отказывая себе в самом необходимом, пока не будет ясно — умрет он или сможет надеяться на выздоровление, и, значит, на то, что станет зарабатывать и вернет полученное. Кончает он письмо следующими словами:
«Если бы меня не поддерживала надежда, что я еще поправлюсь, смогу хорошо работать и с лихвой выплатить обществу данное мне взаймы, я бы счел самым правильным потратить последние несколько франков на настойку опия. Но нет, я еще выплачу свой долг».
Узнай Хенли о подобной патологической сверхсовестливости, он бы яростно заклеймил ее презрением, как плачевный результат слишком серьезного отношения к «Краткому катехизису» или, во всяком случае, к восьмой заповеди («не укради»). К счастью, в характере Стивенсона было что-то роднящее его со славным мистером Эдвардсом, сетующим на то, что, как он ни старается быть философом, в его раздумья «врывается веселье». Не прошло и двух недель после зловещей угрозы купить настой опия, как веселье ворвалось — вернее, прорвалось — в таком типичном образце прелестного стивенсоновского юмора:
«Я живу в одной гостинице с лордом Сэлсбери. Гм-гм. У него черные бакенбарды, и он сильно смахивает на Крама Брауна,[58] только в нем больше от Крама Б., чем в самом Краме. Ему (вернее, его жене) посчастливилось произвести на свет обильное потомство. Довольно сомнительное счастье: все они тощие, нескладные парни в шотландских юбочках. При них имеется наставник, источающий благочестие и ту — «покорный слуга вашей светлости» — смиренную благовоспитанность, которые свойственны домашним учителям. Вся эта братия, дожив до седин, получает пожизненные пенсии и золотые часы с репетицией от благодарных учеников. В старости они сидят на крыльце и дают внукам послушать, как бьют часы, и рассказывают им длинные истории о том, «как я был учителем в семье лорда…» и так далее, и тому подобное, а внуки показывают им за спиной нос и норовят побыстрее убежать на конюшню, чтобы поучиться дурным словам».
Смертельная доза опия сократилась до размеров одного шарика, положенного в единственную выкуренную им трубку, а вскоре приехал Колвин, и они отправились упражняться в мизантропии в Монте-Карло, где обедали у известного дипломата сэра Чарлза Дилка, получили приглашение на рождественский прием, а в свободное от развлечений время лениво бродили по паркам или катались по морю в лодке. Стивенсон так основательно избавился от страха нарушить восьмую заповедь, что, вернувшись в январе в Ментону, весело сообщает матери о переезде в лучшую гостиницу, где комната стоила тринадцать франков в день — по крайней мере, в два раза больше, чем следовало бы платить человеку, намеренному соблюдать строгую экономию, чтобы не обмануть общество. Когда Колвин был вынужден уехать по делам в Париж, Стивенсон не только не впал вновь в уныние, но, напротив, весьма приятно проводил время в обществе двух русских дам, их детей и прелестной молоденькой американочки, о чем он писал домой очень занятные письма. Два месяца на берегу Средиземного моря без бурных богословских прений и скандалов и — как не трудно догадаться — без особых расходов на свечи, чтобы изучать по ночам английское и шотландское право, привели к разительной перемене. Все его неприятности казались забытыми и сводились теперь к сомнениям, всерьез ли флиртует с ним одна из русских дам или просто подшучивает над ним.
В конце января 1874 года мы наталкиваемся на такой образчик пессимизма:
«Думаю, вам покажется здесь весело; мне, во всяком случае, очень весело. Сегодня я проработал шесть часов. Я занят переписыванием «Бутылки», а это для меня приятная работа…»
(Несмотря на веселое настроение, «Бутылка» — «Бутылка помощника пастора из Анструтера» — так и не была закончена, подобно многим другим ранним попыткам Стивенсона написать чисто беллетристическое произведение.) А в письме к отцу, которого, несмотря на все, Роберт Луис очень любил, он шутливо описывает плащ, привезенный ему Колвином из Парижа.
«Мой плащ — восхитительное одеяние. Ничто не может сравниться с ним по теплу, ничто не может соперничать с ним по виду. Это тога римского патриция, плащ испанского идальго с гитарой под полой. Он единственный в своем роде. Если бы ты мог видеть меня в нем, он бы произвел на тебя потрясающее впечатление. Кажется, мне стало значительно лучше: я спокойно перенес холода, стоящие здесь последние дни, и не слег в постель, как в Монте-Карло…»
Судя по всему, Эндрю Кларк поставил верный диагноз и прописал разумное лекарство, потому что письма Стивенсона делались все более бодрыми. Луис так умно себя вел, что полтора месяца, отпущенные ему родителями, превратились в пять, прежде чем он выехал из Ментоны в Париж. За это время у него была полная возможность подружиться с двумя русскими дамами[59] и их детьми, особенно с «кнопкой» Нелечкой, которая фигурирует во всех ментонских письмах. Из отрывков, не попавших в первое, выпущенное Колвином издание «Писем» и ставших теперь достоянием публики, мы узнаем, что отношения Роберта Луиса с госпожой Гаршиной были отнюдь не такими платоническими, как это следует из колвиновского издания, и что «кнопка» бывала порой досадной помехой, хотя в письмах «по Колвину» и очерке, посвященном детям, Нелечка — само совершенство.
Стивенсон откровенно пишет, что не понимает, как к нему относятся две эти русские женщины, но кто может похвастаться тем, что понимает русских? По нескольким приведенным им эпизодам мы можем судить, что сперва они смотрели на него как на чудака и колебались между желанием над ним поиздеваться, искренней симпатией к нему и своего рода уважением к его таланту, что не мешало им время от времени делать его мишенью злых насмешек. Не нужно забывать, что в двадцать три года Роберт Луис был еще не похож на того мужчину с довольно красивой и импозантной внешностью, с которым все мы знакомы по его поздним фотографиям. Его неровные зубы, безбородое удлиненное лицо, длинные волосы и большие, широко расставленные глаза придавали его облику женственность, которая потом пропала. Нелечка при первой встрече приняла его за женщину, Эндрю Лэнг — впоследствии близкий, хотя и критически настроенный, друг, познакомившийся с ним в Ментоне, — подумал, что он «больше похож на девушку, чем на юношу», и даже причислил его к «этим мальчишкам-эстетам».
Стивенсон сам, не выказывая ни малейшей обиды, рассказывает о том, как русские дамы потешались над ним. Госпожа Засецкая пошла с Луисом к фотографу, усадила его в той позе, которая показалась ей наиболее выигрышной, и сказала фотографу, разумеется, по-французски: «Это мой сын, ему только что исполнилось девятнадцать. Он очень гордится своими усами. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы они хорошо вышли». Большинство молодых людей его возраста увидели бы в этой шутке больше яда, чем смеха. После того как они расстались, Стивенсон никогда не встречался с этими русскими дамами, а вскоре оборвалась и переписка. В более сентиментальную эпоху это любопытное знакомство, несомненно, описали бы как романтическую встречу «кораблей, что, обмениваясь приветом, минуют друг друга во мраке ночи» (Лонгфелло).
Было ли разумно со стороны Стивенсона покинуть сравнительно теплую и защищенную от ветров Ментону и отправиться в дождливый и ветреный в апреле Париж? Миссис Стивенсон, естественно, не думала так и даже послала ему неодобрительную телеграмму, на которую он не совсем искренне ответил, что хотел «получить возможность скорее приехать домой». Дело же было в том, что в Париже, как прекрасно знали родители Луиса, находился тогда пресловутый «атеист» Боб Стивенсон; потому-то главным образом Роберт Луис и рвался туда. Дружба между кузенами была глубокой и искренней, и оба они, по-видимому, взаимно стимулировали духовное развитие друг друга. Возможно, экзальтированный тон письма Боба был вызван его религиозными спорами с мистером Стивенсоном, болезнью Луиса и его «бегством» на юг, но в ноябре 1873 года Боб так выразил свои чувства по отношению к кузену (о чем мы узнаем из письма Луиса):
«Он (Боб. — Р. О.) пишет, что не может дня без меня прожить, что во мне для него заключен весь мир, что с другими людьми он разговаривает лишь затем, чтобы пересказать мне эти беседы».
И дальше Стивенсон говорит своему адресату (миссис Ситуэлл), с каким удивлением он об этом услышал и какая «тяжесть ответственности» легла на него. Должно быть, именно это чувство ответственности частично привело его в Париж, но, увы, хорошие намерения порой влекут за собой печальные последствия! Луис «свалился… с ужасной простудой» и не только ничем не смог помочь Бобу, но, напротив, тому пришлось ухаживать за ним. Для героической приверженности Стивенсона искусству типично, что даже в самый разгар болезни он не прекращал работы и продиктовал Бобу несколько страниц чернового варианта очерка о Викторе Гюго. К несчастью, поклонники Роберта Луиса раздули это его качество, как и многие другие, до гипертрофированных размеров, словно ни одному человеку, больному туберкулезом, не приходилось работать. У Стивенсона никогда не было необходимости вести борьбу с нуждой, даже в самые черные дни, которые мы проведем вместе с ним, но, конечно, другой человек, менее сильный духом, давно сложил бы оружие и спокойно жил, за счет родителей.
Несмотря на то, что Луис писал матери, будто находится на пути домой, в глубине души он надеялся поехать из Парижа прямо в Геттинген, встретиться там с князем Голицыным (родственником русских дам) и послушать лекции знаменитого немецкого профессора, знатока римского права. Что его влекло туда на самом деле, он не говорит, возможно, он просто хотел продлить передышку от богословия и Эдинбурга. С бессознательным цинизмом человека, находящегося в полной материальной зависимости от семьи, он пишет, что хочет «не задерживаясь» уехать из Парижа в Германию, если только получит разрешение родителей: «Под разрешением я имею в виду деньги». Увы, он был настолько болен, что не смог этого скрыть, и ему оставалось одно — «осторожно ползти домой» в растерянности от «милого письма» мистера Стивенсона. Если настоящей причиной приезда в Париж было желание повидаться с Бобом, нужно признать, что это оказался неудачный порыв; внезапное недомогание, сорвавшее все его планы, было провозвестником той борьбы с болезнью, которая заполнила почти всю жизнь Роберта Луиса. Сравнительно хорошее состояние здоровья в ближайшие за тем годы, поддерживаемое поездками на юг, часто оказывалось под угрозой, особенно зимой в Эдинбурге, пока, наконец, в 1879 году не произошел окончательный срыв.
Возвращение домой прошло при добрых предзнаменованиях. Роберт Луис нашел отца более мягким и терпимым, во всяком случае вначале. И в мае, том самом месяце, когда он вернулся, в «Макмилланз мэгэзин» был напечатан очерк «Сослан на юг». Родители прочитали его, сочли «языческим», но не подняли из-за этого никаких разговоров. Такое суждение об очерке довольно странно и вряд ли пришло бы в голову кому-либо из читателей Стивенсона, не отравленных кальвинизмом. Я совсем недавно перечитал этот очерк, стараясь примерить к нему оценку мистера и миссис Стивенсонов, и не вижу для нее никаких оснований. Не менее удивительно, что их, по-видимому, ничуть не поразило сотрудничество молодого человека двадцати трех лет в таком журнале, как «Макмилланз мэгэзин». В те дни этот журнал предъявлял к своим авторам очень высокие требования, и даже Уолтера Патера[60] напечатали там впервые, когда ему было тридцать семь лет. Конечно, в случае со Стивенсоном это было делом рук Колвина. Благодаря тому же ревностному другу Луису поручили рецензировать «Басни» Булвера-Литтона[61] для «Фортнайтли ревью», а в августе в «Корнхилле» напечатали его довольно слабый этюд о Викторе Гюго… Когда он вернулся, отец согласился выдавать ему на карманные расходы семь фунтов в месяц. В наше время, когда деньги с каждым днем обесцениваются, а цены растут, такая сумма кажется смехотворной. Стивенсон, который, в отличие от многих шотландцев, не трясся над каждым пенни, а, напротив, любил транжирить, несомненно, разделял это мнение, но даже после бурской войны, вплоть до катастрофы 1914 года, тридцати пяти шиллингов в неделю было достаточно для молодого человека, готового ради искусства на спартанскую жизнь, особенно если он кое-что прирабатывал. А если Луис часто жалуется в письмах на бедность, виной тому его расточительность. Даже когда он зарабатывал почти столько же, сколько министр, он растрачивал все эти деньги… Настоящие художники почти никогда не бывают скрягами.
Насколько врачебный приговор сэра Эндрю Кларка и «бегство» в Ментону способствовали «эмансипации» Стивенсона, видно не только из увеличения суммы его карманных денег, но и из того, что уже через месяц после возвращения он вновь уехал, на этот раз в Англию, в Хэмпстед к Колвину, благодаря которому его избрали в литературный клуб «Сэвил». Там он познакомился с издателем журнала «Академия», где позднее печатался, и с издателем «Сэтерди ревью», от которого, во всяком случае, можно было ожидать хвалебных рецензий. При таком его раннем опыте нам становится понятным, почему Стивенсону казалась забавной наивная вера Д. Э. Саймондса в то, что писатель может добиться успеха при помощи одного лишь таланта. К счастью для себя, Стивенсон в это не верил.
Поездка в Лондон заняла всего две недели, но за ней последовали многие другие. Вернувшись домой, он пишет из Суонстона миссис Ситуэлл сентиментальную чепуху:
«Я очень устал, но не теряю надежды — все будет хорошо… когда-нибудь, даже если мы к тому времени умрем. Одно я вижу ясно. Смерть — это еще не конец ни горю, ни радости. Я хотел бы превратиться в облака и вновь возникнуть в виде травы или цветов; быть все той же удивительной, пульсирующей, чувствующей материей… Сознание и нервные узлы и прочее в этом роде, в конце концов, всего лишь фикция».
Только что приведенная сентенция вырвалась у Стивенсона в связи с беспокойством по поводу Боба Стивенсона, который чуть не умер от дифтерии. К счастью, он понравился, и, конечно, почти сразу же вслед за ним заболел Луис, который «чувствовал себя плохо, очень плохо», «совершенно неспособным работать». Но посмотрите только, как быстро он восстанавливает физические и душевные силы. Вскоре он уже был в состоянии участвовать в ежегодной инспекционной поездке по маякам и даже смог похвастаться: «Когда нужно, я работаю, как простой матрос, под дождем и ветром, без всякого для себя вреда, и смело смотрю в будущее».
Так шли дни и недели с горестями и радостями, работой над очерками о Джоне Ноксе и Уитмене, замыслами других произведений, так и не осуществленных или осуществленных лишь частично, поездкой в Уэльс с родителями и возвращением в Эдинбург, а осенью — жизнью в Суонстоне. В том же 1874 году он побывал в Бакингемшире, в Кембридже и Оксфорде — видимо, еще один побег от богословских диспутов, потому что все попытки Луиса проявить добрую волю и не вступать в столкновения ни к чему не привели. Недаром он написал следующее грустное письмо:
«Я понимаю теперь, почему я так противно себя веду, почему я такой злой и несговорчивый, совсем не похожий на себя, когда я имею дело с родителями: все это потому, что они всегда видят во мне только плохое, выискивают во мне недостатки и никогда ничего не ставят мне в заслугу».
А в более позднем письме, датированном ноябрем 1874 года, он позволяет нам кинуть беглый взгляд на то, как он проводит день.
«Завтрак в 8.30, затем трубка. Во время завтрака и после него читаю о Реформации, с десяти до без четверти час работаю; с часу до двух — второй завтрак π чтение — Шопенгауэр или кто-нибудь из позитивистов; с двух до трех — работа, с трех до шести — когда что; если я возвращаюсь до шести, читаю о Японии. В шесть обед, трубка с отцом и кофе до семи тридцати, с семи тридцати до половины десятого — работа, после чего ужин и трубка дома, у Симпсона или Бэкстера; между одиннадцатью и двенадцатью — в постель».
Обратите внимание — натянутые отношения между отцом и сыном не мешали им дружески выкурить трубку после обеда, а когда они поехали вместе за город, Стивенсон писал, что отец «резвится» и с ним «здесь так весело». Да и суровая рабочая программа, должно быть, не раз нарушалась развлечениями или какими-нибудь случайностями, столь частыми в жизни. От него самого мы слышим о симфонических концертах, на которых Моцарт вызывал в его воображении «цвет и запах лепестков розы», а Керубини — «зеленую бронзу». Из других источников мы знаем, что он увлекался игрой в любительских спектаклях, устраиваемых Дженкинами и их друзьями, а когда наступали морозы, каждый день катался на коньках. Однажды вечером он встретил заблудившегося мальчика и, движимый сочувствием, потратил несколько часов на то, чтобы отыскать его дом. И хотя до конца года он упоминает о еще одной неприятной сцене с отцом, который, серьезно заболев, сказал, что лишит сына наследства, если тот не вернется в лоно церкви, все же тогдашний образ жизни Луиса никак не оправдывал неврастеническую вспышку: «О, как мне опротивело существование, которое я веду. Работа… работа… работа. Все прекрасно, меня это занимает, но мне так хочется видеть вокруг себя женские лица и иметь хоть какие-нибудь удовольствия».
В следующие два года — 1875–1876 — произошло несколько интересных событий. Пожалуй, наименее существенным из них было то, что Стивенсон сдал выпускные экзамены по шотландскому праву и получил звание адвоката. Хотя он ознаменовал это тем, что во всеуслышание сообщал о своем новом звании всем встречным, когда ехал в открытой коляске с экзамена в Суонстон, и сфотографировался в мантии и парике, главным было чувство освобождения, сознание того, что он удовлетворил честолюбивые замыслы родителей, хотя и считал их буржуазными предрассудками, и теперь, наконец, в двадцать четыре года не обязан больше быть школяром и изучать предметы, не представляющие для него ни малейшего интереса. Правда, Роберт Луис повесил на дверях дома на Хериот-роуд медную табличку и, подобно другим адвокатам, посещал «Парламентский зал»;[62] ему даже поручили подготовку двух дел, правда, без оплаты. Но, в общем, для него это было, как говорится, «с плеч долой», и очень скоро он перестал даже делать вид, будто занимается адвокатской практикой. По правде сказать, Стивенсон, закончив университетский курс, был не менее счастлив, чем раб на галере, когда с него снимают сковывавшие его цепи. У Луиса было и еще одно основание радоваться. Мистер Стивенсон довольно нелогично разрешил жене дать сыну тысячу фунтов из записанной на ее имя части имущества. Если родители не могли оставить «язычнику» деньги по завещанию, зачем же дарить ему их при жизни? К счастью, любовь матери обычно сильнее логики, хотя и возникает вопрос: так ли уж разумно было делать столь щедрый подарок такому непрактичному человеку (в денежных делах), как Луис Стивенсон? Несомненно, благодаря этим деньгам он обрел некоторую свободу и досуг, но большая часть из них вскоре ушла в виде «займов» друзьям, которые брали куда с большей легкостью, чем возвращали. Нужно отдать должное Стивенсону, хотя он часто ворчал из-за отсутствия денег и усердно — иногда даже слишком усердно — трудился, чтобы их заработать, он никогда не «прятал золото в подвал», но «на ветер золото швырял»[63] и, когда у него были деньги, не колеблясь, делился ими с другими.
Гораздо более важным событием в жизни Стивенсона — в сфере духа и чувств, а не накопления богатства и выполнения светских обязанностей — было его знакомство с У. Э. Хенли. Если в занятиях юриспруденцией «романтика судьбы» не принимала никакого участия, разве что в обратном смысле, ибо благодаря темпераменту Роберта Луиса и твердому намерению сделаться писателем ему было «предначертано» так никогда и не стать практикующим адвокатом, то в его совершенно случайной встрече с Хенли действительно есть что-то романтическое. Если бы такая цепь совпадений произошла не в жизни, а в книге, критики обвинили бы автора в неправдоподобии. Хенли был по-настоящему беден, а не играл в бедняка, как Роберт Луис, который, на худой конец, всегда мог вернуться под отчий кров кающимся блудным сыном я получить тучного агнца. Отец Хенли — в прошлом полунищий продавец книг — умер, а еще более нищая мать выбивалась из сил, чтобы прокормить младших детей. В шестнадцать лет Хенли ампутировали ногу, пораженную костным туберкулезом. Этот калека жил, перебиваясь с хлеба на воду, поденным литературным трудом, хотя как поэт он оказался впоследствии куда талантливее Стивенсона, да и как прозаик был небезынтересен. Затем туберкулезная инфекция перешла на другую ногу, и специалисты, с которыми он советовался в Англии, сочувственно глядя на него, говорили: «ампутация».
Хенли взбунтовался. Если он останется без обеих ног, что его ждет — кресло на колесиках и подаяния? До него дошла молва о Листере, и, добравшись до Эдинбурга самым дешевым из возможных способов — по морю, — он предстал перед великим хирургом, имея в кармане десять с половиной пенсов. Листер согласился положить его в Эдинбургскую городскую больницу, прооперировал, но ампутации сумел избежать. Это произошло в августе 1873 года, а в январе 1875 года Хенли все еще был на больничной койке и ничего не знал о Луисе Стивенсоне, равно как и Стивенсон о нем. Но одно из стихотворений Хенли было принято «Корнхиллом», редактор которого, Лесли Стивен,[64] был знаком со Стивенсоном. В феврале Лесли Стивен приехал в Эдинбург, где должен был прочитать лекцию, и счел своим долгом зайти в больницу навестить Хенли, а когда пошел туда во второй раз, захватил с собой Стивенсона, чье описание этой первой встречи с Хенли так часто приводилось в печати.
Добрый по натуре, к тому же считающий, что «художники в беде должны поддерживать друг друга», Стивенсон сочувственно отнесся к «бедному парню, кажется поэту, который пишет что-то для Стивена и провел полтора года в больнице», и решил «попытаться ему помочь». Намерение он свое выполнил, но ни один из них тогда не подозревал, что эта случайная встреча в палате городской больницы положит начало самой горячей и тесной литературной дружбе в жизни Стивенсона. Несомненно, Боб Стивенсон и Чарлз Бэкстер, друзья детства, были ближе Роберту Луису, но никто из входивших в его литературную фракцию, даже Колвин, не значил для него так много, как Хенли, который вместе с Бобом и Бэкстером был удостоен звания одного из «трех мушкетеров».
Хенли уже начал поправляться, когда весной 1875 года Стивенсон съездил в Париж, где более опытный Боб был его пастырем среди богемы Латинского квартала, а затем в колонии художников в Барбизоне и Фонтенбло, недалеко от которого произошло еще одно совпадение, сыгравшее важную роль в жизни Стивенсона. Но об этом позже. Хенли к тому времени настолько окреп, что, то ли непосредственно перед этой поездкой Роберта Луиса, то ли сразу же вслед за ней, ему впервые почти за два года позволили выйти на воздух. Стивенсон снес его на руках вниз и затем вновь внес по лестнице в палату — «нелегкое дело», как он сам говорит, для такого хрупкого человека. Восторг Хенли, когда они выехали в коляске за пределы города, был для Стивенсона как вино — он понял из вопросов Хенли, что тот практически «никогда в жизни не выезжал за город». Стивенсон был до мозга костей художник и артист и, должно быть, получил настоящее наслаждение от двух дней в обществе нищего калеки, особенно по контрасту с обычным времяпрепровождением в домашнем кругу.
Знакомство с Хенли совпало с любительским спектаклем у Дженкинов, в котором Стивенсон красовался в костюме Орсино из «Двенадцатой ночи», «тяжелом от золотого шитья и бутафорских брильянтов», «великолепном, как одеяние царя Соломона, роскошном, как платье Франциска I». Трапезы его в это время «преимущественно состояли из омаров, которых он запивал шампанским в обществе людей, бывших, за небольшим исключением, преинтересными собеседниками». Невольно хочется поморализировать на эту тему и уж по меньшей мере провести сравнение между настоящей нищетой богемной жизни Хенли и «нищетой с шампанским» в богемной жизни Луиса Стивенсона.
Насколько в ту пору Стивенсон был полезен Хенли, одинокому и почти лишенному средств к существованию, увидеть нетрудно. Стивенсон приносил ему книги, поддерживал в нем надежды, познакомил его со своими друзьями — Бобом, Бэкстером и Уолтером Ферриером, был в некотором смысле его меценатом: именно благодаря эдинбургским связям Хенли стал редактором «Лондона», а впоследствии «Скотс Обзервера». Но почему Хенли был так дорог Стивенсону, что даже их знаменитая «ссора» не смогла убить его любви? Вполне возможно, потому, что Хенли был единственный настоящий поэт, которого Стивенсон знал в ту пору — ведь члены клуба «Сэвил» были всего лишь литераторы. К тому же Хенли не отличался респектабельностью. Он был богемой, в какой-то степени даже отщепенцем — тип, ярче всего воплощенный в Франсуа Вийоне, который так привлекал романтика и бунтаря Роберта Луиса Стивенсона. Хенли служил противоядием против изнеженности его регламентированной родителями тепличной жизни и, надо надеяться, в не меньшей мере против «harridans» и против «howffs», куда в знак протеста Роберт Луис спасался бегством.
Стивенсона неудержимо влекла к себе богемная жизнь «колонии» Фонтенбло, с которой его познакомил весной Боб, и когда наконец в июле 1875 года долгая, мучительная пора его дилетантского ученичества завершилась, как в это ни трудно поверить, счастливой развязкой и он получил звание адвоката, Стивенсон тут же уехал во Францию в сопровождении сэра Уолтера Симпсона. Если на Хериот-роуд, 17 все еще косились на Колвинов, Ситуэллов, Лесли Стивенов и уж тем более на всяких там Хенли, то эдинбургский баронет не мог совершить ничего предосудительного. Сказать: «Мой сын уехал за границу с сэром Уолтером Симпсоном» — было легче, чем признаться, что он кутит в кабаках в компании нищего англичанина-калеки, кузена-атеиста, юнца стряпчего и прочей шушеры, это хоть как-то оправдывало его в глазах респектабельного Эдинбурга.
Франция, особенно богемная Франция, заняла несколько лет жизни Стивенсона; его знакомство с ней можно проследить по многим произведениям. Жизнь в Париже отразилась в первых главах «Потерпевших кораблекрушение» и в «Истории одной лжи»; дни, проведенные в окрестностях Фонтенбло, — в отрывочных, но прекрасно написанных «Лесных заметках», а две более длительные поездки, одна на каноэ, другая на ослице, описанные в его ранних книгах путешествий, были сознательно предприняты с целью использовать путевые впечатления в литературных целях. Так или иначе, месяцы, проведенные Стивенсоном во Франции летом 1875 года, частично в колонии «барбизонцев»,[65] частично в экскурсиях с Симпсоном, а частично посвященные углублению знакомства с французской литературой, были заслуженным отдыхом от Эдинбурга. Все это вопреки нашим ожиданиям и надеждам почти не отразилось в дошедших до нас письмах — видимо, Роберт Луис был слишком занят, или утомлен, или просто слишком счастлив, чтобы писать письма.
В более позднем по времени очерке «Фонтенбло» есть описание штаб-квартиры Стивенсона в гостинице Сирона в Барбизоне, но в «Лесных заметках» он пишет об этом под свежим впечатлением и гораздо подробнее.
«На голубятне воркуют и порхают голуби; Горанс вытаскивает ведро с водой из колодца: и так как все комнаты выходят во внутренний двор, можно увидеть повара в белом колпаке у плиты или услышать, как кто-нибудь из художников, собрав холсты и вымыв кисти, наигрывает в свободную минуту вальс на шатком, расстроенном пианино, стоящем в salle á manger».[66]
«Мужчина в бархатной куртке» заказывает двойной вермут, юноша «весь с головы до пят в белом» обсуждает написанное им сегодня с другим, «в вельветовых штанах». Вдруг раздаются «дружные радостные возгласы», это в комнату неожиданно входит еще какой-то художник — их общий друг… Приятная картина (пожалуй, не совсем свободная от влияния Мюрже[67]): живописные декорации и костюмы, дружеские отношения и беспечный образ жизни, которые должны быть в любой «колонии художников». Увы, на практике все иначе. Возможно, у художников XX века более напряжены нервы, на них больше давят «прогресс» и бюрократизм, чем на их предшественников, живших столетие назад, но теперь редко встретишь такой радушный дом, каким, по словам Стивенсона, был отель Сирона. Жизнь там текла легко и беззаботно, счет подавался, только если постоялец сам просил его принести, и платить надо было всего пять франков в день, но… помимо этого, месье Сирон добавлял к счету в графе, обозначаемой устрашающим словом «estrats»,[68] ту сумму, которую, кроме ваших личных издержек, вы должны были внести на покрытие общих расходов. В наше время на Дермин-стрит была открыта гостиница, владельцы которой попытались вести дело на сходных принципах, но из этого ничего не вышло. Не всегда все было гладко и в те дни, о которых пишет Стивенсон, хотя он утверждает, видимо имея на то основания, что жуликами всегда оказывались англичане или американцы. Однако Стивенсон не был слепо пристрастен к французским друзьям, так как дальше он говорит:
«Вместе с тем большой наплыв англосаксов начал сказываться на жизни студий. Начались споры, был даже случай, кажется, правда, всего один, когда англичане и американцы объединились, чтобы предотвратить грубую выходку. Как было бы хорошо, если бы люди разных наций и рас перенимали друг у друга лучшие качества! В жизни же, глядя на других, они слепы ко всему, кроме недостатков. Англосаксы, мол, по сути своей лживы, французы-де от природы не в состоянии постигнуть того, что мы называем «честная игра». Француз удивляется щепетильности своего гостя, а когда этот поборник справедливости улепетывает за море, не заплатив по счету, он вновь удивляется. И первое и второе в его глазах — неотъемлемые части пресловутой английской эксцентричности; и на то и на другое он реагирует одинаково — пожатием плеч».
Речь идет, по-видимому, о более позднем периоде, чем 1875 год, но наблюдения эти, увы, абсолютно справедливы.
Именно в этой гостинице и во время одиноких прогулок по лесу или более дальних экскурсий в компании Симпсона Луис читал Франсуа Вийона и Шарля Орлеанского, подготавливая материал для очерков. К этому же времени относится разделявшееся всеми сверстниками Роберта Луиса увлечение средневековыми стихотворными формами — балладой, рондо, ронделем, триолетом, вилланелем, шанроялем, — блестяще возрожденными Теодором де Банвилем.[69] Их очень трудно воссоздать даже на французском языке, по-английски же они выходят рыхлыми по ритму и туманными по мысли и явственно говорят о том, что поэта больше заботили рифмы и рефрены, чем идеи и чувства, которые, казалось бы, должны наличествовать в каждом стихотворении. Как ни странно, Хенли лучше всех английских; поэтов овладел этими формами, хотя впоследствии Доусон[70] показал великолепное мастерство в создании вилланелей. Стивенсон уничтожил свои опыты в этом подражательном жанре, где главное — виртуозность, и, вероятно, не без причины, если они были не лучше тех рондо, которые случайно сохранились в письме к миссис Ситуэлл. Нельзя сказать, что они плохи, но им далеко до уровня Хенли, а рядом со стихотворениями Банвиля они просто не существуют. Стивенсон восхищался Банвилем, в котором было что-то и от Мюссе, и от Гейне, и от ученика самого Банвиля — Вердена, восхищался его романтичностью и прекраснодушием, его острым умом, добрым и вместе с тем ироническим смехом, и симпатией ко всем тем приверженцам красоты и справедливости, которые, «где бы они ни были, чтут свергнутых богов, борются за обреченное дело и ищут потерянный рай». И Стивенсон был вполне достоин своего кумира. Тем же летом 1875 года Стивенсону довелось, пусть в слабой дозе, вкусить кое-что от жизни его героя — Франсуа Вийона, который действительно имел основания избегать встреч со стражниками. Этот небольшой эпизод с юмором описан в «Эпилоге» к «Путешествию внутрь страны», и большинство читателей, естественно, полагают, что он произошел после поездки в каноэ, но в действительности прогулка в долине реки Луанг и ее внезапный конец в Шатийоне-на-Луанге были до нее. Стивенсона арестовали и посадили в тюрьму за бродяжничество, и, если бы сэр Уолтер Симпсон не двигался тем же путем, Луис мог провести в предварительном заключении несколько дней и даже недель — французское правосудие редко спешит, — пока английское консульство освободило бы его.
Если глядеть со стороны, в жизни бродяги во Франции, обремененной чрезмерными налогами, чрезмерной регламентацией и чрезмерным населением, были свои преимущества, особенно в летние месяцы. Даже в те неправдоподобные дни, когда современники Стивенсона пользовались неограниченной свободой и процветали во Многих странах Европы, в положении бродяги были плюсы, компенсирующие минусы. Но Стивенсон, по-видимому, не подумал о том, что полунищий бродяжка, к тому же иностранец, должен иметь при себе документы и предъявлять их властям, и слишком поздно осознал, что война 1870/71 года не совсем изгладилась из памяти французов, среди которых все еще ходили фантастические слухи о шпионах. Он признает также, что неумно было бродить по дорогам в таком поношенном и эксцентричном одеянии. Тем более что (гордо заявляет он) одно его лицо вызывало подозрение у всех блюстителей закона, кроме лондонских и эдинбургских. (То, что его. не впустили в казино Монте-Карло, как раз менее примечательно, чем он считает, — у швейцаров казино есть свои мерила респектабельности, и иностранцам, одетым, как им кажется, достаточно нарядно для бедной латинской страны, часто указывают на дверь.) Стивенсона дважды приняли за бродягу, один раз, когда ему повстречался сельский почтальон, возмутившийся тем, что «бродяга» не показал ему порнографических открыток, которые, конечно же, были у него для продажи, второй — когда Луис зашел в придорожное кафе. На его рюкзаке не красовалось никаких украшений, и самым ценным предметом из его содержимого было двухтомное издание Шарля Орлеанского, которого Стивенсон переводил по пути.
Со смаком и достойной Босуэлла тщательностью Роберт Луис описывает эти обстоятельства и свой разговор с полицейским комиссаром, который обвинил Стивенсона в том, что он немец и явился к ним, чтобы петь баллады Шарля Орлеанского на местной ярмарке, — заключение, делающее мало чести дедуктивным способностям комиссара. Стивенсон протестовал, даже предложил спеть в качестве алиби, но никто его не слушал и тем более не верил ему, и вскоре он был отправлен под стражей в мрачный и сырой подвал. И он мог бы там пробыть до тех пор, пока не умер бы от воспаления легких, если бы вскоре не прибыл его друг, оказавшийся, к величайшему удивлению комиссара, не только «респектабельным», но и «элегантным», с кучей денег и паспортом! Даже тут этот многоопытный блюститель порядка умудрился прийти к выводам, которые англичанину покажутся, мягко выражаясь, смешными: увидев, что в паспорте сэра Уолтера написано «баронет», полицейский сказал: «Значит, ваш отец — барон», а когда жертва его проницательности ответил отрицанием, с торжеством заявил: «Значит, это не ваш паспорт». Что и требовалось доказать! Кончилось все тем, что Стивенсона освободили из темницы, но во избежание дальнейших неприятностей им пришлось в тот же вечер уехать поездом в Париж.
Богемная жизнь во Франции во времена Третьей республики предоставляла такую свободу и имела столько привлекательных черт, особенно для человека, который мог в случае нужды прибегнуть к помощи любящего, хотя и нетерпимого, отца с солидным доходом, что сейчас это му даже трудно поверить. Но, очевидно, когда вопрос касался бумаг и внешнего вида, где-то все же был предел Дрожа в течение получаса на грязной лавке в промозглой тюремной камере, Стивенсон был волен вообразить, какие чувства и ощущения испытывал Вийон. Разве не почетно хоть раз побывать в тюрьме!
6
В ближайшие годы после окончания университета жизнь Стивенсона казалась, да в значительной степени и была такой же, как жизнь многих его сверстников, которые существовали на средства родителей или на скромный доход, имели художественные наклонности и лелеяли мечты о литературном поприще. Они болтались в лондонских клубах так же, как Стивенсон в «Сэвиле», и так же, как он, часто ездили за границу. Самые способные и прилежные из них писали, как и Стивенсон, статьи, где демонстрировали эрудицию и делились с читателями своими раздумьями и, подобно ему, пытались сочинять «путевые заметки» и — наиболее ходкое чтение — беллетристику. Однако там, где сотни из них потерпели неудачу, он преуспел, и если мы скажем, что своему первому, хотя и очень скромному, успеху он во многом обязан помощи таких друзей, как Колвин, Стивен, Госс и даже Хенли, это отнюдь не будет умалением достоинства самого Роберта Луиса Стивенсона.
Достаточно бегло познакомиться с библиографией публикаций Стивенсона за 1875–1878 годы, составленной Грэхемом Бэлфуром, чтобы убедиться в справедливости всего вышесказанного. За исключением маленькой брошюры с весьма неожиданным названием «Обращение к духовенству пресвитерианской церкви Шотландии» и одного-двух стихотворений, все, что было напечатано за эти годы, относится к тому или другому из перечисленных выше жанров. (Трудно понять, с какой стати «безбожник» вздумал давать непрошеные советы шотландскому духовенству. Вероятнее всего, брошюра была написана, чтобы угодить отцу, а возможно, и показать, что Р. Л. С. не такой уж атеист, каким его считают.) Он опубликовал литературные этюды о творчестве Эдгара По, Шарля Орлеанского, Вийона и Уитмена, затем идут очерки, большая часть которых была со временем напечатана в сборнике «Virginibus Puensque» («Девушкам и юношам»). Первый рассказ Стивенсона — «Ночлег Франсуа Вийона» — появился в печати лишь в октябре 1877 года, и только в 1878-м — очень удачном году — он смог торжествовать победу, напечатав два рассказа и «Новые сказки Шехеразады»; правда, «Сказки» выходили «с продолжением» в «Лондоне», редактором которого был Хенли, и оплачивались очень низко. Наконец, мы видим путевые очерки и заметки, такие, как «О прогулках пешком», наброски о поездке в Каррик и Гэллоуэй, «Лесные заметки», «Путешествие внутрь страны» и «Эдинбургские картинки».
Возможно, это немного, но и бездельником человека, написавшего столько за четыре года, никак не назовешь. Если учесть, сколько раз и с какой тщательностью Стивенсон переписывал свои книги, станет ясно, что он затратил на них немало часов упорного труда. Теперь вышло из моды хвалить за трудолюбие, похвальным считается, напротив, работать мало, а зарабатывать много, и еще давным-давно Анатоль Франс цинично, но справедливо заметил, что в искусстве настоящее трудолюбие состоит не в том, чтобы работать усердно, а в том, чтобы работать хорошо. Спору нет — волшебное лирическое стихотворение Поля Вердена, нацарапанное за рюмкой абсента в кафе, стоит двадцати вымученных романов. Но нужно отдать должное Стивенсону. Если он и жил на щедроты отца в том возрасте, когда большинство юношей его класса сами зарабатывали себе на хлеб, он не тратил зря дарованный ему драгоценный досуг. И если мистер Томас Стивенсон не был доволен успехами сына в 1878 году, тем хуже для него. Стивенсон напечатал в журнале два очерка в январе этого года, один в марте, два в апреле, два очерка и книгу в мае, книгу «с продолжением» в «Лондоне» с июня по октябрь и еще одну, с июня по декабрь, в «Портфолио», снова очерки в июльском, сентябрьском, октябрьском и ноябрьском номерах журналов и книгу в «Лондоне» в ноябре! Непонятно только, почему при таком количестве публикаций Стивенсон зарабатывал так мало денег, — должно быть, ему безобразно мало платили. И все же, несмотря на столь ощутимое свидетельство его труда и успеха, мистер Стивенсон оставался при своем мнении и лишь в 1883 году сделал приписку к духовному завещанию, восстановив Роберта Луиса в правах на наследство.
Однако, хотя писал Луис много, все же создается впечатление, что в то время у него не было особо важных и настоятельных тем. Стивенсона занимает, а порой и забавляет все — люди и места, с которыми ему доводится встречаться, книги и их авторы, и он комментирует это с несколько утрированным оптимизмом. События, о которых пишут газеты, почти не отражаются в его книгах и даже в письмах, а ведь к 1874–1878 годам относится конец правления Дизраэли, когда был захвачен Кипр и скуплены акции компании Суэцкого канала, когда Англия угрожала России войной (будучи к ней абсолютно не готова) и подписали «Почетный мир»,[71] приведший, в числе прочего, к войне 1914 года. Несомненно, эти события не могли пройти мимо Роберта Луиса, и он размышлял о них, как и все прочие люди, но придерживался в то время мнения, что вчерашние газетные заголовки не могут служить материалом для литературы, достойной текущего или будущего столетия, что писателя должен интересовать человек, а общественные явления — в крайнем случае фон. Лишь в Океании Стивенсон переменил свои взгляды.
Прошло довольно много времени, пока «романтика судьбы» не вырвала Стивенсона из этой, в общем, достойной зависти жизни. А пока он искал темы в книгах и путешествиях точно так, как искали мотивы для картин его друзья-«барбизонцы». Возможно, именно в поисках оригинального «путевого мотива» Стивенсон предпринял в снежном и туманном январе прогулку по Шотландии. Явившийся ее результатом очерк был написан изящно, как почти все у Стивенсона, но при всей оригинальности этой зимней прогулки ни автор, ни читатель очерка ничего из нее не почерпнули. Припорошенный снегом ландшафт кажется нам не величественным, а скорее унылым и мрачным, и большинство тех, с кем встречался Луис в пути, были «бедняки» или просто пропойцы. Пожалуй, наибольшего внимания заслуживает тот факт, что Стивенсон останавливался в Баллантрэ.[72]
С одним-двумя небольшими перерывами восемь месяцев 1876 года Стивенсон прожил в Шотландии, главным образом в Эдинбурге. Хотя, естественно, столица Шотландии еще какое-то время оставалась его штаб-квартирой, он стремился проводить в ней все меньше и меньше времени. Это объяснялось различными причинами, в том числе состоянием здоровья, стремлением к более разнообразной жизни, а также интересом к одной особе женского пола, который «романтика судьбы» пробудила в сердце Луиса осенью того же года. Хотя «Эдинбургские картинки» — вторая книга путевых очерков Стивенсона — были напечатаны лишь в 1878 году, пожалуй, стоит взглянуть на них сейчас ради знакомства с 1876 годом, так как этот год почти не отразился в письмах Луиса. Можно ли говорить о «путевых заметках», когда речь идет о родном городе писателя, даже если это столица? В строгом смысле слова — нет, такое название, пожалуй, будет неточным. Однако, если подумать, сколько людей живут всю жизнь в своем городе, не имея о нем представления, воспринимая окружающее их как нечто незыблемое и слишком привычное, чтобы возбуждать любопытство, и учесть, как много времени Стивенсон потратил специально, чтобы получше узнать Эдинбург, какие усилия приложил, чтобы найти некоторые места, где происходили исторические события, а иногда и просто для того, чтобы посмотреть какие-нибудь малознакомые уголки, книгу можно с полным правом отнести к этому жанру. Хотя «Эдинбургские картинки» сравнительно непопулярны среди поклонников Стивенсона, в этой книге есть главное, что нужно для путевых заметок, — она возбуждает в нас интерес к городу, которого мы не видели, надо только внимательно ее прочитать.
Книга, к счастью, свободна от тягостной («мы должны быть счастливы, как короли») сентиментальности, которая сделала Стивенсона кумиром теккереевской «глупой публики», и вместе с тем от злопыхательства, в которое легко мог впасть такой остроумный и недовольный своими соотечественниками человек, как Стивенсон. Он говорит о родном городе с той откровенной и вполне оправданной чуть пренебрежительной снисходительностью, с какой родители в Шотландии говорят о своих детях. «Эдинбург жестоко платит за привилегию иметь самый отвратительный климат на свете», — начинает он абзац и, мучась вместе с автором от дождя и ветра, от «холодных морских туманов, ползущих с востока», от «сырой и ветреной зимы», от «неустойчивого холодного» лета и «форменного метеорологического ада вместо весны», от «ненастных дней и бесконечного сражения с ветром», мы не удивляемся, когда он кончает абзац картинкой — жители Эдинбурга стоят, перегнувшись через перила виадука, и с завистью смотрят на поезда, уходящие на юг. Только бесчувственные люди безразличны к климату и погоде, и человек со столь впечатлительной душой, столь немощный и хрупкий, должно быть, действительно очень страдал. Под стать мрачному климату была еще более мрачная религия. Стивенсон бежал и от того и от другого, и вместе с тем его влекло в Эдинбург благодаря силе привычки.
О своих согражданах Стивенсон говорит более сдержанно, однако место, где он описывает, как они «идут чинной толпой в сознании своей моральной непогрешимости», задевает гораздо сильнее, чем его горькое признание: «Мы, северяне, поразительно умеем ненавидеть во славу господню», чем отказ подчиниться зову воскресного благовеста, этого «пронзительного церковного набата — вопля нелепой ортодоксальности», и чем многие другие высказывания в том же и даже более резком тоне. Из этого, как, впрочем, и из других произведений Стивенсона, мы видим, сколь яростно он восставал против жестокой, чуждой милосердия религии, ревностно осуждающей малейшую провинность. «Шекспир написал комедию «Много шума из ничего». Шотландцы сумели создать фантастическую трагедию на ту же тему».
Не очень-то «красочные» картинки, но для биографа эти откровения представляют куда большую и непосредственную ценность, чем колоритные описания Старого и Нового города. Кстати, здесь Стивенсон впервые пересказал легенду о Диконе Броуди (днем благочестивый горожанин, ночью — одетый в маску взломщик), образ которого преследовал Стивенсона, пока не был «пригвожден» к бумаге сперва слабой пьесой, написанной в соавторстве с Хенли, а затем вдохновенной аллегорией о Джекиле и Хайде. Глава о вселяющем страх старом кладбище и мрачных надгробных памятниках, а особенно длинный отрывок о том, как выкапывали черепа ковенантеров, казненных задолго до того, заставляет нас вспомнить Камми и ее рассказы о всяческих ужасах. Приятнее читать воспоминания об эдинбургском «Парламентском зале», куда, «подчиняясь неумолимому обычаю», адвокаты должны были являться «в мантии и парике и маршировать там с десяти до двух часов». «…Умные люди вышагивали здесь ежедневно в течение десяти, а то и двадцати лет, не получая никакого, хотя бы пустякового, дела, ни шиллинга вознаграждения». Нетрудно догадаться, что этот абзац предназначался родителям Роберта Луиса: пусть знают, что, во всяком случае, один из этих «вечных странников» считал такое времяпрепровождение «самой тягостной формой безделья», и пусть сделают из этого свои выводы. Адвокатский заработок Стивенсона, прямо надо сказать, был невелик. Позднее мать Стивенсона как-то проговорилась, что у нее с сыном было соглашение: из каждой заработанной им в адвокатуре гинеи он оставляет себе соверен, а ей отдает шиллинг, и по этому договору она получила всего четыре шиллинга чистого дохода. Вряд ли стоило тратить столько времени и труда и две тысячи фунтов в придачу, чтобы обеспечить за собой ничего не дающий титул «Член гильдии шотландских адвокатов», и то взятый под сомнение невежественным французским полицейским.
30 июля 1876 года Стивенсон все еще был в Шотландии, хотя и не в самом Эдинбурге, но совсем близко — в Суонстоне.
Существующее мнение, будто поездка с Симпсоном на каноэ по каналам и рекам Бельгии и Франции летом того же года была предпринята для восстановления сил после очередной болезни, по-видимому, ошибочно, хотя Стивенсон, бесспорно, считал свежий воздух и небольшую физическую нагрузку вроде пеших прогулок прекрасным лекарством, а Хенли сообщает о том, что «выхаживал» его примерно в это время. В письма Луиса, написанном за месяц до «путешествия внутрь страны», нет и намека ни на какую болезнь, хотя именно в нем говорится о намерении проехать в каноп от Антверпена до Грёза и продолжить поездку «следующей весной» от Грёза до Средиземного моря. Из письма также ясно, что Стивенсон намеревался использовать впечатления поездки для «веселой книги», где он сможет «вволю поболтать».
Вторая половина путешествия так и не состоялась, возможно, к лучшему, так как Стивенсон чуть не утонул на Уазе во время небольшого разлива. Что же ждало наших гребцов на быстрой и опасной Роне в период таяния снегов? Сэр Уолтер Симпсон брал Стивенсона в поездку на яхте и учил его на Клайде грести в двухместном каноэ, но сомнительно, чтобы Луис обладал достаточной сноровкой для управления столь утлым суденышком в большую волну. «Путешествие внутрь страны» было очень заманчивым названием книги, и, хотя уже существовали, по крайней мере, три книги, рассказывающие о сходных «путешествиях», Со слов самого Стивенсона можно судить, что он задумал четвертую. «Путешествие» было напечатано лишь в мае 1898 года в издательской фирме «Кеган Поль и К0», сумевшей оценить его по заслугам. Среди читателей оно не имело успеха и лишь постепенно, по мере того как рос культ Стивенсона, получило более широкое признание.
«Путешествие внутрь страны» заслуживает того, чтобы на нем остановиться, и не только потому, что это первая настоящая книга молодого автора, ставшего впоследствии популярнейшим писателем-профессионалом. Тому, кто сомневается в литературном мастерстве Стивенсона или его умении донести до читателей особое, лишь ему присущее очарование, достаточно прочитать одну эту книгу. Просто поразительно, какая пропасть лежит между тривиальностью, хочется даже сказать — бесцветностью, того, о чем он говорит, — и прелестью того, как он ведет свое повествование. Только слепо предубежденный против него человек или человек, не умеющий ценить прекрасное, может закрыть книгу, не проникнувшись горячей симпатией к ее автору. Интерес у нас вызывает сам Стивенсон, а вовсе не «путешествие» на каноэ. В чем оно, в действительности, состояло? Стивенсон и Симпсон плыли по унылым каналам и поднявшимся в половодье рекам, мокли под дождем и почти ничего не видели, кроме дорожки для тяги судов на бечеве на том и другом берегу; затем переправились «волоком» на поезде от Брюсселя до Мобежа и поплыли дальше. Пока они не добрались до Нуайона и Компьена, им почти не попадались места, достойные хотя бы упоминания. Когда в промокшей насквозь одежде, с клеенчатыми рюкзаками за спиной они искали ночлега, их принимали за бродячих торговцев, а один раз даже выгнали из маленькой придорожной гостиницы. И Стивенсон чуть не утонул. Он выжимает что можно из пустяковых дорожных приключений и случайных знакомств, которые он заводил в пути, из собора в Нуайоне и ратуши в Компьене с механическими человечками, отбивающими время на башенных часах, но все это лишь предлог, чтобы показать главное, достойное нашего восхищения, — самого себя.
Уже тогда он вполне овладел искусством завоевывать сердца читателей небольшой дозой разумной лести по адресу рода человеческого, которую читатели, естественно, принимают на свой счет, снисходительным кивком головы выражая молчаливое одобрение столь проницательному наблюдателю. «…Мы обычно оказываемся гораздо храбрее и лучше, чем сами ожидали», — говорит автор уже на второй странице. Неужели? И снова: «Все лучшее, доброе, что есть в нашей душе, не остается погребенным там навеки, а проявляется в час испытаний». Возможно, и так, но подобные взгляды и чувства легче было исповедовать под уютным кровом 70-х годов прошлого столетия. чем в середине XX века. Стивенсон во всем видит примеры добра, во всем находит утешение. «…Баржи, ждущие очереди у шлюза, преподают урок безмятежности, с какой нужно относиться к мирской суете». В жизни барочника так много привлекательного, что «трудно представить… зачем ему умирать». И дальше: «Неудобства, когда они предстают в своем истинном виде, а не выдаются за комфорт, — потрясающе забавная штука…» И снова: «В сердце человека скрыт такой запас честности, который поддерживает его вернее, чем любые правила», а немного дальше: «Если бы с нас брали по столько-то с головы за право любоваться закатом или если бы господь бог посылал сборщика подати вместо с гарольдом перед тем, как зацветет боярышник, как бы мы славословили их красоту». Очень приятные доктрины, особенно когда тут же мы находим критику общества, меркантилизма, службы в конторе и самонадеянных чиновников, π сетования об упадке народного ремесла, утрате честности, респектабельности и тому подобном. Причем делается это с такой симпатией к людям и мягким юмором, что может вызвать одобрение самого почтенного мэра города, который провел всю жизнь в конторе своей фабрики, руководя производством все более и более дрянных товаров. Я не удивляюсь, что мистер Томас Стивепсоп, категорически запретивший несколькими годами позднее печатать острого и правдивого «Эмигранта-любителя», предпочитал «Путешествие внутрь страны» всем прочим произведениям Роберта Луиса.
Я хочу сейчас остановиться на другой стороне первой книги Стивенсона, еще более интересной и, возможно, неизвестной тем, кто не достиг восьмидесяти лет. По своему мировоззрению, своей философии — если можно применить это претенциозное слово для такого непритязательного хода мыслей — книга эта запечатлевает, если Стивенсон не придумал их, основные черты и образ жизни персонажа, просуществовавшего до потрясений 1940 года, дает набросок истинного «путешественника не по коммерческим делам» (каковым никогда не был Диккенс, хотя он и ввел в употребление этот термин) — писателя, художника, одним словом, «артиста», который ради свободы и искусства отказывается от привилегий и наград, равно как и от обязанностей и ответственности тех, кто «делает деньги» («Луна и шестипепсовик» — как великолепно выразил это Сомерсет Моэм). Каков же был стивенсоновский идеал? Избавиться от жалкой погони за деньгами π рабства в конторах, убежать из родной страны ради свободы, которую дает безвестность, жить в нищете ради искусства, упорно работать, делая вид, что бездельничаешь, делиться последней монетой с другом и, наконец, оправдать бунт долгожданным успехом. Пока 1940 год не положил этому конец, сколько английских художников самых различных толков пытались следовать его заповедям, возможно, даже не зная о них. В «Путешествии внутрь страны», как и в других произведениях, Стивенсон выразил неясное, но упорное чувство протеста против такого общественного устройства π такой системы ценностей, при которых конечным результатом деятельности является духовная пустота. Отсюда его симпатии к людям, сохранившим в неприкосновенности, как ему кажется, «ясное представление о том, что хорошо, что дурно, что интересно, что скучно, которое завистливые старые джентльмены именуют «иллюзией». Он с восторгом смотрит на странствующих музыкантов, не теряющих бодрости духа, несмотря на бедность и неустроенность, ибо их поддерживает мысль о том, что и они, в конце концов, «артисты» (Диккенс тоже очень любил их), и вообще на всех людей, вплоть до французских рыболовов, с отрешенным видом сидящих день-деньской на берегу речки, где заведомо нет рыбы, которые живут ради жизни. Он открыл неоспоримую истину, что мир скучен для скучных людей. Ехать в каноэ под дождем вдоль бесконечных берегов и любоваться бесконечными баржами все же лучше, чем, нарядившись в крахмальную рубашку, карабкаться по общественной лестнице… В худшем случае такая прогулка может служить обрамлением для «философствований».
Если верить Грэхему Вэлфуру и Розалине Мэссон, первая встреча Стивенсона с его будущей женой, Фэнни Осборн, произошла в Грезе, где закончилось его «путешествие внутрь страны». Другие добавляют к этому занимательные подробности, в частности, рассказывают, что, прибыв вечером в гостиницу Шевинона и увидев впервые через окно миссис Осборн, Луис тут же воскликнул: «Вот женщина, на которой я женюсь», или что-то в этом роде. «Тот не любил, кто сразу не влюбился»![73] Но принять такое важное решение в первую секунду, когда ты увидел человека, слишком уж «вдруг» даже для романтика. Однако позднее он сам подтвердил, что примерно в таком духе все и произошло. Воспоминания Ллойда Осборна, пасынка Стивенсона, бывшего тогда еще школьником, также подтверждают, казалось бы, то, что они познакомились в конце «путешествия внутрь страны», пока мы не наталкиваемся в них на фразу о «пыльном рюкзаке» Роберта Луиса. Если он только что закончил поездку но воде, каким образом его рюкзак мог быть пыльным? Согласно другим свидетельствам, Стивенсон и Фэнни впервые увиделись раньше в том же Грёзе, и сентябрьская встреча 1876 года не была для них неожиданной — они встретились как старые друзья. И все же еще один очевидец, член «колонии» в Грёзе Бирдж Харрисон,[74] принимает сторону Грэхема и Мэссон. Действительная дата не так уж важна, но противоречия свидетельских показаний относительно факта, на котором основано множество завлекательных историй, показывают, насколько трудно писать биографии. Я могу добавить, что Колвин в своих примечаниях к «Письмам», в общем, поддерживает версию о сентябрьской встрече, а ученый Эндрю Лэнг говорит, что пара познакомилась в Фонтенбло!
Если мнения столь резко расходятся, когда речь идет о таком пустяке, как дата первой встречи, нечего удивляться, если существует еще больше разногласий относительно самой Фэнни Осборн, ее роли в жизни Стивенсона и последствий ее влияния на него. Не перечисляя всех многочисленных устных и письменных свидетельств и мнений, достаточно сказать, что оценки Фэнни Осборн разнятся очень резко: если одни считают ее «Sine Qua Non»[75] (название одной из посвященных ей книг), без которого Стивенсон не мог обойтись, то другие позволяют себе намекать, будто она безжалостно командовала им, была причиной ссор с друзьями и родственниками, ничего не смысля в литературе, вмешивалась в творчество Луиса и заездила его до смерти работой.
Фэнни Осборн (Фрэнсис Матильда, урожденная Ван-де-Грифт) родилась в Америке в 1840 году, была матерью трех детей и жила отдельно от мужа. Когда Стивенсон встретил миссис Осборн в Грёзе, с ней были дочь Айсобелл (Белл) семнадцати лет и сын-школьник Ллойд Осборн, герой стивенсоновской саги; ее младший ребенок незадолго до того умер в Париже, где они жили в страшной нужде. В 1876 году Фэнни Осборн было тридцать шесть лет, Стивенсону — двадцать шесть. Любопытно, что все три женщины, в которых влюблялся во времена своей молодости Стивенсон, — мадам Гаршина, миссис Ситуэлл и миссис Осборн — были старше его годами, и все три были соломенные вдовы с детьми, при помощи которых Стивенсон завоевывал сердце матери. Нет никаких оснований полагать, будто такой подход являлся частью сознательной стратегии обольщения. К числу многих привлекательных черт Стивенсона относится его искренняя любовь к детям и удивительное умение быстро находить с ними общий язык. Тем обиднее, что своих детей у него так и не было. В «Детском цветнике стихов» перед нами с такой яркостью воскресают сцены, чувства и мечты его детства, Что они кажутся совершенно живыми. По какой-то непонятной причине одно из течений «современной критики» считает, что писатели, с радостью вспоминающие детство, неумны, хотя, почему так уже «умно» забывать ту пору жизни, когда человек отличается самой большой восприимчивостью к впечатлениям и богатством воображения, они не объясняют. Так или иначе Стивенсон обладал даром понимать детей, который сослужил ему хорошую службу и в литературе и в жизни.
Даже если Стивенсон не ухаживал за Фэнни Осборн во время первого пребывания в Грёзе, не приходится сомневаться в том, что он открыл ей свои чувства осенью, и они пришли к какой-то договоренности, хотя кое-кто считал, будто вначале ей больше нравился кузен Роберта Луиса Боб Стивенсон. В любом случае положение их было трудным. К тому времени Фэнни состояла в браке с Сэмом Осборном в течение девятнадцати лет, — она вышла замуж еще до гражданской войны в Америке, когда Луису было семь лет, — хотя неоднократно оставляла мужа, подозревая его в неверности. Однажды он так долго пропадал, что она решила, будто его нет в живых. Но он всякий раз вновь появлялся, и она вновь принимала его в семью. По-видимому, она и ее дети зависели материально от его денежной помощи, что объясняет страшную нужду, которую им приходилось терпеть в Париже, где, по воспоминаниям Ллойда, он вечно ходил голодным. Занятия матери и дочери живописью в студии Жюльена были, по-видимому, не более чем обычным предлогом пребывания в Париже без мужа, а все попытки Фэнни писать и печататься не увенчались успехом, если не считать одной публикации в журнале, и то лишь потому, что ее текст «пошел» с рисунками приятеля-художника. Имея на руках двух детей и почти ничего не зарабатывая, Фэнни, вероятно, жила в постоянной тревоге и, говоря вульгарным языком, была «не очень выгодным приобретением» для молодого человека из хорошей семьи, пытавшегося стать писателем.
Тем больше чести, что Стивенсон последовал велению сердца и не дал себя отговорить. Если на этой ранней стадии их знакомства Роберт Луис действительно предложил, чтобы Фэнни добивалась развода, а затем выходила за него замуж, а она приняла его слова за пустую болтовню, к которой так склонны молодые люди, когда они влюблены или думают, что влюблены, ее можно извинить. Есть свидетельства, что среди богемы, жившей в Грёзе, ходили преувеличенные слухи о богатстве, которое унаследует Роберт Луис, но такой честный человек, как он, безусловно, рассказал Фэнни Осборн, каково действительное положение вещей. Вероятно, часть таинственной тысячи фунтов (так и неизвестно кем подаренной ему — матерью или отцом), явившейся наградой за звание адвоката, ушла на Фэнни, так же как на Хенли и других друзей. Щедрости и великодушию Стивенсона соответствовал такт, с каким он давал — «одалживал» деньги. Само собой разумеется, что, пока у него еще оставалось что-то от этой быстро тающей тысячи фунтов, Стивенсон делал все от него зависящее, чтобы облегчить участь Фэнни и ее детей. Вместе с тем и Роберт Луис, и Фэнни не могли не признать, что при всем его таланте и потенциальных возможностях зарабатывать деньги литературным трудом в то время он был не в состоянии содержать жену и ее детей. Золотая колесница «окрыленной любовью мечты» (Т. Мур), казалось, заехала в тупик. Но, судя по всему, Стивенсон не желал допускать, чтобы такие пустяки мешали его ухаживаниям, и, когда они всей компанией вернулись осенью в Париж, друзья с сожалением увидели, что Стивенсон наполовину для них потерян, так как проводит почти все свободное время в обществе Осборнов.
Опубликованные письма Стивенсона за 1877 год, который он провел попеременно в Англии, Шотландии и Франции, немного говорят об их отношениях, хотя можно отметить, например, что в качестве обратного адреса в письме к матери, датированном январем, он дает Рю Руэ, 5, где в то время как раз жила Фэнни. Единственным намеком на Фэнни является «признание» в том, что он каждый день обедает в молочной столовой «с компанией американцев, ирландцев и иногда с английской дамой: пожилой, очень чопорной…». Возможно, миссис Стивенсон к этому времени уже достаточно изучила своего сына, чтобы ее могли обмануть эти слова «пожилая, очень чопорная», имевшие целью направить ее по ложному следу.
Во всяком случае, в данной главе его «книги судьбы» события разворачивались не так гладко и не так быстро, как может показаться на первый взгляд, и создатели мифа о «Стивенсоне-Галахаде[76]», видимо, не знали, что после смерти младшего ребенка Сэм Осборн приехал в Париж и был в Грёзе вместе с женой и остальными двумя детьми во время встречи Фэнни Осборн и Луиса Стивенсона. Несколько недель спустя Осборн вернулся в Америку. Так или иначе не приходится сомневаться в том, что такое неопределенное положение и такие, как казалось, неразрешимые трудности поглощали мысли и Фэнни и Луиса, особенно Луиса, те три с половиной года, что прошли с момента их первой встречи до женитьбы. К счастью для них обоих Фэнни была не только умной и волевой, но и «практичной» женщиной и понимала, что их совместный романтический «побег» начисто погубит литературную карьеру Луиса и, без сомнения, заставит мистера Стивенсона призвать на их головы все кары господни и захлопнуть перед носом Роберта Луиса дверь отчего дома.
Перед ними, следовательно, стояла задача сделать свой союз достаточно презентабельным, чтобы сохранить денежное содержание, получаемое от родителей, уважение общества и поддержку литературного Лондона. В богемном Париже не возникло бы серьезных возражений против того, чтобы замужняя женщина, мать двоих детей, жила с юношей на десять лет моложе ее, но в викторианской Англии, не говоря уж о Шотландии, это подверглось бы жестокому осуждению. Если бы Фэнни не была американской подданной и законы Калифорнии не предоставляли ей возможности развода без особых затруднений, затрат и скандала, положение их было бы столь же безнадежным, как положение бедной миссис Ситуэлл и Колвина, которым обоим было за шестьдесят — самый романтический возраст, не так ли? — когда они смогли наконец соединиться узами брака. Что делали бы Луис и Фэнни, будь она подданной английской короны? Или вздыхали бы врозь, или умирали бы с голоду вместе.
Освободившись от неусыпного домашнего надзора, Стивенсон, подобно многим другим писателям той эпохи, проводил в Англии и Франции не меньше времени, чем в Шотландии, — где именно, не так уж для нас и важно, — и, поглощенный одной и той же мыслью, стремился как можно чаще бывать в обществе Фэнни в Париже и в Грёpе. Трудно сказать наверняка, дошло ли их безрассудство до того, что они открыто жили вместе, но, как в январе 1877 года у них был общий адрес Рю Руэ, 5, так в сентябре того же года адрес обоих был Рю Равиньян, 5. Там Фэнни ухаживала за ним, когда он чуть не ослеп, оттуда она увезла его в Лондон, где стала встречаться с его друзьями — Хенли и Стивеном, а также с миссис Ситуэлл. Письмо Стивенсона к Хенли, написанное из Эдинбурга в начале 1878 года, не оставляв никаких сомнений в том, что к тому времени влюбленные были в самых близких отношениях и, по-видимому, не делали из этого особого секрета, во всяком случае, друзья знали об их связи. То, что слух о ней не распространился дальше, объясняется отчасти скромностью их друзей, отчасти страхом перед госпожой Молвой. Поскольку Сэм Осборн находился в далекой Америке, не было особой нужды в поспешном драматическом «бегстве» из-под супружеского крова.
Такая компромиссная ситуация устраивала их на какое-то время, во всяком случае, на тот период, пока не кончилась пресловутая тысяча фунтов. Но даже этой суммы (а в те времена ценность ее была в несколько раз больше, чем теперь) плюс родительское содержание плюс литературные заработки Луиса не могло хватить надолго, раз она находилась в руках такого нерасчетливого и щедрого человека, как Стивенсон, тем более что они с Симпсоном потратили много денег на покупку и оборудование барки, которую вынуждены были затем продать себе в убыток. Эта вечная нехватка денег, преследовавшая Стивенсона всю жизнь, — ему приходилось беспокоиться о деньгах вплоть до самой смерти, — даже в ранние годы вызывалась в равной мере как действительным безденежьем, так и расточительностью Роберта Луиса, а в данном случае все усложнялось целым клубком проблем, связанных г Фэнни. Мы не знаем и не можем знать, когда Фэнни решилась навсегда уйти от ветреного, хотя и обворожительного, Сэча к верному Луису. Скорее всего, следуя ее разумному совету, Луис не стал предъявлять отцу роковой ультиматум и угрожать побегом с Фэнни, а попросил его приехать в Париж и приоткрыл ему правду.
До какой степени Роберт Луис доверился мистеру Стивенсону, трудно сейчас сказать, да и самый факт доверительного разговора с отцом (помимо свидетельства Колвина) подтверждается одной лишь фразой Луиса о «шотландце-кальвинисте, который был в Париже при весьма странных обстоятельствах». Почему в Париже? Потому ли, что Луис предпочитал разговаривать с отцом вдали от Эдинбурга, в менее «критической» атмосфере, или потому, что хотел познакомить его с Фэнни? У нас нет никаких доказательств того, что мистер Стивенсон видел ее ранее августа 1879 года. Во всяком случае, если бы Стивенсон открыл отцу всю правду, голые факты, без «романтики» и перифраз, пришлось бы изложить так; «Я влюблен в Фэнни Осборн, замужнюю женщину, на десять лет старше меня, мать двоих детей, мы сожительствуем с ней. Мы надеемся, что муж даст Фэнни развод и я смогу на ней жениться, что, естественно, приведет к необходимости содержать жену и ее детей». При этом считалось как бы само собой разумеющимся, что отсутствующий Сэм проявит должное великодушие, а что касается содержания новой семьи, то мистер Томас Стивенсон! должен был бы сразу попять, что эта забота ляжет в основном на него. При свойственных ему общественных и религиозных предрассудках (правда, он признавал за жзнщинами в отличие' от мужчин право на развод) Томас Стивенсон, естественно, должен был увидеть создавшееся положение в самом непривлекательном свете: пли Луис «разбивал семейный союз двадцатилетней давности», пли Фэнни — авантюристка, стремившаяся избавиться ог неудачника мужа и воспользоваться благами, которые предоставят ей деньги добропорядочной и зажиточной семьи. В обоих случаях он был бы не прав и понадобилось бы все красноречие Роберта Луиса, чтобы доказать, ему, что положение совсем иное: два человека оказались в плену всесокрушающего чувства, и необходимо найти какой-то выход из создавшегося положения, не идущий вразрез с деспотическими законами общества. Будучи американкой, Фэнни сперва не представляла, какой невероятный ужас и порицание вызывало в ту пору слово «развод» на Британских островах, но, по-видимому, под конец она это поняла. В свидетельстве о браке с Луисом она назвалась не «разведенной», а «вдовой».
Так или иначе искренняя привязанность, существовавшая между отцом и сыном, несмотря на все их расхождения и даже ссоры, помогла им прийти к взаимопониманию, хотя вряд ли совесть позволила бы Томасу Стивенсону заранее санкционировать этот брак (другое дело как он отнесся к нему впоследствии, оказавшись перед совершившимся фактом). Беседы их в Париже, должно быть, обращались в основном к религии, что подтверждается письмом Луиса, написанным в начале 1878 года, и откуда? — из кафе на бульваре Сен-Мишель! Он начинает с обсуждения гипотезы о связи христианства и аскетизма, но неминуемо отклоняется от темы к обсуждению самого себя.
«Я чувствую, что с каждым днем религия приобретает для меня все больший интерес…» И дальше: «…я не могу переключить свои интересы, в том числе и религиозные, в какую-либо другую сферу…»
Он говорит о своих «жестоких страданиях», он чувствует, что становится «стариком… довольно раздражительным, замкнутым и неприветливым». «Я одинок, болен и нахожусь в унынии». И далее в том же духе, кончая припиской, обращенной к отцу: «…не жди от меня слишком много. Постарайся принять меня таким, какой я есть». Тон всего письма резко расходится с его философским девизом: «Мы должны быть счастливы как короли», но, как говорит сам Роберт Луис, он писал его, когда плохо себя чувствовал и был в плохом настроении. Письмо это стоит того, чтобы внимательно его прочитать, хотя бы потому, что, как мы видим из него, в двадцать семь лет Стивенсон все еще пытался, причем искренне, разобраться в своих религиозных взглядах. Вряд ли есть основания полагать, будто он затронул эту тему только для того, чтобы доставить удовольствие отцу, тем более что тот не удовлетворился бы ничем, кроме полного признания ортодоксальной церкви, его церкви.
По мере того как таяли последние фунты из пресловутой тысячи, Роберта Луиса, должно быть, все больше угнетала мысль о том, как ему выполнить материальные обязательства, которые он возьмет на себя, женившись на Фэнни. 1878 год был рекордным по количеству книг Стивенсона, выходивших «с продолжением», и естественно предположить, что это проистекло из его страстного желания добиться ради Фэнни литературного успеха. В какой-то мере так оно и было, но не нужно забывать, что Стивенсон теперь пожинал плоды нескольких лет интенсивного труда. У него были готовы очерки, которые входят сейчас в сборник «Virginibus Puerisque», а также самые ранние из не уничтоженных им рассказов, в том числе «Новые сказки Шехеразады», мысль о которых, как мы знаем, возникла сперва у Боба и которые горячо обсуждались Луисом, Бобом и Фэнни по мере того, как Луис их писал.
Существует довольно распространенное мнение, будто переход Роберта Луиса от очерков к повестям и рассказам произошел под влиянием Фэнни. Однако верно это лишь отчасти. Даже оставив в стороне таинственных и довольно беспокойных «человечков», которые разыгрывали перед ним целые истории, когда он спал, и ему оставалось, проснувшись, лишь записать их, нельзя забывать, что Стивенсон все время пробовал себя в беллетристике. Когда ему было всего шестнадцать, он начинал роман в стиле Вальтера Скотта. С тех ранних лет сохранился перечень рассказов, которые он намеревался написать; большая часть этих планов осталась, по-видимому, лишь на бумаге, но намерение-то существовало. «Ночлег Франсуа Вийона» и «Дверь сира Малетруа» еще «литературные» вещи, поскольку они вытекают из знакомства Стивенсона со средневековой французской литературой. «Вилли с мельницы» скорее притча-поучение, чем рассказ: в нем говорится о человеке, который из-за робости и эгоистичного малодушия отказывается от жизни, обрекает себя на растительное существование и умирает в одиночестве. Но такое настроение могло возникнуть у Луиса лишь случайно и было отнюдь не типично для него. И никто не станет утверждать, что действие «Вилли с мельницы» происходит в наши дни. «Новые сказки Шехеразады», как они ни фантастичны и в каком-то смысле нереальны, — большой шаг вперед по направлению к современности, а из предисловия, написанного впоследствии Фэнни к переизданию «Сказок», где она говорит, как они задумывались и создавались, возникает впечатление, что это происходило при ее поддержке и руководстве. Видимо, Фэнни была готова, подобно спартанке, стать совестью мужа, взвалив на себя ношу, которая в данном случае была еще тяжелее, так как речь шла о его литературной совести.
Другой вопрос, была ли она достаточно компетентна, чтобы судить, какие стороны таланта Стивенсона наиболее сильны. Мы можем лишь сказать, что Луис всегда посвящал Фэнни в свои замыслы и считался' с ее мнением, а мистер Томас Стивенсон так высоко ее ценил, что незадолго до смерти заставил Луиса пообещать ничего не печатать без ее санкции. Однако весьма вероятно, что и для мистера Стивенсона, и для Фэнни мерилом художественных достоинств книги служил ее непосредственный успех у читателей. Фэнни понимала, что очерки, литературные этюды и даже прелестные путевые заметки не принесут тех денег, которые им понадобятся, когда она выйдет за Луиса, особенно если мистер Томас Стивенсон перестанет выдавать сыну регулярное содержание. Людей, любящих произведения такого рода, было слишком мало, и путь к сердчу широкой публики был один — беллетристика. С тех пор вкусы переменились, и если раньше любили читать о фактах, представленных в виде вымысла, то теперь предпочитают вымыслы, представленные в виде фактов. Но в те дни широкий рынок принадлежал беллетристике, которая не маскировалась ни ¡подо что другое, поэтому с практической точки зрения Фэнни была абсолютно права, когда поощряла Луиса превратить фантастическую идею Боба о клубе самоубийц в занимательный рассказ и написать еще ряд других в том же духе. Название книги, равно как и образ принца, Флоризеля, в котором читатели и без помощи Фэнни, раскрывшей впоследствии, кто служил ему прототипом, узнали сильно приукрашенного принца Уэльского, должно было снискать «Новым сказкам Шехеразады» широкую популярность. Нельзя упрекать Фэнни, если она не понимала, что Конан-Дойл управился бы с этими «сказками» куда успешнее, ведь прошло много лет, прежде чем Конан-Дойл вообще начал писать. Как видите, и в этом жанре мы имеем полное право отдать приоритет Стивенсону. К сожалению, как мы уже знаем, «Новые сказки Шехеразады» появились сперва в «Лондоне», который совсем или почти совсем ничего не платил своим авторам а затем в течение долгого времени не публиковались вовсе, так как известный книгоиздатель Коган Поль считал, что дли «чересчур фантастичны и могут повредить репутации автора» — мнение, более фантастическое, чем сами сказки. Книга вышла наконец в августе 1882 года в издательской фирме Чатто и Уиндуса и, судя по тому, что уже в ноябре появился новый ее тираж, была встречена положительно. Фэнни саркастически кончает предисловие к этому изданию следующими словами: «Среди рассказов, стихотворений, очерков и романов, написанных моим мужем, пет ни одного, который не был бы точно так же осужден кем-либо из его друзей и литературных советчиков».
Не мешало бы поразмыслить об этом критикам наших дней!
В то время как задумывались «Новые сказки Шехеразады», произошло невероятное событие — Р. Л. С. временно занял должность личного секретаря и поразил друзей, появившись в новой, с иголочки, сюртучной паре. Правда, эту должность предложил ему старый друг профессор Дженкин, назначенный членом жюри на Парижской всемирной выставке 1878 года. Единственным найденным мной свидетельством того, как Стивенсон исполнял эти непривычные для него обязанности, служит довольно ироническое замечание одного из именитых людей Эдинбурга о том, что за время выставки он получил ряд писем от профессора Дженкина, но ни одно из них не было написано рукой секретаря.
В самом начале августа 1878 года Фэнни с детьми приехала в Лондон, чтобы затем отправиться в Штаты. Нам неизвестно в подробностях, к какому именно соглашению пришли влюбленные перед ее отъездом, но, по-видимому, в общих чертах план их состоял в том, что Фэнни добьется у Сэма развода, а затем, будучи юридически свободной, выйдет замуж за Луиса. Если мы попытаемся взглянуть на создавшуюся ситуацию глазами Фэнни, то увидим, что окончательное решение принадлежало ей и принять его оказалось не так-то легко. У нее на руках было двое детей, и, хотя в то время ни Сэм, ни Луис не могли обеспечить семью, Сэму она имела право предъявить это требование, а Луису — нет. Несомненно, он давал ей самые торжественные обещания, но ведь «мужчины — род неверный» (Шекспир). У нее не могло быть уверенности, что он в разлуке не охладеет, не встретит другую чаровницу (а их было предостаточно в жизни Роберта Луиса) и не покинут ее в тяжелую минуту. Разве ее дочь Белл и молодой ирландец О’Мира не были по уши влюблены друг в друга? Однако по той или иной причине он так и не сделал ей предложения. Почему Луис должен оказаться более порядочным? В конце концов, она тогда еще не знала его так хороню, как узнала впоследствии, и даже так, как знаем его мы. Ей было известно, что он подвержен смене настроений, за приступами восторженной экзальтации следовала депрессия, и, вполне возможно, Фэнни еще не поняла, какой он был кремень. Вероятно, целый год после отъезда она не могла прийти к определенному решению, и этими вполне естественными колебаниями и объясняется задержка с разводом. Известно нам одно — для Луиса Стивенсона их разлука была очень тяжела. Благодаря Ллойду Осборну мы можем кинуть беглый взгляд на его будущего отчима, когда он покидает Фэнни и детей на Лондонском вокзале и быстро уходит — высокий, худой, решительный, ни разу не оглянувшись назад. В начале сентября Роберт Луис находился в маленьком французском городке, вернее — селении, Ле-Монастье и трудился не покладая рук для того, чтобы быстрее закончить «Эдинбургские картинки» и «Новые сказки Шехеразады». Ле-Монастье находится в пятнадцати милях к югу от Ле-Пюи, и именно отсюда Стивенсон отправился в свое не очень долгое путешествие на ослице Модестине. Название книги «Странствия с ослом» оказалось малоудачным, так как один из критиков, писавший на нее рецензию, то ли случайно, то ли преднамеренно назвал ее «Странствия осла», а в Лондоне моей юности ее часто называли «Странствия с Сидни Колвином».
Даже вскользь просмотрев письма, посланные из этой деревушки, мы видим все того же обаятельного Луиса Стивенсона, который так легко сходится с людьми, особенно в дружественной и «демократической» Франции, и по-прежнему радуется жизни, хотя сердцем он с Фэнни, едущей в Калифорнию. Стивенсона приняли в компанию местных чиновников, титулы которых он, посмеиваясь, переводит на английский язык так: «директор дорог и мостов, регистратор справок, первый клерк акцизного управления и взиматель налогов». Несмотря на все перемены, происшедшие с тех пор, административная Франция изменилась настолько мало, что — сто против одного — в точности такие же и столь же любезные чиновники и теперь существуют в этой деревне, возможно, завтракают, обедают и привечают любого понравившегося им незнакомца за тем же столиком в том же ресторане, только меню там, к сожалению, стало иное. Стивенсон с полным основанием вспомнил Гаргантюа, описывая второй завтрак в Ле-Пюи, состоящий из огромного ломтя дыни, заливной ветчины, тарелки пескарей, восьми раков, ломтика филе, грудки и ножки куропатки с зеленым горошком, сыра монт-д’ор, персика, печенья и прочего. За это пиршество он заплатил три франка, то есть около шестидесяти центов!
Так сказать, официальной целью странствий на осле было знакомство с Севеннами, родиной и местом партизанских боев стойких гугенотов, которые противостояли Людовику XIV, отменившему Нантский эдикт и тем нарушившему королевское слово своего деда, и доставляли достаточно хлопот маршалу Франции и всей регулярной армии. Родство гугенотов с шотландскими ковенантерами сразу бросается в глаза, но была между ними и разница. Спору нет, и ковенантерам и камизарам[77] была присуща «безграничная вера в бога», но «шотландцев терзали мрачные мысли об аде», а протестантов Севенн вдохновляли «светлые видения». Они упорно сражались и убивали своих врагов, но делали это «с чистой совестью» и, когда слышали пение псалмов, ощущали «восторженный порыв» и «пылкое воодушевление». Как объяснить это различие, естественно интересовавшее Стивенсона, который все еще не мог без содрогания вспоминать рассказы Камми про ковенантеров? Сам Стивенсон считал, что причиной его был другой климат и другая природа, а, возможно, также другая раса и другая культура — с некоторых горных вершин в Севеннах видно Средиземное море, по которому плавал Улисс.
Конечно, Стивенсон предпринял это путешествие не без задней мысли. «Из него должна выйти еще одна книга», — писал Луис матери. Но, не считая того, что он оживил память о камизарах и для контраста посетил монастырь траппистов,[78] поездка, судя по всему, была неудачной. Он начал ее поздно осенью, путь его пролегал большей частью по унылым местам, останавливаться приходилось в полудиких деревеньках. Лупе не умел управляться с ослом и не знал, как приспособить поклажу так, чтобы не мучить несчастное животное, пока крестьяне не сжалились и не научили его. Он истратил «восемьдесят фунтов и две кружки пива» на спальный мешок, которым воспользовался всего несколько раз. Вновь мы становимся свидетелями того, как умелый очеркист, а главное — стилист создает прелестную книгу на основе пустячных встреч и не очень интересных событий. Прелесть ее — в мелких деталях, как, например, в рассказе о «батюшке Адаме», который продал ему ослицу и утверждал, будто так ее холил и нежил, что кормил белым хлебом в то время, как сам ел грубый черный хлеб. «Он славился в деревне тем, — добавляет Стивенсон, — что плохо обращался со своей ослицей; и все же, расставаясь с ней, он обронил настоящую слезу, оставившую на его щеке чистую дорожку».
Стивенсон утверждает, будто в «Странствиях с ослом» множество любовных «посланий», предназначенных далекой Фэнни. Я, вероятно, очень тупой человек и не вижу, чтобы их было так уж много. Говоря о том, что не может бить Модестину, Луис тут же добавляет: «Совесть не позволяет мне поднять руку на особу женского пола, тут я истинный англичанин». Так ли уж было необходимо успокаивать Фэнни на этот счет? И что нового о Луисе она узнала, прочитав о том, в какое он пришел замешательство, когда ему пришлось в захолустной гостинице делить номер с бондарем и его женой? Вечерней порой после целого дня пути под дождем мысли его «стали обращаться к ужину и горящему камельку», а побывав в мужском монастыре, он рассуждает о том, что «искусства и науки, и веселье в кругу мужчин… покидаются без сожаления ради чьих-то прекрасных глаз и ласкового голоса». Последняя фраза, конечно, предназначается определенному адресату, но, пока читатель дошел до нее, он прочитал уже полкнижки и вновь долго и напрасно будет искать «послание», хотя бы такое туманное, как фраза о том, что человек достиг блаженства, если нашел «ту», перед которой может не таясь открыть свое сердце. И это все. Только уже в самом конце книги Луис пишет, что услышал женское пение и ему захотелось отозваться.
«Что бы я мог сказать? Немного и вместе с тем все, чего просит сердце. Я сказал бы о том, как судьба дает, а потом отнимает, и позволяет любящим соединиться только затем, чтобы вновь раскидать их по дальним странам, о том, что любовь — это великий талисман, превращающий, землю в сад, и что «надежда, которая приходит ко всем», нетленна; она сильнее случайностей жизни, сильнее смерти и простирает трепещущие руки даже из могилы».
Приятный комплимент для любой женщины, и, когда Фэнни прочитала эти строки, она, несомненно, была довольна. Только автор попал к ней, вероятно, раньше, чем книга.
7
Фэнни уехала, и с каждым месяцем нетерпение и недовольство Стивенсона все росли. Главной целью его поездки в Севенны было, конечно, собрать материал для новой книги, но им руководило и еще одно желание — убить время; недаром после возвращения из Франции он беспрестанно курсирует между Лондоном и Шотландией. Разумеется, он работал, но часть его труда была потрачена почти впустую — когда они вместе с Хенли писали пьесу о Диконе Броуди. Все пьесы, созданные в соавторстве с Хенли, были в финансовом отношении химерой, и приходится лишь сожалеть, что Стивенсон расходовал на это время и силы, которые могли найти куда лучшее применение. Бесспорно, тогда, как и сейчас, пьесы были наиболее выгодным литературным жанром, если — и это «если» очень важно — ваши пьесы пользовались успехом, а для этого нужен был особый талант, которым не обладали ни Хенли, ни Стивенсон. Тут нельзя винить одного Хенли — в более поздние годы к драматургии Луиса не менее упорно толкала Фэнни. Это, пожалуй, показывает нам, что ее непогрешимые, как считалось, суждения были не так уж непогрешимы, и интересовалась она не столько славой, сколько деньгами.
Дикон Броуди, главный персонаж одноименной пьесы, оказавшейся несостоятельной и как произведение искусства, и как средство заработать деньги (сейчас ее просто невозможно читать), был реальной фигурой, еще в детстве поразившей воображение Роберта Луиса: днем — столяр-краснодеревщик, респектабельный житель Эдинбурга, ночью — вор-взломщик. Легенда о нем пришлась по сердцу «романтику» Стивенсону, мечтавшему о том, чтобы среди его предков был Роб-Рой Мак Грегор, и добившемуся самого большого успеха у читателей своей притчей о Джекиле и Хайде. Быть может, в личности самого Стивенсона таилось нечто двойственное? Это, конечно, объяснило бы интерес Роберта Луиса к подобной теме, не остывший до конца его дней, но такое предположение может слишком далеко нас завести. В двойной жизни Стивенсона, если вообще можно так ее назвать, больше всего было «игры». (Он мог, например, как это было в 1879 году, вслед за визитом в Бокс-Хилл к маститому Джорджу Мередиту, бродить по улицам Лондона в каких-то невообразимых лохмотьях, надеясь, что его примут за бродягу и арестуют. Почему он так к этому стремился, непонятно, ведь, когда его на самом деле арестовали во Франции за «бродяжничество», это вовсе ему не понравилось.) И каковы бы ни были любовные связи Стивенсона до того, как он встретил Фэнни — по крайней мере, о трех можно, по-видимому, говорить наверняка, — трудно поверить, будто после ее отъезда он «приударял» за двумя женщинами сразу (одну якобы звали Маргарет Стивенсон), которые, встретившись в Суонстоне, вцепились друг другу в волосы. Стивенсону, терзаемому беспокойством за Фэнни и их будущее, мало подходила роль донжуана-любителя. Возможно, я несправедлив, но не могу отделаться от чувства, что большинство приписываемых Луису Стивенсону похождений было в духе не столько графа Альмавивы, сколько Леона Вертеллини, героя «Провидения и гитары».[79] И все же Д. А. Стюарт намекает, будто слышал о Маргарет Стивенсон от Чарлза Бэкстера и Хенли, которые должны были знать эту богемную сторону жизни Стивенсона лучше, чем кто-либо другой. Если это так, перед нами не столь редкий случай, когда мужчина, серьезно влюбленный в одну женщину, флиртует в ее отсутствие с другими: ведь, в конце концов, разлука с Фэнни тянулась уже целый год. Если драка между женщинами действительно произошла, это объясняет, почему отец выставил Луиса за дверь, и он был вынужден поселиться у Хенли, а также то возмущение, которое вызвал у Хенли впоследствии гипсовый святой «Р. Л. С», сфабрикованный Бэлфуром и иже с ним.
В этой связи, пожалуй, стоит заметить, что очерк о Бернсе (возбудивший в Шотландии такую ярость и негодование среди поклонников этого первого из гипсовых святых, вылепленного для пантеона национальных героев Шотландии) был написан как раз летом 1879 года. В этом очерке Стивенсон пытался смело смотреть в лицо фактам, которые известны о Бернсе и его бесчисленных похождениях, а в письме к Госсу замечает, что в Бернсе есть «душок пошлого «коммивояжера» от любви, соблазнителя-профессионала». Но в то же время очерк начинается следующим любопытным замечанием:
«Чтобы достаточно компетентно писать о другом человеке, у нас должно быть что-то общее с тем, о ком мы пишем, и хоть в чем-то одинаковый жизненный опыт. Мы имеем право хвалить или порицать только, если его поступки созвучны тому лучшему или тому худшему, что есть в нас самих, но судьями мы можем быть лишь в силу некоего родства душ».
В чем же заключалось родство Стивенсона и Бернса? Понятно, оба были шотландцы, и оба были поэты, но этого еще мало. Пожалуй, можно также отнести к ним обоим следующее размышление Луиса: «На одного великого человека, которому школы и колледжи помогают раскрыть себя, приходится дюжина, которых они губят; сильному духу хватает скудной пищи».
О любовных похождениях Бернса Стивенсон говорит в очерке не столь откровенно, как в письме к Госсу. «Мужчина привносит в любовь много готовых чувств», — замечает он, и дальше: «Никто не мог превзойти Бернса в его способности к самообману» (в любовных делах). Самый жестокий удар он наносит ему следующей фразой: «С самодовольно-глупой ухмылкой он просит красоток Мочлина остерегаться его обольщений; и то же дешевое тщеславие проявляется еще более уродливо, когда он кичится скандалом, разразившимся после рождения первого из его незаконных детей».
Несмотря на приведенное выше начало очерка, кажется маловероятным, чтобы таким образом Стивенсон Признавался или каялся в своих собственных грехах. Если он хоть в малейшей степени отождествлял себя здесь с Бернсом, он сильно переменился с тех пор, как написал в 1876 году прелестный маленький очерк «О любви», где любовь определяется так: «Единственная авантюра, в которую мы пускаемся без расчета, единственное явление, которое мы склонны полагать сверхъестественным». Рассуждения о браке, встречающиеся в более ранних очерках, включенных в тот же сборник «Virginibus Рuerisque», более сентенциозны и претендуют на житейскую мудрость. «Жениться, — говорит он в чересчур часто приводимом афоризме, — значит завести у себя в доме всевидящее око». Несомненно, он имел в виду себя, когда писал:
«Для того, кто женится, наступают другие времена: нет больше уединенных тропинок и лужаек, где вы можете побродить, и никто вам этого не поставит в вину; теперь перед вами длинная, прямая, пыльная дорога до самой могилы. Праздность, которая простительна и даже похвальна для холостяка, приобретает совсем иной вид, когда вы должны содержать жену. Представьте, что после женитьбы вы нечаянно оступились на своем пути».
Что ж, мы вполне можем представить, что он «оступился», и не раз, когда еще только собирался жениться, однако ничего не знаем наверняка. К сожалению, мы точно так же теряемся в догадках, когда пытаемся домыслить разрозненные факты, относящиеся к следующей, наиболее драматичной главе его «книги судьбы». Известно нам лишь одно: в начале августа 1879 года Луис получил от Фэнни телеграмму и решил немедленно ехать в Калифорнию. Если бы знать, что говорилось в телеграмме! Но мы этого не знаем и поэтому ничего определенного не можем сказать.
В истории разлуки Луиса и Фэнни есть одно обстоятельство, о котором стоит упомянуть, а именно — Луис признается одному из друзей, что не пишет Фэнни; она, мол, знает о его чувствах, и ничего нового он ей не скажет. Это звучит скорее неудачной отговоркой, чем объяснением. Влюбленным, живущим в разлуке, как ни уверены они в чувствах друг друга, никогда не надоедает слышать заверения во взаимной любви. К тому же кажется невероятным, чтобы такой искусный рассказчик, как Луис, не захотел сообщить Фэнни новости о своей жизни и услышать новости от нее. Слова, сказанные другу, должно быть, касались какой-то временной фазы их отношений, ведь если бы они не переписывались, как бы Луис узнал о ее, как казалось ему, охлаждении. Возможно, он просто не хотел давать Сэму Осборну письменных улик, которые могли быть использованы против него при бракоразводном процессе.
Так или иначе, но телеграмму-то он получил и решение ехать в Америку принял. Открыл ли Луис свои планы отцу? Возможно, да, а возможно, и нет, из чего следует заключить, что, несмотря на эксцентричные взгляды этого патриарха насчет развода, в то время он не одобрял брак сына с Фэнни Осборн. Эдмунд Госс, проведший с Луисом почти весь день перед его отплытием, говорит, что «и родители Луиса, и ближайшие друзья равно считали поездку ненужной и нецелесообразной…», что отец и мать «надеялись помешать Луису, лишив его материальной поддержки», а «мы (то есть он сам и его жена. — Р. О.) до последней минуты пытались отговорить его от этой, как нам казалось, безумной затеи». Госс замечает, что к концу вечера оба, и он и Стивенсон, были «в довольно истерическом состоянии». Эта постоянно угрожавшая Стивенсону истерия, очевидно, была результатом неправильного воспитания в детстве, а уж затем — неустойчивого темперамента и плохого здоровья. Фэнни как-то раз пришлось быть свидетельницей истерического припадка, когда они вдвоем ехали в кэбе, и удовольствия от этого она не получила.
Временное гашение материальной поддержки объясняет, казалось бы, бесцельную поездку в Лондон, ведь Роберт Луис отправился туда 29 июля, а 7 августа того же 1879 года отплыл в Нью-Йорк. По-видимому, Стивенсон поехал в Лондон не просто попрощаться с Госсами и прочими друзьями, но и добыть деньги для своего отчаянного путешествия. Хотя Стивенсон давно понимал, что ему необходимо скопить хоть немного денег, если он намерен жениться на Фэнни, весь этот год он по-прежнему вел беспечный и расточительный образ жизни. Из Ле-Монастье он послал матери письмо с просьбой прислать ему пятьдесят фунтов (содержание его было повышено до ста фунтов я год, но в результате очередной ссоры с отцом не выплачивалось уже полгода) и тут же истратил чуть не всю эту сумму на ослицу, спальный мешок и тому подобное. В числе всего прочего, на что он из-за своей нерасчетливости зря выбросил деньги, были холодная телячья нога, большая белая булка, бидон для молока и мутовка для сбивания яиц. Весной 1879 года оп пишет Госсу, что «острижен, как овца, и жалобно блеет; бедный, одинокий, сирый и убогий литератор». И тут же в мае, самое позднее — в июне тратит целых двадцать фунтов на покупку подарочных экземпляров своего «Осла». Фантастическая жертва, принесенная на алтарь литературной стратегии! Немного позднее в письме отцу из Франции он благодарит его за деньги, а в июле приезжает в Лондон с четырьмя шиллингами в кармане и, между прочим, пишет матери, что «если ему не пришлют хоть немного денег, он, чего доброго, и с голоду помрет». Так что вряд ли Луис сумел много скопить за год, прошедший с отъезда Фэнни до ее телеграммы, когда наступил тот самый критический момент, которого он так давно ждал и к которому так плохо подготовился. Кажется просто чудом то, что ему вообще удалось уехать, но, говоря о тяжких месяцах, последовавших за отъездом (большая часть испытаний, преподнесенных ему судьбой, была отнюдь не романтична), не следует забывать о кремне в характере Стивенсона. И хотя Хенли не согласился бы со мной, я уверен, что Стивенсона поддерживали те догматы веры, пусть и не ортодоксальные, которые он выразил в очерке «О мирской морали», написанном в марте 1879 года. Там мы находим объяснение его беспорядочных любовных связей, которые так шокировали его сограждан и возмущали критиков мифа о гипсовом святом «Р. Л. С», а также намек на то душевное состояние, в котором он был, когда отправился к Фэнни.
«И вот, лишая его покоя, человека властно терзает физическое желание. Избавиться от него нельзя: врачи, не я, скажут вам, что оно так же свойственно организму, как потребность в пище или сне. В удовлетворении этого желания, когда оно впервые возникнет, душа почти не принимает участия, напротив, она часто сожалеет о содеянном нами и не одобряет его. Но если мужчина полюбит женщину всем своим существом, случайное влечение заменится гармонией всех духовных и физических сил, и все прочее будет вытеснено, поглощено и растворено в его неуклонном стремлении к единой цели. Влечение сохранится, возможно, станет даже сильнее, но будет обуздано и изменится по глубине и характеру. Жизнь перестанет быть цепью измен и раскаяний, ибо теперь мужчина представляет собой гармоничное целое, сознание его движется без помех, как река; при всех крайностях, при всех взлетах и падениях страсти он остается самим собой и может себя не стыдиться».
Нетрудно догадаться, почему малый синедрион, решавший, что Луису следует печатать и что нет, категорически запретил публикацию этого очерка и позволил напечатать его лишь спустя два года после его смерти в сборнике «Ювенилии» («Юношеское»), хотя Стивенсон написал его в двадцать восемь лет. Слова о том, что человек остается самим собой и может себя не стыдиться, в какой-то степени оправдывают суждение Хенли о Стивенсоне, вызвавшее такое негодование всех тех, кто не желает да по самой своей природе и не способен видеть правды.
«В то же время, если он чего-нибудь хотел, — пишет Хенли, — он стремился к цели, совершенно не считаясь с последствиями. Да и к чему? За них всегда был готов ответить «Краткий катехизис». Как бы он ни поступил, хорошо или дурно, он выходил из положения, не теряя присутствия духа и оптимизма. Он терпеть не мог мистера Гладстона, тут я отдаю ему справедливость, но его способность к самообману была, пожалуй, не меньшей, чем у этого государственного мужа».
Между прочим, Гладстон родился в Англии, но родители его были выходцами из Шотландии.
Поездка к Фэнни в Калифорнию, которой предшествовало все вышесказанное, была переломным моментом в жизни Стивенсона. Он прекрасно это понимал и, как всегда, когда дело касалось его самого и его судьбы, добросовестно запечатлел все, кроме самых интимных подробностей, случившееся с ним в течение года с того момента, как он отплыл один из Гринока, и до того, как 7 августа 1880 года вернулся из Нью-Йорка вместе с Фэнни и Ллойдом. Год этот был для него суровым испытанием. Стивенсон выдержал его, в общем, с честью, хотя, если бы не денежная помощь из дома, ему, возможно, пришлось бы отступить. Луис сам весело, но, пожалуй, немного цинично говорил о себе, что он, как кошка, всегда падает на все четыре ноги… правда, две из них — отцовские. Однако неудача его была бы вызвана не недостатком мужества или неумением трудиться, а просто тем, что сочетание физической усталости, умственного перенапряжения, лишений и тревог оказалось бы слишком большой нагрузкой для его здоровья. У нас теперь не вызывает сомнений, что активный туберкулезный процесс в легких, сопровождавшийся кровохарканьем, явился результатом того крайне тяжкого положения, в которое его поставили. Возникает, естественно, вопрос: о чем думали родители и друзья, на целых девять месяцев оставив без денежной помощи такого болезненного, хотя и мужественного, человека? Понятно, никто из них не хотел, чтобы он женился на Фэнни, но, если родители воображали, будто, лишив его материальной поддержки, смогут помешать этому браку, они недооценивали искренность чувств Луиса и силу его характера.
Говорить, что Луис Стивенсон, этот «эмигрант-любитель», пересек Атлантический океан в трюме, будет не совсем точно. Приплатив к шести гинеям — цена билета третьего класса — еще две гинеи, он получил в свое распоряжение каюту второго класса. Хотя от трюма ее отделяла всего лишь тонкая переборка, в ней был стол, за которым он мог писать, и кормили его все же немного лучше, а в Нью-Йорке он был освобожден от карантина, обязательного для эмигрантов. Никто не может сказать, что это были легкие условия для работы. Во время переезда по океану он заканчивал очерк «История одной лжи» и, несомненно, делал многочисленные заметки для «Эмигранта-любителя». Он не прекращал работы и во время утомительного, со множеством остановок двухнедельного пути поездом. Я крепкий мужчина, чего никак нельзя сказать о Стивенсоне, но для меня трех суток в американском поезде без спального вагона более чем достаточно. А он выдержал в четыре раза больше, да еще после всех неудобств и неприятностей океанского плавания.
«Эмигрант-любитель», которого, по словам Грэхема Бэлфура, «друзья Стивенсона критиковали чрезвычайно сурово», был откуплен у издателя отцом Луиса и опубликован только после смерти автора. Почему? Конечно, это было резонно, с точки зрения юриста Чарлза Бэкстера, так как даже спустя много лет и пароходная компания, и несколько человек из команды, а еще больше — из пассажиров третьего класса могли возбудить против Луиса дело за диффамацию. Но истинная причина крылась в ином — автор откровенно рассказывает, с какими бедными, чуть не нищими людьми он общался, и перемежает рассказ о реальных событиях размышлениями, слишком откровенными, чтобы они могли прийтись по вкусу читающей публике. В интересах «романтического» Стивенсона изъятие книги было вполне оправданно, но, если друзья критиковали ее за отсутствие литературных достоинств, они ошибались куда больше, чем следует из саркастического замечания Фэнни об их суждениях.
Каковы бы ни были ее недостатки — а какая книга, особенно хорошая, свободна от них? — «Эмигрант-любитель» был самым зрелым произведением из написанных Стивенсоном к тому времени. Называть его репортажем — значит недооценивать значение книг, она куда глубже. Действие развертывается так живо, что читатель невольно делается соучастником переживаний Стивенсона. В «Эмигранте-любителе» гораздо ярче отображаются социальное неравенство и жестокость во взаимоотношениях людей разных классов, чем в воспоминаниях Роберта Луиса о «howffs» Эдинбурга, где он играл в «бархатную куртку», иди о получасе, проведенном во французской тюрьме. Бессердечие команды по отношению к трюмным пассажирам, которым швыряли в лицо их пищу (в лучшем случае — объедки со стола пассажиров первого класса), с другой стороны — меркантилизм эмигрантов, убежденных в том, что единственная сила на земле — деньги, и ряд других наблюдений, лишавших эмиграцию романтического ореола в глазах Стивенсона и честно изложенных им на бумаге, вряд ли устраивали плутократов той эпохи, однако теперь представляют для нас немалый интерес. Книга является подлинным куском той «Истории английского народа», которую английские историки еще не написали и вряд ли напишут.
Однако «Эмиграпта-любителя» нельзя причислить к «социальному реализму», так как автор не имел определенных политических взглядов. Будучи консерватором, он любит человека, но не доверяет человечеству. Сам по себе ни один персонаж не вызывает у нас неприязни, и Стивенсон не был бы Стивенсоном, если бы чуть не с первых дней не выискал среди обитателей трюма милого ребенка — «некрасивого, веселого бесштанного малыша лет трех с белыми, как корпия, растрепанными волосами и перепачканным патокой и салом лицом», во всех движениях которого сквозили такие «грация и веселость», что «его можно было назвать прекрасным». В противовес этому он пишет, как его поразила привередливость некоторых ремесленников, отказывавшихся («этим даже свиней не кормят») от супа, каши и хлеба, которые сам он находил если не вкусными, то, во всяком случае, сытными. Они были слишком скованны, чтобы веселиться, и все до единого ненавидели войну, приписывая «свои неудачи а часто и свое пристрастие к виски военным кампаниям в Зулуленде и Афганистане». Критики воспрянули бы духом, прочитав следующее рассуждение: «Ничто так не украшает человека, как способность искренне восхищаться; наравне с любовью это свойство никогда не вызывает у нас презрения, даже если оно обращено на неподходящий объект». (В этом больше благожелательности, чем правды.) Им вряд ли понравился бы краткий, но безжалостный набросок человека, который ни разу не сказал ни одного «правдивого, доброго или интересного слова», но они, пожалуй, приняли бы русского, чья песня была «глухой, как коровье мычание, и дикой, как Белое море».
В довершение всего Стивенсон рисует портрет Маккея — тип, который в те времена был далек от процветания, а сейчас правит чуть не всем миром, толкая его к гибели.
«Его глаза были запечатаны корыстолюбием. Он ничего не видел, кроме денег и паровых машин. Он не понимал, что значит слово «счастье». Он забыл простые чувства, испытываемые нами в детстве, а возможно, никогда не вкушал восторгов юности. Он верил в производство, эту фикцию, столь полезную для экономики, словно она реальна, как смех, например; производство при воздержании от спиртных напитков было его богом и поводырем… Если ему казалось, будто что-то, неважно что, может помешать беспрерывному неистовому производству зерна и паровых машин, он негодовал, словно видел в этом заговор против народа… Одному нельзя научиться в Шотландии — быть счастливым. А ведь в этом вся культура и, пожалуй, две трети морали. Не случилось ли так, что, разлучив человека с природой, подавив в нем ряд инстинктов и наложив печать неодобрения на целый ряд его интересов и целые области его деятельности, пуританизм привел нас прямым путем к стяжательству?»
Обратившись от Маккея к остальным спутникам по плаванию, Стивенсон отзывается с похвалой о лучших из них за то, что они «не грубы, не суетливы, не любят спорить», «всегда готовы помочь, деликатны терпеливы и спокойны»; он даже считает, что их «деликатность лежит ближе к истокам истинного благородства, чем вежливость в более рафинированных и претенциозных кругах». И все же он вынужден сознаться, что:
«Все они, до единого, интересовались лишь отдельными фактами и стремились к сведениям ради самих сведений, — правда, люди всех классов проявляют подобный аппетит, когда ежедневно поглощают в огромном количестве всевозможную газетную болтовню… Они не видели связей между явлениями, но хватались за так называемую причину и считали вопрос решенным. Например, источником всех зол в Англии, по их мнению, было правительство, а следовательно, лекарством от них должен быть правительственный переворот… Они и слышать не хотят о том, что им самим надо исправиться, но желают, чтобы весь мир изменился в одно мгновение, и они смогли бы, оставаясь по-прежнему ленивыми, расточительными и распущенными, пользоваться жизненными благами и уважением, которые должны служить наградой за противоположные качества…»
Это лишь немногие примеры наблюдений, запечатленных в «Эмигранте-любителе». Некоторые из них, без сомнения, менее разительны сейчас, чем в то время, когда Стивенсон их делал, другие наводят такую же грусть, как пророчества Кассандры, когда наступает наконец время их свершения.
Тому, кто интересуется, как развивались мысль, мастерство и характер Стивенсона, книгу эту стоит внимательно прочитать от начала до конца. Человека, видевшего все то, о чем говорится в «Эмигранте-любителе», и сумевшего так рассказать об этом, нельзя обвинить в поверхностном знании жизни, как и в том, что он только и способен писать детские книжки или, пусть даже прекрасные по стилю, очерки и путевые заметки. Конечно, могут сказать, что его друзья из третьего класса знали, что он джентльмен, и намеренно или ненамеренно «выставлялись» перед ним. Однако Стивенсон решительно отрицает это. Ни пассажиры, ни команда, ни офицеры не отличались проницательностью лондонской или эдинбургской полиции и скорей напоминали полицейского комиссара из Шийона и французских хозяек гостиниц, принимавших его и сэра Уолтера за бродячих торговцев. Матросы называли его «приятель», офицеры — «милейший», а пассажиры-эмигранты считали его кем угодно — от каменотеса до инженера-практика. Так что познания, приобретенные им на корабле, не были искажены ложными отношениями, которые неизбежны при контакте различных классов. И вот именно за те черты, которые являются достоинствами этой книги, так называемые друзья невзлюбили ее и помешали Стивенсону ее напечатать. Чем, кроме снобизма, можно это объяснить? Быть принятым за бродячего торговца в глухой французской деревушке не страшно, это сочли забавной шуткой, к тому же Луис был в компании баронета, но благовоспитанная публика 80-х годов прошлого века, возможно, решила бы, что в «мистере Стивенсоне есть что-то не совсем симпатичное», раз на него глядят как на равного всякие, по его же словам, лентяи, пьяницы и бездельники. Вряд ли в ее глазах это делало ему честь. То, что он прилежно писал каждый день в каюте, выполняя дневной урок, его попутчики, как истые бритты, не ставили ни во что, считая это чепухой, для подобных людей нет смешнее занятия, чем «царапать пером». Добросердечный казначей корабля даже предложил Стивенсону переписать список пассажиров, сказав, что «ему за это заплатят».
Одно дело читать обо всем этом в книге, другое — испытывать на самом деле, и мы вполне можем попять, что первым желанием Стивенсона в Нью-Йорке после того, как он нашел номер в дешевой гостинице, было как следует пообедать, чтобы вознаградить себя за скудный корабельный стол. Ему бы следовало отдохнуть хоть неделю, прежде чем ехать дальше в Калифорнию. К несчастью, у него уже был заказан билет на поезд, отправлявшийся в понедельник вечером (а прибыл он в Нью-Йорк в воскресенье днем), и, к еще большему несчастью, он провел весь понедельник на улице под проливным дождем, так как ему нужно было побывать в самых разных местах, начиная с банков и кончая книгопродавцами. Он так промок, что оставил в номере брюки, носки и туфли, поскольку их невозможно было положить в чемодан. Мы вновь сталкиваемся с непрактичностью Стивенсона, — зная, как у него мало денег, и не представляя, когда она еще их раздобудет, Роберт Луис обедает в дорогом французском ресторане и выбрасывает сырую одежду (в точности, как в Севеннах, где он выкинул баранью ногу и целый хлеб). Настоящая богема не может позволить себе такую роскошь… В довершение всего ему пришлось проделать утомительную, хотя и недолгую, поездку, опять-таки под дождем, в Джерси-сити, откуда отходил поезд, так что, когда он сел в вагон, он опять был весь мокрый. И к тому же он узнал, что у Фэнни воспаление мозга.
Как ни странно, «Через прерии» — менее интересная книга, чем «Эмнгрант-любитель». Произошло это, конечно, вовсе не потому, что Стивенсон, уподобившись среднему англичанину, смотрел на Америку сверху вниз. Напротив, он сам говорил, что «Америка была для меня своего рода обетованной землей», но представление его о ней скорее напоминало мираж, а не реальную картину, поскольку составлялось оно на основании книг об Америке, прочитанных в детстве, и самой американской литературы. «Листья травы» Уитмена и «Уолден» Торо — великолепные книги, типично американские по своему духу; но разве такие типично английские книги, как «Записки Пикквикского клуба» Диккенса и стихотворения Теннисона, могли служить надежными путеводителями по Англии 1879 года? В рассказе об Америке у Стивенсона звучат нотки разочарования; не то чтобы он ее недооценил, но она «не выполнила» того, что обещала. Так образованный американец, высадившись в том же 1879 году в Ливерпуле, мог бы огорчиться, не встретив на улицах добродушных джентльменов, вроде мистера Пиквика, забавных малых вроде Сэма или благородных витий вроде тогдашнего поэта-лауреата Теннисона. К тому же Стивенсон пустился в путь усталым, в «страшно подавленном настроении», а бесконечное путешествие вымотало его еще больше. Правда, ему удалось избежать самого худшего — необходимости спать сидя, так как он взял напрокат несколько досок — их перекидывали с сиденья на сиденье — и подушку, но он не мог раздеться, ему редко удавалось умыться, и в составе не было вагона-ресторана.
«Я могу без преувеличения сказать, что никогда в жизни не чувствовал себя таким зверски усталым, как в ту ночь в Чикаго». А от Чикаго до Сан-Франциско еще очень долгий путь, особенно в поезде для эмигрантов. К тому времени, когда поезд добрался до Лароми (штат Вайоминг), Стивенсон был по-настоящему болен и более чем ошеломлен бессердечием, иначе не назовешь, американских переселенцев — в поезде почти не было эмигрантов из Европы. Его лицо, перекошенное болью, вызывало у них дружный смех, а когда позднее у другого пассажира начался эпилептический припадок, одна из женщин не нашла ничего лучшего, чем сказать; «Надеюсь, он не умрет! Мало приятного ехать в одном вагоне с покойником!» Стивенсону не было «предначертано» досадить этой леди и превратиться в столь нежелательного для нее соседа, но он был близок к этому. В письме, посланном с дороги Хенли, он говорит:
«Каково болеть в эмигрантском поезде, может рассказать только тот, кто это и пытал. Я проспал почти все утро. За целый день сегодня я ничего не съел, лишь выпил две чашки чаю; за каждую из них, назвав первую «завтрак», а вторую «обед», с меня потребовали по пятьдесят центов. Моя болезнь вызывает веселье у многих моих попутчиков, и я кисло улыбаюсь их шуткам».
Несмотря на то, что содержание телеграммы от Фэнни никогда не станет известным, можно предположить, что Стивенсон еще в Англии каким-то образом узнал о ее болезни, и это было одной, если не самой главной, из причин его отчаянной «эмиграции». В кротком письме Бэкстеру, написанном накануне отъезда, он говорит, что Фэнни, «по-видимому, очень больна», и загадочно добавляет: «Я должен хоть бы попытаться заставить ее сделать одно из двух». Но когда поезд наконец прибыл в Сан-Франциско, очень болен был сам Луис. Фэнни к тому времени настолько поправилась, что смогла переехать в Монтеррей, к югу от Сан-Франциско. Туда-то вслед за ней отправился и Стивенсон. Неожиданный приезд больного, измученного дорогой, полунищего Луиса, который еще раз умудрился сбежать от отца, поставил Фэнни в весьма затруднительное положение.
Что она намеревалась предпринять? Одна серьезная задача, стоявшая раньше перед ней была решена, хотя, возможно, и не так, как бы ей хотелось. Белл подала матери пример бескорыстной любви и против ее желания вышла замуж за не очень удачливого художника Джо Стронга. Некоторые из ранних биографов Стивенсона давали понять, будто Белл вышла замуж всего за несколько недель до второго брака миссис Осборн, вызывая тем самым подозрение, что дочь принесла себя в жертву матери. Я с облегчением узнал, что это был брак по любви.
Хотя Белл таким образом была сбыта с рук, проблемы, мучившие Фэнни, не сделались намного легче. Она жила на деньги Сэма Осборна, часто встречалась с ним и без конца обсуждала их положение. Если бы Луис приехал бодрым и готовым действовать хотя бы настолько, насколько это было возможно для такого беспомощного в практических делах человека, привез бы деньги в кармане, согласие отца на их брак и на увеличение годового содержания, она бы не задумываясь решилась на развод и новое замужество. Говорят, друзья предлагали ему деньги перед его отъездом из Англии; если так, с его стороны было крайне глупо не взять их. Случайные литературные заработки Стивенсона никак не могли служить гарантией обеспеченного существования, а у Сэма была работа, и он по-прежнему давал Фэнни деньги. О чем она говорила с Луисом, когда он приехал в Монтеррей, навсегда останется между ними, но вряд ли Фэнни очень его обнадежила. В другом письме Бэкстеру (не опубликованном Колвином), которое было послано через несколько дней после приезда Луиса в Монтеррей, он сообщает, что собирается попутешествовать, что у него нет никаких новостей и что у него «чесотка и разбито сердце». Мало похоже на исполнение «окрыленной любовью мечты!». В довершение ко всему во время путешествия Луис свалился от слабости или от болезни и был подобран и выхожен «старым охотником на медведей», «пилигримом», который странствовал вместе с Фримонтом,[80] а теперь занимался таким прозаическим делом, как разведение ангорских коз на ранчо в восемнадцати милях от Монтеррея… На этот раз, как видим, путешествие Стивенсона не затянулось.
«Я чуть не умер. Три дня душа моя брыкалась, не желая расставаться с телом… Четыре дня я почти не спал, не ел и не думал. Два дня лежал под деревом в каком-то оцепенении и поднимался лишь затем, чтобы напоить лошадь или разжечь костер и сварить себе кофе, ночью же не смыкал глаз и слушал, как звенят колокольчики на шеях у коз и поют древесные лягушки; каждый новый звук доводил меня до безумия. А затем появился охотник на медведей, заявил, что я «вправду плох», и отвез меня к себе на ранчо».
Казалось бы, полное поражение, и единственный шанс остаться в живых — написать отцу покаянное письмо с просьбой вновь выплачивать содержание и прислать обратный билет домой в обмен на обещание отказаться от Фэнни. Вероятно, мистер Томас Стивенсон был бы рад получить такое письмо — ведь это была бы его первая настоящая победа над сыном и его проклятым упрямством с тех самых пор, как мальчик вырос. Увы, он не доставил отцу этого мрачного удовольствия, и, хотя единственной удачей Роберта Луиса было то, что он все-таки выжил, довольно скоро положение полностью изменилось, во всяком случае, постольку, поскольку это касалось Фэнни. Как он этого достиг — тайна, которая вечно будет терзать наше любопытство. Спору нет, souvent femme varie,[81] и опять же нет спору, всякой женщине лестно, если мужчина из-за нее чуть не умер, но, с другой стороны, Фэнни было не двадцать, а почти сорок лет, и то, что Луис из-за любви к ней чуть не отправился на тот свет (если даже это и так), ничего не меняло. Он умудрился каким-то образом добраться до Монтеррея, где поселился в меблированных комнатах вместе с доктором-французом, и ел — один раз в день — во французском ресторане… «Два остальных раза я питаюсь за чужой счет» (по-видимому, за счет Фэнни). В письме Бэкстеру, написанном в это время, он заявляет, пожалуй, дав слишком большую волю фантазии, что Фэнни поправляется благодаря ему (Луису), что на январь 1880 года назначен «частный развод» и они с Фэнни поженятся, как только позволят приличия. Луис не объясняет, что такое «частный развод» и чем он отличается от «публичного развода», но, как показало дальнейшее, он вполне отвечал их цели.
Стивенсон прожил в Монтеррее три месяца без Фэнни, уехавшей, чтобы подготовить бракоразводный процесс. Встретиться они должны были в Сан-Франциско. Сэм Осборн не стал им мешать и не только согласился дать Фэнни развод, но обещал содержать ее и Ллойда до тех пор, пока она вновь не выйдет замуж.
Тем временем больной Стивенсон сражался в Монтеррее против нищеты, не щадя сил и здоровья, чтобы заработать деньги («Погоня за монетой сейчас мой главный девиз…»). Он кончил там «Дом на дюнах» и «Эмигранта-любителя» и задумал ряд новых произведений, большую часть которых, правда, как всегда, так и не написал. В письме, относящемся, по-видимому, к октябрю 1879 года, он говорит Хенли о своей мечте увидеть его вдруг рядом с собой в Монтеррее и в связи с этим дает краткий набросок своей тамошней жизни:
«Ты попадешь в салун Санчеса, куда все мы заходим выпить; познакомишься с Бронсоном, редактором местной газеты («Я не понимаю, что такое словесная музыка, — скажет он, — я — механик», но он славный парень), с Адольфо Санчесом, который просто прелесть. Я тем временем схожу на почту за письмами, оттуда мы двинемся вместе по Альварадо-стрит, то утопая в песке, то радостно топая по деревянным тротуарам, и я зайду к Хэдзелю за газетой. Наконец, мы окажемся у Симоно в маленькой задней комнатке с побеленными стенами, за столом, покрытым грязной скатертью, в обществе булочника Франсуа и, конечно, самого Симоно. Возможно, придут также рыбак-итальянец или Огюстен Дютра. Симоно, Франсуа и я бываем там обязательно. Остальные так — случайные люди. Затем — домой, в мои большие пустые комнаты с пятью окнами, выходящими на балкон. Я сплю на полу, в спальном мешке, ты устроишься на кровати. Утром, выпив кофе с коротышкой доктором и его крошкой женой, мы наймем экипаж и проведем чудесный день за городом».
Между прочим, эти «случайные люди» по секрету собирали каждую неделю по два доллара, которые Бронсон выплачивал Луису в виде жалованья как внештатному корреспонденту — дань обаянию Стивенсона и свидетельство доброты простых американцев.
Но все прелестные картинки, которые рисовал Стивенсон, описывая жизнь в Монтеррее, плюс его намек на то, что вскоре ему придется «нести еще более тяжелое бремя», не находили сочувствия и отклика в сердце Хенли, любившего Луиса эгоистической и пристрастной любовью. Его чувство было вполне искренним, но столь же искренними были эгоизм и пристрастное отношение. Хенли хотел, чтобы Луис находился рядом и писал вместе с ним их несуразные пьесы: будучи горячим сторонником имперской политики, он ненавидел Америку и, вероятно, даже на этом раннем этапе терпеть не мог Фэнни. Поэтому, когда Луис стал посылать в Англию свои новые вещи, сперва из Монтеррея, затем, после рождества 1879 года, из Сан-Франциско, Хенли убедил себя (и, по-видимому Колвина), что фактически все написанное Стивенсоном после того, как он отплыл из Клайда на борту «Девонии», — дрянь, и чем дальше, тем становится хуже. Хенли считал, что Луису следует немедленно покинуть Америку (очевидно, не дожидаясь брака с Фэнни), вернуться в «Сэвил» и сочинять пьесы, тогда душа его будет спасена еще при жизни. Очевидно, Хенли и Колвин сперва выражали свое неодобрение долгим молчанием, а затем в ответ на мольбы Луиса короткими, но опять же неодобрительными письмами. В то время, когда ему больше всего была нужна поддержка, они, говоря метафорически, выливали на него по почте ушаты холодной воды. На святках Стивенсон пишет Колвину, что в течение четырех дней ему не с кем было перемолвиться словом, кроме как с официантами в ресторане, и «должен признаться, мужество начало мне изменять». Он надеется, что «Эмигранта-любителя» удастся куда-нибудь пристроить, иначе, «видит бог, я умру здесь с голоду». В следующем письме к Хенли он умоляет: «Не обескураживай меня насчет моей работы… Ты же знаешь, что нищета у порога, а я был серьезно болен!»
Дальше в том же письме он сообщает: «У меня осталось всего восемьдесят долларов, а мне нужны деньги на два дома». Добросердечный Сэм умудрился потерять работу, и в то самое время, когда Луису дорог был каждый цент, ему пришлось посылать деньги Фэнни и Ллойду. Не успел он приободриться, узнав, что при посредстве Хенли журнал «Корнхилл» купил «Дом на дюнах», как пришло письмо от Колвина, где тот называл «Эмигранта» скучной книгой, что абсолютно не соответствует истине. Но какая у Стивенсона была сила духа! Хотя, судя по письму Колвина, рассчитывать на то, что «Эмигрант» принесет ему немного наличных денег, видимо, не приходилось, Роберт Луис тут же сел за работу и написал двенадцать страниц новой вещи — «Через прерии», о чем с вызовом сообщил Колвину, добавив:
«Только честно, Колвин, неужели вы думаете, стоит затрачивать столько эпитетов, столько возвышенного красноречия, чтобы обругать меня? Вы обрушили на меня такую массу многосложных слов, что лишили бы уверенности в себе и более мужественного человека. Все читают мне проповеди; это, конечно, полезно, но вряд ли это пища, нужная человеку, который живет один-одинешенек в чужой стране на сорок пять центов в день, а то и меньше, работает не покладая рук и терзается от грустных мыслей».
А в другом письме резюмирует: «Вы с Хенли оба считаете, что я пишу галиматью». Сейчас совершенно ясно, что Хенли, Колвин и даже Госс вступили в сговор, чтобы заставить Стивенсона вернуться, хотя Хенли вскоре оставил надежду разлучить его с Фэнни. Он не желал верить правдивым рассказам о болезни Стивенсона и его лишениях, в истинности которых не приходится сомневаться, хотя, возможно, Стивенсон немного сгустил краски, когда писал Бэкстеру: «Все последнее время погода стояла чудесная, но сегодня собачий холод, и я продрог до костей. Я собираюсь выйти, чтобы съесть свой грошовый обед, что, как все бедняки, совершаю в полдень, и выпить за ваше процветание». Луис знал, что делал, когда столь патетически взывал к его состраданию. Если отец и не читал сам писем к Бэкстеру, содержание их, как было прекрасно известно Луису, передавалось ему достаточно подробно. Роберт Луис написал Бэкстеру, что не может теперь тратить на еду более двадцати пяти центов в день, и просил продать его книги и выслать ему вырученные за них деньги. Одно из этих писем — неважно какое — принесло желаемый результат. Мистер Стивенсон смягчился и перевел сыну двадцать фунтов, которые из-за какой-то ошибки на почте не были ему вручены. А ведь только перед тем его пытались заманить домой телеграммами, сообщавшими о том, будто отец находится на смертном одре. Зачем только рассказывают историю о Джордже Вашингтоне и боевом топоре?![82]
Кстати, о топорах… В том же письме Колвину, где он писал, будто друзья считают его работу «галиматьей», Стивенсон дает отчет о своей жизни в Сан-Франциско, который должен был бы пристыдить это трио — Колвина, Хенли и Госса — за то, что они вмешиваются не в свое дело и пытаются при помощи всяких уловок «спасти» его, заставив вернуться в Англию. Он был написан всего через две недели после грустного рождества, проведенного им в одиночестве, так как Фэнни находилась в Окленде и никак не могла бросить детей и Сэма. Не забывайте, Луис только что был при смерти, и вскоре ему предстояла еще одна схватка с этим мрачным противником. Он испытывал лишения и нужду, и ему отнюдь не делалось легче от тех обескураживающих отзывов о его книгах, которые присылались ему из Англии. И, несмотря на все это, он пишет так весело и остроумно, словно действительно все обстоит прекрасно в этом лучшем из миров. Стоит внимательно прочитать отрывок из его письма, хотя он и длинен, так как благодаря ему перед нами предстает настоящий Стивенсон, его нетребовательность, чувство юмора, мужество и твердая, как кремень, решимость продолжать работу.
«Каждое утро между восемью и половиной десятого утра можно увидеть, как стройный джентльмен в длинном узком пальто, с засунутой за пазуху книгой выходит из дома № 608 по Буш-стрит и бодрым шагом спускается по Пауэлл-стрит. Джентльмен этот Р. Л. С, а книга имеет отношение к Бенджамену Франклину, о котором он собирается написать один из своих восхитительных очерков. Миновав Пауэлл-стрит, он пересекает рыночную площадь и вновь спускается, теперь по шестой авеню, не куда-нибудь, а в филиал кофейни на Пайн-стрит. Я полагаю, он не задумываясь пошел бы просто в кофейню на Пайн-стрит, если бы смог ее найти. В филиале он усаживается за столик, покрытый клеенкой, и раскормленный слуга, выходец из Силезии (по правде говоря, вышедший оттуда пока одной ногой), ставит перед ним чашку кофе и кладет булочку с катышком масла — все, бог свидетель, прекрасного качества. Еще недавно Р. Л. С. находил такое количество масла недостаточным, но теперь он довел точность до такого совершенства, что последняя частичка масла исчезает одновременно с последним куском булочки. За эту закуску он платит десять центов или пять пенсов полновесной английской монетой.
Полчаса спустя обитатели Буш-стрит имеют возможность видеть, как этот стройный джентльмен, вооруженный топориком, подобно Вашингтону, щиплет лучину на растопку и разбивает уголь для камина. Он делает это на подоконнике почти на глазах у почтенной публики, но причиной тому отнюдь не любовь к славе, хотя, не будем скрывать, он гордится тем, как умело он управляется с топором (который он упрямо называет «колун»), и не устает удивляться тому, что у него все еще целы пальцы. Причина совсем в ином: под подоконником находится единственная крепкая балка во всем домишке, и от ударов такой же силы в других частях комнаты его хибарка могла бы провалиться в тартарары. Затем он в течение трех-четырех часов занимается каким-то таинственным делом, в котором участвует склянка с чернилами. Однако он не мажет ими свои сапоги, ибо единственную находящуюся в его владении пару трудно назвать черной, и кожа имеет натуральный цвет, почти не видный за напластованиями почтенной от возраста грязи. Младший сынишка квартирной хозяйки всякий раз, когда странный обитатель их дома приходит или уходит, что случается несколько раз на день, замечает: «А вот и наш пишатель». Быть может, невинный младенец с золотыми кудрями нашел ключ к тайне? Индивид, о котором идет речь, настолько беден, что вполне может принадлежать к этому славному сословию.
Позже мы встречаем его в ресторане некоего Донадье, расположенном на Буш-стрит, между Дюпоном и Кирни, где за четыре монеты, то есть за пятьдесят центов, можно получить обильный обед, полбутылки вина, кофе и бренди. Вино подается в еще не початой бутылке, и странно, даже печально наблюдать, как жадно наш джентльмен старается не упустить ни единой капли из предназначенной ему половины и в то же время как тщательно он следит, чтобы не захватить ни единой капли из половины, которая ему не принадлежит. Частично это объясняется тем, что стоит ему перешагнуть границу, и бах — десяти центов как не бывало. Он вновь вооружен книгой, но его лучшим друзьям будет прискорбно узнать, что он изменил серьезным занятиям, за которыми они его видели утром. Теперь он с явным интересом изучает подвиги некоего Рокамболя, описанные покойным виконтом Понсоном дю Террайем.[83] Произведение это, отличающееся огромными размерами, он разделил на отдельные части, видимо для того, чтобы удобнее было носить его с собой.
Затем наш джентльмен отправляется на прогулку, куда — сказать трудно. Но около половины пятого, когда из окон дома № 608 по Буш-стрит уже струится свет, его можно видеть либо за письмами, либо вновь погруженным в тот же таинственный ритуал, что и днем. Около шести он вновь в филиале кофейни, где вторично отягощает свою совесть тратой пяти центов на булочку и кофе. Вечер он уделяет чтению, а в одиннадцать — половине двенадцатого жизнь этого таинственного и свирепого существа окутывается мраком».
Поскольку непосредственно за этим следовала фраза о том, будто Колвин и Хенли считают все написанное им в Америке «галиматьей», возможно, Стивенсон хотел показать своим английским корреспондентам, что в его руке перо действует лучше, чем в их. Конечно, слабым местом вышеприведенного образчика стивенсоновского мастерства является то, что посвящен он Стивенсону. Никто не упрекнет его в пренебрежении к этой теме, имеющей для него неодолимое очарование; но, с другой стороны, своя душа, как и своя рубашка, ближе к телу. Тот, кто не интересуется собой, вряд ли способен будет рассказать что-нибудь заслуживающее внимания обо всех остальных людях; возможно, именно по этой причине в мировой литературе такой любовью пользуются эгоисты. Как заметил доктор Джонсон (пожалуй, немного грубо для джентльмена, который гордился своей вежливостью), если вам наплевать на свое брюхо, вы скорее всего станете плевать и на весь мир.
Естественно, такое хорошее настроение, а тем более такая «роскошная жизнь» не могли длиться вечно. Ежедневные расходы Стивенсона сократились до двадцати пяти центов и даже до меньшей суммы. В марте серьезно заболей сынишка его хозяйки, и Стивенсон, очень этим расстроенный, взялся ухаживать за ним. Он решил, что ребенок умирает, впал в истерику и написал Колвину совершенно безумное письмо. Мальчик остался жив, но сам Луис серьезно заболел и слег на несколько недель. Если бы ему не посчастливилось найти хорошего доктора, а у Фэнни не хватило бы здравого смысла пренебречь условностями и взять его к себе и терпения его выходить, он бы умер. К малярии прибавилось первое горловое кровотечение — Стивенсона настиг туберкулез.
«Я был очень болен, на грани скоротечной чахотки, — холодный пот, приводящие меня в полное изнеможение приступы кашля, такой упадок сил, что я не мог говорить, лихорадка и все прочие безобразные симптомы этой болезни…»
Вероятно, это была его «судьба», но «романтику» в ней обнаружить трудно, тем более что из-за болезни он в течение многих недель совершенно не мог работать. К тому же, как ни странно сравнивать чахотку и больные зубы, ему, помимо всего, необходимо было срочно привести в порядок рот.
Казалось бы, союз Фэнни и Луиса при ее и его бедности чистое безумие. Однако — как прав был Хенли — у Луиса и мысли не возникало отказаться от брака, ради которого в первую очередь он предпринял свое мучительное путешествие. В письме к Госсу (от 16 апреля) Стивенсон с полной уверенностью говорит о «будущей жене». Знал ли он в течение всего этого времени, что ему опять удастся «упасть на все четыре ноги» и, как всегда, две из них будут отцовские? Так или иначе, в мае он получил из Эдинбурга телеграмму следующего содержания: «Рассчитывай на двести пятьдесят фунтов в год». «Послание с небес», как назвал ее Луис. Каким образом он этого добился? Говорят, будто Фэнни «воззвала» к мистеру Стивенсону, но мне кажется куда более вероятным, что посредником между отцом и сыном был известный нам опытный законник и прекрасный друг Чарлз Бэкстер. Письма Луиса к нему, несомненно, предназначались для родителей, и просьба продать книги и переслать деньги оказалась последней каплей. Легко можно представить полные слез глаза миссис Стивенсон, жалобно устремленные на мужа, в душе которого отцовская любовь борется с оскорбленной гордостью, гневом и желанием соблюсти приличия. Говорят, что в письме, предпосланном первому чеку, содержалось требование отложить женитьбу на возможно долгий срок. Если и так, требование это выполнено не было — наши измученные влюбленные сочетались браком в мае 1880 года. Никто не удивится, узнав, что церемония была торжественная, но невеселая. Самым примечательным, помимо того, что Фэнни назвалась вдовой, был подарок пастору, сделанный Стивенсоном, — экземпляр книги мистера Томаса Стивенсона, посвященный защите христианства. Был ли этот иронический жест таким уж случайным?
С точки зрения той верхушки средней буржуазии Эдинбурга, к которой принадлежали Стивенсоны, венчание это, видимо, нарушало условности, хотя Роберт Луис проявил необычайную предусмотрительность, заручившись услугами пресвитерианского пастора — выходца из Шотландии. Но что нам сказать о медовом месяце? Если ему и не хватало «романтики» в общепринятом смысле слова, то он все же протекал при таких необычных обстоятельствах, что должен был удовлетворить даже Стивенсона. Пусть тот или иной из запечатленных им фактов немного преувеличен, вряд ли так уж часто встречается новобрачная на десять лет старше мужа, разведенная жена и мать двенадцатилетнего сына, и новобрачный, которому куда нужнее была бы санаторная палата, чем спальня молодоженов; многие ли избирали в качестве своего первого дома стоящий возле выработанной штольни полуразрушенный, замусоренный барак, где жили раньше шахтеры и который Стивенсоны заняли по праву, вернее, бесправию скваттеров.[84] Факты именно таковы, и история, рассказанная в «Скваттерах Сильверадо», — это настоящая история, герои которой — Фэнни, Луис и Ллойд, а время действия — медовый месяц Стивенсонов. Книга была создана в 1882 году на основании записей в дневнике и опубликована в журнале и отдельным изданием в конце следующего года. Как ни удивительно, мистер Томас Стивенсон не возражал против этого, но ведь к тому времени Роберт Луис добился положения и приобрел имя как писатель для детей, да к тому же лица, подвергшиеся критике в «Скваттерах Сильверадо», были в большинстве своем американцы.
Слишком мало написано на тему: медовый месяц и как его выдержать. Предположим, Фэнни была бы девицей из хорошего семейства (деньги и пасторы), и счастливая пара отправилась бы после свадьбы на континент (под дождем конфетти и градом старых туфель), как это было принято в прошлом веке. О чем бы мы могли рассказать читателю? Лишь о разочаровании, вызванном скукой и внутренним одиночеством. Но в данном случае наш романтик с богемными привычками попал в крепкие руки американки-переселенки. Благодаря таланту Луиса и он сам, и его близкие кажутся нам нашими современниками, и мы забываем, что с Фэнни в молодости могли еще снять скальп, что она принадлежала к поколению американских женщин, которые должны были справляться с любой трудностью или погибнуть сами и погубить семью. Сильверадо! Стивенсон такой чародей слова, что под его пером все кажется прелестным, и он приложил все свое виртуозное мастерство, чтобы сделать Сильверадо заманчивым. Действительность же, по-видимому, была кошмарной. Я видел один или два таких, правда, уже убранных шахтерских поселка после того, как их покинули люди! Сильверадо не был приведен в порядок, но на веселых и добрых страницах «Скваттеров Сильверадо» меньше всего места уделено уродству оскверненной разработками горы, грязи, оставленной шахтерами в поселке, неудобствам, трудностям и даже опасностям в жизни Стивенсона и его новой семьи.
Стивенсон редко сознательно обманывает нас, редко закрывает глаза на правду. Но он был импрессионист, который подавал правду в весьма искусной аранжировке. Стивенсон ничего не искажает, рассказывая о Сильверадо, во всяком случае, он не говорит того, чего нет. Он честно описывает бедных фермеров, живущих по соседству, убожество, грязь, неудобства, опасность провалиться в разрушенные штольни, но лишь мельком упоминает, что там в огромном количестве водились гремучие змеи, и, хотя это было менее страшно, но не менее опасно, рос анчар. Анчар прорастал прямо между половиц в их древней хибарке, когда они там поселились, а загорал Стивенсон и занимался физическими упражнениями на небольшой лужайке возле дома под угрожающий аккомпанемент «погремушки», на который он просто не обращал внимания. Единственным разумным членом семьи была собака, которая вполне резонно не желала мириться с такими страхами. И однако из всего этого Стивенсон умудряется создать в «Скваттерах Сильверадо» — как бы это поточнее определить? — особую атмосферу: приключения, дальние страны, богемная свобода, диковинные туземцы и оптимизм. Мы не будем ставить под сомнение оптимизм и все красочные детали, но все же стоит внимательно прочитать следующее письмо Колвину, не включенное им в официальное собрание «Писем».
«Милый друг, нам приходится здесь очень тяжко. Вот уже шесть дней как мы в Сильверадо. В первую ночь у меня были судороги, от которых я совершенно обессилел, на следующий день Фэнни размозжила себе молотком большой палец, и у нее сделался нервный озноб, на третий день опять озноб, на этот раз — из-за бессонной ночи; на шестой у нее и Ллойда началась дифтерия. Я отвез их вниз в открытой тележке; случаи легкие, особенно у Ллойда, но Фэнни чувствовала себя очень плохо, двое суток у нее было головокружение и легкий бред. Можете представить, как я устал. Так хочется домой, в Европу…»
Мы не ошибемся, если предположим, что того же хотелось и Фэнни. Естественно, она не представляла себе Эдинбурга и комфортабельного дома на Хериот-роуд, 17, но, несомненно, в душе говорила: «Куда угодно, куда угодно, лишь бы подальше отсюда».
Преимуществами этого во всех остальных отношениях непривлекательного места были его дешевизна, уединенность и высота над уровнем моря (4500 футов), так что Стивенсону не угрожали «ядовитые морские туманы», наступление которых на долины, видные ему из его горного гнезда, он так драматически описал в «Скваттерах Сильверадо».
Событием дня являлся приезд двух почтовых карет в гостиницу неподалеку от «дома» наших скваттеров: они привозили почту и… кого-нибудь, с кем Луис мог доболтать. Нужно было действительно чувствовать себя изолированным от всего света, чтобы запомнить имя путника, с которым Луис всего несколько минут беседовал о «Париже и Лондоне, театрах и винах». Судя по тому, что он рассказывает в книге, местные жители годились только на то, чтобы служить объектом для упражнения его сатирического пера. Стивенсону повезло, что в те времена авторов не подвергали судебному преследованию за пасквиль. В наши дни книга, содержащая столько откровенных замечаний о реально существующих людях, в том числе хозяине гостиницы в Сильверадо, просто не была бы напечатана. Возьмите, к примеру, портрет Ирвина Лавленда (настоящий шедевр), которого Стивенсон любовно представляет нам как «истинного Калибана»,[85] что само по себе является оскорблением этого честного сына скромных, но гордых родителей! «Калибан» жевал сосновую смолу и, к неудовольствию Стивенсона, «сопровождал эту невинную утеху обильным слюноотделением». «У него была копна спутанных волос цвета овечьей шерсти, рот расползался в ухмылке, сильный, как лошадь, он, однако, не выглядел ни крепким, ни ловким — просто длинноногий жеребенок, который у всех на пути… Он откровенно смеялся, когда нам что-нибудь не удавалось… Он гордился своей понятливостью… Он рассказал нам о том, как его друг поддерживал дисциплину в школе с помощью револьвера, и громко хохотал при этом: да, кто-кто, а его приятель знает, как надо учить… Сосед, имеющий против него зуб, отравил его пса. «Ну и подлость, иначе не скажешь. Хороший человек ни в жизнь так не сделает. Но я с ним сквитался — отравил его пса». Его косноязычие и неотесанность еще сильнее подчеркивали глупость его замечаний. Лишь теперь, встретив Ирвина, я оценил по достоинству смысл двух слов: глагола «болтаться» и существительного «болтун»; их вполне хватит для того, чтобы нарисовать его портрет».
И в том же духе еще две или три страницы, после чего Стивенсон расправляется с другими членами семейства Лавлендов. Приведенных примеров достаточно, чтобы показать, как Стивенсон выполнил взятую на себя задачу подвергнуть осмеянию этот довольно характерный продукт американских свобод, «американского образа жизни» и погони за личным благополучием.
В общем, несмотря на тяжелые воспоминания о первом переезде через океан, Луис и особенно Фэнни, на долю которой приходилась вся работа по хозяйству, вероятно, вздохнули с облегчением, когда в конце июля навсегда распрощались с Сильверадо. Из Сан-Франциско в Ливерпуль они плыли первым классом, и мы не ошибемся, предположив, что, имея пять фунтов в неделю, Луис вряд ли смог бы заплатить за два с половиной билета — если Ллойду годился детский билет. Напрашивается сам собой вывод, что, как это бывало и раньше, все расходы взял на себя отец.
8
Итак, Wanderjahre[86] Стивенсона, бывший также Annus Mirabilis,[87] пришел, как и его ранние рассказы, к счастливой развязке, завершившись встречей и примирением всей семьи в Ливерпуле. «Стивенсон привез из Америки, — цинично замечает один из критиков, — восхитительные путевые заметки, увядающую женщину и туберкулез». Он забыл про Ллойда, которому было суждено сыграть целый ряд ролей в стивенсоновской саге: сперва роль товарища для игры в оловянных солдатиков, затем роль вдохновителя и критика его знаменитых приключенческих книг и под конец роль соавтора Стивенсона при создании менее популярных произведений, в которой Ллойд оставался вплоть до того дня, когда стал главным распорядителем на его похоронах.
В течение семи лет после своего возвращения, до тех пор, пока наследство, полученное после смерти отца, не дало ему возможности вновь поездить по свету, Стивенсон влачил жизнь писателя-инвалида, находясь то в Эдинбурге, то в Лондоне и Борнмуте, то на таких отдаленных курортах, как Йер или Давос. Друзья, сокрушавшиеся о его поездке в Америку («эту страну доллара и табачной жвачки», как изящно охарактеризовал ее Хенли), были слишком предубеждены против нее и не желали увидеть, что она вдохновила Стивенсона на самые яркие страницы в его «путевых заметках», «Монтеррей» и «Сан-Франциско» стоят в ряду его лучших очерков, и сейчас их интереснее читать, чем описание европейских стран, где, как это ни парадоксально, несмотря на все бывшие там войны, перемены менее разительны и драматичны, чем в Америке. Очерки эти являются частью истории штата Калифорния.
Будучи верным другом, Сидни Колвин не поленился приехать в Ливерпуль, полагая, что его присутствие при первой встрече молодоженов с родителями поможет разрядить напряженную атмосферу и преодолеть вполне естественную неловкость. Тревога его была напрасной. Фэнни твердо решила закончить, если это в ее силах, бесконечные и такие невыгодные размолвки между Луисом и его родителями. Если даже Луис ей этого и не говорил, она сразу увидела, что ключ к решению задачи находится у Томаса Стивенсона, державшего в своих руках и еще один ключ — от сундука с деньгами. Мать прощала Лу практически все, кроме атеизма, неприличного поведения на людях и ссор с отцом. Чтобы завоевать мистера Стивенсона, который к тому времени уже начал дряхлеть, надо было не сражаться с ним, как Луис, а потакать ему. К своему удивлению и радости, Томас Стивенсон обнаружил, что Фэнни почти обо всем думает так же, как он. Она старалась угодить ему даже в мелочах, которые свидетельствовали о его предрассудках. Так, согласно новой моде женщины стали тогда носить не белые, как прежде, а черные чулки; когда Томас Стивенсон осудил это безобидное нововведение, Фэнни немедленно возвратилась к белым чулкам. Такое лестное внимание к его словам было в новинку для старика, и он отплатил Фэнни за ее старания чисто шотландским комплиментом: «Вот уж истинно чертовка!»
Как ни странно, менее всех доволен был Колвин. Хотя впоследствии он доказал свою верность, присоединившись к хору («мы должны быть счастливы как короли»), воспевавшему Фэнни и ее роль в мифе о Р. Л. С, первое его впечатление о ней было далеко не в ее пользу. Скорее всего, как и прочие друзья Стивенсона в Англии, Колвин невзлюбил ее, хотя и не так жестоко, как Хенли. Во всяком случае, он не задумываясь написал Хенли, что из двух женщин мать Луиса выглядит «свежее», и добавил, что сомневается, «смогут ли они когда-нибудь примириться со смуглым волевым лицом, белыми зубами и седеющими (иначе их не назовешь) волосами, которые нам теперь предстоит всегда видеть рядом с Луисом». То, что Фэнни удалось перетянуть Колвина на свою сторону и использовать его в борьбе с другими друзьями Луиса, которых она недолюбливала еще больше, служит примером ее ловкости в ведении «домашней» войны.
Один из попутчиков четы Стивенсонов на пароходе оставил записки, где вспоминает «блестящее красноречие» Роберта Луиса, а также и его привычку «без конца» курить сигареты, а иногда и выпить «пагубный коктейль», что вряд ли рекомендуется при туберкулезе.
Когда Роберт Луис и Фэнни прибыли из Калифорнии, они были очень плохо одеты. Одной из привлекательных черт Стивенсона вплоть до того времени, как он поселился в Ваилиме, являлось полное безразличие к одежде. Судя по всему, он вернулся в Англию в том же, в чем за год до того уехал, а бедняжка Фэнни была все это время в слишком стесненных обстоятельствах, чтобы купить что-нибудь себе и Ллойду. Они, вероятно, выглядели настоящими огородными пугалами в глазах почтенной публики, приехавшей их встречать, ибо родители сразу же предложили купить им всем новое платье — под тактичным предлогом, что им нужны «свадебные наряды». По пути в горы они остановились передохнуть в Эдинбурге в комфортабельном доме на Хериот-роуд. Фэнни с благодарностью приняла туалеты, которые ей подарила свекровь, и с удивлением увидела множество почти неношеных костюмов Луиса. Возможно, именно тогда она пообещала себе, что «придет время», и он станет их носить. Фэнни не могла не понять, что, хотя рассказы о богатстве Стивенсонов, ходившие в Грёзе, были сильно преувеличены, она вошла в солидную буржуазную семью более чем среднего достатка. Такие семьи теперь совсем перевелись в Европе. Кто осудит ее за то, что она решила не допускать в будущем ссор Луиса с их хлебом и маслом? Оба, и Фэнни и Луис, не умели беречь деньги, и совершенно ясно, что его заработков и двухсот пятидесяти фунтов в год, которые он получал от отца, не могло хватить на путешествия, счета врачей, образование Ллойда и легкомысленные траты Луиса. Им, вероятно, постоянно приходилось просить у мистера Стивенсона еще денег сверх положенного содержания.
Как мало в то время зарабатывал Луис, можно судить по тому, что за весь 1879 год он получил всего сто девять фунтов. По иронии судьбы в том же самом году его избрали «лауреатом» клуба, членами которого были его старые школьные товарищи, и он вымучил из себя посвященное им стихотворение, вышедшее очень маленьким тиражом. Когда стивенсоновский бум был в самом разгаре, каждый экземпляр этой книжонки ценился от 180 до 250 долларов — больше, чем он заработал за весь тот год, когда написал это стихотворение. Несомненно, за всеми сделками стоял Уайз, небезызвестный библиофил, и его махинации, но факт этот наглядно показывает, как цинично общество извлекает прибыль из литературных произведений умерших авторов и еще более цинично допускает, чтобы при жизни они чуть ли не умирали с голоду.
Возможно, после Сильверадо Стивенсон наслаждался природой северной Шотландии, но о населении Стратпеффера он писал, что это «форменные скоты».
Стратпеффер был лишь временным насестом, сидя на котором Луис мог воспевать красоты своей страны. По возвращении в Эдинбург Роберта Луиса осмотрел их домашний доктор — разумеется, Бэлфур — и, так как ему не понравилось то, что он обнаружил, порекомендовал поездку в Давос — в те времена модное прибежище всех чахоточных, имевших в кармане деньги. Туда и отправилась чета Стивенсонов. В Лондоне долгожданная свобода ударила им в головы, и за несколько дней, проведенных в Гросвенор-отеле, они истратили чуть ли не пятьдесят фунтов. Луис и Фэнни встречались с литературными друзьями Луиса, и эти встречи показывают нам, с каким мужеством и величием молчаливая «молодая» боролась за то, чтобы удержать завоеванное ею.
«Если мы вскоре не выберемся из Лондона, — пишет она матери Луиса, — я сделаюсь озлобленной женщиной. Ни для души моей, ни для тела не полезно сидеть и улыбаться друзьям Луиса — я начинаю чувствовать себя лицемерной чеширской кошкой,[88] болтать о пустяках то с одним, то с другим, чтобы дать Луису возможность поговорить с тем, кто его больше всех интересует, все время поглядывать украдкой на часы и жаждать их крови, потому что они так долго не уходят».
Яснее обрисовать положение было невозможно. Да, эта женщина твердо знала, чего хочет. Причем даже если и не во всем она была более права, чем друзья Стивенсона. Не приходится сомневаться в том, что Фэнни предвидела грозивший Роберту Луису туберкулез задолго до того, как вышла за него замуж, и если, несмотря на то, она все-таки связала свою судьбу с больным человеком, это только делает ей честь. С 1879 года болезнь перестает быть лишь угрозой, туберкулез переходит в открытую форму, и единственная надежда на выздоровление заключалась в том, чтобы найти подходящий для Луиса климат и оградить его от волнений. Мы можем только строить догадки, о чем Фэнни говорила с родителями Луиса, когда его не было рядом, но не исключено, что она обещала посвятить все свои силы спасению жизни их сына, а они, в свою очередь, согласились оказывать необходимую финансовую поддержку. Доказать это нельзя, но предположение наше звучит правдоподобно. Ну а друзья Стивенсона, по-видимому, отставали от времени и от Фэнни в своих понятиях о том, как должен себя вести человек с активным процессом в легких. Долгие разговоры, возбуждение, поздние обеды с бургундским вряд ли были полезны человеку, у которого от переутомления в любой момент могла пойти горлом кровь. Друзья Стивенсона, очевидно, не видели этой страшной угрозы и надеялись, что он будет по-прежнему вести богемную жизнь с ночными бдениями, как в студенческие годы. Фэнни была совершенно права, когда стремилась его защитить. Но для такой женщины — только взгляните на ее надменное лицо на фотографиях! — любить значило владеть, и, подобно многим другим женам, она вопреки всякой логике ревновала мужа к старым друзьям. Она хотела распоряжаться им единовластно. Конечно, чтобы спасти ему жизнь, но только на свой лад. Фэнни вела себя разумно, она понимала, что Бэкстер и Колвин ценные союзники, но всячески третировала литературную шушеру и в первую очередь богему вроде Хенли, который не скрывал неприязни к ней, занимал у Луиса деньги и не мог уразуметь, что нужно считаться с его слабым здоровьем. Среди бесчисленных воспоминаний друзей о Стивенсоне есть одно о визите к нему: Стивенсон, зажав в зубах сигарету, лихорадочно меряет шагами комнату, а у камина сидит, не сняв пальто, жестоко простуженный Хенли; рот и нос у него пресмешно завязаны носовым платком. Разумеется, Стивенсон заразился и серьезно заболел. Однако, когда Фэнни ввела неуклонное правило не впускать в дом простуженных людей, эта профилактическая мера вызвала всеобщий ропот и была сочтена примером глупой женской тирании. Вполне возможно, она, как и все жены, хотела отвадить его друзей, но ее поведение было оправдано их невежеством и неразумием, раз они не понимали того, какую осторожность должен был соблюдать Луис.
Итак, в сопровождении Ллойда и абердинского терьера Воггза, преподнесенного нашим кочевникам Уолтером Симпсоном, Луис и Фэнни не спеша перебрались из Лондона в Давос. Кто-то еще подарил им сиамского кота, но от него им удалось избавиться. Их первое пребывание в Давосе длилось с ноября 1880-го до конца апреля 1881 года. Здесь, в покрытых снегом горах, где не нужно было оберегать Луиса от пирушек и слишком долгих разговоров с друзьями, не сознававшими серьезности его заболевания, перед Фэнни встали иные трудности: нужно было следить за тем, чтобы Луису было уютно и удобно, чтобы он выполнял указания доктора Руэди и не слишком томился от однообразия тамошней жизни. Еще одна трудность заключалась в том, что сама Фэнни была больна и тяжело переносила холода тех курортов, расположенных высоко над уровнем моря, куда врачи посылали ее мужа. Не будет преувеличением сказать, что они провели значительную часть совместной жизни в поисках мест с таким климатом, где оба чувствовали бы себя относительно хорошо. Среди писем Джона Эддингтона Саймондса, где упоминается Стивенсон, есть одно, написанное вскоре после второго приезда Роберта Луиса в Давос (ноябрь 1881 года), когда он был, по-видимому, серьезно болен:
«Стивенсону лучше. Пока он, вероятно, не умрет. Но мне не нравится, что болеть вошло у него в привычку. Одно в его пользу — безмятежность духа во всем, что касается комфорта. Однако défaut de cette qualité[89] заключается в том, что ум его, как у истинного представителя богемы, всегда бунтует».
Саймондс, очевидно, считал, что Луис Стивенсон был слишком порывист и нетерпелив, чтобы неукоснительно выполнять указания врача, предписавшего ему полный покой и отдых после горлового кровоизлияния. Когда Стивенсон чувствовал себя немного лучше, его нервный темперамент не давал ему усидеть спокойно на месте. Если он не был погружен в работу, а особенно если к нему кто-нибудь приходил, Роберт Луис безостановочно шагал взад-вперед по комнате, курил и столь же безостановочно говорил. К сожалению, помимо записей для путевых очерков, у Стивенсона со времени его болезни в Калифорнии не было собрано никаких новых материалов. И тут вновь в игру вступил мистер Томас Стивенсон. Не удовлетворившись запретом публиковать «Эмигранта-любителя», он при поддержке некоего эдинбургского профессора стал настаивать, чтобы сын написал историю горной Шотландии начиная с 1715 года. В письме Роберта Луиса к отцу, которое Колвин датировал 12 декабря 1880 года, можно найти план этой книги. Спору нет, Луис Стивенсон не хуже другого написал бы исторический труд, хотя вряд ли у него был склад ума ученого, да и работа над книгой, для которой требовались долгие и утомительные исследования, не могла пойти на пользу больному, а Давос, где не имелось большой публичной библиотеки, никак нельзя было назвать удачным местом для изысканий в области истории Шотландии. Саймондс, будучи богатым человеком, истратил более тысячи фунтов стерлингов на книги, нужные для его монографии о Ренессансе, и все же жаловался, что в Давосе нет условий для настоящей исследовательской работы. К тому же, если читатели, как полагал мистер Стивенсон, были слишком легкомысленны, чтобы оценить «Эмигранта-любителя», как можно было ожидать, что они получат удовольствие, с трудом пробираясь по «мрачной трясине» шотландской истории? Напрашивается вывод, что Томас Стивенсон по-прежнему не верил в творческие способности сына и старался отвлечь его от создания и публикования «неприятных» книг, которые, как считали на Хериот-роуд, не могли принести ему успеха в обществе. Шотландская история была почтенным делом, представлявшим для самих шотландцев некоторый интерес, к тому же работа над ней могла «удержать Лу от греха». Поскольку сын полностью зависел от отца, разумная Фэнни, несомненно, посоветовала согласиться, хотя бы для вида. Роберт Луис и в самом деле занимался кое-какой подготовительной работой: так, он упоминает в письме о том, что прочитал около девятисот страниц «Писем» Вудро, в результате чего «приобрел кое-какие познания, но сильно устал». Куда больше его интересовали «Очерки» (то есть сборник «Virginibus Puerisque»), находившиеся в то время в типографии. Луис ожидал их выхода в январе или феврале 1881 года, но появились они лишь в апреле.
Жизнь в Давосе текла монотонно, и один сезон как две капли воды походил на другой; однако следует отметить, что климат и лечение, безусловно, шли Стивенсону на пользу, хотя каждое лето обязательная поездка вместе с родителями в северную Шотландию сводила ее на нет. Лишь осенью 1882 года Роберт Луис с Фэнни осмелились взбунтоваться против Давоса и провели зиму на побережье Средиземного моря. Если не считать того, что время от времени их в Давосе посещали друзья, например Колвин, единственным настоящим собеседником Стивенсона (конечно, помимо Фэнни и Ллойда) был Эддингтон Саймондс. Оба они были очень довольны столь редкой в курортных отелях возможностью вести беседы на литературные темы. 17 ноября 1880 года Саймондс писал другу, Горацию Брауну:
«Сюда приехал чрезвычайно любопытный человек — Луис Стивенсон — друг Лэнга и Лесли Стивена, человек по-настоящему умный и очень интересующийся вопросами стиля. Он остановился в «Бельведере». Весьма ценное приобретение».
Стивенсон, письмо которого написано немного позднее, не выражал такого энтузиазма, но вполне отдавал Саймондсу должное:
«Мне очень нравится Саймондс, хотя болезнь, я думаю, наложила большой отпечаток на его характер и ум. Однако ум у него интересный, и в нем есть много прелестных уголков, а чахоточная улыбка очень привлекательна».
Между ними так и не возникло настоящей дружбы; это вполне можно объяснить различием характеров, расхождением во взглядах на жизнь и противоположными литературными идеалами. Стивенсон обидел Саймондса тем, что не скрывал своего низкого мнения о его стихах (кстати, совершенно справедливая оценка), однако впоследствии возместил это похвалами по адресу некоторых сонетов Саймондса, а тот посвятил ему сборник «Вино, женщины и песни» — переводы эпикурейских стихов средневековых поэтов. В свою очередь, суждения Саймондса о творчестве Стивенсона иногда кажутся довольно своеобразными. Так, если «Новые сказки Шехеразады» он находил «легкими и блестящими», что соответствует истине, то сборник «Virginibus Puerisque» считал «надуманным и безвкусным». Сам Саймондс и не пытался писать беллетристику, поэтому в этой области между ними не могло быть соперничества, но очерки его были весьма популярны, а по сравнению с очерками Стивенсона они стали казаться или чересчур академичными, или чересчур вычурными. Спору нет, знал Саймондс гораздо больше, чем Стивенсон, и все же очерки Эддингтона куда более традиционны по мысли и выражению, потому что он слишком долго находился под игом Бэллиола, где был вынужден писать по очерку в неделю — превосходная тренировка для будущего пастора, которому каждую неделю требуется новая проповедь, но совершенно порочная практика для стилиста. Любопытно видеть, насколько дилетантски и просто неуклюже выглядят порой очерки удостоенного всех университетских отличий высококвалифицированного воспитанника Бэллиола по сравнению с «надуманными и безвкусными» очерками богемного шотландца-самоучки.
К счастью для нас, первый сезон Стивенсона в Давосе не был абсолютно бесплодным. Хотя его рабочие часы сильно сократились из-за болезни и слишком много времени ушло впустую на так и не состоявшуюся книгу об истории северной Шотландии, он все же ухитрился написать очерк о Пенисе и еще один под названием «О нравственной стороне литературной профессии». В нем мы вновь видим, как атеист Стивенсон рассматривает очень важный для него вопрос о собственной профессии с точки зрения этики. То ли в виде предостережения самому себе и окружающим, то ли желая высказать давно наболевшие мысли, Стивенсон яростно обрушивается на Джеймса Пейна[90] и на его денежный подход к писательскому труду. Это приведет, предсказывает Стивенсон, к «неряшливой, вульгарной, лживой и пустой литературе», что, кстати, и сбылось, когда литература превратилась в источник прибыли и писатели стали руководствоваться лишь коммерческими критериями и целями. Он говорит:
«Низкопробные опусы плодовитых американских репортеров или парижских хроникеров, читать которые не составляет никакого труда, приносят неисчислимый вред; они касаются любого предмета и на все накладывают печать своего неблагородства; умом неразвитым и неискушенным они берутся судить обо всем и судят в недостойном духе; и ко всему они подают острую приправу, чтобы глупцам было что повторять. Этот грязный поток затопляет редкие высказывания достойных людей; зубоскальство, эгоизм и малодушие кричат с громадных газетных страниц, разбросанных на всех столах, в то время как противоядие, заключенное в маленьких томиках, покоится нечитаное на книжных полках. Я говорил об американской и французской прессе не оттого, что они много низкопробнее английской, но оттого, что они завлекательнее…»[91]
Современное положение вещей, со всем, что из этого вытекает, точно такое, как предсказывал Стивенсон, и даже еще хуже. Стивенсон придерживается взгляда, что «бесчестно говорить неправду и небезопасно утаивать правду». А ведь целые области не только журналистики, но и всей изящной словесности зиждутся на заведомом пренебрежении к этому элементарному принципу литературной этики. Заканчивает он выводом: «Честный человек ничего так не должен страшиться, как получать и тратить больше того, что он заслуживает». Но откуда узнать «честному человеку», чего он на самом деле стоит и слишком много или слишком мало платит ему общество? Так или иначе направление мыслей Стивенсона вполне ясно и похвально — он выступает против пропаганды ложных взглядов, против литературных произведений, написанных только ради денег воспевающих то, что достойно осуждения. Всегда ли сам Стивенсон действовал согласно этому идеалу? Это было бы интересной темой для обсуждения.
Стивенсон использовал свою жизнь в Давосе в качестве материала для четырех «путевых» очерков, которые появились в февральском и мартовском номерах «Пэл-мэл газет». То, что эти пустячки до сих пор можно читать с удовольствием, является несомненным подтверждением литературного мастерства, которого Стивенсон достиг к тому времени. Однако нужно признать, что на этот раз победа была на стороне Эддингтона Саймондса, — в виде исключения Стивенсон подражает своему другу. Саймондс, знавший Давос куда лучше, так как первый раз он приехал туда еще в 1877 году, твердо решил извлечь все, что в его силах, из этого закованного в снега места ссылки. И если Стивенсон рассказывает нам лишь о своих личных впечатлениях, из-за которых проглядывает вполне понятное недовольство жизнью в отдаленном, заснеженном поселке, то Саймондс, помимо того, знакомит нас с людьми (он свободно говорил по-немецки) и приводит множество интересных и разнообразных сведений о местных винах, различных видах снежных обвалов, об опасностях и удовольствиях, которые сулят путешествия в зимнее время. Большую часть того, что Стивенсон узнал о Давосе, поведал ему Саймондс; в частности, тот познакомил его с горным катанием на санях, в котором Саймондс был очень силен (его даже избрали одним из судей на международных состязаниях по этому виду спорта). Стивенсон очень живо описывает катание на санях, однако до Саймондса ему здесь далеко. Очерк «Альпийские развлечения» опровергает мнение тех, кто полагал, будто Стивенсон был слишком болен, чтобы принимать участие в катании, тем более ночью; но сравнение посвященных этому очерков показывает, что из них двоих Саймондс лучше знал предмет и увлекательнее о нем писал. В одной из записей Саймондса о Стивенсоне мы читаем: «Пока что я отложил «Vagabundulli Libellus»[92] в долгий ящик. Я обсуждал ее со Стивенсоном, который влюбился в название, но, по-видимому, не верит, что я умею писать сонеты. Если я не буду начеку, он прикарманит мое заглавие».
Долгое время эта последняя фраза казалась мне ничем не оправданной и оскорбительной для Стивенсона, но после того, как я прочитал его очерки в «Пэл-мэл», я вижу, что Саймондс имел все основания обвинять Стивенсона в браконьерстве. У создателей мифа о Стивенсоне он всегда всех во всем превосходит, несмотря на туберкулез. Саймондс был куда тяжелее болен и на десять лет его старше, а сравните описание вечернего катания на санях, данное Стивенсоном, с тем, как это изображает Саймондс:
«Однажды под вечер в феврале мы отправились на прогулку в санях до Клостера. Когда мы миновали Вольфганг, солнце уже село, но небо было розовое от вечерней зари; горные вершины и снежные поля, окружавшие нас, сверкали всеми оттенками шафранного и малинового цвета. А когда мы понеслись вниз по крутому склону, из-за темной горной громады нам навстречу быстро выплыла полная луна — большая, прозрачная, ярко-зеленая капля росы, омываемая пламенными красками рдеющего неба. Наш быстрый полет под этой небесной феерией по сверкающей мириадами разноцветных огоньков снежной дороге еще усиливал пьянящую красоту картины. Казалось, что летишь сквозь светящийся берилл. Но вскоре мы спустились с воздушных высот и нырнули в лес, где все великолепие небес и дороги, по которой мы неслись, поглотила глубокая черная тень».
Теперь найдутся люди, и даже немало, которые презрительно относятся к такому стилю, хотя соперничать с ним не могут, но в одном не остается сомнения — в том, что Саймондс здесь мастер, а Стивенсон — ученик. Кстати, будет уместно заметить, что, за одним исключением, очерки, помещенные в «Пэл-мэл», — это последние путевые очерки Стивенсона вплоть до того времени, когда он стал мирным пиратом Южных морей, охотящимся за красотами природы. Возможно, он понял, что там, где дело касалось цивилизованной Европы, Саймондса ему не превзойти.
Весной 1881 года наше трио покинуло Давос и через Париж, Фонтенбло и Сен-Жермен-ан-Ле направилось в Питлокри. То ли послушавшись Фэнни, то ли доверившись собственному здравому смыслу, Стивенсон обратился от истории, в которой он не был достаточно компетентен, и подражаний Саймондсу к более подходящим ему жанрам, написав в угоду жене повесть «Окаянная Дженет», в угоду Ллойду — «Остров сокровищ». Фэнни питала пристрастие к рассказам о привидениях, а Ллойд был в том возрасте, когда всему предпочитают приключения пиратов. Стивенсон же любил их всю жизнь.
Тем временем незадолго до того, как они покинули Давос, вышел из печати сборник «Virginibus Puerisque». Стоит бросить хотя бы беглый взгляд на книгу, в которой отразились многие мысли и представления Стивенсона, относящиеся к холостому периоду его жизни. Тем более что «Virginibus Puerisque» — одно из тех его произведений, которые много лет спустя после смерти Луиса все еще завоевывают ему друзей. Этот сборник не объединенных одной темой очерков не имеет определенной структуры и перегружен за счет нескольких опусов, которые не приняли бы ни у кого, кроме Стивенсона, но, несмотря на все, книга очень интересна и написана с подлинным стивенсоновским обаянием. Не спорю, возможно, я пристрастен, но с каким восторгом я читал ее в восемнадцать лет! Интересно, что она говорит восемнадцатилетнему юноше в сумятице наших дней? Я не буду и пытаться найти на это ответ, как не буду давать критический разбор книги, слишком сокровенной по содержанию и бессвязной по форме, чтобы допускать обобщения. Я ограничусь тем, что приведу из нее несколько изречений или афоризмов, к которым до знакомства с Фэнни Луис питал такое пристрастие, — несомненно, под влиянием Монтеня.
Стивенсон начинает с сомнительного утверждения, будто все персонажи Шекспира, кроме Фальстафа, склонны к «матримониальным узам». Разве Тимон Афинский был женат? Разве Гамлет так стремился к женитьбе? Неважно. Вслед за тем нам преподносится восхитительный афоризм: «Не в том дело, чтобы обладать вкусом, а в том, чтобы обладать смелостью». «Разжуйте-ка сей кусочек», — как выражается Деккер,[93] — ведь это великая или банальная? — истина, и она дает ключ к пониманию вкусов всех эпох. Говоря о субъективности наших оценок, Стивенсон приводит в пример «иезуитов и плимутских братьев» и прочих людей, с которыми его разделяли воспитание и взгляды, и замечает: «То, что для них было самым важным, мне казалось несущественным или ложным». И далее, в следующем очерке, он пишет о неспособности человека объективно оценить самого себя: «Нет такой неправдоподобной вещи, в которую бы мы не поверили, если бы нам рассказали ее о нас самих…», но, по правде говоря, мы бы еще быстрее поверили, если бы нам рассказали ее о других. Мудрейшее высказывание — «Человек — это существо, которое живет не хлебом единым, а модными словечками!» — прописная истина, но Стивенсон открыл ее первый… если только не взял у Монтеня, что вполне вероятно.
Обращаясь к литературе, он вполне убедительно замечает: «Трудность заключается не в том, чтобы писать, а в том, чтобы нацисать то, что хочешь».
Читатели «Virginibus Puerisque» могут выбрать, каждый себе по вкусу, еще много подобных превосходных изречений. Однако нельзя не признать, что некоторые из этих афоризмов довольно сомнительны и необоснованны.
Например: «Вы думаете, так трудно стать поэтом? Ничуть. Нужно просто писать стихи, и как можно лучше».
Само собой очевидно, это утверждение — вздор. Любая барменша, чистильщик сапог или премьер-министр скажут вам, что им не только трудно, а они просто не могут писать стихи, но оттого отнюдь не становятся поэтами.
«В письмах не расскажешь о сокровенных чувствах…» Так ли это? Прочитав «Элоизу, португальскую монахиню»[94] и «Письма мадемуазель де Леспинас»,[95] с этим трудно согласиться. Интересно, знал ли их Стивенсон? Возможно, он просто пытался оправдать себя за то, что не писал Фэнни в грустные и тяжкие дни их разлуки.
За сборником «Virginibus Puerisque» последовал в 1882 году новый сборник «Люди и книги», хотя фактически почти все, если не все, входившие в него очерки уже были написаны к апрелю 1881 года. Этот сборник находится на рубеже двух этапов творческой жизни Стивенсона, однако не нужно думать, будто перелом произошел вдруг и окончательно. Точно так, как он перенес часть богемных привычек в более респектабельную женатую жизнь, он не изменил полностью стихам и очеркам, когда стал процветать как романист. К тому же Стивенсон делал попытки писать беллетристику чуть ли не с самого начала своего литературного пути и достиг таких высот, как «блестящие и легкие» «Новые сказки Шехеразады», прежде чем Фэнни стала оказывать на него большое влияние, хотя, как мы знаем, она присутствовала при обсуждении этой книги с Бобом и приветствовала идею ее написания.
Влияние Фэнни могло означать две разные вещи: возможно, она сознательно употребляла свою власть над Луисом, побуждая его писать произведения, которые могли принести широкий успех и деньги вместо «бескорыстных» книг, пусть и обладающих высокими художественными достоинствами, а возможно, сам Стивенсон, остро сознавая свою ответственность перед ней и Ллойдом и находясь под все еще реальной угрозой быть лишенным наследства за вероотступничество, чувствовал — надо приложить все усилия, чтобы начать зарабатывать деньги. Вероятно, было и то и другое. Вряд ли Стивенсон когда-нибудь в жизни считал, что ему переплачивают, и возвращал издателям часть гонораров, вместе с тем существует много свидетельств его щедрости, чтобы не сказать расточительности, более свойственных шотландцам, чем приписываемая им скупость, которую они практикуют только по отношению к самим себе. Во всяком случае, летом 1881 года в Питлокри и позднее в Брэмере Стивенсон упорно трудился над беллетристическими произведениями, на которых отразилось, с одной стороны, влияние Фэнни, а с другой — мистера Томаса Стивенсона и Ллойда.
Тем же летом Луис, потеряв вдруг ощущение реальности и чувство юмора, выставил вполне серьезно свою кандидатуру на пост профессора истории и конституционного права в Эдинбургском университете и побудил друзей дать ему рекомендации, которые Грэхем Бэлфур называет «образцом изобретательности человеческого ума». Эти «образцы», принадлежавшие перу профессоров Льюиса Кэмпбелла, Микельджона, Селлара, Бэбингтона, Колвина, Лесли Стивена, Д. Э. Саймондса, Эндрю Лэнга, Госса и еще четырех профессоров, обеспечили Роберту Луису тринадцать голосов против 133, полученных первым из четырех кандидатов! Это, вероятно, явилось изрядным ударом для Стивенсона и его семьи, ибо показывало, как низко он в то время котировался у благопристойного Эдинбурга, видимо еще не забывшего не столь отдаленные дни, когда Луис скандализировал их своим богемным поведением и был выставлен за дверь родного дома. Хенли, Бэкстеру и Бобу Стивенсону, которым юношеские выходки и проделки Луиса были куда лучше известны, чем почтенным университетским мужам, поддержавшим его кандидатуру, эти притязания на респектабельность и определенный академический статус со стороны человека, никогда не отличавшегося почтительностью по отношению к профессорам, показались, должно быть, забавными и даже несколько шокировали их. Без сомнения, Луису не пришло в голову взглянуть на дело с такой точки зрения, к тому же он был загипнотизирован мыслью о двухстах пятидесяти фунтах в год, которые стал бы получал, почти ничего не делая.
Это был ложный шаг, к счастью не имевший никаких неприятных последствий и лишь потому достойный упоминания, что он показывает, как страстно Роберт Луис стремился добиться материальной независимости от отца. Однако в то самое время, как Роберт Луис терзался от беспокойства по поводу этой академической службы, он, сам того не зная, подвигался все ближе к финансовому успеху, ждавшему его в награду за тяжкий и упорный литературный труд. В Питлокри он написал «Окаянную Дженет», «Похитителя трупов» и «Веселых молодцов». Мы с полным правом можем говорить здесь о влиянии Фэнни, так как она любила «истории с привидениями» и даже предложила внести свой вклад в совместную книгу под названием «Черный человек и другие повести и рассказы», в которую должно было войти восемь вещей. Сохранилось всего три, написанных Стивенсоном, но по меньшей мере две из них высоко оцениваются читателями.
Как жанр «истории с привидениями», если только они не вышли из фольклора, стоят на одной из низших ступенек литературной иерархии. И Стивенсон, видимо сознавая это, написал «Окаянную Дженет» на шотландском диалекте, что помогает сделать повествование более приподнятым за счет включения вполне понятных для англичанина, но менее обыденных слов. Роберт Луис превосходно владел диалектом, и нельзя не пожалеть, что, помимо вышеупомянутой вещи, он использовал его лишь в диалогах, письмах и стихах, хотя, конечно, он вынужден был принести родной язык в жертву «публике», которая не смогла бы или не захотела бы читать целый рассказ, написанный по-шотландски. Сам Стивенсон критикует его, говоря, что он слишком специфичен, чтобы быть оцененным за пределами родины. Может быть, и так, но рассказ давно пересек шотландскую границу. Нужно отметить, что сам Стивенсон причислял «Окаянную Дженет» к рассказам «ужасов», и считать ее «историей с привидениями» — значит рассматривать ее слишком узко. Темой рассказа является одержимость дьяволом, и как сама тема, так и ее трактовка дают нам еще одно доказательство и интереса Стивенсона к религии его отцов, и его борьбы с ней. Ставить «Окаянную Дженет» в один ряд с «историями с привидениями» и даже с обычными рассказами «ужасов» несправедливо, так как там проводится психологическое исследование души человека с мрачным религиозным темпераментом, который довел себя почти до маниакального страха, но противостоит этому страху с мужеством столь же глубоким, как его прокрустова вера.
Странно, что Колвин считает, будто «Веселые молодцы» были написаны позднее лета 1881 года. Ведь письмо, где Стивенсон определенно говорит о том, что им «сделано уже больше половины» этой повести, и дает почти такие же названия глав, какие мы видим сейчас, сам Колвин датирует июлем этого (1881) года! Иногда возникает чувство, что Колвин передоверил свои редакторские обязанности кому-то другому, чтобы самому заняться внутренней цензурой публикуемых им писем для неразумной и совершенно излишней реабилитации Стивенсона.
«Похититель трупов», несмотря на общепринятое мнение, хуже и менее страшен, чем «Дженет». В какой степени рассказ этот обязан Камми и ее сведениям о преисподней, трудно сказать; может быть, в основе его лежит одна из ее жутких сказок, ожившая под пером одаренного писателя, а может быть, и нет. Вопрос в другом: можно ли такое вторжение в душу считать искусством? Стивенсон здесь явно старался потрафить широкой публике, и те неумеренные похвалы, которые поклонники его таланта расточают этому нагромождению омерзительных подробностей, лишь показывает уровень их собственного вкуса. Следующим шагом будет фотография гроба с полуразложившимся трупом или кинолента, запечатлевшая насилие. Трагедия должна потрясать, но не устрашать; Шекспир, а не Гаррисон Эйнсуорт или Эдгар По.
Ни один разумный человек не предъявит подобных претензий «Веселым молодцам»; это подлинно трагическое произведение, великолепно сделанное от начала до конца. То, что создано Стивенсоном до «Веселых молодцов», независимо от недостатков, которые справедливо или несправедливо приписывают этим вещам, выдержало испытание временем в течение трех четвертей века — почти бессмертие для литературных произведений при их высокой смертности. В этой же повести Стивенсон на целый шаг опередил всех прозаиков своего времени. Кто из читавших «Веселых молодцов» может забыть описание бури? Спору нет, бурю заездили со времен Гомера, и после Стивенсона мы еще раз встречаемся с ней в «Тайфуне» Конрада и «Циклоне над Ямайкой» Ричарда Хьюза. Не умаляя достоинств ни той, ни другой из этих книг, давайте отдадим должное и Стивенсону — его буря на Шетландских островах настоящий шедевр, так же как образ старого грабителя потерпевших кораблекрушение морских судов, в душе которого борется безумие, раскаяние и религиозный фанатизм. И снова для того, чтобы понять сумасшествие дядюшки Гордона и возмездие, заключающееся в его смерти, мы должны знать религиозные верования и предрассудки Шотландии. Негр в этом рассказе — это тот же «черный человек, дьявол» из «Окаянной Дженет», но здесь он не просто страшилище, здесь он поднят до роли Немезиды. Если бы все знали гэльский[96] язык, следовало бы читать эту великолепную повесть только по-шотландски. «Веселые молодцы» с их моральными проблемами и высокими художественными достоинствами являются мерилом нашей способности оценить «подлинного» Стивенсона по сравнению с «популярным»; особенно это относится к эмоциональной религиозной символике трагического конца повести. Что до слога, послушайте-ка:
«Хотя лето было в разгаре, ночь казалась чернее январской. Порой сумрачные отблески на мгновение рассеивали чернильный мрак, но в мятущемся хаосе небес нельзя было уловить причину этой перемены. Ветер забивался в ноздри и в рот, небо над головой гремело, как один гигантский парус, а когда на Аросe вдруг наступало затишье, было слышно, как шквалы с воем проносятся вдали. Над низинами Росса ветер, наверно, бушевал с той же яростью, что и в открытом море, и только богу известно, какой рев стоял у вершины БенКайо. Дождь, смешанный с брызгами, хлестал нас по лицу. Вокруг Ароса всюду пенились буруны, и валы с непрерывным грохотом обрушивались на рифы и пляжи. В одном месте этот оглушительный оркестр играл громче, в другом — тише; общая масса звука почти не менялась, но, вырываясь из нее, господствуя над ней, гремели прихотливые голоса Гребня и басистые вопли Веселых Молодцов. И в эту минуту я вдруг понял, почему они получили такое прозвище: их рев, заглушавший все остальные звуки этой ночи, казался почти веселым, полным какого-то могучего добродушия; более того, в нем было что-то человеческое. Словно орда дикарей перепилась до потери рассудка и, забыв членораздельную речь, принялась выть и вопить в веселом безумии. Именно так, чудилось мне, ревели в эту ночь смертоносные буруны Ароса».[97]
Если Стивенсон действительно написал такие три вещи («Окаянную Дженет», «Похитителя трупов» и «Веселых молодцов») всего за два месяца, он мог не бояться — болезнь и женитьба не ослабили его трудоспособности. А достигнув высот, каких он достиг в «Веселых молодцах» (которых сам скромно называет в письме «первоклассной повестью»), Роберт Луис мог к тому же увидеть, что поиски популярности и «монеты» при помощи рассказов «ужасов» на этот раз, во всяком случае, не помешали ему продемонстрировать свой художественный талант.
А вот можно ли это сказать о книге, начатой им во второй половине лета в Брэмере, спорили при жизни Стивенсона и спорят до сих пор. Когда в 1894 году Стивенсон послал Джерому К. Джерому, издававшему журнал «Айдлер», статью для серии публикаций современных писателей под названием «Моя первая книга», он выбрал в качестве ее «Остров сокровищ», хотя на самом деле это была его восьмая книга (издательство Кассел, декабрь 1883 г.), и параллельно выходили «с продолжением» еще несколько книг. Такой выбор являлся верным не только с деловой точки зрения — читатели хотели услышать именно об этой книге, — это было верно и потому, что «Остров сокровищ», хотя и не сразу, принес Стивенсону первый настоящий успех и создал ему имя у широкой публики, которая гордится тем, что ничего не понимает в искусстве, зато знает, какие книги ей по вкусу.
История о том, как был создан «Остров сокровищ», рассказывалась так часто, что читатель вряд ли выдержит еще одно повторение. Скажем лишь, что, написав несколько «ужасных» рассказов в угоду Фэнни, Стивенсон обратился к историям о сокровищах и пиратах, убийствах и штормах в угоду Ллойду и собственному отцу. Ллойд оказался здесь на высоте, так как его вкус, которому мудро последовал Стивенсон, разделяли подростки всех времен вплоть до наших дней.
Типично для Стивенсона то, что он видел «перст судьбы» в тех обстоятельствах, которые привели к написанию этой книги. Был Ллойд, и были (не такие уж редкие в северной Шотландии) мрачные, дождливые дни, и было увлечение Ллойда рисованием, в котором время от времени принимал участие и Луис. Он нарисовал карту несуществующего острова и населил его воображаемыми персонажами, — без сомнения, взятыми из коллекции страшных историй, которые его отец и он сам рассказывали себе перед сном, — и набросал вчерне оглавление.
«Это должна была быть книга для мальчиков; значит, никакой психологии и стилистических красот; и у меня был под рукой мальчик в качестве пробного камня. Женщины исключались».
Он нашел рецепт для успеха у англо-американской публики. Предположим, Флобера спросили бы, как он писал «Мадам Бовари». Разве он не мог бы ответить:
«Это должна была быть книга для взрослых, главный интерес ее заключается в психологии; в то же время это должна была быть весьма изощренная стилистически книга. Пробным камнем мне служили мое преклонение перед настоящей литературой и собственная совесть. Женщины в моем романе играют не менее важную роль, чем мужчины».
Возможно, дело в различии двух культур, но, по правде сказать, англичане в массе всегда терпеть не могли «Мадам Бовари», объясняя это тем, что она якобы скучна, а на французов наводит тоску «Остров сокровищ», и они удивляются, как его читают взрослые люди. У нас, англичан, совсем другое отношение к детской литературе, и самых больших наград удостаиваются писатели, способные написать такую книгу для детей, которую родители будут с удовольствием читать вслух своим отпрыскам. На «Острове сокровищ» Стивенсон нашел ключ, которым открывал сундук с деньгами Питер Пэн; возможно, Луису досталось не так много, как Алисе и Винни Пуху{Герои книг Барри, Кэррола и Милна, пользовавшиеся и пользующиеся огромной популярностью.}, но вполне достаточно, чтобы заставить нас восхищаться «романтикой судьбы».
«Мой отец, взрослый ребенок и романтик в душе, сразу же загорелся идеей этой книги. В его собственных историях, которые он каждый вечер рассказывал себе на сон грядущий, всегда фигурировали парусники, придорожные таверны, разбойники, старые моряки и бродячие торговцы тех времен, когда еще не изобрели паровую машину».
Самые сливки псевдоархаического общества! Мистер Томас Стивенсон потратил чуть не весь день, составляя опись предметов, которые должны были находиться в сундучке Билли Бонса, и у Роберта Луиса хватило ума ничего в ней не изменить. Таким образом, автор наглел в своем собственном доме экспертов, с которыми мог посоветоваться о том, что придется по вкусу малым и старым. А затем, когда увлекшая всех их идея была уже частично осуществлена, «перст судьбы» указал им на доктора Джэппа.
Доктор Джэпп, педант-шотландец, один из тех людей, которые считают своим долгом поправлять писателей в самых несущественных и второстепенных деталях, приехал в Брэмер специально, чтобы исправить ошибки, якобы допущенные Стивенсоном в очерке о Торо. Но… в этом-то мы и видим «перст судьбы» — доктору Джэппу, чего не знал Стивенсон, было поручено издателем журнала «Янг фолке» («Юный читатель») найти книгу, которую можно было бы печатать с «продолжением». Доктор Джэпп увез с собой первые главы «Морского повара» (как первоначально назывался «Остров сокровищ»), и в свое время вся книга (с прологом, который был впоследствии изъят) появилась в журнале. Она принесла ее автору 34 фунта 7 шиллингов 6 пенсов звонкой монетой и… не принесла успеха у юных читателей.
Причина всех споров об «Острове сокровищ» и незаслуженной критики произведения кроется в том, что книгу эту рассматривают просто как «роман», не принимая во внимание ее жанровых особенностей и не взяв на себя труд выяснить, каковы были цели и критерии автора. «Остров сокровищ» нельзя сравнивать с таким романом, как «Мадам Бовари», поскольку цели, которые преследуют эти две книги, и художественные критерии их прямо противоположны. «Остров сокровищ» не принадлежит к «художественным» романам для взрослых, как и к широко распространенному типу «взрослых» книг, которые пришлись по вкусу детям. Сравнивать «Остров сокровищ» с «Путешествиями Гулливера» — а это часто делают, — несправедливо по отношению к Стивенсону, потому что взрослый читатель Свифта видит в его книге моральную и интеллектуальную сатиру, которую не замечает ребенок, увлеченный фабулой чудесной сказки. Взрослый не может извлечь из «Острова сокровищ» больше того, что извлекает подросток, к тому же взрослый должен на время забыть все, что он знает, и не задавать никаких вопросов, касающихся правдоподобия сюжета, мотивов действия и развития образов. Подростков не пугает неправдоподобие, и у них не хватает терпения следить за развитием образа. Вполне возможно, что первых читателей отпугнул от книги великолепно сделанный анализ характера Билли Бонса, данный в начальных главах «Острова сокровищ». Им, видимо, надоело читать про него, да и вообще весь этот кусок слишком хорош для книги такого жанра. Подростка вполне удовлетворяют несколько самых элементарных мотивов действия, он наслаждается проявлением силы как таковой и теми сценами сражений, которые, как говорит Саймондс, «Стивенсон малюет единым взмахом кисти, используя одну-единственную краску — кровь». Чтобы должным образом оценить «Остров сокровищ», следует признать тот факт, что книга эта относится к особому жанру — жанру приключенческой литературы для подростков, и среди книг этого вида, несомненно, занимает почетное место.
Горячность, с которой в письме к Хенли Стивенсон нападает на всех тех, кто хочет, чтобы он продолжал писать «изысканные, возвышенные, распроклятые шедевры», свидетельствует, видимо, об угрызениях совести из-за того, что он предал высокие идеалы, которые до тех пор так гордо защищал. В «Моей первой книге» он откровенно говорит, что писал «Остров сокровищ» с единственной целью — заработать деньги, и мило признается в своих сознательных и бессознательных заимствованиях, которые в конечном счете являются неотъемлемой принадлежностью этого жанра; «повторить, заменив имена, декорации и костюмы» — таков его рецепт. И, несомненно, «книга сулила куда больше монеты, чем любое количество рассказов «ужасов», как он пророчески писал Хенли. Хотя вначале она расходилась медленно, за пятнадцать лет после ее выхода было продано семьдесят пять тысяч экземпляров.
Несмотря на удовольствие, которое Стивенсон получал, когда писал «Остров сокровищ» («по главе в день», как говорится в «Моей первой книге»), книга не была закончена ни в Брэмере, ни в Англии, куда они затем поехали. В той же статье Стивенсон сообщает, что остановился на шестнадцатой главе, а в письме к Хенли, датированном 1881 годом, он говорит, что добрался до девятнадцатой, возможно, он вычел пролог. Во всяком случае, хотя книга начала выходить «с продолжением» еще до того, как Стивенсон покинул Англию, закончил он ее в Давосе, в Chalet am Stein (Дом на скале), который они с Фэнни арендовали на зиму. Они приехали в Давос 18 октября 1881 года, и в «Моей первой книге» Стивенсон рассказывает, что именно там он «однажды утром сел за неоконченную повесть» и, «вновь захлестнутый волной восторженного рвения», дописал ее с прежней скоростью — по главе в день.
Стивенсон тяжело поплатился за это пылкое рвение, как явствует из письма Саймондса к Горацию Брауну от 2 ноября 1881 года. Саймондс пишет, что заходил в тот день к Стивенсону, и добавляет:
«Он лежал в постели, и вид его меня напугал — желтые щеки с багряными пятнами румянца на скулах, бескровные губы… лихорадка… отсутствие аппетита… и все вокруг так неуютно. Воггз скулит. Миссис Стивенсон выбивается из сил, чтобы как-то скрасить положение».
Должно быть, речь идет о той «очень жестокой» простуде, о которой Луис упоминает в письме к отцу. Картина, нарисованная Саймондсом, выглядит мрачно, но не следует забывать, что он был богатый человек, привыкший к роскоши, и видел убожество там, где Стивенсон, вероятнее всего, его не находил. Однако зима действительно была для него очень тяжелой, тем более что Фэнни сама заболела («отравление» по диагнозу Луиса, но на самом деле камни в желчном пузыре) и в начале декабря уехала в Берн показаться врачу, взяв с собой Ллойда. Стивенсон, к его неудовольствию, остался в доме один. Накануне рождества он отправился встречать их и позднее с обычной для него яркостью описал эту трудную семичасовую поездку в открытых санях:
«Мороз стоял невероятный. Я мучился сильнее, чем в кресле дантиста… Мужество покинуло меня, и весь остальной путь я пребывал в том же немом оцепенении, что и остальные. Единственное, чего я боялся, как бы Фэнни не попросила бренди, настойки опия или еще чего-нибудь. Мысль о том, что придется выпростать руки, была столь ужасна, что я невольно думал — а вдруг я ей откажу».
Если учесть при этом, что у Фэнни еще не раз бывали рецидивы ее болезни, трудно согласиться с теми, кто полагает, будто этот второй сезон в Давосе оказался «более счастливым и плодотворным, чем первый». Когда Стивенсоны уезжали оттуда, они, судя по всему, твердо решили больше в Давос не возвращаться. Лаконичная фраза Саймондса: «Воггз скулит» относилась к тому, что у пса открылась очень болезненная язва, которую Стивенсоны сперва не умели лечить и лишь мучились, глядя на страдания Воггза. Двое больных и воющая от боли собака — веселенькая компания! Однако в том же ноябре Саймондс дважды сообщает, что Стивенсону лучше («но всего несколько дней назад у него шла горлом кровь») и что, по-видимому, он сохранил или вернул себе былое мужество и хорошее настроение.
«Как бы я хотел, чтобы все мы были похожи на Стивенсона! Быть, вполне резонно и справедливо, довольным своим стилем, иметь чистую совесть и бодрость духа и легко относиться к жизни — какое это блаженство!»
Ни собственная болезнь, ни печальное состояние здоровья Фэнни не помешали Стивенсону писать. В апреле 1882 года он мог сообщить матери, что за вторую зиму в Давосе он закончил «Остров сокровищ», написал «Скваттеры Сильверадо», девяносто страниц «журнального материала» и предисловие («Критическое предисловие» к сборнику «Люди и книги»), «Журнальный материал» включал в себя очерки «Болтовня и болтуны» и «Разговоры о романтике». Какое-то время ушло у него на собирание материалов для биографии Хэзлитта, так и не написанную, и на стихотворения, вошедшие в сборник «Детский цветник стихов» (он называл их «грошовые свистульки»), которые он начал писать еще в Брэмере. Для отдыха они с Ллойдом играли на чердаке в оловянных солдатиков и печатали на детском печатном станке стихи и гравюры. Никто не упрекнет Стивенсона в том, что он мало работал в ту зиму. К счастью, Роберт Луис с полным основанием может утверждать, что работал не только много, но и хорошо, так как «Остров сокровищ» — если не лучшая, то одна из лучших книг для подростков, да и все остальные произведения, только что перечисленные нами, самого высокого качества. И все же то тут, то там можно заметить следы спешки, найти погрешности, даже в его знаменитом стиле, который Саймондс справедливо оценивал столь высоко.
Прочитайте нижеприведенный отрывок из предисловия к «Людям и книгам» (курсив мой. — Р. О.):
«Если бы было возможно написать заново некоторые из этих заметок, я надеюсь, у меня хватило бы мужества на это. Но это невозможно. Краткие наброски похожи, по крайней мере должны быть похожи, на тканый ковер, из которого нельзя вытянуть ни единой нити. То, что здесь извращено, навсегда останется здесь, как вспомогательное средство оттенить то, что достоверно. Возможно, одно — это написать новую книгу, но вместе с новой «точкой зрения» возникнут новые извращения… и так далее».
Прежде чем закончить абзац, хочется употребить еще одно «это». Как это ни прискорбно, ни один из многочисленных советчиков Стивенсона, о которых с такой горечью писала его жена, не заметил, что здесь мастер стиля изменил сам себе.
В «Людях и книгах», как почти в любом сборнике «случайных заметок», единственным связующим звеном между очерками является то, что они показывают развитие литературных вкусов автора и помогают нам понять его индивидуальность. Стивенсон говорит о Бернсе и Торо, Вийоне и Джоне Ноксе, Уитмене и Шарле Орлеанском, Пеписе и японском националисте Иосида-Торайиро. Каждый очерк представляет собой законченное целое, и многие из них — маленькие шедевры, а отдельные наблюдения, как всегда, интересны и остры. От шотландца требовалась не только прозорливость, но и отвага, чтобы сразу после смерти Карлейля[98] писать.
«Карлейль навязывает собственную «точку зрения» людям, творчество которых он разбирал, мало сказать с жестокой, с неуемной непреклонностью. Слишком часто он втискивает свои жертвы в прокрустово ложе предвзятой идеи и почти всегда калечит их. Риторические штучки Маколея[99] легко заметить; куда труднее дать правильную оценку моральным предрассудкам Карлейля».
Сейчас романы Виктора Гюго в своем большинстве (за исключением «Собора парижской богоматери») — выброшенные на сушу морские чудовища, которые вряд ли когда-либо вновь станут плавать, и, избрав их предметом статьи, Стивенсон показал, что он не всегда был так дальновиден, как в случае с Карлейлем. Однако в статье есть очень тонкие отдельные наблюдения, как, например: «Эта жестокость, это бессмысленное и мучительное насилие над чувствами — главное, что отличает мелодраму от трагедии». Здесь он очень точно указывает на коренное и непреходящее различие этих двух жанров литературы. Как ни странно, Стивенсон называет мелодрамой все вещи Гюго, кроме «Отверженных», будто, читая, как молодая мать продает волосы и зубы, чтобы добыть денег и накормить умирающего от голода ребенка, мы не испытываем мучительного насилия над нашими чувствами! А в «Отверженных» это не единственный мелодраматический эпизод.
Об этюде, посвященном Бернсу, мы уже упоминали в связи с яростными нападками, которым эта работа подверглась со стороны шотландских националистов после выхода в периодической печати. Возможно, этот очерк не лучшее, что было написано о Бернсе, но в нем есть здравый смысл, непредвзятость, ум и честность, чего никак нельзя сказать обо всей литературе по поводу Бернса.
Обзор французской и американской литератур в «Людях и книгах» свидетельствует о верности Стивенсона его старым пристрастиям. Стивенсон был многим обязан американским писателям, хотя преувеличивал, говоря, что после того, как прочитал Торо, не написал и десяти строк, где бы не чувствовалось его влияния. При всем том влияние Торо, так же как и Уитмена, было действительно велико, и мы можем только сожалеть, что у Стивенсона нет очерков, посвященных Готорну и Мелвиллу, хотя, возможно, он познакомился с романами Мелвилла позднее. Приятно было узнать из письма Луиса, что Мелвилл — «первый класс», но еще приятнее было бы увидеть развернутое и ясное обоснование этой высокой оценки. После сборника «Люди и книги» Стивенсон опубликовал всего две статьи, посвященные писателям и их произведениям: автобиографический очерк «Книги, оказавшие на меня влияние» и этюд о Дюма-отце.
Бурная творческая активность, которой не помешала даже болезнь, — благодаря чему нам памятна зима 1882 года, — прервалась, когда в апреле Стивенсоны покинули (навсегда) Давос, чтобы провести лето вместе с родителями Луиса в Шотландии. За лето он написал всего одну книгу — «Сокровище Франшара».
Хорошей стороной этих поездок в Шотландию были встречи с родителями и друзьями, а также дальнейшее знакомство с шотландской жизнью и народными традициями, которое Луис впоследствии использовал в своих лучших беллетристических произведениях. Дурной же их стороной приходится признать то, что ветры, дожди и холода, столь частые в Шотландии даже летом, пагубно отражались на здоровье Луиса. Так произошло и в 1882 году. После недолгого пребывания в Лондоне (где он вновь видел Мередита) и месяца в Эдинбурге Стивенсон поехал со всей семьей в Пиблзшир. Не прошло и двух недель, как он заболел, и ему было предписано переехать на север, в Инвернисшир. В начале сентября после еще одного горлового кровотечения Роберт Луис отправился в Лондон на консультацию к Эндрю Кларку. Так как Фэнни также заболела, это время оказалось для них очень трудным. Однако нет худа без добра — Кларк согласился на то, чтобы Стивенсон вместо Давоса пожил на юге Франции, а также посоветовал прекратить губительные для него поездки в Шотландию. Так как Фэнни еще не оправилась после болезни, во Францию с Луисом поехал Боб Стивенсон, чтобы помочь найти место, где писатель мог бы если не жить полной жизнью, то хотя бы выжить.
Даже в те изобильные времена «найти место» при ограниченных средствах было не так-то просто. Сперва они попробовали обосноваться в Монпелье, в Лангедоке; казалось бы, лучшего трудно было желать, так как мистраль там сравнительно слаб, а в городе много санаториев и больниц. И даже за пределами Франции он с давних пор славится как курорт для туберкулезных больных. В XVIII веке один район Лондона назывался «Монтпелье» (его до сих пор пишут неправильно), так как считалось, что там самый чистый воздух.
К несчастью, почти сразу же по приезде в Монпелье у Луиса пошла горлом кровь, и врач посоветовал ему там не оставаться. Бобу Стивенсону пришлось уехать, и Роберт Луис один отправился в Марсель, где в середине октября к нему присоединилась Фэнни.
Несмотря на свою репутацию «практичной» женщины, Фэнни, как показывают события нескольких последующих месяцев, не всегда могла обуздать своего непрактичного мужа. Через три дня после ее приезда Луис нашел дом под названием «Кампьен Дефли» в Сен-Марселе, восточном предместье Марселя, и тут же в него влюбился. Не собрав, по-видимому, никаких сведений о тамошнем климате и погоде и не посоветовавшись с врачом, они арендовали дом. В окрестностях Марселя часто дует мистраль (до 175 дней в году), и этим, возможно, объясняется, что Стивенсон, живя там, не переставал болеть и перенес несколько горловых кровотечений. Это могло обескуражить кого угодно, тем более что Стивенсон надеялся, покинув Давос и Шотландию, укрепить здоровье и вернуть утраченную бодрость духа. В довершение ко всему незадолго до рождества в Марселе вспыхнула эпидемия тифа, и они тут же решили, что Роберт Луис поедет в Ниццу немедленно, а Фэнни — как только прибудут деньги. К сожалению, все меры, принятые ими для того, чтобы поддерживать связь, оказались недействительными. Не получая от Луиса известий, Фэнни волновалась все больше и больше и совершала бесполезные поездки в Марсель и Тулон в поисках людей, вернувшихся из Ниццы. Невозможно поверить, но почтовое и телеграфное сообщение между Ниццей и Марселем было прервано больше чем на неделю. Все трудности оказались бы разрешены, если бы Луис мог прислать в Сен-Марсель хоть одну телеграмму… Ницца и хороший врач вновь восстановили силы Стивенсона, и в марте 1883 года, спустя два месяца, проведенных частично в Ницце, частично в Марселе, наша «практичная» пара оказалась в отеле «Иль д’Ор» в Йере.
Оттуда они переехали в шале «Солитюд» — «Одиночество», расположенное на склоне горы, в котором, по словам Стивенсона, он провел счастливейшие дни своей жизни. Они оставались там до мая 1884 года, когда у Луиса вновь началось очень сильное горловое кровотечение.
Хотя в «швейцарском» шале, столь мало уместном в Средиземноморье, насчитывалось шесть комнат и кухня, они были малы, слишком малы. Объяснялось это тем, что шале, купленное его владельцем на выставке, являлось моделью, по которой должно было быть построено в дальнейшем настоящее здание. Для француза-хозяина, который приезжал туда с семьей лишь на лето, миниатюрные размеры домика не имели значения, тем более что ели они в саду. Стивенсон очень любил этот сад и прекрасный вид, открывавшийся оттуда, и в письмах к друзьям лирически, пожалуй, даже слишком лирически, описывал свои великолепные владения. Фэнни сделала более ценное с житейской точки зрения приобретение, найдя Валентину Рох, идеальную служанку, которая делила все их радости и невзгоды в течение шести лет, пока, как все хорошие служанки, не связала себя брачными узами. С денежного фронта тоже поступали хорошие известия. При посредстве Госса удалось продать «Скваттеров Сильверадо» мистеру Гилдеру, издателю «Сентчури мэгэзин». Хотя он предложил за книгу всего сорок фунтов — низкая цена для такого богатого журнала, — Стивенсон был доволен. Но еще больше он был доволен, когда издатель Кассел заплатил ему сто фунтов аванса за право издания «Острова сокровищ». Согласно подсчетам Грэхема Бэлфура, за семнадцать лет, прошедших от первого выхода в свет до 1901 года, роман принес свыше двух тысяч фунтов. Тоже недостаточно большая цифра для этой книги, единственной в своем роде по художественным достоинствам, силе воздействия и популярности среди читателей, но надо учесть существование как в Америке, так и, без сомнения, в некоторых других странах «пиратских» изданий, осуществлявшихся вопреки авторскому праву. Сделка с Касселом была совершена при посредничестве Хенли, который в течение нескольких лет выступал в качестве неофициального агента Стивенсона. Среди новых произведений, написанных Стивенсоном в том году в шале «Солитюд» в Йере, были стихи, которые он включил в «Детский цветник стихов», роман — еще не законченный им «Принц Отто» — и книга «с продолжением» для журнала «Янг фолке» под названием «Черная стрела». По иронии Стивенсоновой судьбы «Черная стрела», уступающая по всем статьям «Острову сокровищ», пришлась по вкусу юным читателям этого журнала в такой же мере, в какой «Остров сокровищ» показался им скучным. В данном случае Ллойд оказался куда более тонким и проницательным критиком, чем его сверстники.
В 1883 году они не ездили летом в Англию, напротив, родители приехали в Руайат, где обе четы Стивенсонов прожили вместе около двух месяцев. Руайат — небольшой курорт с минеральными источниками в Оверни, расположенный на высоте 1400 футов над уровнем моря; число местных жителей даже сейчас не превышает три с половиной тысячи человек. Там всего несколько гостиниц и казино, но, поскольку Руайат является фактически пригородом Клермон-Феррана, он имеет все преимущества большого города. Выбор оказался удачным — Стивенсон не заболел, и отношения с родителями были хорошие. Долгое сражение между отцом и сыном подходило к концу, в какой-то мере благодаря влиянию Фэнни, но в основном потому, что мало-помалу чаша весов стала склоняться на сторону Луиса Стивенсона. Прежде всего из-за того, что шло время. Хотя Роберту Луису все еще приходилось обращаться к отцу за деньгами, необходимость в этом становилась все меньше (в том году он мог похвалиться тем, что заработал четыреста шестьдесят пять фунтов), а отец старел и становился слаб здоровьем. Постепенно сын с удивлением и жалостью обнаружил, что по мере того, как сам он мужает, отец все более впадает в детство. С самого отрочества Роберт Луис раздражал отца и обманывал его ожидания, отец же относился к нему со странной смесью деспотизма и нежности, доброжелательности и полного непонимания. Парадокс заключается в том, что Томас Стивенсон способствовал своими субсидиями литературной карьере сына, хотя и противился ей. Мы уже рассказывали, как он возмутился только при одном предположении, что, возможно, наступит когда-нибудь в отдаленном будущем день, и сын станет зарабатывать не меньше отца. Так и случилось на самом деле, правда, лишь после смерти мистера Томаса Стивенсона. Материальный успех Роберта Луиса полностью упрочился только после выхода в свет «Доктора Джекила» и «Похищенного» в 1886 году, а платить столько, сколько он заслуживал, ему стали лишь после второй поездки в Америку в 1887 году. Но уже летом 1883 года упрямый, хотя и любящий, отец не мог больше отрицать того, что его сын — талантливый писатель, к тому же, несмотря на слабое здоровье, поразительно трудоспособный и плодовитый и что постепенно он начинает получать вознаграждение за свои таланты и труды. Каждому из них было в чем себя упрекнуть, каждому было что простить другому; и в течение нескольких солнечных недель в Руайате жизнь их текла, во всяком случае, мирно. Однако отношения их вовсе не стали с того времени такими идеальными и безоблачными, какими их старались представить приверженцы Роберта Луиса, твердившие о взаимной любви и полном понимании, якобы существовавших между отцом и сыном. Случались еще между ними и размолвки и конфликты — да и как иначе, когда эти два человека были столь различны и столь похожи друг на друга, — ведь каждый из них был кремень. За год до смерти отца Луис, живший тогда вместе с ним в Борнмуте, писал матери:
«…должен с прискорбием сообщить, что отец выдал мне сегодня утром полную порцию Хайда.[100] Начал он перед завтраком, как обычно, а затем, чтобы доказать, что был прав и имеет все основания гневаться, еще долго (видимо, нарочно) продолжал толковать о луне: я был суров и отказался с ним разговаривать, пока он не успокоится, после чего он признал, что вел себя глупо; однако, когда я, желая пощадить его самолюбие, попытался обратить все в шутку, он попробовал начать все сначала. С ним так трудно иметь дело».
Что плохого было в том, что старик говорил о луне, мне непонятно, разве что он намекал на абсолютно невинные ошибки сына в каких-то его романах; но, очевидно, столкновения, хотя и пустячные, происходили до последних дней отца.
Безмятежности их жизни скоро пришел конец, так как почти сразу после возвращения в Йер Роберт Луис узнал о смерти друга Уолтера Ферриера. Утрата эта казалась тем тяжелей, что Ферриер был первым среди полудюжины его самых старых и близких друзей. Вскоре после того Луис пишет Бобу Стивенсону, что «спустился на несколько ступенек», и уточняет: «болят зубы; лихорадка; смерть Ферриера легкие»; далее уведомляет, что едет в Ниццу «без гроша в кармане» на консультацию к врачу. Все это не помешало ему упорно трудиться, что отразилось в уже приводившемся нами письме, где он с торжеством сообщал о том, как много он в тот год заработал.
В начале 1884 года «романтика судьбы» (и, возможно, небольшая субсидия, данная Стивенсоном Хенли) привела Хенли и Чарлза Бэкстера в Йер и чуть не убила Луиса. Время не ослабило недоверия и неприязни Фэнни к некоторым из друзей мужа, а уж кого из них она не любила, так это Хенли, который, разумеется, не делал ничего, чтобы расположить ее в свою пользу. Хенли, как и его друг Стивенсон, был инвалид, но его уязвимым местом была нога, а не легкие, и, когда он пил, шумел, хохотал, не спал ночами, это не причиняло ему вреда. Понять то, что любые крайности были абсолютно противопоказаны болезненному, легко возбудимому, чрезмерно впечатлительному чахоточному Стивенсону, он не мог или не хотел. Фэнни правильно против всего этого восставала, но Хенли, безусловно, был самым близким по духу из всех литературных друзей Стивенсона, а отнюдь не завистником и предателем, каковым считала его Фэнни. Спору нет, возможно, уже в 1884 году он возмущался «вероотступничеством» Луиса, которое видел в его якобы стремлении к респектабельности и интересе к «Краткому катехизису» и приписывал все это враждебному воздействию Фэнни.
Родной сын Фэнни Ллойд запечатлел для нас образ Хенли тех лет, его энергию и жизнелюбие, и мы легко можем понять, почему тот привлекал Стивенсона и оказывал на него такое влияние.
«Он был первым взрослым, которого я называл просто по имени, первым человеком, дружбы которого я домогался и добился. Массивный, широкоплечий, темпераментный мужчина с густой рыжей бородой и костылем; общительный, веселый, удивительно умный, с громким, раскатистым смехом. Второго такого, как Уильям Эрнест Хенли, не было и нет. Трудно вообразить его пыл и энергию — они просто сшибали вас с ног; трудно найти слова, чтобы описать присущий ему дар вселять бодрость во всех, кто с ним общался, заражать своей верой в собственные силы и в самого себя…»
Нечего удивляться, что Фэнни видела в нем угрозу как здоровью Луиса, так и своей власти над ним. Если бы у Стивенсона появилась энергичная, еще не старая теща, обожающая Фэнни и считающая зятя малоудачным приобретением, он бы испытывал к ней те же чувства, которые Фэнни питала к Хенли. Полностью забывая о том, что Хенли способствовал материальному успеху Луиса, действуя в качестве его дарового агента, — достаточно указать хотя бы на сто фунтов аванса за «Остров сокровищ», — она, естественно, возмущалась, когда Луис давал ему деньги.
Ясно, что, когда в «Солитюд» появился этот колосс вместе со стряпчим, который тоже был приличных размеров, шале стало походить на настоящий кукольный домик. Кто бы из них троих — Хенли, Стивенсон или Бэкстер — ни предложил поехать в Ниццу, Фэнни не без основания полагала, что идея исходит от Хенли. Хотя в законном стремлении помочь мужу Фэнни, пессимистка, как большинство людей, живущих с оптимистами, и переоценивала свои способности, что сказывалось в недостаточно критическом отношении к медицинским «советам», которые печатались в «Ланцете», она все же была абсолютно права, когда не пускала к Луису простуженных людей и считала, что при его состоянии здоровья не следует ехать в Ниццу в компании с двумя любителями поговорить и выпить. Вскоре друзья были вынуждены признать, что Луис «свалился» с плевритом и воспалением почек — второе скорее всего явилось следствием слишком обильных возлияний. Когда двое «преступников» — если они были таковыми — отбыли восвояси, Фэнни осталась в Ницце одна с больным мужем, и пользовавший его врач-англичанин предупредил ее, что он умирает. Всякому ясно, как при ее легковерии и пессимизме могли подействовать на Фэнни его слова, тем более что они сопровождались зловещим советом вызвать кого-либо из друзей, которые помогли бы ей с похоронами и прочими хлопотами. Фэнни, никогда не простившая Хенли его участия в этом злополучном кутеже и впавшая в ярость из-за того, что Уолтер Симпсон не кинулся немедленно ей на помощь, пишет в своем дневнике о том, как она глубоко благодарна Бобу, который, напротив, откликнулся на ее зов.
Второй раз — после тяжелой болезни в Калифорнии — здоровье Стивенсона оказалось в критическом состоянии. Когда он поправился — вернее, чуть-чуть оправился — и вернулся в Йер, его уложили в постель, прибинтовали правую руку к ГРУДИ и строго-настрого запретили разговаривать. В довершение ко всему у него разыгрались ишиас и ревматизм и началась офтальмия, так что ему нельзя было ни писать, ни читать, ни играть в какие-нибудь игры, одним словом, оставалось только лежать в тоске без сна, пока ему не дадут снотворное. О мужестве и остроумии Стивенсона при этом и подобных испытаниях рассказывают много историй, возможно, вымышленных, как это бывает с биографическими анекдотами, а возможно, и соответствующих истине. Говорят, например, что, когда у Луиса обнаружили офтальмию, Фэнни иронически заметила: «Ну ничего лучше не придумаешь», и он умудрился нацарапать на листке бумаги ответ: «Как странно, я хотел сказать то же самое». Если это и не произошло, то вполне могло произойти Так же веришь и следующему случаю: какой-то приятель посочувствовал Стивенсону в том, что он вынужден почти все время молчать, и Луис ответил: «Это тоже занятие». Говорят, что несколько стихотворений из «Детского цветника стихов» были написаны им тогда левой рукой.
9 марта 1884 года Стивенсон сообщал Колвину:
«Сегодня я благодаря чистому небу и целительному, громогласному, антисептическому мистралю в прекрасном здравии и не менее прекрасном настроении. Денег уходит на редкость мало. Фэнни отправилась в коляске на какие-то луга, где сейчас цветут нарциссы…»
Писание писем и, можно не сомневаться, литературная работа возобновились, как только он поправился, но ненадолго. Однажды вечером в начале мая он ВДРУГ закашлялся и чуть не захлебнулся от хлынувшей горлом крови. Фэнни так разволновалась, что не могла отмерить нужную дозу эрготина, и он сделал это сам, написав перед тем: «Не пугайся. Если это смерть, то умирать совсем не трудно». Да, сохранить присутствие духа и чувство юмора при столь тяжелом кризисе было куда труднее. Положение Стивенсона оказалось настолько критическим, что ему прислали врача из Англии, и, хотя тот смотрел на вещи менее мрачно, чем его коллега в Ницце, все же Стивенсону был предписан строгий ограничительный режим на два года вперед.
«Абсолютный покой, никаких волнений, никаких потрясений и неожиданностей, даже приятных; не есть слишком много, не пить слишком много, не слишком много смеяться; можно немного, но действительно немного, писать, очень мало разговаривать и как можно меньше ходить».
Часть этих запретов, адресованных непосредственно некоторым из его друзей, любивших пирушки и не обладавших чувством меры, показывает, насколько Фэнни была права. Но судьба не допустила, чтобы Стивенсон недели и годы вел полурастительную жизнь в шале «Солитюд».
В 1883 году эпидемия холеры добралась наконец до Йера, и Фэнни, читавшая «Ланцет» от корки до корки, всерьез испугалась — не без оснований — и начала настаивать на отъезде. С помощью сестры Уолтера Ферриера и слуги-инвалида («я нанял его по дешевке, из вторых рук») Стивенсона перевезли в Марсель, а затем в Руайат, откуда он вновь был вынужден вернуться в Англию.
9
«Уэнслидейл, Борнмут
28 сентября 1884 года
Дорогие мои родичи!
Мне лучше, и сегодня я в первый раз спустился вниз. В закромах хоть шаром покати — ни цента. Не подкинете ли нам немного? Равноденствие, и уже целую неделю бушует шторм. Все небо затянуто тучами; пронзительно воет ветер, сечет дождь. Море очень красивого цвета. Под утесами «Старого Гарри» лежат на якоре парализованные ветром корабли; глядя на них, радуешься, что ты на берегу, а не в море.
Чета Хенли уехала; две пьесы фактически закончены. Надеюсь, они принесут мне немного наличных.
Ваш любящий сын Р. Л. С».Это просительное письмецо, в котором почти не осталось присущих письмам Луиса жизнерадостности, остроумия и живости, показывает, до чего изнурила его болезнь. Вместе с тем, хотя оно коротко и небрежно, мы достаточно узнаем из него о той однообразной жизни, которую Стивенсон вел в Борнмуте. Он болел и не успел поправиться, как вновь захворал; погода часто бывала неблагоприятной для здоровья; его терзала забота о деньгах; он усердно трудился, если мог, а это значило, что приходилось писать при таком самочувствии, когда любой другой бросил бы работу; и из Лондона к нему приезжали друзья, не вызывая этим восторга Фэнни, особенно если она видела, что у них насморк. Конечно, жизнь не всегда бывала такой унылой. Случались времена, когда Луис чувствовал себя лучше, приходили хорошие вести с книжного фронта, и Стивенсоны забывали свои невзгоды. Значительно легче им стало, когда весной 1885 года они смогли отказаться от меблированного дома, который снимали в Борнмуте, и перебрались в собственный дом, подаренный Фэнни Томасом Стивенсоном вместе с пятьюстами фунтами на обзаведение.
Большинство женщин любит обставлять и украшать свой дом, а американки, как правило, превосходят в этом всех прочих энергией и умением, но Фэнни даже своих соотечественниц оставила позади. До нас дошло много описаний ее трудов в «Скерриворе» (как Стивенсон назвал новый дом из признательности к отцу), но вряд ли какое-нибудь из них может сравниться с восторженным отзывом одного из биографов Роберта Луиса, утверждавшего, что «…новое владение Стивенсонов радовало глаз элегантностью и отличалось самыми современными удобствами; вместе с тем хороший вкус хозяев в сочетании со стесненными средствами помогли им избежать чрезмерной роскоши, которая всегда вульгарна».
Понадобилась бы весьма тонкая проницательность, чтобы определить, в какой степени отсутствие вульгарной роскоши было вызвано хорошим вкусом, а в какой — стесненными средствами, но, к сожалению, этой задачи автор статьи перед собой не ставил. Зато мы знаем другое — Фэнни нашла применение своей энергии не только в самом доме, но и в саду, который она перепланировала и засадила цветами, выращенными из семян, которые ей прислали из Америки. Говорят, что в хорошую погоду Стивенсон гулял по дорожкам сада с красным зонтиком в руке и наблюдал, как работает жена. Какой разительный контраст — если это правда — с той физической активностью, которую он проявлял после выздоровления на Самоа. Так или иначе годы, проведенные в Борнмуте, прошли под знаком болезни самого Роберта Луиса и приближающейся смерти его быстро дряхлеющего отца. Роберт Луис почти никуда не выезжал, и самая дальняя его поездка, предпринятая вместе с Хенли, была в Париж к Родену. Несколько раз он гостил у Колвина в Лондоне, ездил в Мэтлок и Экзетер, но почти всегда имел основание сожалеть даже об этих весьма скромных вылазках. Если бы не приезды друзей, не работа и появление в печати его книг, жизнь эта неизбежно превратилась бы лишь в летопись рецидивов болезни и временных улучшений.
Иногда спрашивают: почему после таких малоудачных первых месяцев в Борнмуте Стивенсоны все же там остались и даже допустили, чтобы их привязали к нему собственным домом? Причин тому было много. Эпидемия холеры тянулась до 1887 года, а в те времена в Англия с ней эффективнее боролись, чем на континенте, — факт, который отнюдь не прошел мимо внимания Фэнни, их доморощенного семейного медика. Многолетняя борьба между отцом и сыном закончилась наконец перемирием, и Роберт Луис прекрасно понимал, что отцу недолго осталось жить, а в возможности видеться с сыном для него заключалось все. Фэнни плохо владела французским, и в Йере у Стивенсонов было мало знакомых, в Борнмуте же, по крайней мере, говорили по-английски и друзья часто навещали их там. Несомненно, Фэнни предпочла бы хотя бы часть времени жить у себя на родине. Они обсуждали, не поехать ли им на один из курортов Колорадо (об этом упоминает Саймондс), и после смерти мистера Стивенсона, когда у них оказались кое-какие деньги, действительно уехали в Америку… покинув Англию навсегда. А пока что Борнмут был, несомненно, самым приемлемым компромиссом. Но даже при том, что у Стивенсонов появился свой дом и к ним приезжали друзья (главным образом его друзья, между прочим), жизнь там вряд ли была для них особенно веселой.
В только что приведенном письме упоминается о семействе Хенли и о совместной работе над пьесами. Должно быть, имеются в виду «Адмирал Гини» и «Красавчик Остин», до которых был написан «Дикон Броуди», а после — злосчастный фарс «Макэр». Инициатором создания этих неудачных и отнюдь не прибыльных пьес являлся Хенли, который был убежден, что они принесут им успех и деньги. Стивенсон относился к его затее куда более скептически и проявил непривычную для него практическую сметку, сказав как-то Хенли, что слишком стеснен в средствах, чтобы позволить себе тратить время на такую сомнительную работу. Это, естественно, пришлось не по вкусу Хенли, пышущему энергией и оптимизмом, но время показало, что Стивенсон был прав. Единственной из пьес, имевшей хотя бы скромный успех, был «Дикон Броуди» — своеобразный предтеча «Доктора Джекила», а когда брат Хенли отправился с этими пьесами в турне по Америке, его ждал полный провал. Тот факт, что даже столь широко известные имена, как имена Стивенсона и Хенли, не смогли обеспечить пьесам успеха, показывает, насколько строги были в те времена требования, предъявляемые сценой. Долгое время считали, будто Фэнни неодобрительно относилась к этому проблематичному предприятию и будто ее противодействие сотрудничеству Луиса с Хенли было одной из основных причин неприязни Хенли к ней. На самом деле она смотрела на эти пьесы с не меньшим энтузиазмом, чем сам Хенли, и принимала активное участие в их обсуждении, полагая, что они принесут много денег. Возможно, Фэнни и сердилась на Хенли, когда время показало, что он переоценил их шансы, но основания для взаимной вражды крылись не в литературе, а в жизни. В отношении этих пьес пессимистка Фэнни, которая, по словам мужа, могла извлечь мрак даже из солнечного луча, оказалась единственный раз в жизни жертвой необоснованного оптимизма.
Главным преимуществом Борнмута была его близость к Лондону и Эдинбургу. Мистер и миссис Стивенсоны жили там неподалеку от Луиса и Фэнни весь 1884 год, и нетрудно догадаться, что дом мистер Томас Стивенсон подарил Фэнни только ради того, чтобы крепче привязать к себе сына. Понятно, родители подолгу гостили у него. Наряду с супругами Хенли, вернее, следом за ними, в доме появлялись и другие старые друзья — Боб с женой и его сестра Катарина де Маттос, Колвин, Бэкстер и перед самой своей смертью профессор Дженкин. Саймондс, который виделся со Стивенсоном в последний раз незадолго до его поездки в Америку, писал: «Я провел день в Борнмуте у Стивенсонов. Здоровье его страшно пошатнулось. В следующем месяце они всей семьей едут в Колорадо. Я надеюсь, со смертью отца его материальное положение станет легче. Но Луис по-прежнему тревожится из-аа денег. Он говорит, что получил за «Доктора Джекила» триста пятьдесят фунтов. Я думал, эта вещь принесет куда больше».
Эта короткая фраза — «здоровье его страшно пошатнулось» — свидетельствует о том, насколько хуже стало Стивенсону за тот период, что прошел с его отъезда из Давоса (в 1882 году) до приезда Саймондса в Борнмут в 1887 году. И все же, несмотря на отчаянную борьбу с болезнью, Стивенсон умудрился за эти годы приобрести новых друзей и удержать их при себе до конца жизни.
Среди них были Генри Джеймс[101] и Сарджент,[102] который написал два лучших портрета Роберта Луиса. В числе новых друзей Стивенсона был также, — если он когда-либо действительно стал ему настоящим другом, — Уильям Арчер, с которым Стивенсон познакомился, прочитав его критическую статью о себе, где тот в весьма откровенной и иронической форме подвергал сомнению искренность стивенсоновского оптимизма и увлечения приключенческой романтикой. Судя по одному из писем, посланных ему Стивенсоном после того, как он прочитал эту статью, Арчер довольно сильно задел его за живое.
«Если вы знали, что я хронический инвалид, зачем говорить, что моя философия не подобает человеку в таком положении? Меня не так влекут факты, как вас, но к чему же выворачивать самый существенный факт наизнанку?»
Иронический тон статьи Арчера был, видимо, вызван его желанием подчеркнуть наигранность, как он считал, и предвзятость оптимизма Стивенсона, который достиг всеобщего признания, избегая говорить о реальных фактах как своей личной жизни, так и жизни всего человечества. Счастье отнюдь не «великая задача»[103] человека, это побочный продукт нашего существования, и когда Стивенсон, лежа в постели после очередного кровотечения, — полуслепой, рука привязана к боку, — писал, что мы должны быть «счастливы как короли», это, возможно, казалось Арчеру позой и лицемерием. Стивенсон это понимал, что явствует из следующих строк того же письма:
«Все дело в том, что, сознательно или нет, вы сомневаетесь в моей честности, вы полагаете, что я гаерствую, и в глубине души не верите моим словам… Вполне ли справедливо… рассматривать только самые беспечные из моих произведений, а затем утверждать, будто я не признаю существования зла. Однако в очерке о Бернсе, к примеру, видно, что я ясно различаю некоторые проявления зла. Хотя, возможно, эти проявления вас как раз не интересуют».
В статьях Арчера впервые завуалированно прозвучал упрек Стивенсону, ставший куда конкретнее и яростнее после краха викторианского благоденствия, позволявшего закрывать глаза на факты реальной жизни: от катастрофы 1914 года ни Англия, ни оптимизм так и не сумели оправиться. Насколько я понимаю, Арчер доказывал, что частное «зло», если это вообще было зло, причиненное пьянчужкой и бабником (называя вещи своими именами), ничто по сравнению с совокупным злом, причиняемым финансистом, который разоряет тысячи маленьких людей, честолюбивым политиком, который шагает по крови к личной власти, владельцем газеты, который в собственных интересах сознательно разжигает или поддерживает войну, ученым, который безответственно передает смертоносное открытие в руки людей с темпераментом дикаря и выдержкой ребенка.
Мы не знаем, было ли то вызвано нападками Арчера, но в лучшей книге, написанной Стивенсоном в Борнмуте, мотив зла является основным. Создается впечатление, будто «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» возникла — по воле автора или нет — из диспута Стивенсона с Арчером, хотя несомненна также и ее связь с историей Дикона Броуди. Как и любая книга, «Доктор Джекил» может быть подвергнут критике, даже если мы ограничимся указанием на «недостатки ее достоинств», как сказал Саймондс. Но она знаменательна тем, что принесла Стивенсону колоссальный литературный успех, особенно в Соединенных Штатах. У нее необычный и страшный сюжет; он подсказан Стивенсону во сне пресловутыми «человечками», разыгравшими перед ним очередной спектакль, который Фэнни, к неудовольствию мужа, преждевременно его разбудив, помешала досмотреть. В повести почти нет того, что зовется стилем, поэтому среднему читателю не мешают литературные красоты. Помимо всего прочего, драма «добра» и «зла» в человеческой душе преподносится здесь в знакомых всем англичанам терминах церковного красноречия. «Доктор Джекил», несомненно, относится к разряду повестей «ужасов» и кое-чем обязан По и, пожалуй, немного Диккенсу. Но по сути своей он оригинален и благодаря силе драматического воздействия пользуется широкой популярностью вот уже восемьдесят лет. Можно добавить еще, и вовсе не от желания чрезмерно расхвалить эту книгу, что «Доктор Джекил» является почти идеальным киносценарием, и действительно повесть послужила основой для одного из немногих фильмов, вызывающих неподдельное чувство ужаса.
По свидетельству Ллойда Осборна, черновой вариант повести, состоящий из двадцати пяти тысяч слов (по раздутым подсчетам Фэнни, в черновике их было шестьдесят тысяч), был написан за три дня. Фэнни Стивенсон подвергла критике этот вариант, в котором (как говорят) Джекил с самого начала — дурной человек, вроде Дикона Броуди, и превращение в Хайда имело «одну цель — маскировку». Фэнни якобы указывала Роберту Луису на то, что у него вышла очередная история с преступлением вроде «Маркхейма» (написанного в 1884 году), а ему следует писать аллегорию о «добре» и «зле». Это был превосходный совет, хотя любому писателю, только что произведшему на свет, — как он скромно надеется, — новый шедевр, такой совет вряд ли пришелся бы по вкусу. То ли с досады, то ли желая избежать влияния первоначального варианта, Стивенсон его сжег и написал всю историю заново в том виде, в каком мы ее теперь знаем. И опять-таки рассказывают, будто он сделал это за три дня. Даже для здорового человека, находящегося в хорошей форме и не занятого ничем другим, три дня подряд писать ежедневно по пять тысяч слов — тяжкий труд. Восемь тысяч слов в день для хронического больного — пусть это и Стивенсон с его энергией, мужеством и плодовитостью — явная небылица. Чтобы просто записать на бумаге всю историю, потребовалось бы от восьми до десяти часов в день, а Стивенсон, который в то время «только-только оправился от горлового кровотечения и получил строгое предписание врачей не разговаривать И не перевозбуждаться», работал тогда по два часа. (Наиболее достоверные из самых быстрых литературных марафонов — «Расселас»[104] и «Гай Мэннеринг». Первый из них — около тридцати пяти тысяч слов — был написан за неделю, что составляло около пяти тысяч слов в день, а второй — около ста шестидесяти тысяч слов — за шесть недель, то есть на день приходилось около четырех тысяч слов. Достижение Скотта представляется мне удивительнее, поскольку он держался этой нормы в течение более долгого срока.) Сам Стивенсон считает, что у него ушло на «Доктора Джекила» около десяти недель!
И все же, даже если мы справедливо подозреваем, что Ллойд и Фэнни решили подбавить масла в и без того вкусную кашу, «Доктор Джекил», бесспорно, был написан очень быстро, на одном дыхании. Это помогает понять, почему он читается с таким интересом, почему так захватывает от первой до последней страницы. Слова: «ни одной скучной строчки» и «я не мог закрыть книгу, пока не дочитал до конца» — полностью оправданы здесь, а если порой и встречаются погрешности стиля, их просто не замечаешь, чего нельзя сказать о некоторых других более «стилистически» отделанных произведениях Стивенсона.
Многие упреки по адресу этой истории кажутся мне необоснованными. Так, выражают недовольство тем, что Джекил по-своему столь же дурен, как Хайд, если не хуже. Без сомнения, это так с точки зрения скептика-интеллектуала XX века, но для современников Стивенсона преуспевающий, модный, купающийся в роскоши щеголеватый доктор являлся воплощением идеала. Выдвигают также возражение, что снадобье, благодаря которому происходила физическая трансформация Джекила в Хайда и обратно, с научной точки зрения невозможно. Конечно, нет. Но точно так же, как в большинстве приключенческих произведений Стивенсона, включая «Остров сокровищ», читатель должен принимать на веру неправдоподобные и просто нелепые факты, нужные автору для динамики действия, так в его фантастических повестях мы должны принимать на веру невозможные, казалось бы, причины удивительных результатов. К тому же снадобье приснилось Стивенсону, и он правильно сделал, приняв этот дар призрачных «человечков». Мало того, если мы ищем в «Докторе Джекиле» дополнительную мораль, то ее легко можно найти в конечном бессилии этого снадобья, символизирующем бессилие науки решить судьбу человека или облегчить его участь. Однако существуют не столь важные претензии к повести, которые являются более обоснованными. Так, после первой же публикации книги Фредерик Майерс[105] в письме к Стивенсону указал на некоторые неувязки; в том числе он отметил широко известный эпизод, где Хайд, готовясь принять свое снадобье в присутствии Лэньона, заклинает его молчать «и сохранить тайну нашей профессии». Казалось бы, доктор Лэньон должен был тут же с негодованием воскликнуть: «Вы не врач!» Даже если бы Хайд сказал: «Вашей профессии», — ответ был бы: «Вы не мой пациент!» Стивенсону ничего не стоило исправить ошибку, но он этого не сделал, и, в конце концов, какое это имеет значение? Могу поручиться, что при первом чтении девяносто девять человек из ста просто не заметят такого пустяка.
Пожалуй, более убедительное возражение выдвигает Арчер, критикующий Стивенсона в своей статье за то, что тот избегает зла, вернее, за его ограниченное представление о том, что собой представляет зло. Нам фактически не показаны дурные дела Хайда, лишь говорится, что он является воплощением сатанинской злобы, и в качестве примеров приводятся эпизод с упавшей девочкой, на которую наступил Хайд, и убийство сэра Дэнверса Кэрью. Эти поступки, несомненно ужасные сами по себе, все же направлены против отдельных лиц, а не общества. Предположим, к примеру, что в своей дьявольской злобе Хайд использовал бы медицинские познания Джекила и заразил холерой питьевую воду, которой снабжался Лондон. Это было бы преступлением грандиозного масштаба; да еще можно было бы прибавить великолепный сатирический штрих, устроив Джекилу овацию в газетах и пожаловав ему титул за спасение жертв холеры. Или Стивенсон мог приблизить образ Хайда к образу Дикона Броуди, сделав его главарем шайки взломщиков с Уэст-Энда, благо доктор Джекил был вхож в дома богатых, пациентов. При изобретательности Стивенсона и его фантазии трудно предугадать, куда бы он зашел, если бы избрал такой путь, но, совершенно очевидно, писатель хотел показать пороки Хайда и добродетели Джекила как личные свойства, долженствующие иметь символическое значение. Всякое осложнение сюжета раздуло бы и перегрузило компактную, динамичную повесть, которую задумал Стивенсон и которую так мастерски написал.
Есть и еще несколько мелких неувязок. Расследование убийства сэра Дэнверса обязательно должно было связать Хайда с Джекилом, и доктору пришлось бы отвечать на некоторые довольно затруднительные вопросы. Саймондс, упрекнув Луиса в излишней жестокости (сразу же после того, как Арчер упрекал его в противоположном грехе), посоветовал, чтобы Джекил передал Хайда в руки полиции; но это привело бы к невероятной юридической путанице, если бы у Хайда осталось при себе достаточно снадобья и во время суда он превратился бы снова в Джекила. Бессмысленно было также Джекилу уничтожать чековую книжку Хайда… Стивенсон забыл, что еще раньше Хайд написал чек, подписав его именем Джекила. И, уж конечно, дьявольски злобному Хайду не следовало так кротко кончать самоубийством. Он обязательно должен был иметь при себе оружие и застрелить сперва Аттерсона и Пула. Он даже мог выбежать наружу и вдобавок отправить на тот свет полисмена, а уж затем лишить себя жизни.
Ответ на все подобные возражения один — повесть достигла цели: она захватила читателя. Грэхем Бэлфур говорит, что за первые полгода в Англии было продано сорок тысяч экземпляров, а в Америке — по его же подсчетам — четверть миллиона, если, помимо авторизованных, считать бесчисленные «пиратские» издания. Мало того, произведение это оказало явное влияние на таких различных молодых авторов, как Оскар Уайльд (в «Дориане Грее») и Конан-Дойл (в рассказах о Шерлоке Холмсе). Конан-Дойл, может быть, более эффектно сумел бы управиться с некоторыми сюжетами «Новых сказок Шехеразады», однако именно у Стивенсона он заимствовал ту «атмосферу» туманного Лондона, которая составляет неотъемлемую часть настоящей шерлок-холмсовской мелодрамы. Спору нет, сам этот туман, возможно, ведет свое происхождение от диккенсовского «Холодного дома», недаром мистер Аттерсон кажется нам вялой и добродушной копией мистера Талкинхорна, но ни Диккенсу, ни Конан-Дойлу не удалось превзойти Стивенсона в создании «атмосферы».
«Было уже около девяти часов утра, и город окутывал первый осенний туман. Небо было скрыто непроницаемым, шоколадного цвета пологом, но ветер гнал и кружил эти колышущиеся пары, и, пока кеб медленно полз по улицам, перед глазами мистера Аттерсона проходили бесчисленные степени и оттенки сумерек: то вокруг смыкалась мгла уходящего вечера, то ее пронизывало густое рыжее сияние, словно жуткий отблеск странного пожара, то туман на мгновение рассеивался совсем, и меж свивающихся прядей успевал проскользнуть чахлый солнечный луч. И в этом переменчивом освещении унылый район Сохо с его грязными мостовыми, оборванными прохожими и горящими фонарями, которые то ли еще не были погашены, то ли были зажжены вновь при столь неурочном и тягостном вторжении тьмы, — этот район, как казалось мистеру Аттерсону, мог принадлежать только городу, привидевшемуся в кошмаре».[106]
Так и ждешь, что следующее предложение начнется со слой: «Идемте, Ватсон! Здесь живет тот, кто нам нужен!»
«Доктор Джекил» имел грандиозный успех у публики — тот Успех с большой буквы, ради которого Стивенсон работал все эти годы, чтобы закрепить несколько задержавшуюся, хотя и несомненную, победу «Острова сокровищ». Как бы ни были обоснованны приведенные выше замечания таких интеллектуалов, как Саймондс и Майерс, они никак не могли ни в ту, ни в другую сторону повлиять на широкую публику, ведь «публика» не читает книги с таким «пристрастием», как критики, она пробегает их ради интереса, ради эмоций, содержащихся там, а если ей к тому же преподносят «моральный» урок, тем лучше!
Успех пришел как раз вовремя для того, чтобы успокоить Стивенсона. Как мы видели, даже в 1887 году, когда его посетил Саймондс, Роберта Луиса все еще волновала нехватка денег, а в конце 1885 года беспокойство по этому вопросу было куда острей. Ему исполнилось тридцать пять лет, здоровье его было в очень скверном состоянии, он все еще зависел материально от часто болевшего отца, которому недолго оставалось жить. А Луис так и не согласился признать его религиозные взгляды, считая их предрассудками, из-за чего фактически был лишен наследства. Контрастом к его письмам Уильяму Арчеру и оптимистическим очеркам служит длинное письмо к Эдмунду Госсу, датированное 2 января 1886 года — после того, как «Доктор Джекил» вышел в свет, но до того, как его успех перестал вызывать сомнения (вначале отклики на книгу звучали довольно неопределенно). Стивенсон находился в унынии из-за того, как приняли «Принца Отто» (вышедшего «с продолжением» в «Лонг-манз мэгэзин», а в ноябре 1885 года — отдельным изданием), и мог лишь сообщить Госсу, что книга «разошлась хорошо, несмотря на плохие отзывы печати». Это произведение, написанное под влиянием Мередита, было «пропесочено» в «Сэтердей ревыо», сообщает он, а в других журналах не придумали ничего умнее, как назвать «Принца Отто» «повестью для детей» и «комедией». Затем Стивенсон переходит к «публике» и говорит:
«Публике нравится, когда книга (любого жанра) написана немного небрежно; сделайте ее немного растянутой, немного вялой, немного туманной и бессвязной, и наша милая публика будет в восторге; книге также следует (если ото возможно) быть в придачу немного скучной».
Пожалуй, здесь будет уместно вставить словечко и сказать, что ни «Остров сокровищ», ни «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», да и ни одно вообще произведение Стивенсона не отвечали этим требованиям, однако прошло совсем немного времени, и он стал одним из самых популярных английских авторов, так что это нелестное мнение о вкусе публики было преувеличено… Правда, не следует забывать того, что Стивенсон — один из талантливейших писателей своей эпохи — был известен «публике» вот уже одиннадцать лет и все еще не мог заработать себе на хлеб литературным трудом.
Затем, чуть более оптимистически, он говорит, что знает — хорошая работа иногда «попадает в яблочко», но, по его глубокому убеждению, это происходит чисто случайно; он знает также, что в конечном итоге хорошую работу ждет успех, «но публика к тому непричастна, только стыд прослыть невеждами заставляет читателей молчать и даже притворно восхищаться». Стивенсон отрицает, что пишет для «публики», он работает ради денег — «куда более благородного божества», и «главным образом ради себя самого… и то и другое куда умнее, да и своя рубашка ближе к телу». И продолжает:
«Не будем утаивать друг от друга печальные истины, свидетельствующие о скотстве того стада, которое мы кормим. Нравится ему на самом деле одно — газета, а для меня пресса — сточная труба; ложь царит там столь же открыто, как на профессорской кафедре в университете, подлость и тупость находят себе там пристанище и рупор для своего выражения. Я не люблю человечество, я люблю людей. И то далеко не всех, в особенности — женщин. А уж уважать всю нашу расу и тем более это скопище болванов, которое зовется «публика», — избавь меня, боже, от такого кощунства! Оно может привести лишь к бесчестию и позору. Во мне появился какой-то изъян, раз я стал пользоваться популярностью».
Это неплохо звучит в устах Стивенсона, лишь незадолго до того обвинявшего Шекспира в том, что «Тимон Афинский» свидетельствует о разлитии у его автора желчи; но даже если взгляды Роберта Луиса были в действительности таковы, а не явились следствием дурного настроения, он, к счастью для себя, запечатлел их только в частном письме. Правда, заяви он о них в статье, Фэнни и Колвин никогда бы не разрешили ему ее напечатать, точно так же как они удерживали Луиса от публичного высказывания его политических взглядов, касающихся таких общественных событий, как Маджуба[107] и смерть генерала Гордона.[108]
Любопытным в этом письме к Госсу является утверждение Стивенсона о том, что у него меньше друзей среди женщин, чем среди мужчин. Предположим, его слова соответствовали истине в 1886 году, когда он писал эти строки, но всегда ли было так? Ллойд Осборн, чья верность Стивенсону не вызывает сомнений, упоминает «множество женщин», интересовавших отчима в ранние годы его жизни. Однако как писатель Стивенсон, елико возможно, старался избегать в своих произведениях женских персонажей, а из тех немногих, которых он все же вывел, далеко не все ему удались. По просьбе Ллойда в «Острове сокровищ» нет ни одной женщины (кроме матери мальчика), в «Докторе Джекиле» есть только служанки. Стивенсону нечего противопоставить мередитовской галерее женщин или такому шедевру наблюдательности и творческой силы, как Мириам из «Сыновей и любовников» Лоуренса. Стивенсон разделял типичное для англичан отношение к женщине, колеблющееся между сентиментальным умилением и недоверием. Он восторженно смотрел на маленьких девочек, с сыновним почтением — на матерей и женщин, относящихся к мужчинам по-матерински, но женщина в расцвете лет и красоты — нет! Однако сравнительное отсутствие женщин в его романах и полное игнорирование секса послужило Стивенсону ко благу. Это считалось признаком «мужественности», заслуживающим всяческой похвалы, и, несомненно, сильно способствовало популярности писателя.
Важность «Доктора Джекила» для карьеры Стивенсона и его борьбы за материальную независимость, естественно, заставила нас более подробно остановиться на этой книге в ущерб другим, написанным одновременно с ней и раньше, в течение «борнмутского периода», с сентября 1884-го по август 1887 года. К ним относятся «Черная стрела» (выходившая «с продолжением» в 1883 году), «Принц Otto», «Динамитчик» (вместе с Фэнни Осборн), «Детский цветник стихов», «Похищенный», «Воспоминания и портреты», сборник стихов «Подлесок», такие повести, как «Маркхейм» и «Олалла», и ряд очерков. Даже при самой скромной оценке этих произведений нельзя не восхищаться трудолюбием Стивенсона, не отозваться с похвалой о богатстве и многогранности его таланта.
В особенности следует отметить разносторонность Стивенсона, и не только потому, что редко писатель равно выделяется в столь многих совершенно различных жанрах, но и потому, что, как полагают, этот жупел — «публика» — с подозрением и неприязнью относится к такому качеству. Считается, будто она требует, чтобы любимый художник всю жизнь писал варианты одной и той же картины, имеющие безошибочную печать его «стиля», а любимый писатель придерживался однотипных романов, опять же с той же безошибочной печатью. Так или иначе Стивенсон является разительным примером того, как, работая в самых различных жанрах, писатель сумел добиться огромного успеха у современников. Конечно, некоторые из произведений «борнмутского периода» были задуманы уже давно — замысел «Принца Отто» возник у Стивенсона еще в юности, — но вряд ли найдутся писатели, которые за какие-то пять лет напечатали так много хороших и разных книг.
«Черную стрелу» нельзя, строго говоря, отнести к этому периоду, поскольку она начала печататься «с продолжением» в «Янг фолке» еще в 1883 году, а отдельным изданием вышла лишь в 1888 году. Подобно «Острову сокровищ», она была подписана псевдонимом «Капитан Джордж Норт», но судьба ее оказалась совершенно иной — она пришлась по вкусу юным читателям и совершенно не понравилась поклонникам Стивенсона, начиная с Фэнни, которая утверждала, будто не может дочитать ее до конца. Спору нет, война Алой и Белой розы происходила в весьма смутную и беспокойную эпоху и не представляет особого интереса для современных англичан. Сам Стивенсон не придавал этой книге большого значения. Но ведь он не очень высоко ставил тогда и «Остров сокровищ», если считал, что тот не стоит сотни фунтов, полученной от издательства за право его издания. Стивенсон писал «Черную стрелу» по частям, переезжая с места на место и от номера к номеру забывая, что происходит с его героями. Когда книга подошла к концу, корректор журнала вынужден был напомнить автору, что тот забыл избавиться от четвертой черной стрелы и одного из злодеев. Ответ Стивенсона подкупающе искренен:
«…Благодарю вас от всего сердца. По правде сказать, с течением времени моя история стала развиваться сама по себе и совершенно вышла из-под моего контроля; ужасный конец, который вначале я уготовил сэру Оливеру, оказался невозможным, и, стыдно признаться, я начисто про него забыл.
Благодаря вам, сэр, он понесет заслуженную кару. Сегодня я посылаю вам оттиски сорок девятой, пятидесятой и пятьдесят первой страниц, а завтра или послезавтра, умертвив священника, отправлю все остальное».
Приключения юного Шелтона стремительно следуют одно за другим тем же случайным манером. На этот раз в книге есть героиня, Джоан Седли, но это «искупается» тем, что почти все время ее пребывания на сцене она замаскирована под мальчика, а затем лишь символически пребывает на заднем плане. Людям, занимающимся вопросами сбыта литературной продукции, было бы интересно выяснить, почему у «Острова сокровищ» и «Черной стрелы» такая абсолютно различная судьба. Конечно, в «Черной стреле» нет столь поразительного персонажа, как Джон Силвер (прототипом которого являлся, между прочим, Хенли), но образы головореза Лоулесса, словно сошедшего со страниц романов Вальтера Скотта, и юного Ричарда Глостера Горбатого поражают тем, с каким мастерством они вылеплены. Стивенсон, как обычно, не жалеет ни крови, ни веревок на шеи, и в книге есть такие потрясающие эпизоды, как встреча Дика и Мэтчема с сэром Даниэлем в обличье прокаженного или похищение, а затем плавание «Доброй надежды». Пожалуй, главная разница между книгами в том, что «Остров сокровищ» — это «фантазия» на языке пиратов и золотых дублонов, а «Черная стрела» — исторический роман (в котором частично использованы письма Пастонов[109]), а к тому времени исторический роман стал перерождаться в роман «декораций и костюмов», так как в его основе перестала лежать какая-либо идея. У Скотта была верность законному королю, у Кингсли[110] — борьба протестантов и католиков, а что хочет сказать Стивенсон в своей «Черной стреле»? Но, несмотря на это, многое, что ставилось в вину этой книге, неоправданно, и ее непопулярность проистекает вовсе не из приписываемых ей недостатков, а из того, что ни события, описываемые в ней, ни время, когда они происходили, не были известны или интересны среднему читателю. Непонятным остается другое — как люди, принимавшие участие в настоящих сражениях, все-таки с интересом читают поверхностное и дилетантское описание кровопролитных боев в романах Стивенсона.
«Принц Отто» разительно отличается от «Черной стрелы». Если бы он не был написан так же мастерски (существенное «если»), трудно было бы поверить, что книги принадлежат одному и тому же автору. Стивенсон работал над «Принцем Отто» с перерывами, начиная с 1879 года; тема романа была им заимствована из одной его ранней трагедии, а название менялось три раза, пока не приобрело настоящий вид. Действие происходит в вымышленном принципате древней Германии, смахивающем немного на Раританию.[111] «Принц Отто» имеет тот же порок, что и «Черная стрела», — это не серьезный исторический роман и не вымысел, а и то и другое вместе, чем, вероятно, и объясняется ее непопулярность. Хенли предупреждал автора, что «Принц Отто» не завоюет ему новых читателей, Мередит же, напротив, горячо хвалил книгу, и вовсе не потому, что она была написана в его манере; он увидел, сколько внимания автор уделил композиции романа и его стилю. Эдмунд Госс, вторя критику из «Сэтердей ревыо», протестовал против «ложного стиля» в сцене побега Серафины, считая ее «нарочитой и чудовищной жертвой, принесенной на алтарь Мередита». И действительно, в главе «Принцесса Синдерелла» Стивенсон как бы стремится соперничать с мередитовскими стихами в прозе, такими, например, как главы из «Испытания Ричарда Февереля», где описывается встреча Ричарда и Люси. К сожалению, слабые познания Стивенсона в естественных науках приводят к появлению комических ноток в высоком стиле, что встречается в самых отделанных и прочувствованных периодах книги, как например:
«…в маленьких бесформенных домиках под кровом огромных ветвей, где они спали всю ночь, — возлюбленная с возлюбленным, — тесно прижавшись друг к другу, начали просыпаться ясноглазые, любвеобильные певцы…»
К счастью, лишь немногие рассказы из «Динамитчика» (или второй серии «Новых сказок Шехеразады») можно вменить в вину Луису. Показания современников, как обычно, расходятся: одни говорят, будто все рассказы придумала Фэнни, развлекавшая ими мужа во время его болезни в Йере, другие — что она написала только два из них. Каков бы ни был ее вклад, по всей видимости, Стивенсон их переделал или по меньшей мере придал им «стиль».
Возможно, это и преждевременно, но мне хотелось бы сказать здесь несколько слов о сотрудничестве Стивенсона с женой и пасынком. Если бы мы не знали, что Стивенсон не всегда безоговорочно подчинялся мнению Фэнни, ее претензия на всеведение и право критиковать, изменять и даже налагать вето на работу мужа вызывала бы в нас еще большее беспокойство и возмущение. Один из ее соотечественников определил рассказы Фэнни в «Динамитчике» словами: «На редкость вульгарно». Вопрос о том, полезно или вредно было ее влияние на Стивенсона, можно обсуждать бесконечно. Он ведет к другому вопросу: какую цель ставил сам Стивенсон — стать настоящим художником или добиться популярности и материального успеха? Фэнни была бессильна способствовать достижению первого, более высокого идеала, но для достижения второго она сделала очень много. Недостатком Стивенсона, мешающим ему стать популярным писателем, была излишняя литературность, тоска по эстетизму его юных лет, что мы наглядно увидели в приведенном только что отрывке из «Принцессы Синдереллы». Он мечтал о биографических и исторических трудах, задумал жизнеописание Веллингтона, не взяв на себя труда взглянуть на великолепную серию его «Писем с театра военных действий», и даже на Тихом океане весьма тревожил Фэнни стремлением писать историю Океании вместо пользовавшихся широким спросом путевых заметок и рассказов. Она победила и, в общем, была права.
«Детский цветник стихов»! Вот еще одно свидетельство разносторонности дарования Стивенсона… Конечно, можно припомнить Вольтера, но он никогда не писал в стихах о своем детстве, в XVIII веке это сочли бы неприличным. Еще и сейчас есть люди, которые считают, что «следует с подозрением» относиться к тем, кто хорошо пишет о поре детства. В чем мы должны их подозревать — неизвестно, возможно, в симпатии и сочувствии к человеку. Так или иначе Стивенсон, несомненно, заслуживает всех подозрений, так как действительно хорошо пишет о детстве. Но делать это можно по-разному. А. А. Милн, например, писал так, что это нравилось как детям, так и их родителям. Стивенсон, подобно Анатолю Франсу в «Маленьком Пьере», рассказывает о своих детских годах не для детей, а для взрослых, но в то время как Анатоль Франс вспоминает о малыше, каким он был когда-то, с отстраненностью и иронией взрослого человека, Стивенсон пытается вновь пережить те дни и писать так, как, по его мнению, стал бы писать стихи ребенок. В этом неизбежно есть что-то искусственное. Стихи маленьких детей всегда беспомощны и нелогичны и трогают нас, пожалуй, лишь своей наивностью. Какой, даже самый одаренный, ребенок мог бы совладать с таким, например, стихотворением:
Там, где знойные леса Возносят шпили в небеса, А в лесах и там, и тут Негры в хижинах живут; Где улегся в теплый Нил Узловатый крокодил, И фламинго ловит рыб Прямо с лету, вперегиб[112]Только ребенок, читавший Мильтона и Блейка, хотя и не знающий, что фламинго не питаются рыбой. Очарование этого, как и всех прочих стихотворений в «Детском цветнике стихов», в его нарочитой, утонченной простоте; в нем чувствуется рука мастера, тронувшая детский рисунок. Пожалуй, именно по этой причине детям стихи Стивенсона нравятся меньше, чем стихи Милна или Кэррола. С другой стороны, мы видим здесь художественное мастерство на грани фокуса, ведь этот сборник сугубо личных стихотворений пережил войну, политические перевороты и все капризы и причуды литературной моды.
«Доктор Джекил», о котором мы уже говорили, вышел из печати в январе 1886 года, а в мае — июле того же года в «Янг фолке» стал печататься новый роман Стивенсона — «Похищенный», изданный в июле отдельной книжкой. На этот раз Стивенсон проявил большую интуицию, чем при создании «Черной стрелы», и куда ближе подошел к успешному компромиссу между романом с продолжением для детского журнала и исторической хроникой, между коммерческой книгой и настоящим искусством. Время действия — 1751 год — было достаточно близко к восстанию якобитов, чтобы казаться знакомым для всех еще многочисленных читателей Вальтера Скотта. Местом действия Стивенсон избрал Шотландию и моря, омывающие ее берега, героями — шотландцев, так что писал он о том, что действительно знал. Роберт Луис сам, правда, не с начала до конца, проплыл мимо тех же неприютных берегов, что и герой романа Дэвид Бэлфур, посетил остров Иррейд, где тот потерпел кораблекрушение, и бывал в тех местах, где Дэвид странствовал с Аланом Бреком и испытал все свои злоключения. Письма Стивенсона из Борнмута отцу и одному из двоюродных братьев — Дэвиду показывают, как скрупулезно писатель выверял топографические детали для того, чтобы достоверней изобразить странствования своего героя на суше и на море. Однако, как и всегда, он довольно небрежно отнесся к другим деталям, во всяком случае, не так страстно стремился к правдоподобию, когда в его интересах было им пренебречь. Я не думаю, чтобы даже по шотландским законам середины XVIII века насильственное похищение человека с целью продать его в рабство и лишить наследства могло считаться чем-либо иным, кроме уголовного преступления, однако Стивенсон показывает нам, как ловкий адвокат-шотландец со спокойной душой отказывается за деньги от судебного преследования преступника, чтобы помочь автору привести повествование к успешному концу. Но поскольку до сих пор никто не подверг это сомнению, я, должно быть, не прав.
Даже убежденный противник Стивенсона — если таковые вообще существуют — не может не восхищаться скромностью и выдержкой этого талантливого писателя, благодаря которым, работая для таких низкопробных изданий, как «Янг фолке», он использовал их не только для того, чтобы заработать немного денег, но и для дальнейшего оттачивания своего мастерства. «Остров сокровищ» был озарением гения, но не отвечал требованиям романа с продолжением; «Черная стрела» была хороша для юношеского журнала, при всех своих достоинствах в виде отдельной книги успеха не имела; «Похищенный», которого Стивенсон начал писать только ради денег, без всякого интереса, вдруг ожил и оказался хорош как для журнала, так и в виде отдельной книги. В нем сильно чувствуется влияние Скотта, еще сильнее — Дефо, но, заимствовав многое у своих предшественников, Стивенсон написал при этом вполне оригинальную книгу. Когда она вышла всего полгода спустя после «Доктора Джекила», ее ожидал очень хороший прием, и она, бесспорно, увеличила славу автора, особенно в Соединенных Штатах. Удивительно не это, а удивительно то, что он все еще получал жалкие гроши — за тысячу слов романа с продолжением ему платили в журнале всего тридцать шиллингов.
Оставим «Подлесок», «Воспоминания и портреты» и «Воспоминания о профессоре Дженкине» для дальнейшего разбора и скажем все же несколько слов о двух рассказах, опубликованных в 1885 году. И тот и другой относятся к категории рассказов «ужасов». В многочисленных вариантах воспоминаний о том, как Фэнни заставила Луиса переписать заново «Доктора Джекила и мистера Хайда» и сделать из него аллегорию, неизменно говорится, что она приводила в пример «Маркхейма» в качестве истории без всякого подтекста, а ведь «Маркхейм» тоже в своем, пусть более зашифрованном, роде аллегория — аллегория о пробуждающейся совести. Незнакомец, так неожиданно возникший на месте преступления, не кто иной, как «дьявол» — он же Иисус, — и аллегорически показывает борьбу «добра» и «зла» в душе Маркхейма. Как это нередко бывает при чтении моралистических произведений, читателя немного смущает, что кто-то обязательно должен быть зверски убит для того, чтобы грешник смог затем раскаяться в убийстве. И вряд ли Стивенсон подумал, что, вернувшись после рождественской прогулки и встретив в дверях незнакомца, сказавшего «с подобием улыбки на губах»: «Сходите за полицией, я убил вашего хозяина» (последняя фраза рассказа), служанка обязательно должна завизжать и упасть в обморок, — это отнюдь не та «нота», на которой автор хочет нас покинуть. К тому же, хоть это и мелочь, Стивенсон тогда еще не усвоил, что излишняя тщательность в отделке предложения может принести ему вред и что стремление любой ценой избежать банальностей хуже, чем банальность. Многократно приводилась цитата из «Маркхейма», где, желая сказать, что тот отнял жизнь у старика так, как часовщик останавливает часы, Стивенсон пишет:
«А теперь благодаря его поступку этот маятник жизни остановлен, подобно тому как часовых дел мастер, сунув палец в механизм, останавливает ход часов».
«Олалла» претендует на большее. Так же как было с «Доктором Джекилом», если не весь замысел вещи, то, во всяком случае, центральную часть сюжета — «внутренний дворик, мать, комнату матери, Олаллу, комнату Олаллы, встречу на лестнице, разбитое окно, безобразную сцену с укусом». — подсказали Луису во сне пресловутые «человечки». Можно установить, хотя бы частично, происхождение этого сна. Работа Луиса над жизнеописанием Веллингтона могла навести его на мысль об Испании периода войны в Пиренеях — в качестве места и времени действия; эпизод, где Фелип мучает белку, идет, как говорят, от «Странной истории» Булвера-Литтона, а в трагической судьбе семьи героини чувствуется влияние бальзаковского «Палача». Садизм Фелипа, если расшифровать все намеки, должно быть, тот же «вампиризм» его матери. Олалла, в которой ничего подобного нет, является жертвой фамильного проклятья и, боясь передать его своим детям, не позволяет любви к пришельцу-англичанину завести ее слишком далеко. Для многих читателей вся история чересчур романтична и образна, и, не вдумавшись в нее, они говорят, что она неудачна. Конечно, она неудачна, но неудача эта выше многих чужих удач. Слабее всего конец. Стивенсон явно не знал, что делать с приснившейся ему ситуацией, а для Фэнни уровень рассказа был слишком высок. Пожалуй, самым естественным и правильным было бы, если бы Олалла убежала от матери и всех связанных с ней ужасов и испытала бы беспредельное счастье в браке с англичанином, а затем еще более беспредельное отчаяние при виде того, как страшный наследственный недуг возродился в их единственном ребенке… но читатели ни за что бы этого не перенесли, и Фэнни, несомненно, наложила бы свое вето. Если бы Стивенсон оставил рассказ на время и снова пересмотрел его, он, безусловно, нашел бы другой, более драматический финал.
Конечно, далеко не все произведения, о которых мы сейчас говорили, были созданы в «борнмутский период»; «Принц Отто», к примеру, за исключением двух последних глав, был написан еще в Йере. И, понятно, в Борнмуте Стивенсон работал и над другими книгами и задумал многое из написанного потом, но это лишь усиливает наше восхищение его трудолюбием и многосторонностью. Талант его имел много граней, и писатель щедро оделял читателей их сиянием. Не его вина, если современники предпочитали те из них, которые сверкали менее естественным блеском. Чтобы выяснить, какие из этих граней лучше, какие хуже, нужно время, и опять же не его вина, если критики до сих пор склонны измерять литературные достоинства книги количеством проданных экземпляров. С другой стороны, восхищаясь тем, как много написал Стивенсон, не следует смотреть на него как на «поденщика пера» вроде Бальзака и даже Скотта, хотя Скотт при всей своей баснословной плодовитости сумел прожить очень насыщенную жизнь. Возможно, временами Стивенсон работал сверх меры, как это неизбежно происходит с писателями, но в целом он, судя по всему, вел себя вполне разумно, подчинялся всем ограничениям и вынужденному отдыху, которые предписывали врачи, и вкушал те радости, которые были ему по силам. Если он так много написал, это объяснялось главным образом тем, что у больного, месяцами прикованного к дому, есть достаточный досуг. Может быть, в Борнмуте Фэнни и правда заразила его своей мнительностью, но ведь она была рядом с ним и на Самоа, в самый деятельный период его жизни. Вероятно, во время бесконечных безмолвных часов в постели бывали минуты, когда этот жизнерадостный человек остро ощущал мрачную иронию своей «судьбы», предначертавшей певцу оптимизма, вольных дорог и приключений стать узником четырех стен (и где? — в Борнмуте!), который даже не в силах спеть: «Ио-хо-хо и бутылка молока!» Но какую бы роль мы ни отводили «судьбе» и влиянию тех, кто окружал Стивенсона, лишь собственный неукротимый дух спас его от «матрацной могилы» Гейне. А ведь немногие поездки, на которые решался Луис, почти всегда кончались горловым кровотечением.
Как ни преданно и, пожалуй, даже деспотически ни защищала Фэнни мужа от опасностей внешнего мира, жизнь все же наносила ему удары, которые даже ей не удавалось отражать. 12 июня 1885 года умер Флеминг Дженкин. Смерть его потрясла Стивенсона почти так же, как смерть Уолтера Ферриера, и вместо памятника он задумал и затем написал биографию Дженкина. В письме Колвину из Гонолулу, датированном мартом 1889 года, Стивенсон говорит:
«Дорогой Колвин, вам и Флемингу Дженкину, двум людям старше меня по возрасту, которые взяли на себя обузу сделаться моими друзьями, я обязан всем, что я знаю, и тем, что я есть».
Это высокая похвала, но щедрость натуры Стивенсона проявлялась, в частности, и в том, что он публично, как минимум в посвящении, признавал свои обязательства перед людьми. Некоторые, вероятно, считают — и, возможно, среди них был и Стивенсон, — что Камми во многом вела себя неразумно по отношению к нему и даже причиняла ему вред, но сила и искренность ее любви были бесспорны, и Стивенсон помнил только об этом, когда писал Камми письма и посвятил ей «Детский цветник стихов». Так же точно подошел он к жизнеописанию эдинбургского профессора, преподававшего ему инженерное дело. Принципы отбора материала недвусмысленно выражены в следующей фразе из биографии Флеминга Дженкина:
«Как раз накануне того дня, когда я получил от него это неприятное (для меня) письмо, он написал мисс Белл из Манчестера в куда более любезном тоне; я не буду приводить первого из писем, я приведу второе — надо быть беспристрастным».
Беспристрастие биографа, однако, заключается в том, что он констатирует факты без предвзятости, без «за» или «против», избегая suppressio veri (утаивать правду) в той же степени, как и suggestio falsi (нагромождать ложь).[113] Таков идеал, которого никто не достигает, и «Воспоминания о профессоре Дженкине» подтверждают то, чего можно было ожидать после вышеприведенного откровенного признания Стивенсона: если перед нами и не прямой панегирик, то, во всяком случае, типичная «официальная» биография со всем, что из этого следует. Мог ли Стивенсон поступить иначе? Миссис Дженкин со свойственной ей эмоциональностью рассказывает нам в своем дневнике о том, как Стивенсон записывал ее воспоминания, располагал записи в определенной очередности и при следующей встрече читал их ей, беспрестанно делая поправки, чтобы донести ее мысль без искажений. Конечно, как опытный писатель и «пожизненный» стилист, Стивенсон знал — каждый может что-то сказать; трудность в том, чтобы, во-первых, точно представлять себе, что именно, а во-вторых, точно выразить свою мысль, лишив читателя возможности неправильно ее понять. Это тоже идеал, но одним из великих достоинств Стивенсона литератора является его стремление к идеалу. В данном случае, однако, он изменил своим принципам, так как не в силах был огорчить оплакивающую мужа вдову, и не обнародовал материалы, бросающие хоть малейшую тень на безупречный образ главного героя «Воспоминаний».
Взявшись за биографию Дженкина (опубликованную лишь в январе 1888 года), Стивенсон еще раз продемонстрировал свою многосторонность. «Воспоминания о Флеминге Дженкине», как правило, обходились молчанием, а если оценивались, то весьма разноречиво. Они не прибавили Стивенсону популярности и легли на его литературную репутацию просто мертвым грузом. При всем том в своем жанре «Воспоминания» имеют значительные достоинства. В те времена биографии представляли собой череду страниц, заполненных совершенно сырым материалом вроде цитат из писем, почти не связанных между собой. Стивенсон был писателем-профессионалом и просто не мог произвести на свет одну из подобных сумбурных викторианских книг, но, хотя отбирал он хорошо, соединял куда хуже. Однако главный недостаток книги кроется не в методах автора — тут мнения расходятся, и многим читателям его методы, возможно, по вкусу, — а в том неизбежном факте, что даже блестящее перо Стивенсона не может сделать профессора Дженкина интересным для людей другой эпохи, которые никогда и не услышали бы о нем, если бы он не был другом своего биографа. Стивенсон делает все, что в его силах; особенно он хорош в отдельных деталях и штрихах, например, когда пишет о родителях Дженкина, которые «привыкли к революциям», путешествуя по континенту в 1848 году. Но о прокладке кабеля по дну океана он рассказывает устами самого Дженкина, и это куда менее интересно, чем записи Роберта Стивенсона о постройке маяка. А говоря о собственном знакомстве с профессором, Стивенсон весьма приблизительно воссоздает его образ, ограничиваясь оценкой своего героя. Прочитав «Воспоминания», мы с недоумением думаем о человеке, в котором сочетались «греческий софист и английский школьник». Наш мысленный взор с испугом останавливается на этой сомнительной лепте в паноптикум чудищ, на этом монстре, рядом с которым даже Химера не вызывает удивления. «Искусство повествования, — справедливо говорит Стивенсон, — по сути дела, одно и то же, применяем ли мы его для показа действительных событий или вымышленных сцен»; но никакое искусство, думается мне, не способно создать гибрид английского школьника с греческим софистом.
Я взял вышеприведенные слова из «Скромного возражения», написанного в Борнмуте в ответ на литературную полемику между Генри Джеймсом и Уолтером Безантом.[114] Некоторые из высказываний Стивенсона в этом очерке гораздо больше говорят нам о нем самом, чем об искусстве беллетристики или о детской психологии. В статье об «Острове сокровищ» Джеймс иронически писал, что не может критиковать эту книгу, ибо, хотя и был в свое время ребенком, никогда не занимался поисками сокровищ. Стивенсон резко возражает ему:
«Не было еще на свете ребенка (если не считать юного Генри Джеймса), который бы не охотился за золотом, не был бы пиратом, военным офицером, бандитом в горах, который бы не сражался, не терпел кораблекрушения, не попадал в тюрьму, не обагрял бы ручонок кровью, не отыгрывался бы доблестно за проигранную битву, не защищал бы победоносно невинность и красоту».
Хотя утверждение это полностью соответствует истине, когда речь идет о юном Лу Стивенсоне, этого никак нельзя сказать обо всех прочих детях, во всяком случае, о тех, которые находятся под присмотром людей со здравыми суждениями о вещах и с хорошим литературным вкусом. У маленького Генри Джеймса — и тысяч других детей — не было отца, который наслаждался, рассказывая себе на сон грядущий кровопролитные истории, и няни, которая разрешала ему упиваться грошовыми романами «ужасов» и развивала его младенческий ум милыми историями о привидениях, покойниках, похитителях трупов, кровавых пытках, мучениках и тому подобном. Стивенсон воображает, будто исключительные (и достойные порицания) обстоятельства, при которых прошло его детство, типичны, — абсолютно беспочвенное предположение. Без сомнения, то, что говорит Стивенсон, справедливо по отношению к детям, которых так же плохо воспитывали, как его самого, но столь же бесспорно, что Джеймс был прав, и утверждение Роберта Луиса отнюдь не справедливо по отношению к большинству детей из среднего сословия Англии и Америки. Стивенсон вновь говорит только о себе, когда делает такое сомнительное обобщение:
«…Мне кажется, в большинстве случаев художник живее, ярче и убедительнее пишет о поступках, которые ему хотелось бы совершить, чем о тех, которые он совершил».
Этот очерк, где Стивенсон защищает свои литературные взгляды и методы, был включен в сборник «Воспоминания и портреты», который так же, как «Веселые молодцы» и «Подлесок», вышел отдельной книгой в 1887 году.
В том же году на Стивенсона обрушилась еще одна смерть. В течение последних лет связь его отца с жизнью делалась все менее прочной, и по мере того, как его оставляли физические силы, ему стал изменять и рассудок. Приступы раздражительности вроде того «хайдовского настроения», о котором Стивенсон упоминал в письме к матери, чередовались с периодами трогательной мягкости, даже покорности. Временами Томас Стивенсон вел себя так, словно он — сын, а Роберт Луис — отец, а затем, не выходя из этого второго детства, Томас Стивенсон начинал обращаться с Луисом так, будто и тот вновь стал ребенком, — волновался, как бы Луис не упал, встав на сиденье стула, и утешал поцелуем на ночь и словами: «Мы увидимся утром, мой мальчик». После мучительных лет жгучей вражды между отцом и сыном такие трогательные сцены ранили Роберта Луиса в самое сердце. Было ужасно сознавать, что они всю жизнь причиняли друг другу боль именно потому, что искренне друг друга любили. В свои юные годы Роберт Луис слишком много уделял внимания женщинам и поэтому не мог целиком отдать себя одной из них и лучшее в себе оставлял для мужчин. Его отношения с Фэнни показывают, что их содружество, как справедливо замечает мистер Фернес,[115] больше походило на симбиоз, чем на брак; и по временам нам кажется, будто Ллойда он любил больше, чем Фэнни. Я даже сомневаюсь в том, что Камми и мать значили для этого довольно женственного человека столько же, сколько отец и Хенли, на которого он перенес часть сыновней любви, когда фанатичный старик выгнал его из отчего дома без гроша в кармане, а Хенли приютил беглеца и ухаживал за ним во время болезни.
В апреле 1887 года родители гостили у Стивенсона в Борнмуте, но по злой иронии судьбы сын был слишком болен, чтобы уделять время отцу, хотя тот находился в еще более тяжелом состоянии. Как это часто бывает с умирающими, Томас Стивенсон страстно стремился вернуться домой, и 21 апреля его перевезли в Эдинбург в специальном санитарном вагоне. 7 мая Луис и Фэнни были вызваны телеграммой в Шотландию, и на следующий день Томас Стивенсон умер, до последней минуты держась «на ногах», но рассудок его был так замутнен, что он не узнал родного сына. Это потрясло бы всякого, не только такого эгоцентриста, как Роберт Луис, который всю жизнь считал само собой разумеющимся, что, как бы хорошо или плохо о нем ни думали и ни говорили другие, в сердце и мыслях отца ему принадлежит главное место. Писатель пришел в ужас от происшедшей перемены.
«Если бы мы могли удержать на земле моего отца, тогда другое дело. Но отца больше нет, а удерживать дольше того, кого дали взамен злые эльфы, и смотреть, как он страдает, — лучше уж не иметь никого и ничего. Теперь отец успокоился…»
Это отрывок из письма Колвину; дальше в этом же письме мы читаем:
«Моя любимая сцена — смерть Лира, и Кент с его репликой: «Не мучь. Оставь в покое дух его. Пусть он отходит» — была разыграна передо мной в первые минуты после приезда. Мне кажется, Шекспир описал смерть собственного отца. Я не мог вымолвить ни слова, но видеть это было ужасно».
Роберт Луис заболел и был не в состоянии проводить отца на кладбище, хотя принимал всех, кто являлся на Хериот-роуд, чтобы участвовать в похоронах. Прежде чем «Воспоминания и портреты» попали в печатный станок, Стивенсон добавил туда очерк об отце, написанный отчасти в стиле Лэма, где можно найти следующие строки:
«Он был человеком старинного склада; в нем слились воедино строгость и мягкость — типично шотландская черта, ставящая вас при первом знакомстве в тупик; глубоко меланхоличный по своей сути характер сочетался (как это часто бывает) с веселостью и общительностью в компании; проницательный и ребячливый, страстно любящий, страстно ненавидящий — это был человек крайностей с нелегким нравом и неустойчивым темпераментом, не очень-то твердо стоявший на ногах среди треволнений нашей жизни. При всем том он был мудрый советчик — многие люди, сами весьма неглупые, постоянно обращались к его разуму».
В таком торжественном реквиеме было бы неуместно приводить следующий поразительный пример необоримого пессимизма его отца. Как-то раз у мистера Стивенсона разлилась желчь, его мучила бессонница, и он держал жену у своей постели, чтобы она разделила с ним его страдания. Наконец они оба уснули, к ее несказанному облегчению, надо думать; но очень скоро она была разбужена следующим ужасным сообщением: «Дорогая, конец, я лишился дара речи».
10
Смерть Томаса Стивенсона разорвала узы, так долго приковывавшие Роберта Луиса к Борнмуту. Если боязнь холеры (отнюдь не безосновательная) привела их сюда с континента, то удерживала их здесь все та же материальная зависимость от отца, заставлявшая Луиса оставаться в пределах досягаемости старого джентльмена. Теперь Стивенсону ничто не мешало искать приключений, надо было лишь поправиться настолько, чтобы быть в состоянии радоваться им, когда он их найдет. Роберт Луис не был, как думал все эти годы, полностью лишен наследства, в 1883 году Томас Стивенсон сделал приписку к духовному завещанию, обеспечивавшую права сына. Томас Стивенсон оказался не таким богатым, каким его считали. Он оставил около двадцати шести тысяч фунтов, три тысячи из которых согласно брачному контракту матери сразу же были отданы Луису; сама миссис Стивенсон должна была получать пожизненную ренту с недвижимости. Если бы сыну в дальнейшем понадобились деньги, она бы, очевидно, помогала ему так же щедро, как и отец, но, получив такое солидное подспорье, как три тысячи фунтов, Луис мог наконец перестать тревожиться о деньгах и даже предложил матери ссудить ей сто фунтов наличными. Пожалуй, здесь стоит еще раз отметить, что Стивенсон, один из самых любимых и популярных писателей Англии в пору ее наибольшего процветания, вынужден был жить на субсидию до тридцати семи лет.
Где же найти если не приключения, то хотя бы здоровье? На помощь пришло случайное стечение обстоятельств, если не воистину романтика судьбы. Дядя Роберта Луиса — доктор Джордж Бэлфур, с которым они встретились в Эдинбурге на похоронах мистера Стивенсона, был в числе тех немногих, кто одобрил женитьбу Стивенсона на Фэнни. «Я сам женился на чертовке, — сказал он племяннику, — и ни разу о том не пожалел». Очевидно, семейный опыт помог ему достаточно тактично поговорить с Фэнни и успокоить ее ипохондрические страхи, не оскорбив ее чувств. Возможно, он увидел, что Фэнни хочется вернуться в Америку. Так или иначе в числе мест, которые он рекомендовал Луису, было Колорадо. Прошло около семи лет с тех пор, как Фэнни покинула родину, и, хотя брак с Луисом сделал ее британской подданной, Ллойд все еще оставался гражданином Америки, а ему уже минуло девятнадцать — самая пора вновь посетить родные края. Учитывая все это, было решено поехать зимой в Америку; оплатить поездку предложила миссис Стивенсон, по просьбе сына согласившаяся присоединиться к ним.
Организация переезда из Лондона в Нью-Йорк была возложена на Фэнни, не оправдавшую на этот раз своей репутации практичной женщины. После того как вся их компания в составе миссис Стивенсон, Фэнни, Луиса, Ллойда и Валентины Рох (служанки-француженки) села на корабль, обнаружилось, что на его борту находится груз в виде «обезьян, племенных жеребцов, коров, спичек и сена». Качка на нем была не менее чудовищной, чем запах. Бедная Фэнни! Не так в своих честолюбивых мечтах она представляла себе возвращение домой. Однако все остальные получали полное удовольствие от этого единственного в своем роде путешествия, особенно Стивенсон, который был весел, счастлив и сравнительно хорошо себя чувствовал, пока не схватил жестокую простуду у берегов Ньюфаундленда. Когда корабль вошел в нью-йоркскую гавань, палубу наводнили восторженные любители приключений с криками: «Да здравствует Стивенсон!» В мгновение ока ошеломленного Стивенсона окружили репортеры — стоял сентябрь, когда наступает полное затишье в прессе. Они пришли в восторг, узнав, что жена и пасынок прибывшего писателя — американцы и он нежно привязан к ним обоим, более того, привез с собой свою дорогую матушку, украшенную для довершения картины вдовьим чепцом, — приятная противоположность этим выродившимся европейским писателям, которых если и сопровождала жена, то чужая. Интересующейся духовной пищей публике молниеносно были сервированы основные факты. «Джикил» надо произносить «Джекил», а «у мистера Стивенсона классические черты лица и сухой кашель». Сойдя на берег, классический мистер Стивенсон отправился в гостиницу и лег в постель, отказавшись видеть каких бы то ни было репортеров, кроме неизбежного шотландца — корреспондента эдинбургских газет. «Мне устроили здесь крайне идиотский прием», — сообщал Стивенсон Колвину, но признавался, что «бедные ребята-репортеры пришлись ему по душе».
И с полным на то основанием, так как их «идиотские», как выразился Стивенсон, высказывания оказали ему большую финансовую услугу. Америка могла воровать и воровала его книги — всегда приятно ограбить автора, — но она была готова возместить ему это, и даже с лихвой, если он согласится писать для ее журналов. Первый раз в жизни Луису Стивенсону предложили более чем достаточную плату за работу. Еженедельник «Нью-Йорк уорлд» давал десять тысяч долларов за пятьдесят два очерка. Известный издатель Макклюр — восемь тысяч за право печатать с продолжением его следующую книгу. Издательская фирма Скрибнера — три с половиной тысячи долларов за двенадцать очерков — по одному в месяц. Не совсем верно, будто американцы открыли Стивенсона как писателя, но, несомненно, они были первыми, кто щедро ему платил. Стивенсон пошел на компромисс, избрав предложение Скрибнера, так как оно ставило его в менее жесткие рамки. К сожалению, не имея возможности посоветоваться с Бэкстером или Хенли, он совершил непростительный промах, пообещав отдать свой следующий роман двум издателям одновременно. Ему повезло, что оба они оказались порядочными людьми и простили ему этот грубый проступок после того, как он объяснил его неопытностью в практических делах.
В Ньюпорте, в гостях у своего друга Фэрчайлда, Стивенсон вновь простудился и был вынужден лечь в постель, хотя на этот раз обошлось без горлового кровотечения. Этим, возможно, объясняется то, что на известном барельефе американского скульптора Сент-Годена Стивенсон изображен курящим в постели, при этом скульптор умудрился придать ему благородный и респектабельный вид, который так возмущал впоследствии Хенли. На зиму вопреки прежним планам они не поехали в Колорадо. Из любопытного письма Бобу Стивенсону видно, что после переезда через океан в компании с четвероногими пассажирами, доставившего Стивенсону огромное удовольствие, им овладела мечта о морском путешествии на яхте:
«Я был так счастлив на борту этого корабля, я даже не представлял, что может быть так хорошо… Я уже забыл, что такое счастье и насыщенный ум — насыщенный внешним, вещественным миром, а не заботами, трудами и вздорными мыслями о том, как ведет себя твой ближний. Сердце мое буквально пело…»
Колвин датирует это письмо октябрем 1887 года, значит, написано оно не из морского порта, а с курорта для туберкулезных на озере Саранак в Адирондакских горах. Теперь это крупный курорт, популярный и в летний и в зимний сезоны. В 1887 году Стивенсон застал еще совсем небольшое и довольно примитивное по быту селение, и домик, где он поселился, был куда менее комфортабельным, чем отель в Давосе, зато Луис находился под наблюдением самого доктора Трюдо. В начале пребывания на Саранаке вместе с Луисом жили только Ллойд и служанка Валентина Рох, так как Фэнни уехала в Индианаполис повидать родных, а миссис Стивенсон на свой страх и риск отправилась смотреть Ниагарский водопад. Саранак расположен на высоте всего в тысячу шестьсот футов над уровнем моря (Давос — в Пяти тысячах двухстах), но зимой там бывают жестокие морозы, так что, приехав туда, Фэнни тут же заболела и была вынуждена покинуть их.
Тем временем почта из Англии доставила Стивенсону антологию баллад и рондо, собранных Глисаном Уайтом, с теплой дарственной надписью Р. Л. С, и рецензии на его собственный поэтический сборник «Подлесок». Поскольку тридцать баллад, причем лучших в этой антологии, принадлежали Хенли, называть ее, как это сделал Стивенсон, «смехотворным» томиком было не очень любезно и тактично, тем более что сам он безмолвно признал свою неспособность успешно управиться с этими сложными и изысканными старинными формами, уничтожив почти все баллады и рондо, которые пытался писать. «Подлесок», где Стивенсон собрал стихотворения, в течение многих лет публиковавшиеся в периодической печати, вполне возместил ему эту неудачу. Однако, если мы хотим увидеть, кто из них двоих настоящий поэт, достаточно сравнить баллады Хенли со стихотворением Стивенсона «Г. Ф. Брауну», которое лишь на первый взгляд кажется балладой, так как Стивенсон обошел в нем все трудности, специфичные для этой стихотворной формы, — даже если не вдаваться в формальный анализ, рядом с балладами Хенли стихотворение Луиса кажется дилетантским. Чересчур пылкие поклонники Стивенсона, для которых Хенли — шумный вульгарный журналист, забывают, что по поэтическому мастерству он далеко превосходил Р. Л. С.
Это не значит, что стихи Стивенсона вообще лишены достоинств. Любой поэт, написавший хотя бы два-три стихотворения, заслуживающих места в антологии английской поэзии, в большей степени может быть уверен в литературном «бессмертии», чем автор пятидесяти романов и биографий. А у Стивенсона такие стихи есть. Одно из его лучших стихотворений не было включено в «Подлесок» и появилось в поэтическом сборнике «Песни странствий» под номером XV.
Умыты с головы до пят, Девицы юбками хрустят. Корсет им тесен, их наряд Белей снегов: Холсты неделями белят Поверх лугов. Мужчин увесисты шаги, А шляпы словно утюги. Девчонка, юбку береги И ноги тоже, Как раз оттопчут сапоги До белой кожи. Не слышно шуток и острот, Нас к церкви Маргарет ведет. За ней торопится народ — За полководцем, Она же под руку идет С Давидом Гротсом. Из сундука извлечены Перележавшие штаны. Хозяин по стопам жены Заходит в храм. Его глаза устремлены К иным мирам.[116]Снова Шотландия, которую поэт вспоминает, находясь от нее за тридесять морей. Если в добавление ко всем превосходным вещам в других жанрах Стивенсон мог написать такое прекрасное стихотворение, он имеет полное право на похвалу. В более поздних «Балладах», которые сам Стивенсон очень любил — авторы часто любят свои слабые произведения, — почти отсутствует неуловимое очарование его лучших лирических стихотворений и мало чувствуется великолепный повествовательный дар. С другой стороны, в «Подлеске» он предвосхищает Хаусмана[117] таким, к примеру, четверостишием:
Теперь и нам пора идти, В сирень ныряя по пути, Твоя рука в руке моей, Попарно, в королевство фей.[118]У Хаусмана это выходило лучше, но тон задан уже здесь. «Реквием» и «Небесный хирург», которые слишком часто цитировали и слишком много хвалили, скорее свидетельствуют о неустойчивости вкуса широкой публики, чем о таланте Стивенсона. В обоих стихотворениях чувствуются какой-то наигрыш, какая-то фальшь. В письмах Стивенсон сам опроверг ошибочность тезиса «Счастье — задача нашей жизни», провозглашенного им в «Небесном хирурге». А вот правдивость, добрый юмор и лукавая насмешка таких незаслуженно забытых стихотворений на шотландском диалекте, как «Возвращение шотландца» и «Воскресное утро Лоудона», типичные для лучших стивенсоновских вещей, вызывают неподдельное восхищение.
Там, где в небо громоздятся скалы, Где у стариков румянец алый, А во взглядах девушек — Покой, Где клубится тишина густая И, в ущельях дальних замирая, Музыка ее Течет рекой… О, подняться вновь в родные горы, Где на красных склонах птичьи хоры, Где лужаек Где закатом весь пронизан воздух, А глубокой ночью небо в звездах, Словно их зажгли Для торжества. О, заснуть и снова пробудиться, Утренней прохладой насладиться, Бодро попирать Земную твердь! Там, где горы высятся глухие, Движутся лишь мощные стихии.[119]Здесь путь ему указал Бернс, по англичанину стихотворение кажется не хуже, чем стихи великого шотландского поэта. Английские стихотворения Стивенсона часто менее удачны, когда он, по его собственным словам, «играет на сентиментальной флейте», и пленяют нас, когда он, не смущаясь, показывает жизнь такой, как она есть. Прочитайте эти строки из «Садовника», немного в духе Марвелла,[120] написанные в Йере:
Друг, во владении моем, Где зелень окружает дом, Где коноплянкам летом рай, Всегда съестное насаждай. Пусть огурец созреет в срок, Ас ним — венерин волосок, Дух поэтически живой Салатной чаши гостевой. Пусть горец-тмин (он скрасить рад Дичь поскромней) и кресс-салат, Любитель мелких ручейков, Повсюду смотрят из углов. Гороха нужно не забыть, Чтоб детский фартучек набить Стручками. Все, что для людей Природа на гряде своей Взрастила, — путь всему открыт. Пусть артишок копьем грозит, И пусть, прославленный в веках, Красуется на стебельках Гороха брат — достойный боб. С бокалом сельского вина И дивной спаржей, у окна, Я с толстой книгой и свечой Вкушу чудесный ужин мой.[121]Мы не всегда осознаем, что для того, чтобы поэту добиться успеха, у него должен быть или темперамент мученика, или твердый и приличный годовой доход… Стивенсон мог «созерцать неблагодарную Музу» лишь в те краткие мгновения, которые он урывал у туберкулеза и бесконечной упорной работы над более ходкой прозой. Но он был прав, стараясь извлечь что мог из своего, пусть ограниченного, поэтического дара, — мы стали бы беднее без его стихов.
Интересно, как они звучали для самого автора, когда он читал их под осенним солнцем или при раннем снеге в своем неуютном домишке в Адирондакских горах? Было бы неплохо, если бы они удержали его от соавторства с Ллойдом в работе над комической фантазией под названием «Проклятый ящик» (или «В затруднении»). То, что Стивенсон, движимый любовью к пасынку, рискнул своим именем и репутацией, чтобы облегчить ему первые шаги на литературной стезе, делает честь доброму сердцу писателя. Сам он считал «Проклятый ящик» «очень глупым, очень веселым, очень нелепым и временами (на мой пристальный взгляд) очень смешным…». Увы, он скорее грубый, чем веселый, скорее непристойный, чем смешной. Поклонники Стивенсона — проллойдовской ориентации — скрывают тот факт, что Макклюр, к неудовольствию Стивенсона, советовал ему не ставить под фарсом своего имени, а издательство Скрибнера отказалось его купить. Поразительно, что еще можно найти «критиков», которые недооценивают «Олаллу» и превозносят «Проклятый ящик». К счастью для нас, зимой Стивенсон был занят более полезным делом, превращая свои статьи для журналов в настоящую литературу и набрасывая первые сцены «Владетеля Баллантрэ». А каждого писателя, особенно хорошего писателя, надо судить по его достижениям, а не по неудачам. Стивенсон не может быть в ответе за «Проклятый ящик». Это была юношеская эскапада Ллойда, а Стивенсон хотел ему помочь и поднять рыночную цену книги, одолжив ей свой стиль и свое имя.
В конце долгой зимы на Саранакском озере Стивенсон получил от Хенли письмо (датированное 9 марта 1888 года), которое причинило ему жестокую боль и практически положило конец их долгой и тесной дружбе. Одним из любопытных фактов биографии Стивенсона было то, что, отнюдь не склонный к ссорам, он сильно страдал из-за распрей с людьми, которых любил больше всех остальных, — с отцом и Хенли. Правда, именно те, кого мы больше всего любим, как раз обладают способностью ранить нас сильнее других, а ни у одного из вышеупомянутых людей не хватало деликатности и такта, чтобы щадить Роберта Луиса, впечатлительного почти как женщина. Под влиянием обиды, нанесенной одним из них, Стивенсон приходил в возбужденное состояние: истерические припадки, которым он был подвержен из-за неразумного воспитания, наносили ему огромный вред.
Можно ли даже сейчас, обсуждая эту ссору, быть объективным? Замешаны в ней в первую очередь трое — Стивенсон, Хенли и Фэнни. Читая все написанное по этому поводу раньше и в последнее время, нельзя не поражаться пристрастному отношению, чаще всего даже не осознанному, к одной из двух причастных сторон. Удивительно, как много можно инсинуировать, переставив акценты, опустив или подчеркнув тот или иной факт, намекнув на скрытые мотивы или не полностью приведя показания свидетелей.
Прежде всего нужно вновь вспомнить об антипатии, существовавшей между Хенли и Фэнни. Как мы знаем, это не распространялось на Ллойда, который обожал Хенли почти так же, как самого Луиса, и прекрасно видел, когда мать была не права. Хенли возмущался, и не без оснований, той, как он считал, надменностью и самонадеянностью, с которой «эта полуграмотная женщина» навязывала свое мнение его бесценному Луису и подвергала цензуре его произведения. Роберт Луис в шутку сам нежно назвал ее, посвящая ей одну из своих книг, «Критик на печи»,[122] и, действительно, обладала ли она темпераментом, талантом и культурой, которые делали бы ее правомочной вмешиваться в его творчество, не заботясь о последствиях, еще вопрос. Хенли считал, что нет, и со все растущим раздражением наблюдал, как его лучший друг подчиняется цензуре жены с покорностью, которую он никогда не высказывал по отношению к тем, кто был интеллектуально равен ему. Сюда примешался и национализм: Хенли, шовинисту и стороннику имперской политики, было в равной мере не по нутру и то, что Фэнни американка, и то, что Луис экспатриировался в Америку. В последнем Хенли был не одинок, как увидел во время посещения Англии Макклюр, который наивно жаловался, что все друзья Стивенсона «ревнуют его к Америке»; а ведь, как правило, Америка самая ревнивая к своим экспатриантам, а Англия — самая терпимая страна. Но в данном случае, безусловно, предубеждение против Америки было. И отчасти оно имело почву под собой. Еще в Англии Стивенсон не раз шел на уступки ради денег, и его восторженные письма о том, какие огромные суммы ему предлагают за сотрудничество в американских журналах, возбуждали у друзей опасения, как бы он не разменял на мелочи свой талант. Хенли негодовал, что его любимого Луиса держат за три тысячи миль от него и расстояние может стать в два раза больше. Он хотел, чтобы Луис был поблизости, и, как большинство интеллектуалов, живущих в Лондоне или неподалеку от него, полагал, будто успешная творческая работа невозможна за пределами столицы. Фэнни, со своей стороны, возмущалась тем, что Хенли имеет на ее мужа такое большое влияние, и всеми правдами и неправдами старалась ослабить его. Она была права, считая, что бьющая через край энергия и жизненная сила Хенли подвергает опасности здоровье Луиса; она была не права, считая, будто Хенли брал больше, чем давал, и не желая видеть его верности литературным и материальным интересам друга. Когда Хенли обращался к Луису за деньгами, она почему-то забывала, что многие годы он неофициально служил ее мужу литературным агентом и, когда они бывали в нужде, делился с ними последним.
Формальным поводом к войне послужил пустячный, хотя и прискорбный, случай, о котором можно лишь сказать, что Фэнни могла бы вести себя иначе и куда лучше. Катарина де Маттос — родная сестра Боба Стивенсона, двоюродная сестра Луиса и его подруга с детских лет — была бедна, и в своем завещании Томас Стивенсон поручил ее заботам сына. У нее были небольшие литературные способности, не хуже и не лучше, чем у Фэнни, а таких людей всегда тянет писать, если они оказываются рядом с высокоталантливым человеком. Она сочинила рассказ о том, как встретилась в поезде с девушкой, убежавшей из сумасшедшего дома. Фэнни слышала, как обсуждали этот рассказ, и посоветовала превратить девушку в «деву вод» — русалку, на что Катарина не согласилась. В присутствии Хенли Фэнни предложила, поскольку тому не удалось никуда поместить рассказ, взять его и переработать, на что Катарина дала согласие, но очень неохотно; как полагали они с Хенли, Фэнни должна была услышать в этом более или менее вежливое «нет». Фэнни, всегда слышавшая то, что хотела, поняла это как «да», переписала рассказ по-своему, использовав в большой степени материал первоначального варианта, и без особого труда продала его издательству Скрибнера (в марте 1888-го), где незадолго до того стал сотрудничать ее муж. Неблаговидность ее поступка самоочевидна, но на это можно было бы посмотреть сквозь пальцы, если бы Фэнни публично поблагодарила Катарину в предисловии и послала ей половину гонорара. Фэнни не сделала ни того, ни другого.
Затем вмешалась «судьба», устроившая так, что Хенли пребывал в особо угнетенном и раздражительном состоянии духа, когда он открыл номер журнала с «Русалкой» Фэнни Ван-де-Грифт Стивенсон. А тут еще он незадолго до этого слышал, будто на озере Саранак Луис и Ллойд выполняют всю работу по дому, так как Фэнни и Валентина больны. Хенли написал письмо с пометкой на конверте «лично, конфиденциально», которое начиналось так:
«Милый мальчик, если ты будешь мыть посуду и без конца торчать на кухне в этом прелестном климате восточных штатов, то заранее примирись с последствиями. Как я был сердит на тебя, когда об этом услышал, и как рад узнать, что на этот раз все сошло тебе с рук. Этот приступ «Ньюкомов»[123] конечно, плохой симптом, но ты, без сомнения, со временем вылечишься. А пока что никакой посуды. Это весело, это романтично, это так «богемно», это даже полезно и чистоплотно, но это слишком рискованное удовольствие, чтобы ты мог часто ему предаваться».
Пошутив насчет успеха Стивенсона — получения им степени магистра искусств, Хенли говорит, что он «выбит из колеи», и приводит слова P. Л. С. насчет того, что жизнь «преподлая штука». «Неужели ты только сейчас это обнаружил, о творец «Встречного ветра»? — спрашивает он, имея в виду одно из шотландских стихотворений в «Подлеске», и продолжает: — Последние три года я вынашиваю одну мысль, и похоже, что она окажется сильнее меня. У меня есть работа, я задолжал не больше сотни фунтов; мое имя начинает приобретать известность; мои стихи печатают, впереди, верно, ждут и другие радости, а я бы отдал все это и в десять раз больше за… enfin![124] Жизнь — преподлая штука. C’est convenu.[125] Если бы я не служил, пусть слабой, поддержкой некоторым, еще более слабым людям, я бы давно поставил точку».
Дальше в письме говорится о литературной работе Хенли, которая, как ему кажется, страдает из-за того, что много времени уходит на возню с журналом. Затем идет абзац, посвященный «Русалке».
«Я прочитал «Русалку» с понятным изумлением. Это же рассказ Катарины! Разве нет? Ситуация, место и время действия, основные герои — voyons![126] Даже сходные обороты речи и образы, одинаковые эпизоды… que sais je?[127] Все это лучше скомпоновано, верно, но, мне кажется, рассказ потерял столько же (если не больше), сколько выиграл. Одного я никак не могу понять — почему под ним не стоят две подписи».
Затем он обращается к их пьесе «Дикон Броуди», которую его брат-актер пытался поставить в Нью-Йорке:
«…как ты говоришь, если пьеса провалилась в Нью-Йорке, значит, ей конец.
Луис, дорогой мой мальчик, я чертовски устал. Владелица моего замка уехала. Весна для меня больше не весна. Мне в этом году исполняется тридцать девять. Я чертовски, чертовски устал. Ах, мне бы крылья голубя — даже не белоснежные, — чтобы я мог улететь и отдохнуть.
Не показывай этого письма никому и, когда будешь писать мне, отвечай в общих чертах, а лучше совсем не отвечай. К тому времени, когда ты соберешься написать, ты, без сомнения, все уже позабудешь. Но если нет, говори потуманнее о моем недуге. Как бы я хотел, чтобы ты был ближе. Какого дьявола ты уехал и похоронил себя в этой проклятой стране доллара и табачной жвачки?! И ведь здоровье твое не стало от этого лучше. C’est trop raide.[128] А ты в четырех тысячах миль от своих друзей! C’est vraiment trop fort.[129] Все же, верно, придется тебя простить за твою любовь ко мне. Будем же любить друг друга до конца нашей жизни. Ты, и я, и Чарлз — д’А., Портос и le nommé[130] Арамис. То был счастливый день — тринадцать лет назад, — когда старина Стивен привел тебя в мою берлогу, верно? Enfin!.. Мы жили, мы любили, мы страдали; и конец будет лучше всего. Жизнь — нреподлая штука, но она была совсем иной и еще будет иной… еще будет, мой дорогой, я уверен. Прости за невнятицу, заботься о себе и сожги это письмо. Твой друг У.Е.X.».
Упоминание о «Русалке» нельзя отрывать от всего остального, что есть в письме, которое вышло из-под пера усталого, издерганного, подавленного человека, расстроенного отсутствием жены. Письмо, бесспорно, искренне, и в тоне его слышна любовь к Луису. То, что очередной номер «Скрибнера» пришел в Лондон как раз, когда Хенли собрался сорвать на старом друге плохое настроение, было просто злой шуткой со стороны судьбы. «Лично и конфиденциально», очевидно, относилось ко всему содержанию письма, где Хенли говорил о своих собственных неприятностях, а не только к «Русалке». Но почему он вообще о ней написал? Да потому, что Хенли только кончил читать этот рассказ, и он занимал его мысли; по поводу того, хотел ли Хенли, упоминало «Русалке», нанести Луису через Фэнни предательский удар или же просто констатировал то, что полагал фактом, мнения расходятся. Версия Хенли и Катарины относительно «разрешения» переработать рассказ, которое якобы было дано Фэнни, не совпадает с версией Стивенсонов. Что бы ни говорили, «неохотное согласие» Катарины вовсе не означало, что она позволяет Фэнни «стащить» сюжет рассказа, чуть-чуть его изменить и продать в качестве своего. Сейчас, конечно, трудно, даже невозможно, сказать, кто из них был прав… очевидно, все были в той или иной мере не правы. Фэнни в том, что вела себя высокомерно и покровительственно по отношению к Катарине, а Катарина и Хенли в том, что позволили своему возмущению излиться на ни в чем не повинного Луиса. Конец письма мог быть перефразирован так: «Ради бога, почему ты позволяешь Фэнни собой командовать? Ведь она забрала тебя у друзей и родины и заперла вдали от всего мира в мрачной, скованной снегами деревушке, где ты пишешь ради нее журнальные статьи!» По-моему, это ничуть не менее обидно, чем то, что Хенли говорил о «Русалке».
К сожалению, не один Хенли переутомился и потерял душевный покой, а одиночество, в котором Стивенсон жил на Саранаке, еще более обострило ранимость этого легкоуязвимого человека. То, что Хенли в Лондоне рассматривал просто как еще один пример «надменности и самонадеянности» Фэнни, прозвучало для Стивенсона обвинением в краже денег и чужой славы. У него был теоретически очень высокий идеал чести, а в то время он, вероятно, все еще мучился из-за того, что продал право издания одной и той же книги двум американским издателям одновременно, — ошибка, за которую он бы мог жестоко поплатиться, если бы имел дело с менее благородными и великодушными людьми. Он пошел к Фэнни, которая болела и лежала в постели, и опрометчиво пересказал ей все, что написал о «Русалке» Хенли. Судить об ее ярости и возмущении можно по тому нелепо напыщенному письму, которое Стивенсон послал Хенли, чтобы ее успокоить. Начиналось оно так: «Любезный Хенли! Я пишу с невероятным трудом, и если тон мой покажется тебе резким, подумай, часто ли мужу приходится выслушивать подобные обвинения, направленные против его жены».
И так далее, и тому подобное. Письмо адресовано Хенли, но предназначалось оно для Фэнни, и, должно быть, Хенли догадался об этом. К сожалению, очередное деловое письмо от помощника Хенли — младшего редактора «Арт джорнал», отправленное еще до того, как Хенли получил от Стивенсона ответ, было воспринято как намеренное оскорбление, хотя, упоминая об этом в следующем письме, Стивенсон пишет: «Я ничего не стану говорить по другому поводу: по правде сказать, я немного жалею о том, что написал в прошлый раз». Чего он хотел, ясно: сохранить старого друга и убедить его, через Бэкстера, в какой-нибудь приемлемой форме взять свои слова обратно и извиниться перед Фэнни, чтобы успокоить ее. Хенли был готов пойти на мировую и даже извиниться, но не соглашался отказаться от своих слов и поступиться правдой, как явствует из его письма, датированного 7 мая 1888 года:
«Мой милый мальчик! Твое письмо очень меня расстроило. Я даже не знаю, как на него ответить, оно показало мне (теперь я ясно вижу это), что я проявил жестокость, недостойную меня и нашей старинной дружбы. Ты можешь последними словами корить меня за то, что я так необдуманно тебе обо всем написал, — это была грубая оплошность; я не буду жаловаться, я заслужил твои укоры. Я знаю, мне следовало ничего не говорить, и я никогда не перестану сожалеть, что причинил тебе эту бессмысленную, ненужную боль.
Ты не должен думать, будто я умышленно это сделал. Нет и нет. Я не придавал всей этой истории особенно большого значения. Мне казалось правильным, чтобы ты знал, как я гляжу на нее, и на этом я собирался поставить точку. Я с самого начала принимал во всем этом непосредственное участие и имел право (думалось мне) высказать свое мнение. Лучше (рассуждал я) ты услышишь о некоторых совпадениях от меня, нежели от кого-нибудь другого. Я хочу, чтобы одно тебе было совершенно ясно — мной руководила дружба, и ничего больше».
На этом письме есть карандашная пометка Стивенсона:
«От начала до Конца стоит на Прежних позициях: 1) а ведь я дал ему честное слово относительно некоторых фактов; 2) а ведь его письмо (вследствие этого) нельзя показать жене; 3) а ведь даже если он продолжает думать так же, мне кажется, добрый человек мог бы и солгать. Р. Л. С».
Пафос этих строк не может не трогать; как не пожалеть беднягу, раздираемого на части между непреклонной честностью Шепердс-Буш[131] и яростной непримиримостью Индианаполиса.[132] Тут бы Стивенсону вспомнить, сколько страданий он сам причинил родителям, когда отказался из принципа солгать относительно своих религиозных взглядов. Да и мог ли Хенли «солгать» достаточно убедительно, чтобы это удовлетворило Фэнни, не предав Катарину де Маттос? В письмах Катарины к Стивенсону есть несколько весьма сдержанных по форме, но недвусмысленных по содержанию фраз, показывающих, что она не приемлет версию Фэнни относительно этого дела:
«Поскольку вполне понятное, хотя и незадачливое, письмо мистера Хенли было написано без моего ведома и помимо моего желания, я попросила его прекратить обсуждение этого вопроса. Он имел полное право изумиться, но то, что он выразил это вслух, никак не исходило от меня. Если Фэнни считает, что ей по праву принадлежит замысел рассказа, то я далека от желания утверждать свой приоритет или как бы то ни было ее критиковать. Конечно, весьма неудачно, что мой рассказ был написан раньше и прочитан нескольким людям, и, если они не скрывают своего удивления, это вполне естественно, и винить в том нельзя ни меня, ни их… Надеюсь, ты не принимаешь эту историю так близко к сердцу, как все остальные».
Черным по белому — куда уж яснее, что она никогда не давала Фэнни разрешения, как та утверждала, переписать рассказ и продать его в качестве своего. В ответ на это послание Стивенсон прочитал Катарине в письме мораль, кончавшуюся словами: «Советую тебе, если ты стремишься к душевному миру, сделать то, что следует, и сделать это не откладывая», то есть признать, что Фэнни права! Однако Катарина, как шекспировский Оселок,[133] воспользовалась словечком «если»:
«Если я не поняла чего-то сказанного мне в Борнмуте или поняла это неправильно, я весьма сожалею, но я не могу сказать, что сделала это намеренно».
Спор зашел в тупик, и, как ни печально, больше всех от этого страдал Луис Стивенсон.
Тем временем Фэнни поправилась настолько, что смогла поехать в Сан-Франциско, где занялась приготовлениями к задуманному ими плаванию на яхте, а Стивенсон с Ллойдом перебрались из Адирондакских гор в Манаскуан, где Луис работал над статьями для Скрибнера и вместе с Ллойдом писал «Проклятый ящик». Его письма к Фэнни, относящиеся к этому периоду, полны любви к ней и терзаний по поводу Хенли. Каково было душевное состояние и отношение ко всему этому самой Фэнни, можно судить по двум отрывкам из ее писем к Бэкстеру, написанных в Сан-Франциско. Первое касается некоторых изменений, которые Бэкстер должен был внести в духовное завещание Луиса; согласно им, Катарина и Хенли исключались из него, но (по совету Бэкстера) ребенку Катарины назначалась ежегодная рента, и небольшая сумма (пять фунтов в месяц) должна была вручаться Хенли без указания от кого. А Фэнни не желала, чтобы деньги Томаса Стивенсона выплачивались дочери его родной племянницы, она была против всех «новомодных пожизненных рент» и хотела, чтобы та получала вспомоществование в той форме, которая устраивала бы ее, Фэнни. Она писала.
«Рука, нанесшая мне жесточайший удар, уже протянута за подаянием. Я никогда не забуду причиненной мне обиды. Зло нельзя простить. Я не хочу видеть Англию и, вполне возможно, никогда больше ее не увижу. Каждое пенни, которое уходит к ним, к любому из них, уходит помимо моей воли и уносит с собой мое проклятье».
К этому времени шесть строк, написанных Хенли относительно «Русалки» и неблаговидного поведения Фэнни, получили очень широкую огласку, что чувствуется в письме Фэнни к Бэкстеру от 29 мая 1888 года, звучащем в оскорбленно-латетических тонах:
«Как бы то ни было, они чуть не убили Луиса. Мне очень тяжело влачить это существование! Я бы не выдержала, если бы не знала, что нужна моему дорогому мужу. Если у меня все же не станет сил, я оставляю свои проклятья всем убийцам и клеветникам… Иногда мне кажется, было бы лучше, если бы мы оба покинули этот мир. Всякий раз, как я ложусь спать, у меня возникает искушение воспользоваться морфием и мышьяком, стоящими на столике у кровати.
…Если волей судьбы мне все же доведется вновь посетить предательский Альбион, я научусь притворству. И когда они станут есть хлеб, протянутый моей рукой, — а они станут, в этом я не сомневаюсь, — я буду улыбаться, молясь, чтобы он обратился в яд, который иссушит их тела так, как они иссушили мне сердце».
Эта выдержка из последнего письма, положенного Чарлзом Бэкстером в досье, куда он аккуратно клал всё касающееся дела «Хенли против Стивенсона», не нуждается в комментариях. Но чтобы предоставить Фэнни последнее слово, — а это только справедливо, — вспомним одну ее запись в дневнике, который был недавно (в 1956 году) напечатан под заглавием «Жизнь на Самоа», сделанную 20 июля 1893 года (когда она уже совершенно забыла о «Русалке»).
«Как бы мне хотелось написать хоть небольшой рассказ, чтобы самой заработать немного денег. Я знаю, люди говорят о… (пропущено восемь слов). Пусть, ведь разделять… (пропущено шесть слов)… такая радость и блаженство. Все деньги, которые я заработала… (пропущено около восьми слов)… к другим людям. В последний раз я получила двадцать пять долларов из ста пятидесяти и послала их умирающему шурину. Я иногда думаю: интересно, что бы стало с мужчинами и до какой степени они деградировали бы, если бы оказались на месте женщин, которым дают «пропитание», дарят платье и от которых ждут глубокой благодарности за любую сумму денег, потраченную на них. Я бы работала не покладая рук чтобы заработать фунт-другой в месяц, и легко заработала бы и больше, но я — жена Луиса, и это связывает меня».
11
31 мая 1888 года Стивенсон, сопровождаемый, подобно вождю шотландского клана, целой свитой, состоящей из матери, Ллойда и Валентины Рох, вновь отправился поездом через весь материк из Нью-Йорка в Сан-Франциско, на этот раз не в эмигрантском, а в комфортабельном пульмановском вагоне. День, когда Луис смог повернуться спиной к мелким неприятностям вроде истории с «Русалкой» (которая не заслуживала бы обсуждения, если бы она не вызвала таких эмоциональных бурь и, главное, не истерзала бы ни в чем не повинного и так легко ранимого Стивенсона), был для него поистине счастливым днем. Нельзя положа руку на сердце сказать, что его дальнейшая жизнь была совершенно свободна от забот и огорчений, но эти тысячи миль континента, а затем еще тысячи, пройденные по Тихому океану, действительно оградили писателя от ревности, зависти и назойливого вмешательства в его дела хотя бы одним тем, что плавание по морю и физический труд в Ваилиме позволили Луису соприкоснуться с реальным миром в его подлинной сущности, что принесло куда больше удовлетворения, чем лондонский литературный клуб «Сэвил» и журналы Хенли. Безрассудный, казалось бы, поступок — трата двух из трех тысяч, оставленных ему отцом, на то, чтобы нанять яхту «Каско» для семи месяцев плавания по Южным морям, полностью себя оправдал. И хотя опять же нельзя положа руку на сердце сказать, что с тех пор Луис полностью выздоровел и у него не было больше горловых кровотечений, состояние его стало настолько лучше, а кровотечения случались настолько редко (главным образом в Сиднее и на Гавайях), что рискованное решение истратить почти все деньги на морское путешествие вернуло Стивенсона к жизни. Фраза из письма о поездке в Америку на торговом судне, везущем скот: «я забыл, что такое счастье» — помогает нам в какой-то мере увидеть, какое чувство освобождения принесли Стивенсону эти последние годы после заточения в Борнмуте. Только помня обо всех испытанных им раньше страданиях, мы можем до конца понять ликующую благодарность и восторг, звучащие в словах, которые он написал во время странствий в Тихом океане:
«То, что я вновь обрел свободу и силу и могу общаться с людьми, грести, ездить верхом, купаться, прорубать ножом дорогу в зарослях леса, кажется мне волшебной сказкой».
Сравните это с картинкой в «Скерриворе» — Стивенсон под красным зонтиком благодушно наблюдает, как его энергичная жена возится в саду.
Естественно, каждый из нас имеет свое личное мнение насчет достоинств разных книг Стивенсона, и вряд ли можно так уж категорически утверждать, будто улучшение здоровья и возможность наслаждаться жизнью сопровождались соответствующим творческим подъемом. Одни считают, что это так, другие — нет. Во всяком случае, следует напомнить, что в эти последние годы Стивенсон написал «Владетеля Баллантрэ», начатого еще на озере Саранак, «Катриону» — продолжение «Похищенного», большую часть так и не законченного «Уира Гермистона», которого многие восторженные почитатели Стивенсона считают его лучшей книгой, «Вечерние беседы на острове», куда входят «Берег Фалеза» и «Волшебная бутылка», многие из «Песен странствий», а кое-кто ставит их в число лучших стихотворений Стивенсона; и такие книги для широкого читателя, как «Сент-Ив», «Потерпевшие кораблекрушение» и «Отлив».
«Потерпевшие кораблекрушение» настолько отвечали вкусам публики, что Стивенсон и Ллойд получили пятнадцать тысяч долларов от американского издательства за право печатать книгу с продолжением. Помимо всего этого, мы имеем очерки и статьи, явившиеся непосредственным результатом путешествий Стивенсона по Тихому океану и жизни на островах, а также многочисленные письма друзьям. Даже учитывая все разнообразные произведения, которые Стивенсон написал до того, как пустился в плавание на «Каско», нельзя отрицать, что вышеперечисленный список производит весьма внушительное впечатление. Однако парадокс Оскара Уайльда «гений обречен творить одни шедевры», к сожалению, не соответствует истине, как это, кстати, показывают плоды его собственного труда. Поразительная творческая фантазия сочеталась у Стивенсона с неумением и нежеланием долго заниматься одним и тем же, что порой сбивало его с правильного пути. Я не хочу сказать, что ему не хватало выдержки и упорства, необходимых для работы над большой книгой: ведь то, что он доводил до конца свои длинные книги, неоспоримо. Но он часто бросал одну вещь ради другой, вновь принимался за нее после перерыва и снова бросал. Нельзя упрекнуть его в том, что он медленно работал, продукция, которую он выдавал за один рабочий день, была довольно велика, но он очень придирчиво относился к себе и бесконечно вымарывал и переписывал целые куски. Естественно, трудно предугадать, что именно мы потеряли из-за его внезапной и сравнительно ранней смерти. Возможно, такие фрагментарные вещи, как «Кавалер Бэрк» и «Скиталец», пролежав, подобно другим книгам Луиса, долгие годы, были бы полностью переделаны и превращены в шедевры. Лишь очень удачливый, вернее — очень талантливый писатель мог создать такие две прогремевшие на весь мир книги, как «Остров сокровищ» и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», почти не потратив времени на блуждания и поиски.
Вполне сознавая, насколько изменилась к лучшему жизнь Стивенсона, мы, однако, не должны думать, будто теперь его ждало лишь безоблачное счастье, восторги открытий и успех. Это было бы ошибкой. К тому времени, как Стивенсон с «чадами и домочадцами» отплыл из Сан-Франциско на «Каско», у него уже была своя многочисленная «публика». «Публика» всегда склонна идеализировать писателя, который сумел прийтись ей по вкусу, и делает это обычно, утверждая, будто он таков, каким читатель неведомо почему считает себя, — рыцарь без страха и упрека, украшенный всеми возможными добродетелями, и, хотя, как ни странно, он пребывает в безвестности, в конечном итоге его ждет успех и счастье отныне и на века. Кто может упрекнуть Стивенсона за то, что он идеально подходил для этой роли, что сентиментальная, ведущая сидячий образ жизни «публика» видела в нем воплощение всех своих несбывшихся чаяний и надежд. В те дни очень немногие знали из первых рук хоть что-нибудь об островах Тихого океана; для рядовых людей доступ туда был почти закрыт, но это лишь укрепляло миф о том, будто это «земной рай», населенный очаровательными «туземцами», которые столь благодарны за внимание, проявляемое к ним белыми «старшими братьями», что женщины спешат нарядиться в пристойные платья, а мужчины — предложить своп услуги в качестве «боев». Некоторые из читателей-идеалистов, у которых оказалось больше денег, чем могло пойти им на пользу, отправились по следам великого Художника, результатом чего явились те книги «Со Стивенсоном…», на которые так горько сетовала Фэнни. Эдмунд Госс писал Стивенсону: «С тех пор, как Байрон был в Греции, ничто не вызывало такого интереса среднего «ценителя литературы», как ваша жизнь в Тихом океане».
Под ценителями литературы Госс почти наверняка понимал «читателей», но, даже если это не так, широкий интерес к Стивенсону и его «приключениям» бесспорен. Каким образом плавание по Тихому океану на яхте и торговых шхунах и постройка дома в Ваилиме могли ставиться на одну доску со смертью Байрона в Миссолунги, было бы неразрешимой загадкой, не будь нам знаком тот любопытный процесс, в результате которого кумир читателя оказывается в его личном пантеоне.
Как бы то ни было, даже первое и очень дорогое (две тысячи фунтов) плавание на «Каско» не обошлось без неприятностей и затруднений как пустяковых, так и чреватых большой бедой. Справедливо или нет, но Стивенсон полагал, будто «Каско», бывшая до того спортивной яхтой, «переоснащена и имеет слишком большой рангоут». Капитан Отис, шкипер яхты, впоследствии решительно это отвергал. Очевидно, Стивенсон не слишком много понимал в яхтах, хотя и ходил под парусами по бурным шотландским морям, ведь искусства американцев в строительстве и вождении парусных судов никто отрицать не станет. Но дурные предчувствия, мучавшие Стивенсона, должно быть, сильно омрачили его удовольствие от путешествия, особенно после того, как он обнаружил, что в Южных морях бушуют яростные шквалы, а плавание между островами и коралловыми рифами, координаты которых лишь приблизительно нанесены на карту, далеко не так приятно и безопасно, как кажется.
Судя по всему, наши простаки приняли на веру хорошие мореходные качества яхты; попроси они эксперта осмотреть ее, тот немедленно обнаружил бы, что мачты поражены сухой гнилью. К счастью, капитан Отис вовремя это увидел, но, если бы хоть одна из мачт сломалась, когда они были у подветренного берега, или на них обрушился бы сильный шквал, яхта со всеми людьми, несомненно, пошла бы ко дну.
В начале плавания капитан Отис относился к своим новым хозяевам-пассажирам с полным презрением, что, очевидно, весьма распространено среди морских волков. Конечно, Стивенсон достаточно разбирался в морском деле и обладал достаточно сильным характером, чтобы не позволить какому-то шкиперу себя оскорблять, но и у него были трудности. Фэнни и Валентина страдали морской болезнью; перед отплытием забыли задраить наглухо иллюминаторы, и во время шквалов в яхту набиралась вода. Затем на Фэнни вдруг напал «демократизм», и, преступив одно из основных правил судовой дисциплины, она заговорила с рулевым, стоящим на вахте. Это навлекло на нее такой гнев капитана Отиса, что под его уничтожающим взглядом она сникла и ретировалась. Только Стивенсон и его мать быстро привыкли к морской качке, и старая леди даже сумела взять реванш, выигрывая у капитана в вист. Говорят, позднее они стали хорошими друзьями. Будем надеяться, что так. Но все эти мелочи, несомненно, служили ложками дегтя в бочке меда и отравляли блаженство Стивенсона, особенно в первые дни плавания на «собственной» яхте в открытом море, куда он отправился в поисках приключений.
Одним из следствий невероятной популярности стивенсоновских тихоокеанских вояжей является то, что мы имеем колоссальное количество литературного материала об этом периоде его жизни, больше, пожалуй, чем обо всех остальных, вместе взятых, хотя движимые местным патриотизмом шотландцы собрали все клочки относящихся и не относящихся к делу воспоминаний о ранних годах Роберта Луиса. Сам Стивенсон также писал о тихоокеанской поре куда больше, нежели обо всех прочих периодах своей жизни. В сборнике очерков «В Южных морях» говорится лишь о Маркизских островах, Паумоту (теперь Таумоту) и островах Гилберта, а в книге не меньше ста двадцати тысяч слов; прибавьте к этому «Примечание к истории», политические статьи для лондонских журналов, «Открытое письмо преподобному доктору Хайду из Гонолулу» — памфлет в защиту Дамьена, и все письма, в том числе и Колвину, из Ваилимы. Я не подсчитывал точно, но полагаю, что в целом там около четверти миллиона слов. Мы имеем два тома дневников матери Стивенсона («тетушки Мэгги», как ее называли домашние), а также «Плавание на Жанет Николь» Фэнни, — конечно, с большими купюрами, — и, к счастью для нас, восстановленные ее же дневники жизни в Ваилиме. Кроме того, существуют записки Ллойда, воспоминания Грэхема Бэлфура, вошедшие в «официальную» биографию Стивенсона, «мемуары» Белл, падчерицы Луиса, написанные вместе с братом, и даже «Незабываемая личность» — напечатанный в «Ридерз дайджест» очерк ее сына Остина Стронга, который еще ходил в школу, когда умер Р. Л. С. Что касается множества книг «Со Стивенсоном…», лично я считаю — самая интересная и самая честная из них принадлежит перу американского торговца X. Д. Мура, хотя в ней есть мелкие ошибки и чувствуется предубеждение против Фэнни и Белл. В короткой монографии невозможно изложить содержание всех этих книг — подробности нельзя обобщить. Те, кто желает хотя бы относительно полно ознакомиться с этими годами жизни Стивенсона, должны обратиться к первоисточникам.
28 июля 1888 года, только через месяц после отплытия из Сан-Франциско, яхта в первый раз бросила якорь у Нукахива, на Маркизских островах. Этот сам по себе незначительный факт говорит о еще одном крупном минусе всех их морских путешествий, в том числе и плавания на «Каско». Фэнни не только плохо переносила морскую качку, она писала миссис Ситуэлл, что боится моря и ненавидит его и жизнь на борту корабля наводит на нее тоску. Вот вам еще один пример фатальной несовместимости в конституции и темпераменте участников этого брачного союза, которая мешала им создать домашний очаг: снежные горы и особенно море, возвращавшие жизнь Роберту Луису, вызывали страдания его жены. Возможно, «страх и ненависть» по отношению к морю были эмфатическими преувеличениями, свойственными Фэнни, но, судя по письмам самого Стивенсона, жена его бывала счастлива лишь на суше. Роберт Луис утверждал, будто любовь к плаваниям и хорошее самочувствие на море унаследованы им от деда, мистера Роберта Стивенсона. Довольно фантастическое объяснение! Куда правдоподобнее, что любовь к морю возникла у него благодаря рассказам, слышанным в детстве, и поездкам вместе с отцом на маяки. Фэнни же провела ранние годы жизни вдали от моря, ничего о нем не знала и не хотела знать. Она была, как сказал ей муж, «крестьянка», и то, что Фэнни, тщеславие которой он задел, долго не могла простить Луису этих слов, доказывает его правоту. Дом на Самоа был, несомненно, компромиссом между моряком и крестьянкой.
Сборник «В Южных морях» начинается с широко известного описания общей панорамы острова Нукахива. Из него видно, что автор горел желанием «стать рабом острова Вивьена», хотя именно Нукахива оказался одним из двух мест, где их враждебно встретили за все время их плавания по Южным морям. Причиной тому, конечно, было недоразумение — местные жители никогда не видели прогулочных яхт и возмутились тем, что пассажиры «Каско» ничего у них не покупают. Несмотря на плохой прием, наши путешественники высадились на берег и оставались там до 22 августа. В ход был пущено «стивенсоновское обаяние», и вскоре у них завязалась с островитянами дружба. Когда Стивенсоны перебрались на соседний остров Хивахоа, их даже торжественно приняли в члены одной из тамошних семей. Нельзя обойти молчанием метод, применяемый Робертом Луисом для налаживания хороших отношений и добывания сведений о туземных верованиях и обычаях. Из книг о тихоокеанских островах, прочитанных Стивенсоном, он вывел заключение, что они во многом схожи с горными областями Шотландии, какими те были в XVIII веке, и, чтобы заставить островитян разговориться, начинал рассказывать им какое-нибудь шотландское сказание. «Я обнаружил, что легенды о Майкле Скотте[134] о голове лорда Дервентуотера,[135] о ясновидцах или водяных равно являются верной приманкой». У кого, кроме Стивенсона, хватило бы фантазии выуживать фольклор в Океании на приманку с Гебридских островов, кто еще обладал таким редким, но столь необходимым при этом даром рассказчика? Очевидцы утверждали, будто слушать Стивенсона было еще увлекательней, чем читать, а это, несомненно, один из признаков, отличающих прирожденного романиста от ремесленника, «пекущего» романы. Такие романы обречены на забвение, ибо никакие стилистические красоты не спасут мертворожденную книгу.
Когда 4 сентября они отплыли с Таахауку на атолл Факарава, в записных книжках Стивенсона было полно «ценных сведений» о различных сторонах жизни островитян. Путешественники провели две недели в главном селении атолла Паумоту и затем переехали на Гаити, где новоприобретенное здоровье Луиса подверглось угрозе — он стал кашлять, и у него началась «лихорадка». Вскоре ему сделалось так плохо, что пришлось перебраться на остров Таравао, а затем перевезти Луиса в его «центр» — Таитиру, где им пришла на помощь та самая принцесса Моэ, которую прославил Пьер Лоти{Лоти, Пьор (1850–1923) — французский морской офицер романист, воспевавший экзотику Южных морей.}. Именно здесь капитан Отис обнаружил, что мачты «Каско» поражены сухой гнилью, и наши путешественники были вынуждены несколько недель сидеть на берегу, пока чинили яхту. К счастью, со свойственной ему способностью быстро восстанавливать физические и душевные силы Стивенсон вскоре поправился, причем настолько, что чуть не каждый день купался в море и почти кончил «Владетеля Баллантрэ». Они жили у местного вождя Орл-а-Ори, который поменялся именем со своим гостем — Стивенсон стал называться Териитера (второе имя вождя), а Ори-а-Ори — Руи, — самое близкое к «Луис», на что способен тамошний житель. Счастливое то было время, хотя «Каско» находилась в ремонте так долго, что у них вышли все припасы и они стали бы буквально голодать, если бы не Руи — он кормил их и предпринял опасную морскую поездку, чтобы привезти им продукты и деньги.
Из письма Бэкстеру, написанного по-шотландски в октябре 1888 года, видно, что Луис все еще тревожился из-за шкипера и команды, но увидел он их вновь лишь в январе.
«Каско» пришла только к рождеству: чуть не три месяца из семи, на которые они зафрахтовали яхту, оказались потеряны. Они отплыли на Гавайи, но плавание их было настолько неудачным, что они прибыли в Гонолулу лишь в конце января. Тем временем яхта была занесена в списки пропавших без вести, и ее имя больше не упоминалось в присутствии Белл, дочери Фэнни, ждавшей их в Гонолулу. На Гавайях они прожили с февраля по июнь.
Когда, расплатившись полностью с владельцем «Каско», капитаном Отисом и командой, Стивенсон прикинул, во что ему обошлась его эскапада, он увидел, каким безрассудством и расточительством было все плавание. Две тысячи фунтов за семь месяцев на неисправной яхте с прогнившими мачтами! Непомерно высокая цена, даже если сюда входили услуги угрюмого шкипера и дерзкой команды. Приходится признать, что владелец яхты одурачил Стивенсона. Спору нет, он поправился; в течение первых трех месяцев они выходили на берег, где хотели; Луис собрал материал для дальнейшей работы. Но это же он мог сделать, подвергаясь куда меньшей опасности и истратив куда меньше денег, если бы путешествовал на торговых шхунах. Стивенсон писал своему издателю И. Л. Бурлингейму:
«Что касается увлекательности путешествия и материала, судьба была к нам благосклонна; что касается времени, денег и всевозможных препятствий, от шквалов и штилей до прогнивших мачт и покоробившегося рангоутного дерева, судьба преследовала нас».
В феврале 1889 года Стивенсон писал своему кузену Бобу:
«…А во-вторых (должен признать я, я понял это, когда было уже слишком поздно), нам грозили столкновения, повреждения, сложный ремонт, потеря плавучести, необходимость быть взятыми на буксир и плата за спасение имущества. По правде сказать, путешествие могло обойтись мне в два раза дороже. И угроза эта все еще висит надо мной и будет висеть, пока я не услышу, что яхта благополучно прибыла в Сан-Франциско».
Если Фэнни и была «хорошим управляющим», то при заключении этой сделки она никак не проявила своих деловых талантов, и, как мы увидим в дальнейшем, та же безрассудная расточительность царила во время строительства в Ваилиме. Практичность ее проявлялась в другом. В какой бы форме Фэнни ни выражала протест против содержания и формы «Писем», который Луис подрядился посылать Макклюру и в «Нью-Йорк сап» и которые должны были возместить хоть частично капитал, потраченный на «Каско» и последующие вояжи, в принципе она была абсолютно права. Вот что она писала Колвину 21 мая 1889 года:
«Он забрал себе в свою шотландскую Стивенсонову голову, что его священный долг создать научный труд историко-этнографического характера, где он будет нелицеприятно сравнивать различные диалекты (которые он, но сути дела, совсем не знает) и разные народности для того, чтобы решить, все ли они по происхождению малайцы или нет… Только представьте, что людям, которые умирают от желания узнать об Орн-а-Ори, братании с каннибалами, удивительных легендах туземцев и невероятных приключениях, встретившихся нам по пути, предлагают научный трактат о полинезийских расах…»
Что и говорить, если бы Стивенсон выполнил свою программу (в которую, между прочим, входила рискованная задача сравнить протестантские и католические миссии), результатом могла бы явиться весьма ценная книга серьезного характера… конечно, если бы у него имелись точные данные, необходимые для написания подобной книги, а это по тому времени кажется немного сомнительным. Но читатели даже такой «интеллектуальной» газеты, как «Нью-Йорк сап», вовсе не этого ждали от Стивенсона. Они жаждали услышать о его приключениях, а не об его теориях.
…О сказочных пещерах и пустынях, Ущельях с пропастями и горах, Вершинами касающихся неба. О каннибалах — то есть дикарях, Друг друга поедающих. О людях, Которых плечи выше головы.[136]Трудно попять, почему Стивенсон с таким упорством хотел играть роль трезвого историка, когда весь читающий мир страстно желал услышать путевые рассказы, в которые никто, кроме него, не мог вложить столько очарования. Разве «Остров сокровищ» покорил бы весь мир, если бы Стивенсон сделал из него научный трактат по истории пиратов и работорговли? «Примечания к истории» служат доказательством того, что Стивенсон мог написать солидную книгу по современной истории Самоа. Но ведь он не рассчитывал печатать ее из номера в номер в газете. К сожалению, объединенные усилия Фэнни и Колвина привели лишь к тому, что в книге получился разнобой. Сборник «В Южных морях», составленный из вышеупомянутых «Писем», несмотря на все свои превосходные качества, не является ни серьезной научной работой, ни увлекательными путевыми заметками. После тридцать четвертого выпуска «Сан» отказалась продолжать публикацию. Слишком поздно Стивенсон написал изумительные главы об острове Апемама и его короле, по праву занимающие место среди его лучших вещей.
В вышеприведенном письме Колвину Фэнни дважды сетует на «нелицеприятный» подход Луиса к материалу «Писем». Это вовсе не значит, что она, как утверждали, нападала на «объективность»; она хотела только, чтобы в своих «Письмах» Луис уделил больше внимания «лицам» и меньше абстрактным понятиям, политике и религиозным сектам. Столь же необоснованным является вывод, будто ее возражения против истории тихоокеанских островов косвенно свидетельствуют о том, что Стивенсон достиг к тому времени полной зрелости и вышел из сферы ее влияния; раньше, мол, она не возражала против попыток Стивенсона писать историю северной Шотландии. В обоих случаях Фэнни руководствовалась требованиями здравого смысла и кошелька. История горной Шотландии была по сердцу Томасу Стивенсону, от которого в то время зависел их бюджет. Нового и щедрого казначея, Публику, интересовала не история, а романтика. Трудно не согласиться с Фэнни в том, что иметь дело с гением не легче, чем объезжать чересчур породистую лошадь.
В результате, как ни странно, в дневнике Фэнни и даже бесхитростных письмах старой миссис Стивенсон подчас встречается больше интересных сведений о живых людях и реальных событиях, чем во многих частях сборника «В Южных морях», хотя, бесспорно, в каждом абзаце этой книги видна рука мастера. Если вам кажется, что я «мелю вздор», как сказал бы Луис Стивенсон, то могу лишь предложить, чтобы читатель сам провел сравнение. Разумеется, это не относится к двум разделам, посвященным островам Гилберта, которые настолько увлекательны, что понимаешь, почему Конрад предпочитал их «Острову сокровищ».
В мае 1889 года Стивенсон посетил лепрозорий в Молокаи. Почему он предпринял эту поездку, причинившую ему острейшее душевное страдание? Ведь, как он писал жене, его «самым слабым местом» был «ужас перед ужасным». Я не думаю, что дело было просто в репортерской охоте за материалом. Спору нет, Стивенсон был' эгоцентричен, нередко драматизировал себя и сознательно стремился участвовать в жизненных перипетиях, чтобы в дальнейшем использовать полученный опыт в своих произведениях. Я бы сказал, это типично для многих писателей, особенно для писателей «субъективно-романтического» склада. А вот что куда менее типично, так это присущие Стивенсону доброта и великодушие, сострадание к беспомощным, жалость к страждущим и желание тут же, немедленно, им помочь. В апреле Стивенсон был на побережье Коны в Гавайях и оказался свидетелем того, как прокаженная девушка ждала под арестом отправки в Молокаи вместе с матерью, добровольно пожелавшей ее сопровождать, но не уверенной, что ей позволят там остаться. Зрелище это совершенно потрясло Стивенсона. Он ничем не мог ей помочь, но дал деньги, чтобы хоть как-то облегчить ее участь. Сцена прощания была особенно душераздирающей, потому что гавайцы необычайно привязаны к своим близким и, подобно народам Южной Европы, ставят семью и друзей выше закона и интересов государства. Мы, потомки многих поколений отцов-римлян и матерей-спартанок, можем порицать это, но не можем оставаться равнодушными. Стивенсон был глубоко тронут всеобщем горем и плачем, сопровождавшими расставание, хотя и старался скрыть это за шуткой, говоря: «Нам в современной жизни так не хватает этих первобытных хоровых ламентаций». После отъезда девушки, столь потрясшего его, Стивенсон решил не щадить себя и, заведомо зная, что это причинит ему боль, поехал в лепрозорий; он провел там целую неделю, «терзаемый ужасными зрелищами, но чувствуя истинный подъем духа при виде такой доброты у беспомощных, такого мужества и альтруизма у больных».
В лепрозории Стивенсон узнал о бельгийском миссионере-католике, отце Дамьене, умершем за год до того от проказы, которой он заразился, ухаживая за больными. Луис писал Колвину:
«О старом Дамьене, о всех слабостях и даже грехах которого я здесь понаслышался, я тем не менее самого высокого мнения. Это был европейский крестьянин: грязный, нетерпимый, лживый, неумный, хитрый, но при всем том прямой, великодушный и от природы добрый… человек со всей грязью и ничтожеством, свойственными людям, но именно поэтому настоящий святой и герой».
Такой человек был по душе Стивенсону, и он до конца своих дней оставался страстно предан памяти Дамьена, которого сам лично никогда не знал, — еще один привлекательный штрих. И вот в феврале 1890 года, когда Стивенсон был в Сиднее, он прочитал в «Пресвитерианине» письмо некоего протестантского священника Г. М. Хайда (роковое имя!), который говорил о Дамьене, что этот католический священник был «грубый, грязный человек, упрямый и фанатичный. Его вовсе не посылали в Молокаи, он поехал туда самовольно… Его отношения с женщинами были далеко не безгрешны, и проказа, от которой он умер, была ниспослана ему за грехи и беспечность. Другие, например, протестантские миссионеры, врачи, посылаемые правительством, и так далее, тоже много сделали для прокаженных, но никто, кроме этого католика, не помышлял заслужить таким путем вечное блаженство».
Все это с первого взгляда не так уж отличается от того, что писал друзьям сам Стивенсон; в частности, у него там были такие строки:
«…Труднее всего мне проявить симпатию к католическим добродетелям. Банковская книжка для расчетов с богом вызывает во мне возмущение или смех. Одна из монахинь называет это место (лепрозорий) кассой, где продаются билеты на небо».
Откуда же тогда такое яростное негодование, откуда эти фонтаны, обличений и оскорблений, какие брызжут в его знаменитом памфлете?… Что вам сказать? Среди прочих любезных нашему сердцу свойств в характере Стивенсона есть черточки, роднящие его с Дон-Кихотом Ламанчским; они проявляются в его склонности загораться благородными чувствами из-за дел, имеющих общественное значение. Движимый патриотизмом и высоконравственным негодованием, Стивенсон хотел опубликовать памфлеты по поводу таких событий, как поражение англичан при Маджубе и смерть генерала Гордона. В 1887 году он намеревался снять в Ирландии ферму, хозяину которой был объявлен бойкот, и поселиться там в знак протеста против произвола Ирландской земельной лиги.[137] Он воображал, будто этим поступком добьется мученического венца для себя и героической семьи, которая была готова сопровождать его, но, как сухо замечает его биограф Д. А. Стюарт:
«…Я жил в Ирландии пять лет и своими глазами видел многое из того, что так возмущало Стивенсона. Его присутствие в Керри в качестве мученика привело бы лишь к одному — к презрению».
Ярость, вызванная в нем письмом преподобного доктора Хайда, кажется тем любопытнее, что многие фразы из письма Хайда и писем самого Стивенсона можно было с легкостью поменять местами. Говорят, будто Стивенсон опасался, как бы письмо Хайда не помешало намерению воздвигнуть памятник Дамьену. Так или иначе, но дон Луис Роберто Ламанчский вновь был готов сражаться с ветряными мельницами и испить чашу мученичества. И вновь, как в случае с фермой в Ирландии, Фэнни и Ллойд выразили готовность умереть — или по меньшей мере заплатить за убытки — вместе с ним.
Правда, позднее Стивенсон признавался, что его испепеляющий памфлет был «варварски резок» и что «похвально защищать Дамьена, но жестоко так больно бить доктора Хайда». Мы не будем с этим спорить. Ведь как бы предвзято и нетерпимо ни было письмо преподобного Хайда, оно писалось частному лицу и не предназначалось для печати. Стивенсону вся эта история обошлась дороже, чем его противнику; в течение нескольких недель он ждал, что Хайд возбудит против него судебное дело, которое Стивенсон, несомненно, проиграл бы, а преподобный джентльмен «удовлетворился» тем, что назвал своего обидчика «богемным психопатом» и «ничтожеством, мнение которого ничего не значит». Это было неверно, но все же романтика судьбы вновь вызволила Стивенсона из положения, которое могло быть не только неприятным, но и причинить большой вред, так как решение суда в пользу Хайда поставило бы Стивенсона под удар всей продажной бульварной прессы. И ведь Дамьен действительно умер, стараясь облегчить участь прокаженных, а его критик-пресвитерианин, если верить Стивенсону, никогда и близко не подъезжал к Молокаи и спокойненько жил в Гонолулу.
Пожалуй, здесь стоит отметить небольшую подробность, о которой почему-то все забывают: издатель, рискнувший опубликовать «Открытое письмо» в защиту Дамьена в Англии всего через несколько недель после того, как оно было напечатано на средства автора в Сиднее, был не кто иной, как этот плохой друг, этот беспомощный Микобер[138] — Уильям Хенли («Скоте обсервер», номера за 3 и 9 мая 1890 года). Судебное преследование погубило бы его.
А между тем 24 июня 1889 года наша компания в несколько измененном составе отправилась во второе плавание, на этот раз на американской торговой шхуне «Экватор». Старая миссис Стивенсон, которой, казалось, пришлась по вкусу жизнь в Гонолулу, уехала в мае в Шотландию, а Валентина Рох покинула их, чтобы отправиться в Калифорнию, где ее ждал жених. Освободившиеся места были заняты поваром-китайцем A-Фуи Джо Стронгом, мужем Белл, которую отправили вместе с сыном в Сидней, чтобы она их там дожидалась.
Главной целью этого путешествия для Стивенсона было расширить знакомство с тихоокеанскими островами, посетив острова Гилберта и Самоа, о которых он много наслышался в Гонолулу. Визит на острова Гилберта означал переход из Полинезии в Микронезию. Первое знакомство с микронезийцами отнюдь не было обнадеживающим. Положение, в которое попали путешественники на острове Бутаритари (он же остров Макин), оказалось куда более опасным, чем в Нукахива. То, что в обоих случаях враждебность была проявлена местными жителями только при первом свидании, явилось простым совпадением. Оба раза причина враждебного приема крылась не в том, что приехавшие грубо нарушали какой-нибудь местный обычай. Хотя Бутаритари официально не находился под протекторатом Америки, ее влияние там было очень сильно, поскольку миссионеры и владельцы складов и лавок в большинстве были американцы. 4 июля местный «король» Тибуреимоа опрометчиво снял табу со спиртных напитков, и, когда Стивенсоны прибыли на остров, все местные жители, включая «короля», вот уже целых десять дней как были без просыпа пьяны, причем «король» отказывался вновь наложить табу. Обстановка создалась угрожающая, тем более что у большинства островитян было оружие; а два раза, когда Стивенсон сидел в сумерках на веранде, ему чуть не проломили голову огромными камнями. Пришлось, в свою очередь, демонстративно устроить на берегу состязание в стрельбе по бутылкам. Такое неприятное положение вещей длилось еще десять дней: «король» по-прежнему отказывался от табу, соперничающие между собой торговцы не желали лишаться доходов от продажи алкогольных напитков, а пьяные островитяне открывали ночью пальбу. Наконец депутация под предводительством жены одного из торговцев пригрозила «королю», что, если «сыну королевы Виктории»[139] мистеру Стивенсону будет нанесено оскорбление или телесный вред, к ним пришлют английский военный корабль, чтобы наказать жителей острова; «король» вновь объявил табу, и «дин» и «перанти» исчезли из продажи.
Вдохновляемый чувством общественного долга, Стивенсон помог составить петицию правительству Соединенных Штатов о «вынесении закона, запрещающего торговать спиртными напитками на островах Гилберта», присовокупив к ней подписанный его именем отчет обо всем происшедшем. Но эта попытка «обработать» конгрессменов в пользу введения на острове «сухого» закона не получила отклика ни на словах, ни на деле.
Инцидент дал хороший материал для тихоокеанских «Писем», и Стивенсон великолепно его использовал, но, к сожалению, они перестали печататься еще раньше, чем он добрался до Бутаритари. Еще интереснее оказался следующий остров, где они сошли на берег, — Апемама и его тиран — «король» Тембинока, воспылавший к Стивенсону любовью. Диктатор, захвативший в свои руки всю торговлю копрой в «королевстве», который поднимал подданных на работу выстрелом в воздух, а если кто-нибудь из них мешкал, тут же стрелял в провинившегося и убивал наповал, который грабил даже своих жен, обжуливая их в карты, выглядел куда более колоритной фигурой, чем все старейшины острова Макин (которые были столь же глупы, как и дряхлы), пререкающиеся в «Хижине для совещаний». Дружба и протекция такого автократа полностью обеспечивали безопасность, удобства и престиж его гостя, поэтому не удивительно, что Стивенсон ценил это знакомство и радовался, добившись еще большего расположения «короля» тем, что посоветовал ему принять бикарбонат соды, когда тому стало плохо в результате многодневного «угощения» джином на прибывшей к острову шхуне. Однако полностью чувствовать себя в безопасности было трудно: как-то раз, когда Стивенсоны обсуждали между собой возможность мятежа, если «король» не прекратит бесчинства, раздался ружейный выстрел. К счастью, убит — лично «королем» — был всего-навсего пес, легкомысленно забредший в окрестности «дворца». Видимо, «король» хорошо стрелял, так как попадал только в тех, кого он хотел убить. Все это Стивенсон описал очень живо и красочно; и самый рассказ, и образ Тембиноки занимают достойное место в творчестве Стивенсона. При всем том мы не удивимся, прочитав следующие строки в письме Луиса, написанном матери в декабре, незадолго до приезда на Самоа:
«Фэнни держалась молодцом, хотя плавание было нелегкое, однако вряд ли мне удастся склонить ее к еще одной поездке по морю. Сам я в полном порядке, но последнее время страдаю от отсутствия зелени. Боюсь, что Джо серьезно расхворался, а у Ллойда на ногах язвы».
Когда Стивенсон прибыл на Самоа, у него не было ни малейшего намерения там поселиться. Ему не так уж понравилось само место, и он сделал остановку в Апии исключительно с целью собрать материал о недавней «войне», который предполагал поместить в последнем разделе сборника «В Южных морях». Вышло так, что раздел этот превратился в отдельную книгу «Примечание к истории», где скука, которую вызывают у нас незначительные местные события, возмещается мастерски сделанной главой об урагане. После окончания «В Южных морях» Стивенсон хотел примерно в июне вернуться в Англию через Сидней, Цейлон, Суэц и Марсель. 2 декабря 1890 года он сообщал Колвину: «Я не намерен долго оставаться на Самоа…» А всего через семь недель после того он уведомил леди Тейлор, что сделался «владельцем поместья на острове Уполу, в двух-трех милях от Апии (имеется в виду, конечно, Ваилима) и собирается в Англию «ликвидировать хозяйство». Кончилось тем, что он послал для этой цели Ллойда и никогда больше не видел Англии.
Почему так внезапно переменились планы и откуда возникло решение привязать себя к Самоа домом и поместьем? Я прочитал, вероятно, почти все, что можно прочитать по этому поводу, начиная с писем самого Р. Л. С. и кончая воспоминаниями Г. Д. Мура, преуспевающего американского торговца, в доме которого в Апии жил Стивенсон и с чьей помощью и финансовой поддержкой он купил земельный участок, а затем построил дом. И нигде по-настоящему не объяснено это неожиданное, но твердое намерение осесть на Самоа, которое кажется тем более странным, что с самого начала плавания на «Экваторе» Стивенсон задумал написать книгу («Потерпевшие кораблекрушение»), на полученные деньги купить собственную шхуну и, открыв торговую фирму под соответствующим именем «Джекил, Хайд и Ко», плавать между островами, занимаясь вместе с Ллойдом куплей-продажей.
Несомненно, решение поселиться на Самоа было принято не без влияния Фэнни. В противовес тому, что сообщалось матери, леди Тейлор Луис писал: «Моя жена очень тяжело перенесла наше последнее, довольно-таки трудное путешествие…» Да, позднее она сопровождала Луиса в плавании на «Жанет Николь», но ведь то был пароход, а не маленькая парусная шхуна. А любила Фэнни совсем другое — устраивать «дом», командовать там и возиться с землей, выращивать фрукты и овощи. Одно время подумывали было устроить зимнюю резиденцию на Мадейре, но опыт показал, что Луис хорошо себя чувствует, только плавая по Южным морям или живя близко к экватору. Дом на одном из островов Тихого океана был компромиссом между непрерывным плаванием и возвращением в места с более холодным климатом. У Самоа, находившегося под тройным протекторатом — немецким, американским и английским, — имелись кое-какие мелкие недостатки, имелись и крупные, заключавшиеся в том, что остров был открыт ураганам и там была тревожная политическая обстановка, которая могла привести и действительно привела к беспорядкам среди туземцев и военным столкновениям, получившим громкое название «война». Это засосало Стивенсона в трясину местной политики, которую он близко принимал к сердцу и на которую потратил много времени и чернил. Однако тамошний климат был очень подходящим для здоровья Луиса, и, кроме того, существовало еще одно обстоятельство, немаловажное для писателя-профессионала, а именно — почтовая связь с Европой и Америкой была на Самоа не хуже, чем на Гавайях, и, несомненно, регулярнее, чем на любом другом из тихоокеанских архипелагов. Вот что рассказывает Г. Д. Мур, человек, лучше всех осведомленный обо всем этом деле:
«Наконец однажды Стивенсон сказал мне, что хотел бы обосноваться на Самоа. «Мне нравится здесь больше, чем в любом другом месте из виденных мной в Океании», — сказал он. Стивенсон был в Гонолулу, и ему там понравилось. Таити и Маркизские острова также пришлись ему по вкусу, но им всем он предпочел Самоа. «В Гонолулу хорошо… очень хорошо, — добавил он, — но здесь более дико».
Я засмеялся, но понял его. «Что ж, — сказал я, — раз вы не можете жить ни в Шотландии, ни во Франции, ни в Штатах и у вас более «дикие» вкусы, чем может удовлетворить Гонолулу, почему бы не разбить лагерь поблизости от столицы Самоа?»
Он сказал, что серьезно еще не обсуждал этот вопрос с женой, однако обещал решить его без задержки. Как только они пришли к единому мнению, он поспешил уведомить меня об этом, и мы ударили по рукам. «Баркис не прочь»,[140] — сказал он; под Баркисом надо было понимать Фэнни.
Он попросил меня подыскать ему подходящий участок. Однако его волновал вопрос о деньгах… не столько стоимость земли, сколько дальнейшие вложения, которые были неизбежны. Наконец, осмотрев несколько предложенных мной хороших земельных участков, он остановил свой выбор на Ваилиме (Пятиречье). По его просьбе я заключил с владельцем торговую сделку. Там было четыреста акров, и я заплатил четыре тысячи долларов».
Это говорит нам о том, что произошло и как, но не почему. Возможно, Стивенсон и сам не знал, почему так внезапно сделал столь важный шаг. В его жизни это был не первый случай, когда, поддавшись внезапному порыву, он принимал серьезное решение и не отступал от него. Вспомним его намерение во что бы то ни стало жениться на Фэнни, хотя она была замужней женщиной с двумя детьми, или плавание на «Каско», которую он так безрассудно нанял за две тысячи фунтов. Так или иначе, уполномочив тогда, в январе 1890 года, Мура купить ему земельный участок на острове Уполу, Стивенсон сжег корабли, привязав себя к Самоа до конца своих дней, если не считать нескольких недолгих морских поездок.
12
На первый взгляд покупка земли на Самоа и почти немедленный отъезд в Сидней — типичный пример непоседливости Стивенсона и его причуд, на самом же деле для переезда имелись вполне разумные основания. На купленной ими земле не стояло даже хижины, и, прежде чем начинать постройку настоящего дома, необходимо было расчистить участок от больших деревьев и густого подлеска и построить хотя бы временное жилье. Мур взял на себя заботу об этом и расчистил восемь из тех пятнадцати акров, которые только и обрабатывали Стивенсоны в принадлежавших им владениях. Когда в феврале 1890 года Стивенсон уехал в Сидней, он все еще думал привести в исполнение свой план вернуться в Англию и продать «Скерривор», а уж затем поехать с матерью навсегда в Ваплиму. К тому времени Мур успел бы что-нибудь для них приготовить. Кроме того, надо было как-то помочь Белл, застрявшей в Сиднее со своим непутевым Джо. В Гонолулу он слишком пристрастился к веселой компании, потому-то, чтобы увести Джо от соблазна, Луис и взял его в плавание на «Экваторе», но переезд из Гонолулу в Сидней только подлил масла в огонь.
Хуже, что Сидней был противопоказан самому Стивенсону. Он рассказывал Муру, что по мере перемещения в более южные широты самочувствие его становилось все хуже, и, когда они достигли Австралии, он с трудом мог сойти на берег. Возможно, это и так, хотя февраль в Сиднее — самый разгар лета, а легочное кровотечение, внезапно прервавшее приятную светскую и интеллектуальную жизнь, которую он там начал вести, скорее явилось следствием гриппа, неизбежного в любом людном городе. Луис был вынужден отложить поездку в Англию и вместо этого отправился в плавание (с 11 апреля по 25 июля 1890 года) на «Жанет Николь» — оснащенном парусами пароходе в шестьсот тонн водоизмещением. Они (на этот раз только Луис, Фэнни и Ллойд) побывали почти на тридцати островах Океании, в том числе заехали ненадолго в Апию и гостили у Тембиноки, для которого Фэнни нарисовала красочный королевский штандарт. Но они нигде не задерживались надолго; а иногда Фэнни вообще боялась высаживаться из-за сильного прибоя. К тому же большая часть из виденных ими островов были «низкие» острова или атоллы. Как заметил Стивенсон, даже кебы меньше похожи один на другой, чем атолловые острова. Они не были на Раратонге и острове Пасхи, как думал Мур, зато видели Ниую, Новую Каледонию, Папеэте, Нулиа, острова Маники (включая жемчужный остров Пенрин), Токелау, Эллис и группу Маршалловых островов, а также вновь посетили острова Гилберта. Самым неприятным происшествием за время этого плавания был пожар, возникший из-за того, что сам собой вспыхнул фейерверк, приобретенный весьма глупым торговцем по прозвищу Жестяной Джек для развлечения покупателей. Ллойд лишился из-за этого фотографий и почти всего своего гардероба, и только благодаря Фэнниной сообразительности и быстроте реакции не был сброшен за борт горящий сундук, где хранились все рукописи Стивенсона. Путешествие это буквально день за днем отразилось в дневнике Фэнни; со свойственной ей склонностью к преувеличениям она впоследствии называет эти малоприятные дни на корабле, где ее мучила морская болезнь, «самым счастливым, пожалуй, периодом моей жизни», который она вспоминает с «трепетным волнением и интересом». Из написанного на борту парохода письма Стивенсона мы узнаем, что чувствует он себя не так хорошо, как ожидал, но все остальные «устали меньше, чем во время плавания на «Экваторе», особенно миссис Стивенсон». К августу (1890 г.) они вновь вернулись в Сидней, откуда Ллойд поехал в Англию, чтобы продать «Скерривор» и имущество, а в октябре Фэнни и Луис отправились на Самоа. Первое письмо Колвину из Ваилимы датировано 2 ноября 1890 года. Они поселились в небольшом четырехкомнатном коттедже, недалеко от которого было затем построено их постоянное жилище — так называемый «двойной» дом.
Частично в результате газетной шумихи, частично из-за того, что в небольшом местечке невозможно уберечься от сплетен, Ваилима и ее обитатели стали объектом бесчисленных фантастических легенд; в том числе говорили, будто Белл — дочь Луиса и самоанки, сам Луис — «некоронованный король Самоа», а его резиденция в Ваилиме — сказочно роскошный дворец. Нужно признать, что дом в Ваилиме действительно стоил уйму денег, плюс к этому значительные суммы ушли на выписку из Англии и Шотландии всевозможных нужных и ненужных вещей, а плантация какао, которая так и не начала приносить доход, поглощала деньги на оборудование и оплату рабочих, как бездонная бочка. Какие еще нужны доказательства того, что Луис и Фэнни (эта «хорошая управляющая») были действительно младенцами в практических делах и к тому же транжирами? Но моты все же куда приятнее, чем скупердяи и выжиги. Правда, между скупостью и расточительством есть еще и ничейная земля, но Стивенсоны держались той ее стороны, где легче было пустить деньги по ветру.
Здесь мы опять можем прибегнуть к свидетельству Мура; хотя он в дальнейшем стал довольно враждебно относиться к Фэнни, у него нет никаких оснований искажать факты, а уж кому, как не ему, было знать правильные цифры: ведь торговец ведал строительством дома и доставкой материалов.
После длительного обсуждения различных проектов дома Стивенсон остановился на одном и привез его, когда вернулся из Сиднея. Мур подсчитал, что согласно этому проекту строительство обойдется Стивенсону в двадцать тысяч фунтов, и они отказались от него в пользу более скромного жилища. Мур приводит следующие цифры: земля — четыре тысячи долларов, временный дом — одна тысяча, первая половина основного дома — семь тысяч четыреста долларов, вторая половина — семь тысяч пятьсот. Это в сумме дает двадцать тысяч, а когда в 1900 году Фэнни наконец продала поместье, она с трудом получила за него десять тысяч. Мур утверждает, что стоимость содержания Ваилимы равнялась шести с половиной тысячам долларов в год, — он замечает в скобках, что «миссис Стивенсон и миссис Стронг не были самыми экономными женщинами на свете». Строительство главного дома могло бы обойтись на целую тысячу долларов дешевле, если бы в нем не ставили камин — это в тридцати градусах к югу от экватора! Объяснение, будто для Луиса дом не дом, если в нем нет домашнего очага, является недостаточным, чтобы оправдать такую трату; а другая из предложенных гипотез, будто перед камином сушили постель Луиса, просто смехотворна: если бы в том климате это и было нужно, ясно, что подобная процедура производилась бы на кухне, а не в гостиной. А вместе с тем к выбору аппарата для изготовления искусственного льда, совершенно необходимого в тех широтах, подошли столь легкомысленно, что он сразу же вышел из строя.
Сейчас, по-видимому, невозможно проверить утверждение Мура, будто издержки на ведение домашнего хозяйства в Ваилиме доходили до тысячи трехсот фунтов в год. Это кажется колоссальной цифрой, особенно для того времени, пока мы не узнаем, что Стивенсон на свой лад следовал примеру Вальтера Скотта и вел на Самоа жизнь, скорее подобающую главе шотландского клана, чем знаменитому шотландскому писателю, уединившемуся на одном из тихоокеанских островов ради поправки здоровья. Естественно, что он до самой смерти тревожился о деньгах, хотя, вероятно, зарабатывал в среднем три-четыре тысячи фунтов в год и знал, что, согласно пересмотренным пунктам завещания мистера Стивенсона, после смерти матери будет обеспечена не только Фэнни, но даже Белл и Ллойд. Стивенсон оправдывал огромные расходы в Ваилиме заботой о семье. Но получалось как раз обратное. Чем больше денег он тратил на создание удобств в доме и вкладывал в плантацию какао, тем больше у него появлялось нахлебников и гостей. Помимо Фэнни и Ллойда, на его иждивении в течение долгих периодов были Джо Стронг, Белл и их сын Остин. Конечно, мать Луиса, миссис Томас Стивенсон, имела средства и могла участвовать в расходах; зная своего Лу, она была к этому готова. В доме подолгу гостили друзья вроде Грэхема Бэлфура, принимали команды прибывавших на Самоа английских военных кораблей и устраивали бесконечные празднества в честь местных вождей с их приближенными. На конюшне держали трех верховых и двух упряжных лошадей. Конечно, коровы, свиньи и птица существенно пополняли запасы продовольствия, но разводили их, несомненно, себе в убыток. Крысы и местные Роб-Рои истребляли кур, а Джо, которому был поручен верховный надзор за птицей, в своем рвении настаивал на том, чтобы вылупившихся цыплят кормили лимонами, чем, по мнению Фэнни, объяснялась их высокая смертность.
Вдобавок к боям, нанятым, чтобы расчищать джунгли и выполнять другую работу вне дома, Стивенсоны имели все время меняющееся число «вассалов» из местного населения, так как убедились в невозможности держать белых слуг, кроме горничной старой миссис Стивенсон. В примечании к одному из писем Стивенсона от 1893 года Ллойд Осборн поясняет: «Тололо был поваром в Ваилиме, Сина — его жена; Тауило — его мать, Митэле и Сосимо — его братья; Лафаэле… был женат на Фаауме». И добавляет, что Иопо и Тали, «которые долго были у нас в услужении», до сих пор считают себя членами семьи. В 1891 году Стивенсон перечисляет некоторые из этих имен Колвину (в общей сумме семь слуг в доме и два — по двору) и сообщает, что у них восемь лошадей и пять коров. В торжественных случаях весь штат прислуги красовался в «лавалавах»[141] из шотландки королевских цветов, хотя, казалось бы, для человека, который мечтал быть пусть в отдаленном родстве с Роб-Роем, больше бы подошла шотландка макгрегоровского клана.[142] После смерти Луиса американский консул сообщил в Вашингтон, что «мистер Стивенсон был первым гражданином Самоа». Без сомнения, Фэнни не согласилась бы на более низкий статус, чем на статус первой дамы, и мы можем в какой-то степени объяснить внешний блеск их дома и приемы, которые там давались, ее честолюбивым стремлением играть роль в обществе. Она же, вероятно, способствовала решению Стивенсона сделаться плантатором-любителем и принять участие в местной политике. Старая миссис Стивенсон в той же мере была повинна в том, что он регулярно посещал церковь — только ради нее, — но молитвенные собрания вместе с чадами и домочадцами, вызвавшие такое негодование Хенли, Луис начал проводить, скорее всего, по собственному почину. Хенли не мог понять, насколько в Океании нельзя было пренебрегать подобными церемониями, хотя, возможно, крывшийся в Стивенсоне приверженец «Краткого катехизиса» и несостоявшийся проповедник получал от них не только пользу, но и удовольствие. Однако, даже если Фэнни и командовала в Ваилиме всем и вся, как признавал и сам Стивенсон, будет несправедливо сваливать на нее одну вину за их образ жизни. Судя по воспоминаниям Мура, предложение поселиться на Самоа исходило от Стивенсона, и нельзя отрицать, что он от всей души наслаждался своим положением главы «клана Туситалы»[143] и своим влиянием на местные политические дела. Будучи рьяной поборницей свергнутого «короля» Матаафы (очевидно, потому, что он был «побежденной стороной»), Фэнни, несомненно, побуждала Луиса защищать его в политических статьях о положении на Самоа, которые он посылал в «Таймс» и «Пэл-мэл-газет», но так и не смогла подвигнуть его на это. К тому же Луису так нравилось трудиться на открытом воздухе, что ему приходилось буквально принуждать себя время от времени запираться в четырех стенах, чтобы не обанкротиться из-за пренебрежения своим основным делом. Казалось бы, тяжелая работа под палящим солнцем должна была бы быть вредной для его легких, но нет, она шла ему только впрок, и, конечно, людям, проводящим много времени за письменным столом, всегда полезно приобщиться к физическому труду.
Мы не должны придавать слишком большого значения всем этим роскошным приемам в Ваилиме, которые именно потому упоминаются в дневниках, письмах и воспоминаниях, что бывали они редко, а значит, представляли собой «событие»; сам Стивенсон вел простую трудовую жизнь. В письмах из Ваилимы Стивенсон описывает два своих типичных дня. Внимательно прочитайте то, что он пишет, и все иллюзии о чрезмерной роскоши и феодальной пышности развеются как дым. Первое письмо датировано 19 марта 1891 года:
«Теперь я сплю в одной из нижних комнат нового дома. Недавно сюда перебралась и жена. В комнате стоят две кровати, пустой ящик вместо стола, стул, жестяной таз, ведро и кувшин. Рядом, в будущей столовой, на полу устроились плотники под москитной сеткой. Еще до восхода солнца, без четверти или без десяти пять, Поль приносит мне чай, хлеб и два яйца, и около шести я уже за работой. Я пишу в постели; постель моя — это циновки, никаких матрасов и простынь (как же быть с историей о том, что камины были поставлены для нагревания его простынь? — Р. О.), никакой грязи — циновка, подушка и шерстяное одеяло; работаю я около трех часов. Было пять минут десятого, когда я сегодня отправился на берег ручья, где выпалываю сорняк, и проработал там, удобряя землю лучшим удобрением — человеческим потом, до половины одиннадцатого, когда с веранды затрубили в большую раковину. В одиннадцать мы завтракаем; около половины первого я (в виде исключения) попробовал вновь взяться за перо, но у меня ничего не вышло, и в час я уже опять шел к ручью, где и проработал до трех. В половине шестого — обед; до обеда я читал письма Флобера, а затем, так как Фэнни простужена, а я устал, мы забрались в свою берлогу в незаконченном доме, где я сейчас и пишу вам…»
Через полгода он опять дает «образец» своего дня; в этот период он, судя по всему, временно прекратил фермерскую деятельность и уделял больше внимания литературному труду.
«Проснулся, как только забрезжил рассвет, постепенно пришел в себя и поработал на веранде до без пяти шесть, когда «бой» (огромнейший детина с острова Уоллес) приносит мне апельсин; в шесть завтрак, в десять минут седьмого снова за стол, пока в половине одиннадцатого не пришел Остин на урок истории. Это довольно тяжкое занятие, но образование дело нешуточное, тут нужны добросовестность и милосердие. То и другое сегодня чуть не изменили мне, и из-за чего? Из-за Карфагена! В одиннадцать — второй завтрак, после завтрака читал в комнате матери XXIII главу «Потерпевших кораблекрушение», затем Белл, Ллойд и я неистово музицировали приблизительно до двух часов, после чего я пошел к себе и работал до четырех. С четырех до половины пятого, устав, просто тянул время, дожидаясь ванны; в четыре сорок принял ванну и съел на веранде два божественных манго; в пять обед, сигара, болтовня на веранде, затем играли в карты. Наконец, в восемь часов вернулся к себе в комнату, прихватив пинту пива и печенье, которые я сейчас поглощаю, а как только проглочу последний глоток, завалюсь спать».
Этот полученный из первых рук отчет о том, как Стивенсон проводил рабочий день, приглашает нас кинуть хотя бы мимолетный взгляд на те книги, которые он в то время писал, уже перечисленные нами в предыдущей главе. Есть писатели, талант которых в конце их литературной карьеры идет на убыль. Со Стивенсоном дело обстояло отнюдь не так. Спору нет, не все последние книги Стивенсона отвечают его собственным высоким требованиям, но ведь так было всю его жизнь — в творчестве писателя всегда соперничали настоящие шедевры и книги, написанные для денег. Внезапная смерть прервала на середине «Уира Гермистона», которого поклонники Стивенсона считают его лучшим романом. Нет никаких оснований полагать, что, если Стивенсон прожил бы еще десять или двадцать лет, то художественный уровень его произведений снизился бы. Правда, судя по всему, он заездил себя работой и в дальнейшем вряд ли смог бы писать книгу за книгой с такой быстротой, однако вовсе не потому, что ему изменило бы вдохновение. Мы привыкли, что Стивенсона превозносят как стилиста, и, если забыть некоторую аффектацию и манерность его ранних вещей, он заслуживает эту похвалу, особенно потому, что стилисты в английской литературе довольно редки и некоторых из тех, кого относят к их числу, не так уж приятно читать. Но если стиль можно приобрести в результате длительного изучения чужих работ и практики, творческий дар является врожденным — или он есть у писателя, или его нет, — приобрести его невозможно. В юности Стивенсон порой писал только ради того, чтобы писать, говорить ему, собственно, было не о чем, но по мере того, как он мужал, его творческий дар делался все более заметным. Он никогда не затруднялся в выборе сюжета, замыслов у него было больше, чем он мог осуществить, и источник, из которого он черпал эпизоды и приключения своих героев, казался просто неистощимым. Не спорю, иногда как на героях, так и на приключениях есть налет искусственности, и Эддингтон Саймондс довольно прозрачно намекает, что все стивенсоновские живописные кровопролития, даже в такой великолепной книге, как «Владетель Баллантрэ», создавались по некой определенной формуле. Однако Саймондс был эпикурейцем в области насилия и крови, беря за образец «Автобиографию» Челлини[144] и чудовищные преступления в Италии эпохи Ренессанса, которые часто служили основой елизаветинских кровавых трагедий. Стивенсон писал — хотел он того или нет — для буржуазного читателя с узким кругозором и ограниченными представлениями; некоторые из них он и сам разделял, хотя в основном с ними боролся. Винить его за то, что ему недоступны трагизм и бурные страсти Уэбстера и Тёрнера,[145] так же несправедливо, как упрекать Диккенса в том, что он не поднимается на шекспировские высоты. Все люди, помимо их воли, связаны со своей эпохой и ее повседневной жизнью, и лишь величайшие писатели могут опередить свое время. Сколько энергии молодого Стивенсона было растрачено по мелочам в тщетной борьбе с предрассудками Эдинбурга! До какой степени предвзятые идеи и ограниченность английской «публики» подрезали крылья творческому гению зрелого Стивенсона или сбивали его с правильного пути! Размышления на эту тему бессмысленны. Стивенсон должен был делать и делал то, что мог в тех обстоятельствах, в которых он оказался благодаря своей «романтике судьбы».
Хотя в сборник «Через прерии» вошли главным образом очерки, написанные для Скрибнера, то есть в большей своей части, если не все, созданные еще в Америке, на озере Саранак, сборник появился в печати лишь в апреле 1892 года. Это был последний сборник очерков Стивенсона, напечатанный при его жизни («Ювенилии» — вышел посмертно), и в нем не заметно ни малейшего спада его таланта, хотя вместе с невинной претенциозностью и самообольщением юности из его очерков в какой-то степени ушло и прежнее очарование. Глядя на эти тщательно отделанные эссе, невольно улыбнешься при мысли, что человек, певший некогда славословие безделью, стал одним из самых добросовестных и трудолюбивых писателей своей эпохи. А если сюжеты очерков Стивенсон по большей части черпал из собственной юности, причину недалеко искать: видимо, он подсознательно чувствовал, что американских читателей куда больше интересует сам автор, нежели его философские раздумья, а поскольку Луис вполне разделял их вкус, это лишь подхлестывало его вдохновение. И он полностью сохранил свой дар строить фразу.
«Ограды крошечных двориков перед дверьми, ведущими в полуподвал, витрины любимых лавок, запах кожи, мокнущей в бочках с дубовым корьем, воскресный перезвон колоколов, звонкие голоса детей — его соотечественников, доносящиеся с площадки для игр, — все эти с детства знакомые предметы, звуки, запахи внезапно затопляют сердце восторгом и щемящей болью!»
Безымянный герой этого отрывка сам Стивенсон, и вспоминает он тут Эдинбург своего детства.
В следующем отрывке о студенческих годах будущих инженеров писатель опять опирается на личный опыт, поскольку все, о чем он говорит, находилось за пределами возможностей обыкновенных студентов, отцы которых не были по воле случая строителями маяков:
«Ты бываешь на открытом воздухе, слоняешься в гавани — самая приятная форма безделья, попадаешь на необитаемые острова, вкушаешь реальные опасности, таящиеся в море; приобретаешь навыки, сноровку и изобретательность и имеешь возможность их применить, ты начисто излечиваешься от любви (если она у тебя была) к городской жизни. А затем тебя возвращают в город и запирают в четырех стенах конторы».
Здесь перед нами вновь Стивенсон-чаровник, пожалуй, более естественный и менее манерный, чем в предыдущих сборниках, но по самой сути своей тот же Стивенсон, вплоть до его неуловимого пристрастия к «Краткому катехизису», которое лежит в основе многих взглядов Луиса, несмотря на всю его богемную браваду. Очерк «Pulvis et Umbra» («Прах и Тень») был задуман как «поучение по Дарвину», но его заключительной части наверняка оказали бы благосклонный прием в пресвитерианской церкви Шотландии:
«…Не дай, господи, чтобы человек устал творить добро, отчаялся в своих стремлениях, не получив награды, или произнес слово жалобы. Для веры достаточно того, что все сущее стонет из-за своей бренности и все же стремится вперед с необоримым постоянством; быть не может, чтобы эти усилия остались втуне!»
Вслед за этим очерком идет «Рождественская проповедь», заканчивающаяся галантным комплиментом по адресу Хенли. Это писалось в Саранаке после пресловутой «ссоры», и от Стивенсона требовались благородство и душевная щедрость, чтобы сказать про стихотворение Хенли, посвященное памяти сестры, что оно «прекрасно и мужественно» и «лучше, чем сумел бы я сам, выражает то, что и я хотел бы сказать». У некоторых людей, оказавшихся на месте Стивенсона vis-à-vis с Хенли, это прозвучало бы иронически, но Стивенсон действительно так думал, и в 1893 году он вновь пишет Хенли поздравления по поводу последней, только что вышедшей книги стихов.
На этот раз Стивенсон, не в пример прежнему, получил за серию очерков вполне приличные деньги, но он прекрасно понимал, что отдельное издание не разойдется в достаточном количестве экземпляров, чтобы покрыть все растущие расходы. Как он сам говорил, «такие книги оправдывают себя лишь косвенно», хотя и нравятся рецензентам, а это тоже ценно и «дает пару шиллингов в год». Естественно, главное внимание Стивенсона было устремлено на беллетристику, которая имела большой спрос и предоставляла более широкие возможности для выражения его разностороннего таланта. Во главе группы романов зрелого Стивенсона стоит трагедия одиночества и рока — «Владетель Баллантрэ», в котором, как это ни парадоксально, Стивенсон добивается успеха, соединяя такие, казалось бы, несовместимые элементы, как движение якобитов в Шотландии; кровная вражда братьев; взаимонепонимание между супругами; слуга столь же верный, хотя и не столь гротескный, как Калеб Болдстон;[146] преданный Владетелю индийский факир, совершающий невероятные чудеса; буря на море, во время которой порядочный человек покушается на убийство; приключения в Америке XVIII столетия… Это трагедия, героем которой является негодяй.
Стивенсон оставил короткое воспоминание о «генезисе», как он это называет, «Владетеля Баллантрэ»,[147] воспоминание настолько короткое, что только разжигает, но не удовлетворяет наше любопытство. Оно заслуживает внимания всех поклонников Стивенсона, поскольку позволяет понять метод, согласно которому он, вероятно, создавал те свои произведения, которые не были ему подсказаны во сне «человечками». Однажды холодным вечером в Саранаке Стивенсон кончил перечитывать «Корабль-призрак» капитана Мариетта[148] (я не читал эту книгу, но, судя по всему, это переработка легенды о «Летучем голландце») и совершенно сознательно, вдохновляемый «духом соперничества», задумал сочинить собственную историю, наподобие этой. Он стал рыться в памяти в поисках знакомого всем бродячего сюжета, и тут вдруг ему пришел на ум рассказ дяди, Джона Бэлфура, об одном «похороненном и вновь ожившем факире».
Затем Стивенсон припомнил историю, задуманную им самим за девять лет до того «в горах Шотландии под шум дождя, напоенного запахом вереска и болотных трав, когда мысли его были полны перепиской Этолов[149] и преданиями о возмездии небес». Отсюда ведут начало семейство Дэррисдиров и «трагическая вражда». А затем по той или иной причине Стивенсон ввел в рассказ кавалера Борка, прообразом которого послужил молодой ирландец, приятель Луиса в молодости, «юноша с удивительно наивными понятиями о нравственности, вернее, вообще без них, легко поддающийся любому влиянию, продукт подражания тем, кем он восхищался…». Фантастический набор литературных ингредиентов, который любой писатель превратил бы в неудобоваримое месиво. Нужен был Стивенсон, чтобы найти правильный рецепт. И не всем безоговорочно по вкусу то блюдо, которое вышло в результате. Саймондс, критиковавший Стивенсона со всей безжалостной откровенностью старого друга, считал, что роман не заслуживает получаемых им похвал за «психологический анализ» и что в нем нет удовлетворительного объяснения власти Джемса Баллантрэ над семьей, которой он причинил столько зла. Но прав ли он? Саймондс, никогда не нарушавший родительской воли, не знал, как это знал Стивенсон, сколько раз блудный сын может возвращаться под отчий кров; к тому же Владетель был старшим из двух сыновей, он потерял родовые владения и невесту, вышедшую замуж за его брата-соперника, потому что отправился на чужбину защищать «законного короля». Он мог предъявить свои права, и он пользовался этим, пока не довел Генри сперва до дуэли, затем до безумия, а в конце концов до смерти. Стивенсон знал предрассудки и верования мелкопоместного дворянства горной Шотландии XVIII века и скорее всего был прав. Что до «психологического анализа», то наше мнение о том, хорош он или плох, зависит от того, считать ли персонажей Стивенсона исторически достоверными лицами или нет. Как всегда, женщина — самая слабая нить во всей пряже. Есть люди, которые, подобно Джорджу Муру и Суиннертону,[150] всю пряжу считали искусственной. Как Э.Ф. Бенсон[151] считал искусственным и ее создателя. Что же, о вкусах не спорят.
«Владетель Баллантрэ» принадлежал прошлому Шотландии и прошлому Стивенсона. Написан он был в традициях Скотта, Дюма и Мариетта, только более динамично и стилистически изощреннее. А «Берег Фалеза» — лучшее произведение, в котором отразился новый жизненный опыт Стивенсона, приобретенный в Тихом океане. В книге есть чувство, но нет аффектации. Сам Стивенсон высоко ставил это произведение и писал (28 сентября 1891 года) Колвину:
«В этой книге много настоящей жизни и достаточно хорошего юмора. Это первая реалистическая книга, написанная о Южных морях; я хочу сказать, в ней есть живые люди и жизненные реалии. Судя по тому, что я читал, все, кто пытался писать о тихоокеанских островах, оказывались в плену ложной романтики; в результате — сладкий, как леденец, бутафорский эпос, и весь эффект потерян — никакой выпуклости, ни одной живой человеческой улыбки, и, следовательно, книга не убеждает. Я же чувствую все, о чем пишу, вижу это, осязаю, обоняю. Из моей короткой книжечки вы больше узнаете об Океании, чем прочитав целую библиотеку».
Бывало, что критики дружно нападали на Стивенсона за слишком явно состряпанную «романтику», за, как он сам выразился, «сладкий, как леденец, бутафорский эпос», но никто не осмеливался обвинять в этом «Берег Фалеза». Редакторы и издатели делали другое — в интересах дурацкой ложной стыдливости они пытались выкинуть из книги нежелательные места. В письме к Колвину (от 31 января 1892 года) Стивенсон горестно говорит:
«Романтику нечем дышать в нашем англо-американском мире, его атмосфера для романтика яд. Обычно я выпутываюсь, избегая женщин в моих книгах, но, когда я вспоминаю, что «Сокровища Франшара» отвергли как неподходящее чтение для семейного журнала, я чувствую, как отчаяние сковывает мне руки».
Здесь мы вновь касаемся серьезного недостатка стивенсоновских книг, на который уже неоднократно указывалось, — речь идет об отсутствии героинь во многих из них и условности в трактовке женских образов там, где они есть. Даже во «Владетеле Баллантрэ» образ Элисон Дьюри и ее чувства раскрыты недостаточно. В письме к Бобу Стивенсону, написанном всего за три месяца до смерти, Луис говорит:
«Если бы мне пришлось начать все с самого начала… не знаю… si jeunesse savait, si vieillesse pouvait[152]… право, не знаю… вероятно, я попытался бы относиться к любви с большим почтением. Худшая сторона нашего воспитания заключается в том, что христианство не признает и не чтит любви. Оно глядит на нее искоса, через плечо, будучи, так сказать, под гнетом воспоминаний об отшельниках и азиатских самоистязаниях. Наши современные религии не видят и не уважают того, что должно видеть и уважать в первую очередь. Это их большой пробел. Однако пока это так, мне трудно быть более мудрым, чем все мое поколение».
Эти новые для него взгляды появились у Стивенсона лишь в конце жизни. Томас Харди припоминает одно газетное интервью, где Стивенсон говорил, что «не может одобрить морали «Тэсс из рода д’Эрбервилль», чем, как полагал Харди, объяснялось прекращение их переписки после выхода этой книги.
«Берег Фалеза» входил в сборник «Вечерние беседы на острове» (издательство Касселя, апрель 1883 года) вместе с «Волшебной бутылкой» и «Островом голосов». «Волшебная бутылка» — вариант бальзаковской «Шагреневой кожи» — единственная из всех книг Стивенсона вышла из печати сперва в переводе на самоа. Это привело к непредвиденным результатам. Самоанцы не делали различия между библейскими легендами, беллетристикой, то есть заведомым вымыслом, и историей как таковой. Король Апемамы не поверил, что капитан Кук существовал на свете, поскольку о нем не упоминалось в библии, имевшей хождение на островах Гилберта. С другой стороны, Стивенсоны, сами того не зная, укрепили там сильно пошатнувшуюся веру в бога, показывая с помощью волшебного фонаря туманные картинки на библейские сюжеты, что послужило для островитян неоспоримым доказательством их истинности — ведь волшебный фонарь не может лгать. Точно так же самоанцы, читавшие или слышавшие рассказ, свято поверили в волшебную бутылку и объясняли помощью сидящего в ней злого духа безграничное, на их взгляд, богатство Туситалы; как нам известно, вожди, посещавшие Ваилиму, робко просили разрешения взглянуть на пленника бутылки.
Во всех остальных романах последнего периода Стивенсон, даже если не пишет сознательно ради денег, в той или иной мере идет на компромисс со вкусом широкой публики. Лучшим из них (не считая незаконченного «Уира Гермистона») является, пожалуй, «Катриона» — продолжение «Похищенного», в которой вновь появляются на сцене Дэвид Бэлфур и Алан Брек и где есть превосходные эпизоды, хотя в целом вторая часть слабее первой. «Сент Ив», который так и не был закончен, написан в манере Стенли Уэймена[153] что не пошло ему на пользу, к тому же целые главы Стивенсон диктовал Белл, будучи настолько болен, что ему запрещалось говорить и он был вынужден прибегнуть к азбуке глухонемых. Роман «Потерпевшие кораблекрушение» был вполне откровенно задуман им вместе с Ллойдом на борту «Жанет Николь» как бестселлер, от которого они ждали денег для покупки собственной шхуны; как мы видели, соавторы настолько преуспели, что продали американской фирме право издания книги за пятнадцать тысяч долларов. Выразив Колвину удовлетворение тем, что книга прекрасно расходится в Англии, Стивенсон восклицает, подобно шекспировскому Паку;[154] «Какие дураки эти смертные!» Что касается «Отлива», написанного, как и «Потерпевшие кораблекрушение», в соавторстве с Ллойдом, то это, бесспорно, превосходный детективный роман, хотя сам Стивенсон был им недоволен («в нем все скрыто за флером слов»), В письме к Госсу от 10 июня 1893 года он говорит об этой книге:
«…ужасная пачкотня в третьем лице, где диссонанс между «низким» реалистическим диалогом и стилем повествования, звучащим, фигурально, «на четыре ноты выше», чем нужно, заставил меня поседеть; а если на голове и не видна седина, то она, я уверен, появилась у меня в сердце».
Эту пренебрежительную оценку не нужно донимать слишком буквально, она могла быть всего лишь признаком усталости и нездоровья. Несомненно, в те годы Стивенсон работал сверх меры, чтобы иметь возможность покрыть все растущие расходы на Ваилиму. «Уир Гермистон», работу над которым прервала смерть Стивенсона, мог стать, очевидно, одним из лучших его романов, если не самым лучшим, но в том виде, в каком мы его знаем, это лишь обломок прекрасной статуи. Прообразом верховного судьи лорда Гермистона послужило реальное историческое лицо — лорд Браксфилд, портрет которого кисти Рабурна[155] произвел на Луиса такое впечатление в юности; вновь в основу сюжета был положен старый мотив — конфликт между отцом и сыном, но женские образы здесь куда выразительнее, чем в прочих книгах. К сожалению, как бы хороша ни была половина романа, это еще не роман. Белл, бывшая у Луиса личным секретарем и писавшая под его диктовку, оставила краткое изложение того, что, как она полагала, Стивенсон собирался писать дальше, но, как оно ни интересно, заменить целый роман, написанный самим Стивенсоном, это никак не может.
Помимо этой романтической истории, существует еще одна книга, которую Стивенсон не видел в напечатанном виде, — его «Письма». К сожалению, даже сейчас, спустя более чем шестьдесят лет со дня его смерти, почитатели Стивенсона все еще ждут полного собрания писем, изданных без купюр. В соответствии с викторианскими представлениями о «сдержанности» и «хорошем тоне» Колвин, по требованию Фэнни и согласно своим собственным чопорным взглядам, одни письма привел не полностью, другие вообще не поместил, а есть и такие, которых он сам никогда не видел. К последней группе принадлежит забавное письмо к Хенли, в котором Стивенсон, подшучивая над Колвином, рисует юмористический набросок того «Жизнеописания» Р. Л. С., которое сочинит о нем Колвин, изобразив довольно-таки скандальные дни его юности в исключительно корректном и благопристойном виде. Что и сделали в действительности Колвин и Грэхем Бэлфур… не без помощи Фэнни.
Изъятие писем Стивенсона к миссис Ситуэлл, например, неизбежно привело к совершенно необоснованным домыслам о том, будто между ними существовали интимные отношения. Другим результатом тенденциозного подбора материала явилось то, что Стивенсон выглядит в письмах ханжой, чего не было на самом деле. Безжалостнее всего вымарывались места, которые могли бросить тень на созданный Фэнни солнечный образ жены художника, преданной няньки своего возлюбленного мужа и непогрешимого судьи его произведений, образ, побудивший одну из поклонниц, неизбежных возле всякой крупной личности, написать книгу, где Фэнни изображалась как sine qua non Стивенсона.
Каждый человек, будь он даже бизнесменом, диктующим деловое письмо секретарю, запечатлевает себя в своих письмах. А Стивенсон отразился в них особенно ярко. То, что колвиновское собрание неполно и прошло через домашнюю цензуру, не мешает ему быть отражением души Стивенсона — разница здесь, пожалуй, такая же, как между простой фотографией и фотографией, отретушированной сентиментальным фотографом. В соответствии с викторианскими нормами «портрет» должен был быть «привлекательным» и, как портреты Королевской академии художеств, льстить оригиналу. Не подвергнись письма Стивенсона вычеркиваниям и сокращениям, их было бы занимательнее читать, но образ человека, который встает с их страниц, куда менее искажен, чем тот образ, который создан в «Жизнеописании» P. Л. С. Грэхема Бэлфура. В этих письмах нет ничего придуманного, никакой фальши: они непосредственны, часто забавны и остроумны, живы по форме и искренни по чувству. Спору нет, Роберт Луис чрезвычайно много пишет о самом себе, но это почти неизбежно в личных письмах. Если бы перед нами вдруг положили пачку наших старых писем, большинство из нас было бы неприятно удивлено, обнаружив, как мы эгоцентричны, и, вероятно, мало кто предстал бы на их страницах таким жизнерадостным и обаятельным, как Стивенсон. Возможно, он отчасти позирует кое-где, особенно в ранних письмах к миссис Ситуэлл, но кому это приносит вред? В целом обаяние Стивенсона, достаточно ощутимое в его ранних очерках и путевых заметках, еще сильнее действует на нас, когда мы читаем его письма, где нас куда реже коробит аффектированность и манерность стиля. Молодой Стивенсон выиграл, позабыв на время свои теории и не стремясь отточить фразу до полного совершенства, а зрелый Стивенсон то ли отказался от них, то ли они стали его второй натурой. К тому же он обладал даром писать письма, почти столь же интересные для нас, как и для тех, кому они адресованы. Хотелось бы только, чтобы Стивенсон точнее датировал письма (это я говорю как его биограф), тем более что и предположительная датировка Колвина не всегда кажется убедительной. Назрела нужда в новом полном собрании писем Стивенсона, сделанном с оригиналов, — грандиозная задача, выполнить которую по силам лишь мистеру Д. С. Фернесу, который, бесспорно, знает о Стивенсоне больше, чем кто-либо другой.
С риском ломиться в открытую дверь хочется еще раз подчеркнуть приверженность Стивенсона искусству. Этот человек, восхвалявший безделье, всю жизнь неутомимо трудился. 5 сентября 1893 года он писал Джорджу Мередиту, в нескольких строчках, как в фокусе, отразив всю свою жизнь:
«Первые годы после того, как я сюда приехал, критики (эти добросердечные джентльмены) сетовали на то, что я ослаб духом и поддался безделью. Теперь я реже слышу об этом; скоро они скажут мне, что я исписался (!) и что мое гадкое поведение сведет их в могилу. Не знаю… я хочу сказать, я знаю одно. В течение четырнадцати лет я ни одного дня не чувствовал себя здоровым, я просыпался больным и ложился в постель измученным, и все это время я трудился, не отступая от своего долга и намеченного пути. Я писал в постели, писал, когда у меня шла кровь горлом, писал, когда меня бил озноб, писал, раздираемый кашлем, писал, когда у меня от слабости кружилась голова, и мне кажется, я с честью поднял перчатку, брошенную мне судьбой, и одержал победу в битве с жизнью…»
Через несколько строчек он просит у Мередита прощения за то, что так «дьявольски эгоистичен», но для нас главное то, что Стивенсон высказывает здесь свой взгляд на собственную жизнь как на битву, взгляд, подхваченный и раздутый ранними биографами Стивенсона, возведшими его в сан святого и описывавшими его «житие». В своей знаменитой рецензии на «Жизнеописание» Бэлфура Хенли развенчивает созданного им Стивенсона, по мнению многих, не совсем (вернее, совсем не) справедливо. Трудность не столько в том, чтобы примирить высказывания Стивенсона о себе в письме к Мередиту с полушутливым восхвалением безделья (это говорилось иронически, чтобы высмеять филистерский взгляд на искусство как на ничегонеделание), сколько с его более серьезным убеждением, будто художник — это своего рода fille de joie,[156] торгующая радостями жизни. Стивенсон отказался от этого мнения в письме к журналисту Ле-Гальену, но в очерк, где он это писал, никаких изменений не внес.
Несмотря на все вышесказанное, не следует думать, будто жизнь Стивенсона на Самоа заключалась лишь в трудах и болезнях. У него была верховая лошадь Джек, которую он очень любил и часто катался на ней с пользой и удовольствием для себя, хотя он не был настолько крепок, чтобы совершать длительные поездки по острову, как Ллойд и Грэхем Бэлфур. Стивенсон не только принимал гостей, но и сам ходил на званые обеды и ужины, и даже научился танцевать под руководством Белл. Когда приехала его мать, он стал регулярно посещать церковь и общие молитвенные собрания, для которых сам слагал молитвы, к негодованию Хенли, помнившего насмешника и вольнодумца эдинбургских дней. Он совершал морские поездки — один раз ездил на соседние острова с американским консулом, два раза в Сидней (в первый раз — чтобы встретить мать, ехавшую к ним из Шотландии) и предпринял путешествие в Гонолулу с Бэлфуром. Вдали от Самоа ему неизбежно становилось хуже, в Гонолулу у него началось такое тяжелое воспаление легких, что Фэнни приехала следующим же рейсом, чтобы ухаживать за ним и увезти домой. Увы, этот искатель приключений и потенциальный воитель не мог и дня прожить без женской опеки. Фэнни, все силы отдававшая саду и плантации какао, хотя в душе ее сидели занозой слова Стивенсона, назвавшего ее крестьянкой, и командовавшая «боями», постепенно передала его на попечение Белл, которая всячески старалась быть ему полезной, начиная с того, что писала под его диктовку, и кончая тем, что помогала стричь ногти.
Большая часть его времени, свободного от литературного труда, была посвящена самоанцам и Самоа. Стивенсоны не смогли остаться в стороне от жизни острова и островитян, но они, а особенно Луис, принимали местные дела настолько близко к сердцу, что это вызвало сильное неодобрение их английских и американских друзей. Всякий, кто читал ваилимские письма, должно быть, заметил, как много внимания в них уделяется слугам, их поведению, словам и поступкам, их личным и матримониальным делам. Можно перефразировать известное высказывание Вилье де Лиль-Адана[157] и сказать: «Для кого мы живем? — Для наших слуг». Во многом это объяснялось врожденной добротой Луиса и вытекало из его положения, частично являлось следствием того, что они с Фэнни взяли на себя роль местных вождей, а частично было данью непреодолимому стремлению всех белых покровительствовать туземцам с высоты своего превосходства. Молитвенные собрания были неизбежны, и, окажись сам Хенли на месте Стивенсона, ему пришлось бы их проводить, ведь миссионеры превратили их в такой фетиш, что отказаться от них значило совершить антиобщественный поступок. Бедного Стивенсона и так жестоко осуждали за то, что как-то в воскресенье он принял участие в скачках. Печальнее всего то, что Луис, как и вся ваилимская община, оказался вовлечен в орбиту злостных сплетен, неизбежных на маленьком островке, и, что еще хуже, местных политических неурядиц. Остров находился под тройным протекторатом — Англии, Америки и Германии, и соперничество консулов этих стран привело к военным столкновениям и «охоте за головами» между приверженцами двух «королей» — Малиетоа и Матаафы, причем Стивенсоны рьяно поддерживали фракцию Матаафы. Фэнни в свойственной ей энергичной манере так выразила свои чувства по поводу этой политической борьбы: «…когда я гляжу на белых во главе правительства и не могу решить, кто из них больший трус, мое женское сердце сгорает от стыда и гнева, и я готова на любое безрассудство». И дальше: «Неожиданно я встала и, гневно воскликнув, что все белые на Самоа — трусы, покинула общество. Боюсь, я вела себя очень плохо. Во время ленча пили за присутствующих, и я выпила за Г. Д. Мура, моего злейшего врага и единственного белого из всех, кто верен Самоа и не трус».
Мур сделался злейшим врагом Фэнни потому, что поддерживал Луиса в его слабых попытках противиться установленной в Ваилиме диктатуре женщин, и потому еще, что держал сторону своего друга Джо Стронга, когда Белл решила развестись с ним. Фэнни не говорит, что именно должны, по ее мнению, делать белые, ведь вряд ли они могли с оружием в руках присоединиться к Мата афе и отправиться на «охоту за головами». Реакция Луиса на все происходившее была характерна для него. 28 июня 1893 года он поехал вместе с Грэхемом Бэлфуром верхом, чтобы своими глазами взглянуть на «войну». Переправившись вброд через речку, за которой шли владения Матаафы, они столкнулись с семью самоанцами, вооруженными винчестерами, а затем обогнали еще около десятка вооруженных мужчин, и «их веселые, оживленные лица и бодрый шаг наполнили мое сердце симпатией и завистью к ним». Упомянув о еще нескольких незначительных эпизодах, Стивенсон заканчивает следующим выводом:
«Нет, что ни говорите, а война — это колоссальное entrainement.[158] Ничто так не влечет нас к себе. Мы промокли, мы пять часов подряд не слезали с седла и почти все это время шли хорошим аллюром, и мы вернулись домой радостные, как дети, с такой легкостью на душе и с таким огнем в глазах, что им можно было бы зажечь свечу».
Как замечал враг Фэнни, Мур. — если в Стивенсоне было многое, роднившее его с Дон-Кихотом, в нем было также кое-что и от Тартарена из Тараскона.
Насколько серьезно Стивенсон относился к своей роли «вождя клана», видно из поздних ваилимских писем. В письме, датированном ноябрем 1893 года, он описывает, как «наши слуги» отправились на какой-то праздник «в ваилимской форме» — по-видимому, «лавалавы» из королевской шотландки и куртки, сшитые Белл, — и «когда они вошли, их приветствовали как Тамаона — Детей богача. Знаменательный день, ведь это значит, что на Ваилиму смотрят как на одну семью». Немного позднее Луис с гордостью и удовлетворением описывает, как отмечался в 1893 году его день рождения:
«Угощение устроили в холле; всего было вдоволь: пятнадцать поросят, сто фунтов говядины, сто фунтов свинины, фрукты и сладости в соответствующем количестве. У ворот стояли на привязи шестьдесят лошадей; сколько было гостей, сказать не могу, вероятно, человек сто пятьдесят».
Да что говорить, Роберт Луис Стивенсон прошел немалый путь и немало изменился с тех богемных дней, когда молодого человека в потертой бархатной куртке с томиком стихов Шарля Орлеанского в рюкзаке полицейские Шатийона посадили в тюрьму, полагая, что он странствующий уличный певец, так как у него не было документов, удостоверяющих его личность!
После поражения Матаафы более двадцати вождей было посажено в Апии в тюрьму, где они находились в тяжелых условиях, хотя питались хорошо, так как еду доставляли семьи. Фэнни и Луис возили табак и каву[159] в подарок пленным вождям, бывшим, естественно, в восторге от поддержки «первых граждан Самоа». Когда вождей освободили из заключения, они расчистили «дорогу любящих сердец», или «дорогу благодарности», — от главной тропы, пересекавшей остров, до Ваилимы. Стивенсон был чрезвычайно этим тронут. Он писал:
«Неважно, хватит ли их порыва на то, чтобы закончить дорогу, это не имеет для меня ни малейшего значения. Важно, что они взялись за нее, взялись по собственному почину и сейчас стараются осуществить свой план. Только подумайте — они строят дорогу! Вещь неслыханная на Самоа! Что еще в здешних местах (кроме налогов) так чревато бунтом? Это то, к чему их нельзя принудить ни платой, ни наказанием. У меня теперь такое чувство, что я все же кое-чего добился на Самоа».
13 ноября 1894 года состоялся, как обычно, праздник для местных жителей по поводу дня рождения Луиса: ему исполнилось сорок четыре года. Он усиленно работал над «Уиром Гермистоном», был в хорошем настроении, так как чувствовал, что работа идет успешно, и, к счастью, Фэнни была согласна с ним. 29 ноября они дали друзьям-американцам обед в ознаменование дня благодарения. 3 декабря, спустившись из кабинета, Луис увидел, что Фэнни мрачна, как все последние дни, — ее терзало предчувствие, будто с кем-то из близких должно произойти несчастье, хотя оба они сошлись на том, что самим им ничто не грозит. Луис решил подбодрить ее и, принеся из погреба бутылку бургундского, стал вместе с ней готовить салат. И вдруг он упал — кровоизлияние в мозг. Через два часа он умер.
Можно представить, каким внезапным и нежданным ударом была его смерть не только для обитателей Ваилимы, где она оборвала все счастливые дни, но и для его друзей в Англии и Америке, узнавших о случившемся из газет; заголовки гласили: «Смерть Р. Л. Стивенсона». Все хлопоты легли на плечи Ллойда, который похоронил своего отчима и друга на выбранном им самим месте на вершине горы Веа. Позднее там поставили надгробный памятник и высекли на нем строки из «Реквиема», написанного Стивенсоном за много лет до того.
Через двадцать лет, в 1915 году, когда Самоа стал протекторатом Новой Зеландии, прах Фэнни был перенесен сюда из Калифорнии и помещен рядом с останками мужа. Это посмертное свидание было неотвратимо, ибо одинокая могила этих двух людей — единственно возможный эпилог в книге их романтической судьбы.
Послесловие Судьба Стивенсона
Слишком хорошо у нас знают автора и героя этой книги, чтобы ее требовалось пояснять. Но книга эта продолжает полемику, смысл которой, может быть, и не всем известен.
Спор о Стивенсоне начался вместе с нашим веком, и с тех пор многое, даже если не решено, то, по крайней мере, исчерпало себя. Когда-то страсти кипели вокруг «темных мест» его биографии, а ныне, за давностью лет, когда кровно заинтересованных участников битвы нет в живых, это уже не имеет значения. Но, обостренные временем, возникли новые осложнения, на знакомом портрете выступили неведомые черты. «Нет, вы не знаете Стивенсона, если судите о нем по «Острову сокровищ», — вот как теперь рассуждают критики.
Послушать насчет этого Олдингтона интересно хотя бы потому, что ему довелось наблюдать Стивенсониану целиком. От первых схваток, которые были скорее публичным скандалом, до новейших интерпретаций — всему Олдингтон был живым свидетелем. Он ведь и о самом Стивенсоне пишет на правах современника.
Встретиться со Стивенсоном Олдингтон не мог, они как бы разминулись — Олдингтон только родился, Стивенсон как раз умер, но эпоху Олдингтон застал.
«Если вы беретесь за биографию другого человека, — вспоминает слова Стивенсона Олдингтон, — то пусть немного, но должны быть на него похожи». Взявшись писать о Стивенсоне, действительно, в силу известного сходства между ним и собой, Олдингтон не имел в виду совпадения личные. Не следует, читая «Стивенсон», понимать «Олдингтон»: для этого у автора достаточно такта и самокритики, и вообще своей маской «Портрет бунтаря» он делать не собирался. Похожи они именно потому, что на них печать одного и того же времени, хотя сам Олдингтон не сразу осознал, в какой степени принадлежит он стивенсоновской эпохе.
Некогда, сводя счеты века с веком, Олдингтон в романе «Смерть героя» на первой же странице «уколол» Стивенсона. Вместе со всеми воззрениями «старого, доброго времени» ему после окопов первой мировой войны бунтарство Стивенсона казалось игрушечным. Однако время шло, сдвигая уходящие эпохи одна к другой все ближе, соединяя в представлении новых поколений прежние разрывы. За гранью второй мировой войны и сам Олдингтон сделался неким анахронизмом, очутившись со Стивенсоном по одну сторону перевала от века к веку. Тогда он и написал «Портрет бунтаря». «Если вы беретесь за биографию другого человека…».
За плечами у Олдингтона был уже весь его путь, и Стивенсон с годами «повзрослел». Тот Стивенсон, чья отвага и бодрость в глазах молодого Олдингтона выглядели мальчишеством, раскрылся как крупный и к тому же «современный» писатель.
Книга Олдингтона кажется сухопутной, моря в ней мало, а ведь редкое издание Стивенсона обходится без парусов и волн на обложке. Но, известно, на сцене — замок, лес и озеро, а стоит зайти за кулисы, там доски да веревки. И это так: все пираты, пиастры, «Пятнадцать человек на сундук мертвеца» и схватки на абордаж — только слова и бумага. Стивенсон нас морочит, откровенно морочит «приключениями».
— Приводи к ветру, друг сердечный! Я изо всей силы налег на руль.Многие ли понимают, что это в самом деле значит? А как выглядит румпель? И что такое шпигаты? «Мы оба потеряли равновесие и покатились, почти обнявшись, к шпигатам»… Надо бы спросить, но не успеваешь, потому что — «Мертвец в красном колпаке покатился туда же». И шпигаты остаются шпигатами, нам не до разъяснений. «Я с такой силой ударился головой о ногу боцмана, что у меня зубы лязгнули. Но, несмотря на ушиб, мне первому удалось вскочить. А на боцмана навалился мертвец».
Как-то Тургенев, разбирая попавшую к нему рукопись, встретил в ней описание утопленника: «и слеза сочится, и глаза выпучены, и пух нежный на губах». «Но, — указал Тургенев, — ведь если лицо утопленника одутловато, то тот, кто видит его, не заметит ни слезы, ни пуха».
Иными словами, ничего не вышло у автора, хоть описательных усилий и средств потрачено много.
А вот что делает Стивенсон: «Когда вода успокоилась, я увидел его. Он лежал скорчившись на чистом светлом песке в тени судна Две рыбки проплыли над телом. Иногда из-за колебания воды казалось, что он шевелится и пытается встать».
Стивенсон знал, что изобразить словами — это не значит изложить на бумаге как можно больше и как можно больше пустить в ход приемов. Никакие сведения и подробности, ни сравнения, ни эпитеты — ничто не поможет, если нам не интересно. А уж это зависит от автора, насколько сумеет он управлять вниманием читателя. Стивенсон был мастером литературной игры, тот Стивенсон, что еще мальчиком начертил фигурку, пришел и сказал: «Мама, тело я уже нарисовал. Хочешь, я теперь нарисую душу?»
Праведный гнев матери, возможно, избавил юного художника от выполнения непосильной задачи, однако Стивенсон-писатель в самом деле умел показать, умел, если ему было нужно, заставить видеть, слышать или чувствовать вещи невообразимые, и всего этого добивается он словами.
«С быстротой молнии я вцепился за ванты бизань-мачты, полез вверх и ни разу не перевел дыхания, пока не уселся на салинге», — читатель точно в таком же положении. Не переводя дыхания, он следит за Джимом, а потому не спрашивает, что за бизань-мачта и салинг. Таинственные предметы на месте — этого достаточно, чтобы мы, не понимая слова, все-таки увидели салинг, как бы увидели… Но Стивенсон и добивается «как бы», ведь книга все равно не жизнь. Он стремился создать искусство совершенно прозрачное, уж такое искусное искусство, чтобы, читая, мы не замечали, как же это все так «всамделишно» получается. А Олдингтону, который сам был до мозга костей литератором. интересней всего именно эта, закулисная, или, так сказать, ремесленная, сторона дела. Рассказать ему хотелось о том, что певец приключений, родоначальник нынешней романтики поэт океанских просторов, мечты, был окружен прежде всего морем чернил, по которому пускал он свои кораблики.
Со временем стало видно, что книги Стивенсона не игрушки, хотя они в самом деле легки, занимательны и доступны детям, но все же не игрушки, а скорее модели, с превеликим умением и тщанием сделанные модели «больших книг». Олдингтон, например, сравнивает «Остров сокровищ» и «Мадам Бовари». Ну что общего у Стивенсона с Флобером? А книги их похожи, вернее, цели авторов сходятся. Неважно, что Флобер предназначал свой роман взрослым, а Стивенсон — детям, что у Флобера провинциальная жизнь, а у Стивенсона — приключения, или что у Стивенсона «женщин нет», а у Флобера в них заключено главное. Добивались они все-таки одного: той самой идеальной естественности, когда мы не замечаем переплета, текста, а просто видим жизнь. «Такая книга, в которой тема не чувствовалась бы, была бы просто невидима, — так ставил задачу Флобер и добавлял: — Я убежден, что в этом будущее искусства». Действительно, следом за ним многие писатели — в том числе Стивенсон, который был ровесником флоберовской идеи, — стремились достичь в своих книгах полного впечатления «самой жизни», и, конечно, чтобы впечатление это возникло не по стихийному правдоподобию, а чтобы это был расчет, до предела мастеру подвластный.
Перекликается Стивенсон и с другим знаменитым писателем, единомышленником Флобера, столь же принципиально отличавшим якобы «правду», но бесформенную, от мастерского изображения жизни. Мы уже привели критическое мнение этого авторитета, разбор описания — и слеза, и пух, и глаза выпучены, а все равно ничего читателю не видно. Да, так рассуждал Тургенев, причем вслух, в кругу литераторов, группировавшихся возле Флобера. Мы не очень хорошо представляем себе такого Тургенева-теоретика, который крупнейшим европейским писателям служил образцом мастера, всесторонне осмыслившего законы своего ремесла. Один из участников тех бесед, этого литературного ареопага, и рассказал Стивенсону о Тургеневе. Стивенсон, таким образом, знал скорее о Тургеневе, чем тургеневские произведения, но то, что довелось ему услышать, наполнило его энтузиазмом.
«Вы рассказывали мне много интересного о Тургеневе, а я мысленно видел это изложенным на бумаге в форме изящного и чрезвычайно поучительного очерка», — писал Стивенсон своему другу.[160] И это на самом деле оказалось осуществлено. Генри Джеймс (два слова о нем у Олдингтона сказано), тот, кто благоговейно внимал Тургеневу и рассказывал о нем Стивенсону, написал очерк, и благодаря этому можем мы судить, почему разговоры о Тургеневе вызывали у Стивенсона интерес.
Очерк получился поучительным, — Стивенсон не ошибся. Подыскивая слово, которое бы выразило его впечатление от тургеневских бесед, Стивенсон употребил даже не английское, а немецкое понятие, означающее «поучительный» и «образовательный», и «формирующий», потому что поистине поколение за поколением западных писателей формировалось под воздействием тех же идей.
Не все обращались к первоисточнику, но так или иначе отсюда черпали, рассуждая о подтексте, «точном слове», «настоящей фразе», короче, обо всем, что обратилось уже в своего рода джентльменский набор для «настоящего писателя». Не все, подчеркнем, вчитывались в этот очерк или хотя бы читали его, многие восприняли те же идеи путем косвенным, после множества повторений и сами повторяли их, выдавая за свои, — не будем сейчас выяснять, кто первый сказал «э-э!». И не надо понимать дело так, будто это все идеи Тургенева, только Тургенева, — то был обмен мнениями между разными писателями; объединенными одним убеждением — в правах литературы как литературы, особого способа постигать и отображать действительность. «Эти встречи и беседы, — говорит уже современный историк флоберовского кружка, — имели огромное значение для развития художественной прозы, и вовсе не будет преувеличением сказать, что все течения «современной западной литературы» берут начало из этого источника».
Именно разные течения! Для многих творческое слово оставалось лишь словом, оболочкой, формой. Сам Флобер, стремясь к совершенству, иногда поверял гармонию алгеброй, и только. Между тем очерк Джеймса, охвативший интересы кружка, был посвящен Тургеневу потому, видимо, что он полнее выражал их, чем кто-либо. «Для Тургенева искусство всегда должно было оставаться искусством», — писал Джеймс, продолжая: «Но, конечно, его понимание свободы искусства было несравненно шире понимания его французских приятелей. В нем чувствовалось знание огромного разнообразия жизни, знание малодоступных другим явлений и ощущений, чувствовался горизонт, в котором терялся узенький горизонт Парижа, и эта широта знания выделяла его среди французских литераторов».
Вот эти вопросы и занимали глубоко Стивенсона. Понятно, что отозвался он «душе родственной»: тут были ему самому присущие убеждения. И это так: щепетильность его позволяет теперь проследить, на что он опирался, формируя свой писательский кодекс. В конце концов он мог бы считаться и самостоятельным источником тех же идей. После бесед о Тургеневе он, вероятно, смелее стал думать о том, что же такое «настоящая литература» и «по-настоящему написанное слово». А уж насколько это его интересовало, говорит его девиз: «Словом я живу».
Чтобы понять Стивенсона, нужно назвать еще одно имя, которое Олдингтон не упомянул, перечисляя писателей, оказавших на Стивенсона влияние. Это Достоевский. И тут не только влияние, Стивенсон сам до известной степени Достоевский, камерный Достоевский. Ему свойственна особая, действительно Напоминающая Достоевского пристальность: общих черт нет, все дробится, путается, давая странный сплав «добра» и «зла». Люди у него не то что там «плохие» или «хорошие», они в самом деле люди. Уберите у Джона Сильвера костыль, старинный кафтан, попугая, и вы увидите в натуре его «проклятые вопросы», над которыми вместе с великим своим современником бился Стивенсон. Поэтому, когда прочел он «Преступление и наказание»,[161] сила впечатления, по его собственным словам, была такова, что он заболел.
Короче, Стивенсон, чьи книга, как считали, можно принимать всерьез только в детстве, был самим временем возведен в ранг серьезного мастера прозы.
Но почему, вспоминая Стивенсона, все же говорят об уловках, о бутафории, той «героической бутафории», над которой Стивенсон посмеивался, но, видно, сам же ею пользовался? Почему при такой очевидной одаренности не написал он просто об улицах родного Эдинбурга, современного ему Эдинбурга, или Лондона, о людях, что его окружали и уж, наверное, испытали не меньше, чем можно выдумать, изобретая какие-то «приключения»? Написать бы Стивенсону прямо о том, что ныне отыскивают в его книгах упрятанным под театральными костюмами пиратов, в необычайной декоративной обстановке далеких стран и далеких времен. Зачем нужны ему палуба и морской простор, а не четыре стены и два стула, если на самом-то деле не «морской» он писатель, а проникновенный психолог? Отчего, обладая талантом и развившейся чуть ли не с юных лет сознательностью во взгляде на литературное мастерство, так и остался он писателем преимущественно детским — не развернулся как истинно взрослый прозаик, новый Вальтер Скотт или второй Достоевский?
Однако и Диккенс, великий предшественник и старший современник Стивенсона, тоже до известной степени ограничен миром детства, он тоже прибегает к «приключениям», к уловкам. Что не давало ему говорить со своими современниками вполне «по-взрослому», так, как того требовал много лет спустя молодой Олдингтон, — спокойно говорить о том, что каждого интересует?
Что ж, частично Стивенсон на это ответил, и даже странно звучит такое суждение в устах писателя, от которого привыкли слышать: «На ветер!» и «Свистать всех наверх!» Тем не менее создатель «Острова сокровищ» однажды сказал: «Мы — в намордниках, и потому приходится оставлять без внимания по меньшей мере половину жизни, нас окружающей… Какие книги мог бы написать Диккенс, если бы ему позволили! Какие книги написал бы я сам! Но нам дают всего лишь ящик с игрушками и говорят: «Вот играйте и больше ни о чем не думайте!» Оружием буржуазии является голод. Если писатель приходит в столкновение с ее узкими понятиями, она просто и без разговоров лишает его средств к существованию. Сколько же талантов уничтожается сейчас на каждом шагу таким способом!».
Олдингтон, который эти нравы и времена помнил, в одном из романов описал, как тогда смотрели на «бунтаря»: мальчик (лицо автобиографическое) прочел стихи Суинберна и, пораженный, бросился к отцу:
— Папа, а Суинберн умер?
— Нет, — сухо отвечал отец, — не думаю, чтобы он умер. По-моему, он лечится от запоя.
Это означало «Поэт — плохой, его читать не следует».
— Все равно! — воскликнул мальчик. — Суинберн понимая он чувствовал он бессмертен!
Удар мальчик выдержал, однако с трудом, и не потому, что мальчик к таким ударам люди той эпохи вообще были мало подготовлены. Их воспитание и соответственно сознание так было устроено, что подноготная жизни, все называемое оборотной стороной медали сознательно не принималось в расчет или же умышленно скрывалось. И конечно, вдруг обнаруженное ошеломляло. Обычно о таком не говорили и делали все, чтобы книги таких поэтов не имели признания. Вообще, вещи не назывались своими именами, множества проблем как бы и не существовало, непременных проблем, на которых стоит жизнь.
В «Портрете бунтаря» Олдингтон пространно рассказывает то же самое — о среде Стивенсона (который тоже читал вопреки всему Суинберна!), о «суровой дисциплине», об «ужасах», которыми его пугали. Страха перед дьяволом мы уже не испытываем и плохо представляем, что означает психически чувство «греха», зато приведем такую подробность: все те же пуритане, подобные людям стивенсоновского окружения, когда то уничтожили шекспировский «Глобус» — театр ведь считался греховным. Во времена Стивенсона театров, разумеется не жгли но все таки нельзя сказать, чтобы пуританские нравы, и притом в первозданном еще виде, перестали существовать Театров, положим, уже не жгли, однако романы читать все же не полагалось!
Разумеется, эпоха — мир пестрый, со «множеством отделений», выражаясь языком гамлетовским. То же время было высокой ступенью прогресса, буржуазного прогресса. Перечитайте очерк Герцена «Не виновен!» («Былое и думы» часть шестая), чтобы почувствовать, что за впечатление фасад Англии мог произвести на человека, прибывшего из другой страны Парламентские дебаты, публичные митинги, оппозиция, гласность. А какого бесстрашия достигла тогда наука! Наконец, тогда же существовала и «старая, добрая Англия». Пусть уже не под «де ревом зеленым», как было то в эпоху Робина Гуда, а в кругу семьи, у очага, однако она создала свои предания, свою поэзию. Домашний уют, диккенсовский оптимизм, Диккенс и сам Стивенсон, сколько бы он ни бунтовал, — явления все той же эпохи. Однако поверх всех свойств наиболее устойчивым признаком времени оказалось ханжество, лицемерие и ханжество. «Эпоха, которая развила фарисейство настолько, что было до статочно казаться порядочным, чтобы слыть таковым», — подвел итог Голсуорси в «Саге о Форсайтах».
Буржуазное фарисейство требовало, чтобы писатель, «хороший» писатель, был и «хорошим человеком». Собственно говоря, сказать надо «Хороший человек» с прописной буквы, в противовес «Плохому человеку» — это Гудмен и Ведмен, персонажи из книг пуританского писателя Бэньяна, на которых веками воспитывались англичане, в их числе и Стивенсон. И как тут все противоречиво! Бэньян — классик английской прозы. Нам-то это имя ничего не говорит,[162] но можно поверить англичанам на слово, поверить Диккенсу, Бернарду Шоу и тому же Стивенсону, которые прилагали все силы, чтобы по их собственной прозе хотя скользнул отсвет идеала, положенного некогда простым и выразительным стилем Бэньяна. Но те же книги служили источником узкой морали. «Хороший человек», уж известно, что это означало — чисто буржуазную благопристойность. Но вот как же, сам Шекспир и не платил долгов, был пойман за браконьерство, и частенько видели его с друзьями в таверне «Русалка». А нынешние! Этот Суинберн — лечится от… А Стивенсон! Виданное ли дело, бежать в Америку с замужней женщиной, матерью двоих детей. И Шекспира печатали «по-домашнему», без «грубых слов», чтобы «краской стыда не зажглись щеки молоденькой девушки».
«Щеки молоденькой девушки» были мерилом и когда взамен так называемой «всей истине» о Стивенсоне (одна сомнительная интрижка и одна «незаконная» связь) создавалась о нем легенда, изображавшая его «сахарным херувимчиком с шоколадными крылышками». Много же поработал в те времена редакторский карандаш ради «щек молоденькой девушки».
Конечно, дело не в девушках, которым и правда не следует вникать в смысл некоторых шекспировских острот. Девическая стыдливость, инфантилизм распространялись на всю литературу. Молодой Олдингтон, повидавший на войне жуткую изнанку вещей, собственно, первым написал о последствиях пуританской стерильности, написал со скрежетом зубовным и уж всеми словами и всеми буквами! Написать-то написал, но и в те годы «Смерть героя» вышла изуродованной. Тем более на эпоху раньше приходилось о том просто помалкивать Стивенсону.
Да, ханжество мешало писателю, мешала мелочная опека публики, но и сам Стивенсон не нашел подобающих средств взглянуть на некоторые вещи прямо, дать отчетливые наименования зыбким явлениям, стать ближе к быту и извлечь из него материал для искусства. Олдингтон так и говорит: окружавшей его обыденности Стивенсон написать не мог, другое дело обыденность, но — в океане. Там и обыденность красочна, море — готовая картина! На фоне салинга и бизань-мачты показать игру теней и света Стивенсон умел, но как сделать это на расстоянии нескольких шагов от вас, от стула до стола, не знал. Не пришло для таких книг время. Не суждено было эти книги написать Стивенсону, таковы были пределы его дарования.
Очень уж «современно», например, строит он книгу. Об одних и тех же событиях повествуют разные лица, а мы как бы объективно видим ход дела — прием, ныне распространенный, у Стивенсона был обдуман. Но только обдуман и испробован. Воплотить замысел — написать рассказ, который бы и на рассказ похож не был, двигаясь сам собой («как жизнь»), — Стивенсону не удалось, он только понимал, что этого надо бы добиться, он только пробовал такого идеала повествовательного достичь. Но чем искуснее строил он повествование, тем чувствительнее в мудреном механизме что-то поскрипывало…
Даже в неподражаемом «Острове сокровищ» магнит увлекательности чем ближе к концу, тем становится слабее. «Владетель Баллантрэ» надломился где-то в середине. «Принц Отто» не удался совершенно, хотя Стивенсон вложил в него кропотливый труд и надеялся увидеть лучшей своей книгой. Шедевром Стивенсона, шедевром «для взрослых», считается «Уир Гермистон», но книга и наполовину не была написана. Первые главы, пусть замечательные, — это все, о чем мы можем судить. Работу Стивенсона оборвала смерть, будто сам рок позаботился о том, чтобы избавить писателя от затруднений, одолевавших его, как правило, после первых, вдохновенно набросанных страниц.
Стивенсон «хорошо писал» — не один раз говорит об этом Олдингтон. Подлинный прозаик дает себя знать всюду, и Олдингтон это показывает, выхватывая наудачу строки из писем, очерков, даже из детских набросков: каждое слово продумано, поставлено на место, одно к другому пригнано, все отшлифовано, а затем наведен не только блеск, но и придан всему оттенок небрежности, «болтовни», разговора «между прочим»… Однако, разбирая одно эссе Стивенсона, Олдингтон отметил: «Написано нарочито». Можно сказать, очерк «записан», как это получается и у художников, если они после свежего подмалевка «замучивают» картину отделкой. Происходит это чаще всего не от избытка сил, а как раз напротив, потому что сил все-таки не хватает, и манера и навык, даже очень развитые, не спасают.
Сам Стивенсон, даже когда бывал доволен своей работой, относился к себе трезво и справедливо. По крайней мере, он знал: читатели читают не «серьезный замысел» и не «искусство повествования», читатели ждут книгу — и все. Однако мастеров в ультрасовременном, «интеллектуальном», духе часто и не заботит, что читателю трудно, что ему просто скучно. Поэтому, ссылаясь на Стивенсона, они делают его похожим на самих себя. Удачное и завершенное у него объявляется детским, а «серьезное» ищут во второстепенных и малоинтересных его вещах.
Вероятно, каждый писатель вполне раскрывается посмертно — исторически. Однако переоценка Стивенсона идет своеобразно: разрушен прежний, упрощенный, сглаженный, сусальный Стивенсон— «херувимчик», а затем, как это часто случается в ходе переоценки, в полемике началась борьба уже и с самим Стивенсоном. Из него делают какого-то вовсе другого писателя, не только серьезного, но и некоего конструктора прозы. Серьезность волею истолкователей приходит в конфликт с увлекательностью, со всем тем, что так естественно всегда жило в книгах Стивенсона, чему покорны все возрасты, читающие эти книги. Нет, теперь уже слышны голоса, утверждающие что и «Остров сокровищ» не то, не истинный это Стивенсон. Зрелый, сознательный Стивенсон, «современный мастер», должен быть обнаружен в вещах, заведомо ему не удавшихся, но серьезных!
Надо сказать, происходит такое не с одним Стивенсоном. Эта переоценка составляет в современном западном литературном мире могущественнейшую тенденцию. Держится ее могущество прежде всего тем, что в окололитературной толчее, называемой «критической интерпретацией», можно участвовать, не имея к литературе ни вкуса, ни склонности.
Но читателям «Портрета бунтаря» следует довериться автору — Олдингтону. Ведь, несмотря на тридцать томов собрания сочинений, Стивенсон все же остается автором одной книги — конечно, «Острова сокровищ». Интересно задуманные, прекрасно начатые другие его произведения, удивительные в этих произведениях страницы — все это лишь залог, возможность достижений, но еще не самые достижения. Олдингтон это знает, он и оценивает Стивенсона мерой такта, чутья, таланта. Ценит он в Стивенсоне то, что нынешние законодатели литературных мнений подменяют умствованием.
Умствование над Стивенсоном и приводит к тому, что нам говорят: «Остров сокровищ» — это еще не Стивенсон!» Нет, это и есть самый настоящий Стивенсон, единственный в своем роде, по крайней мере, тот, которого читали и до сих пор читают.
* * *
Можно подумать, что иногда Олдингтон занимается сведением все же чересчур мелких счетов, тратя, например, силы на доказательство «всей истины» о Стивенсоне в личном плане. «Истина» эта, хотя ее довольно долго ждали,[163] сводится действительно к пустякам и сама по себе полемического пороха давно не содержит. Главное заключается в том, что писал Стивенсон в ту пору, когда сословие литераторов только складывалось и обретало права. Один из первых «современных писателей» по стилю и психологии, Стивенсон оказался также среди первых по самому положению писателя-профессионала, зарабатывающего на жизнь литературным трудом.
Теперь «писатель» звучит так привычно, что особенности судьбы Стивенсона и оценить трудно, они растворились в литераторском быте и присущи едва ли не каждому, кто ныне пишет и несет написанное в редакцию. Так что и мелочи из жизни Стивенсона — это в своем роде модели, поэтому обрели они значение, особенно в глазах Олдингтона, заставшего времена поистине давние и на своем опыте проверившего, каково это было тогда — «стать писателем».
Островитяне, которые назвали Стивенсона Туситалой — Сказителем, чтили его, однако понять не могли, зачем так долго и упорно занимается он писанием слов. Об этом очевидцы вспоминают с улыбкой, а сами они намного ли превзошли туземное простодушие во взгляде на труд Стивенсона?
Конечно, что уж теперь спорить, был или нет Стивенсон «хорошим человеком», как это понимали тогда, издавая самого Шекспира с купюрами. Да, нравы были такие, что редактор, увидевший в рукописи «любил страстно», исправлял на «нежно любил», и потому в конце концов понятно, отчего Грэхем Бэлфур, биограф-родственник, не мог сказать «всей истины», а Сидни Колвин, литературный душеприказчик, письма его печатал не полностью. Но зачем тот же Колвин взял и собственной рукой вычеркнул из «Завещания» такие строки:
Там ветер станет веять надо мной И облака будут проплывать своей дорогой. Там придет покой. Там успокоится сердце.Что здесь непечатного? Много лет спустя, когда строчки эти нашлись, Колвина спросили, почему он с ними расправился. Долго молчал он, сыгравший по отношению к Стивенсону роль тех, кто уничтожил бумаги Байрона, а потом наконец ответил: «Мне показалось, что так все стихотворение будет веселее».
Не извечный конфликт, когда «поэта не понимают», а вот это специфическое давление, кропотливое вмешательство в слова и строки наряду с другими практическими особенностями «жизни и творчества) одним из первых, у истоков нашего века, испытан на себе Стивенсон. Конечно, и это давление было не односторонне отрицательным. Оно заставляло работать! И редакторы у Стивенсона были разные. Был Сидни Колвин, но были и упомянутые Олдингтоном Лесли Стивен, Эндрю Лэнг, суждения которых оттачивали перо Стивенсона. Они-то его Стивенсоном и сделали.
Одним из первых работал с редактором, получал регулярно гонорар, пользовался преимуществами авторского права, одним из первых заставил платить себе американцев, которые обычно «пиратствовали», беспошлинно и безвозмездно перепечатывая европейцев. Словом, Стивенсон одним из первых жил, что называется, литературной жизнью, хотя теперь ведя ту же, собственно, жизнь, не многие, должно быть, помнят, что это автор «Остром сокровищ» проложил дорогу не только в океан искателям приключений, но и собратьям писателям в контору адвоката, к издательскому агенту, в профессиональный союз литераторов.
Не все эти стороны жизни Стивенсона Олдингтон рассматривает подробно, а кое-что он просто опустил. Едва затронул он заметную литературную дискуссию, в которой участвовал Стивенсон, и почти ничего не сказал о лондонском литературном клубе. Именно эта дискуссия сначала столкнула, а потом примирила Стивенсона с Генри Джеймсом, приведя его, таким образом, к беседам о Тургеневе. И тогда эта дискуссия, конечно, не закончилась, она идет и по сей день — о том, насколько литература соответствует жизни? Тема «вечная», но Стивенсон и его оппоненты говорили об этом уже современно — современным языком, пользуясь современными понятиями и современным подходом, разными, развившимися в наши дни подходами. Типичен и литературный клуб, членом, украшением и законодателем которого был Стивенсон. Все сколько-нибудь значительные писатели того времени входили в этот клуб. Там был и Киплинг, и Райдер Хаггард, и Герберт Уэллс — словом, все, кого мы и сейчас читаем. (Не было Оскара Уайльда, но его просто не приняли, конечно, не по литературным причинам.)
Жизнь кипела в этом клубе, литературная жизнь. Упорядоченных заседаний не было, а просто шло общение литераторов между собой. Завязывались знакомства, заключались соглашения с издателями, задумывались (подсказывались) сюжеты — все в том же клубе. Теперь и это привычно, но тогда было новшеством. Нова была открытость, обобществленность творческой деятельности, писательство на людях, так сказать. Собирались писатели вместе и в давние времена. Бывали таверны, излюбленные пишущей братией, как та же шекспировская «Русалка»; были литературные кофейни, где царил Свифт (а Дефо туда не пускали и по причинам литературным), но все это было между прочим, а этот клуб, называвшийся «Сэвил» и расположенный в самом центре Лондона, полностью принадлежал литераторам, был литературным учреждением. Подводя итоги его деятельности, историки вспоминают, что там Киплинг встретился с Хаггардом, там Стивенсон рассыпал острые замечания, сохраненные для потомства мемуаристами, но главное, конечно, атмосфера, насыщенная литературными интересами. Тут уж исчислению не поддается, сколько идей или хотя бы намеков на идеи возникло в этих стенах, сколько голов наэлектризовалось в этой атмосфере… Но и пены там накипало достаточно!
Собственно говоря, поэтому Олдингтон, должно быть, и не удостоил особенным вниманием клуб «Сэвил»: очень уж не любил он этой пены. Видимо, в силу тех же причин — знал слишком хорошо, до оскомины! — сказал он немного, хотя метко, и о таком явлении, как «литературная стратегия». Олдингтон ограничился намеками, а следовало бы их развить, потому что и здесь оказался Стивенсон среди зачинателей.
Это возвращает нас к легенде о Стивенсоне, но, с другой стороны, не той, что десятилетиями разделяла родных, друзей и поклонников писателя на группировки. Родственники и друзья, которых обычно в создании легенды упрекали, только поддерживали ее, редактировали, стараясь сделать Стивенсона в большей или меньшей степени похожим на «хорошего человека». Но творцом легенды был сам Стивенсон, и у него имелись свои задачи. «Я не из тех, — говорил он, — кто забывает свою жизнь».
Биография была для Стивенсона тоже творчеством. Когда не писал за столом, он творил повесть своей судьбы. Повторял жизнь своих персонажей, проверял в действии сюжеты будущих книг. Все — в известной мере — это подчеркнуть необходимо, чтобы не возникло контраста с морем чернил и только чернил, которое начертили мы вокруг Стивенсона с самого начала. Нет, было и это практическое творчество, точнее мифотворчество. Когда, с какими целями и какие дало результаты — вот вопрос.
«Искать вдохновения» — так говорили в старину. Существовал и противоположный взгляд: «Вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта». Но всегда от природы были творческие натуры, нуждающиеся в таком поиске, в эксперименте над собой, над реальностью, когда писатель не живет, а, несколько актерствуя, как бы играет в жизнь; намеренно испытывая различные состояния, режиссирует он сценарий собственной жизни и, чтобы чего не забыть, составляет отчет своих переживаний. Ведь запас жизни, в человеке умещающийся, рано или поздно оскудевает, исчерпывается и требует пополнения. «Помните, если не писал, разбоем занимался Франсуа Вийон…»
Сначала все было романтически: легенда о Стивенсоне, сага его жизни возникла как естественное дополнение к его книгам, как продолжение книг. Читателям Стивенсона, конечно, хотелось узнать: а на самом деле как это было? И когда в подтверждение прочитанного узнавали, что все так и есть, что сам автор, в сущности, один из его собственных героев, это только усиливало действие книг. Со временем личность писателя и все с ним происходившее стало увлекать не меньше, чем книги. Путешествия в Океании, жизнь на островах — за этим следили, как за умело построенным сюжетом. Что он еще совершит? А что после этого он напишет?!
«Никто из писателей со времен Байрона так не привлекал читающую публику своим образом жизни», — у Олдингтона приведен этот вкрадчивый упрек Стивенсону от одного из друзей-критиков. Байрон — для смягчения удара, и Олдингтон прав, когда напоминает о разнице, о героической стороне байронизма. Личная легендарность в байроническую пору еще и не входила с обязательностью в «литературную стратегию». Критику хотелось лишь толкнуть мысль Стивенсона в эту сторону — вдуматься в причины такой популярности не книг, а личности автора, и, со своей стороны, критик намекал, что это ведь может быть и признаком кризиса.
И действительно, как раз в ту пору, когда был расцвет стивенсоновской легенды, еще прижизненной, Оскар Уайльд отметил: «Новая книга Стивенсона далеко не так хороша, как того хотелось бы…» «Живи Стивенсон на улице Гоуэр, — рассуждал Уайльд, — он создал бы нечто подобное «Трем мушкетерам», а на островах Тихого океана писал он письма о немцах в «Таймс»…» Кто бывал в Лондоне, тот, возможно, видел, что за угрюмая кирпичная кишка эта Гоуэр-стрит, то есть, по логике Уайльда, либо мечта, либо действительность — творить на бумаге или же в самой жизни. «Для романтического писателя нет обстановки хуже романтической» — так считал Уайльд. Сотворив вокруг себя на самом деле свой приключенческий мир, Стивенсон, по его мнению, уничтожил мечту об этом мире, мечту, порождающую книги. Но, проще говоря, некая деятельность писателя вокруг собственного имени вытеснила в нем писателя как такового. Нет, не вытеснила, скорее — заменила. «О какой замене или вытеснении вы говорите?! А «Катриона», «Потерпевшие кораблекрушение» и пр.? У Олдингтона же сказано о значительной производительности Стивенсона на Самоа. Уточним меру. Не обязательно во всем с Уайльдом соглашаться, существенно лишь, что неудачная книга Стивенсона попала ему в руки как раз тогда, когда все ждали от Стивенсона совсем другой книги, и Оскар Уайльд, сам писатель, точно уловил, в чем тут причина неудачи. О. прочем говорить пока не будем. На остров? Тихого океана Стивенсона привели разные причины, и прежде всего одна, от него не зависевшая, — болезнь. Однако заметим что в Швейцарию он тоже ездил лечиться и писал там, однако публичной повести он из этого не делал. На Самоа это стало одним из условий и средств его работы. Все уже знали: «Стивенсон на Самоа!» И если достойной книги не получалось, ее заменяла легенда о Стивенсоне.
Как он пришел к этой замене, в «Портрете бунтаря» прослежено: экспериментирует над собой Стивенсон с ранних лет, как только чувствует тягу к литературному творчеству. Сразу же, как бывает со всяким пишущим, возник перед ним вопрос: о чем писать? И в поисках ответа Стивенсон отправился в путь, навстречу приключениям, хотя бы и заурядным. Но в ранние годы эти поиски мотивов получались сами собой, хотя, конечно, и сказывались. Всегда было видно, что он человек — книжный, от книги идущий к жизни, а не наоборот, что впечатления книжные, дорожные, то есть на ходу подхваченные, — его основной источник. Словом, Стивенсон прирожденный литератор, однако обреченный на постоянный парадокс: прежде чувствовать себя писателем, а потом уж искать, о чем бы написать.
Две книжки очерков путевых, сборник очерков литературных и рассказы, подсказанные прежде всего чтением, вели к «Основу сокровищ». Замечательный «Остров сокровищ!) — тоже книжная книга, потому что ни пираты, ни приключения во времена Стивенсона действительностью, жизнью уже не были.
Написан «Остров сокровищ» прямо по рецепту Уайльда: по контрасту с обстановкой, в Брэмере, в срединной Шотландии, вдали от моря, под шум осеннего дождика начал Стивенсон грезить о парусах, о море, о сокровищах. Писал Стивенсон быстро, по вдохновению, и вечерами читал домашним написанное. Писал так, как никогда, пожалуй, больше писать ему не довелось. А между тем после «Острова сокровищ» и началась для Стивенсона настоящая писательская жизнь. Добившись успеха и поверив в свои силы, становится он профессионалом.
К этому слову мы тоже привыкли, употребляем его широко и говорим «профессионал», желая сказать «умелый работник». Но можно быть плохим писателем, однако профессионалом, а может и мастер оставаться дилетантом, то есть ничего не получать за свои произведения, профессия — это прежде всего способ заработать себе на жизнь. Так понимали это при Стивенсоне, когда профессионализм в творчестве только учреждался, только устанавливались его законы и нормы. В известной мере он всегда существовал, но лишь в конце прошлого века, во времена Стивенсона, распространился и был узаконен Существуют воспоминания одного современника, который, мечтая попасть на литературный Олимп, оказался в кругу знаменитейших писателей и поражен был, услыхав там разговоры исключительно… о деньгах. Поразительно это было для человека со стороны, на самом же деле никакого кощунства в этом не заключалось, просто всеобщим средством к существованию стал платный труд, и писатели, в свою очередь, профессионализировались: поэт превратился в «наемного работника» («Коммунистический манифест») между тем прежде плата за писательство стыдливо затенялась под формой покровительства, вознаграждения или синекуры, да и сочинителя скрывали «литературные грехи». Прежде не называли, а обзывали того, кто жил литературным трудом, «наемным писакой». Теперь же на глазах Стивенсона писательский профессионализм становился правилом. Это не значит, что писать стали лучше, но, безусловно, писать стали по-другому — ждать, «пока потребует поэта к священной жертве Аполлон», было уже некогда… Само по себе положение профессионала не прибавило Стивенсону таланта, а вот заботы возникли новые. Прежде всего вопрос, о чем писать, сделался настойчивым, служебно-неотложным.
Стивенсон и забыл те светлые времена, когда будто сам собой, в игре, возник под его пером «Остров сокровищ». Конечно, не сам собой, но не было же тогда непрерывно гнетущего напряжения, припечатавшего жизнь Стивенсона. «Я должен писать, я должен писать, я должен…» — известными словами сказано о том же у Чехова. «Я должен писать» самого Стивенсона в «Портрете бунтаря» приведено, это его письмо к Мередиту. Об адресате два слова: маститый писатель, он, однако, не решился «стать писателем», всю жизнь Мередит работал редактором издательства. Так что Стивенсон знал, к кому обращался, письмо его демонстративно: «Пишу… Пишу… Пишу совершенно больной, пишу, сотрясаясь от кашля, пишу, когда голова разваливается от усталости…» А что было делать? «За стол, — сообщал Стивенсон своему адвокату тоже не без умысла, — каждый день садится семь человек». Вся эта так называемая «жизнь на Самоа» (заглавие книги Стивенсона и его жены) вышла буквально из-под пера Стивенсона.
«Когда писатель, — рассуждал однажды Стивенсон, — говорит о литературе, точно о сапожном ремесле, хотя и не столь выгодном, это значит, что он затрагивает лишь одну сторону вопроса» Нет, у самого Стивенсона так не получилось «Одной стороной» ремесло не осталось, оно связывало все стороны не только творчества, но и жизни. Погубили Стивенсона не слабые легкие — то, от чего ждал он смерти всю свою недолгую жизнь. Умер он от удара, от переутомления. А за несколько лет до кончины у него отнялась правая рука. «Я советую тебе по думать об этом», — отвечал Стивенсон школьнику, который спрашивал создателя «Острова сокровищ», как сделаться писателем.
«Считаю, что победил, с честью подняв перчатку, брошенную мне судьбой» — так заключил Стивенсон послание Мередиту. В нравственном отношении, разумеется. Что же касается творчества, то между изнурительной надобностью писать и острой необходимостью добыть средства к существованию втиснулась Стивенсонова легенда.
Вместо того чтобы писать, выгоднее оказалось заниматься своего рода «разбоем», поживой за счет однажды добытого успеха. Конечно, это механика слишком уже современная, но в принципе такова была подоплека Стивенсоновой легенды. Таков был выход, найденный Стивенсоном под натиском необходимости изыскивать жизненные средства литературным трудом. Последствий, форм и степени распространения такого мифотворчества он, конечно, не предвидел. Однако из разговора его с одним писателем, который вспоминает Олдингтон, можно заключить, что Стивенсон видел в этом неизбежный спутник писательского труда. И прислушайтесь, как его заочно поддерживает автор «Портрета бунтаря». Уж он-то мог об этом судить на основе новейшего опыта.
Вот когда единственный раз прорывается у Олдингтона личный мотив в этой книге. Говорит он о том, каким мастером «литературной стратегии» был Стивенсон, как он, невзирая на романтический ореол «бунтаря», деловито организовывал свой успех, — рассказывает об этом Олдингтон, и досада, кажется, сквозит у него. Не на автора «Острова сокровищ», нет, но то ли на такой практицизм вообще, а может быть, и на себя самого — за то, что теми же средствами не воспользовался или же что не имел необходимой хватки… Ведь у него на глазах и отчасти при его помощи одно за другим возникали «большие имена» — репутации, теперь канонизированные, огражденные от разоблачительных посягательств горами «критики на критики критик», как называют цепную связь мнений.
«Люди верят только славе» — этот афоризм из литературной стратегии давних времен был модернизирован с учетом новейших средств информации. В результате выработался и размножился особый тип писателя. Это занимающий место писателя, и очень прочно; исполняющий роль писателя, и довольно похоже; это писатель по всем признакам, за исключением одного — призвания. Не Стивенсон несет за него ответственность. Однако наметился этот тип и в легенде о Стивенсоне, в тот момент, когда, отделившись от творчества, легенда уже не дополняла, а заменяла собой творчество.
«Как диковине из мира словесности, — писал один из почитателей Стивенсона, — новый век изумится тому, что в течение нескольких лет импульс литературного творчества всей Великобритании тяготел, будто к магнитному полюсу, к маленькому островку в южной части Тихого океана».[164]
Действительно, интересный факт, и притом, оказалось, с будущим. Но в нашем веке уже не удивляются тому, что громкое имя как бы висит в воздухе. Такие имена и образуются из некоторого творчества, окруженного непомерно раздутой легендой. Не творчество это, а так называемое «творческое поведение», называемое так теперь, когда как форма литературной деятельности оно распространилось в разных видах: «писатели писателей», «трудные поэты», которых не читают — не для того они творят! — их только анализируют… В XX веке «появилось» много образцовых «потомков» Стивенсона — легендарного, того, что Стивенсоном, собственно, не был, а только изображал «всем знакомого, всеми любимого, всеми читаемого» Стивенсона.
У Стивенсона проскользнул намек на такое двойничество, но механизм, однажды запущенный, продолжал действовать.
Интересное в этом смысле свидетельство оставил прославленный мореплаватель Джошуа Слокам: в одиночестве идя под парусами вокруг света, он с острова Робинзона двинулся к острову Стивенсона… Самого Стивенсона в живых уже не было, Слокам застал в Ваилиме одну легенду. И он описывает, как его вкрадчиво, однако последовательно стали делать участником Стивенсоновой саги.
Мы, читатели, не стали бы — просто права не имели бы! — интересоваться легендарным Стивенсоном, если бы это была только личная жизнь писателя. Но это не личная жизнь, а нечто особое, это легенда, сознательно созданная, полноправный том в собрании сочинений, выпущенный ради того, чтобы охотнее читались и другие тома. Словом, не жизнь это, а литературный прием, хотя и побочный, и он подлежит критике литературной.
Именно в тот момент, когда книга у него не получалась, Стивенсон нарочито обращался к читателям: «Это я, Стивенсон! Веду романтическую жизнь. Объехал на шхуне тридцать островов и т. п.». Иначе нам и дела до него не было бы, если занимался бы он своим делом.
Вовсе без легенды и «творческого поведения» не обходится ни одна достойная творческая жизнь, — Стивенсон, как показывает история литература, был прав. Очевидно, все дело в пропорции, в соотношении между поведением органическим и творческим. Вот когда практический эксперимент слишком уж поглощает Писателя, когда «охота к перемене мест» и вообще постоянное придумывание себе «жизни» заполняет паузы в творчестве и само творчество становится дневником погони за ответом на вопрос «о чем писать?», — тогда в странной позиции оказывается читатель: вместо произведения предлагают ему «поведение»…
Такова еще одна проблема, раскрывшаяся со временем в судьбе Стивенсона, в легенде о нем. Но и этим вопрос с легендой не исчерпывается хотя бы потому, что жизнь Стивенсона на Самоа, сделавшаяся особенно легендарной, строилась по известному образцу. Нам, русским читателям, знать это интересно, потому что и тут было влияние, шедшее из России. Речь идет о Толстом.
«Толстой, — свидетельствует очевидец, — помог Стивенсону сформулировать свои туманные и подчас путаные воззрения». Это — как и с Тургеневым, причем как и в случае с Тургеневым, знал Стивенсон больше о Толстом, чем Толстого. Ведь мировая слава Толстого, та, что вышла за пределы сравнительно узкого круга, началась с его проповеди, с толстовства. Конечно, идеи Толстого о сближении с природой, опрощении и пр. напоминали и «естественного человека» Руссо, и того же Робинзона, вернее — робинзонаду, созданную уже истолкователями знаменитой книги. Так что Стивенсон воспринял Толстого в хорошо ему знакомой традиции. И вот на Самоа он на свой лад толстовствовал, или, если употребить слово Толстого, «робинзонил». И участие в домашних и полевых работах, рубка леса, и сооружение Дороги любящих сердец, и безо всякого высокомерия отношение к местным жителям — все это следует приписать влиянию Толстого, хотя, разумеется, не только влиянию. И конечно, у Стивенсона, как и в самом толстовстве, было истинное подвижничество, человечность, но был и тот барин, что, отправляясь мужичку пособить, наказывал кофе себе принести на пашню; был гуманист, но был также «истасканный, истеричный хлюпик,…который, публично бия себя в грудь, говорит: «Я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным усовершенствованием…».[165] Если Толстой помог Стивенсону привести человеколюбивые убеждения в систему, так это противоречие оказалось еще усугублено, a оно всегда было свойственно Стивенсону, который толстовствовал и до того, как узнал о Толстом, — сквозное противоречие в его «романтике судьбы».
Вот он, этот Стивенсон, эмигрант-любитель, принимающий тяготы переселения не по несчастию, а из пытливости, честной пытливости, но все же и не без надуманной «романтики». В путевых записках Стивенсона, так и названных «Эмигрант-любитель», Олдингтон обратил внимание на встречу с русским, живым персонажем из «Воскресения» или «Мертвого дома». Запоминающийся эпизод, тем более, что сам Стивенсон нашел точные слова, чтобы подчеркнуть разницу положений, так сказать, жизненных позиций: «немая выносливость, которой, видно, немало пришлось встречать на своем пути отчаянных обстоятельств», и его собственное, стивенсоновское, страдание-эксперимент — все же только эксперимент, хотя бы и был он предпринят с риском для жизни.
Это разница все та же, разделяющая органику и эксперимент в творчестве и «творческом поведении». Давайте же, чтобы лучше это увидеть, всмотримся под конец в самое настоящее из того, что удалось Стивенсону. Посмотрим, почему оно удалось.
* * *
Историю «Острова сокровищ» Олдингтон опустил, считая слишком хорошо известной. Действительно, читатели, в общем, знают, как это было: мальчик, пасынок писателя, играя, чертил карту, а отчим игру заметил и продолжил…[166]
«Я уронил задумчивый взгляд на карту острова, — рассказы вает Стивенсон, — и средь придуманных лесов зашевелились герои моей будущей книги… Я не успел опомниться, как передо мной очутился чистый лист бумаги, и я уже составлял перечень глав».
Похоже на попадание в цель. «Мне суждено было написать роман», — говорит Стивенсон, и вот свершилось. Но что значит «суждено» и почему прежде Стивенсон не раз набрасывал план романа и даже начинал писать, однако на этом, по его словам, все и кончалось? А тут вдруг все ожило и задвигалось, каждый персонаж, стоило ему появиться из-под пера Стивенсона, ступить под сечь придуманного леса или на воображаемую палубу, уже знал в точности, что ему следует делать, будто книга давно готовой заключалась у автора в голове.
В сущности, так оно и было. «Писатель должен знать свою округу, будь она настоящей или вымышленной, как свои пять пальцев», — говорил Стивенсон. И вот это условие было им выполнено прежде всего. Только «знать» не исчерпывается какими-то сведениями, пусть разносторонними и многочисленными, это содержание души, исподволь накапливаемое.[167]
Пусть строителем маяков он не стал, однако о бурях и рифах пишет пером потомственно морского человека. А заимствования? Чего проще, казалось бы, уличить Стивенсона в литературной краже. Ну конечно, попугай взят у Дефо, да и остров как место действия был ведь обжит все тем же Робинзоном Крузо. Однако никому как-то и в голову не приходило упрекнуть Стивенсона, ни критикам при его жизни, ни историкам литературы в дальнейшем. Ничуть не повредило Стивенсону и то, что он сам признался: мальчик подал идею, отец составил опись сундука Билли Бонса, а когда потребовался скелет, он нашелся у Эдгара По, и попугай был готовый, живой, его оставалось только научить вместо «Бедный Робин Крузо!» повторять: «Пиастры! Пиастры!» Даже карта, составлявшая для Стивенсона предмет особенной авторской гордости, если уж на то пошло, использовалась не раз, и прежде всего Гулливером. Но в том-то и дело, что Стивенсон не нахватал все это вдруг, а глубоко это знал, свою округу, книжно-вымышленный мир, с которым сжился с детства.
Мальчик, игравший вместе с отцом в придуманных человечков, стал большой и написал «Остров сокровищ». Мальчик, который обещал «нарисовать душу», вырос и написал «Странную историю с доктором Джекилом и мистером Хайдом». Ждали от Стивенсона еще одной книги. Он и сам понимал, что ему суждено ее написать.
«Лучше, — говорил Стивенсон, — чтобы все происходило в настоящей стране, и вы прошли ее из края в край и знаете в ней каждый камешек». Почему в «настоящей стране» поселить своих героев Стивенсону так и не удалось, выше уже было сказано. Однако же не вымышленную, а только отдаленную страну, и не по расстоянию, а во времени отдаленную от «настоящего» что-нибудь лет на сто пятьдесят, Стивенсон знал прекрасно — Шотландию своих прадедов.
Чувство преемственности у Стивенсона, как у всякого писателя, поднявшегося над уровнем расхожей беллетристики, было очень сильно, — Олдингтон не зря посвятил этому столько страниц. История умещалась у Стивенсона в памяти. Далекие события английского и шотландского прошлого коснулись его, пусть и очень косвенно, но все же как живые предания. Не откуда-то узнанным, не вычитанным, а просто частью его самого было пережитое его родиной за столетия. Он вроде бы сам помнил, какими были они, и первые пуритане, и повстанцы 45-го года, и Роб-Рой, и, наконец, Вальтер Скотт, которого он с гордостью считал своим родственником.
О Шотландии Стивенсон писал много. В рассказах и стихах он обработал народные поверья. В романах использовал «общественную и семейную историю». Еще бы! Ведь это он, «издавая боевой клич своего клана, потрясал копьем на пограничной земле». Однако приходится добавить: «как бы потрясал», и не ради условности следует подчеркнуть это, а потому, что была у Стивенсона и здесь игра — в предков, в историю. Но эта книга должна была оказаться не очередным романом, хотя бы и талантливым, а как бы творением самой Шотландии.
К цели Стивенсон был близок уже во «Владетеле Баллантрэ». Он и сам поначалу оставался доволен книгой: «в моем старом вкусе», — говорил он, вспоминая, видимо, первые свои шотландские рассказы. «Владетеля Баллантрэ» можно еще назвать и шотландским вариантом «Братьев Карамазовых», не в смысле влияния, уж тут его совершенно не было, а просто Стивенсон сам пришел к той же идее — через распад старинной семьи показать поворот в национальной истории.
Взял он двух братьев, чьи отношения, помимо несходства темпераментов, до крайности, до вражды осложнены и борьбой политической, и борьбой за права наследования. Старший стал участником мятежа 1745 года — последней попытки шотландцев отделиться от Англии. Между тем младший старался по-своему сохранить завет предков, — он остался дома, овладев имением и невестой брата. Кроме того, остаться дома в ту пору означало признать англичан, — семья разделилась и политически. Но мятеж был неудачен, старший вернулся и потребовал свое…
К этому надо добавить, что старший, «хозяин Баллантрэ», как его называли, удивительно удался Стивенсону, представив собой сложную смесь даровитости и разложения. Тлен и распад коснулись также младшего, но по-иному: он высох душевно, зачерствел, хотя (так уж сложилось) упрекнуть его не в чем. Этот тип тоже удался по-стивенсоновски.
Рассказывает обо всем, начинает рассказывать старый дворецкий, потом речь постепенно переходит к другим лицам, и поразительно живой рассказ движется перед читателем. Но… «вторая часть портит первую» — это признал сам Стивенсон. Во второй части начались просто чудеса, и это уже не вяжется с простым и серьезным началом. Впечатление такое, что сюжету, событиям предстояло еще развиваться до конца книги, а характеры уже успели раскрыться, — нужно было как-то искусственно запутывать и удлинять повествование. Кроме того, ни один из Деррисдиров (так называли это семейство) не достоин был наполнить собой целый роман, «большую книгу». Оставалось искать фигуру покрупнее.
Стивенсон наконец нашел.
«Лорд верховный судья был в тех местах человек чужой, зато супругу его знали там с детства, как и всю ее родню» — зачин знаковый, все та же книга, соединяющая «общественную и частную историю».
Героем своим Стивенсон взял лицо реальное. Это был Браксфилд, лорд Браксфилд, занимавший пост верховного судьи в Шотландии в XVIII столетии, описанный мемуаристами, занесенный в «Словарь национальных биографий» и даже, кажется, затронутый писателями до Стивенсона. Бывают такие фигуры, готовые персонажи в самой жизни.
Выдвинулся Браксфилд (настоящее имя его было Маккуин) все в том же роковом 45-м году, но только действовал он в пользу англичан, что, однако, не помешало ему оставаться истым шотландцем. Тогда вообще ситуация между Англией и Шотландией сложилась катастрофическая. По выражению историка, тогда был изувечен национальный характер шотландцев. Шотландия под знаком общей с Англией веры и государственности вышла из положения провинциального, но в то же самое время перестала быть Шотландией. Шотландцы стали говорить по-английски, писать по-английски, думать На английский манер, а свое, шотландское, сделалось экзотикой. Даже у Бернса не шотландский язык, а стилизация.
Борьбу шотландцев с англичанами рассматривают еще и как столкновение «варварства» с «цивилизацией». Не торопитесь, однако, следом за буржуазными прогрессистами ставить плюс там, где это «цивилизация», и минусом помечать «варварство». Ведь с той и с другой стороны были люди, народы, традиции, своя история, и каждая страна отстаивала вековой уклад. За чертой «варварства» был целый мир, тот, что со временем живописал Вальтер Скотт. Впрочем, единства не было ни с одной стороны, и, чтобы представить себе разброд и панику у англичан, припомните несколько страниц из «Тома Джонса» или хотя бы кадры из фильма по этому роману, когда мародерствуют бравые молодцы. Это и есть «цивилизация».
Понятно, почему к таким временам и людям тех времен вновь и вновь обращается литература и писатели всматриваются как можно пристальнее в происходившее тогда.
Отчаянную схватку между «цивилизацией» и «варварством» Стивенсон перенес в натуру одного человека, Браксфилда, у которого переменил он лишь несколько внешних черт биографии и дал ему другое имя. Назвал он его Уиром Гермистоном, так называется и вся книга, хотя был еще вариант — «Верховный судья».
Олдингтон судит об этой книге высоко, но мельком. Поэтому остановимся на ней подробнее. К тому же она и читателям известна мало — кому интересен оборванный роман? Но знаменательно: другие вещи Стивенсона, оставшиеся незаконченными, брались продолжать опытные литераторы, только не «Уира Гермистона»! То было творение задушевное, род творческого завещания, последняя дань родине, которую Стивенсону — он это знал, работая над «Гермистоном», — не суждено было больше увидеть. И эта родина, оставшаяся за океаном для него навсегда, виделась ему все яснее, тоска только обостряла зрение.
Сам процесс работы очень вдохновлял Стивенсона, несмотря на парализованную руку и вообще тяжелое состояние здоровья. Он вел переписку со многими соотечественниками, выясняя до мелочей обстановку, выписывал исторические материалы, редкие книги, и плыли старинные фолианты из Национальной эдинбургской библиотеки через моря к Стивенсону. Плыли письма с ответами на вопросы Стивенсона, которыми он особенно донимал друзей-юристов. Конечно, Стивенсон по образованию и сам был юристом, но уж ему хотелось скрупулезной точности.
Господин верховный судья, лорд Гермистон, был, безусловно, незауряден и умен, но, столь же очевидно, была ему свойственна грубость, и не «грубая речь», а самая настоящая неотесанность души. Может быть, поэтому в жестокой усобице, руководясь силой рассудка, он и выстоял. Человек он был ученый, а его все равно считали «темным», по нему «цивилизация» только скользнула, не наведя хотя бы поверхностного лоска. Чутье, историческое чутье, вывело его на дорогу, занял он виднейший пост, стал на стороне порядка, конечно, более развитого, чем полудикая клановая жизнь. Но и сами идеи этого порядка тотчас приняли у него форму косную, справедливость и закон означали для него прежде всего беспощадность.
Стивенсон сохранил за Гермистоном прозвище, полученное от народа Браксфилдом, — «судья-вешатель». «Давайте преступников, — говаривал Браксфилд, — а законы, чтобы отправить их на виселицу, найдутся». Рассказывают, что и Христа считал он просто преступником. В таком духе думает и Гермистон, по крайней мере, так он рассуждает. А что касается скрытых мыслей его и вообще, что он сам за человек, на это не брался ответить никто.
«Керсти! — вдруг однажды позвала экономку его жена. — Мистер Уир не имеет особенной души, но он был мне хорошим мужем». Служанка поняла, конечно, сразу, что дело плохо. И действительно, госпожи Гермистон не стало через несколько мгновений, иначе она б не пошла бы и на такую минутную откровенность.
«Ночь опускалась на землю, когда милорд возвращался домой. За спиной у него полыхал закат, клубились облака, и догорало солнце, а впереди у дороги поджидала его Керсти, экономка. Лицо ее распухло от слез, и она обратилась к нему голосом громким и неестественным, заводя старинное варварское причитание, вроде тех, что еще можно услышать на вересковых холмах Шотландии.
— Господь да сжалится над тобой, Гермистон! — взывала она. — Господь да укрепит тебя! Горе мне, что я должна приносить такие вести!
Он натянул поводья и, нагнувшись в седле, мрачно заглянул ей в лицо.
— Французы высадились? — был его первый вопрос.
— Ах ты! — отозвалась она. — Одно у тебя на уме. Бог да укрепит тебя для горькой вести, бог да утешит тебя в горе!
— Кто-нибудь помер? — спросил его милость. — Арчи? (сын).
— Нет, слава тебе господи! — в испуге отвечала женщина уже более естественным тоном. — Нет, нет, от этого бог упас. Госпожа умерла, милорд…
И снова полился старинный шотландский плач, который с таким искусством и вдохновением от века исполняют простые землячки Керсти.
Лорд Гермистон застыл в седле, глядя на нее. Потом он овладел собой.
— Да, — проговорил он. — Это неожиданно. Но она с самого начала была женщиной хилой».[168]
Так опять остался закрыт, не разгадан человек этот, Гермистон, так и осталось неизвестным, есть ли у него все-таки душа. Впрочем, до нового испытания, посланного ему судьбой. Ведь у него, воспитанный чувствительной матерью, подрастал сын, и она, если о чем и позаботилась, так это о том, чтобы у Арчи была душа. И юноша захотел знать, почему такими хмурыми взглядами и даже проклятьями провожает народ экипаж его отца и что за человек там, «про себя», его отец? Еще мальчишкой он пытался спрашивать об этом у матери. «О, мое дитятко! — воскликнула она. — Никогда не говори таких вещей!» И тогда, повзрослев, решил он спросить самого Гермистона…
Сделал он это косвенно, заступившись публично за того, кого железной рукой отправил на виселицу его отец. «Это безбожное убийство!» — крикнул Арчи на площади во время казни. И преступник был истинно виновен, гнусный и ничтожный негодяй, и Гермистон был великим знатоком законов. Но таков уж психолог Стивенсон, пытавшийся как можно пристальнее всмотреться в столкновение «добра» и «зла», «преступления» и «наказания». Какой-никакой, а хотя бы человечишком все-таки был осужденный, чего Арчи не мог сказать о монолитной крепости, называвшейся «лорд Гермистон». Об этом он просто ничего не мог сказать, он понять этого был не в силах. И тогда пошел он на бунт.
Прекрасно представлял себе Стивенсон, как в замкнутом мирке тогдашнего Эдинбурга должен был прозвучать возглас Арчи. Удался Стивенсону и решительный разговор сына с отцом.
«— У меня, видишь ли, только один сын, — проговорил Гермистон. — Нечего сказать, хорош красавец! Но я должен сделать для него все, что могу. Как же прикажешь поступить? Будь ты моложе, я бы высек тебя за эту дурацкую выходку. А так мне остается только пожать плечами. Но одно пусть будет совершенно ясно. Как отец, могу только пожать плечами, но если бы я был лорд верховный прокурор, а не лорд верховный судья, тогда, сын или не сын, мистер Арчибальд Уир сегодня же ночевал бы в тюрьме».
Чем дальше мы читаем этот роман, тем все настойчивее приходят слова местного доктора, сказанные однажды Арчи, как ключ к характеру Гермистона. «Ваш отец не показывает своих чувств», — заметил доктор. А затем он рассказал, как страшно изменилось у него на глазах лицо его милости при известии о болезни Арчи. Однако то был бы слишком прямой, не стивенсоновский, ход, если бы в суровом обличье Гермистона вот так открылась вдруг отеческая любовь. Сложнее. Доктор сказал: «Он взглянул на меня, как дикий зверь, если простите мне такое сравнение».
В то время, когда литература, в особенности на массового читателя рассчитанная, держалась взгляда традиционного, сохраняя известную цельность «любви» или «ненависти». Стивенсон на это смотрел уже совершенно по-новому. Если и нам будет позволено сравнение несколько рискованное, то можно сказать, что он понял — и «атом» разложим, понял это, разумеется, в своей области, в мире чувств и человеческих отношений. У него однажды было сказано, что от сильного потрясения некий человек просто распался на первоэлементы. Так и под его проницательным взглядом дробились привычные представления. Вглядитесь, как бы предлагал Стивенсон, и увидите множество противоречивых составных там, где по обычным и, если хотите, обывательским понятиям говорят о «любви» и «отеческой привязанности». Вот почему чувства эти хотя и называются «любовью», однако проявляют себя иногда крайне странно. Да, любовь, но не вообще «любовь», а такого человека, как Г'ермистон. Не один Стивенсон начал тогда это понимать, и если не по силе изображения «странных чувств», то по интересу к ним Стивенсон шел в одном направлении с крупнейшими современниками.
«Уиром Гермистоном», в особенности самим Гермистоном, Стивенсон был доволен. «Надеюсь, будет моей лучшей книгой». Случалось, конечно, что он на этот счет ошибался, но в тот раз думали так же читатели, точнее, первые слушатели нового произведения. Об этом впечатлении известно от Ллойда Осборна, того, кто в посвящении «Острова сокровищ» скрыт был за таинственными буквами Л. О.
«Казалось, — вспоминал Осборн, — что это будет вершиной его достижений. С такой неотвратимостью и чувством, с такой уверенностью и совершенством развивалось повествование, что каждое слово отзывалось у меня в сердце». Прочитанное Ллойду так понравилось, что он даже похвалить этого не мог. Он очень искренне пишет, что молчал, потому что его слова были бы слабы после услышанного.
Однако это молчание по-своему истолковал Стивенсон. И всполошился. Ведь то был не кто-нибудь, а Л. О., вдохновивший его на создание «Острова сокровищ». И он молчит, слушая шотландский роман?! Стивенсон, проницательный психолог Стивенсон, просто упустил из виду, что вдохновитель его, некогда кричавший от восторга, слушая про пиратов, с тех пор несколько вырос. В конце концов они объяснились, Ллойд нашел слова и сказал, что это будет… это будет удивительная книга, та самая!
А работа подходила к решающему моменту. Получалось после напряженных событий все же так, что Арчи Уир попадал на скамью подсудимых. Смертная казнь грозила ему. И вот его жизнь в руках лорда Гермистона, неукоснительного стража законов, беспощадного вешателя и… его отца.
Стивенсона глубоко занимала эта ситуация. Он готовился, всеми силами души и таланта готовился написать эту сцену, своих «отцов и детей» (так ведь, в сущности, «Отец и сын», и назвал он в романе целую главу). Но знаем мы о ней уже только со слов падчерицы писателя, сестры Ллойда, писавшей под диктовку Стивенсона.[169]
Работали они еще утром, в роковой день, а вечером Стивенсона уже не было в живых.
О скоропостижной смерти Стивенсона Олдингтон рассказал. Скажем лишь о том, что осталось скрытым у Олдингтона за одной только фразой о похоронах Стивенсона. Восстановить некоторые подробности помогают малоизвестные воспоминания Ллойда Осборна. Эти подробности знаменательны.
Случается, что смерть краткой, но сильной вспышкой освещает всю жизнь погибающего человека, суть его жизни. Так и Стивенсон — умер и похоронен был романтически, достойно автора «Острова сокровищ».
* * *
Было понятно без слов, что покоиться Стивенсон должен на вершине горы Веа, венчающей всю округу. «Но это на фотографии, — говорит Ллойд, — гора выглядит невысокой и довольно пологой». На самом же деле на склонах ее — кручи, покрытые тропическими зарослями. Пути на вершину не было.
Тогда собрался совет вождей. У Олдингтона сказано, как относились природные самоанцы к Туситале, как отозвались они на его смерть. И вожди решили, что воля Сказителя должна быть исполнена. А дело в том, рассказывает Ллойд, что не раз замечал я долгий взгляд, брошенный Стивенсоном на вершину горы Веа. И я понимал, говорит он, значение этого взгляда…
«Утренняя тишина, — рассказывает он дальше, — была нарушена треском падающих деревьев, звонким стуком топоров и более грубыми ударами мотыг и ломов, дробивших камни. Ни звука не слышно было только от людей, давших обет совершить весь этот труд в полном молчании. Не раздавалось ни песен, ни шуток, которые у самоанцев неразлучны с работой. Но тогда молча, сверкая потными телами и полные яростного усилия, местные жители, кто ножом, кто топором, кто мотыгой, лопатами или кирками, прорубались сквозь непроходимую чащу ради того, чтобы отдать долг Туситале».
Собственно, ради Стивенсона и было совершено первое восхождение на эту гору. А когда путь был проложен и все поднялись наверх, то стало видно, насколько же верно, по-стивенсоновски, было это сделано. «Вид открывался несравненный, — вспоминает Ллойд. — Морской горизонт, простиравшийся всюду, насколько хватало зрения, придавал всему вид бесконечной огромности. И так это было одиноко, так нетронуто, так невероятно красиво, что человек, это увидевший, замирал».
Там уже несколько позднее на могильном камне и были выбиты строки «Завещания», те, что остались нетронутыми после «очистительной» редактуры преданного, однако не очень чуткого друга. Вообще написано это «Завещание» было много раньше, еще в Калифорнии, где Стивенсон свалился однажды тяжело больной «Так, побрякушки», — написал он другу, но над «побрякушками» работал он еще не менее пяти лет, вновь и вновь возвращаясь к «Завещанию». Олдингтон не привел этого стихотворения, лишь упомянув его, просто потому, что среди англичан оно хорошо известно. Но нам это дает повод повторить памятные строки:
Под звездным небом, на ветру Место последнее изберу. Радостно жил я, легко умру И лечь в могилу готов. На камне могильном напишете так. «Здесь он хотел оставить знак, С моря вернулся, пришел моряк, И охотник вернулся с холмов».[170]Д. УРНОВ.
Основные даты жизни и творчества Роберта Луиса Стивенсона
1850, 13 ноября — В Эдинбурге родился Р. Л. Стивенсон.
1857 — Поступает в «Кэннон Миллз», первую из многих школ, где он учился.
1862 — Первая поездка с родителями в Англию, затем на континент в Гамбург.
1863 — Едет с матерью в Ментоку, затем они совершают турне по Италии и Германии В домашних и школьных «журналах» появляются его первые рассказы.
1867 — Поступает в Эдинбургский университет на инженерный факультет.
1871 — Переходит на юридический факультет.
1873 — Знакомство с Фэнни Ситуэлл и Сидни Колвином, первые симптомы туберкулеза и первая самостоятельная поездка за границу, положившая начало многим другим; в ноябрьском номере «Портфоляо» печатается его очерк.
1874 — Живет в Эдинбурге, работает над очерками о писателях и путевыми заметками.
1875 — В январе знакомится с Уильямом Хенли, в июле сдает выпускные экзамены и получает звание адвоката, дважды ездит во Францию, где знакомится с колонией художников-«барбизонцев».
1876 — Пишет «Эдинбургские картинки», летом отправляется в поездку на каноэ по рекам и каналам Бельгии и Франции и пишет об этом «Путешествие внутрь страны», знакомится в Грёзе с Фэнни Осборн, своей будущей женой.
1877 — В октябре выходит его первое беллетристическое произведение — рассказ «Ночлег Франсуа Вийона».
1878 — Выходят «Новые сказки Шехеразады», путевые очерки и «Путешествие внутюь страны); пишет книгу «Странствие с ослом»; работает совместно с Хенли над пьесой «Дикон Броуди».
1879 — Отправляется к Фэнни Озборн в Калифорнию, где проводит ровно год до августа 1880 года.
1879–1880 — Работает над «Эмигрантом-любителем», «Домом на дюнах», путевыми и критическими очерками.
1880, май — Стивенсон женится на Фэнни Осборн, в августе они возвращаются в Англию.
1880–1881, апрель — Первый сезон в Давосе, напечатан сборник «Virginibus Puerisque», куда вошли многие очерки, появившиеся ранее в периодической печати; живет в Питлокри, где пишет «рассказы ужасов» — «Окаянную Дженет», «Похитителя трупов» е «Веселых молодцов», и а Брэмере, где начинает писать для юношеского журнала «Янг фолкс» «Остров сокровищ».
1881 — Второй сезон в Давосе, заканчивает «Остров сокровищ» и пишет стихотворения, вошедшие впоследствии в сборник «Детский цветник стихов».
1882–1884 — Пишет «Принца Отто» и «Черную стрелу».
1884–1887 — Так называемый «борнмутский период», пишет «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда».
1888 — В июне вместе с Фэнни, Ллойдом и матерью отправляетсяна яхте «Каско» в плавание по Южным морям. .1890 — В январе покупает участок земли на острове Уполу (архипелаг Самоа). Отправляется в плавание на парусном пароходе «Жанет Николь», посещает 30 островов. В ноябре окончательно поселяется на Самоа в своем поместье «Ваилима». За время плавания по Тихому океану и жизни в Ваилиме написал: «Владетель Баллантрэ», «Катрио-на», «Уир Гермистон», «Вечерние беседы на острове», «Сент-Ив», «Потерпевшие кораблекрушение», «Отлив», многие из «Песен странствий», сборник «В Южных морях» и «Примечание к истории».
1894, 3 декабря — Стивенсон умирает от кровоизлияния в мозг.
Краткая библиография
Стивенсон Р. Л., Собрание сочинений в пяти томах. М., изд-во «Правда», 196/.
Андреев К., Искатели приключений. М., «Детская литература», 1969.
Борисов Л., Под флагом Катрионы. Роман. Л., Детгиз, 1957.
Кашкин И., Роберт Луис Стивенсон. В сб. ст. «Для читателя-современника». М., «Советский писатель», 1968.
Урнов М., Роберт Луис Стивенсон (жизнь и творчество). В кн.: «На рубеже веков». Очерки английской литературы. М., «Наука», 1970.
Balfour, Graham, The Life of Robert Louis Stevenson. London, 1901.
Chesterton, Gilbert Keith, Robert Louis Stevenson. London, 1927.
Colvin, Sidney, Memories and Notes of Persons and Places, 1852–1912. London, 1921.
Соnnell, Gоhn, W. E. Henley. London, 1949.
Elwin, Malcolm, The Strange Case of Robert Louis Stevenson. London, 1950.
Feuchtwanger L., Über R. L. Stevenson. Die Weltbühne, 1926. Bd.
Field, Isоbel, Osbourne Strong. And Lloyd Osbourne: Memories of Vailima. New York, 1902.
Furnas, I. С. Voyage to Windward: The Life of Robert Louis Stevenson, New York (N. Y.), 1951.
Osbourne, Lloyd, An Intimate Portrait of R L. S. New York, 1924. Raleigh, Walter. Robert Louis Stevenson. London, 1895.
Steuart, J. A. Robert Louis Stevenson. Man and Writer. 2 vols. London, 1924.
Swinnerton, Frank, R. L. Stevenson: A. Critical Study. London, 1914.
Иллюстрации
Маргарет Изабелл Стивенсон.
Томас Стивенсон.
Роберт Луис Стивенсон в возрасте четырех лет.
Камми (Элисон Каннингэм).
Маленький Луис с матерью.
Роберт Луис с отцом.
Р. Л. Стивенсон. Фотография сделана за год до поступления в университет.
Р. Л. Стивенсон.
Автопортрет Р. Л. Стивенсона в театральном парике.
Р. Л. Стивенсон в театральном костюме.
Фэнни Осборн.
Запись в метрической книге церкви, где состоялось бракосочетание Роберта Луиса Стивенсона и Фэнни Осборн.
Р. Л. Стивенсон — адвокат.
У. Э. Хенли.
Эдмунд Госс.
Р. Л. Стивенсон в Борнмуте.
Медальон работы Сент-Годена, сделанный в 1887–1888 годах.
Портрет Роберта Луиса, написанный в Борнсмуте Джоном Сарфиентом.
«Опасная мельница» — гравюра, вырезанная Р. Л. Стивенсоном при помощи перочинного ножа.
«Пират и аптекарь», сцена первая из «Моральных сказок».
«Пират и аптекарь», сцена третья.
Фэнни Стивенсон.
Брэмер. Коттедж, где Стивенсон написал «Остров сокровищ».
Роберт Луис в 35 лет.
Луис и Калакуа — «король» Гавайских островов. Эта фотография служила Стивенсону визитной карточкой при знакомстве с многочисленными вождями тихоокеанских островов.
Луис и самоанский вождь. Снимок сделан в Ваилиме.
Дом в Ваилиме на фоне горы Веа. На балконе — Роберт Луис.
Ваилима. Водопад.
Луис в 1893 году.
Фэнни и служанка перед каминов в Ваилиме.
В Ваилиме.
Портрет Роберта Луиса, написанный в Ваилиме итальянским художником Г. Нерли.
Дом в Ваилиме. Роберт Луис стоит на галерее второго этажа.
Дом после того, как была пристроена вторая половина — кабинет Роберта Луиса в лоджии.
Праздник в Ваилиме. На веранде стоят: Белл Стронг, Луис Стивенсон, Грэхем Бэлфур, Фэнни.
Ваилимский пейзаж.
Семья и слуги на крыльце дома в Ваилиме.
Малиетоа — верховный вождь Самоа.
Томасесе — самоанский вождь.
Матаафа — самоанский вождь.
Роберт Луис (справа) в Ваилиме.
Семейная группа в Ваилиме. слева направо: Ллойд Осборн, миссис Томас Стивенсон, Белл Стронг, Луис Стивенсон, Остин (сын Белл), Фэнни и Джо Стронг.
«Дворец» Матаафы.
Самоа.
Ллойд Осборн, пасынок Стивенсона.
Роберт Луис Стивенсон, Ллойд Осборн и Макферсон.
Надгробный камень на могиле Стивенсона.
Марка с изображением могилы Стивенсона, выпущенная в наши дни на Самоа.
Примечания
1
Кальвинизм — одно из направлений реформации, есть движения против католицизма.
(обратно)2
«Краткий катехизис» — сокращенное изложение догматов веры пресвитерианской церкви Шотландии.
(обратно)3
Роб-Рой Мак Грегор (1671–1734) — глава старинного шотландского клана, участвовавший в пограничных войнах с Англией. Герой романа Вальтера Скотта
(обратно)4
Один из старинных кланов Северной Шотландии, участвовавший в войне с Англией
(обратно)5
Перевод Игн. Ивановского
(обратно)6
«Арбориал» — буквально «Древесный». Этим словом Стивенсон, познакомившись с учением Дарвина о происхождении человека назвал возможную промежуточную форму между обезьяной и человеком — «недостающее звено». В сборнике «Воспоминания и портреты» он пишет. «У каждою человека свое генеалогическое дерево, но на верхушке всех этих деревьев сидит Гипотетический Арбориал».
(обратно)7
Грэхем Бэлфур — литератор и педагог По просьбе родственников автора «Острова сокровищ» написал его первую биографию «Жизнь Роберга Луиса Стивенсона».
(обратно)8
Шотландские протестанты, сторонники Ковенанта — религиозно-политического договора (1643 г.) между английским и шотландским парламентами о «защите истинной веры». Ковенантеры вели партизанскую войну с английскими войсками.
(обратно)9
Эйнсуор, Гаррисон (1803–1882) — второстепенный английский писатель, автор исторических романов, популярных в XIX веке.
(обратно)10
Перевод Игн. Ивановского.
(обратно)11
Уолтер Шенди — отец Тристрама Шенди, героя одноименного романа Стерна.
(обратно)12
В той же академии позднее будет учиться Конан-Дойл, который заимствовал многие черты Шерлока Холмса у профессора Джозефа Белла, преподававшего там. «Не мой ли это старый знакомый Джо Белл?!» — воскликнул Стивенсон, прочитав впервые рассказы о Шерлоке Холмсе.
(обратно)13
При Флоддене была в 1513 году битва с англичанами, закончившаяся поражением шотландцев; на перешеек Дариен (Панамский) была в 1698 году отправлена экспедиция, окончившаяся неудачей, в 1745 году Шотландия окончательно утратила независимость и признала власть Англии.
Вильям Уоллес, шотландский герой и патриот, успешно вел партизанскую войну с англичанами, но был предан и казнен, как изменник, Роберт Брюс по прозвищу Освободитель, король Шотландии в конце XIII века, сражался с англичанами, стремившимися поработить Шотландию.
(обратно)14
Бэкстер, Чарлз — юрист, вел все дела Стивенсона.
(обратно)15
Стоунхендж — одно из крупнейших сооружений культового назначения (культ солнца), относящееся к эпохе энеоли та Расположен в Англии, возле города Солсбери.
(обратно)16
«Ведь вы ювелир, господин Жос» (франц.) — ходячее выражение, заимствованное из комедии Мольера «Любовь-целительница» и употребляющееся, когда хотят подчеркнуть, что профессионал дает пристрастный совет.
(обратно)17
Лэм, Чарлз (1775–1834) — английский писатель-эссеист.
(обратно)18
Роджерс, Вудс (умер в 1737 г.) — английский мореплаватель, возглавлял флот Англии в Тихом океане; опубликовал дневник своих плаваний, где рассказал историю Александра Селькирка, на основе которой Дефо написал «Робинзона Крузо».
(обратно)19
«Панч» — английский иллюстрированный еженедельный юмористический журнал.
(обратно)20
Книга религиозно-философского содержания английского проповедника Джона Бэньяна (1628–1688).
(обратно)21
Спенсер, Герберт (1820–1903) — английский философ
(обратно)22
Льюис, Джордж (1817–1878) — английский философ и литературный критик, популяризатор философских и научных идей, оказавший влияние на молодого Павлова.
(обратно)23
Пепис, Сэмюэлл (1633–1703) — чиновник английского адмиралтейства, автор зашифрованного дневника, который представляет собой летопись эпохи
(обратно)24
Хэзлитт, Уильям (1778–1830) — английский эссеист.
(обратно)25
Популярный киноактер.
(обратно)26
Якобиты — сторонники Якова (Джеймса) Стюарта, ведшие в конце XVII и в начале XVIII веков религиозно-политическую борьбу с Англией.
(обратно)27
Браун, Томас (1605–1687) — английский врач и писатель, прекрасный стилист.
(обратно)28
«Оберман» — роман французского писателя Эжена Сенанкура (1770–1816).
(обратно)29
Уэбстер, Джон (1580–1625) — английский драматург.
(обратно)30
Конгрив, Уильям (1670–1729) — английский комедиограф.
(обратно)31
Стюарт, Джон — английский литератор. Автор двухтомной биографии Стивенсона — «Проблема Лу Стивенсона и Кейт Драммонд», — написанной с «критических» позиций.
(обратно)32
Место в окрестностях Эдинбурга, где у Стивенсонов был загородный дом
(обратно)33
Келвин, Уильям Томсон (1824–1907) — известный английский математик и физик.
(обратно)34
Дженкин, Флеминг (1833–1885) — крупный инженер-электрик.
(обратно)35
Джоуит, Бенджамен (1817–1893) — профессор Оксфордского университета, знаток античности, переводчик Платона и Аристотеля. В то время — глава колледжа Бэллиола (Оксфорд).
(обратно)36
Аддисон, Джозеф (1672–1719) — выдающийся английский писатель-классицист, известный своим пуризмом в отношении языка.
(обратно)37
Госс, Эдмунд Уильям (1849–1928) — английский литератор, друг Стивенсона.
(обратно)38
Лэнг, Эндрю (1844–1912) — английский поэт, очеркист, автор коротких рассказов.
(обратно)39
Колвин, Сидни (1845–1927) — один из ближайших друзей Стивенсона, его литературный душеприказчик π издатель «Писем».
(обратно)40
Перевод Игн. Ивановского.
(обратно)41
Фергюссон, Роберт (1750–1774) — выдающийся народный шотландский поэт.
(обратно)42
Строка из стихотворения Стивенсона «Счастливая мысль».
(обратно)43
Персонаж из романа «Роб-Рой».
(обратно)44
Джеффри, Франсис (1773–1850) — один из основателей первого «толстого» журнала в Англии, «Эдинбургского обозрения», журнал этот был известен Пушкину, который мечтал о таком же издании в России.
(обратно)45
Блуждающий огонек, призрачная надежда (латин.).
(обратно)46
Джонсон, Сэмюэль (1709–1784) — известный английский писатель и лексикограф, крупнейший и наиболее популярный из английских критиков XVIII века.
(обратно)47
Уоллес, Эдгар (1875–1937) — английский писатель, автор очень популярных в начале XX века «сенсационных» романов.
(обратно)48
Клаузевиц, Карл (1781–1831) — прусский генерал, военный теоретик.
(обратно)49
Экономия (нем.).
(обратно)50
Огромные, как… (нем.).
(обратно)51
Монастырь (нем.).
(обратно)52
Денег (нем.).
(обратно)53
«Он был превосходный человек, наш господин доктор» (нем.).
(обратно)54
«О да, и пил всегда красное вино» (нем.).
(обратно)55
Босуэлл Джеймс — литератор, именем которого пользуются нарицательно, говоря о биографе-документалисте.
(обратно)56
Камерон, Ричард — глава коренантеров, основатель религиозной пресвитерианской секты, боровшейся против восстановления епископальной церкви в Шотландии.
(обратно)57
Нокс, Джон (1505–1572) — автор книг религиозного содержания, боровшийся с католической церковью за организацию пресвитерианской церкви в Шотландии.
(обратно)58
Браун, Крам (1838–1922) — известный шотландский химик.
(обратно)59
Одна из них, Юлия Засецкая, была дочерью поэта Дениса Давыдова и переводчицей «Пути паломника» Бэньяна на русский язык.
(обратно)60
Патер, Уолтер Гораций (1839–1894) — очень авторитетный в XIX веке английский эссеист и критик.
(обратно)61
Булвер-Литтон, Эдуард Джордж (1803–1873) — английский писатель и политический деятель Автор романа «Полам», которым интересовался Пушкин.
(обратно)62
Во времена Стивенсона — место встречи адвокатов и их клиентов.
(обратно)63
Перефразированные рубайи Омара Хайяма.
(обратно)64
Стивен, Лесли (1832–1904) — выдающийся английский критик.
(обратно)65
Барбизонцы — группа французских пейзажистов, которые первыми стали писать пейзажи прямо с натуры.
(обратно)66
Столовая (франц.).
(обратно)67
Mюржe, Анри (1829–1861) — французский писатель, известный своими зарисовками жизни богемы в Париже.
(обратно)68
Искаженное «extra» (франц.) — часть слова extraordinaire, то есть непредвиденный, имеются в виду непредвиденные расходы.
(обратно)69
Теодор де Банвиль (1823–1891) — французский писатель, поэт и драматург
(обратно)70
Доусон, Эрнст (1867–1900) — английский лирический поэт.
(обратно)71
На Берлинском конгрессе 1878 года Дизраэли при поддержке Бисмарка заставил Россию пересмотреть Сен-Стефанский мирный договор, подписанный после поражения Турции в русско-турецкой войне (1877–1878 гг.), получив за это от Турции Кипр В своей речи после конгресса Дизраэли назвал это «Почетным миром».
(обратно)72
Это нашло отражение в романе Стивенсона «Владетель Баллантрэ».
(обратно)73
Строка из поэмы Кристофера Марло «Геро и Леандр», использованная Шекспиром в комедии «Как вам это понравится» и ставшая крылатым выражением.
(обратно)74
Харрисон, Бирдж (1854–1924) — американский художник-пейзажист.
(обратно)75
Сокращ. от «conditio sine qua non» — «непременное условие» (латин.), имеется в виду книга Аделаиды Будл: «Р Л. С. и его «Sine Qua Non», где дано преувеличенно восторженное изображение Фэнни.
(обратно)76
Галахад — самый юный и чистый из «рыцарей Круглого стола» (персонаж произведений Мэлори и Теннисона), отправившийся с королем Артуром на поиски «Святого Грааля». Имя соответствует выражению: «рыцарь без страха и упрека».
(обратно)77
Крестьяне-гугеноты, восставшие на юге Франции в начале XVIII века из-за религиозных преследований, начавшихся после отмены Нантского эдикта в 1685 году.
(обратно)78
Католический монашеский орден.
(обратно)79
Герой рассказа Стивенсона, бродячий актер, наивно-тщеславный и вместе с тем горячо верящий в «святую миссию» искусства.
(обратно)80
Фримонт, Джон Чарлз (1813–1890) — американский офицер-путешественник.
(обратно)81
Сердце женщины изменчиво (франц.) — перевод первой строки песенки герцога из оперы Верди «Риголетто».
(обратно)82
Имеется в виду «анекдот» из канонизированной, хотя далекой от фактов, биографии Джорджа Вашингтона: шестилетний Вашингтон признался отцу в том, что порубил ствол его любимой вишни томагавком. Это признание преподносится как пример честности маленьким американцам.
(обратно)83
Повсон дю Террай (1829–1871) — французский писатель, автор многочисленных приключенческих романов (серия «Похождения Рокамболя»). Произведения его полны неправдоподобных эпизодов, грубых искажений исторических фактов, их герои — авантюристы, идущие на любое преступление ради достижения своей цели.
(обратно)84
Скваттеры — в США колонисты, самовольно поселившиеся на свободных землях.
(обратно)85
Персонаж трагедии У. Шекспира «Буря» — олицетворение грубой физической силы.
(обратно)86
«Год странствий» (нем) — выражение, заимствованное из названия романа Гёте «Годы странствий Вильгельма Майстера», сделавшееся нарицательным.
(обратно)87
Удивительный год (латин.).
(обратно)88
Персонаж книги Ли Кэррола «Алиса в стране чудес» — кот, который постоянно улыбается. Улыбка чеширского кота стала нарицательной.
(обратно)89
Оборотная сторона медали (франц.).
(обратно)90
Пейн, Джеймс (1830–1898) — английский писатель-романист.
(обратно)91
Перевод Р. Облонской.
(обратно)92
«Книжка бродяжки» (латин.).
(обратно)93
Деккер, Томас (1577–1632) — английский драматург, современник Шекспира.
(обратно)94
Письма жены французского философа Пьера Абеляра (1078–1142), которые она писала ему из монастыря
(обратно)95
Мадемуазель Леспина, Юлия (1732–1776) — известная куртизанка XVIII века.
(обратно)96
Язык шотландских кельтов.
(обратно)97
Перевод И. Гуровой.
(обратно)98
Карлейль, Томас (1799–1881) — шотландский эссеист и историк, очень популярный в Шотландии автор литературно-критических статей, в частности, о Бернсе и В. Скотте.
(обратно)99
Маколей, Томас (1800–1859) — английский историк, публицист и политический деятель.
(обратно)100
Персонаж из повести Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», олицетворяющий собой зло.
(обратно)101
Джеймс, Генри (1848–1916) — крупный американский писатель и критик, превосходный стилист.
(обратно)102
Сарджент, Дж. (1856–1925) — американский художник, живший в Англии.
(обратно)103
Слова из стихотворения Стивенсона «Небесный хирург».
(обратно)104
«Расселас, принц Абиссинский» — философская повесть Сэмюэля Джонсона.
(обратно)105
Майерс, Фредерик (1843–1901) — английский поэт и эссеист.
(обратно)106
Перевод И. Гуровой.
(обратно)107
Поражение английских войск у горы Маджуба во время англо-бурской войны, которую Стивенсон осудил в статье «В защиту независимости буров».
(обратно)108
Гордон, Чарлз Джордж (1833–1889) — английский генерал, служивший в Китае и в Египте Осажденный египтянами в Хартуме, генерал Гордон не получил помощи от английского правительства, потерпел поражение и был убит.
(обратно)109
Частная переписка, дающая картину жизни Англии середины XV века.
(обратно)110
Кингсли, Чарлз (1819–1875) — английский священник и писатель.
(обратно)111
Воображаемое королевство, где происходят события «Зендского пленника» — романа Энтони Хоупа.
(обратно)112
Перевод Игн. Ивановского.
(обратно)113
Из «Наставлений оратору» Квинтилиана.
(обратно)114
Безант Уолтер (1836–1901) — популярный английский беллетрист, автор исторических произведений.
(обратно)115
Фернес, Джозеф — автор биографии Стивенсона «Плавание против ветра».
(обратно)116
Перевод Игн. Ивановского.
(обратно)117
Хаусман, Альфред Эдвард (1859–1936) — английский ученый и поэт, писавший стихотворения на сельские мотивы.
(обратно)118
Перевод Игн. Ивановского.
(обратно)119
Перевод Игн. Ивановского.
(обратно)120
Марвелл, Эндрю (1621–1678) — английский поэт. Дух Возрождения стремился он соединить с пуританской строгостью, чувство с разумом, природу с наукой. Стихи его построены на сложных, изобретательных метафорах: «…под сенью зелени на ум приходит зеленая мысль».
(обратно)121
Перевод Игн. Ивановского.
(обратно)122
Перефразировка названия романа Чарлза Диккенса «Сверчок на печи» (по-английски слово «сверчок» похоже на слово «критик»).
(обратно)123
Ссылка на полковника Ньюкома, героя одноименного романа Теккерея Имя используется тогда, когда хотят сказать о честном, простодушном, непрактичном человеке, все добрые начинания которого кончаются неудачно.
(обратно)124
Конец! (франц.).
(обратно)125
Это решено (франц.).
(обратно)126
Черт подери! (франц).
(обратно)127
Что еще можно сказать? (франц.).
(обратно)128
Это слишком тяжело (франц.).
(обратно)129
Это уж слишком (франц.).
(обратно)130
Так называемый (франц.).
(обратно)131
Улица в Лондоне, на которой жил Хенли.
(обратно)132
Город, где родилась Фэнни
(обратно)133
Персонаж комедии У. Шекспира «Как это нравится?» — шут Оселок в монологе о степенях лжи говорит: «Все их можно удачно обойти, кроме прямой лжи, да и ту можно обойти при помощи словечка «если»… «Если вы сказали то-то, то я сказал то-то…» О, «если» — это великий миротворец, огромная сила».
(обратно)134
Скотт, Майкл (1175–1234) — шотландский астролог и переводчик, имевший славу чернокнижника и чародея.
(обратно)135
Лорд Дервентуотер — Джемс Рэдклиф (1689–1715) — один из вождей восстания Стюартов; был обезглавлен в 1715 году.
(обратно)136
У. Шекспир, Отелло. Перевод Б. Пастернака.
(обратно)137
Организация ирландских крестьян, уничтожавших посевы и скот английских помещиков в знак протеста против английского владычества.
(обратно)138
Персонаж романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», непрактичный легкомысленный человек, который кое-как сводит концы с концами, легко впадает в отчаяние и еще легче обольщается надеждами на легкое обогащение.
(обратно)139
Так называли англичан в колониальных странах.
(обратно)140
Выражение из романа Ч. Диккенса «Давид Копперфилд». В таких словах кучер Баркис сделал предложение няне Дэви.
(обратно)141
Набедренная повязка вроде юбки, из одного куска материи, у женщин — от подмышек до колен, у мужчин — от пояса.
(обратно)142
В Шотландии у каждого горного клана была шотландка своей расцветки.
(обратно)143
Тусисита — Сказитель — имя, данное Стивенсону жителями Самоа.
(обратно)144
Челлини, Бенвенуто (1500–1571) — итальянский скульптор и авантюрист.
(обратно)145
Тёрнер, Сприл (1557–1626) — английский драматург
(обратно)146
Персонаж романа В. Скотта «Ламмермурская невеста».
(обратно)147
Статья «Как возник «Владетель Баллантрэ».
(обратно)148
Мариетт, Фредерик (1792–1849) — автор многочисленных произведений, посвященных морю и морякам.
(обратно)149
Члены родовитой шотландской семьи, участвовавшие в борьбе Англии и Шотландии (XVII в.) на разных сторонах.
(обратно)150
Суиннертон, Фрэнк (1884–1955) — английский романист и критик. Автор одной из биографий Стивенсона.
(обратно)151
Бенсон, Э. Ф. — сын архиепископа кентерберийского, автор книги о Стивенсоне «Миф о Роберте Луисе Стивенсоне», напечатанной в 1925 году.
(обратно)152
«Если бы молодость знала, если бы старость могла» (французская поговорка).
(обратно)153
Уэймен, Стенли (1859–1948) — английский писатель, автор ряда популярных псевдоисторических романов «плаща и шпаги».
(обратно)154
Персонаж комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь».
(обратно)155
Рабурн, Генри (1756–1823) — шотландский художник-портретист.
(обратно)156
Проститутка (франц.).
(обратно)157
Вилье де Лиль-Адан (1838–1889) — французский писатель-сатирик.
(обратно)158
Увлечение, воодушевление, развлечение (франц).
(обратно)159
Напиток из измельченною корня перца, который в Полинезии пьют во время торжественных церемоний.
(обратно)160
Любопытно, что точно такая же реакция была у Герберта Уэллса, когда он из того же самого источника узнал о Тургеневе.
(обратно)161
Во французском переводе и очень рано, когда в Европе Достоевского только начинали переводить и еще, в сущности, не знали.
(обратно)162
Им, однако, заинтересовался Пушкин и в стихотворении «Однажды странствуя среди долины дикой» («Странник») сделал переложение из Бэньяна.
(обратно)163
«Можем же мы в конце концов семьдесят лет спустя, в середине XX века прямо говорить об этом» — это пишет биограф, получивший доступ в архив Стивенсона и установивший, когда Стивенсон и Фэнни Осборн стали мужем и женой.
(обратно)164
А Джон Голсуорси так ценил Стивенсона, что отправился к нему в паломничество. Но для этого нужно было обогнуть полсвета, а у Голсуорси в пути кончились деньги. Пересел он на обратный пароход, а штурманом судна оказался Джозеф Конрад, то есть будущий Конрад, тогда — моряк королевского флота. И он дал Голсуорси прочесть рукопись своего первого романа. Рейс этот оказался для него последним, он стал писателем. Так, на пути к Стивенсону открыт был крупнейший продолжатель его традиции. Вот это и есть то, что Олдингтон называет «романтикой судьбы».
(обратно)165
Как это сказано Лениным о толстовстве; см.: В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 17, стр. 209.
(обратно)166
Можно, правда, задать немало попутных вопросов. Например, где же этот остров сокровищ? В свое время такого любопытства не поощряли, храня секрет фирмы приключений и увлекательности. Стивенсон предложил издателю, что он напишет предисловие к роману, но тот запретил и думать об этом, о разрушении чар, самим же автором созданных. Статью Стивенсон все же написал, но для журнала «Бездельник», где знаменитый Джером К. Джером завел специальную рубрику с рассказами известных писателей о своих книгах. Однако в статье Стивенсон не указал никакого, хотя бы приблизительного, местоположения своего острова. Уже в письмах его можно было прочесть, что, создавая «Остров сокровищ», Стивенсон вспоминал поездку в Калифорнию — сосны, дюны, морской берег. Кроме того, очертаниями остров сокровищ напоминает Пинос, небольшой островок в Кариоском море, к юго-западу от Кубы.
(обратно)167
Напомним, что это писательское «звание» было темой бесед Стивенсона с Джеймсом. Б очерке о Тургеневе Джеймс привел такое мнение современника: «Поколения предков воплотились в Тургеневе и обрели выражение».
(обратно)168
Перевод И. Бернштейн.
(обратно)169
Ллойд Осборн скончался в 1947 году, сестра его дожила до 1953 года. Так что лица из ближайшего окружения Стивенсона жили просто в одно время с нами.
(обратно)170
Перевод Игн. Ивановского.
(обратно)
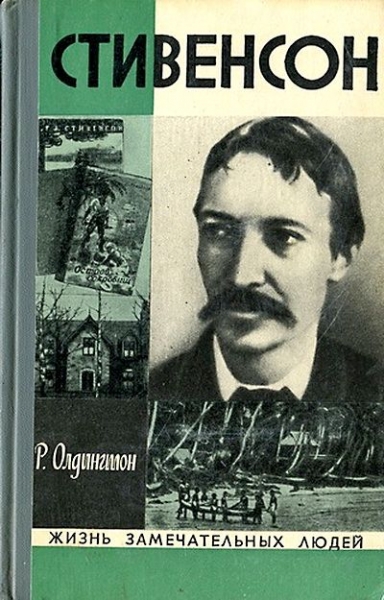

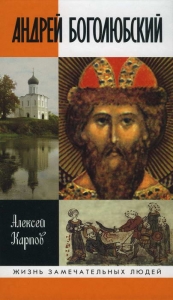

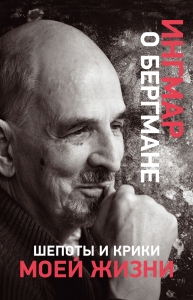

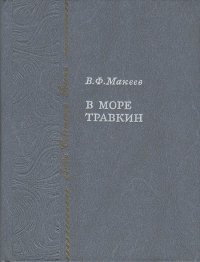

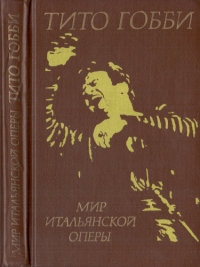
Комментарии к книге «Стивенсон. Портрет бунтаря», Ричард Олдингтон
Всего 0 комментариев